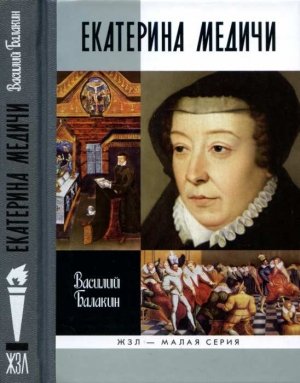
Предисловие.
ЗАЛОЖНИЦА СОБСТВЕННОЙ РЕПУТАЦИИ
В семействе Медичи настоящими мужчинами были женщины, и первая среди них — Екатерина, королева Франции, «Черная королева». В этом прозвище бесспорно лишь то, что после безвременной и трагической гибели своего обожаемого супруга, французского короля Генриха II, она уже не снимала с себя черных траурных одеяний, хотя некоторые (и даже многие) склонны расширительно истолковывать этот факт, утверждая, что и душа у нее была черна...
Легенда рисует образ Екатерины Медичи как мрачной особы, с ее коварными итальянскими советниками, магами и провидцами, с секретными шкафчиками, наполненными отравленными кинжалами, кольцами, кубками, с потайными ходами и темницами в замках. Она — безбожница, она — ис-требительница гугенотов, прибегавшая к услугам магов и колдунов, злоупотреблявшая доверием папы римского и распродававшая Францию своим итальянским приспешникам. Она не просто пропитана духом зла, но и являет собой воплощенное зло — законченная легенда о «Черной королеве», слишком законченная, чтобы можно было поверить в нее. Реальный образ королевы едва различим за мрачными красками легенды.
Среди наиболее известных в истории женщин есть такие, которые как при жизни, так и после своей смерти в равной мере вызывали к себе и любовь, и ненависть. Таковы, к примеру, Елизавета Английская, Мария Стюарт, Екатерина Великая, Мария Антуанетта — и конечно же Екатерина Медичи. И поныне писатели и историки прилагают усилия к тому, чтобы разгадать, в меру собственного разумения, загадку их личности, восхваляя достоинства одних и обличая пороки и преступления других. Однако едва ли когда-нибудь история вынесет этим персонажам окончательный приговор.
Особенно много упреков, как заслуженных, так и главным образом несправедливых, выпало на долю Екатерины Медичи, сыгравшей во второй половине XVI века огромную роль в истории Франции и Европы. Однако были и другие суждения, более основательные, адекватно отражающие дела и чаяния этой французской королевы. Поскольку дела всегда говорят сами за себя, беспристрастное изложение событий в хронологическом порядке способно представить более светлый образ «Черной королевы». Во всяком случае, более близкий к правде, нежели изображение Екатерины Медичи в качестве воплощения зла, демонической женщины, способной на любое преступление.
Чтобы понять изначальную причину ненависти к Екатерине Медичи, следует учитывать, что в семействе Валуа она с первого дня воспринималась как чужеродный элемент, итальянка, отпрыск банкирского рода, лишь недавно достигшего вершин власти и к тому же пользовавшегося дурной славой. Получив пренебрежительное прозвище «итальянка», она чувствовала себя при французском дворе во враждебном окружении. К этому браку герцога Орлеанского неодобрительно отнеслись как знать, так и народ — и те и другие считали его унижением для страны и французского королевского рода, унижением, к которому короля принудили внешнеполитические обстоятельства. Если бы Екатерина так и осталась герцогиней Орлеанской, она никогда не вышла бы на авансцену истории. Однако судьба возвела ее на королевский трон, позволив ей в течение нескольких десятилетий оказывать решающее влияние на события во Франции. При своих малолетних или недееспособных сыновьях она в условиях жесточайшего политического кризиса, окруженная враждой и ненавистью, правила страной, сохраняя для них королевскую корону. Она, итальянка, служила не только династии Валуа, но и самой Франции более преданно, чем многие французы.
Разумеется, за время своей многолетней деятельности она совершала и ошибки, всё же ни в коей мере не оправдывающие тот поток клеветы, который в течение столетий обрушивался и продолжает обрушиваться на нее. Нет непогрешимых людей, и тот, кто много делает, больше рискует совершить ошибку. Промахи Екатерины Медичи легко понять, учитывая обстановку, в которой ей приходилось действовать. Уместно задаться вопросом: кто на ее месте избежал бы критики, осуждения и клеветы? Конечно, не все ее поступки и методы управления безупречны с моральной точки зрения, но прежде, чем вынести такое суждение, надо обратиться к тем временам и событиям и постараться если не простить, то хотя бы понять ее.
Чтобы разобраться в личности и деяниях Екатерины Медичи, следует рассматривать ее в контексте времени, в котором она жила, не примешивая наши собственные представления к тем, что царили в XVI веке. Романтики XIX столетия, руководствовавшиеся исключительно собственными представлениями о добре и зле, как раз и сотворили образ «Черной королевы». Следует осознать, что многие поступки, чувства и верования людей, живших во времени, в котором жила Екатерина, мы не разделяем потому, что не способны до конца понять их, настолько чужды они нашему менталитету. Вместе с тем, оценивая события далекого прошлого исключительно с позиций «общечеловеческих ценностей», недолго скатиться к ходульному морализаторству. Во все века были люди, не боявшиеся брать ответственность на себя, а большая историческая правда важнее правды отдельного факта. Говорят, что время покажет, а история рассудит — вот она и судит, только не каждый, как оказывается, хочет и может принять ее приговор таким, каков он есть. Неистребимо желание добавить что-то от себя.
Материал, прямо или косвенно послуживший источником для написания этой книги, огромен. Сколь ни парадоксально, однако, именно это обилие порождает наиболее серьезные трудности, сопряженные с отбором и интерпретацией исторических свидетельств о событиях тех далеких времен. Сталкиваешься со множеством описаний и суждений, противоречащих друг другу, что само по себе и понятно, ибо гугенот и католик по-разному смотрели на один и тот же предмет. Правда, порой они были единодушны в своей грязной клевете на Екатерину Медичи, творя о ней злокозненную легенду, пережившую века. Не всегда можно полагаться и на официальные акты, и лишь донесения дипломатов, особенно венецианских послов, отличаются содержательностью и непредвзятостью. При этом автору книги приходится выступать в роли третейского судьи, беря на себя ответственность за выносимый вердикт и заранее подставляя себя под огонь критиков.
Когда Екатерина Медичи умерла, ее младший современник, историк и государственный деятель Жак Огюст де Ту написал: «Умерла не женщина, а само королевское достоинство». И далее: «Она спасла корону Франции, сохранив королевский авторитет при таких обстоятельствах, при которых потерпел бы неудачу не один государь». Чтобы проверить справедливость подобных суждений, пройдем вместе с героиней книги весь ее жизненный путь, с момента появления на свет до расставания с этим миром.
Глава первая.
НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ
Колыбель между двух гробов
В апреле 1518 года король Франции Франциск I отправился со всем своим двором в замок Амбуаз, дабы отпраздновать там два важнейших события: крещение своего первенца, дофина Франсуа, и свадьбу Мадлен де ла Тур д’Овернь, принцессы из дома Бурбонов, с Лоренцо Медичи, герцогом Урбино, племянником папы Льва X и внуком Лоренцо Великолепного. Жених Мадлен имел мало общего со своим знаменитым дедом. В какой-то мере унаследовав его гордость и стремление к успеху, он не обладал ни его волей, ни способностью к достижению цели. Этот брак последнего потомка Лоренцо Великолепного по прямой линии с представительницей знатнейшего рода Франции был устроен папой Львом X, желавшим заручиться поддержкой правителя одного из наиболее могущественных королевств Европы, который, в свою очередь, также рассчитывал на помощь папы в достижении своих амбициозных политических целей.
Замок Амбуаз, выбранный в качестве места проведения свадьбы, был превращен Франциском I, любившим новую архитектуру, в самую современную королевскую резиденцию. В весеннюю пору, когда фруктовые деревья стоят в цвету и открываются великолепные виды на Луару, Амбуаз был самым подходящим местом для проведения свадебных торжеств. Собралась вся знать Франции. Еще за несколько дней до жениха в Амбуаз прибыли от него свадебные подарки. Караван из тридцати шести мулов доставил в замок драгоценности, произведения искусства, 300 тысяч золотых дукатов, а также освященное самим папой брачное ложе — подлинный шедевр флорентийских мастеров, изготовленный из редких пород дерева и украшенный серебром и слоновой костью.
Жениха с его великолепной свитой встречал в замке сам Франциск I. После крещения дофина, которого Лоренцо в качестве представителя его крестного, папы Льва X, нес к купели в сопровождении крестной, Маргариты Ангулемской, сестры короля, начались свадебные торжества. В зале, богато украшенном гобеленами с батальными и амурными сценами (то и другое было одинаково мило сердцу Франциска I), звучала музыка. Каждая перемена изысканных блюд сопровождалась фанфарами. Король посадил герцога Урбинского рядом с собой, а Мадлен — возле королевы Клод. Во время многодневного свадебного празднества Лоренцо выглядел бледным и измученным, и причиной тому служила не только его еще не до конца зажившая боевая рана, но и, как говорили, «дурная болезнь», что, к несчастью для него самого и его молодой супруги, было правдой: не прошло и года, как оба они отправились в мир иной.
Балы, турниры и королевские охоты продолжались шесть недель. Состоялась даже инсценировка сражения за деревянную крепость. Хотя бой считался потешным, однако убитые и раненые оказались настоящими. Таков был век, таковы нравы.
Свадебные торжества подходили к концу, и можно было покидать гостеприимный замок Амбуаз. Король со своим двором отправился в Бретань, недавно присоединенную к Французскому королевству, а Лоренцо с Мадлен — в Овернь, которую та принесла ему в качестве приданого. Эти владения со временем отойдут к Екатерине Медичи — единственной наследнице своей матери. Однако долго оставаться в тех благословенных краях, где молодожены приятно проводили время, им не довелось, поскольку папа торопил с возвращением в Италию.
7 сентября герцог и герцогиня Урбинские прибыли во Флоренцию, празднично украшенную по этому поводу, и поселились во дворце Медичи на Виа Ларга. Мадлен тогда была уже беременна. Ее очаровала жизнь в этом городе, и она старалась понравиться народу. Лоренцо сразу же отправился в Рим, чтобы передать папе послание французского короля, а Мадлен, оставшись во Флоренции, привыкала к жизни в чужой стране, пребывание в которой оказалось для нее недолгим. Вскоре по возвращении из Рима Лоренцо заболел, и врачи не могли установить причину недуга, так что заговорили об отравлении. У больного подскочила температура, но затем спала, и он поправился. Жизнь во дворце Медичи пошла своим чередом. Правительственные заботы чередовались с празднествами и великолепными охотами.
Зимой самочувствие Лоренцо вновь резко ухудшилось, и по предписанию врачей он переехал на виллу Сассе1ти. Время тянулось для Мадлен уныло и монотонно. Во Флоренцию супруг возвратился лишь накануне ее родов. 13 апреля 1519 года во дворце Медичи на свет появилась девочка, которую спустя три дня, накануне Вербного воскресенья, при крещении нарекли именем Катерина Мария Ромола.
В это время оба ее родителя находились при смерти: отец умирал от туберкулеза легких, усугубленного сифилисом — последствием разгульного образа жизни, а мать — от послеродовой горячки. Спустя две недели после родов Мадлен скончалась, а еще через шесть дней за ней последовал и ее супруг, за 27 лет своей жизни не совершивший ничего достойного и лишь дискредитировавший имя Медичи. Место их вечного упокоения в церкви Сан-Лоренцо украшено великолепным надгробием — бессмертным творением Микеланджело. Еще и месяца не исполнилось «маленькой герцогине», как она стала круглой сиротой. По образному выражению поэта Ариосто, ставшего свидетелем тех событий, ее колыбель стояла между двух гробов. Катерина Мария Ромола оказалась последней законной представительницей рода Медичи по прямой линии, и Ариосто выразил общее тревожное настроение стихами:
Маленькая герцогиня
А спустя еще три месяца и сама она едва не оказалась в гробу, когда тяжелая болезнь сразила ее. Однако в крошечном теле нашлось довольно жизненных сил, чтобы побороть недуг. Катерина поправилась, и в октябре ее привезли в Рим показать Льву X, которого не на шутку перепугала перспектива потерять столь ценное дитя, залог его будущих политических комбинаций. Еще ранее, сразу же после смерти родителей девочки, он назначил ее опекуном кардинала Джулио Медичи. Папа и кардинал являлись кузенами: Лев X (в миру Джованни Медичи) был вторым сыном Лоренцо Великолепного, а Джулио — бастардом Джулиано, брата Лоренцо. Они были почти ровесниками (Джованни в 1519 году исполнилось 43, а Джулио — 41 год), а поскольку вместе воспитывались в доме Лоренцо, то считали друг друга скорее братьями, нежели кузенами.
Именно кардинал Джулио, «злой гений» семейства Медичи, не обладавший такими качествами его представителей, как щедрость, великодушие и обходительность, но мечтавший о восстановлении величия своего рода, занимался но поручению Льва X организацией бракосочетания родителей Катерины. По прошествии менее чем года, когда оба родителя девочки были мертвы, кардинал Джулио поспешил во Флоренцию, дабы, разместившись во дворце Медичи, принять на себя заботы по воспитанию сиротки, которую, когда придет время, можно будет использовать для дальнейшей реализации династических планов семейства. Папа возложил на него также и заботы по управлению Флоренцией, дабы флорентийцы не забывали о Медичи как своих господах. В течение пяти месяцев Джулио управлял строптивым городом, по мере сил стараясь удовлетворять требования его обитателей, что само по себе было не простым делом.
Когда кардинал Джулио привез в Рим оправившуюся от болезни пятимесячную Катерину, Лев X, взяв девочку на руки, отметил, что она хорошо выглядит. При этом, как и полагается, он пролил слезу умиления и процитировал строку из Вергилия: «Secum fert aerumnas Danaum» («Несет с собою бедствия данайцев»). Заботы по воспитанию Катерины папа возложил на ее тетку, Клариче Строцци. Это было мудрое решение. Клариче приходилась сестрой безвременно скончавшемуся Лоренцо, и Лев X неоднократно заявлял, что для семейства Медичи было бы гораздо лучше, если бы Клариче родилась мужчиной, а Лоренцо — женщиной. В ней, достойной представительнице рода Медичи, соединились все качества, благодаря которым семейство достигло могущества и славы: мужество, сила воли, ум, обходительность. Лучшей воспитательницы для Катерины невозможно было найти. Передавая последнего отпрыска рода Медичи на воспитание Клариче (как говорили, «единственному мужчине в семье»), Лев X сделал всё возможное, дабы исправить роковую ошибку природы.
Катерина не прожила в Риме и двух лет, как скончался папа Лев X, и кардинал Джулио принял все необходимые меры, чтобы унаследовать ему. Однако ни его дипломатический талант, ни щедрые взятки не помогли заручиться необходимым количеством голосов членов конклава, и на папский престол, к удивлению многих, взошел под именем Адриана VI искренне благочестивый фламандец, бывший наставник императора Карла V. Кардинал Джулио, не скрывая своей досады, покинул Рим и посвятил себя делам семейства во Флоренции. Однако не прошло и двух лет, как Адриан VI, по всей вероятности отравленный, скончался, и на сей раз удача улыбнулась Джулио: 19 ноября 1523 года он стал папой Климентом VII.
Первым делом он, стремясь защититься от имперских притязаний Карла V, поспешил заключить секретный договор с Франциском I. Однако после того, как в начале 1525 года французы потерпели сокрушительное поражение под Павией, причем сам король оказался в плену у испанцев, папа переметнулся на сторону победителя, императора Карла V. Но и тут его постигла неудача. Победоносная имперская армия, включавшая в себя 25 тысяч наемников, не получавших жалованья и потому намеревавшихся поживиться за счет грабежа, двинулась на Рим. Вечный город не представлял из себя надежного убежища, поэтому Клариче Строцци возвратилась с Катериной во Флоренцию, которой тогда управлял от имени папы кардинал Сильвио Пассе-рини, с полным комфортом разместившийся во дворце Медичи. Под его опекой тогда уже находились два юных отпрыска-бастарда рода Медичи, Ипполито и Алессандро, и Катерина стала третьей. Она сразу же полюбила Ипполито, который был лет на десять старше ее, и возненавидела Алессандро. Под наблюдением Клариче продолжались воспитание и образование Катерины. Восприимчивый ум девочки легко и быстро схватывал всё, чему учили ее наставники. Жажда знаний заставляла ее предпочитать часы занятий играм со сверстниками, друзьями и родственниками из семейств Сальвиати, Строцци и Орсини.
Ипполито, сыну одного из братьев отца Катерины, исполнилось 16 лет. На два года младше его был Алессандро, если верить папе Клименту VII — сводный брат Катерины, бастард ее отца. Однако многие не верили этому. Чрезвычайная привязанность, которую Джулио в качестве кардинала, а затем и папы питал к этому отталкивающему и тупоумному юноше, позволяла догадываться, что тот был бастардом самого Джулио. Эта догадка подкреплялась и тем, что впоследствии папа сделал Мавра, как называли Алессандро за смуглый цвет лица, курчавые черные волосы и толстые негроидные губы, правителем Флоренции вместо Ипполито, которому все симпатизировали. Правду, однако, скрывали от Катерины, которой ее новый опекун, кардинал Пассерини, внушал, что Алессандро — ее сводный брат.
6 мая 1527 года произошло событие, многим казавшееся невероятным, хотя и служившее логическим продолжением «мудрой» политики папы Климента VII (на него впоследствии и возложили всю ответственность за происшедшее) — захват и разграбление Рима. Рассказы о бесчинствах императорских наемников, своей жестокостью превосходивших гуннов и вандалов, доходили до Флоренции, производя на восьмилетнюю Катерину неизгладимое впечатление. Командиром германских рейтар, которые вместо жалованья получали разрешение грабить, был барон фон Фрундсберг, известный своей жестокостью и носивший у себя на шее тяжелую золотую цепь, которой он намеревался удавить папу римского — он сам и его люди были лютеранами. Религиозный фанатизм добавлял грабителям жестокости.
Как только во Флоренцию пришло известие, что папа находится на положении пленника в замке Святого Ангела, в городе тут же вспыхнуло народное восстание с целью свержения власти Медичи, олицетворением которой служили ненавистный кардинал Пассерини и его питомцы. Синьория приняла решение о восстановлении республиканского строя, причем Ипполито, Алессандро и Катерине позволялось оставаться в городе на положении частных лиц, и на ближайшие пять лет они освобождались от уплаты всех налогов. Однако революционный порыв городских низов внес в это решение свои коррективы. Возмущенная толпа, собравшаяся у дворца на Виа Ларга, выкрикивала проклятия по адресу всех Медичи и особенно Климента VII.
Тем временем Пассерини в своей резиденции обсуждал с двумя молодыми подопечными, стоит ли принять предложение Синьории или же счесть за благо, пока не поздно, покинуть Флоренцию, ибо разъяренная толпа явно выражала намерение разграбить дворец. Катерина присутствовала при этом обсуждении в качестве стороннего наблюдателя. Внезапно в помещение ворвалась Клариче. Она принялась громко — так, что даже на улице было слышно, — осыпать едкими насмешками кардинала, который довел дело Медичи до столь безнадежного состояния. Под конец она посоветовала кардиналу убираться из дома, который он не имеет права называть своим, и из города, который ненавидит его, заявив, что в этот роковой час она берет на себя спасение чести семьи.
Пассерини последовал ее совету и вместе с Ипполито и Алессандро через заднюю дверь спешно покинул дворец, когда толпа, ворвавшись через парадный вход, уже принялась грабить огромный дом. Представители народа запретили Катерине и ее тетке покидать город, предпочтя оставить маленькую герцогиню на положении заложницы на тот случай, если впредь возникнут какие-либо осложнения с папой Климентом.
Катерину заперли в монастыре Санта-Лючия, своими высокими стенами напоминавшем крепость. Ей отвели простую келью, единственным украшением которой служило распятие на стене, а из мебели были только кровать и стул. Ничего похожего на роскошь дворца ее предков. Вместо великолепной серебряной и хрустальной посуды — грубая деревянная ложка и оловянные миска с кружкой в мрачной трапезной. Отныне ее окружало враждебное молчание монахинь, прерывавшееся лишь бормотанием молитв. От всего этого на глаза Катерины наворачивались слезы отчаяния.
Однако тетушка Клариче, разлученная с племянницей, но не перестававшая хлопотать за нее, добилась, чтобы ее перевели в монастырь Санта-Кате-рина, условия пребывания в котором были менее суровы. Не успокоившись на достигнутом, донна Клариче обратилась к французскому послу с просьбой, чтобы тот употребил все свое влияние и добился от имени своего короля более гуманного обращения с бесценной заложницей, на которую имел политические виды и сам Франциск I. Трудно сказать, сколько еще тянулась бы эта тяжба, если бы помощь не пришла, откуда не ждали: в ноябре Флоренцию посетила чума, унеся 14 тысяч жизней, и 7 декабря 1527 года Катерину тайно, под покровом ночи, в целях безопасности перевели в монастырь Мурате, считавшийся более здоровым местом. Монастырь хранил добрую память о благодеяниях Лоренцо Великолепного, и здесь юной Катерине воздали добром за добро.
Это была аристократическая обитель, в которую поступали на воспитание или постригались в монахини представительницы наиболее знатных семейств Флоренции. Молитвы и труды там чередовались с приятным времяпрепровождением. Катерина проявила себя способной ученицей. Она чувствовала себя счастливой, окруженная заботой и любовью монахинь, видевших в ней с отцовской стороны внучатую племянницу двух пап, а с материнской — дальнюю родственницу Матильды, королевы Португалии, которая тремя столетиями ранее положила начало традиции ежегодно присылать в монастырь семь ящиков сахара, дабы подсластить и без того не слишком обременительную жизнь невест Христовых. И спустя десятилетия, уже будучи королевой Франции, Екатерина Медичи с теплотой душевной вспоминала время, проведенное среди монахинь Мурате.
9 декабря 1527 года, спустя два дня после прибытия Катерины в Мурате, Климент VII, переодевшись в лохмотья, сумел бежать из замка Святого Ангела. Вновь обретя свободу, он не помышлял ни о чем ином, кроме мщения. То, что Флоренция вновь восстала и в очередной раз изгнала его семейство, для него было еще более нестерпимо, чем разграбление Рима и последовавшие затем мытарства. Одержимый стремлением покарать мятежников, он пошел на секретное соглашение с Карлом V, обещая возложить на его голову императорскую корону, как того требовал обычай, и предлагая женить Алессандро на его внебрачной дочери и провозгласить их герцогом и герцогиней Флорентийскими, после того как город будет взят, а его республиканское устройство упразднено. Для этого он нанял за 30 тысяч флоринов и обещание отдать на разграбление Флоренцию тех же самых головорезов, которые незадолго перед тем разграбили Рим. Они шли под предводительством самого Климента VII, лично благословлявшего их на совершение того же преступления в отношении его родного города.
Флорентийцы содрогались от одной только мысли о восстановлении тирании Медичи и были полны решимости защищать свою свободу. Каждый вносил посильный вклад в подготовку города к войне. Под руководством Микеланджело укрепляли городские стены. Формировалось и вооружалось войско, создавались запасы продовольствия.
В сентябре 1529 года имперцы под командованием принца Филиберта Оранского приступили к осаде Флоренции. Во время этих бурных событий жизнь маленькой герцогини протекала в стенах монастыря Мурате. Когда вокруг города сжалось кольцо осады, Катерина стала объектом подозрений и ненависти флорентийцев. Под подозрение попали и сами монахини Мурате, в большинстве своем представительницы флорентийской аристократии. Один член Синьории предложил выставить Катерину на городской стене в качестве мишени для вражеских пуль, другой — отправить ее в бордель. К счастью, отвергнув предложения радикалов, Синьория решила перевести маленькую герцогиню обратно в монастырь Санта-Лючия, внушавший республиканским властям города больше доверия.
Ночью 30 июля 1530 года монахини Мурате были разбужены громким стуком в ворота их обители. С улицы доносились топот лошадиных копыт и грубые мужские голоса. Лишь после продолжительного стука по воротам и неоднократных требований открыть именем республики ворота монастыря отворились. Группа сенаторов во главе с Сильвестро Альдобрандини предъявила официальный ордер на выдачу им «девицы Катерины Медичи». Однако исполнить решение Синьории оказалось не так-то просто. Препирательства с монахинями, не желавшими расставаться со своей подопечной, затянулись, а применить силу в святом месте сенаторы не решались. Сама Катерина, побледнев, точно вкопанная стояла рядом с настоятельницей. Она понимала, что за стенами Мурате ее ждет неизвестность. Может быть, даже ее собираются убить под покровом ночи. Но и в свои 11 лет она способна была показать твердый характер. Глядя прямо в глаза Альдобрандини, она спокойным и решительным тоном напомнила о неприкосновенности монастыря, заявив, что добровольно никогда не покинет его стены. Если сенаторы готовы применить силу против беззащитного ребенка, вырвав его из святого убежища и тем самым грубо поправ священные законы, то пусть они запятнают себя подобным святотатством. Эти слова, столь неожиданно прозвучавшие из уст маленькой герцогини, как и проявленная ею решимость, произвели на сенаторов до того сильное впечатление, что они сочли за благо повременить с исполнением приказа, дабы получить новые указания от Синьории.
Когда на следующее утро они возвратились, пред ними предстала Катерина с постриженными волосами и в монашеском облачении. Было ясно, что невозможно применить в отношении ее насилие, не оскорбив религиозных чувств народа, собравшегося у ворот монастыря. Тогда сенаторы принялись уговаривать Катерину снять с себя монашеское облачение, но всё напрасно: ни уговоры, ни скрытые угрозы не могли заставить ее переменить решение. Эти препирательства продолжались более часа. Катерина, проявляя поразительное упорство и решимость, заявляла, что пусть все увидят, как монахиню силой увозят из монастыря. В конце концов достигли компромисса: было решено, что она поедет из монастыря в монашеском облачении. Попрощавшись с сестрами, ставшими для нее почти что родными, она села верхом на приготовленную для нее лошадь и в сопровождении сенаторов и вооруженной охраны, оттеснявшей напиравшую толпу, двинулась навстречу своей судьбе. Она была увезена из Мурате, чтобы вновь оказаться у сестер Санта-Лючии, пуританский и плебейский дух которых казался более благонадежным республиканскому правительству Флоренции.
Однако ее вторичное пребывание в Санта-Лючии оказалось непродолжительным. Спустя месяц Флоренция капитулировала, избежав печальной участи Рима, но зато получив в правители ненавистного бастарда Алессандро, и Катерина, вновь обретя свободу, охотно возвратилась в Мурате, где опять потекла уже ставшая для нее привычной жизнь. Размышляя в монастырской тиши о недавних событиях и не ожидая от будущего ничего хорошего, она начала было подумывать, не остаться ли ей навсегда в монастыре, дабы избежать мирских волнений, однако судьба готовила ей иную участь. Она была слишком ценной фигурой в политической игре папы, чтобы тот позволил ей навсегда удалиться от мира. Итак, последовал приказ возвратиться в Рим.
В Риме, где еще видны были следы недавнего разгрома, ее сердечно приветствовал понтифик, но особенно приятно ей было видеть Ипполито. Теперь Катерина жила у другой своей тетушки, Марии Сальвиати, во дворце на Пьяцца Ломбарди, где часто навещал ее Ипполито. Ей шел лишь двенадцатый год, но под солнцем Тосканы она рано созрела. Сориано, венецианский посол при папском дворе, отмечал ее живой нрав и восприимчивый ум, впитавший много хорошего за время ее пребывания в Мурате.
К Ипполито Катерина была явно неравнодушна. Это было настолько очевидно, что поговаривали о ее предстоящей помолвке с симпатичным юношей. Эти пересуды тревожили Климента VII, у которого в отношении ее имелись более честолюбивые планы, и он, дабы пресечь нежелательное для него развитие событий, возложил на голову Ипполито красную кардинальскую шапку, а саму Катерину отослал, благо настало лето, на свою виллу на Монте Марио подышать чистым деревенским воздухом. Ей было не в радость вынужденное переселение, но она безропотно подчинилась, предаваясь в тиши деревенского одиночества сладким воспоминаниям о приятных часах, проведенных в обществе своего кузена. Дабы развеять грусть, она много охотилась, доводя до полного изнеможения лошадей, собак, сокольников и загонщиков. Это страстное увлечение она сохранит на всю жизнь. В недалеком будущем оно поможет ей завоевать расположение тестя, Франциска I, что во многом предопределит ее дальнейшую судьбу.
С наступлением зимы маленькая герцогиня возвратилась в Рим, однако ее возлюбленного там уже не было. Предусмотрительный Климент VII отправил его со специальной миссией в Венгрию.
Невеста
Когда после окончания осады Флоренции Катерина прибыла в Рим, начался новый период в ее жизни. Матримониальные планы, которые строил папа с момента ее рождения, стали приобретать более конкретные очертания. Не было недостатка в женихах, вопрос заключался лишь в том, какой из вариантов более выгоден для ее покровителя. Дядя Катерины со стороны матери, герцог Олбани, предлагал короля Шотландии Якова V, Англия — герцога Ричмонда, внебрачного сына Генриха VIII. В Италии в качестве потенциального жениха рассматривали Гвидобальдо делла Ровере, брак с которым позволил бы объединиться двум знатным итальянским родам. Поучаствовали в борьбе за руку и сердце Катерины герцоги Мантуанский и Миланский. Однако Климент VII отверг все эти варианты, после того как в декабре 1530 года король Франции попросил ее руки для своего второго сына, Генриха, герцога Орлеанского. Начались переговоры об условиях заключения брака по политическому расчету, от которого обе стороны ждали большой выгоды. Этим альянсом папа Климент VII надеялся уравновесить влияние императора, причем в секретных пунктах брачного контракта он пойдет на уступки, несовместимые с обещаниями, ранее данными Карлу V. Впрочем, для него это имело мало значения, поскольку он и не собирался держать данное слово.
Приданое Катерины в размере 130 тысяч экю представлялось весьма скромным и было значительно меньше того, что первоначально требовал Франциск I. Однако это компенсировалось обещанием Климента дать своей племяннице и, соответственно, ее будущему супругу, помимо Пармы, города Пизу, Ливорно, Реджо и Модену. Хотя уже в 1531 году в общих чертах было достигнуто соглашение, дата свадьбы, ввиду юного возраста жениха и невесты, была отложена на полтора года, и в конце апреля 1532 года Катерина возвратилась во Флоренцию, дабы завершить необходимые приготовления.
Клариче Строцци уже не было в живых, дворец Медичи занимал Алессандро, а тетка Катерины, Мария Сальвиати, жила во вдовьем уединении на своей вилле в 20 милях от Флоренции, посвятив себя воспитанию единственного сына. Поэтому маленькой герцогине, дабы избежать гостеприимства ненавистного «брата», пришлось опять поселиться в монастыре Мурате, где ее часто навещала Мария. Ей в качестве ближайшей родственницы предстояло сопровождать племянницу к жениху во Францию.
Алессандро хотя и недолюбливал мнимую сводную сестру, однако считал своим долгом внести вклад в подготовку ее свадьбы. Для этого он в добровольно-принудительном порядке позаимствовал у граждан Флоренции 35 тысяч скуди якобы на ремонт городских стен, а в действительности на приобретение нарядов и украшений для невесты. Изабелла д’Эсте, тогдашняя законодательница мод, согласилась придумать модели платьев для невесты — как подвенечного убора, так и платья для церемонии торжественного прибытия во Францию. Изготовлением украшений занялся неподражаемый Бенвенуто Челлини.
Тем временем переговоры о заключении брака между Катериной и Генрихом Орлеанским успешно продвигались вперед и к 1533 году вошли в финальную стадию. Этот брачный союз, как полагали Франциск I и Климент VII, должен был оказать влияние на всю Европу, положив предел экспансионистским устремлениям императора, обеспечив безопасность папы от имперского вторжения и предоставив Франции территории в Италии, на которые она была нацелена в течение более ста лет.
Когда по завершении долгих переговоров были согласованы условия заключения брачного контракта, папская курия могла сделать официальное заявление, что Климент VII отправляется во Францию для личной встречи с Франциском I и передачи своей племянницы ее предполагаемому жениху. Хотя именно французский король проявлял особую заинтересованность в заключении брака, он, по сообщению английского посла, с самого начала напустил на себя важно-снисходительный вид, откровенно давая понять, что Катерине оказана великая честь. Несмотря на то, что приданое невесты включало в себя Пизу, Ливорно, Реджо, Модену и Парму, многочисленные предметы гардероба, изготовленные знаменитыми флорентийскими мастерами, бриллианты и жемчуга, предоставленные папой, в глазах французов всё это ничего не стоило по сравнению с привилегией войти в королевскую семью Франции. Сама же маленькая герцогиня производила на них еще меньше впечатления, чем ее приданое.
Следует заметить, что идея женить отпрыска рода Капетингов на представительнице итальянского клана торговцев и банкиров в XVI веке могла показаться безумной — кому угодно, только не Франциску I. Впрочем, и сам он, наверное, возмутился бы, если бы это предложение последовало со стороны. Другое дело, когда столь смелая идея зародилась в его собственной голове. Разумеется, далеко не все в окружении короля были в восторге. Иначе, как иронией судьбы, нельзя назвать то, что решающий довод в пользу этого неравного брака прозвучал из уст Дианы де Пуатье, которая напомнила, что предполагаемая невеста герцога Орлеанского не такая уж и худородная: ее мать — отпрыск рода Бурбонов. Получается, что женщине, причинившей ей столько страданий, Екатерина Медичи обязана всем. Утешало и то, что «маленькой банкирше» предстояло стать всего лишь герцогиней Орлеанской — никому и в голову не могло прийти тогда, что она будет королевой Франции. И все же, какие аргументы ни приводи, намечавшийся брак был для той поры настолько скандальным, что никто в Европе не мог поверить в его осуществимость. Это тоже было на руку Франциску I и папе Клименту: до поры до времени им удавалось сохранять свои переговоры в тайне от Карла V. Что же касается короля Франции, то для него это был уже решенный вопрос: «Ибо так угодно мне».
Брак, свершившийся на небесах?
1 сентября 1533 года Катерина в сопровождении своей тетки Марии Сальвиати и многочисленной свиты покинула Флоренцию. В Поджо ее встретил кузен Алессандро, в компании которого она продолжала путь до Пистойи, где к ее свите присоединился Гийом дю Белле, эмиссар французского короля. Через шесть дней пути она прибыла в гавань Специи, где ее дядя герцог Олбани ждал ее с флотом из двадцати семи судов, готовых отплыть во Францию. Специально по этому случаю была построена королевская галера с парадной каютой, простиравшейся от главной мачты до штурвала и украшенной драгоценными тканями с золотыми лилиями. Три сотни гребцов, облаченных в костюмы из атласной краснозолотой ткани, были прикованы к своим местам серебряными цепями. По прибытии в портовый город Виллафранка Катерина вынуждена была задержаться в ожидании Климента VII. Наконец явился папа со свитой, включавшей в себя и Ипполито, и они, каждый на своем корабле, продолжили путь, 11 октября прибыв в Марсель.
Флотилия из французских и папских судов, вошедшая в бухту Марселя, была встречена с надлежащими почестями. Колокольный звон всех церквей сливался с грохотом пушечных салютов. Коннетабль Аннде Монморанси, руководивший торжественной встречей, сердечно принял прибывших в своем дворце. Город на протяжении двух месяцев готовился к предстоявшему событию. Еще в конце сентября туда прибыли канцлер, кардиналы и представители высшей знати Франции. 8 октября король, королева и дофин расположились в своей временной резиденции на расстоянии одного дневного перехода от Марселя. С ними были и оба младших принца, Генрих Орлеанский и Карл Ангулемский.
Генрих, жених Екатерины (отныне, ступив на землю Франции, она будет именоваться именно так), на 13 дней старше ее, был хотя физически и крепким, однако мрачным и неразговорчивым юношей. Пребывание в испанском плену, где он вместе со своим старшим братом Франсуа томился в качестве заложника, пока их отец Франциск I не исполнил кабальные условия своего освобождения после сокрушительного поражения при Павии и последовавшего за ним пленения, оставило в его душе неисцелимую рану. Он возвратился во Францию с ненавистью к императору и с обидой на отца. Говорили, что Генриха никто не видел смеющимся. Дабы вернуть сыну радость жизни, Франциск I дал ему в наставницы прекрасную Диану де Пуатье, по возрасту годившуюся ему в матери (она была на 20 лет старше его), но выглядевшую на удивление молодо. Генрих с первого взгляда влюбился в эту женщину, ставшую единственной любовью всей его жизни, загадав неразрешимую загадку как своим современникам, так и потомкам, пытавшимся понять феномен этой колдовской любви.
12 октября состоялся торжественный въезд понтифика в город. За ним следовала многочисленная свита из кардиналов и епископов, среди которых был и блиставший своим кардинальским облачением Ипполито Медичи, недавно вернувшийся из Венгрии. На следующий день в Марсель торжественно вступил со всей своей многочисленной свитой Франциск I. Французский суверен и римский понтифик, обменявшись любезностями, приступили к многодневным обсуждениям своего так много обещавшего политического союза — ради этого и заключался столь спорный брак. Их планы были бы более реалистичны, если бы в переговорах участвовал и Карл V, но его мнение в расчет не бралось, и последующая политическая реальность оказалась не столь радужной, как хотелось бы высоким договаривающимся сторонам.
Что до жениха и невесты, то с первой же встречи Екатерина влюбилась в своего суженого. Генрих же смотрел на флорентийку без особого энтузиазма. Низкорослая, худая, с круглым лицом простолюдинки, с глазами навыкате и толстыми губами, она выглядела совсем не так, как он представлял себе свою супругу. Ничего похожего на Диану де Пуатье, ставшую для него идеалом женщины. Екатерина во всем проигрывала своей сопернице. Не спасала даже огромная разница в возрасте, которая в ином случае могла бы стать важным преимуществом.
23 октября состоялась официальная церемония вступления Екатерины Медичи в Марсель, что должно было означать ее официальное прибытие во Францию. Екатерина ехала верхом на коне, так же как и 12 ее фрейлин, но словно желая показать, что и у нее имеется карета не хуже, чем у французской королевы, а верхом она едет лишь потому, что ей так захотелось, она распорядилась, чтобы ее роскошный, обитый черным бархатом экипаж следовал за ней в сопровождении двух конных пажей. Для жителей Марселя это стало незабываемым зрелищем. Затем последовало официальное представление невесты папе Клименту VII. Екатерина распростерлась перед понтификом, целуя его туфли. Когда же она собралась проделать то же самое и перед Франциском I, король поднял и обнял ее, после чего она обменялась объятиями со своим суженым, Генрихом Орлеанским, и его младшим братом, герцогом Ангу-лемским. Заключительным актом церемонии послужил реверанс перед королевой Элеонорой, после чего приступили к роскошному банкету с переменой многочисленных блюд, под музыку и выступление итальянских актеров. Спустя четыре дня наконец-то был официально подписан брачный контракт.
28 октября в соборе Марселя папа лично совершил обряд венчания, дав свое благословение жениху и невесте. На голове Екатерины, облаченной в роскошное парчовое платье, сверкали бриллианты и красовалась герцогская корона, что, однако, не произвело должного впечатления на французов, продолжавших думать, что Франция мало приобрела, соединив брачными узами королевского отпрыска с купеческой дочерью, которая к тому же не отличалась красотой и, как вскоре обнаружилось, была не столь уж и богата. На брачном пиру Екатерина сидела между своим супругом и дофином во главе длинного стола, предназначенного для кардиналов. Король и папа гордо восседали за особым столом. За третьим столом блистало созвездие дам, среди которых выгодно выделялась Диана де Пуатье.
После свадебного пира королева Элеонора в соответствии с протоколом проводила новобрачную в опочивальню, где вскоре появился и Генрих. Несмотря на юный возраст новобрачных (им обоим было по 14 лет) папа Климент настоял на незамедлительном осуществлении брака, дабы исключить возможность последующего его аннулирования под предлогом того, что фактически он не осуществился (не очень-то он и доверял Франциску I). На следующее утро папа лично удостоверился, что брак свершился, и затем в течение месяца каждый вечер с видом не столько благочестивым, сколько фривольным, благословлял новобрачных в их постели, надеясь, что Екатерина забеременеет, тем самым дав ему дополнительную гарантию нерасторжимости брака, заключенного по политическому расчету Так и не дождавшись желаемого, он с чувством легкого разочарования отправлялся в Рим, на прощание благословив Екатерину и дав ей совет: «Разумная девушка всегда найдет возможность заиметь ребенка», подразумевая, что все средства хороши для женщины, желающей забеременеть. Однако Екатерина не вняла его наставлениям, сохраняя верность супругу, которого любила. Ее добродетель осталась незапятнанной, что для того времени было делом почти неслыханным, особенно при французском дворе. Ребенок у Екатерины появится лишь спустя десять лет.
Климент VII отбывал в Италию, довольный и теми обещаниями, которыми они обменялись с французским королем (и которые сам он даже не собирался выполнять), и тем, что брак молодоженов фактически совершился. Вместе с ним возвратился в Рим и Ипполито, и Екатерина более не видала их: спустя два года оба они отправились в мир иной.
Глава вторая.
ГЕРЦОГИНЯ ОРЛЕАНСКАЯ
Наука смирения
Екатерина столкнулась с непростой задачей — приспособиться к новым для нее, непонятным и во многом чуждым ей нравам и обычаям французского двора. Она была здесь чужой, о чем постоянно напоминало ей окружение, в которое забросила ее судьба. Это окружение отвергало и презирало ее. Ей предстояло не только научиться понимать французский народ, но и постараться заслужить если не любовь, то, по крайней мере, терпимое отношение с его стороны. Задача почти неразрешимая, учитывая, сколь враждебно, по сообщению венецианского посла, к ней относились все. Французы были недовольны женитьбой Генриха Орлеанского на Екатерине Медичи. Знать ненавидела ее за то, что приходилось преклонять колено перед принцессой столь низкого происхождения. Что же до простого народа, то он не мог постичь, как возможно, чтобы представительница купеческого сословия, пусть и племянница папы, делила супружеское ложе с сыном монарха. Добрые подданные короля оказались консервативнее его самого, так и не сумев перебороть свое предубеждение против Екатерины Медичи — впрочем, также как и многие историки.
Однако Екатерина не пала духом, не спасовала перед трудностями. Не пытаясь исправить непоправимое (то есть свое происхождение), она вооружилась тем, в чем была сильна, проявив свои лучшие качества: природный ум, гибкость, умение таить свои чувства и мысли. С малолетства жизнь приучила ее контролировать себя, когда надо, польстить человеку, снискать его расположение. Ее непритязательность, скромность и смирение перед лицом сильных мира сего сослужили ей добрую службу. Если бы она совершила непростительную ошибку, вздумав кичиться своим положением второй по рангу принцессы крови, ее стерли бы в порошок. И она старалась быть незаметной, снискать обезоруживающей улыбкой расположение к себе. Скрыв свое лицо под непроницаемой маской обходительной простушки, она долгое время оставалась вне подозрений, тая от окружающих свой глубокий ум.
Не блистая красотой, она очаровывала своей беседой. Она умела деликатно, не выставляя напоказ, обнаружить свою образованность, более широкую и глубокую, чем у большинства придворных — не только дам, но и кавалеров. Обладая приобретенным во Флоренции и Риме утонченным вкусом к музыке, поэзии, живописи, скульптуре и архитектуре, она к тому же неплохо знала греческий и латынь, продолжив занятия ими и во Франции. Никто из придворных не мог сравняться с нею знаниями по географии, астрологии, естествознанию и математике. Даже сестра короля, знаменитая Маргарита Ангулемская, была сильна лишь в литературе. Екатерина своим умом, образованностью и утонченной итальянской культурой, равно как и обходительностью, сумела завоевать ее расположение, обретя в ее лице надежного друга и защитника.
Овладев французским, Екатерина говорила хотя и с акцентом, но довольно правильно. Зато вышедшая из-под ее пера обширная продукция на этом языке представляет собой настоящую головоломку. Написанное ею требует в прямом смысле этого слова расшифровки, поскольку в основу ее письма был положен фонетический принцип: как слышу, так и пишу. Впрочем, это служит проблемой лишь для людей XXI века (особенно тех, для кого французский язык — иностранный); современники же, скорее всего, без особого труда разбирали написанное Екатериной Медичи. Иначе ей пришлось бы сделать одно из двух: или научиться писать как следует, или прекратить попусту марать бумагу.
Сознавая шаткость своего положения в королевской семье и постоянно ощущая враждебность придворных, не прощавших ей ее чудесного возвышения, Екатерина сделала всё для того, чтобы удержаться на высоте, на которую вознесла ее судьба. Она всячески выражала абсолютную покорность и глубокую признательность королю, выбравшему ее в жены своему сыну. Точно так же она держала себя и по отношению к супругу, считая его, так же как и короля, своим господином. Эта школа смирения воспитала из нее настоящую французскую патриотку, впоследствии подававшую принцам крови пример преданности Франции.
Не делало более комфортным положение Екатерины при французском дворе и поведение ее «доброго дядюшки», папы Климента VII. Возвратившись из Марселя в Рим, он тут же принял у себя посла Карла V, дабы заверить его в своей верности императору. Эго было прямым предательством Франциска I, которого папа еще совсем недавно уверял в дружбе, благословлял и услаждал обещаниями. Он выдал послу все секретные планы французского короля относительно Милана и Урбино, которые тот рассчитывал передать Генриху Орлеанскому. О передаче Франции Пармы, Пизы, Ливорно, Реджо и Модены уже не было речи. Даже своей скоропостижной кончиной 25 сентября 1534 года Климент VII умудрился насолить Франциску I: все проекты французского короля, столь легкомысленно построенные на мезальянсе сына Генриха, в одночасье рухнули. Вдобавок ко всему выяснилось, что драгоценности из приданого Екатерины не принадлежали папе, являясь собственностью Ватикана, и потому не подлежали отчуждению от папского престола. Денежная же часть приданого так и не была выплачена. Франциск I понял — правда, несколько поздно, — что его одурачили.
Жестокое разочарование постигло и Генриха Орлеанского, принесшего себя в жертву на алтарь супружества в надежде получить герцогство Миланское. Теперь ему, герцогу Орлеанскому, не оставалось ничего иного, как оставаться в тени своего старшего брата, дофина Франсуа, которому предстояло быть королем Франции. И без того мрачная мина Генриха еще больше омрачилась. Супругу свою он любил по обязанности, пунктуально исполняя свой супружеский долг, однако безрезультатно. Наследника, появление которого на свет могло бы хоть в какой-то мере оправдать присутствие Екатерины в королевском семействе, по-прежнему не было и не ожидалось. Всю горечь ситуации Франциск I выразил одной фразой: «Я получил совершенно голую девицу».
Екатерина делает успехи
И тем не менее он не изменил своего доброго отношения к Екатерине, посреди враждебного окружения оставаясь для нее главным защитником. Презираемая знатью и ненавидимая народом, она всегда могла рассчитывать на дружбу и поддержку короля. С их первой встречи в Марселе король понял, что Екатерина обладает живым умом и лучшим воспитанием, нежели придворные дамы, стремившиеся перещеголять друг друга в нанесении ей оскорблений. Екатерина, в свою очередь, боготворила короля, любя его так, как можно любить родного отца. Дружески относились к ней и прочие члены королевского семейства, принцы и принцессы, считавшие ниже собственного достоинства разделять презрение и ненависть, которые питали в отношении Екатерины господа пониже рангом. Что ни говори, а ведь король сам принял ее в свою семью, и теперь было бы крайне нелюбезно с его стороны отвергнуть ее, хотя формальных оснований для этого было предостаточно.
Смирение Екатерины было вознаграждено. В королевском семействе ее начинали понимать и даже любить, и прежде всего — сам король, разглядевший достоинства маленькой флорентийки. Он, не обделенный вниманием со стороны женщин, не устоял против того восхищения и обожания, которые Екатерина тонко, без грубой лести, проявляла к нему. Ему нравилась ее полная и совершенно искренняя покорность. Венецианский посол не ошибся, отметив: «Она покорна, и в том ее сила». Екатерина же не упускала случая показать себя королю, прежде всего на балах, услаждая его взор своим танцевальным мастерством. Но окончательно покорила она сердце тестя своим страстным увлечением охотой. При этом Екатерина если и не придумала сама, то, по крайней мере, привила во Франции новый для женщин способ садиться на лошадь, что позволяло им участвовать в охоте наравне с мужчинами. Она скакала верхом, как амазонка. Это явилось абсолютным новшеством, поскольку дамы тогда использовали не седло, а своего рода кресло, помещенное на спину лошади, при этом обе ноги свешивались в одну сторону, покоясь на планшетке. При такой посадке невозможно было скакать ни рысью, ни галопом. Дамы могли передвигаться лишь иноходью, ежеминутно рискуя свалиться. Как при таких условиях могли они поспевать за кавалерами на загонной охоте? Новшество, предложенное Екатериной, очень понравилось Франциску I: отныне дамы из его знаменитого «отборного отряда», избранной группы молодых женщин, блиставших красотой и живостью ума и нрава, повсюду сопровождавших его и самим своим присутствием помогавших ему чувствовать себя молодым, могли следовать за ним даже там, где прежде им это было не под силу. Наградой для Екатерины послужило то, что и она теперь стала полноправным членом королевского «отборного отряда». Недостаток красоты с лихвой компенсировался ее умом, воспитанием и готовностью радовать короля своей находчивостью и изобретательностью.
Впрочем, из этого новшества, одобренного королем, Екатерина извлекала для себя еще одну немалую выгоду. Она не была кокеткой, но ее манера садиться на лошадь, когда приходилось перекидывать ногу через ленчик седла, позволила ей демонстрировать то, что она могла с гордостью выставлять напоказ — свои ножки, не менее красивые, чем ее изящные руки. Увлечение этой модой распространилось молниеносно. Все дамы с удовольствием стали задирать ноги, перебрасывая их через ленчик седла, и это не осталось без последствий. Поскольку при этом и юбки задирались выше дозволенного, а женщины тогда не носили нижнего белья, взорам кавалеров открывалось захватывающее зрелище. Непременные в таких случаях шуточки вынудили дам-амазонок ввести в обиход новый, прежде неведомый и не предусмотренный для женщин предмет туалета — панталоны. Это нововведение наделало много шума. Протестовали не столько распутники, лишившиеся услады для глаз, сколько поборники добродетели и теологи. Дело в том, что панталоны были исключительно мужской одеждой, запрещенной для женщин. Не случайно Жанне д’Арк некогда вменили в вину именно ношение мужского наряда. Парадоксальным образом выходило, что ревнители благочестия скорее готовы были терпеть выставление напоказ интимных частей женского тела, нежели сокрытие их под святотатственными панталонами. Излишне напоминать, что протесты святош остались втуне.
Вполне дружеские отношения сложились у Екатерины с братьями супруга, дофином Франсуа и младшим из братьев Карлом, отличавшимся наиболее веселым нравом, которым он напоминал своего отца. Не зря Франциск I любил младшего больше двух других сыновей, пережив его безвременную кончину как страшный удар судьбы.
Искренняя дружба связывала Екатерину с сестрой короля, Маргаритой Ангулемской, более известной под именем Маргариты Наваррской (брат выдал ее замуж за короля Наварры) в качестве автора сборника новелл «Гептамерон». Она, сразу же разглядев достоинства супруги своего племянника, не только никогда не ставила ей в упрек ее происхождение, но и приняла ее как дар боготворимой ею Италии.
Впрочем, и помимо членов королевской семьи, было несколько представителей французской аристократии, с судьбами которых переплелась личная судьба Екатерины. Прежде всего это Анн де Монморанси, коннетабль Франции, которого ценили и король Франциск I, и Генрих. У коннетабля были два племянника, братья Шатийоны. Один из них, Одет, был рукоположен в кардиналы папой Климентом VII в Марселе во время бракосочетания Екатерины. Второй, Гаспар де Колиньи, будущий адмирал Франции, — один из главных персонажей кровавой истории века Екатерины Медичи. Но это в будущем, а пока что братья Шатийоны являются ее добрыми приятелями.
Между Сциллой и Харибдой
Тем временем отношения Екатерины с обожаемым супругом, в которого она влюбилась с первой их встречи в Марселе, складывались не лучшим образом для нее. Все помыслы Генриха были о даме его сердца — Диане де Пуатье, которую он боготворил. Как будто нарочно для того, чтобы все знали, кому он поклоняется, Генрих стал носить цвета своей богини: черное и белое. Каково было Екатерине видеть это? Но она молча сносила обиду, и так продолжалось на протяжении целых двадцати шести лет.
Сложные отношения связали Екатерину с первых же дней ее пребывания при королевском дворе с метрессой Франциска I, Анной де Пислё, герцогиней д’Этамп, во всем соперничавшей с Дианой де Пуатье, которую она от всей души ненавидела. Когда Генрих станет дофином, соперничество двух метресс будет определять не только обстановку при дворе, но и политику Франции. Мадам д’Этамп, дабы убрать со своего пути соперницу, которую она не называла иначе как «старуха» (хотя Диана была лишь на девять лет старше ее), всячески старалась настроить короля против сына. Поскольку ненависть метресс была взаимной, Диана рассказывала окружению короля о неверности его фаворитки, о ее многочисленных любовниках. Екатерине оставалось лишь со стороны наблюдать войну фавориток. Ей поневоле приходилось искать благосклонности всесильной метрессы короля. При этом ей не надо было делать особых усилий над собой, учитывая, что мадам д’Этамп враждовала с ненавистной ей самой Дианой де Пуатье. Преуспев в снискании благоволения королевской фаворитки, Екатерина заслужила признательность и самого короля. Однако двор был расколот на два враждующих лагеря, и ей приходилось приноравливаться к обеим группировкам. Другая на ее месте неизбежно навлекла бы на себя гнев одной из сторон, а то и обеих сразу, но Екатерина успешно избежала этой участи, продемонстрировав высшее мастерство политического лавирования.
В лагере ее супруга, к которому примыкал Монморанси со своими двумя племянниками, верховодила Диана де Пуатье, имевшая своих союзников — Гизов, герцогов Лотарингских. Один из них, герцог д’Омаль, был женат на ее дочери Диане. Другой, Франсуа Гиз по прозвищу Меченый, видный полководец, являлся ключевой политической фигурой того времени и непримиримым противником Шатий-онов. Третий Гиз, кардинал Лотарингский, обладал незаурядным талантом политического деятеля. Королева Элеонора, не желавшая иметь ничего общего с мадам д’Этамп, также оказалась в лагере Дианы. На стороне короля и его фаворитки были Маргарита Наваррская и ряд весьма влиятельных сеньоров, к числу которых вскоре примкнули и Шатийоны, не ладившие с Гизами. Ко всем прочим разногласиям вскоре добавились и расхождения по религиозным вопросам: герцогиня д’Этамп искренне прониклась идеями Реформации, тогда как Диана де Пуатье оставалась убежденной католичкой. Так начали формироваться религиозно-политические группировки, борьба которых будет терзать Францию на протяжении многих десятилетий.
Екатерина лавировала между группировками, не примыкая ни к одной из них. Она старалась угождать обеим метрессам — и своего супруга, и тестя — с той лишь разницей, что в душе люто ненавидела Диану де Пуатье. Ата благосклонно принимала знаки внимания со стороны непритязательной маленькой итальянки, почти не замечая ее.
Несмотря на благорасположение к ней короля, Екатерина чувствовала себя одиноко в чужой стране, и это одиночество лишь в какой-то мере скрашивалось поступлением на французскую службу братьев Строцци (сыновей ее бывшей опекунши Клариче Строцци) — Пьеро, Леоне и Лоренцо, ее кузенов, с которыми она делила свои детские игры. Их приезд возвестил начало «итальянского вторжения» во Францию, которое лишь добавило Екатерине непопулярности в народе. Не приехал лишь один человек, которого она хотела бы видеть возле себя, — Ипполито. В июне 1535 года Алессандро отравил его. Однако нет худа без добра: присутствие при французском дворе элегантного кардинала Ипполито могло бы иметь катастрофические последствия для репутации Екатерины.
Желание Екатерины иметь у себя на службе со-отечественников-итальянцев вполне понятно. Видное место среди них занимал Антонио Гонди, мелкий банкир, жена которого стала фрейлиной, а впоследствии и кормилицей детей Екатерины. Среди прочих следует прежде всего отметить еще одного банкира — Бираго, а также Лодовико ди Гонзага, младшего брата герцога Мантуанского. Со временем они приняли другие имена: старший сын Гонди вошел в историю как граф де Рец, маршал Франции, Бираго — Рене де Бираг, канцлер, Гонзага — герцог де Невер. Двумя другими итальянцами, имевшими большое влияние на Екатерину, были братья Руджери — Козимо и Лоренцо. Особенно полагалась она на советы астролога Козимо. Именно он предсказал ей почти невероятное: что она, бездетная жена второго сына короля, станет королевой Франции и матерью десятерых детей.
Нежданная перемена участи
В судьбу Екатерины в очередной раз вмешался случай, разом всё переменивший. В один из жарких августовских дней наследник престола дофин Франсуа, разгоряченный игрой в мяч, выпил стакан холодной воды и сразу же почувствовал резкие боли в груди и животе. Его уложили в постель. Болезнь, пневмония, перешедшая в плеврит, развивалась стремительно, и спустя несколько дней, 10 августа 1536 года, дофин скончался. Хотя вскрытие подтвердило естественную причину смерти, упорно распространялись слухи об отравлении принца. Началось следствие, установившее, что роковой стакан подал дофину граф Себастьяно Монтекукули, итальянец, в свое время служивший при дворе Карла V и прибывший во Францию в свите Екатерины Медичи. Его и обвинили в отравлении наследника престола. Под пытками несчастный признался во всем, что хотели услышать от него обвинители, и его приговорили к публичной казни четвертованием. Приговор был незамедлительно приведен в исполнение.
Однако дело на этом не закончилось. Теперь начали судачить о целях устранения дофина. Кому это было выгодно? Версия о Карле V как заказчике преступления сразу же была отвергнута ввиду своей полной несостоятельности. Тогда взоры клеветников обратились на Екатерину. Говорили, что именно она, желая расчистить для своего супруга путь к трону и со временем самой стать королевой Франции, организовала убийство наследника престола. Кроме того, лишь она, уроженка страны, славившейся своими отравителями, могла действовать столь изощренно. Публику не убеждали выводы патологоанатомического исследования об отсутствии в организме погибшего смертоносного вещества. Молва утверждала, что следов яда не обнаружили не потому, что его там не было, а потому, что он бесследно испарился. И сотворить такое могла только итальянка Екатерина при помощи своих магов и колдунов. Так было положено начало обычаю возлагать на Екатерину Медичи ответственность за любое преступление, кем бы и в каком бы уголке Французского королевства оно ни совершилось.
Хотя в этом обвинении, точно так же как и в обвинении графа Монтекукули, всё, с начала до конца, было ложью, над головой Екатерины нависла реальная угроза, и кто знает, как обернулось бы дело, если бы не вмешательство Франциска I. На сей раз герцогиня Орлеанская пожала, как никогда ранее, обильные плоды своего смирения и безграничной покорности королю, снискавшие ей благоволение монарха. Франциск I явил ей свою монаршую милость, открыто взяв ее под свою защиту, и клеветники разом умолкли, не рискуя навлечь на себя гнев короля. Однако в народе продолжало жить мнение, что вина за безвременную кончину восемнадцатилетнего дофина Франсуа лежит на Екатерине Медичи — мнение, и по сей день охотно разделяемое многими историками и беллетристами.
Итак, клевета смолкла, и в судьбе герцога и герцогини Орлеанских наступила важная перемена. Отныне Генрих стал наследником престола, дофином, а Екатерина — дофиной. Казалось, сбывается пророчество Руджери о том, что Екатерине Медичи быть королевой Франции. Однако новоявленная дофина не могла не понимать: дело может обернуться так, что в урочный час Генрих станет королем Франции, тогда как сама она не будет королевой — по той простой причине, что к моменту восшествия его на престол не будет его супругой.
Глава третья.
ДОФИНА
Проклятие бездетности
Бесплодие Екатерины, словно дамоклов меч, висело над ее головой. Теперь, когда она стала дофиной, ее неспособность произвести на свет наследника престола оборачивалась для нее ощутимой угрозой: расторжение брака, прежде маячившее где-то далеко на горизонте в качестве досадной возможности, становилось реальной перспективой. Будущая королева не может быть бездетной. Родить наследника — дело государственной важности.
Впрочем, поначалу при дворе циркулировали слухи, что вина за бездетность супружеской четы лежит на Генрихе. Брантом, это ходячее собрание анекдотов, слухов и сплетен, утверждал, что у дофина был некий дефект полового органа (какое-то «искривление»), который, не мешая ему вступать в интимную связь, не позволял оплодотворить супругу и этот дефект будто бы можно было устранить путем хирургического вмешательства. Нам неизвестно доподлинно, что за дефект имел место и была ли сделана операция, однако в 1538 году у принца появилась внебрачная дочь от особы столь незнатного происхождения, что от нее поспешили избавиться, отправив ее в монастырь замаливать грехи — то ли свои собственные, то ли дофина Генриха, который, как говорили, ее не то соблазнил, не то изнасиловал. Иначе сложилась судьба новорожденной: Диана де Пуатье взяла ее под свою опеку и нарекла собственным именем. Позднее Генрих узаконил этот плод греховной связи, дав девочке гордое имя Дианы Французской и выдав ее замуж за герцога Эркюля Фарнезе. В мутном потоке сплетен фигурировала и такая: говорили, что матерью ребенка была сама Диана де Пуатье.
После появления у ее супруга внебрачного ребенка положение Екатерины стало еще более невыносимым. Теперь всю ответственность за отсутствие наследника возлагали на нее. При дворе уже открыто говорили о необходимости расторжения брака Генриха и о женитьбе его на старшей дочери императора Карла V. Хотя врачи уверяли Екатерину в том, что она лишена органических пороков, сама она всерьез опасалась, что ей не суждено испытать радостей материнства.
В этот критический для Екатерины момент помощь к ней пришла, как говорится, откуда не ждали. Диана де Пуатье, осознав, что новая супруга дофина может оказаться не столь покладистой, как маленькая итальянка, или, того хуже, завладеет сердцем ее возлюбленного, стала заступаться за Екатерину. Но что еще удивительнее, и герцогиня д’Этамп, видимо, желая сохранить сложившийся при дворе status quo, а может быть, и питая иллюзорные надежды на поддержку, когда уже не будет Франциска I и Генрих станет королем, со стороны нынешней супруги дофина, такой любезной и услужливой (как легко принять личину за истинное лицо!), выступила в ее защиту.
Иметь поддержку со стороны обеих метресс, возглавлявших два враждующих лагеря, было хорошо, но мало. Решающее слово, как всегда, оставалось за королем. И это слово прозвучало. Екатерина в слезах бросилась в ноги тестю, изъявляя готовность выслушать его приговор, каким бы суровым он ни был, и беспрекословно подчиниться ему. Франциск I, и без того относившийся к ней с симпатией, в очередной раз был тронут проявлением ее безграничной покорности. Подняв Екатерину, он обнял ее со словами: «Дочь моя, Богу было угодно, чтобы вы стали моей невесткой и супругой дофина, и я не желаю что-либо менять в этом». Екатерина словно восстала из мертвых. А король, не довольствуясь одним благодеянием, еще приободрил ее, сказав, что надо ждать и верить и обязательно придет время, когда у нее появятся дети. Эти слова слышать ей было не менее отрадно, чем пророчество Руджери.
Угроза на время отступила, но только рождение сына — наследника престола — решило бы все проблемы.
Упорство вознаграждается
Чего только не предпринимала Екатерина ради достижения заветной цели! Словно утопающий, она готова была ухватиться даже за соломинку. Некий алхимик приготовил ей, как он уверял, совершенно безотказное средство, настоящую панацею — припарку, представляющую собой смесь из земляных червей, толченых рогов оленя и коровьего навоза. Чтобы это отвратительное месиво было менее тошнотворным, в него полагалось добавить пыльцу барвинка, разведенную в молоке кобылицы. Чудодейственную припарку неоднократно прикладывали к тому месту, из которого появляется на свет новая жизнь, и ждали, что будет. Никакого результата. Живот упорно не хотел расти. Тогда прибегли к иному способу лечения. Уподобляя бесплодных женщин мулам, неспособным производить на свет потомство, и применяя принцип лечения подобного подобным, пациенткам прописывали употребление внутрь мочи мула. Екатерина послушно подвергла себя и этой пытке, опять не достигнув желаемого результата.
Итак, алхимики потерпели полное фиаско, и Екатерина решила, что причина ее неспособности познать радость материнства кроется в другом. Она внушила себе, что супруг занимается с нею любовью не с таким пылом, какой возбуждает в нем Диана де Пуатье, несомненно, прибегающая к любовному напитку. Весьма любопытно было также узнать ей, к каким приемам любовных утех прибегает ее более удачливая соперница. Одна из преданных ей фрейлин, с которой Екатерина поделилась своими заботами, посоветовала ей, как поступить: нужно просверлить дырку в потолке прямо над кроватью, которую Диана делит с Генрихом почти каждую ночь. Через эту дырку дофина могла бы подглядеть, в какие любовные игры играет ее супруг с дамой своего сердца. Чтобы не пропустить ничего интересного, просверлили даже несколько дырок. Однако подглядывание за счастливыми любовниками не принесло Екатерине ничего, кроме досады и новых огорчений.
И лишь тогда, разуверившись во всех «проверенных» средствах пособить своему горю, Екатерина прибегла к помощи медицины. Знаменитый придворный врач Фернель тщательно обследовал ее и обнаружил в строении ее детородных органов аномалию, препятствующую нормальному прохождению семенной жидкости. Ситуация усугублялась тем, что детородный орган ее супруга также имел аномалию, не мешавшую совершать половой акт и даже оплодотворять (что Генрих к тому времени уже блистательно доказал) — но только не его законную супругу! От другого мужчины Екатерина давно бы уже забеременела, воспользуйся она советом, полученным в свое время от Климента VII...
К счастью для Екатерины, ей не пришлось прибегать к греховным способам достижения заветной цели, что, скорее всего, имело бы для нее не менее роковые последствия, чем неспособность осчастливить королевское семейство рождением наследника. Помог Фернель, научивший Генриха и Екатерину, как надо предаваться любовным утехам, чтобы врожденные аномалии их половых органов компенсировали друг друга. Рекомендация врача нашла успешное применение, и в мае 1543 года было объявлено, что супруга наследника престола Франции беременна. Ликовали не только при королевском дворе, но и, как утверждали хронисты, в замках и хижинах по всей стране. Фортуна словно спешила вознаградить Екатерину за годы душевных страданий, и 19 января 1544 года в Фонтенбло появился на свет мальчик, которому конечно же дали имя Франсуа (Франциск) — в честь деда.
Как водится, рождение первенца у дофина послужило поводом для предсказаний судьбы новорожденного. Разумеется, «ясновидящим» не хватило бы духу напророчить дурное, и они в один голос уверяли, что дитя будет преисполнено жизненных сил и у него появятся многочисленные братья и сестры. Насколько верной оказалась вторая часть пророчества, настолько же сильно ошиблись пророки в первой его половине.
Итак, под мнимым бесплодием Екатерины Медичи скрывалась редкостная плодовитость. За 11 лет, начиная с рождения первого сына, она произвела на свет десять детей. Беременность следовала за беременностью практически без перерыва. Спустя 15 месяцев после рождения первенца, 2 апреля 1545 года, появилась на свет Елизавета, коей суждено было стать королевой Испании. 12 ноября 1547 года родилась Ююд, вышедшая замуж за герцога Лотарингского. Четвертый ребенок Луи, родившийся 3 февраля 1549 года, умер спустя восемь месяцев. 27 июня 1550 года родился Шарль Максимилиан, будущий король Карл IX. Эдуард Александр, родившийся 19 сентября 1551 года, правил под именем Генриха III. 14 мая 1553 года на свет появилась Маргарита, будущая королева Марго. Эркюль, родившийся 18 марта 1555 года, известен как Франсуа, герцог Алансонский. При рождении нежизнеспособных близнецов 24 июня 1556 года Екатерина сама едва не распрощалась с жизнью. Это были ее последние роды. Свой супружеский и материнский долг перед домом Валуа Екатерина исполнила.
Супружеский треугольник
Супружество втроем — Генрих, Екатерина и Диана де Пуатье — продолжалось. Понятно, что Екатерина производила на свет ребенка за ребенком не без участия супруга, но особенно интересно отметить то, какую роль при этом играла Диана де Пуатье. Если бы она повела себя иначе, не было бы вышеупомянутых многочисленных отпрысков Екатерины Медичи. Влекомый страстным чувством к даме своего сердца, Генрих зачастую просто забывал исполнять свой супружеский долг. По-доброму относясь к супруге, даже уважая ее, он никогда не любил свою суженую и не стремился делить с ней брачное ложе. И тогда обожаемая богиня напоминала ему о долге, благодаря чему Екатерина имела счастье принимать в своей опочивальне нежно любимого супруга, которому она не смела ни в чем перечить и которого никогда ни в чем не упрекала. В минуты блаженства она забывала, что дорогой супруг прибыл по распоряжению Дианы. Случалось так, что Генрих уже начинал раздеваться в спальне метрессы, когда та останавливала его и направляла к супруге, напоминая ему, что он должен позаботиться о том, чтобы Екатерина произвела на свет очередного потомка.
В этом супружеском треугольнике у каждого была своя роль: Екатерина глубоко и нежно любила Генриха, тот пылал страстью к Диане, а она, великодушно позволяя любить себя (сама-то она, как говорили, не любила никого и ничего, кроме денег), выступала в качестве своего рода распорядительницы. Именно она была цементирующим элементом этой оригинальной конструкции, просуществовавшей более двадцати лет. Превратив Екатерину в машину для производства детей, метресса упрочивала и свое положение при дворе: у постоянно беременной или приходящей в себя после родов дофины, а затем королевы просто не оставалось времени с горечью подумать о собственной участи или заняться интригами.
Позаботившись о том, чтобы Екатерина регулярно производила потомство, Диана отнюдь не считала, что на этом ее миссия завершена. Она, к великой досаде матери, самым беспардонным образом вмешивалась в воспитание ее детей. Она прямо-таки завладевала ими, полагая, что это дети Генриха, а тот принадлежит ей. Не спрашивая мнения матери, фаворитка подбирала детям кормилиц, а затем и наставников. Она словно стремилась запечатлеть свой «светлый» образ в сознании детей своего возлюбленного, как будто каким-то непостижимым образом предчувствовала, что переживет его и тогда сможет найти опору в наследнике престола, к воспитанию которого приложила руку.
Нетрудно представить себе, какие чувства терзали Екатерину. Ее положение стороннему наблюдателю должно было казаться унизительным, однако она стерпела всё, проявив при этом лучшие качества представительницы рода Медичи, прежде всего выдержку и благоразумие. Пророчество Руджери, определенно, стало сбываться, и пусть пока торжествует Диана, непременно наступит час триумфа для нее, Екатерины.
Счастье со слезами на глазах
Большим утешением для нее служило и то, что Франциск I по-прежнему благоволил ей, оказывал знаки своего доброго отношения. Он любил проводить время в ее обществе, беседовать с ней, в том числе и о делах государственной важности, словно готовя ее к предстоящему нелегкому поприщу. Прилюдно он уже обращался с ней как с будущей королевой. Это особенно бросалось в глаза, поскольку его отношения с сыном, и прежде весьма прохладные, в последнее время стали откровенно натянутыми. Франциску I посчастливилось дожить до появления на свет внучки: 2 апреля 1545 года, как уже было сказано, Екатерина родила девочку, которую назвали Елизаветой в честь дочери Генриха VIII Английского, выступившего в качестве крестного в ознаменование очередного потепления в англо-французских отношениях.
Рождение дочери и пышные торжества по случаю ее крестин позволили Екатерине на время выйти из тени своей соперницы. Словно желая продлить счастье супруги, Генрих, отправляясь к восточным рубежам королевства, дабы лично проконтролировать строительство фортификационных сооружений, взял ее с собой. Екатерина, едва оправившаяся после родов, с радостью последовала за любимым супругом. Это было ее первое участие в официальном государственном мероприятии. Она ликовала от счастья, находясь рядом с Генрихом, хотя бы на время вырвавшимся из-под несносной для нее опеки Дианы. В этой незабываемой поездке даже худо оборачивалось для Екатерины добром. Ноябрьская слякотная погода больно ударила по ее еще не окрепшему организму, и она слегла. Болезнь оказалась довольно тяжелой, но именно в этом несчастье Екатерине довелось испытать великую радость: супруг, преисполненный заботой и лаской, буквально не отходил от ее изголовья. Она чувствовала себя любимой.
Словно по иронии судьбы счастливый период в жизни Екатерины совпал с завершением земного пути ее неизменного и самого надежного покровителя — короля Франциска I. Всякого рода излишества подорвали богатырское здоровье этого рыцаря без страха и упрека. Едва перешагнув пятидесятилетний рубеж, он обречен был на неравную борьбу с различными недугами, которых у него оказался целый букет и которые подолгу приковывали его к постели. Страдания он переносил с присущим ему мужеством. Чувствуя приближение конца, он позвал к себе Генриха и помирился с ним, дав ему последние отцовские наставления. Наиболее примечательным из них было предостережение сыну: не подпадать всецело, как это было с ним самим, под влияние женщин. Он не утаил от дофина, что его беспокоит та власть, которую забрала над ним Диана де Пуатье, за которой стоял целый сонм Гизов. Их-то он и велел особенно опасаться. Екатерина, слышавшая это, крепко запомнила последнее наставление тестя. Напоследок он попросил сына взять под свое покровительство мадам д’Этамп, но это уже было слишком для Генриха и Дианы.
31 марта 1547 года на пятьдесят четвертом году жизни Франциск I испустил дух. Для Екатерины начинался новый период — она становилась королевой Франции. Пророчество Руджери полностью сбылось, но что ожидало ее впереди? Первые роли отводились Генриху и его ненаглядной метрессе, а какую роль предстояло играть ей самой?
Глава четвертая.
КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ
Перемена декораций
Со смертью Франциска I сошла со сцены придворных интриг и группировка мадам д’Этамп. Сама она готовилась к худшему, вплоть до физической расправы, однако Диана де Пуатье, видимо, решила не создавать опасного прецедента и ограничилась лишь тем, что прогнала ее с глаз долой. Об остальном позаботился законный супруг бывшей королевской фаворитки, не простивший ей своих унижений и в отместку за всё заточивший ее в одном из дальних имений в Бретани, где она в полном забвении провела последние 18 лет своей жизни. Что же касается новой королевы, то в ее положении существенных перемен на первых порах не произошло. Супружество втроем продолжалось, с той лишь разницей, что теперь Екатерина, являясь супругой короля и матерью дофина, требовала более почтительного отношения к себе, хотя и продолжала держаться в стороне от важных государственных дел и придворных интриг. Такой порядок вещей вполне устраивал Диану.
Ко двору возвратился коннетабль Монморанси, в свое время отправившийся в добровольную ссылку благодаря проискам мадам д’Этамп. У Екатерины сложились с ним самые добрые отношения, так что, обращаясь к нему, она употребляла выражение «мой приятель». Правда, он был дружен и с Дианой, однако Екатерина готова была мириться с этим, зная его как убежденного сторонника Генриха II. Еще большую приверженность, прямо-таки слепую, фанатичную привязанность к ней проявлял Гаспар де Таванн. Однажды этот суровый и бесстрашный воин, видя, как Екатерина страдает от унижений, причиненных ей Дианой, заявил ей, что готов отрезать у ее обидчицы нос и принести его в качестве трофея. Королева насилу удержала его от столь безрассудного поступка, однако, тронутая этим пусть и варварским, но искренним душевным порывом, по достоинству оценила своего нового союзника. В дальнейшем Таванн проявлял беззаветную преданность не только самой Екатерине, но и ее любимому сыну Генриху, который своей полководческой славой во многом обязан этому человеку.
Молодой король, подгоняемый фавориткой, приступил, не дожидаясь официальной церемонии коронации, к перетряске придворной верхушки. Фавориты покойного короля получили отставку. В обновленный состав королевского совета вошли друзья и родственники Дианы. У нее установилось полное взаимопонимание с Монморанси. Эти двое, собственно, и забрали в свои руки полную власть. У Дианы к тому же были могущественные союзники, которые поддерживали ее и которым она диктовала свою волю, — Гизы, принцы Лотарингские: Франсуа, граф д’Омаль, благодаря королевской фаворитке ставший герцогом, и Шарль, архиепископ Реймсский, вскоре после восшествия Генриха на престол получивший в свои 20 лет кардинальскую шапку. Ему и предстояло короновать нового короля Франции.
Екатерина, став королевой, получила не так уж и много. Львиная доля перепала, разумеется, Диане. Ее жадность превзошла всё, что видели при королевском дворе, хотя там и немало повидали подобного рода проявлений. Прежде всего, она завладела украшениями мадам д’Этамп. Затем она присвоила взнос, который должны были уплатить в казну все обладатели королевских должностей при вступлении на престол нового монарха. Ее ненасытность доходила до того, что она придумала специальный налог на колокола, дав тем самым повод Рабле язвительно пошутить, что все колокола Франции висят на шее королевской кобылы. Без зазрения совести она присвоила выморочные владения, по закону отходившие к государству, наглядно проиллюстрировав знаменитое изречение Людовика XIV «Государство — это я» за целое столетие до того, как оно было произнесено. В довершение всего она уговорила короля подарить ей замок Шенонсо, являвшийся достоянием короны и не подлежавший отчуждению. Это было настолько скандально, что даже Екатерина решилась на неслыханный поступок — осмелилась заявить протест королю, перед которым благоговела. Однако ее демарш оказался столь же безрезультатным, как и протесты королевских легистов. Напротив, Генрих II пожаловал своей фаворитке еще и титул герцогини де Валантинуа.
Порой, теряя терпение, Екатерина устраивала супругу сцены ревности, но быстро остывала, не желая причинять ему огорчение. Зато в ближайшем своем окружении она бывала более откровенной, называя ненавистную соперницу словами, из которых наиболее мягким было «шлюха». То ли желая польстить королеве, то ли в искреннем порыве, герцог де Немур, не менее преданный ей, чем Гаспар де Таванн, предлагал плеснуть в лицо «богине» купоросом. Этого не случилось, но сама Екатерина однажды позволила себе откровенный выпад против Дианы. Всесильная фаворитка застала ее за книгой и спросила, что она читает. «Я читаю историю этого королевства, мадам, — любезно ответила королева, — и нахожу, что шлюхи всегда здесь помыкали королями».
Супружество втроем не претерпело изменений и после официальной церемонии коронации Генриха II, чрезвычайно помпезно проведенной в Реймсе 25 июля 1547 года. Городские власти не поскупились на то, чтобы устроить незабываемое зрелище. Примечательно, что собственно церемонии коронации «христианнейшего короля» предшествовало представление — совершенно в античном, языческом духе, с обнаженными нимфами и козлоногими сатирами. Вероятно, более уместным было бы представление сцен из священной истории христианства, но в эпоху Ренессанса такое несоответствие, похоже, уже никого не шокировало. Настоящий сюрприз ожидал почтенную публику в кафедральном соборе, где совершался обряд коронации. Среди лилий, украшавших парадное облачение Генриха II, на самом видном месте, на его груди, красовалась ставшая знаменитой монограмма, составленная из наплывающих друг на друга букв Ни D (Henri et Diana). Король осмелился столь откровенно выставлять напоказ свою адюльтерную связь с метрессой в присутствии королевы и перед алтарем, где совершался священный обряд коронации. Не спасла положение и высказанная кем-то догадка, что скандальная монограмма HD в действительности символизирует собой освященный союз Генриха и Екатерины, поскольку буква D представляет собой не что иное, как перевернутую первую букву имени Catherine, соединенную с первой буквой имени Henri.
Сам Генрих II как будто не протестовал и против такого истолкования. Однако для всех был понятен истинный смысл монограммы, тем более что и на сей раз на переднем плане красовалась Диана, тогда как Екатерина, как всегда беременная, сидела поодаль на трибуне. Прелаты, совершавшие священный обряд коронации, должны были бы отшатнуться от суверена, в столь торжественную минуту так откровенно выставлявшего напоказ свой адюльтер, ибо по сравнению с этим святотатством обнаженные нимфы и козлоногие сатиры выглядели невинной забавой. Однако Святые Отцы принципиальности предпочли благоразумие, понимая, что земные блага для них будут проистекать от Дианы, а отнюдь не от Екатерины, роль которой сводилась к приумножению королевского потомства. И менее всех склонен был испытывать угрызения совести кардинал Лотарингский, возложивший королевскую корону на голову Генриха II. Что же касается общественного мнения, то оно откликнулось на столь скандальное подчинение короля Диане и Гизам сатирическими виршами и памфлетами.
Терпение и еще раз терпение
Отшумели коронационные торжества, и всё пошло по-старому: Диана всем распоряжалась, а Екатерина не препятствовала ей. Королева рожала принцев и принцесс, а фаворитка руководила их воспитанием. Именно она, а не их родная мать, представляла их двору и учила манерам и правилам поведения в высшем свете. По правде сказать, в этом она не имела себе равных. Собственно говоря, и правила устанавливала она, герцогиня де Валантинуа, и все должны были неукоснительно следовать им. Отступления от заведенного порядка допускались исключительно в ее интересах.
По-прежнему Екатерина не знала недостатка в унижениях, только сносить их ей, королеве, теперь было труднее и обиднее, чем прежде, когда она была дофиной, а тем более — незаметной герцогиней Орлеанской. То, что пришлось пережить ей 23 сентября 1548 года, доводится испытать не каждому. Королевское трио (выражение «королевская чета» здесь не вполне уместно) совершало торжественный въезд в Лион. Лионцы превзошли самих себя, не поскупившись на траты и постаравшись показать всё мастерство своих умельцев. Они нашли способ особенно польстить королю: скандально знаменитая монограмма HD красовалась рядом с королевским гербом на фасадах домов, триумфальных арках и обелисках. Триумф предназначался ему и его обожаемой богине, но никак не королеве. Будто бы нарочно, дабы в очередной раз возвысить Диану и унизить Екатерину, монаршему взору представили такую картину: охотница Диана держит на поводке плененного льва, а чтобы понятно было и наименее догадливым, шелковый поводок был свит из чередовавшихся белых и черных нитей — цвета королевской фаворитки. Кого здесь олицетворял лев: город Лион, покорный фаворитке, или самого короля? Хорошо еще, что плененного зверя не посмели украсить королевскими лилиями.
Единственная привилегия, которой фаворитка не могла лишить Екатерину, — церемония официальной коронации ее в качестве королевы Франции, проведенной в Сен-Дени 10 июня 1549 года. Однако и тут Диана умудрилась выступать на переднем плане, затмевая своим блеском подлинную виновницу торжества. Словно желая подтвердить создававшееся впечатление, что во Франции одновременно две королевы, она нарядилась точно в такую же горностаевую мантию, какая была на Екатерине, на что не имела ни малейшего права, поскольку ношение изделий из горностаевого меха являлось исключительной прерогативой королевских особ и принцев крови. Скандальное поведение фаворитки проявилось и в том, что в церемонии коронации участвовала ее дочь, герцогиня де Майенн, сыгравшая при этом весьма примечательную роль: когда Екатерина, измученная бесконечно длинной церемонией, уже не в силах была держать на голове тяжелую корону, герцогиня сняла ее и положила к ногам своей матери. А почему бы не возложить ее прямо на голову Дианы, которая конечно же не сочла бы ее чрезмерно тяжелой? Екатерина сделала вид, что не обратила внимание на вызывающий поступок герцогини.
Спустя шесть дней, 16 июня 1549 года, состоялась церемония триумфального вступления короля и королевы в Париж. Городские власти столицы постарались обставить торжества таким образом, чтобы не было даже и намека на королевскую фаворитку. Не было видно ни одной скандальной монограммы ЯД выставлявшей напоказ королевский адюльтер. Только изображения трех лилий и королевской короны, да еще, к великой радости Екатерины, знаменитые «пилюли» — герб рода Медичи. Столица воздавала почести законной королевской власти и законной супруге короля, не желая ничего знать о его конкубинате. Какая награда за долготерпение Екатерины! Этот ее маленький триумф разворачивался на глазах следовавшей за ней Дианы.
Неуязвимая богиня
Тревожный сигнал для фаворитки! Он напоминал, что всё ее благополучие зиждется исключительно на благоволении к ней короля. Лишившись королевской милости, она лишится всего, если заблаговременно не отыщет иные опоры в жизни. Из политических союзников только Гизы по-прежнему оставались надежными партнерами. Поговаривали, что с младшим из них, Шарлем, кардиналом Лотарингским, ее связывали и более интимные отношения... Престарелую богиню, определенно, тянуло к молодым. С коннетаблем Монморанси ее отношения разладились. Человек, безоговорочно преданный королевской чете, не мог служить орудием ее политических интриг. С Гизами она и решила связать свое будущее.
Их сестра, Мария де Гиз, была замужем за королем Шотландии Яковом V Стюартом и недавно овдовела, оставшись с дочерью, Марией Стюарт, наследницей шотландского престола. У заговорщиков созрел хитроумный план: выдать ее замуж за дофина Франсуа, и в один прекрасный день королевой Франции будет племянница Гизов. В обход короля этот план не мог быть реализован, мнения же Екатерины при этом никто даже и не спрашивал. Генриха II удалось убедить в полезности такого династического брака. Дабы иметь под рукой этот бесценный залог успеха, которым в любой момент могли завладеть англичане, было решено, чтобы будущая невеста дофина воспитывалась при французском дворе, и очаровательная крошка Мария Стюарт прибыла во Францию.
В свите юной принцессы находилась одна весьма примечательная особа, леди Флеминг, служившая ее гувернанткой. Флеминг была ее фамилия по мужу, тогда уже покойному, в девичестве же она — Джейн Стюарт. Она являлась незаконнорожденной дочерью деда Марии, короля Якова IV. Эта шотландка, обладавшая яркой внешностью, вполне могла внести разлад в безотказно действовавший до сих пор механизм королевского «супружества втроем», что дало бы Екатерине шанс выйти из тени ненавистной фаворитки. Этим и решил воспользоваться Монморанси, у которого созрел собственный план, как низвергнуть «богиню» и ее подручных Гизов.
И по сей день остаются неразрешимой загадкой власть, которую имела Диана над Генрихом II, и верность, которую он хранил ей на протяжении более двух десятилетий. Быть может, хранил бы и дольше, если бы не трагическая развязка, положившая предел не только любви, но и жизни короля. Правда, говорят, что и этому дивному любовнику случалось порой «сходить налево», но это ничуть не охлаждало его чувства к Диане и объяснялось чистой физиологией: престарелая «богиня», видимо, не могла в полной мере удовлетворить темпераментного атлета в расцвете сил. Ничего более конкретного об этих «изменах» короля не известно, но зато о них всё знал Монморанси, бравший на себя малопочтенную роль сводника. И он решил свести Генриха с леди Флеминг, рассчитывая на то, что она, не уступающая Диане красотой, но значительно более молодая, вытеснит из сердца монарха всемогущую фаворитку. Мало того: когда откроется связь короля с гувернанткой Марии, это бросит тень и на саму принцессу. Станут говорить, что ее воспитанием занималась шлюха, и это позволит аннулировать проект ее бракосочетания с дофином. Позиции Гизов непоправимо пошатнутся.
В августе 1550 года появилась удобная возможность для реализации коварного плана Монморанси. Король мог, не вызывая подозрений, отказаться от посещения спален и королевы, и метрессы: Екатерина, в очередной раз беременная, и не ждала ночных визитов супруга, а Диана, упав с лошади, сломала себе ногу и теперь поправлялась в полном уединении, запретив своему кавалеру даже навещать ее. В таком состоянии она выглядела не лучшим образом и не хотела показывать Генриху свою несколько увядшую прелесть. Свидания с королем она отложила до лучших времен, когда смогла бы предстать во всем блеске вновь обретенной красоты.
Итак, король был свободен, и Монморанси пожелал направить его любовную страсть на ослепительную шотландку, которая только того и ждала. С первого же свидания Генрих был очарован леди Флеминг, на четверть века более молодой, чем его «богиня», но не уступающей ей ни красотой, ни умением дарить любовные утехи. Они встречались каждую ночь в Сен-Жермене, где жила со своей свитой Мария Стюарт. Всё шло как нельзя лучше: любовники были на седьмом небе от счастья, и Монморанси полагал, что реализация его плана протекает успешно. Он еженощно тайком сопровождал короля в апартаменты Марии Стюарт, которые делила с ней гувернантка, и лично помогал раздеваться и одеваться своему господину.
Однако Гизы не дремали. Ревниво надзирая за своей племянницей, они вскоре раскрыли тайну коннетабля. Верные люди донесли кардиналу Лотарингскому, что Монморанси каждую ночь посещает апартаменты шотландской принцессы, хотя не имеет на то ни малейшего права. Шарль незамедлительно сообщил обо всем герцогине де Валантинуа, и та, терзаемая самыми черными подозрениями, велела доставить себя в Сен-Жермен. В два часа пополуночи Диана и Гизы караулили у дверей апартаментов Марии Стюарт, ожидая появления коннетабля, дабы уличить его на месте преступления. Когда же дверь отворилась, появился король собственной персоной, а уж за ним и Монморанси. Все участники этой водевильной сцены были изумлены, и больше всех король, которого ошеломил вид охваченной яростью Дианы. Она была страшна в своем гневе, осыпая короля отборными ругательствами и попрекая его за недостойное поведение, делающее из гувернантки будущей дофины шлюху. И король капитулировал, униженно заверяя фаворитку в своей любви к ней. Отчитав рыцаря своего сердца, словно напроказившего ребенка, Диана-охотница тут же увезла его к себе наподобие охотничьего трофея. Монморанси проиграл, а Гизы торжествовали. Для Дианы же, могущественной, как никогда, это был настоящий триумф.
Что же до леди Флеминг, то на первых порах она не поняла, чем ей грозит вся эта история, и даже пыталась бравировать тем, что носит под сердцем королевское дитя. Генриха II до глубины души возмутило это фанфаронство, равно как Екатерину и Диану. Леди Флеминг, сама того не желая, вновь сплотила треснувший было «супружеский треугольник», все члены которого дружно обратились против нее. Королева и фаворитка проявили солидарность друг с другом, добившись от короля отправки оскандалившейся леди назад в Шотландию. Родившегося ребенка Генрих II позднее признал, и он спустя годы появился при французском дворе под именем Генриха Ангулемского.
Дамы замышляют войну
Наличие общей соперницы оказалось не единственной причиной, заставившей Екатерину и Диану проявить солидарность. Единым фронтом они выступили и против коннетабля Монморанси, причем не только из-за леди Флеминг, но и потому, что тот активно противодействовал планам по возобновлению войны в Италии против Карла V, за которую ратовали обе женщины. Екатерина Медичи впервые пыталась влиять на политику Франции. Какое-то время, правда, Генрих II прислушивался к разумным аргументам коннетабля. Во-первых, Монморанси опасался, как бы война с таким могущественным соперником не обернулась катастрофой для Франции, а во-вторых, он, будучи убежденным католиком, полагал, что теперь, когда церкви угрожает лютеранская ересь, война между двумя великими католическими державами была бы святотатственной и братоубийственной. Этот конфликт был бы на руку только сторонникам Реформации и туркам.
Частным образом король признавал правоту Монморанси, но в королевском совете, где доминировали сторонники Дианы, коннетабль был в одиночестве. Ратуя за войну в Италии, фаворитка радела как о своих корыстных интересах, надеясь в очередной раз недурно поживиться, так и об интересах Гизов, мечтавших править в Неаполе, на Сицилии и в Милане. Дабы подтолкнуть Генриха II к войне, Диана постоянно напоминала ему о том, что довелось пережить ему в мадридских застенках, где он томился на положении заложника. Да и сам Карл V отнюдь не был пацифистом, судя по инциденту, случившемуся во время коронации французского короля. Тогда Генрих II не придумал ничего умнее, нежели потребовать от Карла V прибыть в Реймс и принести ему как сюзерену вассальную присягу в качестве графа Фландрского. Император ответил, что придет во главе пятидесятитысячного войска. Оба противника готовы были вступить в схватку.
Екатерина же преследовала свои цели. Она побуждала Генриха II начать войну за Флоренцию. К тому времени король уже начинал прислушиваться к мнению супруги, мало-помалу проникаясь к ней теми же чувствами, что и его покойный отец. Его любовницей она никогда не стала бы, но в качестве законной супруги, матери его детей, она заслуживала доверия и участия. Екатерина хотела освободить Флоренцию от «тирании» ненавистного ей Козимо Медичи и восстановить «республику», которую возглавил бы более приятный для нее кузен Строцци. Для себя же лично она требовала герцогство Урбино, герцогиней которого, по крайней мере формально, являлась до замужества и которое должно было принадлежать Генриху II после их бракосочетания. Итальянский мираж манил и этого флегматика, так что он пустился в авантюру, в свое время дорого обошедшуюся его отцу.
Итак, обе королевские дамы, законная супруга и фаворитка, желавшие войны, получили ее. Для этого им пришлось нейтрализовать Монморанси. Они смягчили сердце непреклонного коннетабля тем, что уговорили короля оказать ему великую милость — пожаловать титул герцога. После этого Монморанси, в душе не отказавшись от собственных убеждений, открыто не противился воинственной политике Дианы и королевы. Он согласился даже возглавить подготовку к войне. Не трудно представить себе, с каким «энтузиазмом» он взялся за дело, которого решительно не одобрял. В действительности он был сторонником политики Карла V, направленной против еретиков-протестантов и за объединение христианского мира в единую всемирную монархию. Однако герцогская корона заставила его забыть о своих убеждениях, и война началась. Это был завершающий этап так называемых Итальянских войн (1494-1559).
Регентша царствует, но не правит
Генрих II решил лично командовать армией и на время своего отсутствия назначил Екатерину регентшей, тем самым немало удивив двор. Однако в глазах Дианы этот подарок был чрезмерно велик, и она постаралась придать ему более приемлемые пропорции. Чтобы узаконить полномочия регентши, королевский указ надлежало утвердить в совете и зарегистрировать в парламенте. На этой стадии прохождения документа по инстанциям и вмешалась фаворитка. Хранитель печатей Бертран был ее ставленником в совете. Он и настоял на том, чтобы Екатерина исполняла полномочия регентши совместно с ним, что означало — с Дианой. Поскольку же еще добавили кардинала Бурбона и маршала д’Аннебо в качестве «попечителей королевства», то что осталось у Екатерины от королевских полномочий, делегированных ей супругом? Правда, поначалу она не поняла подвоха.
В марте 1552 года король повел свою армию на войну. По иронии судьбы первой жертвой этой военной экспедиции стала Екатерина. В Жуанвиле, где остановился двор, на некотором удалении следовавший за армией, она заболела, причем настолько тяжело, что опасались за ее жизнь. И кто же больше всех был обеспокоен этим? Диана. Ведь если бы королевы не стало, прекратил бы существование и магический треугольник, делавший фаворитку подлинной королевой, а королеву — статисткой. И вот треугольник этот собрался в полном составе у изголовья Екатерины. Король по этому случаю на время оставил войска и присоединился к метрессе, не отходившей от постели захворавшей королевы. Все, кому довелось быть свидетелем этой сцены, были изумлены тем, с какой нежностью король относился к супруге, но еще больше — трогательной заботой о королеве, которую денно и нощно проявляла фаворитка. Но больше всех, наверное, была удивлена и растрогана сама Екатерина, ибо никогда еще супруг не дарил ей столько любви, никогда не находился так долго подле нее. Мало того что он назначил ее регентшей, так он еще и любит ее! Щедрая компенсация за годы терпения и смирения.
Блаженство исцелило ее, и в апреле она встала на ноги. Уверенная теперь в поддержке со стороны супруга, она решила открыто заявить о своих политических амбициях, которые прежде тщательно скрывала. Она потребовала, чтобы ей представили королевский указ о назначении ее регентшей, и была неприятно удивлена, обнаружив, что ее полномочия сведены на нет. Екатерина почувствовала себя до глубины души оскорбленной подобным коварством и впервые открыто взбунтовалась, мысленно сравнив свои смехотворные права с той властью, которой пользовалась Луиза Савойская, мать Франциска I, исполнявшая функции регентши, пока сын находился в плену. Екатерина прямо указала на хранителя печатей как главного виновника своего унижения и запретила публиковать указ в том виде, в каком он был представлен ей. Разразился настоящий скандал, который удалось погасить лишь благодаря личному вмешательству короля. Генрих II в письме супруге попросил ее не противиться публикации указа, и она покорилась. Ее попытка играть самостоятельную политическую роль оказалась преждевременной, и она возвратилась к прежней тактике смирения и выжидания.
Новая Жанна д’Арк
Тем временем военные события развивались, как и предостерегал Монморанси, не в пользу Франции. Очередное вторжение французов в Италию обернулось для них полным фиаско, и Екатерине пришлось навсегда распрощаться с мечтами об итальянских владениях. В империи за годы войны произошла смена власти: старый император Карл V отошел от дел, передав скипетр своему сыну Филиппу II. Этот противник оказался для французов опаснее прежнего. Он был женат на королеве Англии Марии Тюдор, «Кровавой Мэри», и объединенных ресурсов двух государств хватило бы, чтобы поставить Францию на колени, если бы Филипп II задался подобной целью. Но он почему-то не захотел сделать этого, бездарно потеряв время и замешкавшись в самый решающий момент. Однако и того, что было сделано, оказалось достаточно, чтобы французы запросили мира. Решающую роль в этом сыграло разгромное поражение, которое нанесли им испанцы 10 августа 1557 года при Сен-Кантене. В плену у Филиппа II оказалось всё командование французской армии во главе с коннетаблем Монморанси.
Путь испанцам на Париж был открыт, и Францию могло спасти только чудо. Нужна была новая Жанна д’Арк, и она явилась в образе Екатерины Медичи. Что-то подсказало Генриху II, что именно ее надо направить в Парижский парламент просить средства для организации обороны и набора новых воинских контингентов. Для Екатерины наступил ее звездный час: прибыв в Парижский парламент просить военные субсидии, она, по словам венецианского посла, своим красноречивым и прочувствованным выступлением сумела тронуть сердца членов парламента, так что они безоговорочно выделили требуемую сумму. Тогда они словно бы вспомнили, что «итальянка» наполовину была француженкой и в тот критический момент являлась голосом Франции. С того дня король стал с еще большим уважением относиться к супруге и даже поручил Франсуа Клуэ отчеканить медаль, на одной стороне которой изображена голова короля, а на другой — королевы.
Вторым героем этих роковых для Франции дней оказался Франсуа Гиз. Под его командованием 4 января 1558 года французы отбили у англичан порт Кале, который те удерживали с 1351 года. Последний пережиток Столетней войны был ликвидирован. Для англичан это явилось неприятным сюрпризом: не зря же они хвалились, что скорее железо и свинец будут плавать, точно пробка, нежели французы возьмут Кале. Взятие этого последнего опорного пункта англичан на континенте явилось триумфом и подняло моральный дух французов, еще больше укрепив репутацию Франсуа Гиза. Однако этого было недостаточно, чтобы переломить ход войны в пользу Франции. В последующие месяцы стало ясно, что от поражения при Сен-Кантене страна так и не сумела оправиться. Оставалось лишь выждать подходящий момент для начала переговоров.
Между тем Монморанси, томившийся в испанском плену, не терял времени даром. Он вступил в тайные переговоры с Филиппом II об условиях заключения мира, дабы прекратить войну, против которой всегда выступал. Казалось, испанцам, добившимся столь впечатляющих военных успехов и стоящим на пороге полной победы, стоило воевать и дальше, но и для них всё было не так просто. После смерти Марии Тюдор Филипп II остался без поддержки со стороны Англии и не мог продолжать войну, тем более что Испания так же, как и Франция, находилась на грани банкротства. Генрих II не знал этого, соглашаясь на невыгодные условия мирного договора, подписанного 3 апреля 1559 года в Като-Камбрези. Франция отказывалась от каких-либо притязаний на Италию, получая в качестве своего рода утешительного приза крепости Мец, Туль и Верден на своих восточных рубежах. Все жертвы эпохи Итальянских войн, принесенные французами, оказались напрасными.
Мир был непопулярен как в самой Франции, так и за ее пределами. Больше всего пострадала репутация Генриха II: его упрекали в том, что он идет на поводу у своего окружения, что по совету одних он начал безнадежную войну, а по требованию других заключил позорный мир. И только Екатерина избежала участи стать объектом нападок. Никогда еще общественное мнение не относилось к ней столь хорошо, как в те годы. Вспоминая ее выступление в парламенте, говорили даже, что она спасла Францию. Ее превозносили за «мудрость и благоразумие», утверждая, что только она одна проявила себя как настоящая глава королевства. Ее так любили, что это казалось неправдоподобным. За годы смирения и унижения она получила достойную награду.
Роковой турнир
После заключения мира произошли перемены в расстановке сил при дворе. Диана, в свое время активно ратовавшая за войну, уловила перемену политической конъюнктуры и поддержала миротворческие усилия коннетабля Монморанси. Екатерина же, с душевной болью похоронившая свои итальянские иллюзии, нашла единомышленников в лице Гизов, протестовавших против заключения позорного мира. На ближайшие годы они будут ее союзниками, тем более что их позиции еще более упрочились после заключения 24 апреля 1558 года брака их племянницы Марии Стюарт с дофином. Екатерина стала их родственницей, и родство это было дополнительно подкреплено бракосочетанием ее дочери Клод с Карлом III Лотарингским, главой старшей линии Лотарингского дома.
Дополнительным условием мира в Като-Камбрези явилось заключение династических браков: овдовевший Филипп II получал в жены Елизавету, старшую дочь Генриха II и Екатерины, а сестра французского короля Маргарита выходила замуж за герцога Савойского. Родственные узы должны были примирить бывших противников и спасти уязвленное достоинство Генриха II: при французском дворе собирались праздновать не столько мир, купленный такой дорогой ценой, сколько королевскую свадьбу. Правда, Филипп II отказался прибыть в Париж лично, прислав вместо себя герцога Альбу, который должен был доставить невесту в Испанию, но это и к лучшему, поскольку французскому суверену не пришлось делать хорошую мину при заведомо плохой игре. И парижанам, подобно Екатерине и Гизам не одобрявшим условия заключенного мира, легче было смириться с очередным празднеством при королевском дворе. Торжества должны были завершиться типично средневековым представлением — рыцарским турниром, тогда уже несколько вышедшим из моды. Однако Генрих II любил мужественные забавы и настоял на проведении этого состязания, почти столь же опасного и жестокого, как и война. Короля пытались было отговаривать от этой затеи, но он был непреклонен. На улице Сен-Антуан перед дворцом Турнель подготовили ристалище с трибунами для зрителей.
28 июня в соборе Нотр-Дам-де-Пари состоялось бракосочетание Елизаветы и Филиппа II, и в тот же день, после полудня, начался турнир. Как всё было на самом деле, нам не дано знать, однако, согласно многочисленным свидетельствам, Екатерину переполняли дурные предчувствия, подогреваемые мрачными пророчествами, в том числе и знаменитым четверостишием Нострадамуса, в котором говорилось о том, что молодой лев в поединке одолеет старого. До Генриха II очередь дошла 30 июня. Он появился, приветствуя дам на трибунах, верхом на коне и украшенный плюмажем из черных и белых перьев. И на этот раз он избрал цвета своей «богини», уже подошедшей к шестидесятилетнему рубежу, но выглядевшей будто бы столь же молодо, как и четверть века тому назад, когда юный Генрих впервые выступил на турнире под черно-белой эмблемой и одержал победу ради дамы своего сердца. Сначала король сразился со своим будущим зятем, герцогом Савойским, выбив его из седла. Следующим его противником был герцог Гиз, при столкновении усидевший в седле: ничейный результат.
Наступил полдень жаркого дня. Участники турнира изнемогали под своим рыцарским облачением.
Генрих обливался пбтом, но лишь попросил снять с себя шлем и вытереть ему лицо. Екатерина была уже не в силах наблюдать за этим зрелищем, умоляя супруга прекратить состязание, но ее мольба не достигла цели. Возможно, на короля подействовала бы просьба его «богини», но та невозмутимо хранила молчание. Екатерина продолжала настаивать, и Генрих галантно возразил: «Только ради вас я сражаюсь». Следующим своим противником он выбрал капитана шотландских гвардейцев Габриеля Монтгомери. Тот попытался было отказаться от оказанной чести, но Генрих II решительно оборвал его: «Это приказ». Прозвучал сигнал трубы, и рыцари устремились друг на друга. При столкновении оба они усидели в седле, и по правилам поединок должен был на этом завершиться. Однако король заупрямился, потребовав повторного, решающего столкновения. При этом Монтгомери будто бы опять пытался отговорить его от продолжения поединка. Не подействовали на Генриха и мольбы его личного оруженосца. Ему нужна была победа. При яростном столкновении противников копье Монтгомери сломалось и длинная острая щепка, проникнув сквозь визир шлема короля, глубоко вонзилась в его глаз. Король усидел в седле, но грудью упал на шею своего коня. Трибуны огласились возгласами ужаснувшихся зрителей.
Подбежавшие оруженосцы подхватили короля на руки прежде, чем он упал на землю. До их слуха донеслось еле слышное: «Я погиб». Когда сняли шлем, показалось окровавленное лицо короля, при виде которого Екатерина лишилась чувств. Диана, бесстрастная, словно мраморная статуя, молча проводила взглядом носилки с телом возлюбленного. Когда короля принесли во дворец Турнель, он еще дышал и слабо прощупывался пульс. Его положили на постель. Екатерина и Диана рыдали. Кажется, впервые видели «богиню» плачущей. Дофин Франциск, пришедший в себя после продолжительного обморока, был бледен от страха. Рядом с ним сияла красотой супруга Мария. Младших детей избавили от созерцания страшного зрелища.
Послали за Амбруазом Паре, знаменитым врачом, в свое время спасшим жизнь Франсуа Гизу, удалив застрявший в его лице обломок копья, после чего осталась лишь отметина, давшая славному воину прозвище — Меченый. Паре, обследовав раненого, решил, что надо экспериментальным путем изучить характер ранения и определить способ лечения. Для этого по распоряжению королевы ему доставили из тюрьмы несколько трупов только что казненных преступников. Не буду рассказывать о том, какие манипуляции проделывал с ними знаменитый хирург, за действиями которого с интересом наблюдали придворные, скажу лишь, что итог был неутешителен для Генриха II.
Однако король умер не сразу. Время от времени он приходил в себя, сумев даже продиктовать письмо папе римскому, в котором сообщал о решительной борьбе с еретиками во Французском королевстве. До последнего дыхания он оставался королем. У него хватило даже сил и присутствия духа распорядиться о незамедлительном проведении церемонии бракосочетания Маргариты с герцогом Савойским, что и было сделано 9 июля в спешке, без каких-либо торжеств, в церкви Святого Павла. Сломленная горем Екатерина там не появилась. Печальная свадьба в слезах и трауре. Генриха II тогда уже, по всей видимости, не было в живых, хотя официально о его кончине было объявлено лишь 10 июля. Король умер, да здравствует новый король — Франциск II.
Сведение счетов
В тот же день покойного похоронили в Сен-Дени, и эта поспешность позволяет предположить, что смерть короля наступила за несколько дней до даты объявления о его кончине. Екатерина, возможно, тянула с объявлением о смерти супруга, желая выиграть время для принятия экстренных мер, необходимых, дабы обеспечить себе положение полновластной королевы-матери при слишком юном короле, на которого внезапно свалилось непомерное бремя власти. Но еще до объявления о смерти Генриха II она запретила Диане появляться в его покоях. Впрочем, бывшей фаворитке и самой хватило благоразумия держаться подальше от двора. Не была она и на погребении короля, позволив себе лишь издали взглянуть на катафалк, навсегда увозивший от нее всё, чем жила она в последние двадцать с лишним лет.
Из своего добровольного изгнания Диана тут же написала королеве. Это было письмо отнюдь не прежней гордой и надменной соперницы, а смиренной подданной, просившей прощения за причиненные обиды. Вместе с письмом она отправила Екатерине и шкатулку с коронными драгоценностями, которыми в свое время неправомерно завладела, пользуясь благосклонностью Генриха II. Это добавление к письму делало ее раскаяние более убедительным. Екатерина была удовлетворена, предоставив поверженной сопернице пользоваться всеми земными благами, отобрав у нее лишь замок Ше-нонсо, составлявший часть королевского домена и потому не подлежавший отчуждению, да и то предоставив ей взамен замок Шомон. Диана, сохранив все свои богатства и титулы, еще семь лет прожила в гордом одиночестве, покинутая прежними прихлебателями. Екатерина Медичи и не думала мстить — таков был ее характер. Вопреки сложившемуся мнению о ней, у нее редко возникало желание по заслугам воздавать своим противникам, уничтожая их.
Что же касается Монтгомери, то его, несмотря на распоряжение Генриха II не причинять зла невольному виновнику его гибели, сначала было арестовали, но вскоре освободили. Не доверяя окружению Екатерины и не питая иллюзий относительно беспристрастности судей, он, убежденный протестант, тут же бежал в Англию, чтобы возвратиться во Францию во главе войска, сражавшегося против короля и католической церкви. Лишь спустя 15 лет он попал в плен и был казнен в Париже на Грев-ской площади — но не за убийство короля, а как мятежник.
Екатерина со дня гибели супруга и до конца своих дней не снимала черных траурных одеяний. Именно этот мрачный образ «Черной королевы» донесли до нас портретисты, невольно способствуя очернению репутации этой незаурядной женщины.
Не в силах переносить самого вида того места, в котором умирал ее супруг, Екатерина навсегда покинула дворец Турнель, а спустя некоторое время распорядилась и вовсе снести его. Хотя в Лувре еще вовсю шли ремонтные работы, она, несмотря на это явное неудобство, предпочла поселиться там, где многое напоминало ей о счастливых днях, казалось бы, несчастного супружества. Екатерина придумала эмблему своей вдовьей доли: сломанное копье и девиз: «Lacrimae hinc, hinc dolor» («Отсюда слезы, отсюда скорбь»). Никакое иное из ее чувств не было более искренним, чем эта скорбь, выражавшая безмерную любовь к обожаемому супругу. Эту беззаветную любовь она перенесла и на своих детей, ради которых готова была сделать всё и пожертвовать всем. Это стало ее страстью, которая, как и любая страсть, порой становилась слепой. Этим многое объясняется в политике «Черной королевы».
Глава пятая.
КОРОЛЕВА-МАТЬ
Бремя власти
Екатерине досталось тяжелое наследство, но она без колебаний взвалила на себя это бремя, вознамерившись до конца нести свой крест. Экономическое положение королевства было катастрофическим: государственный долг в пять раз превышал годовой доход. В отдельных провинциях крестьяне бросали свои земли, видя бессмысленность собственных усилий, ибо всего урожая не хватало на уплату налогов. Чиновники, не получавшие жалованья, готовы были пуститься во все тяжкие. Плачевным было и положение провинциального дворянства, почти ничего не получавшего от своих обнищавших крестьян. Стоит ли удивляться тому, что эти дворяне становились под знамена принцев и крупных сеньоров, которые под предлогом борьбы за реформу церкви подняли мятеж против законной королевской власти? Военная служба, единственное их призвание, давала им средства к существованию. В стране назревал конфликт не менее, а может быть, и более страшный, чем Столетняя война: под шумок воззваний к борьбе за веру разворачивалась гражданская война.
Быть матерью — главное призвание Екатерины Медичи. Материнством она оправдывала свое право быть королевой при жизни обожаемого супруга, и теперь ей предстояло стать королевой-матерью при короле — ее сыне, жалком отроке Франциске II. В свои 15 лет он официально считался совершеннолетним, во всем остальном будучи ребенком со слабым здоровьем. Безумно влюбленный в супругу Марию Стюарт, он долгое время тщетно пытался исполнить свой супружеский долг, и нет полной ясности относительно того, удалось ли ему это сделать. Во всяком случае, за два года супружеской жизни Мария так и не произвела на свет потомства, что тем не менее не мешало ей вести себя по-королевски, свысока поглядывая на свекровь. А та, верная своей проверенной тактике, на людях демонстрировала полное почтение законной королеве, безропотно отходя на второй план, где и полагается быть ко-ролеве-матери. Мария же насколько превосходила свекровь красотой, настолько же уступала ей умом, в своей неосмотрительности доходя до того, что прилюдно, хотя и за глаза, называла ее флорентийской торговкой. Екатерина знала это, и ничто не могло обидеть ее сильнее, однако она и виду не подавала. Придет время, когда Мария Стюарт горько пожалеет о своей бестактности. И на этот раз Екатерина, верная себе, откажется от мщения в прямом смысле этого слова, но напрасно высокомерная шотландка будет ждать поддержки и помощи от нее.
Что же касается Франциска II, то он, как и большинство его братьев и сестер, преклонялся перед матерью, которой сама Екатерина наконец-то, в свои сорок с лишним лет, смогла в полной мере почувствовать себя. Теперь она всецело посвятит себя своим детям, ради них делая политику и самих их делая орудием своей политики. Взойдя на престол, Франциск II сразу же выделил матери вдовий удел, пожаловав ей замки Вилье-Котре и Монсо, расположенные в принадлежавшем ему графстве Mo, герцогство Алансонское и пенсион в размере 72 тысяч ливров в год. Екатерина стала много богаче, нежели во времена, когда была супругой Генриха II и королевой Франции.
Являясь фактической правительницей королевства, Екатерина по крайней мере в одном могла быть уверена: ее сын-король всегда придерживается одного мнения с ней. Все королевские акты неизменно предваряла формулировка: «Поскольку угодно королеве, моей матери и госпоже...» Герцог Гиз, славный воин, пребывавший в расцвете сил, являлся ее вооруженной рукой. Занимая высокую должность генерального наместника королевства, он, в отличие от некоторых принцев крови, демонстрировал безусловную лояльность трону, будучи его оплотом против врагов — как внешних, так и еще более опасных внутренних.
Его брат, кардинал Лотарингский, отличался другими достоинствами, будучи превосходным администратором, дипломатом и политиком. Досконально разбираясь в механизме бюрократического аппарата, он знал, какие меры следует принимать для выхода из кризиса. Ему нужны были полномочия, и Екатерина дала их, постоянно держа его под собственным контролем. Она принимала решения относительно его предложений, а король подписывал постановления. Были резко сокращены государственные расходы, благодаря отмене многих королевских субвенций и пенсионов, а также демобилизации значительной части армии. Последняя мера, экономически абсолютно необходимая, в политическом отношении оказалась миной замедленного действия: уволенные со службы солдаты тут же пополнили собой ряды армии протестантов — гугенотов, как их называли во Франции.
Результат принятых мер по выводу страны из кризиса оказался двойственным: финансовое оздоровление королевства сопровождалось стремительным ростом общественного недовольства сверху донизу. Ненависть была направлена не столько против юной королевской четы, сколько против родственников королевы Марии — Гизов, всё еще считавшихся чужаками во Франции, и королевы-матери, «итальянки», еще более чуждой народу. Популярность, которой совсем недавно пользовалась Екатерина, сошла на нет, и больше ей не суждено будет испытать любовь подданных.
Как обычно бывает в подобных случаях, попытались заглушить общественное недовольство, предложив грандиозный внешнеполитический проект, который должен был польстить национальному чувству французов и заставить их забыть о провале итальянской кампании. По распоряжению Гизов королевские легисты нашли юридические основания для того, чтобы Франциск II от имени своей супруги, единственной наследницы короля Шотландии Якова V, заявил притязания на трон Стюартов. Более того, он якобы мог претендовать и на трон Англии, неправомерно занятый королевой Елизаветой, лишенной права наследования своим отцом Генрихом VIII. Резиденции французского короля тут же были украшены гербами Франции, Шотландии и Англии. Оставалось лишь завоевать Шотландию и Англию, и за море был отправлен экспедиционный корпус. Единственная польза от этой экспедиции заключалась в том, что удалось выпроводить из страны, хотя бы временно, наиболее беспокойные элементы; в целом же кампания оказалась авантюрой чистой воды. 8 июля 1560 года был подписан Эдинбургский мирный договор, по условиям которого Мария Стюарт и ее супруг отказывались от каких-либо притязаний на английский трон. Екатерина, с самого начала не одобрявшая затею родственников своей невестки, была удовлетворена, чего не скажешь о Ги-зах. Они не хотели отказываться от своего намерения добыть для племянницы и ее супруга дополнительно к имевшимся у них двум коронам — французской и шотландской — еще и третью — английскую, дабы объединенными усилиями трех королевств сокрушить Габсбургов, угрожавших Франции, Нидерландам и Англии. Однако история распорядилась иначе, подтвердив правоту Екатерины.
Амбуазский заговор
Итак, шотландская авантюра не решила ни одной проблемы, и центральной королевской власти пришлось столкнуться с открытым мятежом. Впервые радетели нового вероучения показали свое истинное лицо в ходе событий, вошедших в историю под названием Амбуазского заговора. Гугенотов в их стремлении к власти подстегивала ненависть, которую они питали к Гизам и королеве-матери: их они считали ответственными за продолжение политики Генриха И, направленной на искоренение ереси. Вопреки ожиданиям гугенотов, полагавших, что после смерти короля приговор будет отменен, советник парламента Анн де Бург был сожжен на Гревской площади как опасный еретик. И тогда вожди гугенотов, каковыми в то время считались братья Бурбоны, Антуан и принц Конде, а также племянники коннетабля Монморанси, прежде всего Гаспар Ко-линьи, решились на худшее: захватить короля и убить, если удастся, Гизов или же привлечь их к суду как узурпаторов. Екатерина предлагала принять меры по умиротворению реформатов: издать эдикт об амнистии протестантов, арестованных за веру, но не замешанных в вооруженном заговоре. Однако эти меры запоздали. Теперь предстояло действовать иначе.
Поскольку главные вожди до поры до времени предпочитали оставаться в тени (двое из них, Колиньи и Конде, даже находились при королевском дворе), организатором мятежа выступил мелкий дворянчик из Перигора Лa Реноди, ранее уже бывший не в ладу с законом: его судили в Дижоне как фальшивомонетчика. В Женеве, куда он бежал, скрываясь от французского правосудия, Ла Реноди встречался с Кальвином, поведав ему о планах преобразования Франции по образцу Швейцарской конфедерации. Однако в начале 1560 года его проект был в большей мере военный, нежели политический. Он собрал в Нанте вооруженные отряды, прибывшие из различных регионов Франции, и в марте повел их малыми группами, по возможности соблюдая конспирацию, к Блуа, где в то время находился двор. И все же ему не удалось перехитрить Гизов, своевременно принявших необходимые меры. Считая Блуа слишком уязвимым местом, они перевели королевскую семью в хорошо укрепленный замок Амбуаз, способный выдержать и осаду, и атаку со стороны противника.
Королевские отряды непрерывно патрулировали вокруг замка, прочесывая и окрестные леса. Однажды им удалось захватить в лесной чаще группу бедных крестьян, заявлявших, что они хотели встретиться с королем, клянясь при этом в своей преданности монарху. Франциск II обратился к ним из окна своей резиденции, после чего велел дать им немного денег и отпустить их восвояси. Уходя, крестьяне сообщили королю, что на подходе большой отряд вооруженных дворян. Одновременно по долине Луары к Амбуазу приближалось многочисленное войско во главе с Ла Реноди. Замок был окружен, и предводитель мятежников потребовал встречи с королем, однако, в отличие от крестьян, он не удостоился такой чести. Завязался бой, в ходе которого королевское войско под командованием герцога Гиза обратило отряд Ла Реноди в бегство, а сам он во время погони был убит. Множество знатных участников мятежа было захвачено в плен и приведено в Амбуаз.
Их ждала незавидная участь. По обычаю того времени им устроили во дворе Амбуазского замка показательную публичную казнь в назидание другим. Королевский двор, получив наглядное свидетельство того, какой размах приобретает мятеж, решил, что эта жестокая репрессивная мера должна нагнать страху на тех представителей знати, которые склонны были к неповиновению. Специальным королевским распоряжением всех нотаблей (членов королевского совета, королевских чиновников и принцев крови) долины Луары, от Нанта до Орлеана, обязали присутствовать на казни, для чего были возведены зрительские трибуны. Что же касается черни, то ее и приглашать не надо было: она сама валом валила поглазеть на кровавое зрелище.
На королевской трибуне бледный как смерть Франциск II сидел между супругой Марией и матерью. На казни присутствовал и второй сын Екатерины, десятилетний Карл Орлеанский. Зрелище было не детское, но положение обязывало: как потенциальный наследник престола принц обязан был присутствовать на мероприятии столь большой государственной важности. Для наших дней дело совершенно немыслимое. Современные критики Екатерины Медичи и это вменяют ей в вину, забывая, что государственного деятеля XVI века надо судить по законам его времени. Правда, и для тех времен нелегким испытанием было смотреть на то, как пятидесяти двум осужденным, одному за другим, рубят головы. На королевской трибуне находился и принц Конде, которого идущие на смерть приветствовали поклоном. Они кланялись своему вождю. Присутствующие смотрели на это, затаив дыхание. Однако Конде оставался невозмутимым, невзирая на то, что сильно было подозрение, что именно он является настоящим вождем мятежа. Были даже изъяты его бумаги, но ничего компрометирующего в них не нашли, а сам он отрицал все обвинения в свой адрес. Он знал, что никто из заговорщиков не предал и не предаст его.
По сигналу герцога Гиза публичная казнь началась. Осужденные мятежники один за другим поднимались на эшафот. Остальные тем временем хором распевали псалмы, и хор этот не умолкал на протяжении всей казни, всё более слабея по мере того, как отрубленные головы падали на доски эшафота. Последним оставался барон Кастельно, родственник Колиньи. Ему пришлось петь одному. Это особенно тронуло сердца присутствующих, и они принялись умолять короля пощадить его, но тщетно. Топор палача опустился и на шею последнего из осужденных. Конде, обратившись к сидевшему по соседству папскому нунцию, сказал: «Монсеньор, вы можете сообщить папе, что если французские дворяне умеют устраивать заговор, то они умеют и умирать». Примечательно, что он употребил слово «дворяне», а не «гугеноты»: религия в этих якобы религиозных войнах имела вторичное значение. В Амбуазе казнили не еретиков-гугенотов, а мятежников, посягнувших на освященную королевскую власть, совершивших непростительное святотатство. Однако гугенотская пропаганда очень умело обернула дело в свою пользу, сумев извлечь из провалившегося Амбуазского заговора большую моральную победу, представив Гизов и Екатерину Медичи как палачей французского народа.
Между двух огней
Угроза миновала, но проблема осталась. Понимая это, Екатерина сделала шаг навстречу гугенотам, согласившись на предложение Колиньи созвать ассамблею нотаблей, которая и открылась в Фонтенбло 21 августа 1560 года. Прибыли принцы, и только Антуан Бурбон и Конде блистали своим отсутствием. Они явно что-то замышляли. Впрочем, у Конде имелись весьма веские основания опасаться за свою жизнь. На ассамблее впервые вышел на политическую арену Мишель Лопиталь. Екатерина выдвинула его на должность канцлера ради сохранения равновесия между Гизами и партией принцев крови, поддержанной коннетаблем Монморанси и Шатийонами. После Амбуазского заговора она охотно пожертвовала бы Гизами, если бы это могло унять ярость ее противников, но она понимала, что без Лотарингцев она останется один на один с гугенотами, от которых можно было ожидать любых неприятных сюрпризов. Составляя ничтожное меньшинство, не более пяти процентов населения королевства, они компенсировали количественный недостаток за счет качества, являясь наиболее активным и к тому же вооруженным меньшинством. Ради сохранения для сына короны Екатерина сохраняла Гизов.
Желая во что бы то ни стало не допустить возобновления военных действий, она, предоставив герцогу Гизу и Колиньи выпускать пар в нападках друг на друга, постаралась вступить в диалог с видными кальвинистскими пасторами, дабы выработать принципы мирного сосуществования двух религий. Лично она не испытывала враждебных чувств к гугенотам. Ее не смущало то, что они распевают псалмы по-французски (и сама она в молодости, по примеру Маргариты Наваррской, грешила этим), но беспокоило их неповиновение королевской власти. Гизам не слишком нравилась ее, как они полагали, непростительная мягкость по отношению к еретикам, однако, дабы выиграть время, они скрепя сердце согласились на временные уступки, приняв предложения Колиньи. Хотя гугенотам и было отказано в праве строить храмы, прекращались преследования тех из них, кто слушал кальвинистскую проповедь ради спасения своей души, а не для того, чтобы продемонстрировать непокорность официальным властям. Это компромиссное соглашение, касавшееся свободы совести, объединило большинство участников ассамблеи, и она завершила свою работу, приняв постановление о созыве Генеральных штатов, сессия которых должна была открыться в Орлеане 10 декабря 1560 года.
Между тем Гизы заняли более жесткую позицию. Им удалось перехватить человека Конде, направлявшегося в Беарн с письмом к Антуану Бурбону, в котором излагался план нового, более масштабного, чем прежний, заговора. Предполагалось захватить Лион, финансовую столицу королевства, города Пуатье, Тур и Орлеан, а также убить Гизов. Получив в свои руки столь важную улику, герцог со своим братом-кардиналом срочно созвали совет под председательством Екатерины. В качестве первой превентивной меры было решено арестовать видама Шартрского, недавно возвратившегося из Женевы от Кальвина и состоявшего в сговоре с Конде. Срочно направленный в Лион королевский отряд предотвратил захват города гугенотами. Таким образом, инициатива была вырвана из их рук, однако подготовка к открытию сессии Генеральных штатов шла отнюдь не в той атмосфере умиротворения, на которую рассчитывала королева-мать.
Первым тревожным сигналом послужил отказ Антуана Бурбона и его брата Конде явиться в Орлеан. Однако не так-то просто было проигнорировать королевский вызов: отказ подчиниться ему делал их мятежниками, поставленными вне закона. Поразмыслив, братья Бурбоны решили всё-таки прибыть в Орлеан, встретив там далеко не такой торжественный прием, на который могли рассчитывать принцы крови. С ними обращались как с простыми дворянами и даже несколько пренебрежительно. Екатерина не сочла даже нужным прервать разговор с одной из придворных дам, когда вошел Антуан Бурбон. Но хуже всего встретил их король, осыпавший братьев упреками и прямо спросивший Конде, какова была его роль в Амбуазском заговоре. Решительный тон сына обеспокоил королеву-мать, вызвав у нее опасение, как бы Гизы, ободренные гневом короля, не расправились с Бурбонами, которые были нужны ей в качестве противовеса Лотарингцам. Сохраняя равновесие сил, она могла править, не прибегая к насилию.
Ее опасения были отнюдь не беспочвенны, ибо Конде вскоре арестовали, обвинив в заговоре и мятеже. Гизы побуждали судей вынести ему смертный приговор, но те, зная о безнадежном состоянии короля, недавно простудившегося на охоте и лежавшего при смерти, затягивали процесс. Возможно, они послушались бы Гизов, если бы Екатерина тайком не убедила их как можно дольше откладывать вынесение приговора. Она взяла под защиту своего смертельного врага в расчете на политический торг со своими, как считалось, лучшими союзниками — Гизами. Однако кардинала Лотарингского она не сумела перехитрить: он собрал верных ему судей, и фатальный вердикт прозвучал. Конде предполагалось казнить в самый день открытия сессии Генеральных штатов, 10 декабря.
Правительница Франции
И все же казнь не состоялась, поскольку 5 декабря умер Франциск II, которому едва исполнилось 18 лет. Король скончался в страшных муках, причиняемых ему нарывом, образовавшимся в ухе и поразившим мозг. Дабы локализовать очаг заражения, Амбруаз Паре предлагал провести неслыханную в те времена операцию по трепанации черепа, однако Екатерина воспротивилась этому, дав тем самым повод для грязных пересудов: она будто бы хотела, обрекая сына на смерть, избавиться от Марии Стюарт и Гизов. Верить этой клевете могли только люди, плохо знавшие Екатерину Медичи: никогда она не желала смерти своим детям.
После Франциска II осталась молодая вдова. Екатерина полагала, что двух вдовствующих королев при французском троне будет слишком много, и Мария, проведя, как полагается, 40 дней траура при дворе, отправилась в Лотарингию, намереваясь пожить там в ожидании лучших времен. Однако ее попытка возвратиться ко французскому двору оказалась безуспешной, поскольку Екатерина предписала ей незамедлительно отправляться в Шотландию, раздираемую междоусобной борьбой и подвергающуюся атакам со стороны англичан. И Мария, доверив своим лотарингским родственникам управление ее владениями во Франции, отплыла к шотландским берегам. Дальнейшей ее участью займется Елизавета Английская.
Безвременная кончина Франциска II повлекла за собой перемены в судьбе многих персонажей нашей книги. Могущество Гизов до сих пор держалось исключительно на том влиянии, которое оказывала их племянница Мария на своего венценосного супруга, и теперь они в одночасье оказались такими же сеньорами, как и многие другие. На первый план выходили Бурбоны, как принцы крови имевшие право на регентство при малолетнем короле — втором сыне Екатерины Медичи Карле IX. Перед Екатериной стояла почти неразрешимая задача: как сблизиться с Бурбонами, не оттолкнув от себя Гизов, порывать с которыми она не хотела ввиду их чрезвычайной популярности среди католиков, особенно в Париже.
Прежде всего, надо было обработать Антуана Бурбона, который, будучи старшим среди принцев крови, по древнему закону династии Капетингов должен был стать регентом. Екатерине предстояло убедить его отказаться от этого права в ее пользу. Для этого она освободила Конде и пообещала в дальнейшем полностью реабилитировать его. В знак благодарности Антуан передал ей королевскую печать — символический жест, означавший отказ от законных прав на регентство. Чтобы не допустить откровенного нарушения законов королевства, Екатерина официально называла себя не регентшей, а «правительницей Франции». Урегулировав таким способом проблему терминологии и заручившись согласием Антуана, она пообещала ему должность генерального наместника королевства, делающую его третьим лицом в государстве. Всё это совершалось, разумеется, келейно, при участии наиболее приближенных советников королевы-матери, а поднаторевшие в подобных делах легисты, покопавшись в древних хартиях, подтвердили законность предоставления Екатерине абсолютной власти. Они сделали это тем охотнее, что легкомысленный Антуан Бурбон не внушал им ни малейшего доверия.
Генеральные штаты, сессия которых торжественно открылась в Орлеане 14 декабря 1560 года, не были проинформированы об этой сделке. Когда же Гизы узнали о соглашении, заключенном Екатериной с Антуаном Бурбоном, и обещании назначить его генеральным наместником королевства, они не стали замышлять заговор, а просто удалились от дел, не отказываясь при этом от своих должностей и пристально следя за развитием событий. Старина Монморанси решил, что пробил его час возвращаться к власти вместе с племянниками Шатийонами. Часть дворянства поддержала его, тогда как другая, не менее значительная часть заявила о своей солидарности с Гизами. В воздухе запахло гражданской войной.
Генеральные штаты, наблюдая за ожесточенными схватками конкурирующих группировок, не могли принять какого-либо решения, ибо никто не хотел уступать. Мишель Лопиталь в своих изумительных речах призывал к терпимости, но духовенство и слышать не хотело об этом. Гугеноты всё больше и больше смелели. Дабы пополнить совершенно опустевшую казну, Екатерина просила о субсидиях, но духовенство первым решительно отказывалось раскошеливаться. Ничуть не больше удалось ей получить от дворянства и третьего сословия, которое не только не намерено было терпеть усиление фискального гнета, но и не постеснялось посоветовать королеве сократить чрезмерно расточительные расходы двора. Вместе с тем был одобрен ряд давно назревших реформ, в частности церковных: предполагалось улучшение подготовки духовенства и укрепление дисциплины в его рядах. Зло, на которое давно указывали поборники Реформации, стало настолько очевидным, что и сами католики более не могли закрывать на него глаза.
Екатерина была разочарована отказом ассамблеи выделить необходимые субсидии. Но настоящим ударом для нее послужило известие о том, что депутаты, узнав о ее сделке с Бурбонами, потребовали, чтобы во исполнение старинного закона Антуан как старший из принцев крови стал регентом. Екатерина подозревала, что Антуан сам же и инспирировал это требование, хотя тот и открещивался от подобного обвинения. Тогда она потребовала, чтобы Бурбон подписал официальный отказ от права на регентство. Как ей удалось добиться своего, узнаем чуть позже, а пока отметим, что она сумела получить аналогичную подпись и от Конде, сдержав свое обещание реабилитировать его: Парижский парламент 13 июня 1561 года отменил ранее вынесенный ему приговор.
Среди множества сюрпризов, полученных Екатериной от Генеральных штатов, оказался и такой: под занавес своих заседаний ассамблея обязала ее, чтобы она потребовала возвратить в королевскую казну всё, что было неправомерно выплачено в годы правления ее супруга Генриха II коннетаблю Монморанси, Гизам, маршалу д’Альбону де Сен-Андре и Диане де Пуатье. Трудно представить себе лучший способ побудить к сплочению людей, которые в иных обстоятельствах не имели бы ничего общего друг с другом, и коннетабль с герцогом Гизом и маршалом д’Альбоном составили своего рода триумвират. Под предлогом борьбы против протестантской ереси эти убежденные католики сговорились оказывать давление на Екатерину и ее новых союзников. Триумвиры, поклявшись не на жизнь, а на смерть бороться против Реформации, нашли себе союзника в лице испанского короля Филиппа II, который давно уже упрекал французский двор в благоволении главарям гугенотов. Екатерине, когда она узнала об этом альянсе, стало не по себе. Она поняла, что в своем стремлении примирить непримиримых зашла слишком далеко. Спасая Конде, прислушиваясь к мнению Колиньи и назначая канцлером Мишеля Лопиталя, ратовавшего за терпимость, она своим потворством протестантам приводила в ярость Филиппа II, призывавшего католиков Франции к вооруженному сопротивлению.
Кто-нибудь другой (а тем более другая) на месте Екатерины запаниковал бы, но она не растерялась, продемонстрировав высший класс политического лавирования и действуя по принципу: «Ищи друзей себе среди врагов своих», то есть перетягивая на свою сторону отдельных представителей стана противника. В этом смысле незаменимым для нее человеком стал Антуан Бурбон, являвшийся не только принцем крови, но и, по крайней мере формально (фактическими вождями были люди духом покрепче его), шефом гугенотов. Она быстро нащупала его слабое место, прибегнув к услугам своего ставшего знаменитым «летучего эскадрона», формировавшегося из уроженок провинциального дворянства, отличавшихся красотой и, по мере возможности, умом. Они служили Екатерине ударным отрядом при решении многих политических задач. Королева, сама чуравшаяся распутства, будто бы пристально следила за их моральным обликом, пресекая их любовные (надо полагать, не санкционированные ею) похождения и сурово карая заточением в монастыре тех из них, у кого начинал расти живот. Одну из таких мамзелей Екатерина и подослала со специальной миссией к Антуану Бурбону.
Это была Луиза де ла Беродьер де Руэ, которую при дворе называли красоткой Руэ. Как и предполагалось, Антуан недолго противился натиску красотки, капитулировав перед ее чарами и совершенно утратив агрессивность в отношении королевы-матери. Ни о чем не подозревавшему кавалеру обольстительница сообщила по секрету, что если королева узнает об их отношениях, то сошлет ее в какой-нибудь отдаленный монастырь. Антуан, разумеется, заверил возлюбленную, что готов на все, лишь бы задобрить королеву-мать. Этого-то и надо было Екатерине: именно тогда она и потребовала от него подписать отказ от права на регентство. Антуан подписал, довольствуясь пожалованной ему должностью генерального наместника королевства и пребывая в полной уверенности, что спас красотку Руэ. Он словно бы не замечал, с каким презрением смотрели на него единоверцы-гугеноты. Сам Кальвин пытался было возвратить его на истинный путь, но тщетно. Сладкий голос его богини, действовавшей по инструкции королевы-матери, пользовался большим успехом, нежели послания из Женевы.
Поскольку мадемуазель де ла Беродьер успешно справилась с порученным заданием, Екатерина доверила ей новую, еще более ответственную миссию. Красотка Руэ принялась ненавязчиво внушать Антуану, что их любовь была бы еще более прекрасной, если бы сама она могла любить, не рискуя погубить свою душу любовной связью с еретиком, но без угрызения совести даря ласки возлюбленному, возвратившемуся в лоно католической церкви. Тогда они испытали бы небесное блаженство на земле. Антуан, уже вкусивший этого блаженства, ни за что на свете не хотел лишиться его. Поддавшись на уговоры возлюбленной, он отрекся от ереси и вернулся в лоно католической церкви, окончательно перейдя на сторону Екатерины. Он даже удостоился чести погибнуть, сражаясь в рядах королевской армии против своих бывших единоверцев-гугенотов.
Прения в Пуасси
Екатерина, не желавшая, несмотря на ожесточенное сопротивление недовольных, отказываться от своей политики терпимости и национального примирения, решила свести в Пуасси для открытого обмена мнениями представителей обеих враждующих группировок.
О том, в какой напряженной атмосфере Екатерина приняла это решение, можно судить по инциденту, случившемуся месяца за три до начала прений. 15 мая 1561 года кардинал Гиз, архиепископ Реймсский, совершал обряд коронации ее второго сына, Карла IX. Кардинал, подобно своему брату, герцогу Гизу, и всем католикам вообще, был крайне недоволен тем, какое влияние приобрела протестантская партия на королевское семейство. Перед тем как возложить корону на голову мальчика, кардинал обратился к нему с торжественным наставлением: «Кто бы ни посоветовал Вашему величеству сменить религию, он тем самым лишит Вас короны». Таков был главный политический принцип французской монархии XVI века: во Франции может быть только король-католик. Присутствующие понимали, что слова эти в действительности были адресованы матери юного короля. Карл IX, впечатлительный мальчик, для которого эта корона во всех смыслах была слишком тяжела, не мог удержаться от слез.
Екатерина и вправду заходила слишком далеко в выражении своей веротерпимости, позволяя кальвинистам открыто проповедовать в Сен-Жерменском дворце, служившем королевской резиденцией. Колиньи и Конде блистали там во всей красе, всячески поощряя гугенотов к повсеместной демонстрации своей новой веры. Наиболее развязные из них устраивали настоящие шабаши у стен монастырей с распеванием непристойных песенок о монахах и монахинях. В слепой ярости они нападали на кюре и монахов и устраивали погромы в церквях, разбивая мраморные изваяния Пресвятой Девы. В Орлеане окончательно потерявшие человеческий облик гугенотки на виду у всех мочились в дароносицы. Понятно, что эти святотатственные выходки вызывали вспышки ненависти у католиков.
Вполне вероятно, что в беседах с глазу на глаз с кальвинистскими проповедниками Екатерина давала понять, что хотела бы установления полного равноправия двух конфессий, чтобы гугеноты могли свободно строить свои храмы и беспрепятственно отправлять свой религиозный культ. Кальвин был настолько удовлетворен этим ее намерением, что называл ее «нашей королевой», благодаря коей во Франции восторжествует дело кальвинизма, который уже вошел в моду при королевском дворе. Под влиянием Колиньи готовность обратиться в новую веру изъявляли даже сыновья Екатерины — король Карл IX (не напрасно предостерегал его кардинал), герцог Анжуйский Генрих и младший, Франсуа д’Алансон. Только страх перед матерью, к которой они относились с благоговейным трепетом, удерживал их от опрометчивого шага. Эти принцы, рано лишившиеся отца, видели в Колиньи не проповедника, а скорее мужчину, с которого им хотелось бы брать пример. Карл IX даже называл его отцом. Сыновья ускользали из-под влияния Екатерины, и та, в свое время натерпевшись посягательств на ее материнские права от Дианы, теперь не намерена была безропотно взирать на это. В ее отношениях с Колиньи назревала драма, развязка которой наступит в Варфоломеевскую ночь.
Итак, когда 27 августа 1561 года вновь открылась сессия Генеральных штатов, сразу же наметилось противостояние группировок, так что миряне собрались в Понтуазе, а духовенство — в доминиканском монастыре в Пуасси. Светские депутаты, находившиеся под сильным влиянием Кальвина, были настроены агрессивно. Они отказались выделить новые субсидии короне и предложили пополнить опустевшую королевскую казну за счет средств церкви. Кардиналы, поставленные перед необходимостью понести материальные жертвы, решили, дабы поддержать свой авторитет, взять реванш в религиозном плане. Для этого они превратили в ожесточенные прения предполагавшийся спокойный обмен мнениями, сделав невозможным достижение согласия, к которому стремилась Екатерина.
Если учесть, в какой обстановке взаимной ненависти разворачивалась полемика, желание королевы любой ценой умиротворить страну может показаться наивным и безнадежным, но вместе с тем требующим мужества. Дабы преуспеть в своем начинании, Екатерина готова была поступиться собственной гордостью, демонстрируя, как обычно в состоянии крайней необходимости, гибкость в общении с такими непримиримыми гугенотами, как королева Наваррская Жанна д’Альбре и главный проповедник французских кальвинистов Теодор де Без. В своем миротворческом порыве она умудрилась даже свести лицом к лицу герцога Гиза и Конде, ненавидевших друг друга, но разыгравших на глазах у нее комедию примирения. Екатерина играла по-крупному: совершая поступки, напоминавшие альянс с еретиками, она рисковала престижем католического короля, правителя католической Франции. Свою отвагу она черпала в собственной убежденности в том, что ей предначертано быть опорой королевства Валуа, воплощением которого служили ее сыновья. Непоколебимая вера в возможность умиротворения подданных без различия их религиозной принадлежности возвышала ее над бушевавшими во Франции страстями.
В Пуасси она пригласила шестерых кардиналов, отличавшихся друг от друга по своему характеру и образу мысли, но имевших одну общую черту: преданность дому Валуа, что позволяло надеяться на их готовность искать точки соприкосновения с оппонентами ради умиротворения королевства. Делегацию из двенадцати кальвинистских проповедников возглавил Теодор де Без. Все они отличались образованностью, красноречием, умением дойти до сердца человека — и кальвинистской непримиримостью. Сплотившись в единый блок, они были неуязвимы. Что хорошего можно было ждать от столкновения двух непримиримых религиозных доктрин, представители которых к тому же лично ненавидели друг друга?
И все же Екатерина надеялась на взаимную уступчивость оппонентов. 9 сентября 1561 года трапезная доминиканского монастыря в Пуасси на время превратилась в королевский конференц-зал. В глубине зала на трибуне, украшенной драпировкой с лилиями, восседали, самим своим присутствием подчеркивая важность происходящего, одиннадцатилетний король Карл IX, его мать, брат Генрих и восьмилетняя сестра Маргарита. Вокруг них сидели в парадном облачении прелаты и доктора богословия. В противоположном конце зала за парапетом стояли кальвинистские пасторы. Екатерина, в душе сочувствовавшая им, для отвода глаз подвергла их публичному унижению, не позволив им сесть. Начались прения, продолжавшиеся более недели. Как и следовало ожидать, они не привели к сближению ни доктрин, ни тех, кто эти доктрины исповедовал. Напротив, представители двух конфессий еще больше ожесточились друг против друга. Екатерине дорого обошлась ее миротворческая миссия: так никого и не примирив, она сама стала объектом ненависти. Не остался в стороне и папа Пий IV, заявивший, что королева, устроив это подобие церковного собора, нарушила прерогативу верховного понтифика. Через своего легата он сделал Екатерине строгий выговор за послабления врагам католической церкви. Екатерина от этого будто бы даже прослезилась, но от своей линии на поддержку мирного сосуществования двух религий во Франции не отказалась.
Прямым следствием прений в Пуасси явился отъезд Гизов. На сей раз они не просто покидали королевский двор, но затевали опасную авантюру с далекоидущими последствиями. Опасаясь, как бы все возрастающее влияние Колиньи на Карла IX не привело к превращению католической монархии Капетингов в кальвинистскую монархию с духовным центром в Женеве, они решили взять в заложники одного из членов королевской семьи, и не кого-нибудь, а брата короля, Генриха Анжуйского, который стал бы мощным орудием в их борьбе с еретиками за престол католической Франции. Исполнить это они решили руками своего приятеля, герцога де Немура. Применять насилие к брату короля было немыслимо, поэтому Немур попытался заманить юного Генриха льстивыми речами, но безуспешно, поскольку тот был уже под влиянием Колиньи. Когда же Немур спросил маленького хитреца, не кальвинист ли он, тот, не задумываясь, ответил, что исповедует религию своей матери. Этот уклончивый ответ ничего не говорил о его религиозной принадлежности (к какой религии в тот момент склонялась Екатерина?), зато не оставалось сомнений относительно того, что он послушен своей обожаемой матери. Немур попытался было убедить мальчика, что гугеноты замышляют заговор против королевской семьи, что ему, Генриху, грозит смерть, но заметил, что за драпировкой кто-то прячется, и тут же замолчал.
Продолжил обработку герцога Анжуйского его тезка Генрих, сын герцога Гиза Меченого. Мальчики знали друг друга с раннего детства, посещая один и тот же коллеж. Как и Немур, Генрих Гиз стал уговаривать принца поехать вместе с ними в Лотарингию, где его ждет приятная жизнь, не то что при дворе, где весь почет достается его брату-королю. В Лотарингии же к нему самому будут относиться как к королю. Была затронута чувствительная струна в душе герцога Анжуйского: он уже начал завидовать своему старшему брату, и в дальнейшем эта зависть будет только нарастать. Было отчего закружиться детской голове. Похищение намечалось на 31 октября 1561 года, когда Гизы отправлялись в свою вотчину. Глава клана герцог Гиз вел с собой конный отряд из шестисот всадников в полном снаряжении, готовых отразить любую атаку. Екатерина, наблюдавшая за сборами в дорогу, глаз не спускала со своего сына. Ее, имевшую повсюду глаза и уши, конечно же обо всем известили. Она видела, как Немур, наклонившись к ее дорогому мальчику, что-то шепчет ему на ухо. Королева тут же позвала Генриха, и тот без утайки выложил ей весь план Гизов.
Сколь бы ценные услуги ни оказывали Гизы короне Франции, сколько ни помогали ей самой в трудные времена, с этой минуты они стали для Екатерины врагами. Как могли они покуситься на ее дорогого сына! Слепая материнская любовь переполняла ее столь же слепой ненавистью к людям, с которыми соображения политической целесообразности заставят ее в дальнейшем если и не дружить, то, по крайней мере, ладить, постоянно имея при себе противовес им. В данный момент — Колиньи и Конде.
Мир, подготовивший войну
Показное унижение гугенотов во время прений в Пуасси было с лихвой компенсировано так называемым «Эдиктом веротерпимости», который Екатерина издала 17 января 1562 года. Отныне за гугенотами признавалось право исповедовать свою религию, правда, с некоторыми ограничениями. Так, они могли свободно собираться на свои проповеди в местах компактного проживания, в городах же, в которых они составляли меньшинство, это запрещалось во избежание эксцессов, подобных тем, что имели место в Париже и Орлеане. Там гугеноты должны были собираться для отправления культа вне городских стен. Строительство храмов в городах им по-прежнему запрещалось. Уступки гугенотам пока что были невелики, однако сам факт, что государство вступает в переговоры с ними, можно рассматривать как огромное достижение для них. Екатерина и ее канцлер Мишель Лопиталь надеялись, что представители двух конфессий постепенно научатся мирно сосуществовать, двигаясь в направлении толерантного общества под эгидой короля, у которого не будет надобности делить своих подданных на приверженцев мессы и тех, кто слушает кальвинистскую проповедь. Дабы успокоить католиков, Екатерина заявила, что ее дети будут воспитываться в католической вере, однако для непримиримых это служило слабым утешением: они видели, что реформатская религия признана государством. Парижский парламент упорно отказывался регистрировать эдикт, и королеве пришлось немало потрудиться, чтобы спустя месяц это все-таки было сделано.
И вправду, Екатерина шагнула слишком далеко вперед, учитывая драматизм ситуации, порожденной религиозным конфликтом. Памятуя о том, что в Пуасси именно теологи обеих конфессий торпедировали все ее миротворческие усилия, она, как суверенная правительница, рискнула показать, что не теология определяет политику государства. Главное для нее как государственного деятеля — судьба государства и законной королевской власти, стоящей выше групповых интересов. Нетрудно вообразить себе, какую ярость вызвал эдикт у папы и Филиппа II, обвинявших Екатерину в том, что она превращает Францию в королевство еретиков. Но она не дождалась доброго слова и от гугенотов, ради которых пошла на большой риск. Вскоре они по-своему отблагодарили ее.
Члены Парижского парламента в конце концов согласились зарегистрировать «Эдикт веротерпимости», но с оговоркой, что регистрируют его временно, до наступления совершеннолетия Карла IX, после чего этот вопрос подлежит пересмотру. Долгие препирательства, увенчавшиеся полууспехом, истощили силы Екатерины, и она отправилась в Фонтенбло, где всё напоминало ей о досточтимом тесте, Франциске I, и где она могла отдохнуть душой и телом, наслаждаясь творениями флорентийских мастеров и чудными пейзажами, забыть о пережитых унижениях и разочарованиях, отдавшись любимому увлечению — охоте. Однако всё обернулось иначе: не успела она добраться до Фонтенбло, как пришло известие об инциденте, вошедшем в историю под названием «резня в Васси».
Герцог Гиз, направлявшийся в Жуанвиль навестить свою мать, 1 марта 1562 года сделал остановку в городишке Васси, на территории своих владений, намереваясь, благо было воскресенье, послушать мессу. Около тысячи местных протестантов в нарушение эдикта, запрещавшего им устраивать собрания в городской черте, собралось в риге поблизости от церкви, в которую вошел Гиз со своим эскортом. Словно не довольствуясь одним нарушением, гугеноты пошли на прямую провокацию, принявшись громко распевать псалмы прямо у ворот церкви. Герцог велел одному из своих людей навести порядок, дабы можно было спокойно слушать мессу. Однако на гугенотов это не произвело ни малейшего впечатления, и тогда разгневанный Гиз, выйдя к разбушевавшейся толпе, лично потребовал прекратить бесчинство. В ответ он услышал грубые оскорбления в свой адрес, подкрепленные градом камней, один из которых попал ему в лицо, прямо в знаменитую отметину, оставшуюся от раны, полученной на поле брани, и давшую ему прозвище Меченый. При виде окровавленного лица герцога его люди, вне себя от ярости, с оружием в руках устремились на толпу смутьянов. В результате свыше пятидесяти из них поплатились за дерзкую выходку жизнью, а около сотни были ранены.
Партия Конде незамедлительно воспользовалась резней в Васси, развязав пропагандистскую кампанию против Гиза и возлагая всю ответственность на него, словно бы не замечая очевидного факта: герцог подвергся нападению в своих собственных владениях, а гугеноты действовали в нарушение «Эдикта веротерпимости». Но как бы то ни было, кровь, пролитая в Васси, вскоре разольется по всей стране, положив начало череде гражданских войн. По злой иронии судьбы миротворческие усилия Екатерины Медичи и дарованный ею эдикт, в большей мере отражавший ее иллюзии, нежели реалии того времени, послужили прелюдией к жестокому конфликту, на протяжении тридцати шести лет терзавшему Францию.
Конде наступает на те же грабли
Гиза встречали в Париже как национального героя. Видя энтузиазм парижан, принц Конде сознавал, что ни ему самому, ни его партии никогда не завоевать такой популярности в столице. И тогда он решил повторить амбуазскую авантюру, с треском провалившуюся и едва не стоившую ему жизни. Но это, похоже, его не смущало. Как и в тот раз, королевская семья находилась в Фонтенбло, плохо защищенном и потому делавшем возможным захват Карла IX и его матери, дабы потом продиктовать им свои условия. По правде говоря, у Конде имелись веские основания опасаться королевы-матери, которая, видя провал своих миротворческих усилий, совершила крутой поворот. Отчаявшись вразумить гугенотов, она предстала перед подданными в образе доброй католички, исправно посещала католические богослужения и требовала того же от придворных. И своего любимого сына Генриха она обязала следовать ее примеру. Что же касается короля Карла IX, то он еще раньше и без понукания со стороны матери вернулся на путь истинный. Эти перемены возвещали об ужесточении политики в отношении гугенотов.
Покинув Париж, Конде собрал верные ему отряды и двинулся к Mo, где его уже ожидал Колиньи со своей армией. Объединившись, они были готовы сразиться с королевскими войсками. Наблюдая за концентрацией сил гугенотов между Парижем и Фонтенбло, герцог Гиз понимал, что угроза возникла не только лично для короля, но и для самого трона. Отправившись в Фонтенбло, он принялся уговаривать королеву-мать срочно перебраться вместе с сыном в Париж, где они были бы в безопасности. Отряд в тысячу вооруженных людей должен был обеспечить им беспрепятственное передвижение. Екатерина колебалась, то ли опасаясь довериться Гизу, которого, мягко говоря, недолюбливала, то ли еще надеясь договориться с Конде, который, как она думала, не посмеет причинить вред ни ей лично, ни королю. В конце концов она сочла за благо принять руку помощи, в очередной раз протянутую Гизом.
Конде, видя, что герцог опять спутал его планы, повел свое воинство к Орлеану и на удивление легко овладел городом, сделав его временной столицей гугенотов. Теодор де Без, мастер пропаганды, опубликовал декларацию, в коей утверждал, что Конде является лояльным подданным его величества, тогда как Гиз, мятежник, держит короля и королеву-мать на положении пленников. Это пропагандистское заявление разослали иностранным дворам, и протестанты, в частности Елизавета I, признали дело Конде правым. Из-за границы потекли деньги на поддержку гугенотов, и под знамена мятежного принца стали собираться дворяне, главным образом мелкие провинциальные шевалье, мечтавшие поправить свое материальное положение за счет грабежа и с легкостью обратившиеся в кальвинизм. Екатерина, нравилось ей это или нет, вынуждена была признать, что именно Гизы и их сторонники служат опорой трона ее детей.
Для того чтобы успешно исполнять эту роль, нужна была армия, способная противостоять войску Конде и Колиньи, и герцог Гиз принялся собирать ее, предоставив Екатерине поиск необходимых для этого средств. Она блистательно справилась с нелегкой задачей, сумев убедить римского понтифика и короля Испании в необходимости раскошелиться ради избавления Французского королевства от еретиков. Поучаствовали в финансировании сего благого дела также Венеция и Флоренция. Вооруженным быть хорошо, но оружие, полагала Екатерина, не следует пускать в ход, пока не исчерпаны все возможности для мирного решения спора. Ее коньком были переговоры, а не война, и она посылала к Конде эмиссара за эмиссаром, убеждая его отказаться от кровопролития. Ее упорство в стремлении к миру решительно опровергает легенду о «кровавой королеве» Екатерине Медичи. Конде, полагая, что путем переговоров добьется большего, нежели вступив в войну с неясным исходом, похоже, склонялся к мирному урегулированию, однако натолкнулся на решительное сопротивление со стороны Колиньи и его воинственных шевалье, мечтавших о богатстве и славе, добытых оружием.
Итак, миротворческие усилия Екатерины (в который уже раз!) ни к чему не привели. Католики и гугеноты словно состязались друг с другом в религиозном фанатизме. Особенно отличались гугеноты, не щадившие даже родственных чувств. В Вандоме при явном попустительстве со стороны Жанны д’Альбре были выброшены из могил останки родителей ее супруга Антуана Бурбона. Не трудно было догадаться, что гугеноты воспользуются переговорами не для поиска согласия, а для накопления сил в преддверии неизбежной борьбы. Пока Екатерина склоняла Конде к миру, его соратники захватили Ла-Рошель, Пуатье, Гавр, Дьеп и Кан. Да и сам принц, видя успехи гугенотов, сменил тон, заносчиво заявив королеве, что одержит верх над войсками католиков.
Грозный тон Конде не оставлял выбора, и королевская армия перешла в наступление, заняв Блуа. Дальше военные действия шли с переменным успехом. Целые области оказались под властью гугенотов, и те в поисках средств для продолжения войны принялись распродавать страну. Эмиссары Конде от его имени заключили союзный договор с Елизаветой Английской. Принц уже действовал как глава государства, и королева Англии признавала его таковым. Елизавета обязалась предоставить мятежному принцу шесть тысяч человек в полном снаряжении и деньги на оплату германских наемников, получая взамен французские города Гавр, Дьеп, Руан и конечно же Кале. Колиньи тем временем вел переговоры с германскими князьями: не имея средств для выплаты жалованья наемникам, он в качестве компенсации отдавал им на разграбление французские города.
Над страной нависла угроза чужеземного вторжения. В королевском совете сложилось мнение, что наиболее уязвимым местом является Нормандия, туда и направили войско под командованием коннетабля Монморанси. Однако было уже поздно: объединенные отряды англичан и гугенотов под командованием печально знаменитого Монтгомери захватили Руан. И тогда Екатерина лично повела другие подразделения королевской армии на осаду Руана, не считаясь ни с осенней непогодой, ни со своим ревматизмом. По ее команде артиллерия произвела десять тысяч выстрелов, полностью разрушив городские стены. В образовавшуюся брешь, вдохновляемые примером королевы, устремились ее воины. 20 октября 1562 года Руан был взят. Однако радость Екатерины была омрачена вестью о том, что Монтгомери сумел ускользнуть, уплыв по морю к английским берегам. Она охотно свела бы счеты с человеком, которого винила не только в гибели обожаемого супруга, но и в альянсе гугенотов с Елизаветой.
Тем временем и Конде со своим воинством двинулся в Нормандию, дабы соединиться с англичанами, успевшими занять Гавр. Его войско представляло для королевской армии наибольшую угрозу, поскольку Колиньи сумел, пока Екатерина вела с ним переговоры, пополнить его германскими наемниками. Эта ошибка королевы-матери позволила гугенотам собраться с силами, и теперь для нее было важно не допустить еще одного промаха и не позволить мятежному принцу соединиться с англичанами.
Королевская армия встала на пути мятежников близ Дрё, где 10 декабря 1562 года произошло сражение. Монморанси командовал главными силами, тогда как Гиз со своей кавалерией находился в резерве. Он и решил исход битвы: когда роялисты дрогнули под мощным натиском кавалерии Колиньи, он вывел из леса свой засадный полк и одним ударом сокрушил противника, причем Конде был взят в плен. Колиньи же, побежденный, но не обескураженный, собрал остатки своей армии и направился к Орлеану, где намеревался восстановить силы и возобновить борьбу. Гиз двинулся за ним, дабы добить его прежде, чем он успеет добраться до гугенотской «столицы». Однако дело обернулось иначе.
Екатерина вносит раскол в ряды противника
Победа, одержанная роялистами при Дрё не в последнюю очередь благодаря Франсуа Гизу, до предела накалила ненависть к нему Колиньи. Вечно этот человек становится поперек его пути! Благополучно добравшегося до Орлеана адмирала переполняла жажда мщения, и он не побрезговал самым подлым способом свести счеты с ненавистным соперником, подослав к нему наемного убийцу. На эту роль охотно согласился некий Польтро де Мере, кузен печально знаменитогоЛа Реноди, амбуазская авантюра которого сорвалась и который сам поплатился жизнью благодаря герцогу Гизу. Исполнить преступный замысел было тем проще для него, что он находился в ближайшем окружении герцога, руководившего осадой Орлеана. 17 февраля 1563 года, накануне намечавшегося штурма города, Гиз, проведя смотр своих войск, возвращался в лагерь. Находившийся при нем
Польтро заметил, что в тот день герцог не надел кольчугу, которую обычно носил под верхней одеждой, и решил воспользоваться удобным случаем. Он выстрелил из-за кустов в спину герцога, после чего ускакал на предоставленном ему Колиньи резвом коне. Польтро был уже далеко, когда паж герцога поднял тревогу.
Екатерина, не на шутку встревоженная известием о покушении на Гиза, распорядилась разыскать и примерно наказать преступника. Как бы она ни относилась к герцогу, в политическом плане его гибель имела для нее весьма нежелательные последствия. Вдохновители наемного убийцы метили высоко, а в другой раз могли замахнуться и еще выше, благо не стало человека, стоявшего между ней и враждебным лагерем. Екатерина, находившаяся в Блуа, сразу же отправилась в Орлеан и еще застала Гиза живым — он умер спустя шесть дней после покушения. Там же оказался и убийца герцога Польтро: он безоглядно ускакал с места преступления, но заблудился и попал в руки людей Гиза. Не потребовалось даже пытки, чтобы заставить его заговорить: способный лишь на выстрел в спину, он сам всё выложил. На обвинения в свой адрес Колиньи реагировал с присущим ему цинизмом: отрицая свою причастность к убийству Гиза, он вместе с тем публично возносил хвалы Богу за его смерть. Легко представить себе, какая буря возмущения поднялась среди католиков, особенно в Париже. Сын убитого, юный Генрих Гиз, поклялся, что Колиньи заплатит ему своей жизнью. До Варфоломеевской ночи было еще далеко, но ее движущие мотивы уже зарождались.
Корона лишилась своего наиболее талантливого военачальника — и именно тогда, когда тот был особенно необходим: Монтгомери при поддержке англичан вновь овладел рядом городов в Нормандии, а германские наемники, приглашенные Колиньи, опустошали Шампань. Он и сам уже был не рад, что позвал этих хищников: и без того обремененные награбленным, они тем не менее требовали еще и выплаты жалованья, угрожая в противном случае добраться до имений самого Колиньи. Шкурный интерес вынудил этого сухопутного адмирала обратиться к Екатерине с заявлением, что королевская власть в первую очередь заинтересована, чтобы незваные гости поскорее убрались восвояси, а потому должна заплатить им недополученное жалованье. Однако даже для Екатерины, всегда предпочитавшей мирное решение войне, это было чересчур — самой оплатить услуги наемников, приглашенных ее врагами с целью лишить ее детей трона. Переговоры закончились, толком не начавшись, и разорение Шампани продолжилось.
С наглецом Колиньи говорить было не о чем, однако в руках Екатерины находился пленный принц Конде, который мог сослужить ей хорошую службу в деле установления мира в стране. Один раз она уже спасла его от верной смерти, и на сей раз у него также был не слишком широкий выбор: лишиться головы или вступить в диалог с королевой-матерью в надежде на обретение свободы. 7 марта 1563 года в Амбуазе состоялась их встреча. Конде, на мгновение, видимо, забыв, в каком положении находится, сразу же потребовал безусловного применения на деле положений «Эдикта веротерпимости», но Екатерина, памятуя о бесчинствах гугенотов, вдохновленных этим эдиктом, быстро охладила пыл своего собеседника, и он вынужден был принять ее условия. 19 марта 1563 года был подписан Амбуазский мирный договор, завершивший первую религиозную войну, и издан новый эдикт, предусматривавший значительно меньшие, чем прежде, уступки гугенотам. Отправление их культа отныне дозволялось только в домах сеньоров для членов их семей и вассалов. Для простого же народа отводилось по одному молельному дому на бальяж. В Париже и его округе отправление кальвинистского культа полностью запрещалось. Целью Екатерины было сведение до минимума мест, в которых могли сталкиваться представители двух религий и возникать эксцессы вроде того, что произошел в Васси. При всей разумности этой меры предосторожности в обществе сразу же сложилось мнение, что только знать могла свободно исповедовать новую религию, тогда как простой народ был лишен такого права, что делало кальвинизм во Франции религией высшей аристократии.
Итак, Конде, приняв условия Екатерины, обрел личную свободу в ущерб свободе распространения религии гугенотов. Колиньи был вне себя от ярости, упрекая принца в том, что тот одним росчерком пера закрыл больше молельных домов, чем все католики вместе взятые. Сам он будто бы ни за что не уступил бы Екатерине. Что же до Конде, то он лишь ждал удобного случая, чтобы предать свою новую союзницу и опять переметнуться к прежним друзьям. Зная это, королева-мать приняла меры, дабы покрепче привязать к себе ненадежного попутчика, применив свое излюбленное средство, магию особого рода, не имевшую ничего общего с колдовством и отравой, которые она якобы любила пускать в ход.
Поскольку герцог Гиз погиб, а коннетабль Монморанси в сражении при Дрё попал в плен к гугенотам, Екатерина нуждалась в военачальнике, способном изгнать англичан из Нормандии. Она решила поручить это дело принцу Конде. Но как заставить его воевать против своих недавних союзников? Эту чрезвычайной трудности задачу с успехом решила мадемуазель де Лимёйль из ее «летучего эскадрона», убедившая принца, что он, опозоренный в глазах гугенотов, должен быть на стороне королевы. Вдобавок Конде был пожалован еще и должностью генерального наместника королевства, ставшей вакантной после гибели Антуана Бурбона при осаде Руана. Тем самым Екатерина удовлетворила две главные страсти принца — тщеславие и похоть. Теперь он был согласен возглавить поход за освобождение Нормандии от английских оккупантов. Его репутация как военачальника была столь высока, что к нему присоединились и многие дворяне-кальвинисты. Бывшие мятежники стали защитниками дела короля.
Однако сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит, и история о том, как Екатерина с помощью девицы из своего «летучего эскадрона» добилась политического успеха, получила завершение, ярко осветившее как нравы того времени, так и моральный облик принца Конде. Единоверцы и бывшие союзники приложили все силы к тому, чтобы вернуть его в свои ряды, и преуспели в этом. За дело взялся сам Колиньи. При личной встрече он заметил, что принц уже несколько охладел к мадемуазель де Лимёйль, и предложил ему взамен поднадоевшей любовницы принцессу де Лонгвиль в законные супруги. Конде, вдовец, был не прочь жениться на красивой, богатой, добродетельной особе, да к тому же еще и кальвинистке (сам он, перейдя на сторону короля, не поступился вероучением Кальвина). Для него, низкорослого и некрасивого горбуна, это была блестящая партия, и он клюнул на приманку. Мадемуазель де Лимёйль он дал отставку без сожаления и по-хамски, потребовав, чтобы она возвратила ему всё, что он ей дарил. Зато Екатерина не оставила в беде девицу, выдав ее замуж за богатого флорентийского банкира, и та получила драгоценностей, мехов и дорогих нарядов в 100 раз больше, чем имела в качестве любовницы скуповатого горбуна. Она его скоро забыла, чего нельзя было сказать о Екатерине, для которой Конде превратился во врага номер один.
Сын царствует, а мать правит
Между тем дела помаленьку налаживались. Несмотря на все перипетии с Конде, англичан из Нормандии удалось вытеснить: в августе 1563 года капитулировал английский гарнизон Гавра, и спустя несколько месяцев Елизавета I подписала мирный договор с Францией, отказавшись от притязаний на французские города. На волне ликования ее подданных по случаю одержанной победы Екатерина Медичи решила урегулировать немаловажную проблему, возникшую в связи с гибелью Антуана Бурбона. Как мы помним, он в качестве старшего из принцев крови по закону должен был исполнять должность регента при малолетнем короле, но отказался от этой привилегии в пользу Екатерины. Теперь вопрос о регентстве вновь обрел актуальность, и королева-мать решила его раз и навсегда, объявив 17 августа 1563 года Карла IX совершеннолетним. Поскольку королю тогда едва исполнилось 13 лет, Екатерина не имела права этого делать, и Парижский парламент отказался регистрировать соответствующий документ. Тогда она добилась регистрации через парламент Руана, аргументируя свою настойчивость тем, что в королевстве сложилась чрезвычайная ситуация. Последнее слово осталось за ней.
Юный король, облеченный всей полнотой власти, произнес свою первую речь, заявив, что отныне не потерпит неповиновения, с которым ему доводилось сталкиваться ранее. Обозначив подобным образом свои полномочия, он тут же передал их в руки матери, которой предстояло фактически править государством. Затем он встал с трона и направился к ней. Екатерина реверансом приветствовала его как короля, а затем заключила в объятия как сына. Король выразил искренними словами свою сыновнюю любовь и торжественно заверил ее, что и впредь ее полномочия не умалятся. Затем, как и подобает, он предстал перед народом, возлагая свою руку на страдавших золотухой, которые исцелялись, тем самым подтверждая, что имеют дело с настоящим королем.
Однако в тот же день король столкнулся с задачей посложнее, чем исцеление золотушных. Пред ним предстал в полном составе и в черных траурных одеяниях весь клан Гизов, требуя суда над Колиньи. Формально обращаясь к монарху с прошением, фактически они предъявляли ультиматум. При виде этой грозной команды юный король реагировал естественным для ребенка образом — он расплакался, что само по себе было не так уж и плохо в данной ситуации. Он обещал решить дело, а Екатерине Медичи предстояло придумать, как это сделать, не взорвав едва установившийся хрупкий мир в королевстве. Было решено сформировать чрезвычайный трибунал, наполовину состоящий из членов Парижского парламента, а наполовину из членов королевского совета. Как и следовало ожидать, Колиньи в суд не явился. В этом случае решение должен был принимать сам король, и мать подсказала ему единственно верный при сложившихся обстоятельствах вердикт: его величество берет три года на размышление.
Авось время подскажет выход из безвыходного положения...
Невиданная ситуация сложилась во Франции: в стране, раздираемой религиозной и политической рознью, на троне оказался беспомощный ребенок, а регентшей при нем — иностранка, не пользовавшаяся популярностью в народе. Екатерина понимала, что ради укрепления авторитета короля и сохранения своей власти надо что-то предпринять, и она придумала нечто столь же невиданное, как и сама подтолкнувшая ее к этому ситуация: пуститься со всем королевским двором в более чем двухлетний тур по Франции, дабы показать юному королю его страну, а стране — ее короля. Собственно, обычай совершать объезд владений и ранее существовал у французских королей, однако столь масштабного путешествия не предпринимали ни до, ни после. Примечательно, что итальянка Екатерина решила показать себя настоящей француженкой, положив в основу своей власти старинный обычай династии Капетингов, согласно которому король должен жить в постоянном общении с подданными, имеющими возможность видеть своего суверена и говорить с ним.
Путешествие должно было стать праздником для короля и его подданных, и прелюдией ему послужила целая серия празднеств, для проведения которых Екатерина выбрала Фонтенбло, куда созвала весь цвет королевства. Она не забывала о словах обожаемого тестя, Франциска I, любившего повторять, что французов надо развлекать, чтобы они не бунтовали. Первым устроил прощальный банкет (как-никак король собирается в дальний путь-дорогу) коннетабль Монморанси. Хотя Гизы и соблюдали траур по герцогу Франсуа, но положение обязывало, и они постарались перещеголять коннетабля. Говорили, что такого приема не было со времен мадам д’Этамп. Третий обед давала сама Екатерина, порадовавшая гостей представлением итальянской комедии и королевским балом. Четвертый праздник был устроен от имени сына королевы, Генриха, тем самым впервые выступавшего в качестве Месье, или «брата короля», что во Франции того времени являлось официальным титулом. По традиции праздник завершился представлением потешного штурма крепости и турниром, закончившимся без потерь, но и не вызвавшим особого энтузиазма у зрителей: эта средневековая забава явно выходила из моды.
Королевский тур начинается
Отшумели прощальные праздники, и 13 марта 1564 года королевский двор отправился в путь. Кого только не было в этом величественном кортеже! Разумеется, там не могло быть Колиньи и Гизов, получивших предписание оставаться в своих владениях в ожидании королевского приговора: три года, взятых Карлом IX на размышление, еще не истекли. Дабы эти важные господа не скучали без дела, Екатерина поручила им на время своего путешествия поддерживать порядок в королевстве — да-да, именно тем, от кого исходила главная угроза стабильности. Черный юмор...
В путешествие отправились и трое младших детей Екатерины, зачастую деливших с нею ее просторную, точно комната, карету, которую тащили шесть лошадей. Однако у каждого из королевских отпрысков была и своя свита, как говорили, «свой дом». Помимо кареты в распоряжении королевы имелось двое носилок, каждые из которых несла четверка лошадей. Носилки она использовала в хорошую погоду, давая аудиенции прямо под открытым небом. Когда же у нее возникало желание размяться, она требовала одного из шести своих великолепных скакунов, отправившихся с нею в путешествие. Ее огромный багаж помещался в бесчисленных кожаных кофрах, погруженных на телеги и спины мулов. В дорогу она захватила и свою великолепную кровать, которую везли в разобранном виде, а на привалах собирали. С нею было ее шелковое постельное белье, ее грандиозный гардероб, серебряные тазы и кувшины, золотая и серебряная посуда, красовавшаяся на банкетах, которые она давала по пути следования. Она везла с собой также костюмы и декорации для театральных представлений — и даже разборные триумфальные арки, монтировавшиеся по прибытии в города, не имевшие средств и возможности соорудить их самостоятельно.
Для обеспечения повседневного комфорта путешественников сопровождали сотни слуг и конюхов. Королева захватила с собой пятерых личных медиков и столько же персональных поваров, а чтобы не заскучать в пути и на привалах — музыкантов. Помимо канцелярии с секретарями и клерками, исповедников и пажей она не забыла взять с собой и свой «летучий эскадрон», три сотни почти неземных созданий. Короля и принцев сопровождали многочисленные компаньоны из числа дворянской молодежи. Тяжело нагруженные телеги везли продовольствие для этого странствующего города. Поскольку же время было неспокойное, королевское семейство по пути следования охраняла целая армия: четыре роты инфантерии, рота легкой конницы и полк французской гвардии. За королевским двором, отправившимся в дальний путь, вынуждены были последовать и многочисленные иностранные послы, дабы собственными глазами наблюдать за этой, как им казалось, авантюрой и обо всем докладывать своим государям.
Предпринятое Екатериной путешествие дорого обходилось и королевской казне, и тем, кто оказывал королю и его свите гостеприимство по пути их следования. Но и психологическое воздействие реального присутствия монарха на его подданных было огромно. Изрядно потратившись, люди получали за свои деньги зрелище, которое потом могло им разве что привидеться во сне. Пропагандистский эффект этого предприятия был ни с чем не сравним. Екатерина придумала гениальный политический ход, сплотив вокруг короля большинство французов. Без громких заявлений, без бряцания оружием и кровопролития она продемонстрировала королевскую мощь и величие — одним только блеском и великолепием того, кто служил воплощением законной и освященной власти.
Екатерина не такова была, чтобы отправиться в подобное путешествие, не имея четкого представления о том, куда едет. Маршрут движения и места пребывания были заранее определены и согласованы, что, разумеется, не исключало всякого рода случайностей в стране, расколотой на враждебные друг другу группировки и подверженной угрозе внешнего вторжения. А если к тому же учесть, что зачастую приходилось двигаться в непогоду по разбитым дорогам, то надо признать: это была отнюдь не увеселительная прогулка. Еще до отъезда Екатерина запланировала ряд важных для себя встреч, и прежде всего — с Филиппом II, отношения с которым, несмотря на заключение династического брака, оставались натянутыми. Полагаясь на свой дипломатический талант, она рассчитывала расположить его к себе. В Лотарингии она собиралась повидаться с дочерью Клод, которая вот-вот должна была сделать ее бабушкой. Там же она предполагала встретиться с императором Максимилианом II Австрийским, дабы обсудить с ним свою любимую тему — мир, а заодно и предложить ему заключение брака Карла IX с его старшей дочерью. В мечтах ей виделся и еще один брак — эрцгерцога Рудольфа, наследника Максимилиана, с ее последней дочерью Маргаритой.
То радушный прием, то не очень
Итак, гигантский кортеж двигался по дорогам Франции. Первая значительная остановка намечалась в Труа. Город, украшенный триумфальными арками и девизами, прославлявшими французскую корону, устроил королевской семье торжественный прием с театрализованным представлением. Король, как и полагается, творил чудеса, прикосновением руки исцеляя золотушных. Здесь же отпраздновали и Пасху. Гугеноты, уважая королевский эдикт, совершали свои обряды за пределами города. Екатерину настолько тронула эта идиллия, что она провела в Труа целый месяц. Там же она подписала и мирный договор с Елизаветой Английской — в городе, в котором в разгар Столетней войны был заключен унизительный для французов мир, отдававший Францию под власть английского правителя. Времена изменились, и Екатерина хотела показать, что именно теперь достигнут подлинный мир со стародавним врагом.
Следующая не менее приятная остановка была у герцога Лотарингского в Бар-ле-Дюк. Екатерина порадовалась рождению своего первого внука, выступив в роли его крестной. Крестными были Карл IX и Филипп II, которого представлял его посол. Рон-сар по этому случаю сочинил стихи, прославляющие величие французской монархии.
Продолжив путь, караван в конце мая прибыл в Дижон, столицу Бургундии. Город предстал перед путешественниками во всем своем великолепии. Губернатор, старинный приятель Екатерины, маршал Таванн, обеспечивал спокойствие и порядок. Сохранив вкусы и привычки своей боевой молодости, времен Франциска I, маршал устроил турнир и потешный бой. Четыре большие пушки обстреливали крепость с таким грохотом, что Екатерине почудилось, будто она вновь оказалась у стен Руана, которые крушила ее артиллерия. Гораздо спокойнее прошло дефиле под гирляндами и триумфальными арками, за которым последовали торжественно-хвалебные речи и обмен подарками.
Макон, следующий этап на пути королевского кортежа, готовил ему иную, нежели Дижон, встречу. В этом католическом городе остановилась королева Наваррская Жанна д’Альбре, возвращавшаяся из Женевы, где она была на похоронах незадолго перед тем скончавшегося Кальвина. Уже стало правилом, что скандалы следовали за этой женщиной по пятам. Не обошлось без инцидента и на сей раз. Она позволила себе вступить в город в сопровождении двенадцати кальвинистских пасторов, тем самым грубо нарушив условия эдикта. Екатерина потребовала немедленно удалить пасторов из города, заодно напомнив Жанне о необходимости более терпимого отношения к католикам, которые в ее владениях подвергались притеснениям. Однако на этом неприятности не закончились. Гугеноты из свиты королевы Наваррской позволили себе хамские выходки в отношении участников католической процессии во главе с кардиналом Бурбоном. Дело едва не дошло до кровавой потасовки, после которой гугенотская пропаганда опять завопила бы о резне, устроенной католиками. По приказу короля его люди быстро навели порядок, а спустя три дня по совету матери он велел повторить процессию в порядке искупительной жертвы, причем гугенотам Жанны пришлось встать на колени и поклониться Святым Дарам, на которые они накануне возводили святотатственную хулу. Но самым примечательным в этой повторной процессии было то, что в ней по указанию Екатерины приняли участие дети, двигавшиеся попарно, католик с протестантом — лучшая иллюстрация того, что Карл IX является королем всех французов, без различия веры. Испанский посол изумленно взирал на это религиозное умиротворение, не веря глазам своим.
После этого Жанна поспешила отправиться в Наварру. Екатерина, уставшая от бесконечных препирательств, не удерживала ее, правда, потребовав, чтобы она оставила при французском дворе своего сына, юного Генриха Наваррского. Жанна, пересилив себя, согласилась, Генрих же с радостью возвратился туда, где ранее провел несколько счастливых лет и где чувствовал себя как дома.
Продолжив движение к югу, королевский кортеж вступил в области, где сильно было влияние Реформации: сказывалась близость Женевы. Двумя годами ранее Лион стал ареной невообразимых событий: кальвинисты изгнали из города католиков. Направляясь в этот город, Екатерина испытывала некоторое беспокойство: как-то примут ее там? Подобного рода путешествие, определенно, требовало мужества, не говоря уже о физических нагрузках. Королеве доложили, что кальвинисты Лиона готовят восстание, намереваясь устроить расправу с королевским семейством. Однако она отнеслась к этому сообщению как к безосновательному слуху, каким оно в действительности и оказалось. Еще год назад она приняла меры по обеспечению порядка в Лионе, назначив его губернатором энергичного человека, маршала Вьельвиля. Он должен был восстановить в правах изгнанных и ограбленных католиков. И все же, несмотря на принятые меры, кальвинистская община в городе была настолько многочисленной и влиятельной, что осмелилась потребовать от Екатерины новых уступок, на что та ответила запретом на проведение каких бы то ни было кальвинистских собраний в радиусе четырех миль от города, в котором в данный момент находится король.
Поворчав, гугеноты смирились, поскольку, в сущности, были не меньше католиков заинтересованы в налаживании мирной жизни. Это проявилось и в приеме, какой был оказан в Лионе королю и коро-леве-матери. Никаких протестов, напротив, и здесь была устроена процессия, в которой вновь бок о бок прошли дети католиков и протестантов — очередной успех миротворческих усилий Екатерины. Как и всегда, когда в Лионе принимали короля, город украсился триумфальными арками, аллегорическими колоннами и льстивыми приветствиями. Тут и там рядом с королевским гербом красовались «пилюли» рода Медичи. Поскольку все же не обошлось без выходок отдельных ревностных гугенотов, Екатерина, покидая замиренный город, оставила на подмогу маршалу Вьельвилю довольно значительный вооруженный отряд, способный внушить потенциальным мятежникам уважение к законной власти.
Настоящим центром кальвинизма и очагом мятежа стало княжество Оранж, население которого почти в полном составе обратилось в новую веру, так что даже движение по его территории было сопряжено с реальным риском для королевского двора. Губернатор Крюссоль, назначенный Екатериной с заданием обеспечить в этом регионе мир, худобедно справился со своей задачей, однако водворившееся спокойствие было столь хрупким, что королевский кортеж предпочел пройти через столицу княжества, город Оранж, без остановок, не выслушав даже обычных приветственных речей. Такова была тактика Екатерины Медичи: она демонстрировала силу, но при этом делала всё, чтобы не пришлось ее применять. Если бы двор задержался в Оранже, многочисленные здесь агрессивные гугеноты не удержались бы от нападения на конвой, королевская армия ответила бы, и учиненная в итоге резня не пошла бы на пользу ни королю, ни реформатам.
Сочтя за благо как можно скорее миновать опасный участок пути, королевский кортеж в конце сентября прибыл в Авиньон, где и удалось перевести дух. Суверенам и их свите был устроен пышный прием папским нунцием, ибо город все еще считался владением римского понтифика. Улицы были расцвечены флагами, дома богато декорированы, традиционные триумфальные арки отмечали путь королевского кортежа. Аллегорические фигуры, символизировавшие Добродетель, Истину и Справедливость, приветствовали короля и королеву-мать. В этом католическом городе они сполна насладились всем, чего не получили в Оранже. В город прибыли, дабы приветствовать французский двор, герцоги Савойский и Лотарингский, а также герцог Феррары. Их присутствие дополнительно придало торжественность собранию капитула королевского ордена Святого Михаила, которое состоялось под председательством Карла IX. Город, и без того потратившийся на подготовку встречи королевского семейства, преподнес ему еще и ценные подарки.
После торжеств, послуживших прелюдией к главному, Екатерина занялась делом. Посадив рядом с собой юного короля, она от его имени начала с папским нунцием переговоры о судьбе протестантов в Авиньоне, начисто лишенных тех прав, которые декларировались ее эдиктом. При этом Карл IX объявил себя защитником реформатов в городе, находившемся под папской юрисдикцией. Нунций обязался амнистировать протестантов, осужденных за веру, но не замешанных в мятеже, и возвратить им отнятое у них имущество. Екатерина добилась также восстановления торговых отношений Авиньона со злополучным Оранжем — торговля смягчает нравы. Со своей стороны она пообещала, что королевская армия защитит авиньонцев от нападений гугенотов Оранжа. Тем самым королева-мать не только продолжила свою миротворческую миссию, но и утвердила права французской короны на Авиньон, лишь формально принадлежавший папе.
Екатерина Медичи
Пророчества Нострадамуса
После трех недель празднеств и переговоров королевский кортеж продолжил путь, прибыв 17 октября в Салон-де-Кро, внешне ничем не примечательный город посреди каменистой местности. Зачем надо было посещать его, тем более с риском для жизни, учитывая, что недавно в тех краях свирепствовала чума? Ответ прост: в этом городе обретался знаменитый Нострадамус, к пророчествам которого Екатерина Медичи при всем своем здравомыслии и прагматизме относилась серьезно. И чумы она не побоялась потому, что в предсказаниях Руджери и Нострадамуса Салон-де-Кро не значился среди мест, которых ей следовало опасаться. Благодаря этим ясновидцам она знала, что предвестником ее кончины будет Сен-Жермен. И еще много других пророчеств всплывало в ее памяти, когда она приближалась к месту обитания Нострадамуса, с которым собиралась побеседовать, ожидая подтверждения или опровержения некоторых особенно волновавших ее предсказаний.
После обычных приветствий члены муниципалитета предложили королю и его матери осмотреть местные достопримечательности, многие из которых восходили еще к древнеримским временам и составляли славу города, однако высокие гости отказались, ибо не за этим сюда прибыли. Карл IX, которого мать убедила в сверхъестественных способностях Нострадамуса, прямо ответил гостеприимным хозяевам, что они завернули в их город только ради возможности повидаться с этим пророком. Те не возражали — ведь и Нострадамус как-никак считался одной из достопримечательностей, составлявших славу их города.
Екатерина с сыном вошли в мрачную обитель колдуна. Это был самый волнующий и вместе с тем восхитительный момент их путешествия. Им предстояло припасть к самим истокам истины. За несколько лет, прошедших после их последней встречи, Нострадамус заметно постарел. Видать, не помогали ему волшебные зелья, сулившие вечную молодость. В ходе продолжительной беседы королева попросила его истолковать (а в глубине души надеялась опровергнуть) прежнее пророчество, принадлежавшее то ли самому Нострадамусу, то ли какому-то другому гадателю — свидетельства на сей счет расходятся. Дело заключалось в следующем: Екатерина смотрела в волшебное зеркало, в котором поочередно возникали образы ее сыновей. При появлении Франциска II зеркало сделало полтора оборота, после чего изображение исчезло. Затем явился лик Карла IX, и зеркало совершило 14 оборотов, а при появлении Генриха Анжуйского — 15. Но дальше, к великому изумлению Екатерины, вместо ожидаемого изображения Франсуа Алансона, ее младшего сына, появилось лицо Генриха Наваррского, и зеркало совершило 21 оборот. Провидец, устроивший гадание, объяснил, что количество оборотов зеркала соответствует числу лет правления.
Относительно Франциска II пророчество в точности исполнилось, но не ошиблось ли зеркало в остальном? Екатерине не хотелось верить, что на смену ее сыновьям на трон Французского королевства взойдет Генрих Наваррский, этот самозванец, и она ждала от Нострадамуса утешительных для нее слов. Однако тот горько разочаровал ее, подтвердив пророчество волшебного зеркала: после пятнадцати лет правления Генриха Анжуйского, который взойдет на престол под именем Генриха III, королем Франции станет Генрих Наваррский. Нострадамус уверял Екатерину в неумолимости рока, но она продолжала упрямиться, требуя дополнительных доказательств. Тогда он предложил прочитать знаки судьбы нателе самого Генриха Наваррского. По распоряжению королевы мальчика привели, и он при виде старика в черной длинной мантии с костлявым птичьим лицом, изрезанным глубокими морщинами, оробел. Когда же Нострадамус, державший в руке трость с серебряным набалдашником, велел ему раздеться, он не на шутку испугался и бросился бежать со всех ног. Он помнил, что следовало за подобными распоряжениями его школьных наставников... Однако Нострадамус не отступился от своего и, придя ночью в спальню принца, прочитал на его теле искомые знаки судьбы, после чего доложил о результатах Екатерине: зеркало не ошибалось, и Генрих Наваррский сменит династию Валуа на королевском престоле Франции.
На сей раз королева поверила и, не пытаясь противиться неизбежному, задумала матримониальную комбинацию, в результате которой на французском троне все же остался бы носитель крови Валуа и Медичи: следует выдать дочь Маргариту замуж за Генриха Наваррского. Пусть хотя бы внук по женской линии когда-нибудь взойдет на трон Французского королевства. Екатерина, одержимая мечтой, забыла, что судьбу нельзя обмануть даже в малом: Маргарита действительно станет женой Генриха Наваррского, однако детей не родит, и Валуа навсегда сойдут с арены истории. Впрочем, мы не знаем, действительно ли занимали все эти мысли Екатерину Медичи и вправду ли были явлены ей упомянутые здесь пророчества. Кому хочется, тот может верить в них, однако королева-мать, сделавшая все возможное ради сохранения трона для своих сыновей, определенно руководствовалась не пророчествами, а более рациональными мотивами. Что же касается бракосочетания Маргариты с Генрихом Наваррским, то на него Екатерина решилась лишь после того, как провалились ее попытки выдать дочь замуж сначала за Дона Карлоса, сына Филиппа II, а затем за Рудольфа, сына императора Максимилиана II.
Все краски юга
Далее путь королевского кортежа пролегал по Провансу. Как сама Екатерина, любившая экзотические растения и животных, так и ее дети были в восторге от красот субтропической природы. Прямо под открытым небом росли апельсиновые деревья, недавно завезенные из Китая, и берберские пальмы. Королеву не на шутку взволновало раскинувшееся перед ней южное море, которое она в последний раз видела 31 год назад, когда папская галера привезла ее в Марсель. Туда теперь и направились путешественники, предварительно удостоив кратким визитом Тулон, где король осмотрел порт и совершил морскую прогулку на галере.
В Марсель они прибыли в начале ноября, встретив там восторженный прием. Екатерина была счастлива вновь увидеть город, в котором впервые повстречала своего будущего супруга и где зародилась любовь, пронесенная ею через всю жизнь. Местные жители, верные роялисты и истинные католики, выражали ей чувства, которые сама она питала к их городу. Даже испанский посол был удивлен столь горячей приверженностью марсельцев короне и церкви. Карл IX собственной персоной присутствовал на больших публичных богослужениях. По протоколу его должен был сопровождать гугенот Генрих Наваррский, который, памятуя о полученных от матери наставлениях, останавливался у дверей храма, не решаясь войти внутрь. Тогда Карл IX срывал с его головы шляпу и бросал ее в храм, после чего принцу Наваррскому не оставалось ничего иного, кроме как последовать за своей шляпой. И это повторялось не раз, превратившись в своего рода шутливый ритуал. Короля хотели было порадовать посещением знаменитого замка Иф, но бурное море не позволило причалить к каменистым берегам острова, и в порядке компенсации в одной из тихих бухт для него устроили инсценировку морского сражения христиан с турками. Поскольку сам Карл IX участвовал в этой забаве, нарядившись турком, победа турецкой флотилии была предрешена, к великому неудовольствию испанского посла, усмотревшего в этом аллюзию на реальные политические события: как известно, французы еще со времен Франциска I прибегали к помощи турок в своей борьбе против Габсбургов.
В Арле, где путешественникам пришлось из-за небывалого разлива Роны задержаться на месяц, короля и принцев ждало новое развлечение — бои с быками. Правда, от непосредственного участия в потехе они на сей раз воздержались. Екатерина же посвятила это время делам, которые наметила для себя в Лангедоке. Этот край, обретший благодаря ей права автономии, был далек от умиротворения. Эдикт, предписывавший веротерпимость, практически не исполнялся, поэтому потребовались усилия, чтобы обеспечить мирное сосуществование обеих религий под эгидой королевской власти.
Лангедок, разделившийся на две непримиримые друг к другу фанатичные группировки, сильно беспокоил королеву-мать. И все же Ним, преимущественно протестантский город, вопреки ожиданию устроил королевскому семейству теплый прием, не поскупившись на расходы. Город был изумительно украшен, а представление живых картинок надолго врезалось в память высоких гостей. Воздав положенные почести, жителя Нима побеспокоили короля жалобой, и небезосновательной, на губернатора Лангедока Монморанси-Дамвиля, притеснявшего кальвинистов. Король распорядился расследовать дело и восстановить пострадавших в их законных правах.
17 декабря 1564 года королевский кортеж прибыл в Монпелье, незадолго перед тем возвращенный усилиями Дамвиля к повиновению королю и к католической вере. Ранее же, на протяжении многих лет, в городе бесчинствовали гугеноты, грабя и закрывая церкви и устанавливая порядки, весьма далекие от терпимости. Понятно, что католики восторженно приветствовали прибытие королевской семьи, решившей праздновать в их городе Рождество. Проводились великолепные богослужения и устраивались грандиозные шествия, участвовать в которых должен был каждый, кто не хотел подвергнуться крупному штрафу. Молодежь искрометно веселилась и танцевала. И все же чувствовалось, что восстановлением католицизма Монпелье был обязан не столько единодушию своих граждан, сколько войскам Дамвиля, поэтому Екатерина предпочла не задерживаться в этом городе, покинув его сразу же после Рождества.
Ситуация в Лангедоке определенно не радовала ее. Кальвинизм здесь был далеко не таким мирным, каким хотел казаться. Постоянно тлевшее недовольство грозило перерасти в открытый мятеж. Политику Екатерины в этом регионе не одобряли. И все же тактика ее оставалась неизменной: избегать столкновений и применения санкций. За это она была не раз вознаграждена. В Нарбонне, в котором уважались католицизм и королевская власть, двор был встречен с искренней теплотой. Екатерина настолько уверовала в благорасположение местных жителей, что, торжественно отпраздновав Богоявление, решила прогуляться по окрестностям города. При этом она посмела даже ступить на территорию маленького портового города Сальс, тогда находившегося под испанской юрисдикцией. Вторгаясь во владения испанского короля, под предлогом посещения имевшегося там замечательного ботанического сада, она, видимо, полагала, что поступает по-родственному: ведь королева Испании Елизавета — как-никак ее дочь...
Города и области, не похожие друг на друга, сменялись перед глазами путешественников. 12 января 1565 года они прибыли в Каркасон, за год до того переживший невообразимые эксцессы: палачи заживо сдирали кожу с гугенотов. Теперь город был «умиротворен», однако ощущения праздника не возникало. Внесла свои коррективы и погода: обильный снегопад точно лавиной накрыл город. Под тяжестью выпавшего снега рухнули бутафорские триумфальные арки и прочая декоративная мишура. Зато Карл IX, обозревавший с высоты крепостных стен окрестности, был в восторге от невиданного зрелища. Он, его брат Генрих и Генрих Наваррский постоянно устраивали баталии, оружием в которых служили снежки, строили и штурмовали снежные крепости. Позднее Карл IX говорил, что это осталось для него самым прекрасным впечатлением от путешествия. Екатерина же погрузилась в изучение законов и обычаев Французского королевства. Приходилось отдавать распоряжения и по текущим делам королевства. Так, из Парижа пришла тревожная весть о столкновении вооруженной охраны кардинала Лотарингского с людьми Монморанси, сына коннетабля, исполнявшего обязанности губернатора города. Екатерина, крайне раздраженная этим инцидентом, строго-настрого запретила чьим бы то ни было вооруженным отрядам, будь то Гизы, Монморанси или Колиньи, входить в Париж.
1 февраля королевский кортеж прибыл в Тулузу, столицу Лангедока. Город, на улицах которого еще недавно шли бои между католиками и протестантами и порядок в котором был наведен твердой рукой Монлюка, губернатора этой провинции, встречал гостей по заведенному сценарию приветственными речами, дефиле нотаблей и городских корпораций, танцами юных нимф и декламацией стихов Ронса-ра. В Тулузе Екатерина получила две новости, хорошую и плохую. Испанский посол порадовал ее сообщением о том, что Филипп II соглашается отпустить свою супругу на свидание с матерью. Екатерина даже прослезилась от радости, однако вторая весть привела в ярость не только ее, но и Карла IX. Из Парижа сообщали, что Колиньи вошел в столицу во главе шестисот всадников. Воспользовавшись отсутствием в столице короля, он дерзко нарушил королевские предписания, оказав тем самым плохую услугу своим тулузским единоверцам: когда те пришли к Карлу IX с требованием новых уступок, в частности, разрешения на отправление их культа в черте города, он не пожелал даже разговаривать с ними. Непреклонной оставалась и Екатерина, надеясь твердостью своей позиции в отношении еретиков произвести приятное впечатление на Филиппа II, на встречу с которым в Байонне она все еще рассчитывала. Оптимизм никогда не покидал ее. На протяжении всего пребывания в Тулузе она непрестанно думала об этой встрече, которая должна была стать кульминацией всего королевского турне.
После месячного пребывания в Тулузе двор направился в Монтобан, населенный по преимуществу непримиримыми кальвинистами. Монлюку стоило немалых усилий держать их в повиновении королевской власти. Екатерина с удовольствием обошла бы этот город стороной, однако все же удостоила его краткого визита, поскольку король имел здесь право на прохождение под триумфальными арками и отказ от этой прерогативы смахивал бы на капитуляцию перед еретиками. Стресс от пребывания, пусть и непродолжительного, во враждебном окружении сняли во время остановки в Ажане, католическом городе, встречавшем их цветами и образами святых. Поездка по югу Франции, столь разнообразная впечатлениями, подошла к концу. Впереди был западный регион королевства, суливший путешественникам новые радости и огорчения.
Обманутые надежды
9 апреля 1565 года королевское семейство торжественно вступило в Бордо, столицу Гиени. Всё здесь было непривычно для высоких гостей, начиная с того, каким образом они появились в городе — по воде, на двух огромных судах, напоминавших плавучие дворцы. Бордо, торговавший со всеми странами света, поразил их королевские величества экзотическим зрелищем, перед которым меркло всё, что доводилось им видеть ранее. Их взору предстали арабы, индейцы, африканцы и прочие аборигены, блиставшие многоцветными нарядами или своей первозданной наготой. Но главное впечатление, ошеломившее Екатерину, приведшее ее в полное изумление, было еще впереди, когда к прибывшим обратился с приветственной речью президент Бордоского парламента месье де Лажбастон: это был двойник Франциска I, его точная копия. Сходство отнюдь не было случайным, ибо президент являлся внебрачным сыном короля-ловеласа. Речь нотабля, выдержанная в верноподданнических тонах, произвела приятное впечатление на королеву-мать и ее сы-на-короля.
Бордо послужил отправной точкой продолжительного путешествия по древней Аквитании, именуемой также Гасконью. Екатерину беспокоило отсутствие вестей от испанского двора, поскольку упорно ходили слухи, что ни Елизавета, ни тем более ее супруг не прибудут на встречу, намеченную в Байонне. И все же она решила отправиться туда и ждать на месте, где все уже было готово к приему дорогих гостей. Охваченная нетерпением, она даже поскакала впереди кортежа, обремененного багажом, и прибыла в Байонну инкогнито. Наконец Филипп II нарушил молчание, прислав официальное уведомление, что сам не сможет прибыть, но супругу отпускает. Все задуманные празднества теперь должны были предназначаться ей одной. О причинах отказа Филиппа II почтить Екатерину Медичи личным присутствием можно лишь догадываться, и недостатка в версиях не было. Но, может, это и к лучшему: если бы она повидалась с королем, олицетворявшим собой религиозно-политическую реакцию, ее собственная репутация непоправимо пострадала бы. И так противники обвиняли ее (хотя и безосновательно), что она действует по указке Филиппа II, а после личной встречи с ним ей было бы совсем трудно очиститься от обвинений.
Екатерина отправила Генриха Анжуйского встречать сестру, и 14 июня он на границе двух королевств приветствовал ее и герцога Альбу, представлявшего Филиппа II. На следующий день они были уже в Байонне, и начался праздник, продолжавшийся до 2 июля. Екатерина, как всегда, не поскупилась на устроение зрелищ, развлекая своих вечно готовых взбунтоваться подданных и желая произвести впечатление на испанских гостей: пусть они увидят, что страна, терзаемая междоусобными распрями, отнюдь не обескровлена. Если первая цель была с успехом достигнута, то во втором она потерпела полное фиаско. Герцог Альба был податлив не больше, чем гранитная скала. За развлечениями и разговорами о династических браках (любимая тема Екатерины-свахи) он не забывал главного — искоренения ереси во Франции и прекращения вмешательства французских протестантов в дела мятежных Нидерландов. Обсуждения именно этих острых тем и хотела избежать Екатерина, но безуспешно. Не находило отклика и адресованное Филиппу II предложение: «Поженим сперва наших детей, а уж потом займемся вопросами религии». На это неизменно следовал ответ: «Сведите сперва счеты со своими еретиками, угрожающими вашему королевству, а уж потом займемся брачными делами». При таком подходе согласие было недостижимо.
Не способствовало достижению взаимопонимания и то, что герцог Альба излагал Екатерине требования своего государя в выражениях, больше похожих на ультиматум. Филипп II настаивал, чтобы королева в течение месяца изгнала из Франции всех кальвинистских проповедников — ни больше ни меньше. Далее, ей надлежало уволить всех королевских чиновников, заподозренных в ереси. Екатерина слушала, не проронив ни слова, и Альба продолжал рисовать мрачную картину бедствий, кои терпит Французское королевство — ярко украшенный фасад, представленный ему в Байонне, определенно не произвел на него впечатления. Тогда королева спросила его, не подскажет ли он, раз уж так хорошо знает печальное положение дел во Франции, каким образом искоренить зло. И герцог тоном строгого наставника просветил ее: прежде всего, следует отказаться от доброжелательной политики переговоров и уступок еретикам — тем самым она только укрепляет их в их заблуждениях, не обращая их в лояльных подданных короля, скорее наоборот. Дабы заставить собеседника поглубже заглотить наживку, Екатерина спросила его, не следует ли в таком случае прибегнуть к оружию. Не отвергая в принципе такую возможность, Альба сказал, что еще не пришло время для этого, но королю следует незамедлительно изгнать из страны всех, кто распространяет ересь.
Не желая доводить дело до открытого разрыва, Екатерина предпочла прекратить беседу. Она всегда была готова вести переговоры, но не имела ни малейшего желания получать указания от иностранного суверена, хотя бы и от своего зятя. Разочарование, вызванное провалом надежд, кои связывала она со встречей в Байонне, стократно усиливалось при виде той перемены, которую она замечала в Елизавете, своей дорогой дочери. Перед ней была настоящая королева Испании, готовая отстаивать интересы короля, своего обожаемого супруга. Напрасно Екатерина надеялась через нее воздействовать на зятя: для нее проблемы ее матери были делами правительницы иностранного государства. Не случайно Филипп II не побоялся отпустить супругу в стан противника.
Екатерина, столь сильно любившая дочь, испытала нестерпимую боль разочарования, но, не желая ронять достоинство королевы Франции, постаралась не выказывать одолевавшие ее огорчение и досаду. Напротив, как подобает настоящей государыне, она устроила ей по-королевски пышные и торжественные проводы. 2 июля при расставании и Карл IX, и его мать были в слезах, тогда как Елизавета казалась гораздо менее взволнованной. Тогда уже и Екатерина не удержалась от горького упрека: «До чего же ты стала испанкой, моя девочка!» Дочь повторила судьбу матери, которую флорентийцы с полным правом могли бы упрекнуть: «До чего же ты стала француженкой, урожденная Медичи!»
Неутешительные результаты переговоров в Байонне еще более осложнили и без того непростое положение Екатерины. Тогда как Филипп II считал ее сообщницей еретиков, поддерживавших мятеж Нидерландов против Испании, французские кальвинисты были убеждены в обратном. Их ненависть к королеве-матери доходила до того, что они, не желая замечать всех ее усилий по реализации политики терпимости и недопущению во Франции инквизиции, чего так настойчиво добивался Филипп II, распускали о ней самые грязные слухи. На своих проповедях они открыто говорили, что эта итальянка, настоящее исчадие ада, заключила в Байонне договор с испанским королем, обязавшись всячески искоренять гугенотов. В этой откровенной клевете ни на йоту не содержалось правды, однако протестанты были убеждены, что именно тогда в Байонне замышлялся план того, что войдет в историю под названием Варфоломеевской ночи. Сочинили даже описание секретной встречи с глазу на глаз Екатерины с герцогом Альбой (интересно, откуда стало известно это, если беседа проходила без свидетелей?), в ходе которой они договорились устранить гугенотских вождей. Альба будто бы передал королеве требование испанского монарха незамедлительно покончить с политикой терпимости в отношении еретиков. В ответ на это Екатерина возразила, что Франция не располагает достаточными средствами для обеспечения религиозного единомыслия. Тогда испанец недоуменно спросил: неужели во всей Франции не найдется одного хорошего кинжала? Продолжая всё сводить к финансовой проблеме, королева будто бы пояснила, что истребление всех протестантов тоже обойдется недешево. Однако Альба и не предлагал перерезать всех гугенотов. «И десять тысяч лягушек не стоят одного лосося», — ответил он загадочной фразой. Нетрудно было догадаться, что под лососем подразумевается вождь гугенотов и ему должен был предназначаться удар кинжалом. Если допустить, что уже тогда Екатерина решила физически устранить Колиньи, то спрашивается: почему так долго тянула с исполнением задуманного? Более того, как далее увидим, она еще не раз пыталась наладить отношения с ним.
Всё не так уж и плохо
Королевский тур вступил в завершающую стадию. Продолжив путь, двор сделал остановку в Не-раке, пользуясь гостеприимством гугенотки Жанны д’Альбре, жесткая политика которой в отношении католиков давно беспокоила Екатерину. Королева попыталась убедить ее в необходимости более терпимого отношения к исповедующим другую религию, но ее призывы оставались гласом вопиющего в пустыне. Продвигаясь далее по Гаскони, королевский кортеж сталкивался приблизительно с такой же ситуацией, как и на юге: города оказывали ему то радушный, то сдержанный прием, враждебность католиков и гугенотов друг к другу проявлялась то более открыто, то завуалированно, и хорошо еще, что дело не доходило до кровавых эксцессов. Повсюду, где был возможен диалог, Екатерина проводила свою политику умиротворения и терпимости. Где-то она гарантировала свободное отправление кальвинистского культа, а где-то требовала вновь открыть католические храмы, закрытые гугенотами. Кое-где приходилось напоминать губернаторам о необходимости неукоснительного исполнения королевского эдикта.
Прибыв в Коньяк, родной город Франциска I, Екатерина была приятно удивлена радушным приемом, несмотря на то, что значительную часть населения там составляли гугеноты. Праздновали с искренней радостью и в полном согласии. Это было одно из немногих мест во Франции, в которых королевский эдикт о мире и терпимости был правильно понят, надлежащим образом применялся и приносил свои благотворные плоды — мир и процветание. Приятным сюрпризом для Екатерины оказался и прием, оказанный королевскому семейству в Ла-Рошели, цитадели воинствующего кальвинизма. Особых проявлений радости не наблюдалось, однако встречали достойно, с уважением. Карл IX попытался было заступиться за католиков, но не слишком преуспел в этом. Пришлось довольствоваться тем, что во время его пребывания в городе отслужили католическую мессу.
В Анжере, где гугенотов не было, королевское семейство встречали цветами и приветственными речами. Пребывание в Анжу было подобно увеселительной прогулке в компании преданных и дружески настроенных сеньоров. Двор нанес даже визит поэту Ронсару, певцу красоты, молодости и любви, певшему также славу королю, королеве и короне. Ни полемики, ни ненависти, ни кровопролития. Столь же благостная атмосфера царила и в Туре, куда двор прибыл в конце ноября 1565 года. Католики жили в согласии с весьма многочисленными здесь протестантами, хранившими верность королевской власти, в коей видели гаранта гражданского мира.
Покинув Тур, королевский кортеж разделился: часть его во главе с Екатериной направилась в Шенонсо, столь милый ее сердцу замок, другая часть двинулась в Блуа, а третья — в Амбуаз. В декабре все вновь воссоединились в Блуа, откуда переместились в Мулен. Эта старинная резиденция герцогов Бурбонов на три месяца стала столицей Франции. Здесь Екатерина принимала иностранных послов и отсюда направляла своих к иностранным дворам. Однако больше, чем иностранные дела, ее беспокоила обстановка внутри королевства: столкновения отдельных магнатов грозили вновь перерасти в гражданскую войну. Ее тревожила враждебность в отношениях между кланом Монморанси и Гизами, и она задалась целью помирить их. Три года, взятые Карлом IX на размышление для принятия решения по делу Колиньи, обвинявшегося в убийстве герцога Гиза, истекли, и оба семейства ждали королевского приговора. Наконец 29 января 1566 года на заседании королевского совета объявили: Колиньи невиновен.
За эти годы изменилось отношение к нему короля и королевы-матери: он опять вошел в такой фавор, что был выше любых подозрений. Кроме того, протестантские армии, стоявшие за ним и принцем Конде, были слишком сильны, чтобы выступать против них ради удовлетворения требований Гизов. Миротворица Екатерина хотела любой ценой избежать новой гражданской войны и потому поддержала более сильного. Ее благоволение, пусть и временное, к Колиньи было полезно для сохранения в стране мира. Ради публичного примирения она пригласила в Мулен и адмирала, и Гизов. Кардинал Лотарингский и Колиньи, эти смертельные враги, в которых клокотала ненависть и которые готовы были на месте прикончить друг друга, обнялись в присутствии короля, канцлера и нотаблей. Екатерина была уверена, что совершила великое дело ради сохранения гражданского мира; что же касается «примирившихся», то они возненавидели ее за то, что она принудила их к столь унизительному лицедейству.
Многомесячный королевский тур подходил к концу, и под занавес Екатерина решила посетить родовые владения своей матери в Оверни, наследницей которой являлась. 30 апреля 1566 года королевский кортеж прибыл в Сен-Мор, откуда два года и четыре месяца тому назад начиналось грандиозное путешествие, а на следующий день уже Париж встречал короля, королеву-мать и их свиту Эта поездка по стране явилась одним из наиболее значительных политических актов, совершенных Екатериной Медичи. Никто из французских королей не сделал так много для пропаганды монархической власти, как эта итальянка. Лично для себя она не извлекла из этого выгоды, но ее сыновьям, поочередно занимавшим королевский трон, впоследствии это очень пригодилось, в какой-то мере компенсировав дефицит их политического таланта.
Хрупкий мир нарушен
По завершении королевского тура Екатерина недолго оставалась в Париже, утомлявшем ее своей лихорадочной суетой и интригами. Она предпочла перебраться в более спокойный Фонтенбло, где можно было расслабиться после утомительного путешествия. В ту пору она благоволила так называемым «умеренным», группировавшимся вокруг клана Монморанси; «умеренные» враждебно относились к Гизам и терпимо — к кальвинистам. Колиньи стал приближенным советником Карла IX, который не скрывал своего восхищения им и всё больше проникался мыслью о необходимости войны с Филиппом И,о чем ему постоянно твердил адмирал. Если королева-мать полагала, что умиротворила королевство, приблизив ко двору Колиньи и Конде, то вскоре ей пришлось испытать горькое разочарование.
15 августа 1566 года во Фландрии началось восстание против испанского господства. Огромное войско под командованием герцога Альбы двинулось на подавление мятежа, пройдя в непосредственной близости от восточных границ Франции. Колиньи и его сторонники усмотрели в этом отличную возможность для французских протестантов: французы тем охотнее поддержат вождей гугенотов, чем реальнее будет угроза со стороны Испании. Екатерина, мало доверявшая своему заносчивому зятю, срочно провела через королевский совет чрезвычайное решение о наборе шести тысяч швейцарских наемников и десяти тысяч французской пехоты. Колиньи поддержал ее, рассчитывая, что это войско атакует Филиппа II в Нидерландах. К войне с Испанией с присущим ему безрассудством призывал и Конде. Однако Екатерина, лично проинспектировав гарнизоны пограничных крепостей, заняла оборону — и не только в отношении армий герцога Альбы, но и в отношении Колиньи, беспрестанно помышлявшего о вторжении в Нидерланды. Она старалась всеми силами сдерживать натиск как гугенотов, так и воинственно настроенной католической молодежи и даже собственного сына-короля, подстрекаемого Колиньи. Адмирал внушал Карлу IX мысль о необходимости выйти из-под влияния матери и, возглавив армию, стать великим победоносным королем, чего от него и ждут подданные. Простоватый юноша, в душе считавший себя героем масштаба Цезаря, с жадностью внимал его льстивым речам. Колиньи затеял крупную игру, намереваясь в результате войны восторжествовать не только и не столько над испанским королем, сколько над Екатериной, династией Валуа и французскими католиками.
И все же влияние матери на податливого, словно воск, короля оказалось сильнее. Хоть и с трудом, но ей удалось отговорить его от безнадежной, как она справедливо полагала, войны с Испанией. Правда, тут Екатерина угодила прямо из огня да в полымя: сумев уберечь страну от войны с внешним противником, она не спасла ее от внутреннего конфликта — так называемой второй религиозной войны, которую не замедлили развязать гугеноты. Колиньи рвал и метал с досады, видя, что его план вторжения в Нидерланды провалился. Опять эта проклятая флорентийка встала ему поперек дороги! Но это было не единственное огорчение, которое тогда причинила вождям гугенотов Екатерина: вопреки надеждам Конде стать генеральным наместником королевства, она назначила на эту должность своего шестнадцатилетнего сына Генриха. Горбун воспринял это как личное оскорбление и удалился в свои владения в Валлери, дабы обдумать план мщения за пережитое унижение.
Итак, пока Екатерина, одержимая манией миротворчества, лавировала, Колиньи и Конде хладнокровно готовили новую гражданскую войну. Они уже пожалели, что в свое время поддержали намерение королевы-матери рекрутировать швейцарских наемников, оружие которых теперь будет обращено против них самих. Они попытались было исправить свою ошибку, потребовав, чтобы швейцарцев отправили восвояси, но безуспешно. Несмотря на эту помеху, лидеры гугенотов продолжали подготовку к выполнению задуманного, а задумали они ни много ни мало как захват в заложники королевской семьи, которая тогда, в сентябре 1567 года, находилась в замке Монсо. Екатерину предупредили о подозрительных передвижениях вооруженных людей в окрестностях замка, но она поначалу не придала этому значения, пребывая в уверенности, что Колиньи не станет предпринимать что-либо против короля. Столь же спокойно она восприняла и сообщение о том, что видели вооруженных людей в лесу, в котором король собирался охотиться. Когда кто-то из окружения королевы осмелился заикнуться о заговоре, канцлер Лопиталь, благосклонно относившийся к реформатам, строго отчитал его за столь непозволительные обвинения в адрес Колиньи, находящегося, как он уверял, вне всяких подозрений.
Однако сообщения о готовящемся заговоре множились, а когда пришло донесение об этом из Брюсселя от герцога Альбы, у Екатерины словно пелена с глаз спала. На мгновение она оцепенела от осознания того, что ее одурачили. Она была шокирована предательством людей, которым доверяла и от которых теперь исходила страшная угроза, назвав их заговор, вошедший в историю под названием «заварушки в Mo», «подлой затеей». Тем временем стали приходить вести о захватах гугенотами городов. Гражданская война, которой Екатерина изо всех сил старалась не допустить, разразилась, угрожая жизни ее самой и короля. Ее политика, питаемая иллюзиями, терпела крах. Заговор гугенотов она восприняла как личное оскорбление.
Но не в характере Екатерины было сидеть сложа руки. Прежде всего, надо было бежать из замка, в котором невозможно обеспечить надлежащую оборону, и королевский двор сначала переместился в Mo, а затем под надежной охраной швейцарцев — в Париж. Армия протестантов сконцентрировалась в Сен-Дени, намереваясь взять столицу измором. Верная себе, Екатерина и тут предприняла попытку решить дело за столом переговоров, без кровопролития, для чего направила Лопиталя к Конде, дабы узнать его требования. Ее желание восстановить мир было столь велико, что она сразу же предложила мятежникам амнистию. Конде же решил выказать себя народным освободителем, добавив к требованию неограниченной свободы отправления кальвинистского культа по всему королевству безусловно популярное требование снижения налогов, — ведь страна не находится в состоянии войны, цинично заметил он, словно забыв, как называется то, что затеяли они с Колиньи. Далее, он потребовал созыва Генеральных штатов и удаления из правительства всех итальянцев, начиная, видимо, с самой королевы-матери. Продолжая в том же духе, этот «добрый патриот» заявил притязания на Гавр и Кале, через которые могла бы поступать гугенотам помощь из Англии и которые при случае можно было бы отдать англичанам в обмен на финансовую помощь.
Понятно, что Екатерина не согласилась на эти требования. Однако она продолжила переговоры, желая выиграть время, необходимое для формирования армии, способной смирить мятежников. Сознавая, сколь велика угроза, исходящая от заговорщиков, она скрепя сердце обратилась за поддержкой к Филиппу II и получила ее в виде двух тысяч всадников. Ожидалась также финансовая помощь из Италии.
Пока Конде препирался с представителями Екатерины, Карл IX занимался сбором верных ему войск, обратившись с соответствующим воззванием к католическому дворянству. До сих пор он довольно равнодушно относился к борьбе религиозных группировок, однако «подлая затея» гугенотов открыла ему глаза, и если не религиозное рвение правоверного католика, то во всяком случае оскорбленное королевское достоинство не позволяло ему оставить безнаказанными действия врагов законной власти. Помогая матери выиграть драгоценное время, он прибегнул к старинному обычаю королевского предупреждения, направив герольда к Колиньи и Конде с требованием явиться безоружными к нему, в противном случае рискуя быть объявленными мятежниками. Они и без того были мятежниками и гордились этим, но время работало против них. Вскоре в распоряжении короля была достаточно сильная армия. Если бы гугеноты своевременно получили подкрепление из Германии, они были бы непобедимы, но герцог Гиз задержал германских наемников в Шампани, а Монлюк в Гиени помешал гасконским гугенотам подтянуться к Парижу.
Перевес сил был на стороне короля, и 10 ноября 1567 года королевская армия под командованием престарелого коннетабля Монморанси двинулась в направлении Сен-Дени. Поначалу Конде сумел было дать ей решительный отпор, но в конечном результате сражение, продолжавшееся до глубокой ночи, закончилось победой роялистов, заплативших за свой успех жизнью коннетабля: Монморанси, несмотря на преклонный возраст сражавшийся точно безрассудный юнец, погиб в бою. Однако победа королевских сил не была ни полной, ни окончательной. Гугеноты, вынужденные отойти от Сен-Дени, позднее соединились с германскими рейтарами и гасконцами и вновь стали представлять собой угрозу для противника. В сложившейся ситуации, когда королевская армия лишилась своего главного полководца, Екатерина не видела иного выхода, кроме как предпочесть путь переговоров продолжению вооруженного конфликта.
Уверяя Филиппа II в своей решимости вести войну до победного конца, на деле она намеревалась добиться заключения мирного соглашения, чего бы это ей ни стоило. С этой мыслью она и отправилась в январе 1568 года в Шал он для личной встречи с братом Колиньи кардиналом Оде Шатийоном, отлученным от церкви. Общение с закоренелым еретиком, которого папский нунций требовал арестовать, не прибавило ей популярности среди католиков, но как-то надо было устанавливать контакты для согласования условий мирного договора. Вновь воспрянувший духом Конде ужесточил свои требования. Екатерина, чрезмерно доверяясь собственному дипломатическому таланту, недооценивала значение сильной армии для достижения приемлемых условий соглашения, тогда как ее партнеры по переговорам предъявляли свои требования с позиций силы.
Как следствие, мир, подписанный в Лонжюмо 22 марта 1568 года, был крайне невыгоден для королевской власти, что не мешало гугенотам, как обычно, изображать из себя обиженных. Мало того что мятежники сохранили всё, чего ранее добились, включая и предоставленные в их распоряжение крепости, не понеся при этом ни малейшей ответственности за мятеж против законной власти, так еще они, словно в насмешку, вынудили короля выплатить жалованье германским наемникам, которых позвали, чтобы воевать против него. При этом Конде и Колиньи снизошли до того, чтобы позволить французскому королю сохранить свою армию. Однако по крайней мере в одном, но очень важном отношении гугеноты проиграли: попытка посягательства на короля и его мать разоблачила их в общественном мнении страны, подавляющее большинство населения которой составляли католики-роялисты. Отныне они считались авантюристами, не уважающими ни закон, ни священную личность короля и помышляющими лишь о власти и богатстве.
Екатерина меняет тактику
«Подлая затея» гугенотов вынудила королеву-мать коренным образом изменить свое отношение к ним. Прежде всего она опасалась силовых действий со стороны Филиппа II в ответ на помощь, оказываемую французскими кальвинистами восставшим Нидерландам. А потому Екатерина приказала задержать французов, отправившихся во Фландрию воевать против Испании, и сослать их на галеры. В дальнейшем ее политика в отношении гугенотов будет только ужесточаться. Ставший уже традиционным финансовый дефицит вынуждал Екатерину проявлять чудеса изворотливости. Городские власти Парижа, ранее предоставившие деньги на борьбу с гугенотами, были разочарованы примиренческой, как они считали, линией королевы в отношении еретиков и отказали ей в новой субсидии. Однако надо было как можно скорее расплатиться с германскими наемниками и выпроводить их из страны, дабы лишить Конде и Колиньи возможности воспользоваться их услугами. Эту проблему удалось решить, прибегнув к добровольно-принудительному заимствованию у церкви. Правда, наемники, и без того сверх меры обремененные добычей, сочли размер полученной выплаты недостаточным и еще на какое-то время задержались в Шампани, продолжая заниматься грабежами. Конде, спасаясь как от бывших союзников, так и от репрессий со стороны властей, окопался в своем имении Нуайе, превратив его в крепость. И не напрасно, поскольку Екатерина приказала маршалу Таванну доставить его ко двору живым или мертвым. Колиньи тоже поспешил укрепить рвом и валом свой замок Шатийон. Возвращались времена начального феодализма.
Обстановка была до того неспокойной, что и королевское семейство предпочло укрыться в одном из загородных замков под надежной охраной шести тысяч швейцарцев. Пережитые волнения подорвали здоровье и Карла IX, и его матери. В августе тяжело заболел король, наследственный туберкулез которого стремительно прогрессировал. А когда лихорадка немного отпустила его, слегла Екатерина, да так, что опасались за ее жизнь. Больше всех страшился лишиться матери Карл IX, понимавший, что без нее ему будет нелегко удержать королевство. К счастью, Екатерина встала на ноги и незамедлительно принялась укреплять королевскую армию, с большим трудом добывая необходимые для этого средства. Нужда в деньгах была такой, что она заложила собственные драгоценности. К ее огорчению, попытка обезглавить армию гугенотов, арестовав Конде и Колиньи, провалилась. Разведчики принца своевременно засекли передвижение королевских войск и оповестили его, после чего Конде со своими чадами и домочадцами, багажом и военным эскортом незамедлительно отправился в неприступную гугенотскую твердыню — Лa-Рошель, подбирая по пути всех желавших примкнуть к нему. Присоединился и Колиньи, в письме к Екатерине описавший этот исход как бегство из египетского плена в Землю обетованную. В своем ответном послании королева-мать напомнила ему, что среди бедного еврейского народа, бежавшего от фараона, не было принцев, адмиралов и кардиналов, обладавших огромными богатствами и крепостями, они не владели оружием и не опустошали Египет с намерением захватить фараона и его страну.
Разнообразны были источники, из которых Екатерина черпала силы, чтобы жить и бороться в едва ли не самый тяжелый период французской истории. Как мы помним, во время большого королевского турне в Каркасоне, заваленном снегом, она коротала часы за чтением, в том числе и одного интересного манускрипта, найденного там же. Это было повествование о регентстве Бланш Кастильской в годы малолетства ее сына, короля Людовика IX Святого. В 1226 году в Лангедоке знать с оружием в руках восстала против нее, объединившись с еретиками-альбигойцами и, подобно Конде и Колиньи, призвав на помощь иностранцев, в частности короля Арагона. Тулуза пала, и Бланш была вынуждена заключить с мятежниками мир. Она проиграла, но подготовила условия для будущего реванша своего сына, и Людовик в конце концов вышел из борьбы победителем. Екатерина Медичи впоследствии не раз перечитывала этот манускрипт, проводя аналогию между собой и Бланш Кастильской. Она усматривала в этом благое пророчество о будущем Франции и ее детей, веря в непременный триумф своего сына-короля.
Под натиском обстоятельств Екатерина была вынуждена изменить свою политику, отказавшись от уступок, проволочек и прочих дипломатических уловок. В Лонжюмо она уступила, но дальше отступать было нельзя. Гугеноты собирались с силами и ждали подкрепления из-за границы. Колиньи, рассчитывая на помощь Елизаветы Английской, требовал от короля новых уступок, так что выведенный из себя Карл IX воскликнул: «Сегодня они хотят быть равными нам, завтра вознамерятся господствовать над нами, а потом и вовсе вздумают изгнать нас из королевства!» Еще долго он не мог успокоиться, в сердцах повторяя: «Прав был герцог Альба! Эти головы слишком упрямы». Слушая сына, Екатерина старалась успокоить его, как могла, но в глубине души разделяла его мнение. Она уже подготовила заявление, под которым королю оставалось лишь поставить подпись. В этом документе Карл IX выражал свое сожаление по поводу сделанных ранее уступок гугенотам, что ничуть не помогло умиротворить страну, напротив, реформаты упрямо продолжали раздувать смуту. Он требовал, чтобы гугеноты незамедлительно передали под королевскую юрисдикцию все занятые ими крепости. Далее, все кальвинистские проповедники должны были в течение двух недель покинуть пределы Французского королевства. Все религиозные культы, кроме католического, запрещались под страхом конфискации имущества. Государственные чиновники, исповедовавшие кальвинизм, лишались своих должностей — даже канцлер Мишель Лопи-таль вынужден был подать в отставку. В порядке акта милосердия объявлялась амнистия всем гугенотам, которые в течение семи дней сложат оружие.
Время уступок и терпимости прошло, гугенотам объявлялась война до победного конца. А те и не нуждались в ее объявлении. Используя Ла-Рошель как опорную базу, они захватили Ангулем, где устроили резню священников, женщин и детей. Та же участь постигла обитателей Понса, Орильяка и Буржа. Ла-рошельские корсары захватили семь португальских судов, перевозивших миссионеров в Бразилию, и утопили в море всех пассажиров. Колиньи самолично проводил «чистку» аббатств: потехи ради, дабы повеселить свою солдатню, он заставлял монахов вешать друг друга, после чего монастыри подвергались разграблению и сожжению. Бесчинства гугенотов еще больше усилили ненависть к ним католиков, утверждавших, что приверженцы новой религии во имя Небес устроили ад на земле.
Войну против еретиков возглавил не сам Карл IX (королю, внушала ему Екатерина, не подобает воевать с собственным народом), а его брат Генрих. Когда он в сентябре 1568 года повел королевское войско в Пуату, где концентрировались основные силы гугенотов, рядом с ним были его мать, кардиналы Бурбон и Гиз, а главное — маршал Таванн, военному гению которого роялисты и были обязаны своими успехами.
19 октября, когда Екатерина по возвращении в Париж проводила совещание, в зал заседаний вошел Карл IX, чтобы сообщить матери страшную новость: ее обожаемая дочь Елизавета, королева Испании, умерла. Весь двор еще накануне знал об этом, но никто не решался открыть правду королеве-матери. Все знали, что для нее, недавно пережившей тяжелую болезнь и обремененной государственными заботами, весть о кончине дочери послужит страшным ударом. Эту неприятную обязанность пришлось взять на себя самому королю. Екатерине, «Черной королеве», постоянно облаченной в траур, с колыбели познавшей холодное прикосновение смерти, казалось, было не привыкать к ее посещениям, однако известие о кончине дочери, которую она, несмотря ни на что, любила и при расставании с которой пролила искренние слезы, потрясло ее. Она молча покинула безмолвных и неподвижных, точно окаменевших, советников. Однако спустя час возвратилась в зал заседаний и в полном самообладании заняла свое место. Дело прежде всего. Живым — жить, а мертвым — вечная память. 24 октября в Нотр-Дам-де-Пари отслужили заупокойную мессу по Елизавете, королеве Испанской.
Филипп II в третий раз овдовел, и Екатерина, постоянно озабоченная матримониальными планами относительно своих детей, решила, что место покойной должна занять ее младшая сестра Маргарита. Однако при мадридском дворе и слышать не хотели о повторном династическом браке короля с представительницей Франции. Екатерине и самой следовало бы понять, что ее недостаточно жесткая (по крайней мере, до сих пор) политика в отношении протестантов и общая ситуация во Французском королевстве отнюдь не побуждают Филиппа II к повторению пройденного. Единственное, что он готов был бы сделать для Франции — направить в страну армию и инквизицию для окончательного искоренения ереси. Однако такого «сотрудничества» Екатерина желала не больше, чем войны с гугенотами.
Грязная война
Между тем война, все больше набиравшая обороты, определенно выходила за рамки очередного столкновения религиозных группировок — решалась судьба католицизма и монархии во Франции, что, в свою очередь, не могло остаться без последствий для всей системы европейских международных отношений. В этой ситуации основное бремя ответственности ложилось на Екатерину Медичи, и она делала все возможное: добывала деньги, вела переговоры и даже лично инспектировала войска. Тем, как ей удавалось организовать снабжение армии, она заслужила признательность еще в бытность обожаемого супруга Генриха II. В конце зимы 1569 года Екатерина прибыла в Мец, где ее ждали два важных дела. Во-первых, она хотела лично убедиться, что все германские наемники покинули пределы Шампани, а во-вторых, и в разгар войны не переставая быть свахой, намеревалась встретиться с герцогиней Лотарингской, дабы получить от нее окончательный ответ императора Максимилиана II относительно брака Карла IX с его дочерью. По характеру своему будучи неспособной просто сидеть и ждать сложа руки, она до прибытия герцогини инспектировала фортификационные сооружения Меца и посещала госпитали. Во время одного из таких визитов она, видимо, и подхватила какую-то болезнь, из-за которой больше месяца балансировала между жизнью и смертью. Карл IX, не знавший, что делать без советов и указаний матери, все это время не отходил от ее изголовья.
Между тем армии Генриха Анжуйского и Конде начали очередную военную кампанию. 12 марта близ Жарнака роялисты атаковали войско гугенотов, которым командовал Колиньи. Завязалось сражение, в ходе которого адмирал, засомневавшись в собственных силах, обратился за помощью к Конде, и тот, со сломанной ногой взгромоздившись на коня, устремился в гущу сражавшихся. Своей героической атакой он спас войско гугенотов от полного разгрома, заплатив за это самую высокую цену: конь под ним был убит, а его самого, лежащего на земле, прикончили выстрелом в упор из пищали. Хотя победа в тот день досталась армии Генриха Анжуйского, Колиньи сумел, не допустив панического бегства, организованно отвести значительную часть своей армии и артиллерию в Коньяк. Запершись здесь, он преградил роялистам путь к Ла-Рошели.
Хотя битва при Жарнаке и не принесла католикам решающей победы, она показала, что реорганизованная королевская армия может успешно противостоять лучше подготовленному и более дисциплинированному войску гугенотов. Что же до любимейшего сына Екатерины, Генриха Анжуйского, то Жарнак стал его звездным часом и принес ему славу талантливого полководца. При этом в шуме ликования одних и воплях проклятий других (гугеноты никак не ожидали потерпеть поражение от противника, о котором были не слишком высокого мнения) была утоплена простая истина, состоявшая в том, что подлинным творцом победы при Жарнаке был маршал Таванн, командовавший королевским войском. А тот благодушно взирал на то, как поют славу юному принцу, не проявляя при этом ни малейшего огорчения и обиды.
В эти драматические и поистине судьбоносные дни Екатерина, терзаемая жесточайшей лихорадкой, пребывала в бессознательном состоянии и бреду. Современники, любившие разбавить чудом даже самую прозаическую реальность, сочинили невероятную историю о том, что Екатерина как раз в те часы, когда жизнь ее висела на волоске, вдруг обрела дар провидицы, узнав о событиях при Жарнаке еще до того, как прилетела благая весть о них. Когда же в минуту просветления ее вздумали порадовать приятным сообщением, она с некоторой даже обидой в голосе заявила, что сама знает о славной победе Генриха.
Сознавая, кто является главным виновником их неудач, гугеноты обрушили на Екатерину поток грязной клеветы. Среди появившихся тогда пасквилей на королеву-мать особенно выделялись своей разнузданностью «Дивные рассказы о жизни, деяниях и распутстве королевы Екатерины Медичи», в которых она представала воистину исчадием ада, ни перед чем не останавливающимся и способным на всё — на самые изощренные убийства, оргии и неслыханную расточительность (праздники, которыми королева любила порадовать своих подданных, гугеноты истолковали по-своему). Самым бесстыдным образом извращая факты, пасквилянты утверждали, что в Меце Екатерина не болела, а восстанавливала свои силы после родов, разрешившись от бремени ребенком, которого зачала от кардинала Лотарингского (это в пятьдесят-то лет!). И вообще она после смерти супруга будто бы произвела на свет семерых внебрачных детей!
На клевету, приписывавшую ей самые изощренные преступления, Екатерина никогда не отвечала, считая подобную полемику ниже собственного достоинства и предпочитая противопоставлять пустым словам весомые дела. И на этот раз, оправившись после болезни, она с головой ушла в работу. Детально разобравшись в сложившейся ситуации, она поняла, что ее радость по поводу победы была несколько преждевременной. Колиньи вновь сумел собрать боеспособную армию и опять угрожал целостности Французского королевства. Надо было что-то предпринимать, и Екатерина первым делом распорядилась конфисковать все имения адмирала и других вождей гугенотов. Против самого Колиньи был начат судебный процесс, в результате которого его признали виновным в оскорблении королевского величества, так что его имущество подлежало распродаже, а сам он — казни через повешение на Гревской площади в Париже. Поскольку обвиняемый находился вне пределов досягаемости королевской юстиции, пока что ограничились повешением его чучела. За поимку адмирала была назначена награда в 50 тысяч экю.
Однако всё это не произвело впечатления на Колиньи, продолжавшего орудовать в Пуату, захватывая города и опустошая деревни. У стен Пуатье, обороной которого руководил юный герцог Генрих Гиз, сын Франсуа Гиза, подло убитого по приказу адмирала, столкнулись лицом к лицу противники, достойные друг друга. Пока что Генрих довольствовался тем, что сорвал планы Колиньи по захвату этого стратегически важного города, но не далек уже был день, когда он окончательно сведет счеты со своим кровным врагом... Далее события разворачивались еще более благоприятно для роялистов. Когда Колиньи повел свое воинство на соединение с армией Монтгомери, герцог Анжуйский, следуя подсказке маршала Таванна, встал на его пути близ Монконту-ра, где 24 сентября 1569 года произошло сражение. В соответствии со стратегическим планом Таванна Генрих внезапно и стремительно атаковал противника, и войска Колиньи, дав поначалу решительный отпор нападавшим, потом дрогнули и обратились в бегство. Адмирал покинул поле боя, бросив на произвол судьбы своих германских наемников, которые были истреблены швейцарцами короля. Победа роялистов при Мон контуре оказалась еще более значительной, чем при Жарнаке. Как и тогда, лавры победителя достались одному Генриху Анжуйскому, оставившему в тени своей славы доблестного маршала.
Итак, королевская армия в очередной раз показала свое превосходство над противником, а герцог Анжуйский прослыл военным гением не только во Франции, но и за ее пределами. Карл IX буквально клокотал от ярости из-за собственной непричастности к столь славным подвигам. Снедаемый ревнивой завистью к военной славе брата, он отправился в армию, намереваясь отбить занятые протестантами города в Ангумуа, но Таванна при нем не было, и его успехи оказались более чем скромными. Екатерина же решила, что пришло время для переговоров, и в феврале 1570 года предложила Колиньи мир, условия которого на сей раз продиктовала с позиций силы. Впрочем, она готова была сделать и некоторые уступки, но Колиньи ответил на это по-своему, возобновив военные действия в Лангедоке. Продвигаясь вверх по течению Роны и не встречая какого-либо сопротивления, он срывал злость на беззащитном населении. Кровавые расправы, чинившиеся тогда его солдатней, стали одним из самых отвратительных эпизодов религиозных войн. Укрепив собственную позицию подобными «подвигами», он ужесточил свои требования, добиваясь полной свободы отправления кальвинистского культа по всему королевству, возврата конфискованного имущества гугенотов и вдобавок ко всему — передачи ему Кале и Бордо. Когда посланник Колиньи, его зять Телиньи, передал эти требования Карлу IX, тот вне себя от ярости кинулся на него с кинжалом в руке и, если бы не перехватили его руку, устроил бы ему Варфоломеевскую ночь намного раньше известного срока.
Екатерина, сознавая, что мир заключать так или иначе придется, направила Колиньи новые предложения, соглашаясь оставить в распоряжении гугенотов Ла-Рошель, Монтобан и Сансер. Но тот по-прежнему был полон непреклонной решимости продолжать войну, сводившуюся с его стороны главным образом к истреблению огнем и мечом деревень и церквей вместе с их обитателями и прихожанами, к пыткам и мучительным казням монахов и монахинь. При этом он все же умудрился захватить Ла-Шарите на Луаре, угрожая добраться до Парижа. Но мира не хотели также Гизы и маршал Таванн. Окрыленные успехом при Монконтуре, они намерены были вести войну до полного истребления армии Колиньи в открытом бою, однако такой возможности им более не представлялось. Роялисты вынуждены были тратить бесценное время и силы на осады упорно защищавшихся городов, дав тем самым адмиралу возможность спасти свою армию. Преимущества, дарованные победой при Монконтуре, постепенно растаяли, не принеся желаемого результата.
Альтернативы заключению мира не было, и в конце июля 1570 года в Сен-Жермен прибыл в качестве представителя Колиньи все тот же Телиньи. Переговоры оказались недолгими, и уже 8 августа был подписан так называемый Сен-Жерменский мир или Мир королевы, который следует признать серьезным успехом протестантов. Соответствующий эдикт расширял права гугенотов, некогда предоставленные им Амбуазским эдиктом, позволив участвовать в богослужении и недворянам — в предместьях двух городов каждой провинции, но не ближе двух лье от королевских резиденций и десяти лье от Парижа. Гугеноты получали в свое распоряжение четыре крепости: Лa-Рошель, Коньяк, Монтобан и Ла-Шари-те-сюр-Луар. Важным новшеством явилось то, что реформатам предоставлялось право поступать в университеты. И еще два приятных для гугенотов пункта: им объявлялась полная амнистия за участие в мятежной войне против короля (виселицу с чучелом Колиньи срочно убрали с парижской площади) и возвращалось конфискованное имущество, равно как должности и церковные бенефиции. Однако, учитывая, что гугеноты всегда были недовольны любым компромиссным соглашением с католиками, а короля с королевой-матерью обстоятельства вынудили пойти на унизительные уступки еретикам, очередная война была не за горами.
Дела семейные и политика
В стране воцарился мир, и Екатерина могла заняться своим любимым делом — устроением семейного счастья собственных детей. В ее голове роилось множество планов, в том числе и заведомо фантастических, таких, например, как намерение женить сначала одного, а потом и другого своего младшего сына на королеве Англии, даром что та была на 20 лет старше их. Елизавета даже подыгрывала ей в этой комедии, возможно, преследуя свои политические цели. Этот проект века так и остался нереализованным, зато другой, более приземленный династический брак осуществился. 23 ноября 1570 года в Мезьер прибыла эрцгерцогиня Елизавета Австрийская, дабы, как договорилась Екатерина Медичи с императором Максимилианом II, стать женой Карла IX. Маленький пограничный город на несколько дней стал местом ослепительных празднеств. Екатерина не поскупилась, чтобы устроить достойную встречу будущей королеве Франции. Карл IX, прибывший в Мезьер заранее, инкогнито наблюдал со стороны за торжественным въездом в город своей невесты. Она ему определенно понравилась — портрет, по которому он знал эрцгерцогиню, не обманывал. 26 ноября в местном соборе, никогда еще не видавшем в своих стенах столь блестящего общества, состоялось венчание. По этому случаю Екатерина впервые за годы своего вдовства на время сменила черный траурный убор на золотое парчовое платье, украшенное жемчугами и бриллиантами.
История повторялась: подобно тому как в свое время Екатерина с первого взгляда влюбилась в Генриха, Елизавета сразу же полюбила супруга. В этом не было бы ничего примечательного, если бы не повторилось и «супружество втроем»: у Карла IX уже была метресса, Мария Туше, которую он любил не меньше, чем Генрих Диану Пуатье, и которая родила ему сына, по злой иронии судьбы оказавшегося единственным мужским потомком сыновей Екатерины Медичи. Будучи бастардом, он не имел права на престол, и династия Валуа пресеклась при живом и вполне дееспособном ее представителе. Впервые увидев молодую королеву, Мария будто бы сказала: «Немка не внушает мне опасений». Впрочем, и сама метресса не внушала опасений «немке»: она не обладала амбициями Дианы Пуатье и не пыталась делать политику, хотя и имела некоторое влияние на царственного любовника.
Екатерина, наблюдая за невесткой, понимала, что та, воспитанная в строгих правилах дома Габсбургов, обескуражена нравами, царившими при французском дворе, и старалась всячески опекать ее, поддерживая ее добрыми советами и ласковым словом.
Карл IX был учтив с супругой, хотя и не часто баловал ее своим обществом. Дни он проводил на охоте, предоставив матери заниматься государственными делами, а ночи делил с Марией Туше. Елизавета, казавшаяся подлинной монашенкой при этом распутном дворе, находила утешение в молитвах, по два раза в день присутствуя на мессе.
Устроив личную жизнь сына, королева-мать старалась оградить его от вредных политических влияний, памятуя о том, как он однажды уже попадал под обаяние Колиньи, и зная, что в нем порой пробуждаются политические амбиции, подогреваемые завистью к чужим успехам. И теперь, вскоре после свадебных торжеств, она стала замечать в поведении сына некое непокорство, хотя публично он продолжал уверять в своей готовности следовать ее руководящим указаниям. Она уже не раз замечала, что сын оставляет без внимания те или иные ее предложения и словно бы тяготится ее обществом. Открыто не возражая против проводимой матерью политики умиротворения, он подспудно противился ей. Екатерина, питавшая отвращение к войне, старалась находить взаимопонимание и с Филиппом II, и с протестантами, а Карл IX, мечтавший о личной славе, считал войну наиболее верным средством заслужить репутацию великого правителя и освободиться, наконец, от тягостной материнской опеки.
В желавших направить короля на этот путь недостатка не было. Как «приятно» было бы Екатерине узнать, что исподтишка, втайне от нее, подстрекательством занимается великий герцог Тосканский Козимо Медичи, обидевшийся на императора за то, что тот отказался признать титул великого герцога наследственным, и искавший теперь «управу» на обоих Габсбургов — австрийского и испанского. Сам папа, зажатый, словно в тисках, в дружеских объятиях Филиппа II и Максимилиана II, будто бы обещал ему поддержку, и ободренный этим герцог искал союза с протестантами Германии и Франции. С этой целью он направил в Лa-Рошель своего представителя, дабы представить Колиньи проект войны против Испании и Австрии. Гугеноты, всегда считавшие войну против Габсбургов благим делом, с интересом выслушали его, заметив при этом, что в предстоящей борьбе хотели бы заручиться поддержкой более внушительного союзника, нежели великий герцог Тосканский. Тогда-то итальянец и отправился в Париж, дабы предложить Карлу IX смехотворный союз с Тосканой против двух мировых держав — Испании и Священной Римской империи. Подобным предложением Франции оказывалась сомнительная честь сокрушить их — или скорее самой быть стертой в порошок.
Гугенотов, только и мечтавших о том, как бы ослабить позиции Филиппа II в Нидерландах, похоже, ничуть не смущала подобная альтернатива. Надо было убедить Карла IX, и тосканский представитель начал доказывать ему, что Испания, ослабленная восстанием морисков в Андалузии, постоянными нападениями турецкого флота и французских корсаров и войной во Фландрии, не представляет из себя серьезного противника, и когда Филипп II будет сокрушен, король Франции станет самым могущественным государем Европы. От подобной перспективы у Карла IX захватывало дух и кружилась голова, и он, не ставя в известность мать, принял заманчивое предложение. Однако эти закулисные интриги не остались тайной для Екатерины. Конечно же она обо всем узнала и, полная решимости не допустить исполнения абсурдного проекта, решила поиграть с заговорщиками в их игру, имея в виду собственные планы — матримониальные.
К тому времени ее замысел выдать дочь Маргариту замуж за Генриха Наваррского вступил в фазу практического воплощения. Этот брачный союз одобряли и гугеноты, рассчитывая благодаря ему внедрить своего человека в стан противника. Екатерина же, как всегда одержимая стремлением к миротворчеству, надеялась, что брак принцессы-католички с гугенотом — королем Наваррским укрепит хрупкий гражданский мир в королевстве. Желания жениха и невесты при этом, разумеется, никто не спрашивал. Еще не бывало, чтобы правоверная католичка вступала в брак с еретиком-гугенотом, поэтому требовалось специальное разрешение папы римского. Его-то Екатерина и собиралась получить, уверяя понтифика, что поддерживает его намерение вести войну против Габсбургов, чего в действительности и не думала делать. Пользуясь случаем, она попросила папу отнестись с пониманием и к другому ее проекту — возвратить ко двору адмирала Колиньи, не усматривая признаков ослабления католической веры в этом ее очередном реверансе в сторону протестантов. Это необходимо, поясняла она, чтобы консолидировать все силы Франции в преддверии войны против Филиппа II, как того желает святой отец.
В действительности это были всего лишь красивые слова и пустые обещания. Екатерина не имела ни малейшего желания вести войну против Испании ради кого бы то ни было. Ей надо было выдать свою дочь замуж за Генриха Наваррского, первого принца крови и первого по рангу среди протестантов, а также привлечь ко двору самого авторитетного среди них человека — Колиньи: только так, полагала она, в королевстве может воцариться мир. Но возможно ли, чтобы гугеноты, которым в равной мере хотелось и воевать против Испании, и женить Генриха Наваррского на принцессе Валуа, поддержали ее миротворческие усилия? Для Екатерины не было ничего заведомо невозможного — надо лишь вести переговоры.
12 сентября 1571 года Колиньи прибыл ко двору. Он сделал это не без колебаний, откровенно признаваясь приближенным, что опасается за свою жизнь. И действительно, у него было гораздо больше оснований не доверять Екатерине, нежели полагаться на ее слово. Но поскольку выгода от возможности оказывать влияние на короля была слишком велика, он все же отправился в Блуа, где тогда находился двор. С ним-то королева-мать и собиралась договариваться, дабы сделать его гарантом мира в королевстве, однако никогда еще переговоры не заканчивались столь плачевным образом, как в тот раз. Да и могло ли быть иначе, если Екатерина сознательно затевала с Колиньи собственную игру, а он делал вид, что верит притворному радушию своей давней противницы? При встрече они обнялись, точно брат и сестра, и Екатерина приветствовала его словами: «Мы слишком давно знакомы, чтобы обманывать друг друга», на что он с полным основанием мог бы возразить: «Мы всегда только и делали, что обманывали друг друга, так что нам остается лишь продолжать». Таков был характер взаимоотношений этих двух пройдох.
Возвращение Колиньи ко двору было щедро оплачено: он получил бблыиую часть церковных бенефиций своего брата-кардинала, 100 тысяч ливров на обустройство своего замка и место в королевском совете. Екатерина не скупилась, авансом оплачивая мир, содействия в установлении которого ждала от адмирала. Дабы заверить его в искренности своих намерений, она распорядилась казнить католиков Руана, уличенных в насилии над протестантами Нормандии. Создавалось впечатление, что Колиньи со своими сторонниками занял при дворе более привилегированное положение, чем ревностные католики Гизы.
Правда, при этом не обошлось без трагикомического происшествия. Когда адмирала Колиньи представляли молодой королеве Елизавете, она, по натуре своей не склонная ломать комедию, в ужасе отпрянула, увидев, что тот, став на колено, собирается поцеловать ее руку. Для нее, искренне верующей и чистосердечной католички, одно только соприкосновение с еретиком было равнозначно преступлению против религии. Она не могла понять, как можно с почестями принимать такого человека при дворе «христианнейшего» короля. Далекая от политических игр, Елизавета едва не спровоцировала скандал, грозивший сорвать реализацию изощренного плана Екатерины. С тех пор целомудренную королеву больше не искушали общением с еретиками.
В то самое время, когда во Франции разворачивались описываемые события, стал вакантным королевский трон Польши. Поскольку польская монархия не была наследственной, очередного короля избирали, и Екатерина загорелась желанием посадить на польский престол своего любимого сына Генриха, раз уж не удалось женить его на английской королеве. Дело это было непростое, долгое, а главное — дорогостоящее, поскольку надо было «подмазать» если не всех, то, по крайней мере, наиболее влиятельных лиц, от которых зависело принятие решения. Но, как мы помним, для Екатерины не было ничего невозможного, и она с энтузиазмом принялась задело, отправив в Польшу Монлюка, епископа Валансского, своего лучшего дипломата, дабы он подготовил почву для посева, от которого ждали обильных всходов. В мечтах своих Екатерина уже видела любимого сына королем Польши, несущим свет цивилизации восточным варварам, «сарматам». Скоро узнаем, чем завершилась эта ее очередная затея.
Одновременно она с головой ушла в решение первоочередной задачи — устроение брака Маргариты с Генрихом Наваррским. Сделать это было непросто, учитывая, что против выступали папа, король Испании и практически все французские католики, за исключением разве что кардинала Бурбона, дяди жениха: пусть Генрих и еретик, но интересы семьи были важнее прочих соображений. Не было у Екатерины достаточной поддержки и со стороны протестантов. Прежде всего, ей недоставало согласия со стороны матери жениха, Жанны д’Альбре. Суровая гугенотка, гораздо более непримиримая, чем Колиньи, она наотрез отказывалась появиться при дворе, опасаясь, вопреки всем заверениям Екатерины, за свою жизнь. Впрочем, опасаться ей следовало не яда или кинжала наемного убийцы, а трудного переезда по разбитым дорогам, губительного для ее слабого здоровья. В свои 43 года королева Наваррская была крепка более духом, нежели телом. Ее туберкулез вступал в финальную стадию, оставив ей считаные месяцы жизни. В конце концов она согласилась прибыть ко двору, отправившись в путь в огромном утепленном и обогреваемом печкой фургоне, который тащила восьмерка лошадей.
15 февраля Жанна д’Альбре прибыла в Шенон-со, полная решимости ни в чем не уступать уже поджидавшей ее Екатерине. И точно, всё медоточивое красноречие королевы-матери производило на собеседницу не больше впечатления, чем на мраморную статую. Убедившись, что сейчас ничего не добьется, Екатерина решила сменить обстановку, перенеся переговоры в другую резиденцию, и королевы переехали в Блуа, где их встречал двор в полном составе. В ходе продолжившихся переговоров Жанна д’Альбре не утруждала себя пустыми речами, сразу же выдвинув два главных возражения против намеченного бракосочетания. Во-первых, какую религию будут исповедовать жених и невеста? И во-вторых, в каком храме, католическом или кальвинистском, состоится венчание? Весьма примечательно, что среди советников Жанны были не только кальвинистские пасторы, но и английский посол. Интерес, проявленный английским двором к бракосочетанию французских принца и принцессы, наглядно показывает, сколь сильно зависели гугеноты от мнения Елизаветы Английской.
Переговоры, больше походившие на перетягивание каната, затянулись, но в конце концов 12 апреля 1572 года Жанна д’Альбре, которую потрудился уговорить Колиньи, скрепя сердце подписала брачный контракт. Она опасалась, как бы ее сын не пошел по стопам своего отца, Антуана Бурбона, подпавшего под обаяние распутного французского двора и отрекшегося от учения Кальвина, вновь обратившись к папизму. Ее опасения были не напрасны. Генрих Наваррский и в самом деле пойдет по стопам отца, но зайдет по этому пути гораздо дальше его. Но, к счастью для матери, ей не доведется увидеть этого.
Колиньи бросает вызов
Видя, в каком невероятном фаворе пребывает Колиньи, Гизы отказывались появляться при дворе. Король отныне всецело находился под влиянием гугенотов. Екатерина с тревогой смотрела на этот перекос в соотношении политических сил. А ведь еще незадолго до этого она радовалась, сплотив вокруг Карла IX, как думалось ей, всю Францию! Не имело значения, что при этом одни слушали мессу, а другие — проповедь пастора: все они были в ее глазах добрыми подданными.
Теперь вся власть оказалась в руках Колиньи, помыкавшего, как ему вздумается, королем и занявшего положение принца крови. Он в любое время, когда считал нужным, заходил в королевские апартаменты, держал себя высокомерно и вызывающе с католиками, любого из них, если тот не нравился ему, мог прогнать с глаз долой. Пользуясь своим неограниченным влиянием на Карла IX, он, вопреки воле королевы-матери, втянул его в войну, внушив ему, что сейчас самое время начать наступление в Нидерландах, и король, даже не уведомив свою мать, направил туда армию французских протестантов. Этот поход закончился печально: испанцы разгромили гугенотов. Провал политики Колиньи был очевиден.
Екатерина, одной из последних узнавшая об этой авантюре вождя гугенотов, была потрясена. Особенно тяжелым ударом для нее явилось то, что роковое решение принималось с согласия ее сына. Она потребовала от Карла объяснений, в результате чего открылась еще более неприглядная правда: оказывается, этот несчастный отдавал подписанные его рукой приказы гугенотам. Таким образом, их авантюра выглядела как наступление королевской армии Франции против испанских войск. В своей нелюбви к Испании Екатерина не уступала Колиньи, однако прежде всего ее волновало сохранение мира, и она сделала все возможное, дабы сгладить негативные последствия безрассудного поступка сына, потребовав, чтобы тот собственной рукой написал ноту, осуждающую вторжение гугенотов в Нидерланды. Этот документ она передала австрийскому послу, дабы тот вручил его императору, который, в свою очередь, постарался бы смягчить гнев Филиппа II.
Однако не так-то легко было заставить Колиньи отказаться от задуманного. Он был настолько уверен в своем влиянии на короля, что собрал новую армию для отправки во Фландрию. Не довольствуясь этим и действуя так, словно королем был он, а не Карл IX, Колиньи начал мобилизацию по всему королевству, провоцируя Испанию. И это притом что Франция была неспособна противостоять военной мощи Филиппа II! Жизнь повторно дала жестокий урок адмиралу-фанатику и неразумному Карлу IX: и второе выступление гугенотов против испанцев в июле 1572 года закончилось сокрушительным поражением. Особенно плохо было то, что в руки противника попали приказы, подписанные лично Карлом IX, так что у Филиппа II не оставалось ни малейших сомнений в том, что ответственность лежит на французском короле, распорядившемся о вторжении.
Но плохо это было для кого угодно, только не для Колиньи: теперь король оказался у него в руках. Чем сильнее испанцы были раздражены против Карла IX, тем больше адмирал мог быть уверен в неизбежности войны. Екатерина, пребывавшая на грани отчаяния, умоляла сына дезавуировать свои распоряжения и порвать с воинствующими гугенотами, но всё напрасно. За те несколько недель, пока ее не было в Париже, Карл IX окончательно превратился в марионетку в руках Колиньи. Екатерине не следовало выпускать из поля зрения сына-вертопраха, но материнская любовь погнала ее в Шалон к изголовью тяжело заболевшей дочери, герцогини Лотарингской. Теперь, возвратившись в Париж на свадьбу Маргариты и Генриха Наваррского, она обнаружила, что Колиньи добился от Карла IX фактического объявления войны Филиппу II со всеми вытекающими из этого катастрофическими последствиями. Если бы испанцы вторглись во Францию, они беспрепятственно смогли бы дойти до Парижа.
Разговор Екатерины с сыном оказался драматичным. Она пыталась защитить перед ним политику всей своей жизни, направленную на поддержание французской монархии, мира в стране, национального единства, веротерпимости или, по крайней мере, компромисса между сторонниками двух религий, что позволяло ей править, не прибегая к насилию и кровопролитию. Она пыталась втолковать это сыну, поступавшему вопреки собственным интересам, но видела перед собой марионетку, тупо повторяющую то, что вдолбил в его голову Колиньи: испанцы не смогут выиграть войну, поскольку всё благоприятствует гугенотам, и королева Елизавета Английская — за них. Последнее было роковым заблуждением: Елизавете меньше всего на свете хотелось бы, чтобы французы, пусть даже и протестанты, обосновались в Нидерландах, но адмирала, желавшего войны и власти любой ценой, это совершенно не беспокоило. Екатерина лучше знала реальное положение вещей, и дальнейший ход событий подтвердил ее правоту. Что же касается Колиньи, то его, ставшего жертвой собственного фанатизма, гордости и корысти, факты не интересовали, за что ему и пришлось поплатиться.
Всеми средствами, мольбами, ласками и угрозами Екатерина пыталась вразумить сына, напомнив ему о том, что Колиньи не раз уже покушался на его жизнь и трон и теперь он добивается того же. Слабость, которую король проявляет перед лицом смертельного врага, может стоить ему власти. Больше того, это приведет к гибели династию, которая не устоит под натиском испанской армии, став к тому же еще объектом презрения и ненависти со стороны французского народа, ибо на нее будет возложена ответственность за все постигшие Францию беды и за попрание католической веры. Однако никакие доводы не могли перебороть упрямства Карла IX. Тогда Екатерина пригрозила, что покинет королевство и возвратится во Флоренцию, если он не одумается, но сын лишь высокомерно заявил, что сам знает, что ему следует делать. Как раз этого-то он никогда и не знал... В иное время угроза матери заставила бы Карла IX со слезами броситься в ее объятия, но теперь, похоже, Францией правил другой человек — Колиньи.
На состоявшемся вскоре заседании королевского совета адмирал, уверенный в поддержке короля, открыто выступил за войну с Испанией, тогда как остальные были против, включая и маршала Таванна, доблестного воина, которого никак нельзя было заподозрить в симпатиях к испанцам. Однако на Колиньи это не произвело впечатления. Он готов был в одиночку противостоять всем. Этот охваченный гневом фанатик говорил не так, как подобает доброму подданному короля, французу, но как вождь группировки, возомнивший себя равным королю — и даже выше его. Зная, кто всегда был и остается его главным противником, он обратился к Екатерине с дерзкими словами: «Мадам, если король откажется от этой войны, то дай бог, чтобы не вспыхнула другая война, избежать которой он будет не в силах». Это была прямая угроза разжечь очередную гражданскую войну. Екатерина и члены совета, потрясенные услышанным, сидели, точно лишившись дара речи. Они понимали, что отныне адмирал готов на всё. И в этой гробовой тишине, перед лицом неотвратимой угрозы Екатерина мысленно вынесла приговор адмиралу, перешедшему все разумные пределы. Теперь его присутствие и даже само его существование становилось нестерпимым. Основы французской монархии подорваны, но Франция еще жива и должна жить дальше под скипетром ее детей. Ради этого Екатерина решилась на крайнюю меру.
Неудавшееся покушение
Тем временем Париж готовился к празднованию свадьбы Маргариты Валуа и Генриха Наваррского. Екатерина, еще не потерявшая надежды примирить посредством этого брака католиков и гугенотов, торопила события, хотя при иных, более благоприятных обстоятельствах свадебные торжества были бы отложены, учитывая, что жених должен был соблюдать траур: в начале июня скончалась его мать. Хотя вскрытие подтвердило естественную причину ее смерти (застарелый туберкулез), гугеноты обрушили на Екатерину шквал клеветнических обвинений, утверждая, что она с помощью своих итальянских подручных отравила Жанну д’Альбре. Генрих Наваррский, не слишком спешивший на свидание со своей суженой, прибыл в Париж уже после похорон матери, даже не потрудившись проводить ее в последний путь. С юности одержимый маниакальным стремлением к власти, он и теперь не намерен был терять время на соблюдение таких условностей, как траур. Задуманную Екатериной Медичи матримониально-политическую комбинацию он полностью одобрял, рассчитывая таким способом упрочить свое положение в государственной иерархии Французского королевства.
Зато немалого труда стоило королеве-матери уломать строптивую дочь. Маргарита, убежденная католичка, не желала связывать свою судьбу с еретиком-гугенотом, да к тому же еще была влюблена в юного красавца Генриха Гиза, рядом с которым Генрих Наваррский выглядел форменным уродцем, вечно источавшим тошнотворные запахи. Преодолев в конце концов это препятствие, Екатерина столкнулась с другим, более серьезным: римский понтифик никак не хотел давать разрешение на брак католички с гугенотом, к тому же состоявшим в близком родстве — они были троюродными братом и сестрой. Пришлось пойти на маленькую хитрость, объявив, что папский посланник с долгожданным разрешением находится в пути и со дня на день будет в Париже, тогда как в действительности гонца с документом совсем иного содержания было велено задержать в Лионе. Накануне венчания Маргариты и Генриха Наваррского, состоявшегося 18 августа 1572 года, зачитали грамоту, которую сам папа римский и в глаза не видел.
Всё в этом бракосочетании противоречило установившимся обычаям. Кардинал Бурбон, проводивший церемонию венчания, действовал не столько как представитель католического духовенства, сколько как близкий родственник новобрачного. Ввиду различия конфессий обряд венчания не мог состояться внутри церкви, поэтому перед собором Нотр-Дам-де-Пари соорудили помост, на котором собрались участники церемонии. В самый момент венчания невеста позволила себе жест неповиновения, возможно, чтобы дать удовлетворение самолюбию обожаемого ею Генриха Гиза, стоявшего поблизости. Заметив колебания Маргариты, Карл IX толчком в затылок наклонил голову сестры, и этот наклон был расценен кардиналом Бурбоном как знак согласия. Генрих Наваррский, рассеянно произнеся свое «да», проводил новобрачную на хоры, а затем удалился в открытую галерею, чтобы дожидаться окончания торжественной мессы, продолжавшейся более трех часов. По свидетельству очевидца, поведение короля Наваррского и его свиты было тогда весьма неприличным и богохульным: они громко хохотали и вели фривольные разговоры. Особенно запомнилась фраза, мимоходом брошенная адмиралом Колиньи. «Их, — сказал он, указывая на знамена, взятые в качестве трофеев при Жарнаке и Монконтуре и служившие внутренним украшением собора, — скоро сорвут отсюда и заменят другими, на которые приятнее будет смотреть». Даже если Колиньи намекал на предполагаемые трофеи, коими французов вознаградит война против Испании, очевидцы усмотрели в его словах прямую угрозу правящему дому.
Пока двор, а вместе с ним и весь Париж праздновали королевскую свадьбу, Екатерина приводила в исполнение свой замысел, стараясь ничего не упустить, ибо неудача грозила фатальными последствиями для французской монархии, для нее самой и ее детей. Устранение Колиньи надлежало провести без сучка и задоринки. Это было непросто сделать, но трудности никогда не обескураживали Екатерину. Уверенность в собственной правоте придавала ей силы. Ликвидация адмирала должна была обезглавить гугенотский мятеж. Кровавое решение проблемы, навязанное королеве-матери роковым стечением обстоятельств, казалось единственно возможным: в интересах общественного блага Колиньи должен был исчезнуть. Если король не способен исполнить свою миссию, возложенную на него обрядом коронации в Реймсе, то мать поможет ему. Устранение Колиньи не являлось, полагала она, банальным убийством — это была спасительная мера, продиктованная соображениями государственного интереса, приведение в исполнение смертного приговора, вынесенного адмиралу еще в 1569 году, но впоследствии отмененного. Можно считать, что его исполнение было лишь отсрочено...
Для успеха предприятия требовалась полная секретность. Своим замыслом Екатерина поделилась лишь с Генрихом Анжуйским, на которого вполне могла положиться в этом деле, тогда как Карл IX пребывал в полном неведении. Предполагалось спасти его корону и, возможно, саму его жизнь без его участия и даже вопреки ему. План Екатерины учитывал и возможные последствия устранения адмирала, сопряженный с этим риск: сторонники Колиньи найдут способ отомстить виновным в его гибели. Значит, надо сделать все для того, чтобы ни на нее саму, ни на ее сына не пала тень подозрения, — да так, чтобы не только избежать мести, но и заставить других ответить за гибель адмирала. А кто еще, кроме Гизов, мог бы взять на себя исполнение приговора и всю связанную с этим ответственность? Екатерина знала, какую неугасимую ненависть питают они к Колиньи. Гизы давно бы попытались свести с ним счеты, если бы она всячески не противодействовала этой вендетте, грозившей разжечь в королевстве новую гражданскую войну Теперь в интересах своей политики она снимала этот запрет, и предстоящая ликвидация адмирала должна была выглядеть как акт кровной мести. Гизы, и прежде всего герцогиня де Немур, вдова герцога Франсуа, убитого по приказу Колиньи, и ее сын, герцог Генрих, давно ждали этой минуты.
Герцогиня с сыном и взялись исполнить акт мщения. Екатерина поставила перед ними единственное условие: чтобы в этой связи никогда не были упомянуты ни ее имя, ни имена короля и герцога Анжуйского. Из предстоящего покушения на адмирала королева-мать намеревалась извлечь двойную выгоду: если все пойдет по плану, то в результате будут обезглавлены обе соперничающие группировки, что объективно усилит позиции короны. Да и как иначе, ведь гугеноты, заподозрив Гизов, сделают всё, чтобы отплатить им той же монетой. Вторая часть плана Екатерины должна была оставаться в секрете и от самих исполнителей.
Герцог Гиз охотно прикончил бы Колиньи собственноручно — только на дуэли. Если бы представилась такая возможность, он не стал бы пачкать себя подлым выстрелом в спину, произведенным рукой наемного убийцы. Что же касается его матери, герцогини де Немур, то она говорила, что сочла бы за честь лично пристрелить заказчика убийства своего мужа, и отказалась от этого намерения только потому, что не надеялась разделаться с врагом одной пулей, хотя и считалась хорошим стрелком. Тогда решили прибегнуть к помощи некоего Морвера, уже не раз оказывавшего подобного рода услуги. 21 августа, когда гугеноты самозабвенно гуляли на свадьбе своего короля, Гизы тайком привезли наемного убийцу в дом, принадлежавший герцогине де Немур и стоявший на улице, по которой адмирал ежедневно проходил, направляясь в Лувр и возвращаясь к себе домой на улицу Бетизи. Дом имел два входа, что позволяло Морверу, сделав дело, скрыться незамеченным. На заднем дворе его поджидал оседланный конь.
22 августа около десяти часов утра Колиньи возвращался с заседания совета, первого после свадебных торжеств. Когда он поравнялся с известным нам домом, раздался выстрел. Однако именно в этот момент адмирал наклонился, чтобы поправить чулок, и пуля, которая должна была его убить, лишь причинила ему ранение в левую руку, не только не смертельное, но даже и не тяжелое. Морвер, как и предполагалось, благополучно успел удрать с места преступления, но относительно виновников преступления не могло быть сомнений: дом, из которого прогремел выстрел, неопровержимо уличал их. К огорчению королевы-матери, обнаружилась и другая улика. Когда спутники Колиньи бросились в дом, они нашли там еще дымившуюся аркебузу, принадлежавшую, как выяснилось, одному из лейб-гвардейцев герцога Анжуйского. Не будет большой натяжкой предположить, что Гизы, исполнив требование Екатерины не называть королевских имен, дали следствию внятную подсказку. Им нетрудно было разгадать всю глубину замысла королевы-матери, и они отплатили ей той же монетой или, как любила говорить она сама, «капустой за капусту»...
Карты смешаны и перетасованы заново
Весть о неудавшемся покушении на адмирала застала Екатерину за столом. Она встала и, не проронив ни слова, удалилась в сопровождении сына Генриха. Карл IX, взволнованный до глубины души, тут же отправил к раненому Амбруаза Паре. Знаменитый врач удалил из руки адмирала пулю и ампутировал два пальца, державшихся на одном лоскутке кожи. Во второй половине дня король решил навестить адмирала. Екатерина, не желая допустить общения сына наедине с Колиньи, во всеуслышание заявила: «Весь двор должен засвидетельствовать свое почтение жертве столь гнусного преступления». В этой весьма многочисленной компании Карл IX не имел возможности поговорить с адмиралом с глазу на глаз, а тот при лишних свидетелях не решился называть имена виновных. Дело ограничилось высокопарным заявлением и грозным обещанием со стороны короля: «Хотя ранили вас, боль испытал я. Но, Богом клянусь, я беспощадно покараю виновных так, что запомнят навсегда!»
Во время этого посещения будто бы имел место эпизод, с точки зрения исторической достоверности сомнительный, однако хорошо передающий драматизм ситуации. Амбруаз Паре, прозрачно намекая на то, кого следует считать организатором покушения, преподнес королеве-матери в качестве своего рода трофея пулю, извлеченную им из руки Колиньи. Она, взяв смертоносный свинец и словно бы взвешивая его на ладони, с расстановкой, чеканя каждое слово, произнесла, обращаясь к адмиралу: «Я очень рада, что пуля не осталась в вашем теле, ибо припоминаю, что после убийства месье де Гиза врач говорил мне, что если бы пуля, пусть даже и отравленная, была извлечена, он мог бы жить». Была отравлена пуля или нет, но ответ Екатерины, адресованный организатору того давнего убийства, бесспорно звучал ядовито. «Капуста за капусту»...
К вечеру того же дня Екатерина получила важное донесение. Ее человек, заблаговременно внедренный в окружение Колиньи, сообщал, что тот сразу же, как только его покинул Карл IX с сопровождающими лицами, провел у себя совещание. Ни сам адмирал, ни его приближенные не верили в добрые намерения короля, обещавшего наказать виновников покушения, и собирались восстановить справедливость без посторонней помощи. Справедливость по-гугенотски выглядела так: первым делом прикончить короля, его мать и всю королевскую семью, включая и Генриха Наваррского, который после женитьбы на Маргарите Валуа уже не внушал им доверия. Не отвечало их намерениям и то, что проводимая Екатериной политика сближения с первым принцем крови могла принести реальные плоды в виде умиротворения королевства.
Надо было действовать незамедлительно, нанося упреждающий удар, и на следующий день, после полудня, королева-мать собрала своих сторонников под предлогом прогулки в саду Тюильри. Присутствовали Гонди, Бираго — миланец, заменивший Мишеля Лопиталя на посту королевского канцлера, Невер и Таванн, позднее описавшие эту встречу в своих мемуарах, а также герцог Анжуйский и еще несколько приближенных. На этом тайном совещании было решено убить, чего бы это ни стоило, адмирала, а заодно, дабы совершенно обезглавить гугенотскую партию, с дюжину других наиболее видных предводителей протестантов. В этот список не попали два принца крови — Генрих Конде, за которого заступился его родственник герцог Невер, и Генрих Наваррский, которым не желали жертвовать ни Екатерина Медичи, ни Карл IX. Ликвидировать обреченных на смерть предстояло открыто, не прибегая к хитростям и уловкам, требующим столь много времени, которого уже совсем не оставалось. Однако без согласия короля сделать это было невозможно, а он, как известно, обещал отомстить за покушение на Колиньи... Присутствие духа, смелость и находчивость, проявленные в этой ситуации Екатериной Медичи, заслуживали бы самого искреннего восхищения, если бы нашли свое применение в благом деле, а не в совершении деяния, по всем законам, божественным и человеческим, называющегося преступлением. Зная непредсказуемость характера Карла IX, она реально рисковала, однако у нее не оставалось выбора. Протестанты не скрывали своих намерений. Накануне за ужином молодой гасконец Пардальян, паж Генриха Наваррского, отважно заявил, обращаясь к королеве-матери: «Если адмиралу и суждено потерять руку, поднимется тысяча других рук, чтобы устроить такую резню, от которой по королевству прольются кровавые реки!» Понятно, что подобного рода заявления не прибавляли Екатерине оптимизма.
В восемь часов вечера 23 августа она в своем обычном черном платье, еще больше оттенявшем бледность ее лица, в сопровождении Генриха Анжуйского вошла к королю. Говорила сама Екатерина, даже не пытаясь скрывать участия в покушении на Колиньи — ни своего собственного, ни Генриха. Главным ее аргументом было намерение спасти королевство и особу самого короля, которым угрожал чудовищный заговор. Адмирал, утверждала она, прикрывал красивыми словами собственную измену. Единственное, чего он добивался, — власть для гугенотов, для достижения которой он готовил резню католиков, начиная с королевского семейства. Многочисленные гугеноты, приехавшие с Генрихом Наваррским на его свадьбу, не имели иной цели, кроме как, воспользовавшись удобным случаем, захватить Лувр и пленить короля. Всё прочее — лишь коварные уловки проклятых еретиков... Долгих два часа уговаривала она сына. Потрясенный услышанным, Карл IX тем не менее всё никак не мог усомниться в лояльности Колиньи, однако мало-помалу возражения с его стороны стали сменяться молчаливым согласием. Уловив нужный момент, Екатерина выложила свой главный козырь, спросив короля, чего он боится. Неужели присутствия гугенотов во дворце? Разве он менее отважен, чем его брат-победитель при Жарнаке и Монконтуре? Слышать подобное для Карла IX, именно за эти победы ненавидевшего своего брата, было выше его сил, и он выкрикнул: «Пусть будет так, черт побери! Но убейте их всех, чтобы некому потом было упрекать меня! Немедленно отдайте приказ».
Надо было ковать железо, пока горячо, не оставляя королю времени одуматься. Так несчастный стал соучастником преступления, превратившись в зловещую марионетку, коей управляли умелые руки. Он делал всё, что ему внушали. К одиннадцати часам вечера он вызвал к себе купеческого старшину Парижа с помощником и объявил им, что государству угрожает заговор. Те пообещали выставить 20 тысяч человек. О мнимом заговоре протестантов им сообщили как о большом секрете, хранить который они клятвенно обязались. Действовать предполагалось по условленному сигналу — звону колокола церкви Сен-Жермен-л’Оксерруа, который должны были подхватить колокола всех церквей столицы. Во избежание путаницы, чтобы можно было отличать своих от чужих, предполагалось использовать белые кресты на шляпах и белые же нарукавные повязки, а в окнах должен был загореться свет. В целях предосторожности все городские ворота Парижа должны были оставаться запертыми, а ратуша, площади и перекрестки города находиться под охраной вооруженных людей. Реализовать эти меры было тем проще, что еще накануне муниципалитет Парижа, опасаясь волнений, распорядился мобилизовать свою милицию и привести к ратуше конные и пешие отряды. Тогда же сообщили герцогу Гизу, что он может отомстить за своего отца, расправившись с адмиралом Колиньи и его приближенными.
Варфоломеевская ночь
Оставалось лишь ждать рассвета. Король не ложился спать, убивая время беседой в компании нескольких дворян. Королева-мать была со своими дамами, как всегда находившимися при ней во время церемонии ее отхода ко сну. Всё было спокойно. Маргарита, новоиспеченная королева Наваррская, если верить ее мемуарам, ни о чем не догадывалась, поскольку ей не доверяли — гугеноты за то, что она была католичкой, а католики потому, что она вышла замуж за гугенота. И королева-мать тоже не сочла нужным посвятить ее в свои планы. Только старшая сестра Маргариты, Клод, герцогиня Лотарингская, попыталась было намеком предупредить ее, но Екатерина резко оборвала их разговор. Так королева Наваррская и пребывала в неведении, пока не началась резня. Однако, по свидетельству личного врача Екатерины, собравшиеся у нее дамы о чем-то догадывались, поскольку были ни живы ни мертвы от страха. Что же касается мужчин, то они или ничего не знали, или же демонстративно презирали опасность. Король попытался было беседой задержать в Лувре графа Ларошфуко, который был симпатичен ему, однако тот предпочел отправиться восвояси и стал жертвой начавшейся на заре резни.
Генрих Наваррский и его молодая жена не смыкали глаз. В их супружеских покоях находилось около сорока дворян-гугенотов, шумно обсуждавших покушение на адмирала. Наутро они собирались отправиться к королю требовать справедливости, обещая друг другу самочинно свершить правосудие, если король не сделает этого. На заре Генрих со своим эскортом покинул спальню, сообщив Маргарите, что идет играть в мяч. В действительности же он направился к королю, вызвавшему к себе его и принца Конде. Провожатые Генриха вынуждены были остаться за дверью, и больше он их не видел. Маргарита тем временем приказала кормилице запереть дверь и заснула сном человека, за долгий день совершенно выбившегося из сил. Ей казалось, что опасность миновала.
И вдруг в три часа утра раздался колокольный звон, которому принялись вторить все колокола Парижа. Началось то, что вошло в историю под названием Варфоломеевской ночи, 24 августа 1572 года. Одновременно в окнах католиков, согласно распоряжению, загорелся свет, а улицы Сен-Жерменского квартала, в котором проживало много протестантов, наполнились вооруженными людьми с белыми повязками на рукавах и белыми крестами на шляпах. Гиз со своими подручными уже находился у особняка Колиньи. Швейцарцы, которых Генрих Наваррский предоставил в распоряжение адмирала, были слишком малочисленны, чтобы защитить его. Погромщики устремились вверх по лестнице. Один из них, ворвавшись в комнату Колиньи, спросил: «Ты адмирал?» Был получен утвердительный ответ, и вслед за тем пронзенное во многих местах тело кровного врага Гиза полетело из окна, упав к ногам герцога. Тот наклонился пониже, чтобы лучше разглядеть его, а затем со злостью пнул в живот своего поверженного противника. Налетевшая, точно стервятники, чернь в буквальном смысле слова разорвала тело Колиньи на куски, которые потом растащили по разным концам Парижа.
Недолго пришлось поспать и Маргарите. Ее разбудил оглушительный грохот. Из-за дверей, в которые барабанили руками и ногами, доносился крик: «Наварра! Наварра!» Служанка решила, что вернулся муж хозяйки, и открыла. В дверях показался окровавленный дворянин, за которым гнались четверо гвардейцев. Он обхватил Маргариту за талию, и оба упали на кровать. Появившийся капитан гвардейцев понимающе улыбнулся, решив, что королева Наваррская находится в объятиях любовника, и отчитал подчиненных за «бестактное поведение». Великодушно даровав жизнь ее «любовнику», он успокоил Маргариту относительно судьбы супруга, сообщив, что тот находится в безопасности. Когда гвардейцы удалились, спасенный галантно проводил свою спасительницу к ее сестре, герцогине Лотарингской. По пути они стали свидетелями того, как ударом алебарды был убит какой-то несчастный.
В ту роковую, кровавую ночь святого Варфоломея Париж был залит кровью гугенотов. Карл IX, еще вчера друживший с ними и называвший «отцом» их предводителя, внес свою лепту в эту кровавую бойню, хотя собственноручно, кажется, никого и не убил. По свидетельству Брантома, он из окна своей комнаты палил в сторону Сен-Жерменского предместья, где, как он знал, было много гугенотов, из аркебузы, правда, напрасно, поскольку его оружие не обладало необходимой дальнобойностью. Зато собственным примером и беспрестанными криками «Убивайте! Убивайте!» он подбивал на преступление других. Исключение было сделано лишь для немногих гугенотов, в том числе и для Амбруаза Паре, лучшего хирурга того времени, которого король спрятал в своей комнате.
Некоторые дворяне-гугеноты, остановившиеся в Сен-Жерменском предместье, узнав о начавшейся резне, не хотели верить, что распоряжение дал сам Карл IX, и вместо того, чтобы бежать, решили отправиться в Лувр искать защиты у короля. Кое-кто из них даже подумал, что Гизы и их приспешники покушаются на королевскую особу, и попытались переправиться через Сену, стремясь прийти на помощь монарху. Однако на их пути встало около двух сотен солдат, открывших по ним огонь из аркебуз под одобрительные возгласы «Убивай, убивай!», так что им пришлось спасаться бегством, кто как мог — на своих двоих, верхом на коне, в сапогах или босиком, бросив всё, что имели, лишь бы унести голову на плечах. Карла IX при виде крови охватил охотничий азарт, как обычно с ним бывало на охоте, когда он не мог остановиться, убивая невинное зверье ради одного только удовольствия видеть, как хлещет кровь из подстреленной дичи. Некоторые отрицают его участие в кровавой бойне Варфоломеевской ночи, ссылаясь на то, какие угрызения совести он позднее испытывал, но это было значительно позднее и под влиянием сразившей его болезни. Правда, как сообщают очевидцы, Карл IX, услышав первые выстрелы, устрашился последствий собственного решения и послал нарочного к Гизу с требованием остановить кровопролитие, но оказалось слишком поздно. Было ли это искренним душевным порывом или игрой на публику, никому знать не дано.
Ужасы первых утренних часов дня святого Варфоломея в Париже описаны многочисленными свидетелями и очевидцами событий. Делая скидку на то, что одни преднамеренно сгущали краски, а другие пытались обелить себя, нетрудно представить себе весьма безрадостное зрелище. Город в мгновение ока наполнился телами убитых обоего пола и всех возрастов благодаря тому, что каждый получил возможность убивать кого угодно и по какой угодно причине, отнюдь не только ради защиты веры. Представилась блестящая возможность свести счеты с давнишним врагом или завладеть имуществом соседа, иногда просто преуспевающего, ничем тебе не навредившего человека. В людях в полный голос заговорили самые низменные инстинкты, о чем должны были бы подумать поборники незапятнанного католицизма, прежде чем призывать чернь на борьбу с еретиками. Хотя подавляющее большинство погибших составляли гугеноты, досталось и католикам, поскольку вовсю орудовали взломщики, воры и банальные грабители, для которых деньги не имеют ни запаха, ни религиозной принадлежности. Не случайно, что первыми подверглись нападению дома наиболее богатых горожан, в которых было чем поживиться. Можно сказать, повезло тем, кого просто убили ударом шпаги или кинжала, кто не умирал мучительной смертью и чье безжизненное тело не подверглось поруганию. С каким чувством позднее входили в храм те, кто ради искренней или показной приверженности истинной вере разбивал головы стариков о камень мостовой или забавы ради таскал по улицам младенцев в пеленках, накинув им на шею петлю? Неужели Бог простил их?
Герцоги Гиз, Омаль и Невер разъезжали верхом на конях по улицам города среди осатаневших от крови и насилия погромщиков и орали во всю глотку: «Убивайте, убивайте всех, так повелел король!» Тут и там можно было видеть телеги, доверху груженные нагими, вперемешку наваленными телами убитых мужчин, женщин, детей. Страшный груз сваливали в Сену, воды которой несли бесконечную вереницу обезображенных трупов. Всякого рода сброд вылезал из своих дыр на свет божий, предлагая собственные услуги католическим господам, головорезам Гиза или городской милиции. Лишенные чести и совести мазурики выбирали дома побогаче, не особенно заботясь о религиозной принадлежности их обитателей, чтобы безнаказанно убивать и грабить. Похвалялись своими «подвигами», называя невероятное число (20,40 и даже 80) собственноручно убитых за день гугенотов. Некоторые в своем изощренном садизме шли еще дальше: предоставляли своим жертвам убежище, получали с них выкуп, а потом — ножом по горлу. Не гнушались откровенным кощунством: пообещав гугенотам сохранить жизнь, требовали от них отречься от своей веры и перейти в католицизм, после чего закалывали их, наслаждаясь зрелищем предсмертной агонии — новообращенных католиков, следует заметить.
К полудню первого дня резни члены городского совета Парижа, ужаснувшись открывшимся их взору зрелищем, пришли в Лувр умолять короля прекратить кровавую бойню. Но как можно было сделать это, не спровоцировав распоясавшуюся чернь на открытый мятеж против законной власти?
На следующий день, 25 августа, когда наметились первые признаки пресыщения кровопролитием, будто бы произошло событие, слух о котором с быстротой молнии разнесся по Парижу: на кладбище Невинноубиенных расцвел засохший боярышник. Это чудо с новой силой подхлестнуло рвение погромщиков. Говорили, что возвращение к жизни этого боярышника предвещает возрождение королевства, отравленного гугенотской ересью. Гизы со своими подручными посвятили этот день преследованию тех, кому удалось бежать из Сен-Жерменского предместья, но возвратились ни с чем.
Тяжелое похмелье
Массовое кровопролитие, коим обернулась расправа над адмиралом Колиньи, знаменовало собой крах всей предшествующей политики Екатерины Медичи, основанной на лавировании, уступках и обещаниях. Она, с детства питавшая отвращение к насилию и предпочитавшая плохой мир доброй ссоре, объективно стала виновницей страшной резни. Вот чем обернулись ее постоянные поиски мира любой ценой! Несмотря на то, что она всегда предпочитала переговоры войне, теперь с ее именем будет связано одно из самых мрачных событий французской истории. Хотя эксцессы Варфоломеевской ночи, порожденные фатальной логикой политической борьбы и неуправляемой инициативой масс, не были заранее спланированы и подготовлены, именно в этом будут упрекать Екатерину Медичи, бездоказательно утверждая, что все это она задумала еще за много лет до того, во время своей памятной встречи в Байонне с герцогом Альбой.
26 августа состоялось заседание Парижского парламента, на котором появился в королевском облачении Карл IX, заявивший, что принятые им меры имели своей целью спасение государства. Король объявил, что все ранее издававшиеся эдикты веротерпимости отменяются и отныне единственной религией в королевстве будет католическая, апостолическая и римская вера. Под страхом смертной казни Карл IX потребовал от Генриха Наваррского и его кузена Конде отречься от протестантизма. Для Генриха, с раннего детства неоднократно менявшего веру, не составляло особого труда в очередной раз проделать это, и он с готовностью согласился «во всем повиноваться королю». Его официальное отречение состоялось 26 сентября 1572 года, а спустя три дня он присутствовал на мессе по случаю собрания капитула ордена Святого Михаила, как уже бывало однажды, еще при жизни его отца Антуана Бурбона. Наблюдавшая за этим Екатерина не в силах была подавить на своем лице ироничную улыбку, решив отныне держать зятя при дворе на положении пленника. Пройдя сквозь ужасы Варфоломеевской ночи, он будет, надеялась королева-мать, послушен и послужит противовесом вновь обретшим политический вес Гизам. Конде выказал больше упрямства, но и он в конце концов уступил требованиям короля.
Достигла ли своей цели эта «постыдная кровавая баня» (по выражению императора Священной Римской империи германской нации Максимилиана II, тестя Карла IX)? Соответствующие приказы, довольно противоречивые по смыслу, отправленные губернаторам провинций, не были надлежащим образом исполнены, хотя в ряде городов (Тулуза, Руан, Бурж, Лион) жители последовали примеру парижан, устроив у себя резню гугенотов. Разброс сведений о числе жертв чрезвычайно широк, от 15 до 60 тысяч. Видимо, общее число погибших в дни и недели после Варфоломеевской ночи не превышает 20 тысяч человек, включая Париж, где число жертв насчитывают от двух до четырех тысяч. Колиньи погиб, король Наваррский и принц Конце оказались пленниками в Лувре, но многим предводителям гугенотов удалось ускользнуть. Более того, немало католиков из числа умеренных под впечатлением от случившегося перешло в протестантизм. Гугенотская партия, пережив нанесенный ей жестокий удар, вновь собралась с силами, воодушевившись ненавистью к коварному противнику. Зато репутация католической партии потерпела непоправимый ущерб. Маршал Таванн однажды заметил: «Дело сделано, опасность миновала, но пролитая кровь продолжает тревожить совесть».
Что касается Екатерины, то она вновь обрела власть над своим злосчастным сыном, избавившись от Колиньи, но зато, сама того не желая, сделала Генриха Гиза кем-то вроде короля Парижа, подняв его авторитет среди католиков на небывалую прежде высоту. Придет время, когда он будет представлять для трона угрозу, ничуть не меньшую, чем та, что исходила от бедняги Колиньи. Достойного противовеса «господам Лотарингцам» теперь не стало (Генрих Наваррский не в счет). Королева-мать собственноручно нарушила политическое равновесие, которое с таким трудом удавалось ей поддерживать. Ее отношение к Гизам характеризовалось смешанным чувством опасения и личной неприязни. Она так и не смогла простить им дружбы с Дианой Пуатье. Вовек ей было не забыть и того, что именно кардинал Лотарингский первым предложил отправить ее, считавшуюся бесплодной, обратно в Италию. Наконец, племянницей Гизов была высокомерная Мария Стюарт, посмевшая называть ее «флорентийской торговкой». Всего этого она была не в силах ни забыть, ни простить. Однако надо было решать, что делать сейчас, когда Генрих Гиз стал для парижан настоящим идолом, тогда как ее сын Карл IX, не пользовавшийся особой популярностью среди подданных, был обречен на борьбу с собственными сомнениями и угрызениями совести.
Кровавая резня в Варфоломеевскую ночь сделала Екатерину Медичи в глазах Европы поборницей католицизма, хотя в действительности она, достаточно индифферентная в вопросах веры, мстила лишь за свои личные обиды. Однако папа Григорий XIII (инициатор введения календаря, носящего его имя) весьма некстати выразил свое полное одобрение резни гугенотов, распорядившись петь гимн Те Deum («Тебя, Господи, славим»), музыку к которому на слова Амвросия Медиоланского специально по этому случаю написал Палестрина. Он же повелел отчеканить памятную медаль работы знаменитого скульптора Вазари, а также удостоил Екатерину послания с личными поздравлениями. Не остался в стороне и Филипп II, вместе с поздравлением приславший Екатерине в подарок превосходную, изумительной красоты породистую арабскую кобылу. Зная, какой страстной любительницей лошадей и верховой езды была она, нетрудно догадаться, что молодая кобыла, прибывшая из-за Пиреней, помогла ей забыть, пусть и на время, огорчения недавних дней.
Хотя далеко не все католические государи одобрили кровопролитие в Варфоломеевскую ночь, им нелегко было открыто дистанцироваться от действий французской короны. Отныне Екатерина стала заложницей собственной политики. Она сознавала бесполезность брака Генриха Наваррского с ее дочерью. Этот брак по расчету имел своей целью обезоружить протестантов, но теперь, когда король Наваррский публично отрекся, он не имел никакого смысла. Екатерина предложила дочери аннулировать брак, однако та отказалась. Хотя Маргарита и не любила Генриха, это замужество давало ей определенные преимущества, а кроме того, не исключено, что она прониклась сочувствием к унижению своего супруга.
Возможно, сознательно желая приуменьшить масштаб происшедшего, Екатерина называла события Варфоломеевской ночи «волнениями в столице». Однако она не могла не понимать, какой резонанс будут иметь эти «волнения» за рубежом, и постаралась сделать все возможное, чтобы сгладить впечатление от этого «инцидента» и минимизировать его негативные последствия. Для этого в ее распоряжении имелся корпус талантливых дипломатов, которые постарались внушить иностранным правителям, что в Париже произошло столкновение, неожиданно принявшее широкий масштаб, двух враждующих друг с другом домов — Гизов и Шатийонов-Колиньи. И речи не может быть, уверяли они, о религиозной войне между католиками и протестантами. Однако эта версия сильно расходилась с тем, что доносили иностранные послы, своими глазами видевшие происходящее в Париже. К тому же Генрих Гиз, поначалу принявший было официальное заявление двора, вскоре понял, что, по версии Екатерины, он является инициатором и организатором резни, и запротестовал. Тогда королева-мать решила представить другую интерпретацию происшедшего: причиной всего послужил пресловутый заговор Колиньи, вознамерившегося истребить королевское семейство и ликвидировать французскую монархию. В этой версии события Варфоломеевской ночи представляли собой оправданную реакцию законной королевской власти на мятеж и оскорбление величества.
Как и следовало ожидать, эти объяснения никого не убедили. Папа и Филипп II, похвалившие было Екатерину за ее усердие в отстаивании чистоты католической веры, были разочарованы, узнав, что она изначально, готовя расправу над Колиньи, не вкладывала в это никакого религиозного смысла, преследуя исключительно политические цели — и сам адмирал, и поддерживавшие его «еретики» могли бы жить и благоденствовать, если бы не покушались на власть дома Валуа. Что же касается протестантских князей Германии и Елизаветы Английской, то они не могли не понимать, что какие бы политические цели ни преследовала Екатерина Медичи, массовое избиение гугенотов не было простой случайностью. Однако в конце концов и они скрепя сердце признали довод, совершенно неотразимый для любого суверенного государя: Карл IX и его мать подавили мятеж против законной королевской власти. Вопрос о Варфоломеевской ночи больше не поднимали, ибо каждый суверен является господином в своей державе.
Гугеноты, «политики» и «недовольные»
Среди последствий Варфоломеевской ночи было и такое, о котором Екатерину Медичи предостерегал Колиньи, но которое она сознательно выбрала, предпочтя его конфликту с Испанией: во Франции вновь вспыхнула гражданская война. Напрасно Карл IX принуждал Генриха Наваррского ходить на мессу, добиваться у папы римского официального прощения, подписывать эдикт о восстановлении католического культа в Наварре и Беарне и о запрете культа протестантского. Гугеноты знали, что Генрих Наваррский по принуждению ставит свою подпись, поэтому подписанные им акты не имеют законной силы. Они готовы были сражаться. Jla-Рошель была приведена в состояние обороны, что центральная королевская власть расценила как открытое объявление войны. Главная цитадель гугенотов могла рассчитывать на помощь из Англии, куда отправился в качестве эмиссара неутомимый Монтгомери, которому, правда, уже недолго оставалось досаждать Екатерине Медичи.
Эта четвертая религиозная война, явившаяся прямым следствием Варфоломеевской ночи, была сравнительно непродолжительной и свелась главным образом к осаде Ла-Рошели. На этот раз с герцогом Анжуйским не было маршала Таванна, и его успехи оказались гораздо более скромными, чем при Жарнаке и Монконтуре. Недавние трагические события спутали все карты, так что бывшие союзники очутились по разные стороны линии фронта, а прежние противники вдруг стали товарищами по оружию. Ла-Рошель отказалась принять в качестве губернатора «заклятого врага» Бирона, который в действительности был умеренным и вполне благоразумным политиком, и вместо него Екатерина Медичи послала строптивым защитникам города «их человека» — Франсуа де Ла Ну по прозвищу Железная Рука, носившего протез вместо руки, которую он потерял, сражаясь задело протестантизма. В августе 1572 года он находился в Нидерландах, куда его послал Карл IX воевать против испанцев. Потерпев поражение от герцога Альбы, Ла Ну был вынужден бесславно ретироваться. Спустя несколько дней после Варфоломеевской ночи ему хватило смелости явиться к Карлу IX, и тот радушно принял его, более того, даже пожаловал ему имение погибшего во время резни зятя Конде — Телиньи, на сестре которого JTa Ну был женат.
Оказанное доверие надо было оправдывать, и героический гугенот оказался в Ла-Рошели, жители которой хотя и приняли его, однако относились к нему с недоверием и даже враждебностью. Его поставили перед выбором: жить в Ла-Рошели в качестве частного лица, принять на себя командование войском гугенотов или отплыть в Англию. Ла Ну выбрал второе и попал в весьма щекотливое положение: вместо того, чтобы обеспечить сдачу непокорного города королю Франции, он руководил его обороной! В конце концов, не в силах более выносить постоянное давление со стороны королевских эмиссаров и терпеть недоброжелательное отношение к себе защитников города (однажды он даже схлопотал по физиономии от одного не в меру ревностного пастора), Л а Ну перешел в лагерь осаждавших.
Между тем боевой дух роялистов иссяк, особенно после того, как они получили известие, что Польский сейм, уважив настоятельные ходатайства Екатерины Медичи, избрал ее сына герцога Анжуйского королем Польши. Теперь уже было не до осады Ла-Рошели, поэтому поспешили заключить мирный договор. Ла-рошельский мир, подписанный 24 июня 1573 года, предоставлял гугенотам свободу совести и право отправления протестантского культа в Ла-Рошели, Ниме и Монтобане. Кроме того, им были возвращены их секвестрованные ранее имения, а также должности и привилегии.
Ко времени осады Ла-Рошели во Франции оформилась так называемая партия «политиков», вобравшая в себя людей умеренных взглядов, сторонников всеобщего примирения и мирного сосуществования двух конфессий. Взгляды «политиков» разделяли зажиточные и просвещенные буржуа, торговцы, магистраты и мелкие дворяне. Их поведение было лишено героизма (они не готовы были принять мученическую смерть за идею), а интересы ограничивались простыми житейскими заботами. По образному выражению современника, это были люди, которые предпочитали мир в королевстве и собственной семье спасению своей души и для которых предпочтительнее было видеть мирное королевство без Бога, нежели вести войну во имя Его. Под впечатлением от ужасов гражданской войны они стремились установить мир на основе взаимной терпимости. Их лидерами были сыновья покойного коннетабля Монморанси — Франсуа, губернатор Парижа, и Генрих Дамвиль, губернатор Лангедока, создавший почти автономное государство на юге Франции, в котором мирно уживались католики и протестанты.
К партии «политиков» примыкали и так называемые «недовольные» во главе с последним братом Карла IX, герцогом Алансонским, весьма посредственной личностью. Герцог Алансонский пошел на сближение с этой партией не потому, что искренне разделял ее взгляды, а чтобы досадить своим братьям и матери. Он был недоволен своим положением. После избрания герцога Анжуйского на польский трон младший сын Екатерины Медичи почувствовал себя обделенным. Официально став первым принцем королевства, которого во Франции называли Месье или «братом короля», он претендовал на большее — добивался для себя должности генерального наместника королевства, которая фактически была последней ступенькой к королевскому трону Франции. Однако Карл IX, не доверявший брату, отказал ему в этом назначении. Екатерина Медичи, отправляя своего любимчика на царствование в Польшу, была уверена, что тот скоро вернется на родину, и не рассматривала даже как вариант возведение на французский престол герцога Алансонского. И тому не оставалось ничего иного, кроме как броситься в объятия гугенотов, намеревавшихся использовать его в собственных целях.
Когда польское посольство прибыло во Францию, чтобы забрать своего нового короля, Карл IX был совсем плох. Уже ничто не радовало его, он не мог смотреть прямо в лицо собеседникам. Весь его облик выражал нестерпимое страдание. Он безучастно взирал на проходившие торжества, собравшие при дворе весь цвет французского общества. Героем дня был его брат Генрих, по-королевски разместившийся в Мадридском дворце посреди Булонского леса, где и встречал прибывших послов, которые предварительно нанесли визит вежливости королю Франции, королеве и королеве-матери. Новоизбранный король Польши в присутствии французского двора присягнул на верность своему королевству, обязавшись соблюдать его законы и обычаи. Он поклялся также поддерживать тесное военное и экономическое сотрудничество Франции и Польши. Екатерина, добившись избрания своего любимого сына на польский престол, заглядывала еще дальше: ей виделась личная уния Французского и Польского королевств, которая образуется после неминуемой в ближайшее время кончины Карла IX и восшествия Генриха на французский престол. 22 августа 1573 года, в разгар торжеств по случаю прибытия польского посольства, Карл подписал документ о признании Генриха своим преемником на троне, а Екатерины — регентшей на то время, пока новоиспеченный король Польский не прибудет во Францию, дабы занять престол своих предков.
Тем временем торжества, продолжавшиеся целый месяц, затянулись, а Генрих как будто и не собирался ехать в Польшу, что вынудило короля пригрозить ненавистному братцу: «Если вы не отправитесь по-хорошему, я велю вас выдворить силой!» Зная характер брата, Генрих Анжуйский незамедлительно засобирался в путь. До германской границы его провожал весь двор во главе с королем и королевой-матерью. Близ Люневиля Екатерина попрощалась с королем Польским, напутствовав его словами: «Отправляйтесь, сын мой, вы недолго будете отсутствовать». Она всё знала: Карл IX не жилец, герцогу Алансонскому королем не бывать, и трон Франции вскоре достанется ее любимчику Генриху Анжуйскому.
Неисправимые заговорщики
Герцог Алансонский тоже понимал это. Он решил действовать, опираясь на помощь протестантских князей Германии, дабы отстоять свое право и на должность генерального наместника Французского королевства, и, в перспективе, на королевский трон. Людвиг Нассауский изъявил готовность вторгнуться во Францию во главе наемного войска. Предполагалось встретиться близ Седана. Генрих Наваррский охотно согласился участвовать в намечавшейся авантюре. Договорились тайком покинуть двор на пути между Суассоном и Компьенем, где их должен был встретить конный отряд гугенотов и эскортировать к Людвигу Нассаускому в Седан. Однако намеченный побег не состоялся. Генрих Наваррский проболтался Маргарите, а та доложила обо всем матери, и надзор за неверным мужем и зятем ужесточился. Генриху Наваррскому оставалось лишь язвительно шутить, что теща роется под его кроватью и сторожит его двери, так что он опасается, как бы эти меры не явились прелюдией к его убийству, не состоявшемуся в Варфоломеевскую ночь.
Прошло не так много времени, и, несмотря на все принятые королевой-матерью меры, созрел новый заговор, в котором оказались замешанными, помимо непременных участников — герцога Алансонско-го и Генриха Наваррского, герцог Монморанси, маршал Коссе, а также, среди многих представителей дворянства, и очередной любовник Маргариты Бо-нифас де Ла Моль. Дело принимало серьезный оборот. Предполагалось, что несколько сот заговорщиков в последний день карнавала, 23 февраля
1574 года, прорвутся в Сен-Жерменский замок, в котором тогда находился больной Карл IX, и, предварительно арестовав короля, королеву-мать и их приближенных, потребуют для герцога Алансонского должности генерального наместника королевства. В случае сопротивления предполагалось ни с кем не церемониться. Поскольку дело было накануне Великого поста, впоследствии эта авантюра получила название «заговора скоромных дней».
Однако и на этот раз всё сорвалось. Маргарита по прямому поручению матери вытянула из своего любовника секретные сведения. Екатерина незамедлительно забила тревогу, подняв на ноги швейцарскую гвардию и французские роты. Герцога Алансонского привели в кабинет к королю, и он во всем признался, поспешив свалить всю вину на своих товарищей, включая и Генриха Наваррского, а те на допросах старались не отстать от него, обвиняя всех и вся, лишь бы выгородить себя. Посреди ночи королевский кортеж направился из Сен-Жермена в Париж. Своего сына герцога Алансонского и зятя Генриха Наваррского Екатерина везла в собственной карете, не желая ни на минуту спускать глаз с этих отъявленных заговорщиков, отныне находившихся на положении заключенных. Карла IX, сраженного новым потрясением, несли на носилках. По прибытии в Париж он окончательно слег и больше не поднимался. В начале апреля он велел перевезти себя в Венсенн, дабы там, в стороне от придворных интриг, спокойно умереть.
Jla Моль и его сообщник Аннибале Коконна были арестованы и подвергнуты допросу под пытками. Герцога Алансонского и Генриха Наваррского также подвергали весьма унизительным для них допросам. Герцог Алансонский, понимая, что находится в отчаянном положении, во всем сознавался, передавая мельчайшие детали планировавшейся операции, каялся в своих прежних связях с Колиньи. Католическая партия и в первую очередь Гизы наседали на Екатерину Медичи, требуя, чтобы она избавилась от этих неисправимых заговорщиков, прежде всего от короля Наваррского. Хотя они били в самое больное место королевы-матери, указывая ей, сколь опасен был, учитывая безнадежное состояние короля, этот заговор для герцога Анжуйского, она повела себя достойно, не желая совершать столь чудовищное преступление — обрекать на смерть собственных сына и зятя. Правда, она потребовала от них полного признания и покаяния — и получила: главные заговорщики «признались», что их подбили на заговор Ла Моль и Коконна. Принц Конде, которого в момент заговора не было при дворе, бежал к немецким князьям, навсегда выскользнув из рук Екатерины.
В этом заговоре «политиков» и «недовольных» оказались замешанными и такие важные персоны, как маршалы Монморанси и Коссе, которых в качестве наказания посадили в Бастилию, а также знаменитый астролог королевы-матери Козимо Руджери. Хотя этот колдун и внушал многим страх, ему тоже не удалось избежать ареста. Поводом для этого послужило обнаружение у Ла Моля восковой фигурки, какие использовал в своих колдовских целях Руджери. Стали допытываться, кого изображает эта фигурка, и решили, что — короля, которого враги задумали извести подобным способом. Jla Моль и Руджери отпирались, уверяя, что фигурка изображает королеву Марго, которую собирались завлечь подобным способом в постель к Ла Молю. Екатерина, хорошо изучившая свою дочь, знала, что не требовались столь исключительные меры для разжигания ее любовной страсти. Отговорка Руджери показалась неубедительной, и его приговорили к ссылке на галеры, однако колдуну удалось избежать злой участи. Вероятнее всего, он даже и не успел добраться до галеры, поскольку Екатерина, которой колдуны и гадатели заменяли религию, простила его и возвратила в свой ближний круг.
Не имея возможности или не желая привлечь к ответственности главных виновников, королева-мать срывала злость на пособниках, тех, кому отводились в заговоре второстепенные роли. Самую страшную цену заплатили Ла Моль и Коконна. Им публично на Гревской площади отрубили головы. Маргарита, возлюбленная де Ла Моля, и герцогиня де Невер, предававшаяся любовным утехам с Коконна, совершили безумный поступок, о котором в хрониках того времени повествуется в различных версиях: в более умеренной интерпретации, они похитили тела своих возлюбленных, дабы похоронить их в освященной земле аббатства Сен-Мартен-су-Монмартр, в более пикантном варианте — похитили только головы, которые похоронили в известном лишь им месте, предварительно уложив их в золотые ковчежцы. Самую невероятную историю поведал в своем сборнике исторических анекдотов Тальман де Рео: эти две экстравагантные дамы, облачившись в знак траура по утраченным любовникам в платья, украшенные костями и черепами, распорядились забальзамировать сердца Ла Моля и Коконна, уложили их в золотые футлярчики и потом носили в мешочках под своими фижмами.
Благополучно избежав угрозы заговора, Екатерина, словно для полноты счастья, была вознаграждена судьбой за долгое пятнадцатилетнее ожидание: в ее руки попал граф Монтгомери, невольно послуживший в свое время причиной безвременной смерти Генриха II. В ходе успешной военной операции в Нормандии маршал Матиньон 25 мая 1574 года взял его в плен и доставил в Париж, где по приговору суда его обезглавили, а затем еще и четвертовали его бездыханное тело. При этом на лице Екатерины, присутствовавшей на казни, не отразилось никаких эмоций: маска, которая с юных лет словно приросла к ней, скрывала ее истинные чувства.
После наказания виновников заговора Карлу IX ненадолго полегчало, но потом началась долгая агония, сопровождавшаяся кошмарами. Будучи более впечатлительным, чем его мать, он проводил бессонные ночи, мучаясь угрызениями совести за преступления, которые сам же позволил совершить. Из-за таинственной болезни всё его тело покрывалось кровавым потом. Он в ужасе беспрестанно повторял своей старой кормилице-гугенотке, не отходившей от его изголовья: «Кормилица, кормилица, что за кровь вокруг меня? Не та ли, что пролилась по моей вине? Какой страшный совет мне дали!» Та, как могла, успокаивала его. Впрочем, такова версия гугенотов; католики же утверждали, что Карл IX ни о чем не сожалел и покинул этот мир, не испытывая душевных мук.
Уже третий сын на престоле
Едва король навсегда закрыл глаза, как Екатерина отправила в Польшу к Генриху нарочного с сообщением, что пора возвращаться во Францию. Король умер, да здравствует король — Генрих III. Король Польский, которому за несколько месяцев успели до смерти надоесть и страна, и его теперешнее положение, с готовностью откликнулся на призыв. Тайком покинув королевский дворец в Кракове, он, преследуемый пустившимися за ним в погоню подданными, устремился к границе, которую сумел благополучно пересечь. Поскольку прямой путь через протестантские княжества Германии ему был заказан, ехать пришлось кружным путем, через Австрию и Италию. В Вене император Священной Римской империи германской нации Максимилиан II оказал Генриху роскошный прием, втайне рассчитывая, что новый король Франции женится на его дочери, вдове Карла IX. Продолжив путь, беглец прибыл в Венецию, где дож устраивал в его честь такие празднества, которые невозможно было и представить себе во Франции. Жизнь в Венеции настолько понравилась Генриху, что он застрял там на целых два месяца и пробыл бы еще дольше, если бы Екатерина Медичи не приняла решительные меры, дабы поторопить сына с возвращением на родину.
Во время его отсутствия Екатерина вынашивала амбициозные планы, намереваясь представить сыну, когда тот вернется, умиротворенное и сплоченное королевство, верное своему суверену, так что королю останется лишь наслаждаться жизнью, тогда как она, незаменимая, возьмет на себя все заботы по управлению государством. Однако для этого предстояло еще многое сделать. Одна опасность, исходившая от заговорщиков, была ликвидирована, но оставалась другая: по всему королевству зрели очаги бунта, который готовили «политики» и «недовольные». Бежавший принц Конде подстрекал лютеранских князей Германии для нового вторжения во Францию. Поскольку королевская армия в тот момент фактически не существовала, а сам король развлекался в Венеции, Екатерине оставалось лишь полагаться на успех переговоров со своими неприятелями. Верная себе, она давала им обещание за обещанием и по мере возможности подкупала их вождей. Чтобы Генрих по возвращении мог противопоставить врагам хоть какую-то армию, она набрала в Швейцарии наемников.
Охваченная нетерпением, Екатерина не стала дожидаться прибытия Генриха в Париже, устремившись ему навстречу. В Лионе, пока артиллерийские залпы не возвестили, что король пересек границу своего королевства, она в компании своего старинного приятеля герцога Немура инспектировала местные вооруженные отряды. Не упустила она и случая пообщаться с жившими в городе итальянскими банкирами, заручившись их согласием предоставить кредит. С войском и деньгами можно было увереннее смотреть в глаза надвигавшейся военной угрозе. Наконец, после долгой, почти двухлетней разлуки, мать и сын встретились. Это была волнующая встреча. По свидетельству испанского посла, они, обнявшись и со слезами на глазах, проговорили целый час. Генрих, бросившись в объятия матери, сделал знаменательное признание: «Мадам, дорогая моя мать, подарившая мне жизнь, теперь я обязан вам еще и своей свободой и короной». В завершение сцены встречи он, встав на колени перед матерью, целовал ей руки.
Екатерина была без ума от своего любимого сына, считая бесспорными его великие достоинства и стараясь не замечать его недостатки. Неблагоприятные обстоятельства, полагала она, мешают ему в полной мере проявить свои таланты. «Он может всё, стоит лишь ему захотеть», — любила повторять Екатерина. Беда была в том, что он хотел то одного, то другого, стремительно переходя от увлечения к увлечению — а ведь ему предстояло править в непростое время и в непростой стране, править подданными, которые, мягко говоря, не сочувствовали его причудам. Когда он прибыл в родные пределы, французов поразили происшедшие с ним перемены. Их новый король, считали они, переменился не в лучшую сторону, хотя и прежде замечали в нем много такого, что не могло понравиться благородным господам, пытавшимся выглядеть элегантными и утонченными, но в сущности остававшимся солдафонами. Когда Генрих III был еще ребенком, фрейлины его матери часто забавлялись с ним, наряжая в женское платье, опрыскивая духами и украшая, как куклу. С детства у него осталась привычка носить плотно облегающие камзолы, кольца, ожерелья, серьги, пудриться и красить губы помадой. В остальном же он был вполне нормальным принцем: участвовал в придворных попойках, не пропускал ни одной юбки и, по свидетельству хрониста, заслужил славу «самого любезного из принцев, лучше всех сложенного и самого красивого».
Пребывание в Венеции, где он предался самому безудержному разгулу, резко изменило его. Костюмированные балы, фейерверки, карнавалы опьяняли его, пробудив в нем скрытую чувственность и порочную склонность к извращениям. По возвращении в Париж он устроил свою жизнь наподобие карнавала или бала-маскарада, преобразив и тело, и душу. Сначала он стал носить серьги, затем ввел в моду пышные короткие панталоны выше колен, напоминавшие фижмы. Наконец, как-то раз на Крещение он появился перед ошеломленным двором, одетый в казакин с круглым вырезом на обнаженной груди, с шеей в расшитых брыжах, с волосами, перевитыми жемчужными нитями, посасывая конфеты и играя шелковым кружевным веером. Его выщипанный подбородок, лицо, вымазанное румянами и белилами, и напудренная голова еще больше усиливали его сходство с женщиной. Замечая гомосексуальные наклонности сына, Екатерина пыталась по-своему «лечить» его, устраивая застолья, во время которых королю прислуживали совершенно обнаженные девушки.
Впрочем, у Генриха III была и одна женская привязанность — Мария Киевская, супруга принца Конде, ставшая его любовницей. Вернувшись во Францию в качестве короля, он задумал ни много ни мало развести ее с супругом и самому жениться на ней. Только такого скандала и не хватало еще во Французском королевстве! Екатерина не могла допустить ничего подобного, но ей даже не пришлось принимать свои меры, поскольку несчастная женщина умерла при родах. Отчаяние Генриха III было воистину беспредельно. Даже опасались за его рассудок. Нарыдавшись до полного изнеможения, он обращался к показному мистицизму, участвуя в покаянных процессиях флагеллантов. Нередко можно было видеть его босого, в робе из грубой шерстяной ткани и капюшоне с прорезями для глаз, идущего во главе процессии кающихся придворных. Однако эти процессии, всякий раз сменявшиеся оргиями, не вызывали среди правоверных католиков-парижан ничего, кроме раздражения.
Вместе с тем, несмотря на свое шокирующее поведение, Генрих III обладал и бесспорными достоинствами — умом, проницательностью, политическим чутьем и даже волей. Он мог бы стать неплохим королем, если бы ему довелось править в более спокойное время. Однако с самого начала ему пришлось столкнуться с экстремистами двух партий, править в расколотом королевстве. Памятуя о его победах при Жарнаке и Монконтуре, католики ждали от него небывалых чудес, тогда как протестанты люто ненавидели его как убийцу Колиньи. Те и другие едины были в своем порыве дискредитировать его, распуская о нем сплетни и публикуя пасквили. Подобно Екатерине Медичи, он, сообразно сложившейся обстановке, искал поддержку то в одной, то в другой партии и старался использовать любую возможность для укрепления своего авторитета.
В период междуцарствия Екатерина заключила перемирие с протестантами, что давало новому королю возможность определить свою собственную политику. 13 февраля 1575 года в Реймсе состоялась необычайно пышная коронация Генриха III, на которую не пожалели средств. Когда возложили корону на голову нового короля, измученного пятичасовой церемонией коронации, он лишь сказал: «Она причиняет мне боль». Всё его трагическое правление оправдало пророческий смысл этих слов. На следующий день Генрих III венчался с Луизой Воде-мон, герцогиней Лотарингской. Хотя это была весьма достойная принцесса, наделенная чистым и добрым сердцем, до последнего дня обожавшая своего супруга, Екатерина пыталась было отговаривать сына от женитьбы на ней, считая ее недостаточно знатной и богатой, чтобы стать королевой Франции (она была представительницей младшей ветви Лотарингского дома). Кроме того, королева-мать резонно опасалась, как бы Гизы, старавшиеся после Варфоломеевской ночи держаться в тени, вновь не обрели влияние, когда их очередная родственница станет королевой — как в приснопамятные времена Марии Стюарт... Без Гизов, полагала она, ей легче будет находить общий язык с «политиками» и гугенотами. Однако Генрих и слышать не хотел ни о какой другой принцессе. Секрет его неожиданной привязанности к Луизе был прост: она поразительно походила на Марию Клевскую, что сразу же бросилось ему в глаза, когда он впервые увидел ее более полутора лет назад, на пути в Польшу. В лице Луизы для него словно воскресла Мария. Разумеется, Екатерина не могла перечить своему любимчику и уступила ему без борьбы, хотя у нее на примете были и более выгодные в политическом отношении варианты династического брака.
Гораздо больше огорчения доставляло ей отношение Генриха III к сестре Марго и брату Алансону: он откровенно ненавидел их, и они платили ему тем же. Генрих знал, что пока он находился в Польше, Марго и Алансон плели против него нити заговора, дабы помешать ему возвратиться во Францию и занять королевский трон, который королева-мать берегла для него. По возвращении он решил отомстить сестрице, сообщая ей о любовных похождениях ее супруга. Откуда ему было знать, что Генрих Наваррский и Марго давно уже не жили как муж и жена, оставаясь при этом добрыми приятелями и беспрепятственно предаваясь свободной любви! Тем самым он лишь давал им повод на пару посмеяться над собой. Брата же Алансона, и прежде нелюбимого, он смертельно возненавидел после того, как тот задумал нападение на королевский кортеж, двигавшийся из Лиона в Париж по Бургундии, кишевшей вооруженными протестантами. Целью этой безумной авантюры был захват короля, а затем и королевского престола Франции. Алансон считал гугенотов орудием для реализации своих планов, но в действительности был лишь игрушкой в их руках. Авантюра провалилась, а ненависть короля к ничтожному брату осталась и в дальнейшем все более возрастала. Каких усилий стоило Екатерине сдерживать сыновей, чтобы они не перерезали друг другу горло!
Спустя две недели после бракосочетания Генриха III Екатерина была сражена страшной вестью: ее дочь Клод, герцогиня Лотарингская, умерла в возрасте двадцати шести лет. С горя королева даже слегла, терзаемая жестокой лихорадкой. А тем временем ее любимый сын Генрих, на которого не произвели ни малейшего впечатления ни безвременная кончина сестры, ни глубина скорби, переживаемой матерью, бессовестно предавался развлечениям в компании своих приятелей, пресловутых миньонов, едва поспевая с бала на охоту и с охоты на бал. Зная об этом, Екатерина одинаково оплакивала и смерть дочери, и бесстыдное поведение своего дорогого сына, который явно ускользал из-под ее влияния. Пренебрегая советами матери, он внимал только своим драгоценным миньонам, безвольно двигаясь навстречу собственной погибели. «Он скатывается», — говорили в Париже, единодушно осуждая поведение этого непопулярного короля.
Война и мир брата короля
И все же не было таких огорчений, которые могли бы заставить Екатерину забыть о политике. В апреле 1575 года от губернатора Лангедока герцога Дамвиля прибыла делегация, предварительно побывавшая в Базеле у Конде и получившая от него инструкции. К своим традиционным требованиям мятежники прибавили еще одно: незамедлительно созвать сессию Генеральных штатов. От депутатов этого собрания можно было ожидать чего угодно, поэтому Екатерина, верная себе, решила тянуть время. Не отвергая с ходу предъявленные ей требования, она выразила пожелание, чтобы эмиссары Дамвиля дополнительно обсудили их со своими вожаками и пасторами, дабы внести некоторые уточнения, и для этого возвратились в Лангедок. Путь туда был не близкий, а Дамвиль тяжело болел, поэтому Екатерина питала надежду, что после кончины герцога можно будет начать переговоры с чистого листа. Всё та же тактика: тянуть переговоры, выигрывая время. Однако Дамвиль и не думал умирать, и его делегация вновь прибыла в Париж, как никогда полная решимости поставить короля и его мать на колени.
Плохие новости для Екатерины. Она, возможно, и на этот раз придумала бы что-нибудь, продолжая затягивать переговоры, если бы не открылось, что авангард армии Конде и Дамвиля, знаменем которого был брат короля, окопался прямо в Лувре. Мозговым центром заговорщиков была королева Марго, любовными чарами привлекавшая на службу себе нужных ей людей. Едва успела скатиться голова с плеч Ла Моля, как она обольстила Бюсси д’Амбуаза, имевшего репутацию опасного бретера и собравшего вокруг себя целый отряд подобных себе. Этой «гвардии» королевы Марго противостояли королевские миньоны. Генрих III буквально натравливал их на ненавистного ему Алансона (во избежание путаницы будем и дальше называть так младшего брата короля, Месье, хотя после смерти Карла IX он унаследовал от Генриха титул герцога Анжуйского), заставляя публично потешаться над ним и не приветствовать его, как полагается. Герцог Алансон и Генрих Наваррский после провала заговора находились под постоянным надзором Екатерины. Они тяготились своим положением пленников при королевском дворе и мечтали о побеге. Королева Марго взялась помочь им в этом. Побег Генриха Наваррского неоднократно срывался, что невольно порождало сомнение в его желании упорхнуть из «золотой клетки» Валуа. Зато побег Алансона удался с первой попытки. 15 сентября 1575 года Марго устроила ему якобы любовное свидание в доме с двумя входами. Пока приставленные к нему люди королевы-матери караулили его у главного входа, он покинул дом через другой выход и уехал в специально подготовленном для него экипаже в город Дрё, где был в полной безопасности.
После побега Месье последовало бурное выяснение отношений короля с матерью. Генрих III обвинил ее в попустительстве, ибо она, не вняв его совету держать Алансона под жестким контролем, обходилась с ним слишком мягко. Опять Екатерина стала жертвой собственных миротворческих устремлений: мечтая о примирении сыновей, она давала как можно больше свободы Месье в надежде, что тот проникнется признательностью к старшему брату и помирится с ним. Она проиграла и была уязвлена в своих лучших чувствах.
Бегство Алансона повлекло за собой два важных последствия. Первое касалось лично Екатерины: Генрих III лишил ее права первой вскрывать и читать депеши. Хотя она и сохранила свое место в королевском совете, однако ее голос утратил былую весомость. Ее мнение выслушивали, но далеко не всегда прислушивались к нему. Можно было лишь догадываться о том, какие чувства переполняли ее, ибо маска невозмутимости скрывала всё, что бушевало в глубине ее души. Второе, более тяжелое последствие касалось уже королевства в целом: Алансон возглавил войну против брата и матери. Мятежников не смущало, что они вручают руководство, по крайней мере формальное, полному ничтожеству, поскольку это ничтожество было братом короля и ближайшим наследником короны. Сам факт его присутствия придавал мятежу видимость законности.
Положение становилось угрожающим, учитывая, что Конде подготовил вторжение германских наемников в Шампань и Бургундию. Вновь надо было принимать срочные меры. Первое время после побега вероломного сына Екатерина была столь зла на него, что собиралась устроить погоню за ним, арестовать его и заточить в тюрьму. Однако подобный образ действий был не в ее правилах. К тому же материнское сердце отходчиво, и она решила воздействовать на беглеца уговорами. Отправившись по его стопам, она после десяти дней изнурительной езды по плохим дорогам застала его в Шамборе. Не теряя попусту время на препирательства, Екатерина согласилась удовлетворить не только требования сына, но и пожелания его друзей-«политиков» и даже гугенотов, согласившись предоставить в их распоряжение крепости и дать им денег, а вдобавок ко всему освободить содержавшихся в Бастилии маршалов-заговорщиков Монморанси и Коссе. Месье мог ликовать и похваляться, что мать и король уступили ему.
Екатерина же готова была на любые уступки, лишь бы Конде с германскими наемниками не вторгся во Францию. Заключив своего рода перемирие, она тут же написала Дамвилю, что ждет его представителей для подписания мира. Не предъявляя предварительных условий, она сигнализировала, что заранее готова принять условия мятежников. Однако на Конде это не произвело впечатления. Не дожидаясь окончания переговоров, он направил во Францию авангард своей армии под командованием брата Дам-виля, Торе-Монморанси (еще одного сына коннетабля Монморанси, столько лет служившего опорой и поддержкой Екатерины). К счастью для короля, на их пути встал герцог Гиз. В который уже раз клан Гизов, объявленный чуть ли не главным врагом дома Валуа, пришел на выручку ему — теперь в лице герцога Генриха. В результате сражения при Дормане, состоявшегося 10 октября 1575 года, продвижение интервентов было остановлено. Сам герцог получил ранение в щеку, напоминавшее рану его отца и позволившее ему также носить прозвище Меченый — своего рода знак отличия, еще более повышавший его престиж среди католиков, особенно парижан. Собственной славой он совершенно затмил Генриха III, питавшего к нему, вместо благодарности, лютую зависть.
Благодаря уступкам, сделанным Екатериной, и победе, одержанной Генрихом Гизом, удалось склонить Месье к подписанию перемирия в Шампиньи. Королева-мать сумела, по крайней мере на время, остановить гражданскую войну, однако в рядах роялистов возникла мощная оппозиция тому, что открыто называли капитуляцией перед мятежниками. Губернаторы провинций и не думали передавать протестантам города, переходившие к ним по условиям перемирия, а Генрих III решительно отказался выплачивать 500 тысяч ливров, обещанных его матерью германским наемникам только за то, чтобы они оставались по ту сторону Рейна. Своим отказом он фактически перечеркнул результаты миротворческих усилий матери, тем самым причинив ей великое огорчение. Прошли времена, когда Карл IX беспрекословно подписывал любой представленный ею документ, а ее дорогой Генрих клялся в любви к ней. Сама-то она до последнего вздоха не перестанет любить его, безропотно снося от него любые обиды...
Перемирие, подписанное братом короля, оказалось под угрозой. Впрочем, и сам Месье не горел желанием соблюдать его, не собираясь при этом отказываться от того, что было предоставлено ему по условиям временного соглашения. Чтобы найти формальный повод для отказа от перемирия, он 9 января 1576 года заявил, что по приказу Генриха III его пытались отравить, поэтому он считает себя свободным от каких-либо обязательств в отношении его. Не утруждал себя соблюдением обязательств и Конде, поэтому спустя месяц после заявления Месье германские наемники вторглись во Францию. Разочарование Екатерины было столь велико, что она, обремененная летами и застарелыми болезнями, слегла. Король не смог воспрепятствовать продвижению интервентов, и к концу февраля они заняли Бурбонне, намереваясь с наступлением весны соединиться с войсками Дамвиля в Лангедоке. Половина королевства ускользала из-под власти короля. Екатерину ждали новые испытания.
Ко всем прочим неприятностям в начале февраля 1576 года добавился еще и побег Генриха Наваррского, пополнившего собой ряды мятежников. Правда, возникает вопрос, не было ли тонкого расчета королевы-матери в том, что она «проглядела» бегство зятя: ведь она не только не стала преследовать беглеца, но и позволила последовать за ним его слугам со всем имуществом, включая и личную мебель короля Наваррского. Расчет мог состоять в том, что чем больше будет среди гугенотов претендентов на лидерство, тем ожесточеннее разгорится соперничество между ними со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так и вышло: принц Конде прямо заявил, что было бы хорошо, если бы король Наваррский предоставил гугенотам, которые до сих пор вполне обходились без него, заниматься своими делами и не мешать им. В очередной раз Екатерина Медичи проявила тонкое политическое чутье.
Обретя свободу, Генрих Наваррский не спешил ввязываться в борьбу, наблюдая за тем, как складывается политическая обстановка в королевстве. Это было истолковано гугенотами не в его пользу. Вожди движения пользовались этим обстоятельством, чтобы не допустить его к дележу пирога. Конде претендовал на губернаторство в Пикардии, Дамвиль — в Лангедоке, а брат короля, Месье, он же герцог Анжуйский, надеялся выкроить себе апанаж в составе Анжу, Берри и Турени. Что же касается германского союзника Конде, Иоганна Казимира, сына курфюрста Пфальцского, то он требовал три епископства —
Мец, Туль и Верден. Месье имел армию численностью в 30 тысяч человек, пополненную за счет многочисленных иностранных контингентов. Располагая достаточными силами, чтобы двинуться на Париж, он тем не менее медлил, видимо, не желая слишком сильно оскорбить короля, своего брата. Его союзники, Конде, Иоганн Казимир и Тюренн, которым надоели эти проволочки, потребовали от него решительных действий, в противном случае обещая начать войну без него. Предназначенная к вторжению армия стояла наготове.
Не имея средств для обороны Парижа и, кажется, не горя желанием сражаться, Генрих III был вынужден вступить в переговоры со своим младшим братом. Правда, при этом он и с места не тронулся, предоставив заниматься столь многотрудным делом своей престарелой больной матери. И опять Екатерине пришлось отправляться в путь, чтобы уламывать своего беспутного сына. Поторговавшись для виду, он, явно не желая таскать из огня каштаны для Конде, Тюренна и прочих, принял условия мирного соглашения. По этой причине договор, подписанный в Больё 6 мая 1576 года, получил название «мир брата короля» или «мир Месье». Протестанты обрели восемь крепостей, представительство в каждом из провинциальных парламентов и возможность свободно отправлять свой культ по всему королевству, кроме Парижа и его предместий на расстоянии двух лье, а также королевских резиденций. «Политики» торжествовали: маршалы Монморанси и Коссе были восстановлены в своих должностях. Дамвиль сохранил за собой должность губернатора Лангедока, сопряженную с полномочиями, которые делали его независимым вице-королем. Месье, он же герцог Анжуйский, как и хотел, получил одноименный апанаж — Анжу, а также Турень и Берри. За Конде закрепили управление Пикардией. Зато Иоганну Казимиру пришлось испытать разочарование: вместо вожделенных трех епископств ему предложили в порядке компенсации 300 тысяч экю. Не был забыт и Генрих Наваррский: ему досталось губернаторство в Гиени.
Король Франции, видимо, считал условия подписанного мира настолько выгодными для себя, что распорядился отслужить в соборе Парижской Богоматери торжественную мессу с исполнением благодарственного гимна «Тебя, Господи, славим». Возможно, и вправду он кое-чего добился, скомпрометировав Месье в глазах его союзников. Опасный для центральной королевской власти союз католиков и умеренных протестантов дал трещину. Гугеноты стали более недоверчивы, усматривая в уступчивости короля подвох. Что же касается католиков, то они видели в свободе отправления еретиками своего культа угрозу для государства и позор для себя. Обстановка взаимной подозрительности находила свое выражение в том, что вожди мятежников, не доверявшие друг другу и королю, не спешили появляться при дворе. Когда Месье захотел вступить в Бурж, католический город, в компании принца Конде, своего вчерашнего союзника, тот отказался, заявив, что там обязательно найдется какой-нибудь мерзавец, который, целясь якобы в другого, попадет ему в голову.
Лига, новая война и «мир короля»
Ситуация, сложившаяся после подписания мира в Больё, представлялась опасной руководителям католической партии. Не желая идти ни на какие компромиссы с еретиками, они организовались для отражения общих для них угроз. Генрих Гиз, которого победа при Дормане и шрам на лице сделали весьма популярным, а управление провинциями — весьма могущественным, учредил Лигу, имевшую своей целью защищать провинции Франции, давая им льготы и свободы, какими они не располагали со времен Средневековья. Основная идея Гиза — объединить вокруг себя католиков, по возможности привлечь на свою сторону также и умеренных протестантов и при их поддержке завладеть короной Франции. Конде к числу умеренных не принадлежал, и ему не удалось вступить в должность губернатора Пикардии, где он натолкнулся на мощное сопротивление лигёров. Те же трудности ожидали его и в городах, переданных по мирному договору под его управление. Лига, костяк которой составляли воинствующие католики, стремительно набирала авторитет и популярность в народе. Лигёры заявляли, что объединились во имя защиты законов и исконной религии Французского королевства. Они обязались слепо подчиняться своим вожакам и всячески вовлекать в организацию новых членов — дворян, солдат, торговцев и простых крестьян. Вступая в Лигу, точно в духовно-рыцарский орден, приносили присягу, и это придавало организации некий ореол таинственности, делало ее еще более привлекательной. Особым влиянием и популярностью Лига с самого начала пользовалась в Париже, где ее возглавлял президент Парижского парламента, близкий друг Гизов. Неформальным же лидером организации оставался сам Меченый.
Вскоре под знаменами Лиги уже находилось около 50 тысяч человек кавалерии и 30 тысяч пехоты. Провозглашая своей целью восстановление авторитета короля и католической религии, на деле Лига служила интересам Гизов. Подобной мощи протестантам нечего было противопоставить, тем более что единства среди них не было. Герцог Анжуйский, Месье, обосновался в Бурже и совершенно пренебрегал прежними друзьями. Король Наваррский, как и предполагала Екатерина Медичи, встретил среди гугенотов далеко не тот прием, на который, вероятно, рассчитывал. Дамвиль и Конде, резонно полагая, что гораздо лучше, нежели он, послужили делу протестантизма, не спешили признавать его верховенство.
Екатерина отчетливо сознавала, какую угрозу для короны представляет теперь герцог Гиз, поддерживаемый всей военной мощью Лиги. Она и подсказала сыну-королю, как хитростью обойти его. Прислушавшись на сей раз к совету матери, Генрих III провозгласил себя главой Лиги, тем самым оттеснив опасного соперника на второй план. Чтобы упрочить свой авторитет, король, опять же по совету матери, созвал Генеральные штаты, заседание которых открылось 6 декабря 1576 года в Блуа. Усилия Лиги, поддержанной иезуитами, не пропали даром: на сессию собрались почти исключительно католики, тогда как протестанты, настойчиво добивавшиеся созыва Генеральных штатов и рассчитывавшие быть широко представленными на них, оказались в ничтожном меньшинстве. На открытии Генрих III произнес замечательную речь, взывая к примирению и единству, хотя на уме у него было совсем другое: вырвать из рук лигёров лидерство и покончить с протестантизмом, что выбило бы почву из-под ног Ги-зов. Король вознамерился возглавить католическое движение. Ход удался, но его последствия не были должным образом просчитаны. Поскольку большинство депутатов разделяли идеалы Лиги, за подавление протестантизма во Франции проголосовали с готовностью, тем самым спровоцировав очередную, уже шестую по счету, гражданскую войну, которая продолжалась в течение нескольких месяцев в 1577 году и разворачивалась главным образом в Сентонже и Лангедоке.
Однако Генеральные штаты, высказавшись за искоренение протестантизма во Франции, медлили с вотированием субсидий, необходимых для формирования королевской армии. Прежде чем вводить новые налоги, следовало бы, полагали депутаты, сократить чрезмерные, по их мнению, расходы королевского двора. И тем не менее лигёры под командованием герцога Анжуйского, вчерашнего «недовольного», испытавшего чувство удовлетворения от щедрости короля, взяли Ла-Шарите и Иссуар. Гугенотский флот Ла-Рошели был разгромлен флотилией Бордо. Главному оплоту французского протестантизма грозила осада, которую он едва ли мог выдержать. Гугеноты оказались в отчаянном положении. А что было бы, если бы Генрих III получил необходимые субсидии? Впрочем, король не собирался наносить противнику окончательное поражение. Он предпочитал проводить столь любезную сердцу Екатерины Медичи политику качелей: наличие протестантов в какой-то мере парализовало действия Гизов. Итак, Генрих III перевел двор в Пуатье, но не для того, чтобы взять на себя командование армией, а чтобы начать переговоры, одним из главных участников которых выступал Генрих Наваррский, не отличившийся активностью в военных действиях и тем заслуживший признательность короля и королевы-матери. Бержеракский мир, подписанный 17 сентября 1577 года, можно было бы назвать «миром короля», учитывая ту роль, которую сыграл при его подготовке Генрих III. В общих чертах он подтверждал положения «мира брата короля». Дополненный в конце месяца важным документом — эдиктом Пуатье, он гарантировал гугенотам право свободного отправления культа и предоставлял в их распоряжение ряд крепостей. Были реабилитированы жертвы Варфоломеевской ночи. Объявлялось о роспуске Лиги и Протестантской конфедерации, что позволяло королю занять подобающее ему место выразителя и защитника интересов всех его подданных. Секретные статьи договора определяли юридические и административные условия мирного сосуществования католиков и протестантов. Гугеноты, судя по недовольным высказываниям их вождей, получили меньше того, на что рассчитывали, однако, учитывая их более чем скромные успехи на поле брани, гораздо больше, чем заслужили.
Как и следовало ожидать, этот мирный договор, отличавшийся взвешенным подходом к решению трудных вопросов, вызвал всеобщее недовольство. Лигёры, продолжавшие плясать под дудку клана Ги-зов, упрекали Генриха III в том, что он поторопился кое-как заключить мир, чтобы поскорее вернуться к разгульной жизни, к своим любимчикам-.мш/ь0шш и комнатным собачкам. Протестанты укоряли Генриха Наваррского за то, что он сделал католикам слишком большие уступки, дабы получить определенные гарантии лично для себя. Никогда еще его положение среди единомышленников не было столь шатким. Заключенный мир бойкотировал его родной Беарн, оплот и надежда гугенотов. Подданных короля Наваррского в равной мере раздражали как его пресная политика лавирования, так и его распутная жизнь. Екатерина же была довольна: война прекращена, и вновь воцарился мир, сколь бы хрупок он ни был.
Бремя материнской ответственности
Между тем Месье, получивший по условиям двух последних мирных соглашений больше, чем кто бы то ни было, мечтал о собственном королевстве — в Нидерландах. В 1576 году эти непокорные провинции вновь восстали против испанского господства. Филипп II направил гуда для наведения порядка нового губернатора — дона Хуана Австрийского, и тогда Вильгельм Оранский, руководитель восстания, в поисках поддержки обратил свои взоры на Францию, сделав Месье предложение, от которого тот не смог отказаться. Младший сын Екатерины Медичи уже видел себя королем Нидерландов, освобожденных от испанского гнета благодаря его гению и армии, которую предоставит в его распоряжение Генрих III. Королева Марго согласилась выступить в роли посредницы. Она отправилась во Фландрию и, расточая свои неотразимые чары, сумела заручиться поддержкой представителей местной аристократии. Однако это не заменяло армии, способной изгнать испанцев и посадить Месье на трон. 31 января 1578 года дон Хуан нанес в битве при Жамблу сокрушительное поражение фламандцам. Узнав об этом, Месье срочно покинул Лувр и помчался к своим будущим, как он полагал, подданным. Екатерина, сознававшая, сколь катастрофические последствия для Франции может иметь очередная безумная выходка ее беспутного сына, устремилась вслед за ним, настигнув его лишь в Анжере. Лживый Месье клятвенно заверил мать, что не станет предпринимать ничего такого, что повредило бы интересам Французского королевства, а сам тайком сообщил фламандцам, что готов встать во главе их и возобновить войну, дабы изгнать испанцев.
Очередная нелепая авантюра сына привела Екатерину в отчаяние. По какому праву Месье позволил себе вмешиваться во внешнюю политику королевства? Как смеет он провоцировать ярость короля и вовлекать Францию в войну против Испании, которую королева-мать всегда старалась предупреждать всеми доступными ей средствами? Филипп II вполне мог истолковать амбициозные намерения брата короля как планы самого короля Франции в отношении Испанских Нидерландов. Екатерина со всей своей силой убеждения пыталась втолковать сыну, что задуманное им лишено всякого смысла. Даже если они с Вильгельмом Оранским изгонят испанцев, нет никакой гарантии, что он получит обещанное. Скорее всего, его отблагодарят тем, что изгонят из страны. Кроме того, Елизавета Английская сделает все для того, чтобы не допустить французского доминирования во Фландрии.
Месье слушал мать, согласно кивая, а сам неотступно думал о своем. Екатерина не могла постоянно следить за ним, и он продолжил подготовку вторжения в Нидерланды, сумев собрать двадцатитысячную армию, готовую пересечь границу Фландрии. Следующим его шагом явилось предъявление ультиматума брату-королю: или ему предоставляют должность генерального наместника королевства, или он вторгается в Нидерланды, тем самым развязывая войну с Испанией. То ли не ожидая услышать от короля ничего утешительного для себя, то ли просто от нетерпения он, не дожидаясь ответа, со своей армией пересек границу и 11 июля 1578 года занял Моне. Екатерина получила возможность оценить искренность обещаний своего сына. Дабы предотвратить катастрофу, она обратилась к папе как посреднику с просьбой убедить Филиппа II, что Генрих III не имеет ничего с общего с безумной авантюрой брата, которую он официально дезавуирует. Одновременно она умоляла младшего сына возвратиться со своей армией во Францию, но тщетно — тот во что бы то ни стало хотел получить корону. Что же касается самого Генриха III, то он, пока мать предпринимала воистину нечеловеческие усилия по спасению зашатавшегося под ним трона, испытывал чувство глубокого удовлетворения от того, что любезного братца нет в пределах королевства, где он обязательно разжег бы очередную гражданскую войну. Король даже послал ему во Фландрию деньги, чтобы он геройствовал там как можно дольше. Трудно помогать тому, кто сам себе не помогает, но Екатерина все равно не опускала рук — она была подлинной правительницей королевства, сознавая собственную ответственность и за страну, и за тех, кому подарила жизнь.
В то время как Месье продолжал свои подлые интриги, играя на нервах у матери, ей пришлось озаботиться еще одной проблемой. Лангедок, так и не признавший Бержеракского мира, грозил новым восстанием. Вызывала беспокойство и ситуация в Гаскони. Кому же следовало отправиться в долгий и трудный путь, чтобы убеждать непокорных южан соблюдать мир в королевстве? Не самому ли королю? Конечно же нет! Генриху III, слишком занятому своими миньонами, терзаемому ненавистью или завистью то к одному, то к другому, было не до того. В долгий и трудный путь пришлось, несмотря на свои 59 лет, отправиться его матери.
Не сторонница лобовых атак, Екатерина постаралась придать этому политическому мероприятию видимость сугубо семейного дела. Выступая в роли доброй мамаши, она заявила, что отправляется в Гасконь, дабы воссоединить свою дочь Маргариту с ее супругом Генрихом Наваррским. Супруги, уже более двух лет жившие в разлуке, но, похоже, не скучавшие друг без друга, в принципе, были не против встретиться. В отличие от непутевого Месье Екатерина собиралась делать политику, не причиняя никому зла, напротив, упрочивая, как того требовал ее материнский инстинкт, супружеские узы. Во избежание неприятных сюрпризов в пути ей должен был предшествовать, расчищая дипломатические завалы, верный Бельевр.
2 августа 1578 года Екатерина с дочерью двинулась в путь в сопровождении свиты из трехсот человек, в которой важное место отводилось фрейлинам королевы, ее «летучему эскадрону». В состав свиты, дабы польстить Генриху Наваррскому, была включена мадам де Сов, с которой он находился в весьма тесных отношениях в бытность свою в Лувре, а также, видимо для его устрашения, — четверо католиков Бурбонов: кардинал Бурбон, герцог и герцогиня де Монпансье, а также вдова покойного принца Конде. При королеве-матери находились также ее советники по политическим вопросам, в том числе и пользовавшийся ее особым доверием Жан де Мон-люк, епископ Валансский. Маргариту сопровождали наиболее приближенные к ее особе лица, такие как Брантом, не устававший расточать в ее адрес комплименты. На сей раз кортеж Екатерины не был ни столь внушительным, ни блестящим, как во время большого королевского турне по Франции, да и средств, предоставленных в ее распоряжение, едва хватало на самое необходимое. Генрих III обошелся с матерью как с обычным королевским чиновником, отправленным в инспекторскую поездку. Для сравнения: один бал в Тюильри в то время обходился в сумму, которой было бы достаточно на десять лет путешествия, подобного тому, в которое отправилась Екатерина. Неудивительно, что ей нередко приходилось ночевать в палатке, разбитой в чистом поле. Но чего не сделаешь ради любимого сына! Даром что миньоны были ему дороже матери: уж на них-то он не жалел денег!
Сделав остановку в Шенонсо, дабы поразвлечься охотой, а затем в Коньяке, 18 сентября дамы прибыли в Бордо, резиденцию маршала Бирона, где был устроен подобающий их величествам прием. Архиепископ, первый президент парламента и губернатор Бирон собственной персоной вышли приветствовать их. Недоставало только одного человека — Генриха Наваррского, встреча с которым первоначально была назначена именно в Бордо. Однако король Наварры не любил этот город, в свое время отказавшийся принять его, поэтому и изменил программу, определив в качестве места встречи с супругой и тещей отдельно стоявший дом близ Jla-Реоли. Там 2 октября 1578 года, после двух с половиной лет разлуки, и встретились супруги, столь мало подходившие для семейной жизни. В них проступало явное безразличие друг к другу. Гораздо больше внимание Генриха привлекли к себе красотки из «летучего эскадрона» Екатерины Медичи.
По прибытии королева-мать первым делом решила наладить отношения между не находившими общего языка друг с другом Генрихом Наваррским и маршалом Бироном, исполнявшим обязанности военного коменданта Гиени и Сентонжа. Екатерина надеялась, помирив их, внести умиротворение в административное управление Гиенью. Намеченная встреча состоялась 8 октября. У престарелого маршала был гневливый характер, он считал короля Наваррского молокососом, а Генрих не испытывал ни малейшего желания исполнять его указания. Разговор явно не клеился, всё больше перерастая в конфликт. Марго попыталась было сыграть миротворческую роль, как она это понимала, но результатом явилось то, что ее супруг в дальнейшем отказался следовать за кортежем тещи.
Вновь они воссоединились лишь в Оше, главном городе графства Арманьяк, где предполагалось обсудить спорные вопросы, возникавшие в связи с исполнением условий Бержеракского мира, в частности, о передаче королевским войскам крепостей, захваченных гугенотами, о чем Генрих и слышать не хотел. Там произошел один трагикомический, но весьма показательный для царившей тогда политической обстановки случай. Как-то вечером, когда общество развлекалось танцами, Генриху сообщили, что отряд католиков внезапно захватил замок города Лa-Реоли. Позднее рассказывали, что крепость будто бы сдал католикам ее престарелый комендант, месье д’Юссак, влюбившийся в одну из красоток «летучего эскадрона» королевы-матери; став объектом небезобидных шуток со стороны Генриха Наваррского, он отомстил ему, передав замок противнику. По другой, более вероятной версии, жители Ла-Реоли, не имевшие более сил терпеть тиранию капитана Фава, гугенота, и подстрекаемые жителями Бордо, решили сдаться другим хозяевам. Король Наваррский реагировал на полученное известие молниеносно: никому ничего не говоря (то есть не выражая своего негодования королеве-мате-ри, дорогой своей теще), он собрал отряд и той же ночью захватил принадлежавший католикам город Флёранс. Екатерина Медичи, умевшая выражаться афористично, отреагировала достойно. «Понимаю, — сказала она, — что взятие Флёранса является реваншем за Jla-Реоль и что король Наваррский хотел отплатить капустой за капусту, только у моей кочаны покрепче».
После этого досадного инцидента королева и ее спутники переместились в сердце Гаскони — город Нерак, в котором Марго, на время воссоединившись с супругом, устроила настоящий королевский двор. Там в начале 1579 года продолжились переговоры, которые с той и другой стороны вели советники и легисты. Гугеноты донимали Генриха своими непомерными требованиями, а католики, в свою очередь, наседали на королеву-мать, требуя, чтобы она ни в чем не уступала, добиваясь неукоснительного исполнения Бержеракского мирного договора, прежде всего незамедлительного возвращения крепостей. Екатерина оказалась в трудном положении: требовать всего, чего ждали ее сторонники, означало ослаблять позицию короля Наваррского, который, как она понимала, старался сдерживать не в меру ретивых ревнителей протестантизма. В то же время ее уступчивость повредила бы Генриху III, дала бы дополнительные козыри в руки Гизов и Священной лиги. Поэтому теща и зять настойчиво продолжали договариваться, пытаясь умиротворить представителей обеих сторон. Трудные переговоры увенчались подписанием 28 февраля соглашения: в свободе отправления культа протестантам было отказано, зато в их распоряжение предоставили на срок шесть месяцев 15 крепостей. Екатерина пребывала в полной уверенности, что одержала верх. Она покинула Нерак и продолжила свое турне, посетив Лангедок, Прованс и Дофине, где подписала аналогичные соглашения. С ее стороны было великой иллюзией воображать, будто протестанты по истечении шести месяцев по доброй воле отдадут предоставленные в их распоряжение крепости. Что же касается попыток королевы-матери заманить Генриха к своему двору, то тут она потерпела полную неудачу и покидала Нерак с чувством легкого разочарования. Утешением для нее послужил приятный сюрприз, ожидавший ее на одной из промежуточных станций: перед ней собственной персоной появился любезный зять, прибывший специально для того, чтобы пожелать ей доброго пути. Екатерина была искренне тронута проявлением этой поистине сыновней любви.
Путешествие продолжительностью более года подходило к концу. В Орлеане королеву встречал Генрих III, соизволивший выйти навстречу матери и даже поблагодарить ее за то, что она, не считаясь ни с годами (в пути она отметила свой шестидесятый день рождения), ни с болезнями (в Лангедоке ее крепко прихватило), ни с тяготами пути, сделала для сохранения мира в королевстве. От слов признательности, произнесенных обожаемым сыном, Екатерина словно помолодела. Разом забылись огорчения, усталость, болезни, и она опять была готова сражаться за трон Валуа. В Париже, где уже знали, чего она сумела добиться без оружия, без кровопролития и даже без демонстрации силы, за исключением силы убеждения и королевского авторитета, готовили ей триумфальную встречу. Какой сюрприз для «Черной королевы»! Она смогла завоевать Париж, и это было ее самой большой победой. Каково было добиться уважения от города, ненавидевшего ее с первого дня появления в нем! 14 ноября 1579 года нотабли и жители столицы, выйдя длинной процессией на Орлеанскую дорогу, за лье от городских ворот встречали Екатерину Медичи.
Может ли Месье стать человеком?
Пока Екатерина объезжала с миротворческой миссией Лангедок, Месье продолжал свою безумную авантюру в Нидерландах. Невольно выпустив его из-под своего контроля, — ибо не могла же она быть одновременно и тут, и там, — королева-мать постаралась по возвращении образумить заблудшего сына. Следует заметить, что младший сын, для которого она так много делала, даже не соизволил, сославшись на плохое самочувствие, встретить ее, когда она возвратилась из долгой поездки. Екатерине самой пришлось отправиться к нему, дабы попытаться наставить его на путь истинный. Она знала, что единственный способ сделатьэто — дать Месьето, чего он хотел, а именно корону. Из всех возможных вариантов наиболее привлекательным ей представлялся самый фантастический — брак сына с Елизаветой Английской, даром что та на четверть века была старше потенциального жениха. Сколь ни утомила ее долгая поездка по югу Франции, ради такого случая Екатерина собралась даже лично посетить Лондон в роли свахи, почти не сомневаясь в успехе дела. Жаль, что эта поездка так и не состоялась: какой интересной получилась бы встреча двух легендарных королев! Поразмыслив, Екатерина решила направить в Англию самого Месье, дабы он показал себя королеве во всей красе. И действительно, тот посетил Елизавету, и даже не раз, с результатом, о котором узнаем чуть позже.
Между тем истек срок, на который по условиям договора, заключенного Екатериной с гугенотами в Нераке, в их распоряжение предоставлялись крепости. Однако вожди гугенотов скорее готовы были возобновить войну, нежели отказаться от такого преимущества, как обладание крепостями. Именно тогда и разгорелась нелепая война, которую историки впоследствии окрестили «Войной влюбленных». Это была уже седьмая по счету религиозная война. По романтическому преданию, причиной ее возникновения послужило то, что дамы двора короля Наваррского подвигли своих возлюбленных сражаться за них по примеру средневековых рыцарей. В действительности же все было гораздо прозаичнее: гугенотам пришло время возвращать французской короне упомянутые крепости, чего они никак не хотели делать. Вероломство людей, еще недавно клятвенно обещавших придерживаться условий достигнутого соглашения, до глубины души оскорбило Екатерину.
Военные действия начал принц Конде, которому католики не давали вступить в управление Пикардией. Решив добиться своего с помощью оружия, он 29 ноября 1579 года в результате внезапной атаки захватил укрепленный город Лa-Фер. Дабы сохранить за собой положение вождя протестантов, Генрих Наваррский, не желая отставать от кузена, счел необходимым выступить на его стороне. Прежде всего, он договорился о совместных действиях с вождями гугенотов в Дофине и Лангедоке. Обеспечив таким образом свои тылы, он 13 апреля 1580 года покинул Нерак, предварительно запросив помощи у Англии и обратившись с манифестом к дворянам и с протестом к Генриху III и Екатерине Медичи «против несправедливости, вынуждающей его взяться за оружие»; при этом он более не уверял их в своей верности центральной королевской власти. Для него, надо полагать, явилось неприятным сюрпризом то, что вскоре многие гугеноты, на долготерпение и страдание которых он ссылался, предпочитали и дальше терпеть и страдать, нежели сражаться за безбожного и распутного вождя.
На первых порах Генриху удалось собрать смехотворную по численности армию — около двухсот дворян и чуть более полутора тысяч аркебузиров. Кампания началась с мастерски проведенной операции. 29 мая 1580 года король Наваррский приступил к осаде Каора, а спустя несколько дней город был взят штурмом. Сражение у стен Каора явилось главным событием «Войны влюбленных». В целом же роялисты одерживали верх. На северном фронте Генрих III отвоевал Ла-Фер, чем спровоцировал бегство Конде в Германию. После успеха в Каоре ресурсы Генриха Наваррского оказались исчерпанными и он был вынужден перейти к оборонительной тактике.
И тогда Екатерина, как водится, заговорила о мире. При этом она проявила неожиданную для многих инициативу, поручив Месье вести от имени короля переговоры с гугенотами, — правда, при поддержке двоих ангелов-хранителей королевского трона Франции, советников Вильруа и Бельевра. Это был весьма тонкий ход с ее стороны: стараясь заинтересовать своего ничтожного отпрыска королевской политикой на самом высоком уровне, она надеялась отвлечь его от безумной авантюры в Нидерландах, грозившей позором ему самому и бедствием Французскому королевству. Месье, однажды уже заключивший мир от своего имени, отправился к бывшим союзникам в Гиень и 26 ноября 1580 года заключил с Генрихом Наваррским мир во Фле, близ Бержерака. Король Наваррский получил на шесть лет крепости, предоставленные ему соглашением в Нераке только на шесть месяцев. И опять повторилась давняя история: все участники конфликта (за исключением, может быть, самого Генриха — не зря очередное примирение назвали «миром короля Наваррского»), в силу обстоятельств вынужденные пойти на мировую, выражали свое недовольство, и особенно резко гугеноты, полагавшие, что герой штурма Каора, удовлетворив собственные притязания, плохо отстаивает интересы протестантской партии.
Мир во Фле порадовал Екатерину хотя бы уже тем, что ее младший отпрыск, этот enfant terrible, выступил в роли государственного мужа, проявив при этом верность королю. Как рада была она обманываться, когда дело касалось ее детей! Она искренне уверовала в то, что сможет направить Месье по правильному пути. Ее письма к нему полны мудрых политических советов. Остается лишь пожалеть, что ее дорогой Алансон, герцог Анжуйский, он же Месье, не имел ни способности, ни желания постигать политическую науку матери. Она писала ему, видевшему себя завоевателем Нидерландов, что в случае войны с Испанией Франция не может рассчитывать на помощь ни Англии, ни лютеранских князей Германии, и умоляла его осознать всю степень риска, воистину смертельного риска, сопряженного с этой войной. Не следует также верить, убеждала она сына, заявлениям о том, что внешняя война убережет Францию от гражданской войны — напротив, она не только не устранит враждебные королевской власти группировки, но и еще больше усилит их. Придет время, когда Месье убедится в правоте материнских слов, но будет уже слишком поздно.
Валуа на краю могилы
Рано порадовалась Екатерина «возмужанию» своего младшего отпрыска, обретению им качеств государственного мужа. Якобы внимая материнским наставлениям, он уже замышлял очередную подлую измену. Прилагая усилия к заключению очередного мира в казавшейся бесконечной череде гражданско-религиозных войн, Месье был движим отнюдь не миролюбием и не состраданием к соотечественникам, гугенотам и католикам, истреблявшим друг друга в смертельной схватке. Война, по его разумению, должна была продолжаться, только в другом месте — в Нидерландах, против испанцев, а для этого ему нужны были гугеноты короля Наваррского. В очередной раз собрав армию из французских протестантов, герцог Анжуйский бросился во фламандскую авантюру, самую безумную в его жизни.
Испробовав, казалось бы, все способы воздействия на строптивого сына, Екатерина решила повлиять на него и его гугенотское ополчение через Генриха Наваррского, которого надо было ради этого привлечь к французскому двору. Она знала, что супружеская жизнь Генриха и Марго опять разладилась и что для ее дочери пребывание в Нераке день ото дня становится все более невыносимым. Екатерина предложила ей возвратиться в Париж, прихватив с собой и фрейлину Фоссезу, любовницу Генриха, за которой, как полагала дальновидная королева-мать, потянется и зять. Ради этого Генрих III выделил 15 тысяч экю на дорожные расходы. Король Наваррский не удерживал супругу и даже вызвался лично проводить ее до Пуату. Несмотря на свой возраст и недомогание, Екатерина отправилась навстречу дочери и зятю. Всю дорогу Генрих был весел и учтив, порождая у жены, а потом и у тещи ложные надежды на воссоединение при парижском дворе. 28 марта 1582 года в Лa-Мот-Сент-Эре он приветствовал тещу, преклонив перед ней колено, как подобает доброму сыну. Затем последовал банкет, на котором, а особенно после него политические противники обменялись взаимными упреками. Генрих заявил Екатерине Медичи протест против ущемления его полномочий в Гиени, на что та ответила ему, что он как гугенот и глава протестантской партии не может рассчитывать на полное доверие короля. Затем, обратившись к присутствующим гугенотам, она сказала: «Господа, вы губите короля Наваррского, моего сына и себя», словно бы снимая ответственность с зятя, подпавшего под дурное влияние, и оставляя ему открытым путь к примирению — при французском дворе.
Однако Генрих, имевший свои намерения и планы, не воспользовался предложенным шансом, лишь проводив королев до Сен-Мексана, где простился с ними. При расставании с Фоссезой он даже прослезился, но скоро забыл о ней, найдя утешение в любви к другой. С легким сердцем он возвращался в Наварру. С Парижем его связывала лишь переписка, мало-помалу принимавшая скандальный характер. Узнав, что Марго дала отставку Фоссезе, удалив ее от двора, он без зазрения совести написал жене, что не появится в Лувре, пока она не возвратит Фоссезу. По совести говоря, малышка Фоссеза тогда была уже совершенно безразлична для него, но он не мог упустить столь замечательный случай для скандала. Возмущению Маргариты не было предела. Ее благоверный отчитывал законную жену за нелюбезное обращение с его метрессой! Откликнулась и Екатерина Медичи, которую Марго, вольно или невольно, держала в курсе своей переписки. «Вы, конечно, не первый супруг, ищущий любовных утех на стороне, — писала она зятю, — но еще никто до вас, нарушая супружескую верность, не обращался с подобными речами к жене. Так не обращаются с женщинами столь знатного происхождения, нанося им оскорбление из-за публичной девки. Сама ваша принадлежность к хорошему дому не дает вам права не знать, как следует жить с королевской дочерью и сестрой того, кто сейчас повелевает всем королевством и вами». Эти справедливые слова были бы вдвойне верны, не будь упомянутая королевская дочь такой, какой она была. Каково же было сознавать это матери, жизнь свою положившей на устроение счастья своих детей?
Между тем подходила к концу эпопея с Месье. Несмотря на все его измены и безумные авантюры, Екатерина не теряла надежды на благополучное завершение связанных с ним злоключений. И действительно, развязка наступила, не принеся, однако, радости королеве-матери, разве что чувство облегчения: лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Месье, изменник по натуре, возвратился из экспедиции в Нидерланды, предав и своих фламандских друзей, при этом едва не спровоцировав войну между Францией и Испанией. Такое же фиаско он потерпел и в своих планах женитьбы на Елизавете Английской. Дабы утешить несчастного, благородная королева отправила его восвояси с подарком в виде 100 тысяч экю, в каком-то смысле откупилась от назойливого жениха. Прибыв на континент при деньгах, он добился для себя титула герцога Брабантского, однако энтузиазм его новых подданных вскоре сменился ненавистью к нему: агенты Филиппа II полностью скомпрометировали его в глазах брабантцев. В Лувр герцог возвратился с бесполезным титулом и харкая кровью. Врачи констатировали, что жить брату короля осталось каких-нибудь пару месяцев. Он умер 10 июня 1584 года в возрасте тридцати лет, и мало кто оплакивал его кончину. С его смертью на краю могилы оказалась и династия Валуа, ибо у Генриха III детей не было и не предвиделось. Сбывалось страшное пророчество, и можно представить себе, с какими чувствами прожила Екатерина Медичи свои последние четыре с половиной года. У кого угодно в этих условиях опустились бы руки, но она продолжала жить и бороться, не помышляя о том, чтобы сократить срок своих земных страданий. Оставался еще любимый сын Генрих, и к счастью для нее, ей не суждено было пережить его...
Три Генриха вступают в борьбу за престол
После кончины младшего сына Екатерины Медичи Генрих Наваррский в силу Салического закона, основного закона Французского королевства, становился наследником престола Франции. Первым делом он направил Генриху III письмо, в котором выразил ему свое соболезнование, твердо заявив при этом о себе как предполагаемом наследнике. Будь он католиком, его восшествие на трон Франции не составляло бы ни малейшей проблемы, однако он отказался переходить из протестантизма в католицизм, что имело непосредственные политические последствия. Гизы воспользовались этой ситуацией в своих интересах, выдвинув в качестве предполагаемого наследника престола брата Антуана Бурбона, кардинала Бурбона, пожилого человека шестидесяти трех лет, слабого, но амбициозного и тщеславного. Вокруг этого иллюзорного претендента они воссоздали Лигу и 31 декабря 1584 года в своем замке Жуанвиль подписали с послом испанского короля соглашение о совместных действиях — как держава с державой. Этот альянс укрепил Лигу прежде всего в моральном отношении, из тайного общества она превратилась в партию, призванную стать государством в государстве. Никогда, даже в самые трудные времена, Екатерина Медичи не только не заключала союза с испанским королем, но даже не прибегала к военной помощи с его стороны. То, что сделали Гизы, было настоящей государственной изменой. В течение 1585 года Лига обрела такую силу, что могла противостоять одновременно и французскому королю, и протестантам.
Таким образом для Екатерины Медичи и ее сына главным противником в этот момент стал не Генрих Наваррский, а Генрих Гиз. Генрих III, которому за каждыми дверями чудился наемный убийца, подосланный Гизами, усилил личную охрану. Отряд его лейб-гвардейцев, так называемые «сорок пять», состоял из тщательно отобранных его фаворитом Эперноном гасконцев, готовых по его приказу убивать. Екатерина же не питала к Генриху Гизу чувства личной неприязни. В одних случаях она рассматривала его как союзника, в других — как противника, всякий раз сообразуясь с интересами Французского королевства. Она никогда не забывала об услугах, оказанных Гизами. Генрих Гиз, родившийся в один день с Карлом IX, воспитывался вместе с ее детьми, и это было немаловажно для нее, остававшейся прежде всего матерью даже в самых запутанных политических ситуациях.
Став бабушкой, Екатерина распространила свою любовь и на внуков, стараясь поддерживать с ними тесные родственные связи. Самые теплые отношения установились у нее с зятем, герцогом Карлом Лотарингским, доверившим ей воспитание своей дочурки, названной в честь бабушки Екатериной. Она любила всех членов Лотарингского дома, и прежде всего — королеву Луизу де Водемон, супругу ее обожаемого сына Генриха. В мыслях она постоянно возвращалась к инфантам, дочерям ее Елизаветы, которых ей не довелось повидать. Не оставляла она своими заботами и единственного внука, бастарда Карла IX, которого сделала графом Овернским, в память о своей матери, Мадлен де ля Тур д’Овернь. До чего же в этом отношении не похож на нее был сын Генрих III, не питавший к родственникам иных чувств, кроме зависти и ненависти!
Когда Екатерина узнала о соглашении Генриха Гиза с испанским королем, она огорчилась, но не возненавидела Лотарингца, точно так же, как не могла ненавидеть Месье, предателя и обманщика, остававшегося тем не менее для нее прежде всего сыном. Если не принимать во внимание материнских чувств Екатерины Медичи, то многое будет непонятно в ее политике. Самым правильным здесь будет наиболее простое объяснение: она старалась не замечать предательства тех, кого любила. Теряя одного ребенка за другим, она слепо привязывалась к тем, кто оставался. Политически это зачастую было неверно, но по-человечески — понятно. Вот почему Екатерина была склонна договариваться с Генрихом Гизом, хотя и совершившим, как понимала она, предательство по отношению к французской короне, но лично симпатичным ей.
С Гизом она поступала так же, как когда-то со своим мятежным сыном, отправившись в путь, дабы вести с ним переговоры с глазу на глаз и убедить его отказаться от борьбы против короля. Генрих III, пребывавший в растерянности, вновь обратился за помощью к матери, которой в последнее время явно пренебрегал. Отношение к ней королевских миньонов было таково, что в ее памяти невольно возникали унижения, коим она подвергалась в молодости, будучи бесплодной герцогиней Орлеанской. Теперь король торопил ее, предоставив ей все полномочия для достижения соглашения с предводителем Лиги. И она, больная, на носилках, отправилась в путь, дабы в очередной раз умиротворить бунтующее королевство. Веря в собственные силы, она с надеждой в сердце прибыла в Эперне, где должна была состояться ее встреча с Гизом, но там ее ждало первое разочарование: партнер не прибыл, предпочтя собирать войска неподалеку от тех мест.
30 марта 1585 года Екатерина дождалась следующего разочарования: кардинал Бурбон, «претендент» на французский престол, опубликовал в Перонне манифест, в котором выражал свое полное презрение к королю, открыто заявляя, что если бы не мудрая предусмотрительность королевы-матери, то Французское королевство давно погибло бы. Реверанс в ее сторону мог бы польстить Екатерине, если бы не контекст, в котором содержалась адресованная ей похвала: кардинал прямо заявлял о своем намерении сместить с трона ее сына и даже выражал надежду на ее поддержку в этом деле. Сугубая обида для королевы-матери: как можно было подумать, что она выступит против сына!
Наконец, после долгих проволочек, 9 апреля 1585 года, в день Пасхи, состоялась ее встреча с Гизом. Вопреки ожиданиям Екатерина ничего не добилась от него, даже простого обещания содействовать умиротворению королевства. Напрасно пыталась она доказать герцогу, что он ошибается, если думает, что встает на защиту католической веры, развязывая очередную гражданскую войну: эта война пойдет на пользу только врагам Франции. Убедившись, что бесполезно взывать к чувствам собеседника, Екатерина решила обратиться к его разуму, приведя убийственный довод: по имеющимся у нее достоверным данным, всякий раз, как во Франции вспыхивала гражданская война, количество протестантов в стране возрастало и вновь уменьшалось, как только воцарялся мир. Следовательно, католицизм терпит ущерб во время войны и выигрывает от мирного сосуществования двух религий. А какое разорение причиняет стране вторжение иностранных наемников! В очередной раз итальянка Екатерина ратовала за национальные интересы Франции, обращаясь к тем, кто был глух к подобного рода доводам. Гиз слушал, стиснув зубы, под конец выдавив из себя признание: «Сам я не могу ничего решать». Признание того, что у него имеется хозяин — Филипп II.
Екатерина представила королю подробный отчет о переговорах, заключив его весьма разумной, хотя и несколько неожиданной для нее рекомендацией: срочно мобилизовать армию и заготовлять всё необходимое для ведения войны, ибо, как гласит народная мудрость, «палка приносит мир» и ничто так не способствует сохранению мира, как подготовка к войне. Печальный финал переговоров о мире. Правда, ее противник, чувствовавший себя победителем, еще не знал, что в конечном счете именно он окажется проигравшим.
Напряженные, не увенчавшиеся желательным для нее результатом переговоры сильно подорвали здоровье Екатерины. Она не на шутку разболелась, так что ее личному врачу пришлось прибегать даже к столь радикальному средству, как кровопускание. Поскольку голова ее при этом оставалась ясной, она требовала систематически информировать ее о действиях герцога Гиза и на основании полученных донесений принимала решения. Не будучи в силах сама подняться с постели, она отдавала распоряжения, что следует делать. Так, по ее указанию своевременно была перевезена в Париж из Реймса, которому угрожала Лига, часть находившейся там казны.
В этот критический для королевства и самой Екатерины период в последний раз огорчила ее дочь Маргарита. Ее очередная попытка сблизиться с Генрихом Наваррским, наладить семейный быт ни к чему не привела, и тогда она не придумала ничего лучшего, как объявить форменную войну своему супругу. Удалившись в принадлежавший ей Ажан, она запросила помощи у Филиппа II, заявив, что собирается воевать под знаменами Лиги ради искоренения ереси во Французском королевстве. Верная себе, Марго искала опоры в сторонниках, коих привлекала при помощи любовных чар, однако в той безумной авантюре, которую она затеяла, Амур оказался ненадежным союзником. В результате королева Наваррская проиграла и потеряла всё — имение, любовников и свободу, едва не лишившись и самой жизни. Итог прожитых ею лет был печален. Королева-мать использовала ее, жертвовала ею в политических интересах, отдавала, возвращала и снова отдавала королю Наваррскому. Теперь ее дочь ничего не представляла из себя и ни на что более не годилась. Ажанская авантюра лишила ее не только политического, но в какой-то мере и человеческого достоинства. Сестра короля для всех становилась обузой, и если бы она исчезла, то с облегчением вздохнули бы и ее брат Генрих III, и ее супруг Генрих Наваррский. И тогда она, точно утопающая за соломинку, ухватилась за последнюю надежду любой дочери — обратилась за помощью к своей матери, но Екатерина Медичи, у которой тогда были проблемы поважнее, не дала разжалобить себя. Так с осени 1585 года почти на 20 лет местом обитания для Маргариты Наваррской стал замок Юссон. Впрочем, все оказалось не столь страшно для жизнелюбивой Марго: ее юссонская эпопея, начавшись как кровавая драма, вскоре превратилась в забавную комедию. Через месяц пленница совратила своего тюремщика, маркиза де Канийяка, и пошла веселая жизнь — праздники, концерты, любовные утехи, пиршества. Из жизни своей матери она ушла навсегда — на этом свете им уже не суждено было свидеться.
Между тем Генрих III, прислушавшись к разумному материнскому совету, усилил королевскую армию швейцарскими наемниками. Хотя его армия и не могла еще тягаться с вооруженными силами Лиги, тем не менее она сдерживала амбиции герцога Гиза, вынуждая его быть более осмотрительным. Что касается Генриха Наваррского, на которого одно время рассчитывала Екатерина, то он дистанцировался как от короля, так и от Лиги. Генрих III понимал, что не сможет рассчитывать на него, если вступит в схватку с лигёрами. Тогда Екатерина дала сыну еще один хороший совет — обратиться к Парижскому парламенту с компромиссным заявлением, которое бы удовлетворило герцога Гиза и вместе с тем не привело к окончательному разрыву с королем Наваррским. В соответствии с этим заявлением Генрих III издал эдикт, запрещавший во Французском королевстве все религии, кроме католической, однако отказался включить в него пункт, гласивший, что наследником престола может быть только принц-католик — явный реверанс в сторону Генриха Наваррского, договориться с которым он еще не терял надежды. Он никак не мог побороть в себе застарелую ненависть к Гизам, тогда как к Наваррцу, по совести говоря, никогда не питал ненависти.
Екатерина, которой по состоянию здоровья следовало бы находиться в комфортабельных апартаментах в Париже, тем временем пребывала в Эперне, дабы не спускать глаз с Гизов и следить за маневрами Лиги, основные силы которой были сосредоточены в Шампани. После публикации королевского эдикта она уже готова была праздновать победу, однако вскоре поняла, что проблема не решена. Гизы заявили, что собираются занять крепости, которые должны быть оставлены протестантами. Екатерина была ошеломлена, но не сдалась, намереваясь продолжить обсуждение казалось бы уже решенного вопроса. Для этого она, несмотря на плохое самочувствие, потащилась в городишко под названием Сарри, где ее хвори обострились не только от плохих условий проживания, но и от непреклонности партнеров по переговорам, выдвигавших жесткие условия. Они добивались опубликования нового эдикта, в котором бы нашли отражение все требования, предъявляемые ими королю: прежде всего, изгнание из королевства всех проповедников-ере-тиков, далее, смещение с должностей королевских чиновников, перешедших в протестантизм, и конфискация их имущества, наконец, обязательное обращение в католицизм всех гугенотов с последующим надзором над ними в течение трех лет. В случае если протестанты воспротивятся этим мерам, применить вооруженные силы для приведения их к повиновению — Лига готова была взять на себя эту миссию.
В удрученном состоянии, лишившись сна и покоя, Екатерина возвратилась в Эперне. Первым делом она информировала короля о грозящей катастрофе, одновременно предлагая, каким должен быть королевский ответ на ультиматум Гизов: не отвергая с ходу их требования, дабы избежать открытого разрыва с ними, не допустить тем не менее подчинения им. Она рассчитывала добиться этого в ходе новых переговоров, надеясь, что удастся согласовать менее жесткие условия, исполнение которых к тому же будет отсрочено. Однако Гизы проявили неожиданную для короля и его матери непреклонность, потребовав неукоснительного исполнения предъявленных ими условий. На сей раз Екатерину подвела ее излюбленная тактика проволочек и обещаний: не она, а Гизы выиграли время, в течение которого укрепили свою армию наемниками-католиками и заняли несколько дополнительных крепостей.
И опять ей, а не королю (у него в Париже были дела поважнее — миньоны, комнатные собачки, переодевания и прочие кривляния), пришлось отправляться в путь. 7 июля 1585 года в Немуре было заключено соглашение с Лигой, означавшее капитуляцию королевской власти перед Гизами. Екатерина была вынуждена отказаться от политики всей своей жизни: она отдала на произвол лигёрам протестантов, которых всегда защищала, в том числе и от них самих, жестко сдерживая проявления их фанатизма, приводившие к кровавым эксцессам. Неблагодарный труд: при жизни ее постоянно упрекали в потворстве гугенотам, а в последующие века, напротив, вменяли в вину их истребление. В очередной раз Екатерине Медичи пришлось расплачиваться по чужим счетам: если бы в тот период реальная власть была у нее в руках, она, вероятнее всего, преуспела бы в противоборстве с Лигой, однако на протяжении уже нескольких лет все ее усилия сводились на нет ошибками и пороками Генриха III. Именно он, а также его братец-изменник подрывали устои королевства Валуа больше, чем все происки Лиги, которая, собственно, самим своим существованием была обязана порочности и беспечности короля. И вот теперь она навязала ему свою волю, и он был вынужден подчиниться. Как образно выразился Пьер Л’Этуаль, король был пеш, а Лига — на коне.
Последняя гражданская война
18 июля 1585 года Генрих III представил в Парижский парламент эдикт, который санкционировал заключенное в Немуре соглашение с Лигой. Этот эдикт отменял все изданные ранее эдикты об умиротворении, запрещал отправление протестантского культа, лишал протестантов права занимать какие бы то ни было публичные должности, обрекал на изгнание протестантских пасторов и предписывал возвращение короне всех крепостей. После этого Генрих III сразу же направил к Генриху Наваррскому посольство в составе нескольких теологов, дабы те в последний раз попытались уговорить его обратиться в истинную веру. Посланцы короля встретили прохладный прием не в последнюю очередь из-за того, что заодно потребовали возвратить крепости. В ответ они получили решительный отказ. Перед лицом неизбежной войны Генрих Наваррский и Конде заключили союз с умеренными католиками, выступавшими за примирение различных политических и конфессиональных группировок и национальное единство Франции.
Папа Сикст V лично вмешался во французские дела. Понтифик не одобрял действия Гизов, в которых усматривал мятеж против законной власти, но считал своим долгом поддержать защитников католицизма. Он намеревался вести войну против ереси под руководством и авторитетом Генриха III, из-за чего поначалу попал в двусмысленное положение, показавшись подозрительным лигёрам, поскольку защищал авторитет короля, но при этом не пользуясь доверием и у верных роялистов, подозревавших его в тайном пособничестве Лиге. Тогда папа уточнил свою позицию. 9 сентября 1585 года он издал буллу, в которой объявлял Генриха Наваррского и принца Конде, еретиков и вероотступников, отлученными от церкви. Генрих лишался своих прав, званий и наследственных родовых владений. О притязаниях на наследование французского престола не могло быть и речи. Булла была незамедлительно переведена на французский язык и опубликована в Париже для всеобщего ознакомления.
Даже многим католикам эта санкция показалась чрезмерной. Генрих Наваррский, не позволяя, как говорили его сторонники, выбить себя из седла, предложил вынести рассмотрение этого вопроса «на свободно и законным образом созванный собор, и если папа не согласится, то считать и объявить его истинным антихристом и еретиком». Таким образом, последствия публикации буллы оказались далеко не теми, на какие рассчитывал папа. Подливало масла в огонь и то, что Парижский парламент, устыдившийся зарегистрировать без предварительного обсуждения эдикт от 18 июля, подал королю протест, делающий честь его авторам. В этом обращении, в частности, говорилось: «Даже если бы ли-гёры имели достаточно сил для искоренения реформатов, вашему величеству не следовало бы прибегать к ним, тем более что преступление, кое намерены вы покарать, является делом совести, в отношении которой не полномочны железо и огонь и для обращения с которой потребны иные, более уместные средства». Обращение парламента к королю ясно показало реакцию французов на действия папы и попытки иноземного вмешательства в национальную политику Франции. Тем, какой ход приняло развитие событий, больше других была удручена королева-мать, которой оставалось лишь сокрушаться по поводу беспомощности своего сына-короля.
И все-таки обращение парламента не получило должного отклика в обстановке разгоревшихся конфессиональных и политических страстей. Началась восьмая гражданская война — «Война трех Генрихов». Номинальной целью этой войны было приведение в исполнение положений Немурского договора, предусматривавших возвращение протестантами крепостей, временно предоставленных в их распоряжение. В действительности же ставка была гораздо больше: речь шла о том, кому быть хозяином в распавшейся на части Франции. Генрих III, хотя и являлся королем, оказался в худшем положении, почти без средств для ведения войны. Напротив, Гиз, душа Лиги, находился на содержании у Филиппа II. Чтобы не отстать от него, Генрих Наваррский заручился поддержкой королевы Елизаветы Английской и протестантских князей Германии. Последние не только давали ему субсидии, но и поставляли наемников для пополнения войск.
Отдавая себе отчет в том, что теперь гугеноты представляют собой грозную военную силу, Генрих III в очередной раз переменил свои планы и пошел на сближение с королем Наваррским. Генрих Гиз сначала было забеспокоился, как бы два других Генриха не договорились друг с другом, но вскоре выяснилось, что беспокоиться не о чем. И опять Екатерине пришлось вести от имени Генриха III переговоры, которые по заключении перемирия проходили с середины декабря 1586 года в замке Сен-Брис, расположенном между Коньяком и Жарнаком. Генрих Наваррский тем охотнее пошел на заключение этого перемирия, что, как он верил, время работает на него. При этом он не смог отказать себе в удовольствии помурыжить тещу, заставив ее более двух недель томиться ожиданием в Сен-Мексане, где первоначально была назначена встреча. Престарелую больную королеву-мать он довел до того, что та в отчаянии воскликнула: «Да он издевается надо мной!» Каков был уровень доверия между договаривающимися сторонами, можно судить хотя бы по тому, что на свидание с тещей король Наваррский приехал в сопровождении четырехсот всадников, всегда находившихся в состоянии боевой готовности, а та, приветственно обнимая зятя, прощупывала, не носит ли он под камзолом кольчугу. Угадав ее мысли, Генрих со смехом расстегнул камзол и, показывая на свою обнаженную грудь, сказал: «Смотрите, мадам, я ничего не прячу».
После этого завязался разговор, о содержании которого нам известно из отчета, направленного Екатериной Медичи Генриху III. Смысл беседы сводился к тому, что собеседники пытались выведать намерения друг друга, рассыпаясь при этом в комплиментах и заверениях в совершеннейшем почтении. При этом не было ни малейших шансов прийти к соглашению, поскольку королева-мать не привезла никаких более конкретных предложений по урегулированию, чем такое: «Ну что, сын мой, совершим доброе дело?» Тот с готовностью ответил: «За мной, мадам, дело не станет; того же и я желаю». И далее:
— Так скажите же, чего именно вы желаете!
— Я желаю, мадам, того же, что и ваши величества.
— Оставим эти церемонии! Прямо скажите, чего вы требуете.
— Мадам, я ничего не требую и прибыл сюда лишь для того, чтобы получить от вас распоряжения.
— Да полно вам, вносите предложения!
— Мадам, у меня нет предложений.
И так далее, день за днем. Тем не менее Генрих Наваррский не прерывал этот диалог глухих, чтобы дать немецким рейтарам необходимое время прийти к нему на помощь. В течение трех месяцев он как мог развлекал свою тещу. Наконец 15 марта 1587 года он предложил ей помощь французских и немецких протестантов, дабы восстановить авторитет короля, подорванный действиями Лиги, и обеспечить его подданным длительный мир. Полагая, что зять потешается над ней, Екатерина Медичи тут же положила конец переговорам. Они расстались, чтобы больше уже никогда не свидеться.
Война возобновилась. Генрих III и Екатерина оказались заложниками подписанного ими в Нему-ре соглашения. Положение короля в Париже с каждым днем становилось все более невыносимым. Ли-гёры ни во что не ставили его — настоящим королем Парижа был герцог Гиз. Не добавляли Генриху III оптимизма и «политики», заявлявшие, что при помощи гугенотов они избавили бы его от тирании Генриха Гиза. Дабы показать, что он еще хозяин в собственном королевстве, Генрих III потребовал, чтобы Гиз и Эпернон примирились. Жуаёз получил приказ оттеснить короля Наваррского в Беарн, тогда как Гиз отправился оборонять восточные границы от немецких рейтар. Король, надеявшийся на победу Жуаёза и на поражение Гиза, подался на Луару, где принял под свое командование резервную армию. Эта позиция позволяла ему в нужный момент вмешаться там, где военная удача благоприятствовала бы ему. Генрих Наваррский, желавший успеха немецким рейтарам ничуть не больше, чем король Французский — Лиге, тем не менее нуждался в этих иностранных контингентах, тогда как Генрих III опасался иностранной оккупации своего королевства.
Однако военные действия стали развиваться совсем не так, как хотелось бы Генриху III: его любимчик Жуаёз потерпел при Кутра сокрушительное поражение от Генриха Наваррского, а герцог Гиз, напротив, разгромил войско германских наемников-лютеран, шедших на подмогу Наваррцу. Оба эти события в равной мере огорчили короля, хотя победа Гиза над еретиками должна была бы порадовать его, объявившего себя поборником католицизма. Не такова была королева-мать: она от всей души поздравила герцога с очередным ратным успехом. Ненависть сына к Генриху Гизу сильно тревожила ее. Теперь, когда королевская армия была уничтожена при Кутра, жизненно важным становилось сохранение альянса с Лигой. Отныне, полагала Екатерина, главная угроза трону Валуа исходит от Генриха Наваррского и его гугенотов, провоцирующих иностранное вторжение во Францию.
Если и прежде Лига, по образному выражению Л’Этуаля, была на коне, то теперь она вознеслась еще выше. С королем лигёры разговаривали тоном, не терпящим возражений. Они ультимативно требовали от него точного исполнения положений Не-мурского договора, изгнания Эпернона и того, чему всегда решительно противилась Екатерина Медичи — введения во Франции инквизиции. Наконец, Лига требовала объявить вне закона всех французских еретиков, и в первую очередь Генриха Наваррского. Генрих III, не зная, на ком еще сорвать свою злость, обрушился с упреками на мать, обвиняя ее в провале переговоров, которые она вела по его поручению. Этот негодный правитель снимал с себя всю ответственность за несчастья, обрушившиеся на его королевство. Такова была его благодарность за всё, что сделала для него мать. Впрочем, в своей слепой, всепрощающей любви к сыну Екатерина и на сей раз скорее готова была признать себя виноватой перед ним, нежели хотя бы намеком выразить свою обиду на него...
Всё пошло не так
Многолетняя зависть и ненависть Генриха III к герцогу Гизу достигли своей высшей точки. Вдвоем им становилось тесно в одном королевстве, а тем более в одном городе — Париже, некоронованным королем которого уже давно стал Гиз. Воспользовавшись отлучкой герцога, отправившегося в Нанси на совет Лиги, Генрих III под страхом смерти запретил ему возвращаться в столицу, вызвав тем самым бурю негодования парижан. Как и следовало ожидать, Гиз проигнорировал королевский запрет и 9 мая 1588 года триумфатором вступил в Париж. Толпа встречавших была настолько плотной, что он с трудом пробивался сквозь нее. Парижане ликовали, и в городе, в котором давно не слышали возгласа «Да здравствует король!», не смолкало громкое «Да здравствует Гиз!».
Герцога обуревало смешанное чувство радости, гордости — но и смущения: дело принимало нежелательный для него оборот, все больше смахивая на бунт против законной королевской власти. Не одобрял он и действия своей сестры, вдовствующей герцогини Монпансье, поднимавшей общественное мнение против Генриха III и его миньонов и рассказывавшей повсюду о тайных пороках двора Валуа. Она распаляла страсти, демонстративно бряцая ножницами, которые постоянно носила на поясе, и поясняя, что они предназначены для того, чтобы выстричь третью корону на голове у Генриха III, который, будучи королем Франции и Польши, должен теперь обзавестись тонзурой, дабы стать коронованным монахом. Герцог Гиз лицемерно осуждал эти эксцессы, на словах уверяя его королевское величество в своей совершенной преданности ему. В действительности же он питал к слабому Генриху III такое презрение и был настолько уверен в собственном превосходстве, что не считал нужным захватывать трон силой, предпочитая, чтобы воля большинства возвела его на престол, тем самым придав государственному перевороту видимость законности. Смещение Валуа должно было стать делом знати, высшего духовенства и парламента, но никак не уличной толпы.
Первым делом по прибытии в Париж герцог решил нанести визит королеве-матери, единственной в королевском окружении, кто еще пользовался его уважением. Хотя Екатерину систематически информировали обо всем, что происходит в Париже и стране (сама она по состоянию здоровья редко покидала свои апартаменты), о возвращении в столицу Гиза ей еще не успели сообщить, поэтому когда один из ее карликов, сидевший на подоконнике, сказал, что герцог спешивается у ворот, она решила, что ее разыгрывают — ведь король под страхом смерти запретил тому возвращаться в столицу. Сколь ни обескуражена была Екатерина неожиданным появлением Гиза, за словом в карман она не полезла, обратившись к визитеру: «Я приветствую вас от всего сердца, но радость моя была бы гораздо полнее, если бы вы вообще не приходили, повинуясь королевскому приказу». Когда она напомнила герцогу, какой опасности он подвергается, тот беззаботно ответил: «У меня есть шпага, чтобы защитить себя». Он словно не понимал, что уготовано ему — как будто нет иных способов свести счеты, помимо честной дуэли...
Когда Генрих III узнал о прибытии Гиза в Париж, его реакция была гораздо менее сдержанной, чем у его матери. «Черт побери, ему не жить!» — в ярости прокричал он. В своих апартаментах в Лувре он подготовил все необходимое для убийства из засады. В одной из комнат, смежных с залом, в котором король намеревался принять Гиза, должны быть наготове убийцы. Сквозь приоткрытую дверь они могли ясно расслышать слова короля: «Вы покойник, месье де Гиз», и по этому сигналу им предстояло наброситься на герцога так, чтобы он даже не успел вытащить из ножен свою шпагу, на которую так полагался, и прикончить его ударами шпаг и кинжалов. Такой прием готовил у себя Генрих III вождю Лиги.
Король уже собирался реализовать свой кровавый сценарий, когда к нему прибыл посыльный от матери. Екатерина догадывалась, что ждет Гиза в Лувре, и, желая предотвратить преступление, которое стало бы смертным приговором дому Валуа, пригласила сына прибыть к ней, дабы у нее встретиться с герцогом. Это предложение привело короля в ярость. Ни при каких обстоятельствах не подобало королю идти к герцогу Гизу, и уж менее всего теперь, когда тот позволил себе откровенное неповиновение, формально став мятежником. Тогда посыльный Екатерины напомнил его величеству, что его мать больна, уже три недели лежит в постели и не может передвигаться. На это сын ответил, что ей вовсе не надо вставать с постели, поскольку нет никакой необходимости сопровождать Гиза, более того, он хотел бы увидеться с ним с глазу на глаз и как можно скорее.
Этот ответ еще больше укрепил Екатерину в ее опасениях. Она решила сопровождать герцога, направлявшегося в Лувр. Ее несли в портшезе, а герцог Гиз шагал рядом с ней, держа свою шляпу в руке. На подступах к Лувру царила суматоха. Королевские гвардейцы заняли все входы во дворец. Это был зловещий знак. Судьба Гиза, прибывшего в одиночку, без какого-либо эскорта, беспокоила Екатерину. Она незаметно для окружающих посоветовала ему сразу же покинуть Лувр, как только он поприветствует короля.
А Генрих III даже не соизволил ответить на приветствие Гиза, тут же обрушившись на него с упреками. Как посмел он возвратиться в Париж вопреки королевскому запрету? Гиз, не теряя самообладания, ответил, что ему донесли, будто бы его величество по наущению господина Эпернона задумал резню католиков в Париже, а поскольку ему, герцогу, вера дороже жизни, он прибыл, чтобы умереть вместе с единоверцами. И правда, ходили слухи, что Эпер-нон подготовил список наиболее видных лигёров, которых предполагалось ликвидировать. Король отрицал наличие подобного плана, в свою очередь обвинив Гиза в намерении захватить королевский трон, что являлось тяжким государственным преступлением. Разговор пошел на повышенных тонах, и Екатерина, опасаясь, что сейчас произойдет непоправимое, решила, что пора вмешаться. Направившись к сыну, она увлекла его в сторону, взывая к его разуму. Генрих III отвечал, что пребывает в здравом уме и был бы настоящим безумцем, если бы не воспользовался столь удобным случаем, когда заклятый враг пришел к нему без эскорта. Тогда Екатерина подвела его к окну и показала на бесновавшуюся на улице толпу, славившую своего идола, появления которого с нетерпением ждала. Затем, понизив голос, она стала внушать сыну: «Если вы в здравом уме, то не ищите других телохранителей месье де Гиза — ими являются все парижане, и знайте, что если месье де Гиз не выйдет живым отсюда, то наши жизни, ваша и моя, гроша ломаного не будут стоить». Генрих III побледнел и, словно бы желая оправдать задуманное, обратился к матери с вопросом: «Как могу я оставаться королем Франции, пока он будет королем Парижа?» Екатерина, вновь выступая в роли миро-творицы, стала убеждать сына, что Гиз не замышляет ничего дурного против него, наоборот, он старается поддерживать в Париже спокойствие.
Почувствовав, что Генрих III с трудом сдерживается, Гиз предпочел долее не испытывать судьбу и поспешил откланяться, направившись в свой особняк на улице Сен-Антуан. Осознав, наконец, безрассудность своего поступка и опасаясь ночного ареста, он усилил охрану дома прибывшими с ним военными. Король тоже, не теряя времени даром, увеличил численность гарнизона, размещенного в Лувре. На следующий день Гиз передвигался по городу уже в сопровождении четырех сотен дворян, державших под плащами заряженные пистолеты. Во второй половине дня он нанес визит королеве-матери, где опять встретил Генриха III. Поначалу король был холоден с ним, не удостоив его даже взгляда и не ответив на приветствие, но затем, не без участия Екатерины, между ними завязалась беседа. Продолжая выражать показную преданность королю, герцог побуждал его к искоренению еретиков, вместо того чтобы терпеть их присутствие и даже заключать с ними соглашения. На это монарх возразил, что никто не может ненавидеть еретиков сильнее, чем он, но у него нет возможности собрать против них войско, не имея денег, а лигёры беспрестанно требуют сокращения налогов. Затем он осудил действия парижан, при этом даже намеком не возложив ответственность за происходящее на Гиза. Сочтя это за добрый знак, Екатерина, желавшая во что бы то ни стало помирить непримиримых врагов, потребовала от герцога, чтобы тот пообещал умиротворить столицу и наладить отношения с Эперноном. В ответ на это Гиз с сарказмом произнес, что из уважения к хозяину готов полюбить даже его собаку, и откланялся.
Примирения явно не получалось, и Генрих III, опасаясь, что Гиз ведет двойную игру, впустил в Париж швейцарских наемников, а в пригородах разместил французскую гвардию. Дворцовая охрана получила необходимые инструкции. Король был полон решимости восстановить порядок в столице любой ценой. Видя это, Гиз более уже не колебался, приступив к осуществлению намеченного переворота. Чтобы подхлестнуть возмущение парижан, он распространил по городу список фамилий 120 наиболее видных лигёров, которых король якобы распорядился арестовать и повесить. Каждый парижанин чувствовал нависшую над ним угрозу и потому готов был действовать. Мятеж возглавил мэр Парижа Бриссак.
12 мая 1588 года вошло в историю как День баррикад. Король лично встречал швейцарских наемников и французскую гвардию у ворот Сен-Оноре, обратившись к ним с речью. Швейцарцы заняли позиции к северу от Сены, на Гревской площади, Новом рынке и кладбище Невинноубиенных, а гвардейцы — на острове Сите и мостах. В ответ на это вооруженные толпы стали собираться на площадях Мобер и Сен-Антуан. Королева-мать отправила в город своего человека, чтобы тот разузнал и доложил ей, как развиваются события. Новости были неутешительны: лавки закрыты, а улицы тут и там перегорожены баррикадами — и повсюду люди герцога Гиза. Екатерина неоднократно обращалась к нему, умоляла предотвратить резню, но всё тщетно. Стало ясно, что сражения не избежать. Тогда Генрих III принял решение направить вооруженные отряды на площади Мобер и Сен-Антуан, но было уже слишком поздно: баррикады и протянутые поперек улиц цепи преградили путь роялистам. Из окон домов на швейцарцев летели камни, причинившие бесславную смерть не менее чем трем десяткам из их числа, тогда как другие были разоружены и препровождены в тюрьму. Что касается французских гвардейцев, то им приказали сложить оружие.
Положение Генриха III стало безнадежным. Всецело оказавшись во власти мятежников, он был заперт в собственном дворце, который в любой момент мог быть взят штурмом, если бы Меченый отдал соответствующее распоряжение. Но тот не считал нужным делать это, и без того ощущая себя хозяином положения и полагая излишним обременять себя преступлением против его величества. В своей безмерной самонадеянности он велел королю явиться к нему, однако в особняк Гиза прибыла королева-мать, отважно проследовав через перегороженные баррикадами улицы — ее парижане еще уважали, не забывая, благодаря кому королевство хоть как-то держалось в последние три десятилетия. И герцог тоже принял ее с должным почтением. Начав разговор, Гиз посетовал, что король, поддавшись несправедливым подозрениям, решился причинить вред доброму граду Парижу и посягнул на жизнь честных католиков. Екатерина возразила, что весь этот мятеж, вызванный чистым недоразумением, не имеет ни малейшего смысла, поскольку король принял свои меры исключительно с целью изгнания нежелательных иностранцев. Герцог не уступал, ссылаясь на то, что король решился погубить представителей старинной аристократии в угоду своим миньонам, которых осыпал милостями, назначая на важные командные и государственные должности. Дабы доказать свои добрые намерения, Генрих III должен назначить его, Гиза, на должность генерального наместника королевства и чтобы это назначение было утверждено Генеральными штатами. От королевы-матери не ускользнул смысл уловки герцога, вознамерившегося таким способом завладеть троном: получив назначение от Генеральных штатов, он уже не выглядел бы узурпатором. Однако и этим не исчерпывались требования Гиза: он настаивал, чтобы Генрих Наваррский как еретик отныне лишался прав на корону, а герцог Эпернон и прочие королевские миньоны были смещены со своих должностей. На это Екатерина ответила, что предъявленные требования слишком велики, чтобы она могла принять их, предварительно не проконсультировавшись с сыном и его советниками.
Она возвратилась в Лувр, где продолжилось обсуждение ситуации, не увенчавшееся принятием какого-либо определенного решения. Утром 13 мая Екатерина снова прибыла в особняк Гиза. На сей раз требования герцога оказались еще более жесткими. Престарелая королева-мать понимала, что, получив отказ, он прикажет штурмовать Лувр, поэтому решила тянуть время, придирчиво уточняя каждую статью предложенного ей договора. Она не имела себе равных в ведении подобного рода дебатов. Меченый, будучи в большей мере солдатом, чем дипломатом, попался на эту уловку. К концу второго часа навязанных королевой-матерью препирательств ему доложили, что Генрих III бежал через сад Тюильри. Гиз, сообразив, что его провели, как мальчишку, не мог найти слов, чтобы выразить свое негодование. Екатерина театрально вскрикнула, дабы показать, какой сюрприз преподнес ей сын. А может, и вправду Генрих III спонтанно принял решение в ее отсутствие? Говорить было уже не о чем, и она незамедлительно покинула особняк Гиза, возвратившись в Лувр.
Пока мать вела переговоры, Генрих III, не чувствовавший себя в безопасности, решил, не дожидаясь худшего, бежать, переодевшись в одежду одного из своих приближенных. Как гласит легенда, он, проезжая через Новые ворота, обернулся на столицу, которую ему не суждено было более увидеть, и сказал: «Неблагодарный город, я любил тебя больше собственной жены». Париж, покинутый тем, кто по крайней мере номинально мог называться его господином, безраздельно перешел под власть Гиза.
Горькие плоды миротворчества
Екатерина оказалась в положении, в каком ей еще не доводилось бывать и из которого она, по ее собственному признанию, не видела выхода — кроме одного: помирить Гиза и парижан с королем. В очередной раз ей предстояло смириться, подчиниться злой судьбе ради сохранения трона для сына и самой жизни, его и ее собственной. Парижане и сами были озадачены бегством короля, ибо изгнание Божьего помазанника не входило в их планы. Париж без короля не был столицей Франции, точно так же, как и король без Парижа не был королем. Значит, следовало воссоединить их. Королева-мать согласилась выступить в роли посредницы, и делегация парижан во главе с герцогом Гизом направилась в Шартр, где нашел убежище Генрих III, дабы заверить его в своей преданности. А он, похоже, и сам не знал, что делать дальше. Теплый прием, оказанный ему жителями Шартра и губернатором Ши-верни, позволял надеяться, что еще не все потеряно. Вместе с тем определенного плана действий не было ни у него самого, ни у его советников. Высказывались противоречивые мнения: если одни считали необходимым вести против Гизов борьбу не на жизнь, а на смерть, то другие склонялись к достижению компромиссного соглашения. Генрих III всех выслушивал, но не принимал решения, не видя верного выхода из казавшегося безвыходным положения.
Прибывшая в Шартр представительная делегация парижан, уверявшая его в своей лояльности, вместе с тем пыталась оправдать восстание некой предполагаемой угрозой для римской католической церкви и якобы имевшим место вероломством герцога Эпернона. Они предлагали от имени Лиги торжественное примирение, которое и состоялось к великой радости Екатерины. Не чувствуя себя достаточно сильным, король счел разумным пойти на соглашение. Своим оппонентам Генрих III ответил, что ни один монарх на свете не желает сильнее, чем он, окончательного искоренения ереси и обеспечения благоденствия своему народу. Казалось, ничто не препятствовало примирению, и вскоре был согласован, а 21 июля 1588 года, уже в Руане, подписан королем так называемый «Эдикт единения», удовлетворявший основные требования Лиги: амнистия парижским мятежникам, искоренение ереси, признание кардинала Бурбона своим наследником и назначение Генриха Гиза генеральным наместником королевства. Вскоре после этого Генрих III пожертвовал и Эперноном, назначив на должность губернатора Нормандии герцога Монпансье. На 15 августа 1588 года было намечено собрание Генеральных штатов. «Эдикту единения» суждено было стать последним политическим актом, свершившимся при активном участии Екатерины Медичи.
Королева-мать в очередной раз обманулась, полагая, что действительно достигнуто единение, которое позволит ее сыну сохранить высокое положение католического, «христианнейшего» короля Франции. Она более, чем кто-либо иной, готова была обманываться, когда речь шла о замирении и прекращении или недопущении кровопролития. Что же касается Генриха III, то он, оказавшись в чрезвычайно трудном положении, разыграл в Шартре, дабы обмануть всех, включая и мать, комедию примирения с Гизом, давно уже замыслив совсем иное. А ведь церемония примирения получилась воистину трогательной: король поднял герцога, преклонившего перед ним колена, обнял его и повел на торжественный банкет, во время которого провозгласил в его честь здравицу. Екатерина была на седьмом небе от счастья. Герцог мог думать, что король признает его фактическую власть, как сам он признает авторитет короля. И тем не менее, когда Генриху III предложили возвратиться в Париж вместе с Гизом и делегацией парижан, он отказался, заявив, что намерен отправиться в Блуа, где в ближайшее время соберутся Генеральные штаты. Слово короля — закон, и за ним последовал весь двор, включая Гиза и королеву-мать.
По прибытии в Блуа Генрих III, видимо, ободренный тем, как послушно последовали за ним подданные (а не он за ними), решил, что пора кончать притворство. Первым дело он, как уже бывало не раз, «отблагодарил» свою мать, уволив из королевского совета восемь человек, наиболее преданных ей и служивших инструментом ее политики. На замену им пришли люди, по своим деловым качествам не выдерживавшие никакого сравнения с уволенными, зато преданные лично ему. Двор был шокирован столь демонстративным разрывом с политикой королевы-матери. Потрясение, пережитое Екатериной, было столь велико, что она даже внешне переменилась — разумеется, не к лучшему. Поступок короля был настолько скандальным, что даже папский легат поинтересовался у него причинами произведенного им переворота. Генрих III сухо ответил, что ему уже 37 лет и он намерен править самостоятельно ради достижения наилучшего результата. И вправду, оставалось уже недолго ждать результатов «нового курса» бесталанного короля...
16 октября 1588 года в Блуа состоялось со всей подобающей такому событию пышностью открытие сессии Генеральных штатов. Генрих III, упиваясь своим королевским величием, произнес при открытии замечательную речь, в которой посвятил немало льстивых слов своей столь грубо отставленной от дел матери, желая не столько утешить, сколько окончательно утопить ее в потоке славословия. Екатерина при этом величественно восседала под балдахином, украшенным лилиями, справа от короля-оратора, ничем не выдавая своих чувств. В своем выступлении Генрих III заявил также о приверженности католической церкви и о намерении не допустить к наследованию королевского престола Франции любого заподозренного в ереси. Он заранее соглашался на принятие законов, которые обеспечили бы мир в королевстве и позволили бы успешно справиться с бедственным положением народа, бороться с беспорядками и коррупцией. Депутаты доброжелательно внимали королю — до тех пор, пока он не перешел к Лиге и лично Гизам, прямо обвинив их в подстрекательстве к мятежу.
После этих слов, прозвучавших, как удар хлыста, герцог Гиз покинул зал, чтобы обо всем проинформировать кардинала Бурбона, по болезни не присутствовавшего на заседании. Кардинал, самочувствие которого, по правде сказать, было не хуже состояния здоровья королевы-матери, умевшей в нужный момент собраться с силами, не привык напрягаться и потому скамье заседаний предпочел мягкую постель. Взволнованный Гиз пытался было объяснить ему всю серьезность положения, но этот выдвинутый Лигой претендент на французский престол не хотел даже в малой мере брать на себя ответственность и посоветовал герцогу обратиться за содействием к Екатерине Медичи. В кризисной ситуации всегда обращались к ней за содействием, даже если она была в немилости. Однако на сей раз она могла лишь признаться Гизу, что не обладает таким влиянием на сына, о котором тот говорил в своей речи.
Впрочем, Генрих III рано уверовал в свою безграничную власть: Генеральные штаты отказались публиковать его речь в том виде, в каком она прозвучала из его уст. Ему еще раньше следовало бы понять, что состав депутатов, собравшихся в Блуа на сессию Генеральных штатов, не оставлял ему ни малейших шансов на принятие желательных для него решений. Лигёры так обработали общественное мнение, что им принадлежало абсолютное большинство среди представителей всех трех сословий. Меньшинство составляли «политики», то есть умеренные католики, тогда как протестанты отсутствовали полностью.
Председателями всех трех курий — дворян, духовенства и третьего сословия — были избраны лигёры. Короля лишили права вето, тем самым заранее нейтрализовав все его инициативы и обеспечив принятие решений большинством голосов. Иначе говоря, депутаты, особенно от третьего сословия, взяли курс на установление конституционной монархии. Однако это намерение наталкивалось на традиционные представления, слишком глубоко укоренившиеся во французском обществе, чтобы можно было так просто пренебречь ими. По этой причине с первых же дней заседания Генеральных штатов начались разногласия даже среди лигёров. Ничего удивительного, что когда на первом заседании в зале появился король, все встали, с должным почтением приветствуя его.
К кому мог обратиться Генрих III, получив от депутатов увесистую пощечину? К кому еще, как не к матери! Как всегда, Екатерина предложила компромиссное решение (а что еще оставалось?): убрать из речи слова, прозвучавшие выпадом против Лиги и Гизов, и в таком виде опубликовать ее, от чего конечно же не откажутся и Генеральные штаты. Свой совет сыну она заключила фразой, не лишенной юмора: «Мне было бы так огорчительно, если бы слова, сказанные вами в мой адрес, пропали для потомков». Впрочем, как раз эта часть речи короля могла быть опубликована совершенно беспрепятственно, и Екатерина знала это столь же хорошо, как и то, что ни при каких условиях не может быть напечатано неугодное Лиге и Гизам. Впавшая в немилость и больная, она оставалась сама собой, не теряя здравого ума и присутствия духа.
Между тем Генеральные штаты продолжали заседать, и герцог Гиз, его брат кардинал и верхушка Лиги времени даром не теряли. В ходе развернувшихся дебатов они сумели так запутать дело, что выдвигавшиеся требования поражали своей непоследовательностью и отсутствием элементарной логики. Так, депутаты требовали незамедлительного и полного истребления гугенотов, но при этом добивались резкого сокращения налогов. Генрих III вследствие этого был лишен возможности собрать необходимое войско, и его упрекали в бездействии и даже предательстве, в стремлении вновь примириться с гугенотами. Уважение, продемонстрированное королю в момент открытия сессии Генеральных штатов, сменилось подозрительным и даже презрительным отношением к нему. Несколько депутатов, подстрекаемых господами Лотарингцами, осмелились даже грубо оскорбить монарха. Если герцог Гиз еще проявлял в отношении его некоторое почтение, хотя и смешанное с долей иронии, и держался в стороне от словесной перепалки депутатов, то его брат кардинал служил главным вдохновителем беспорядка, царившего на заседаниях, стараясь завести дело в тупик. Однако Генрих III, несмотря на все унижения, которым его подвергали Генеральные штаты, и нараставшую угрозу для себя, не сдавался. Дело шло не только о личном спасении, но и о сохранении монархического принципа. Напротив, герцог Гиз, хотя и стремился взойти на королевский трон, подрывал этот принцип, поскольку, если бы ему удалось свергнуть Генриха III, он стал бы выборным королем, предводителем победившей группировки, своего рода коронованным диктатором.
Но было и еще одно обстоятельство, делавшее положение Гиза весьма шатким: в недрах самой выдвигавшей его группировки отсутствовало единство, так что его избрание в любой момент могло быть поставлено под вопрос. Кроме того, Гиз наверняка натолкнулся бы на отчаянное сопротивление гугенотов, пользовавшихся поддержкой «политиков». Он не мог не сознавать, что устранение Генриха III развязало бы гражданскую войну, еще более ожесточенную, чем прежний религиозный конфликт. Понимал это и король, который теперь мог рассчитывать только на самого себя. В этой трагической ситуации ему предстояло самому принимать решение, не обращаясь за советом даже к матери, которая, вероятно, стала бы убеждать его пойти на новые компромиссы. Возможности для достижения согласия были исчерпаны. Теперь задача заключалась уже не в том, чтобы выиграть время, стараясь внести разлад в ряды депутатов и задабривая братьев Гизов, — надо было, по мнению короля, радикально решать вопрос с самими Гизами.
Догадывалась ли Екатерина, что ее сын так и не отказался от плана, реализация которого по ее милости сорвалась в Лувре? Отставленная отдел, она о многом могла разве что догадываться, не имея точной информации из первых рук. Впрочем, для себя она нашла более приятное занятие, нежели подковерная борьба политических группировок. В последние месяцы своей жизни она испытывала радость от того, что устраивала личную жизнь своей внучки Кристины Лотарингской, выдавая ее замуж за юного Фердинанда Медичи, наследного великого герцога Тосканского. Брачный контракт был подписан в Блуа 24 октября 1588 года. Екатерина сделала Кристину наследницей всех принадлежавших ей владений в Тоскане, включая и дворец, построенный Лоренцо Великолепным на Виа Ларга. К этому она добавила еще 200 тысяч золотых экю и коллекцию великолепных ковров, и поныне хранящихся во Флоренции. По случаю подписания брачного контракта Кристины и Фердинанда Екатерина устроила в Блуа великолепный бал, о котором впоследствии вспоминали чаще, чем о заседании там Генеральных штатов. Свадьба состоялась во Флоренции 6 января 1589 года, на следующий день после того, как вдали от своей итальянской родины скончалась Екатерина Медичи.
Последнее напутствие сыну
Решение короля расправиться с Гизами окончательно созрело, причем они сами побудили его поспешить с осуществлением задуманного. 18 декабря осведомитель донес Генриху III, что накануне во время обеда кардинал, предложив тост за своего брата, произнес роковые слова: «Я пью за здоровье короля Франции!» Присутствовавшие от души рукоплескали ему. Не теряя ни минуты, Генрих III тайно созвал своих наиболее верных сторонников и спросил, что они думают обо всем этом. Те единодушно признали положение крайне серьезным и посоветовали немедленно арестовать герцога и кардинала. Однако как это сделать? Герцог Гиз, являясь главным распорядителем королевского двора, имел в своем распоряжении охрану и ключи от всех дверей дворца. Король же мог рассчитывать лишь на горстку верных ему людей; это были знаменитые «сорок пять», личная гвардия, в свое время набранная Эперноном из числа отважных гасконцев, отличавшихся исключительной преданностью своему господину. Но даже если предположить, что Гиз будет арестован, как дальше с ним обращаться? Держать в заключении? Никакие запоры его не удержат. Судить? Но каким судом? У кого хватит смелости допрашивать герцога Гиза, проводить по его делу дознание? Можно не сомневаться, что его сторонники поднимут ради него мятеж. Не оставалось ничего иного, кроме как убить или, лучше сказать, казнить его. Король, полагали заговорщики, в качестве верховного судьи может обойтись и без трибунала, по собственному усмотрению вынести приговор и распорядиться о приведении его в исполнение.
Итак, решение принято, однако сохранить его в тайне во дворце, где полно было лигёров и соглядатаев Гизов, не удалось. Герцога предупредили, однако тот пренебрег предостережением, считая Генриха III неспособным на столь решительный шаг. Слух о готовящемся покушении на герцога дошел даже до членов его семьи. Его сестра герцогиня де Монпансье умоляла брата соблюдать осторожность, однако он беззаботно ответил ей: «Вы же знаете меня, я, если увижу, что смерть входит через дверь, спасусь через окно». И вообще, добавил он, стыдно опасаться такого труса, как король. Он плохо знал людей: именно с перепугу совершаются многие злодеяния. Видя, что брат не внемлет ее предостережениям, герцогиня обратилась за помощью к Екатерине, болезнью прикованной к постели, и услышала в ответ: «Пока я здесь, вам нечего опасаться за своего брата». Королева-мать забыла, что лишена возможности влиять на ход событий, и ее беспричинный оптимизм передался герцогине, усыпив ее бдительность. Если бы Екатерина была здорова, она, возможно, и на сей раз смогла бы спасти Гиза, однако у нее не было сил даже навестить сына в его апартаментах. Так у Генриха III появилась полная свобода действий для доведения до конца того, что из-за вмешательства матери сорвалось в Лувре.
Тем временем сигналы о грядущей беде продолжали поступать. Испанский посол Мендоза, получивший сведения от своих агентов, также убеждал Гиза в необходимости остерегаться, а еще лучше — опередить короля. Герцог соглашался с тем, что надо поднять своих сторонников и захватить власть, но при этом был настолько уверен в себе, что не считал нужным поторопиться. Кто знает, быть может в своем упрямом стремлении во что бы то ни стало сохранить видимость законности он все еще надеялся, что Генеральные штаты наконец-то низложат короля и вместо него изберут его, Генриха Гиза. 21 декабря он добился аудиенции у Генриха III и, желая прощупать почву, ходатайствовал о собственной отставке с поста генерального наместника королевства. Король попросил его сохранить за собой эту должность, заверив его в своей дружбе. На следующий день, когда они встретились в покоях королевы-матери, она, и на краю могилы не утратившая потребности мирить и сближать, потребовала, чтобы они поклялись на освященной гостии, что не замышляют ничего дурного в отношении друг друга. В очередной раз разыграв комедию примирения, Генрих III сообщил герцогу, что назначенный на завтра королевский совет соберется рано утром, поскольку приближаются праздники, а решить предстоит еще много дел. Позднее, во время ужина, Гиз обнаружил под своей тарелкой записку с предупреждением о готовящемся покушении на него. Однако герцог был настолько самоуверен, что ограничился лишь гордым заявлением: «Он не посмеет!» За роковую недооценку противника ему вскоре пришлось заплатить самой дорогой ценой. Затем он удалился с маркизой де Нуармутье (она же мадам де Сов, дарившая своей любовью также Генриха Наваррского, Карла IX, герцога Алансонского, Генриха III и др.) в ее покои, где и провел последнюю в своей жизни ночь.
23 декабря 1588 года уже в четыре часа утра были в сборе все посвященные в королевский план. На положенных местах находились и «сорок пять». Во дворце царили тишина и покой. Слово взял король, еще раз вкратце изложив обстоятельства, вынудившие его на принятие столь непростого решения, особый упор делая на обиды, причиненные ему Ги-зами. Свою краткую речь он заключил по сути риторическим вопросом: «Обещаете ли вы послужить мне, отомстить за меня, не щадя собственной жизни?» Присутствовавшие уже готовы были разразиться громким «Виват!», но король остановил их. Он сделал последние распоряжения, распределив роли, которые каждому предстояло сыграть в предстоявшей драме. Генрих III словно помолодел, вновь обретя уверенность в себе, величавую осанку государя и боевого командира. Он удалился в свой кабинет, а члены королевского совета заняли места в зале для заседаний. Оставалось только ждать прибытия герцога Гиза, который появился около семи часов, как всегда элегантный и высокомерный. Войдя в зал совета, Гиз невольно остановился, не увидев никого из своих друзей. Повинуясь инстинкту самосохранения, он, возможно, повернул бы назад, если бы в тот же момент не показались на пороге его брат кардинал и кардинал Вандом. Чувство тревоги, охватившее было герцога, прошло, однако слабость, вызванная бурно проведенной ночью с опытной в искусстве любви маркизой, осталась. Он попросил принести ему сушеных слив, модное в то время средство для восстановления сил после напряженной ночи любви, и машинально жевал их.
Государственный секретарь передал ему приглашение явиться к королю и незаметно исчез. Герцог поднялся и, ничего не опасаясь, пошел, с перекинутым через руку плащом и бонбоньеркой с сухофруктами в руке. Некоторые из «сорока пяти» были тут же, делая вид, что играют в шахматы. При его приближении они почтительно встали и последовали за ним. Войдя в Старый кабинет, герцог не обнаружил там короля, зато увидел еще одну группу из числа «сорока пяти». Был там и Ланьяк, их командир. Гиз в нерешительности остановился и хотел было уже повернуть назад, как по команде Ланьяка королевские лейб-гвардейцы набросились на него. Он тщетно попытался выхватить свою шпагу, чтобы защищаться, но град ударов опередил его. Герцог был настолько силен, что и смертельно раненный, он увлек за собой всю свору убийц в направлении Нового кабинета, где находился Генрих III. Получив не менее десяти ран, он все еще держался на ногах, цедя сквозь зубы: «Какое вероломство, господа! Какое вероломство!» Получив еще один удар кинжалом в живот, герцог тем не менее продолжал двигаться нетвердой походкой в сторону Ланьяка, который с силой оттолкнул его. Раненый наконец рухнул на пол, но был еще жив. Один из приближенных короля, подойдя к умиравшему Гизу, сказал: «Месье, пока еще теплится в вас искра жизни, просите прощения у Бога и короля». Герцог пробормотал: «Miserere mei, Deus...» («Помилуй меня, Господи») и испустил дух. Генрих III, окинув взглядом поверженного врага, будто бы изрек знаменитую фразу: «Бог мой, как он велик! Мертвый еще больше, чем живой!»
Пока в зале совета проводили арест кардинала Лотарингского, архиепископа Лионского и кардинала Бурбона, избранного Лигой на роль предполагаемого наследника престола, Генрих III направился к тяжелобольной матери, лежавшей в своей постели. Ее апартаменты располагались как раз под королевскими, и она спросила сына, что это за топот раздавался над ее головой. «Наконец-то я король Франции, — сказал Генрих III, — я убил парижского короля». — «Хорошо раскроил, мой мальчик, теперь надо сшить», — ответила королева-мать. Это был последний изреченный ею афоризм, смысл которого можно толковать так и эдак. Возможно, она и вправду порадовалась за сына («хорошо раскроил»), забыв о том, что еще накануне пыталась удержать его от опрометчивого шага. Может, теперь, избавившись от могущественного соперника, он действительно стал бы королем не только по названию, но и по сути? То, с какой энергией Генрих III взялся в последующие месяцы, заключив союз с Генрихом Наваррским, восстанавливать свой королевский авторитет, оправдывает, пусть и в малой степени, это, казалось бы, парадоксальное предположение. Жаль, что мы так никогда и не узнаем, какая развязка была бы в этой борьбе за власть, ибо спустя полгода кинжал наемного убийцы оборвал жизнь Генриха III в один из самых решающих моментов — накануне штурма Парижа. Однако Екатерине Медичи не суждено было узнать и того, что знаем мы, поскольку ее собственная жизнь оборвалась через считаные дни после этого «успеха» сына, о котором тот с такой гордостью сообщил ей. Если в ее пожелании Генриху III «сшить» то, что он так славно раскроил, не таится саркастический смысл, то слова ее можно расценить как последнее материнское напутствие сыну.
Сен-Жермен
Когда до слуха Екатерины дошло, что вслед за герцогом Гизом убит и его брат, кардинал Лотарингский, она поняла, что ее дорогой сыночек зашел слишком далеко. Ее охватил страх — не за себя (о себе беспокоиться, понимала она, было уже поздно), а за сына, губящего, если уже не погубившего, свою бессмертную душу. Догадываясь, что угроза смерти нависла и над кардиналом Бурбоном, она решила спасти его, чего бы это ей ни стоило. Несмотря на строгий запрет врачей вставать с постели, 1 января 1589 года она, разместившись в портшезе, велела отнести себя к кардиналу, к которому всегда питала добрые чувства и который, в свою очередь, отдавал должное королеве-матери. Когда Екатерина вошла в комнату, где он содержался под домашним арестом, Бурбон бросился в ее объятия и оба залились слезами. Из Екатерины не так-то просто было выдавить слезу, и проявленная ею слабость говорила о многом.
Однако затем встреча королевы-матери с узником приняла неожиданный и обидный для нее оборот. Кардинал, справившись с потоком слез, начал упрекать ее, пересказывая все, в чем только упрекали ее враги: это будто бы она, сговорившись с сыном, хитростью завлекла Гизов в ловушку, это она многократно обманывала и его самого, только поверив ей, он согласился приехать в Блуа, где теперь его ждет участь кардинала Лотарингского. «Вы завлекли нас сюда красивыми словами и тысячью ложных заверений в безопасности, вы всех нас обманули!» — кричал обезумевший от страха и горя кардинал (вернее, бывший кардинал, ибо ради эфемерной перспективы обретения королевской короны он отказался от духовного сана), видимо, забывший, по чьей инициативе и для чего все собрались в Блуа и кто здесь до последнего времени правил бал. И этот убогий старец присоединился к хору клеветников, пытаясь представить Екатерину сообщницей сына и даже инициатором убийств. Она пыталась было протестовать, уверяя, что ничего не знала о намерениях Генриха III, а если бы знала, то сделала бы все, чтобы воспрепятствовать ему. Однако Бурбон, не внемля ей, бессмысленно повторял одно и то же: «Вы всех нас обманули! Вы всех нас погубили!» Не в силах долее сносить подобное оскорбление, она скомандовала своим носильщикам: «Уходим!»
Эта встреча с Бурбоном, на которую она отправилась с самыми добрыми намерениями, нанесла ей смертельный удар. От пережитого потрясения резко обострилась болезнь, и на следующий день Екатерина чувствовала себя как никогда плохо. И все же, несмотря ни на что, вопреки запретам врачей и уговорам близких, 2 января 1589 года она отправилась на мессу. День выдался на редкость холодным, и прогулка по морозу привела к дальнейшему ухудшению ее самочувствия. Теперь в ее окружении были почти одни только итальянцы. Французы, опасаясь королевского гнева, в большинстве своем покинули опальную королеву-мать. 4 января Екатерина уже с трудом дышала, что лишало ее способности говорить, хотя при этом сознание ее оставалось ясным.
Утром 5 января 1589 года она решила составить завещание. Будучи не в состоянии писать, она диктовала, прилагая для этого огромные усилия. Она выражала свою последнюю волю в присутствии сына, велев похоронить себя рядом с супругом, в Сен-Дени, где уже приготовила для себя место. Это было важно для нее, что же касается церемонии погребения, то в этом она целиком полагалась на усмотрение Генриха III, не высказав никаких пожеланий. Затем она распределила наследство, не забыв упомянуть своих слуг, карликов и карлиц, поваров и прочих, не говоря уже о советниках и духовниках. Своей главной наследницей она сделала внучку, Кристину Лотарингскую, недавно выданную замуж за наследника великого герцога Тосканского: помимо своих итальянских имений и дворца во Флоренции она завещала ей драгоценности и особняк в Париже. Любимый замок Шенонсо, в свое время послуживший поводом для конфликта с Дианой Пуатье, она отписала королеве, Луизе де Водемон. Все свои владения в Оверни, перешедшие к ней по наследству от матери, Мадлен де ля Тур д’Овернь, она завещала бастарду Генриха И, графу Овернскому. Дочь Маргариту и зятя Генриха Наваррского, доставивших ей столько неприятностей, она вовсе не упомянула. Генрих III вслух прочитал составленное завещание и подписал его, после чего поставили свои подписи королева Луиза, нотариусы и душеприказчики. У самой Екатерины уже не было сил расписаться. Она лишь пробежала глазами текст и одобрила его, прежде чем он был скреплен печатью.
Затем она позвала своего исповедника, однако оказалось, что он, подобно многим другим, покинул ее. Послали найти ему замену. Впрочем, врачи не считали, что в этом есть настоятельная необходимость, давая королеве-матери по крайней мере еще несколько дней жизни. Да и сама она, помня пророчество, не думала, что наступил смертный час: ведь, по предсказанию, ей следовало опасаться Сен-Жермена, а она находилась в Блуа. Между тем появился священник, которого она не знала; он исповедовал ее и дал ей отпущение грехов. Любопытства ради Екатерина поинтересовалась, как его зовут. Последовал ответ: «Жюльен де Сен-Жермен», после чего королева-мать со вздохом, но без видимого волнения произнесла: «Стало быть, пришла смерть». Ее состояние резко ухудшилось, и спустя два часа она испустила дух.
Кончина Екатерины Медичи заставила всех, кто знал ее, еще раз осмыслить, какое место занимала она в их собственной жизни и жизни королевства. И Генрих III тоже изобразил скорбь, возможно даже искреннюю, во всяком случае, менее притворную, чем в иных случаях. Многие признавали, что уход королевы-матери явился тяжелой утратой для Франции. Только такого несчастья и недоставало этому несчастному королевству, как справедливо заметил папский нунций.
Превратности судьбы, с которыми Екатерина Медичи не раз сталкивалась при жизни, продолжали преследовать ее и после кончины. Лишь спустя 20 лет была исполнена ее последняя воля и бренные ее останки упокоились в Сен-Дени подле обожаемого супруга. Поток злоречивых пересудов не прекратился и после ее смерти. Еще не успело остыть ее тело, как поползли слухи, что Екатерина была отравлена. То ли желая докопаться до правды, то ли с целью опровергнуть клевету, бросавшую тень и на него самого, Генрих III распорядился провести вскрытие, которое показало естественную причину смерти его матери — тяжелую форму пневмонии. Если бы не эта болезнь, обострение которой она сама спровоцировала своей ненужной активностью в первые дни нового, 1589 года, Екатерина Медичи могла бы еще долго жить, поскольку ее внутренние органы были здоровы.
Как было принято в то время, на прощание с ко-ролевой-матерью отвели целый месяц. Не только весь город Блуа, но и обитатели иных областей Франции пришли поклониться ее бренным останкам. Собственно говоря, сами останки в то время уже покоились в свинцовом гробу, вложенном в деревянный гроб, а то, что люди могли видеть, было наряженной в подлинные одеяния Екатерины куклой, восковому лицу которой придали полное портретное сходство. Похороны состоялись 4 февраля 1589 года в церкви Сен-Совёр в Блуа. По справедливости, прощание с королевой-матерью должно было бы проходить в Париже, а похороны, согласно последней воле покойной, — в Сен-Дени, однако после декабрьских событий 1588 года доступа туда не было не только королю Генриху III, но и его матери-покойнице. Останкам Екатерины предстояло покоиться в церкви Блуа до наступления лучших времен. А пока что шла ожесточенная перепалка между протестантами и католиками: если первые, забыв, что о мертвых следует говорить хорошо или ничего, вели разнузданную кампанию очернения «Черной королевы», не раз помогавшей им в трудную минуту, то вторые, во всяком случае, часть из них, превозносили ее до небес.
Впрочем, эта полемика вскоре затихла, и в бурные годы борьбы за французский престол о Екатерине Медичи на время забыли. Могло статься так, что она никогда не обрела бы покой в Сен-Дени подле Генриха II. Генриху IV как до, так и после восшествия его на трон Французского королевства было не до нее. Лишь в 1610 году, уже после его гибели от руки убийцы, незаконнорожденная дочь Генриха II, появление которой на свет доказало его способность стать отцом и которую он признал под гордым именем Дианы Французской, вспомнила о Екатерине. Она, именовавшаяся к тому времени герцогиней де Монморанси, оказалась единственной, кому пришло в голову воздать должные почести матери трех королей Франции. Именно благодаря ей останки Екатерины Медичи были перевезены в Сен-Дени и погребены в одной могиле с Генрихом II. Там они оставались вплоть до 1793 года, когда якобинцы, объявившие войну не только живым «тиранам», но и мертвым, в революционном порыве разорили королевские могилы, свалив то, что осталось от Божьих помазанников, в общую яму. Sic transitgloria mundi[1].
Эпилог.
ЖИВУЩАЯ В ВЕКАХ
Стоит ли жить и бороться, чтобы к концу дней своих подвести такой итог жизни, какой выпал на долю Екатерины Медичи? Праздный вопрос — конечно же стоит, хотя бы потому, что не знаешь, что ждет тебя лет через тридцать. Одна, но пламенная страсть вела по жизни Екатерину Медичи — любовь к собственным детям, ради которых она была готова на всё, и если бы не пришлось ей ради них и за них заниматься политикой, кто знает, какой запомнилась бы она потомкам. Быть может, образцом заботливой мамаши, добросердечной женщины? Но ей пришлось взяться за эту грязную работу, заниматься политикой, делать политику, и на свет явилась «Черная королева».
Нет нужды доказывать, что и на этой грязной работе она замаралась не больше других — Генриха VIII Английского, Карла V, Филиппа II, римских пап, великих инквизиторов, да и самой Елизаветы Английской, репутация которой вроде бы получше, чем у нее. Одно роковое событие заслоняет и как бы перечеркивает всё сделанное Екатериной Медичи за десятилетия непосильных трудов — Варфоломеевская ночь, особенно в памяти тех, кто знает о ней по сочинениям беллетристов и популярным фильмам. Теперь, по прочтении ее краткого жизнеописания, пусть каждый честно ответит на вопрос: что еще можно поставить в упрек Екатерине Медичи, кроме этого? Даже учитывая обстоятельства и причины, приведшие к этой кровавой вакханалии, все равно будем возлагать на нее всю ответственность? Деятели вроде Конде и Колиньи, с легкостью пускавшие кровь католикам, конечно же тут ни при чем?..
Была бы Екатерина Медичи более привлекательным историческим персонажем, если бы на ней не лежала пусть и не вся, но значительная часть вины за Варфоломеевскую ночь? Что касается ее нравственности, то она безупречна: любовные похождения были чужды ей. Как в годы своего супружества, так и вдовства она была в этом отношении вне подозрений, что, однако, не помешало гугенотам рассказывать о ней самые невероятные истории, приписать ей кучу внебрачных детей, якобы рожденных ею уже в весьма преклонном возрасте и неизвестно куда подевавшихся — их Екатерина, наверное, съедала. Другая зловредная легенда утверждает, что «Черная королева» будто бы потворствовала юношескому распутству своих сыновей, чтобы легче было держать их в руках. Единственное, что она старалась держать в своих руках и по мере возможности сдерживать, так это силы анархии. В течение тридцати лет она защищала государство и династию от их разрушительного воздействия, однако «благодарные» потомки предпочитают не помнить этого.
Только историки искусства, по природе своих исследований далекие от политических страстей, по праву находят в ее жизни много достойного одобрения и даже восхищения, восхваляя ее меценатство. В этом отношении ее не за что упрекнуть, разве что за излишнюю расточительность. Она больше, чем любая другая из французских королев XVI века, воплощала в себе дух Ренессанса. Рожденная от представительницы высшей французской аристократии и внука Лоренцо Великолепного, воспитанная в Риме и Флоренции — этих столицах католицизма и изящных искусств, в 14 лет оказавшаяся при дворе Франциска I, самом блестящем из европейских дворов, она приобрела вкус к роскоши и показному великолепию. Когда же, начиная с царствования Карла IX, Екатерина получила возможность распоряжаться государственными финансами, она окружила себя фрейлинами, которых наряжала, «словно богинь», устраивала роскошные праздники, строила дворцы и замки, дабы придать королевской власти блеск, который, по ее представлению, должен ей сопутствовать. Она обладала живым умом и любознательностью, любила общество ученых, писателей, художников, коллекционеров. И сама она коллекционировала картины, предметы искусства, диковинные и всякого рода изящные вещицы, собирала географические карты, книги и манускрипты. Она знала латынь и более или менее древнегреческий и покровительствовала многим писателям своего времени.
Екатерина Медичи ввела во Франции обычай дополнять балеты, уже прижившиеся при французском дворе, пением и сценическим действием, из чего зародилась опера. Она подала также идею нового драматического жанра — трагикомедии. Если она и использовала свой «летучий эскадрон» для достижения политических целей, то по крайней мере поэзию старалась сохранять в чистоте, как прибежище идеального. В молодости и сама она собиралась сочинять некое произведение по примеру «Декамерона» или «Гептамерона», сборник новелл, в которых рассказывались бы подлинные истории. Однако ее одолели иные заботы, и ее, если можно так сказать, литературное творчество свелось к огромной по своему объему переписке, главным образом политической. Она была того же интеллектуального склада, что и Маргарита Ангулемская и Маргарита Французская, сестра и дочь Франциска I, но в отличие от них увлекалась еще науками и математикой, а также изобразительным искусством. Она любила постройки и вместе с архитекторами составляла подробные архитектурные проекты. И своим детям она привила любовь к поэзии и музыке, так что Карл IX сочинял недурно отделанные в литературном отношении вирши, соревнуясь с самим Рон-саром. Свой след Екатерина оставила также во французской моде и кулинарии...
Однако специалисты по политической истории менее благосклонны к Екатерине Медичи. Большинство из них изображают ее исключительно своекорыстной, приверженной лишь собственным интересам, не различающей добра и зла, равнодушной к религии и не слишком щепетильной. Для моралистов и романистов она является воплощением макиавеллизма. Протестанты, что естественно, ее проклинали, а католики в большинстве своем отвергали ее, не прощая ей «заигрывания» с гугенотами. Утвердилось мнение, что она преступна по своей натуре, не способна на благородные поступки, что она не любила никого и ничего, что вся ее жизнь была пропитана расчетом, эгоизмом, коварством, вероломством, жестокостью.
Реальная Екатерина Медичи не похожа на этот портрет, написанный крупными мазками и исключительно темными красками. На протяжении тридцати лет правления она, как и любой смертный, непрерывно менялась. Будучи амбициозным по натуре человеком, вовлеченным в политическую борьбу, она раздражалась, столкнувшись с сопротивлением, однако при этом по мере возможности старалась избегать силовых методов, отдавая предпочтение переговорам и уговорам, и лишь когда уговоры не действовали, пускалось в ход оружие. Вполне вероятно, что в нормальные времена она оставалась бы мягкой и даже благодушной.
Отношение Екатерины Медичи к протестантам эволюционировало от благосклонности к враждебности. Большинство гугенотов никогда не понимали и не желали понимать ее. Во времена, когда Екатерина оказывала им наибольшие услуги, они требовали от нее еще большего. Они хотели, чтобы она компрометировала себя ради них — невозможно было поступать более неразумно и быть более неблагодарными. Она неоднократно поддерживала гугенотов, руководствуясь самыми различными мотивами (из-за отвращения к насилию, из-за соперничества с Гизами и даже из элементарного неприятия религиозной вражды), но было бы смешно, если бы она губила себя ради спасения их, тем более что после первой гражданской войны они и не думали занимать более умеренную позицию, выдвигая против Екатерины всё более чудовищные обвинения. Она никогда не забывала ни доброго, ни плохого, что было сделано ей, и гугеноты испытали это на себе. Их мятежи против законной королевской власти, прикрывавшиеся религией, были преступны и как любое преступление влекли за собой наказание.
Екатерине Медичи не занимать было ни великодушия, ни смелости, что и проявилось в годы ее правления. При жизни Генриха II она осмеливалась, рискуя навлечь на себя гнев обожаемого супруга, преследовавшего еретиков, демонстрировать сочувствие преследуемым. При Франциске II она сдержанно реагировала на религиозную нетерпимость Гизов, правление же Карла IX, которое было ее правлением, началось со смелой инициативы — прекращения преследований и объявления свободы совести. Вероятно, в этой перемене политики имелся свой расчет: тем самым она пыталась привлечь на свою сторону противников Гизов. Однако в своем потворстве гугенотам она зашла так далеко, что ее стали обвинять в сочувствии новой религии, тогда как сама она утверждала, что готова терпеть ее только ради сохранения государства и поддержания в нем мира. Обеспокоенные этим вожди католиков потребовали от нее, под угрозой отстранения от власти, подчиниться их требованиям, но после первой религиозной (читай: гражданской) войны, вновь обретя свободу действий, она возвратилась к практике религиозной терпимости, не выходя при этом за рамки, установленные Амбуазским эдиктом, дабы не спровоцировать католическую реакцию.
Екатерине Медичи вменяют в вину ее амбициозность (которая и вправду была немалой) — как будто она не имела на это права! До сорока лет ей приходилось сдерживать свое властолюбие, и тем сильнее оно проявилось впоследствии, однако служило исключительно цели обеспечения будущего ее детей. Она не узурпировала власть и не удерживала ее противозаконно. Ее сыновья Карл IX и Генрих III, время от времени проявляя (первый реже, а второй чаще) желание действовать самостоятельно, вверили ей властные полномочия, зная, что не могли бы передать их в более умелые и надежные руки. Однако правомерно возникает вопрос, как она осуществляла власть. Как мы уже имели возможность убедиться, в разные периоды по-разному. Сначала она старалась объединить вокруг себя вождей враждующих группировок и представителей знати, проявляя к ним свое великодушие, осыпая их подарками и обещаниями, ибо когда ее власти ничего не угрожало, она была великодушной, щедрой и даже расточительной. Она любила нравиться и доставлять людям удовольствие. В период между первой и второй религиозными войнами она искренне пыталась примирить Гизов с Конде, Монморанси и даже с Колиньи, которого они обвиняли в убийстве герцога Франсуа. Однако вскоре она убедилась в бесплодности подобного рода проявлений доброй воли. Не раз столкнувшись с предательством, она взяла за правило никому не доверять. Интересы ее детей, не отделяемые ею от собственных интересов, стали определять линию ее поведения. Убежденная в том, что, защищая себя, она защищает государство и династию, Екатерина Медичи стала неразборчивой в выборе средств. А кто был разборчив в их выборе в разгар гражданской войны, ожесточенной борьбы не на жизнь, а на смерть?
Качества государственного деятеля у Екатерины Медичи проявлялись в умении действовать так, чтобы движение к поставленной цели не бросалось в глаза окружающим, чтобы возникала иллюзия, будто ничего не происходит. Присущее ей самообладание в равной мере являлось как природным даром, так и благоприобретением за годы жизни при королевском дворе. Даже в самых критических ситуациях она не теряла хладнокровия, не срывалась на крик и не прибегала к оскорбительным выражениям. С противником, которому она готовила гибель, она до последнего момента оставалась любезной, не разбрасываясь пустыми угрозами. Она умела прибегать к уловкам и вести торг. Даже когда партия казалась проигранной, она предпочитала продолжать переговоры, а столкнувшись с непреодолимым противодействием, старалась выиграть время. Она знала, как важно обеспечить себе, даже ценой самых болезненных уступок, возможность дождаться нового поворота колеса Фортуны, которое вознесет тебя наверх.
О том, что в своей деятельности Екатерина Медичи доходила до мельчайших деталей управления, свидетельствует ее переписка. Она всегда была главным министром для себя самой и своих сыновей. Мало сказать, что она ревностно исполняла взятые на себя обязанности — она исполняла их с удовольствием. Эту жажду деятельности не притупили ни возраст, ни болезни. Всю свою жизнь она была в движении, в пути. В преклонном возрасте, когда она уже не могла сесть верхом на лошадь, она в портшезе отправлялась в отдаленные концы королевства, чтобы на месте решать дела государственной важности и улаживать конфликты. Она стойко переносила трудности и заботы, связанные с управлением государством. Жизнерадостная в молодости, она и с годами, несмотря на пережитые несчастья, не поддалась меланхолии, до последнего дня сохранив ясность ума.
Вместе с тем Екатерина Медичи порой недооценивала других людей, особенно своих противников, и обнаруживала поразительную неспособность понять бушевавшие вокруг нее религиозные страсти. Устраивая прения в Пуасси, она вознамерилась сблизить взгляды католиков и протестантов по такому пустяшному, по ее мнению, вопросу, как споры по поводу евхаристии, не сознавая, что это и есть краеугольный камень всех их теологических построений. Она придавала слишком большое значение внешнему блеску, тратя огромные суммы на строительство дворцов, на ювелирные украшения, роскошную одежду, на содержание блестящего двора. Она, по примеру древнеримских императоров, устраивала зрелища для народа, дабы отвлечь его от мысли о неповиновении. Устроение празднеств было одним из ее методов государственного управления. Порой она гонялась за химерами, расточая миллионы на бесперспективные проекты, такие как обеспечение избрания ее сына Генриха на польский престол. Она обладала слишком живым воображением — черта ее натуры, на которую обычно не обращают внимания. Ей случалось видеть события не такими, каковы они были на самом деле, а такими, какими ей хотелось видеть их. Принимаясь за дело, она не сомневалась в успехе, словно не замечая стоящих на пути преград. Особенно это касается ее усилий по устройству судьбы собственных детей. Она искренне полагала, что только несчастные обстоятельства, порожденные смутным временем, не позволили ей сделать из двоих ее сыновей, Карла IX и Генриха III, «величайших в мире правителей» — вот о чем она мечтала. Она была по преимуществу матерью, положившей жизнь ради счастья своих детей. Ее слепая материнская любовь являлась движущей силой ее политики.
Tout comprendre, tout pardonner. Всё понять, всё простить. И если Екатерина Медичи, как и любой другой государственный деятель, оставивший свой след в истории, не нуждается в нашем прощении, то понимание необходимо всем, и прежде всего — нам самим, пытающимся проникнуть в смысл поступков людей далеких исторических эпох.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕКАТЕРИНЫ МЕДИЧИ
1518, 2 марта — бракосочетание в Амбуазе Лоренцо Медичи и Мадлен де ля Тур д’Овернь.
1519, 13 апреля — рождение Екатерины Медичи.
1523,19ноября — Джулио Медичи стал папой Климентом VII. 1527, 6мая — разграбление Рима наемниками императора.
1529, октябрь — начало осады Флоренции.
1530, август — Флоренция капитулировала.
1531, 9 июня — Екатерина Медичи сосватана за Генриха, герцога Орлеанского.
1533, 28 октября — бракосочетание в Марселе Екатерины Медичи и Генриха, герцога Орлеанского.
1536, август — смерть дофина Франсуа. Генрих Орлеанский становится дофином, а Екатерина — дофиной.
1538 — рождение у дофина Генриха незаконной дочери, нареченной Дианой Французской.
1544, 19января — рождение у Екатерины первенца Франсуа, будущего короля Франциска II.
1545, 2 апреля — Екатерина родила дочь Елизавету, будущую королеву Испании.
1547, 31 марта — кончина Франциска I, восшествие на престол Генриха II.
1549, 10 июня — коронация Екатерины в качестве королевы Франции.
1557, 10 августа — разгромное поражение французов в битве при Сен-Кантене.
1558, 24 апреля — бракосочетание дофина Франсуа (Франциска) с Марией Стюарт.
1559, 3 апреля — мир в Като-Камбрези.
10июля — кончина Генриха II. Восшествие на престол Франциска II.
1560, март — Амбуазский заговор.
5 декабря — кончина Франциска II. Восшествие на престол Карла IX.
1561, сентябрь — прения в Пуасси.
1562, 17января — Екатерина издает «Эдикт веротерпимости».
1 марта — резня в Васси. Начало первой религиозной войны.
1563, 19марта — Амбуазский мир и эдикт.
1564, март — начало большого королевского турне.
Октябрь — встреча Екатерины Медичи с Нострадамусом.
1565, июнь — встреча Екатерины Медичи и герцога Альбы в Байонне.
1566, май — завершение большого королевского турне.
1567, сентябрь — заварушка в Mo. Начало второй религиозной войны.
1568, 22 марта — мир в Лонжюмо. В тот же год — начало третьей религиозной войны.
1569 — победы, одержанные под командованием сына Екатерины, герцога Анжуйского, при Жарнаке и Монконтуре.
1570 — Сен-Жерменский мир. Бракосочетание Карла IX и Елизаветы Австрийской.
1571 — Екатерина готовит бракосочетание дочери Маргариты с Генрихом Наваррским.
1572, 24 августа — Варфоломеевская ночь.
1573 — четвертая религиозная война.
1574 — «заговор скоромных дней». Кончина Карла IX. Восшествие на престол Генриха III. Пятая религиозная война.
1575, 10октября — победа над германскими наемниками при Дормане, одержанная Генрихом Гизом — вторым «Меченым».
1576 — «мир брата короля». Генеральные штаты в Блуа. Начало шестой религиозной войны.
1577 — окончание шестой религиозной войны, подписание Бержеракского мира, или «мира короля».
1578, август — 1579, ноябрь— Екатерина предпринимает поездку с целью умиротворения королевства.
1579, 14 ноября — триумфальная встреча, устроенная Екатерине парижанами.
1580— седьмая религиозная война («Война влюбленных»). Мир во Фле.
1582—1583 — военные действия герцога Алансонского в Нидерландах.
1584 — смерть герцога Алансонского. Формирование Священной лиги.
1585 — Немурский договор между королем и Лигой. Заключение королевы Марго в замок Юссон.
1586 — переговоры Екатерины Медичи с Генрихом Наваррским в Сен-Брисе.
1587 — восьмая религиозная война (Война трех Генрихов).
1588 — восстание в Париже. Бегство короля в Шартр. Соглашение между королем и Лигой. Генеральные штаты в Блуа. Расправа над Гизами.
1589, 5января — кончина Екатерины Медичи.
4 февраля — похороны Екатерины Медичи в церкви Сен-Совёр в Блуа.
1610 — останки Екатерины Медичи перевезены из Блуа в Сен-Дени и погребены в одной могиле с Генрихом II.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ.
Брантом. Галантные дамы. М., 1998.
Д’Обинье Агриппа. Трагические поэмы. Мемуары. М., 1996.
Кардинал де Рец. Мемуары. М., 1997.
Мемуары королевы Марго. М., 1995.
Albret Jeanne d’. Mémoires et poésies. Ed. A. de Rouble. Paris, 1893; Genève, 1970.
Angoulême Charles de Valois, duc d’. Mémoires du duc d’Angoulême pour servir à l’histoire des règnes d’Henri III et d’Henri IV. Paris, 1838.
Aubigné Agrippa d’. Œuvres complètes, publ. par Eugène Réau-me et Caussade. Genève, 1867.
Brantôme Pierre de Bourdeille, abbé de. Œuvres complètes, publ. parL. Lalanne. Paris, 1864—1882.
Correspondance de Charles IX et Catherine de Médicis avec Gaspard de Tavannes. Auxerre, 1857.
Correspondance et négociations de la reine Catherine. Paris, 1873.
Correspondance de Théodore de Bèze, publ. par A.Dufour. Genève, 1980.
Duplessis-Mornay Ph. Mémoires et correspondances, publ. par F. de Fontenelle. Paris, 1824—1825, 12 vol.
La Noue. Discours politiques et militaires. Ed. F.E.Sutcliffe. Genève-Paris, 1967.
L’Estoile P. Registre-Journal du règne de Henri III. Ed. par M.Lazard et G.Schrenck. Genève, 1992—2003, 6 vol.
Lettres de Cathtrine de Médicis, publ. par H. de La Ferrière-Percy. Paris, 1880—1909.
Lettres de Henri III, publ. par P.Champion. Paris, 1959—2000.
L’Hospital M. Discours pour la majorité de Charles IX. Ed. R.Descimon. Paris, 2002.
Marguerite de Valois. Correspondance, 1569—1614. Ed. par E.Viennot. Paris, 1998.
Marguerite de Valois. Mémoires. Comm. par Y. Cazaux. Paris, 2004.
Mathieu Pierre. Histoire des derniers troubles de France sous les règnes des rois très chrétiens, Henri III et Henri IV. Paris, 1551.
Mémoires de Bellièvre et de Sillery. Amsterdam, 1696, 2 vol.
Mémoires de la Ligue. Amsterdam, 1758.
Mémoires de l’état de la France sous Charles IX, s.d., 2 vol. Mémoires de Marguerite de Valois. Rééd. par Y. Cazaux et B. Barbiche. Paris, 1971.
Mémoires du duc de La Force, publ. par le Mis de La Grange. Paris, 1843.
Mémoires du vicomte de Turenne depuis duc de Bouillon, 1565—1586, publ. par G.Baguenault de Puchesse. Paris, 1901.
Réaux, Tallemanî des. Historiettes. Ed. G. Mongrédien. Paris, 1932-1934, 8 vol.
Thou, J.A. de. Mémoires 1553—1601. Paris, 1711.
Valois Marguerite de. Mémoires et lettres, publ. par М.-F. Gues-sard. Paris, 1842.
Villegomblain. Les Mémoires des troubles arrivés en France. Paris, 1668.
Балакин В. Д. Генрих IV. М., 2011 (серия «ЖЗЛ»).
Бальзак О. Об Екатерине Медичи // Собрание сочинений. В 24т.: Т. 21. М., 1960.
Варфоломеевская ночь: событие и споры. М., 2001. Глебов-Богомолов А. И. Фаворитки французских королей. Ростов н/Д., 1999.
КастеллоА. Королева Марго. М., 2009 (серия «ЖЗЛ»). Клулас И. Диана де Пуатье. М., 2004 (серия «ЖЗЛ»). Клулас И. Екатерина Медичи. М., 1997.
Клулас И. Повседневная жизнь в замках Луары в эпоху Возрождения. М., 2001.
Jle РуаЛадюри Э. Королевская Франция (1460—1610). От Людовика XI до Генриха IV. М., 2004.
Плешкова С. Л. Екатерина Медичи — Черная королева. М., 1994.
Плешкова С. Л. Франция XVI — нач. XVII в. М., 2005. Французские короли и императоры. Ростов н/Д., 1997. Цареубийства. Гибель земных богов. М., 1998.
Шевалье П. Генрих III. М., 1997.
Шишкин В. В. Королевский двор и политическая борьба во Франции XVI—XVIII вв. СПб., 2004.
Эрланже Ф. Генрих III. М., 1995.
Эрланже Ф. Диана де Пуатье. СПб., 2002.
Эрланже Ф. Резня в ночь на святого Варфоломея. СПб., 2002.
Aubigné Agrippa d\ Histoire universelle. Paris, 1897.
Babelon J.-P. Henri IV. Paris, 1982.
Baudouin-Matuszek M. Paris et Catherine de Médicis. Paris, 1992.
Bely L. La France moderne, 1489—1789. Paris, 1994. Bennassar B. Le XVI siècle. Paris, 2005.
Boucher J. La cour de Henri III. Paris, 1986.
BuisseretD. Henry IV. London, 1984.
Carnot B. Société, cultures et genres de vie dans la France moderne XVI—XVIII siècles. Paris, 1991.
CastelnauJ. Catherine de Médicis (1519—1589). Paris, 1954. CastelotA. Henri IV le passionné. Paris, 1986.
CastelotA. La reine Margot. Paris, 1993.
Castries de. Henri IV, roi de coeur, roi de France. Paris, 1970. Cazauran N. Catherine de Médicis et son temps. Paris, 1977. Champion P. Catherine de Médicis présente à Charles IX son royaume (1564—1566). Paris, 1937.
Chevallier P. Henri III, roi shakespearian. Paris, 1985 Cloulas I. Catherine de Médicis. Paris, 1979.
Cloulas I. Henry II. Paris, 1985.
Cloulas I. Diane de Poitiers. Paris, 1997.
Cloulas I. Catherine de Médicis: la passion du pouvoir. Paris, 1999.
Constant J.-M. Les Guise. Paris, 1984.
Constant J.-M. La Ligue. Paris, 1996.
Crouzet D. La Nuit de la Saint-Barthélémy. Paris, 1994. Crouzet D. Le haut cœur de Catherine de Médicis. Paris, 2005. Das Attentat in der Geschichte. Kôln, 1996.
Dickerman E. Bellievre and Villeroy. Power in France under Henri III and Henri IV. Providence, 1971.
Duchein M. Elisabeth I d’Angleterre. Paris, 1992.
Emmanuelli F.-X. Etats et pouvoirs dans la France des XVI— XVIIIe siècle. Paris, 1992.
Erlanger Ph. Le Massacre de la Saint-Barthélémy. Paris, 1960. Erlanger Ph. Henri III. Paris, 1975.
Etudes sur l’ancienne France. Paris, 2003.
Garrisson J. Royaume, Renaissance et Réforme, 1483—1559. Paris, 1991.
Garrisson J. Marguerite de Valois. Paris, 1994.
Garrisson J. Henri IV. Paris, 2000.
Garrisson J. 1572 (Mille cinq cents soixante-douze): La Saint-Barthélemy. Paris, 2000.
Garrisson J. Les Derniers Valois. Paris, 2001.
Garrisson J. Catherine de Médicis. Paris, 2002.
Graham V.E. The Royal Tour of France by Charles IX and Catherine de Médici. Toronto, 1979.
Héritier J. Catherine de Médicis. Paris, 1984.
Knecht R.-J. Catherine de Médicis. Bruxelles, 2003.
Luzzatti I. Katharina Medici. 1519—1589. München, 1943. MahoneyJ. Madame Catherine. New York, 1975.
Mariéjol J.-H. Catherine de Médicis. Paris, 2005.
Milliot V. Pouvoirs et société dans la France d’Ancien Régime. Paris, 1992.
Miquel P. Les guerres de religion. Paris, 1980.
OrieuxJ. Catherine de Médicis ou la Reine noire. Paris, 1986. Roeder R. Catherine de Médicis and the lost révolution. London, 1937.
Roelker N. Queen of Navarre: Jeanne d’Albret. Cambridge Mass., 1968.
Simonin M. Charles IX. Paris, 1995.
Viennot E. Marguerite de Valois. Paris, 1994.
Williamson H. Catherine de Medici. New York, 1973.