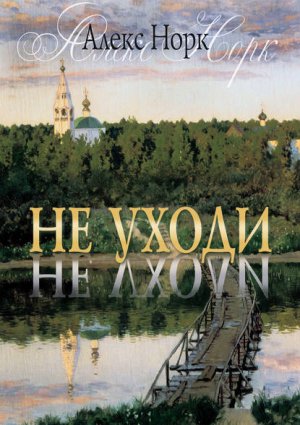
Новелла I.
Дядя мой – князь – приходился не родным братом матушке, а сводным, – матушка родилась от простой крестьянки, которую выдали потом формальным браком за мелкопоместного дворянина, снабдив его за то хорошею суммой денег. И фамилия у матушки до замужества была от этого самого случайного дворянина, хотя отец – известный аристократ, придворный при императорах Александре I и Николае I. А моя – Завьялов – от батюшки уже, потомственного дворянина и потомственного военного тоже. Не могу ничего поделать от чувства неоправданной ничем гордости за своего аристократического деда, которая не угасает, как упрямый уголек в погасшем камине, – это очень немодно сейчас, в прогрессивное время Александра II, когда прежние императоры и близкие к ним государственные люди воспринимаются словно бы далекой эпохой и живая связь с ней выглядит несуразностью.
Или, может быть, я путаю чувства: гордость – с любовью к деду, давшему очень хорошее образование моей матушке, говорящей как на родных по-французски и по-немецки, и обеспечившему нам благополучное во всех отношениях существованье. Кроме того, дед был в хорошем знакомстве со многими людьми того времени – Карамзиным, Жуковским, впутавшими себя в нелепое восстание декабристами Трубецким, Волконским, Рылеевым, знал Пушкина… да впрочем, не близко, и не очень поэта жаловал.
Батюшка мой был старше маменьки на несколько лет, а со времени женитьбы на ней состоял в дружбе с дядей. Потомственный он военный: отец его – мой второй дед – пал смертью храбрых в начале Кавказской войны, так что война эта досталась в обязательное продолжение сыну, а прадед дослужился до генеральского чина еще при Екатерине Великой.
Батюшка долго воевал на Кавказе, военное дело предпочитал всему остальному, и даже семейной жизни, – время, в мирную для себя пору, проводил больше в дивизии, а в имение к нам являлся наездами.
Сказать надо, на карьере моей военной он отнюдь не настаивал, и вообще в детских делах следовал маменьке, включая желанье ее непременно видеть меня в университете.
По службе своей на Кавказе отец одно время обращался в компании Лермонтова и Мартынова, между которыми были очень даже приятельские отношения, и еще с юнкерской школы, где часто в фехтовальном зале они являлись партнерами учебного поединка. Мартынов тоже с юношества писал стихи – не очень много, но были удачные, так что сам Лермонтов, хотя и с долей легкого снисхождения, их положительно отмечал. В момент ссоры и последовавшей через три дня дуэли батюшка уже в Пятигорске не находился, посему сведения о печальном событии он имел позже, от секундантов Васильчикова, Трубецкого и Глебова. Тут уже обнаружились несхождения в изложеньях случившегося. Получалось так, что, по некоторым впечатлениям, Лермонтов, в начале дуэли, поднял пистолет дулом вверх у виска, не спеша стрелять и предлагая этим сделать паузу для последующего примирения, – таковое обычно совершалось двумя выстрелами вверх. Мартынов же выстрелил в противника. По другим словам выходило, что Мартынов просто опередил, в то время как Лермонтов по всем правилам развернулся боком к противнику, вскинул, прикрывая висок, пистолет, чтобы сразу распрямить руку и выстрелить, но…
Оба офицера отлично стреляли, небольшое расстояние не составляло им трудностей, так что первый выстрел с большою вероятностью должен был стать и последним.
Все трое свидетелей, подавленные происшедшим – каждый находился в дружеских отношениях с обоими дуэлянтами, старались не выпячивать их отрицательных черт в приключившемся. Однако инициатором конфликта все, волей неволей, признавали Лермонтова, постоянно цеплявшего отнюдь не добродушными шутками Мартынова, а сам конфликт произошел так.
В Пятигорске группа офицеров покинула дом Верзилиных, где два или три раза в неделю проходили вечера с участием дочерей хозяина и других барышень. Лермонтов часто вел себя в обществе на границе дозволенного, а то и за этой границей. Как говорил Александр Васильчиков – в нем жили два человека: добродушный среди близких друзей и злобно-задорный среди прочих. И вот, в последнее время он выбрал в качестве мишени этой своей «задорности» Николая Мартынова.
Однако же здесь я прервусь, так как начал не с главной темы своих воспоминаний, и надлежит исправить эту оплошность.
В Московский университет я поступил на физико-математический факультет с профилем – математика. Не из большого пристрастия к этой науке, а полагая всё прочее менее сложным и потому – не особенно интересным. Геометрия, впрочем, мне нравилась по домашним занятиям с одним из учителей, и символические операции алгебры привлекали любопытною умственною игрою.
Учеба не шла с затруднениями, я отчего-то с самого начала ее полагал, что науке жизнь свою посвящать не буду, но обучаюсь только ради развития. Такое настроение создавало внутреннюю непринужденность, отличавшую меня от многих товарищей, стремившихся уходить вперед от читавшихся нам курсов, дабы иметь фору ради будущих научных карьерных успехов. Иные платили за это упадком живого нрава, приходившему вместо него ко многому равнодушию. Такие трансформации в добрых моих товарищах тем более требовали к себе осмотрительности. Моцарты в математике не меньшая редкость как в музыке, но если не особенно талантливый музыкант и не родит ничего особенного – собою самим он останется, иное дело, когда человек берется поднимать непосильный умственный груз – надрыв здесь бывает опаснее груза физического. Такого же мнения держался и мой дядюшка, говоривший: «человек не раб никакого дела». Впрочем, вполне следовать этому девизу ему всё же не удалось.
И теперь об этом подробней.
К моменту моего поступления в университет, дядя окончательно собрался посмотреть «Новый свет», то есть не Европу, где он дважды уже побывал, а Южную и Северную Америку.
Первое мне письмо от него пришло через четыре месяца из Монтевидео с описанием этого небольшого симпатичного города – Уругвайской столицы, – расположенного в лагуне Атлантического океана. Дядя писал о своих планах перебраться далее в близкий Буэнос-Айрес, а затем пересечь континент для посещенья чилийской столицы Сантьяго, откуда он будет двигаться только на север – Боливия, Перу, Колумбия, затем, океаном, в Мексику и, наконец, в США.
Всё путешествие по начальному плану захватывало около двух лет, но оказалось значительно дольшим, по причинам, о которых я скоро скажу.
Моё время, меж тем, летело стремительно, и было беззаботно-счастливым, хотя и не оценённым мною тогда таковым вполне.
Не затрудняясь, но хорошо успевая в учебе, имел я достаточное время на досуг, где главное место занимал театр, причем в двух его ипостасях: я много ходил в драму, балет и оперу и вместе с этим участвовал в любительском театральном кружке, с изрядною на Москве известностью.
Пришлось, однако, прозябать сперва целый сезон во втором составе, подумывая, грешным делом, чтобы товарищ мой из первого слегка заболел. Но уже в начале второго сезона доверили мне роль Кочкарева в «Женитьбе» Гоголя, и вполне удавшуюся, так что скоро играл я и эту роль, и Лаэрта.
Публика актеров-любителей была разношерстная, но не в смысле «кого попало», а людей разных профессий, и порой, высокого общественного положения. Так что за четыре года оброс я порядочно очень связями. Еще театральная среда крайне забавна обилием всевозможнейших слухов, можно сказать, и сплетен, но среди этого проскакивает порою и довольно интересная информация.
Время, с начала царствования государя Александра II, наступило вольное, заграница нам стала ближе за отсутствием на выезд специального разрешения, ветер оттуда газетно-литературный заносил «идеи», а собственная мысль, освобожденная от тисков прежнего императора Николая I, билась так сильно, что порою даже до настоящей истерики, что очень ярко себя отражало произведениями ставшим уже известным, и кумиром у некоторых, Федора Достоевского. Я не относился к последним, и хуже того – не понимал некоторых его проблем в самой постановке вопроса. Такого известного, например: можно ли согласиться на всеобщее благоденствие ценою одного замученного младенца?
Очень странно. Если представить себе, что мы топчем некоего младенца, рвем его на куски, топчем эти куски, а затем, успокоившись, идем в ресторацию кушать и выпивать… нет, такого ничего делать никак не следует, и в доказательствах оное не нуждается. Если же речь идет о потере одного младенца, чтобы никогда уже не гибли никакие прочие (как вопрос свой понимает сам г-н Достоевский нигде не сказано), если так, то с одиночною жертвою ради спасения многих приходится согласиться. Смешно делать из всего этого философию. Однако две мои попытки выставить данные аргументы в обществе вызвали гневную даже реакцию, а одна симпатизировавшая мне барышня решила сразу, что очень во мне ошиблась.
Дядя впоследствии расхохотался, когда я рассказал ему ту историю и подтвердил, что его точка зрения полностью совпадает с моей, а сильное увлечение литературой Ф. Достоевского свидетельствует, как ему кажется, об определенном психическом нездоровье.
Тут надо остановиться и сказать, что психическое состояние общества в 60-70-ые годы и впрямь нельзя было признать совершенно нормальным.
Дядя, метко по-моему, говорил, что ситуация напоминает ему медведя, жившего у людей, выпущенного вдруг ими в лес. Сильный, но в неизвестной среде, он сначала удивляется, и даже радуется свободной природе, потом приходит непонимание как дальше жить, и злоба вымещается на что попадется под лапу.
Общество наше после смерти в 55-ом году императора Николая I, не столько обрело много свобод, сколько за несколько лет лишилось страха. И вместе с тем, как у того медведя в поисках неизвестно чего, началось искательство главных смыслов существования – жизнестроительных целей. «Шатанье умов во все стороны», – как обзывал это батюшка.
Надо сказать, политика Александра II давала многие провокационные побуждения для подобных шатаний. Новый государь очень любил начинать, но ничего не доводил до конца. Хуже того, во всех начинаниях чувствовалась смутность, неясность мысли самого автора, неясность не только для публики, но и для него самого.
Вместе с этим потеряла большое значение кастовость. И казалось бы – хорошо, но явилась волна новой публики, про которую Герцен из Лондона произнес знаменитую фразу: «лакейская, канцелярия, казарма». Это в том смысле, откуда явились активные новые люди, вернее – в какой именно обстановке они выросли, впитав от своих родителей минусы и пороки малодостаточной, требующей постоянных уверток жизни. «Ничто так не развращает как бедность», – сказал кто-то из французов. Фраза циническая, несправедливая своим равнодушием к причинам вынужденно-несчастливой жизни миллионов людей, но, увы, гротесково-правдивая.
«Выживание» – не лучший способ формирования личности, и наследственность в этом смысле у многих была дурная.
Явился тип «нигилиста», рожденный Тургеневым через героя его романа Базарова. Тут обязательно надо заметить, что Базарова Иван Сергеевич писал как героя трагического, выражавшего, так сказать, безбудущность той молодежи, которая исповедовала грубый материализм, атеизм, относительность вся и всего, а главное – непризнание истин, и в том числе истин моральных. Воспринят же Базаров был «на ура» – как положительный именно, и чуть ли не примерный герой нового времени. Имевший счастье быть знакомым через дядюшку с Иваном Сергеевичем, я сам был свидетелем его удивлений по этому поводу.
В студенческие годы я много общался с нигилистской этой средой, и отозваться должен не в ее пользу.
Прежде всего, за редким исключением, тянувшиеся туда молодые люди не были хорошо заметны в учебе и отличались ненужною легкостью мысли в серьезных вопросах. Вся их теория – а правильнее это называть психологией – была легковесной и неразборчивой. Мне в дискуссиях не доставляло труда очень простенько загонять их в угол: «Истин нет?» – «Нет» – «Это ваше утверждение истинное?» Беседы в таком роде приводили их в злое состояние, которое заканчивалось обвинением меня в «игре софизмами» или в чем-то подобном. Характерной чертой данной публики была именно ортодоксальность: убежденность в истинности их взглядов и аргументов – именно той истинности, существование коей они категорически отрицали.
Впрочем, некоторые из них забывали постепенно о своем нигилизме и выправлялись в хороших врачей, инженеров, юристов. Подозревая во многих такую вот эволюцию, я относился к господам нигилистам вполне снисходительно, чего, однако же, не чувствовал к себе в ответ.
Нигилизм, и шедший с ним под руку беззастенчивый прагматизм, вели себя откровенно диктаторски и сдвинули сознание многих в сторону быстрой наживы. Раньше, при императоре Николае I, средством к этому были взятки, да и то для определенной лишь части чиновного люда. Теперь открылись другие возможности, причем для очень и очень многих.
Наступило время концессий, то есть права использования государственных ресурсов с частною выгодой. В первую очередь оно касалось строительства и эксплуатации железных дорог, где правительство (а по сути – народ) несло убытки, а частные лица обретали доходы, переходившие, даже нередко, в богатства. Банки коммерческие стали быстро расти числом, и много при их помощи пошло «подковерного», причем с участием людей самого верхнего уровня, а также жен некоторых из них и даже любовниц. Далеко очень ходить за примером не приходилось, так как через несколько уже лет после начала своего правления Александр II обольстился княжной Долгорукой (стала позже титуловаться княгиней Юрьевской), которая получила большую неофициальную власть в вопросах ходатайства за чьи-либо денежные интересы – и не просто так, разумеется. Да и сам Император держал часть своих капиталов в ценных бумагах тех же железнодорожных компаний.
Да-с, время наступило разбитное и довольно отчаянное.
При отце Александра II – Николае I, при этом, как его иногда называют, «жестоком фельдфебеле», кроме взяточничества и, как везде и всегда, бытовых преступлений, существовал только один вид афер: искусственное банкротство. Занималось этим почти исключительно купечество, а смысл заключался в том, что купец брал большие, насколько возможно, заемы через вексельные обязательства, а вскоре объявлял себя неплатежеспособным. Попадал он после этого в так называемую «яму», а в действительности – в скромные, но чистые и достаточные условия жизни под арестом, причем содержание его там оплачивалось кредиторами. Кроме того родственники могли передавать арестанту продукты (передавали даже вино) и вещи. В «ямах» среди арестантов процветала карточная игра, иные – что покультурнее – проводили время за чтением.
Новое время принесло уже более изощренные формы – выпуск ценных бумаг без их реального обеспечения, участие чиновников в финансировании компаний, членами которых они являлись иногда даже явно, фиктивные банкротства банков. Стали с регулярностью обнаруживаться фальшивые деньги и поддельные векселя, а преступники проникали уже в высшее общество.
Батюшка мой по всей этой совокупности новых явлений говорил: «Как выезжаю за пределы части, где у меня ясность везде и порядок, так ощущенье помойки является и растет». А вообще памятью он оставался на Кавказской войне, где дважды был ранен, и, помимо больших и малых боев, в перерывах между военными действиями, знакомился и общался со многими интересными и известными очень людьми.
Вот тут надо как раз досказать про Лермонтова.
Группа офицеров покинула после очередного приемного вечера дом Верзилиных, Мартынов, приблизившись к впереди идущему Лермонтову раздраженно, но сдерживая себя, произнес: «Я же просил при дамах не делать шуток в мой адрес». Лермонтов счел нужным ответить: «А если вам не нравится моё поведение, можете потребовать от меня удовлетворения». Сказал повысив голос, чтобы наверняка было слышно сзади другим офицерам.
Всё!
Мартынову некуда было деваться – требования чести сделали обязательным этот вызов.
Да, через день Лермонтов написал сестре письмо, где в сообщении о предстоящей дуэли ощущались растерянность и сожаление, но дело ведь было в его руках, и нет сомнений – Мартынов с радостью принял бы его извинения. Нет, на такой маленький и нравственно правильный шаг поэта никак не хватило.
Очень много сходного тут с судьбой Пушкина – фантастическое дарование, и вместе с ним: мелочность, злобность… зависть. Помню, первый раз я услышал про эту зависть в разговоре батюшки с дядей – они сходились во многом и здесь их мнения тоже совершенно совпали.
«Большое в одном требует и всего остального большого», – сказал, подводя итог батюшка, потом за здоровье двух великих поэтов они выпили грузинского хорошего вина, к которому отец приучился на Кавказе и откуда выписывал его бочонками.
А суть их беседы сводилась к следующему.
Оба поэта ощущали слишком большую разницу между своим дарованием и местом, которое они занимали в обществе. И хотя оба имели знатные родовые корни, «в свете» ценились карьера с богатством. Лермонтов, в отличие от совсем малоимущего Пушкина, был наследником приличного состояния. Эти сведения стали привлекать к нему внимание барышень, которые прежде игнорировали юношу из-за его невзрачности. Да, оба были непривлекательны, и расхождение внешнего образа с богатым внутренним миром – красочным и красивым – превратилось больным местом двух великих поэтов. Видимо, статность и выразительная привлекательность Мартынова раздражала – но не вполне осознанно – Лермонтова, как и физический контраст между Дантесом и Пушкиным был неприятен последнему.
К чести Пушкина надо отметить – он без пощады смотрел на себя и даже писал об этом: «…мой нрав – нервный, ревнивый, обидчивый, раздражительный и, вместе с тем, слабый – вот что внушает мне тягостное раздумье».
Лермонтов, выражаясь математически, направил вектор в обратную сторону: «Я лучше, чем кажусь». В ответ любой юноша Древнего Рима ответил бы популярным девизом: «Надо быть, а не казаться».
Вообще, физические несовершенства обоих были едва ли не главной причиной их злобы на окружающих – так считало мое «старшее поколение» – и лишь на втором месте стояла недооценка обществом их талантов. Вернее, Пушкина и при жизни многие величали гением, но оскорбляло, что деньги и карьерные звания считались все-таки выше.
Но вот, любовь к поэзии Пушкина заметно убавилась среди людей моего поколения: из-за уже упомянутого мной фрондерства ко всяким авторитетам, хотя были и некоторые объективные обстоятельства.
Явилась возможность сравнивать. При Пушкине поэзии, как таковой, было мало, хотя писал всякий, кому ни лень. Однако считалось оно любительщиной.
Почти вместе с Пушкиным начинали: Баратынский, Тютчев, Языков (которого Гоголь объявил любимым своим поэтом), их меньшие, чем пушкинская, звезды, оказалось, дают много общего света на показавшемся темном вдруг небосклоне. И продолжала пополняться копилка поэзии Батюшковым, Жуковским… вот Лермонтов заговорил, а скоро – Алексей Константинович Толстой, Иван Сергеевич Тургенев, тут же почти – молодые Некрасов и Фет. И лирика, и философичность оказались ничуть не потерянными.
Ото всего вместе и усилилась критичность взгляда, а «рот открывать» стали значительно шире, чем при Николае I.
И главному удару подвергся «Евгений Онегин», которого Дмитрий Писарев «разделал под орех», да с такой убедительностью, что многие нелюбившие Писарева и приверженные Пушкину люди – не сумели ему ничего возразить. Подобное было совсем невозможно в поколении предыдущем – затоптали бы безо всяких дискуссий и аргументов.
Разница времен во всем и всё больше росла, так что вернувшийся через четыре года на Родину дядя сразу динамику эту отметил.
Затянувшееся на полтора года путешествие имело уже известную мне из писем причину, однако же в самых общих чертах. Подробности я узнал лишь по его приезду.
Попав в Северную из Южной Америки, где любопытство к дикой природе не раз ставило дядину жизнь на опасный предел, он благополучно добрался до центра Американской цивилизации – Нью-Йорка. И здесь задержался надолго из-за знакомства с Аланом Пинкертоном – самым знаменитым сыщиком этого государства.
Сразу следует сделать одно уточнение.
Алан Пинкертон – живое лицо, Нат Пинкертон – литературный персонаж, запущенный одним из сыновей Алана – продолжателем дела отца, чтобы запечатлеть его профессиональную биографию, ну и конечно – еще заработать. Потом о Нате Пинкертоне анонимно стали писать многие.
Алан родился в Шотландии в 1819 г., двадцати с небольшим лет перебрался в Северную Америку и поселился недалеко от Чикаго, в этот город он перебрался позже, основав там самое знаменитое детективное агентство, которое работало на всей территории государства.
Сам Алан обладал крайне незаурядными данными: ум, смелость, реакция и артистизм – очень ценимый и применявшийся им и его сотрудниками.
Сотрудников он подбирал «по себе», состав имел небольшой, но превосходный по качеству.
Пинкертон не любил вербовку уголовников, хотя и прибегал вынужденно к этому, Пинкертон очень любил внедрение. Мелочью преступной он не занимался – люди его внедрялись в сильные и опасные банды.
Позже, когда дядя давно уже пребывал в России, мы узнали, что во время войны Севера и Юга Пинкертон и его люди осуществляли разведывательную работу среди южан. Он сам рассказал об этом в письме к дяде, однако с большой очень горечью – один из его сотрудников, разоблаченный южанами, был ими повешен.
Надо сказать, что свободолюбивая шотландская душа Алана была и очень благородна – еще за восемь лет до войны Севера и Юга он участвовал в помощи сбежавшим рабам-неграм, в переправке их в свободную от рабства Канаду.
Дядя познакомился с Пинкертоном в Нью-Йорке и проникся к нему большим уважением и интересом, связанным, в том числе, с возникшей идеей создания в России чего-то подобного частной детективной службы. Сначала он написал мне о том в шутливой форме, однако, подумал я, не всё так просто – раз он отправляется с Пинкертоном в Чикаго, где у того находилась официальная штаб-квартира.
А через месяц я получил письмо, в котором дядя сообщал, что работает у Пинкертона в качестве добровольного его помощника.
Нельзя сказать, что это не слишком меня озадачило, так как дядя имел от природы натуру подвижную, любопытствующую и почти лишенную страха. В молодости он, как и батюшка, отправился офицером служить на Кавказ, получил за год службы два ордена, отличаясь в боях среди неробких своих товарищей почти безрассудством, но вдруг, охладев к военным успехам, нашел с помощью приятеля-доктора нужную у себя болезнь и вышел из армии.
Еще в юные годы я спрашивал, отчего он так повернул свою жизнь, и несколько позже расскажу, что услышал.
Дядя оформил у одного из местных нотариусов заявление о собственной ответственности за риски работы у Пинкертона, после чего стал почти полноценным сотрудником. «Почти» – потому что из-за английского, а не американского выговора, в нем легко узнавался иностранец. О внедрении, поэтому, речь не шла, но к остальному он вполне допускался.
Несколько писем, затем, не содержали подробностей, однако были написаны в приподнятом настроении – «жизнь полна впечатлениями, уникальным бесценным опытом» и в подобном к этому роде. Так продолжалось около полугода, и вот… приходит письмо из госпиталя, написанное не очень твердой рукой.
Два ранения сразу: одно в ногу навылет – неопасное, но с изрядной потерей крови, другое в руку с осколочным переломом.
В следующих письмах почерк окреп, но пафос заметно убавился.
И зазвучал мотив возвращенья на Родину.
Три месяца, впрочем, ушло на восстановленье дядиного здоровья, наконец, в последнем американском письме он сообщал, что через неделю уже отплывает в Европу.
Где скоро и оказался, однако приезд в Россию всё равно вышел нескорым.
Надо вернуться к тому, отчего дядя отказался от военных похождений, и конечно же, в будущем от крупной карьеры.
Многие считают, что при значительном его состоянии карьера, а тем более с рисками жизни, совсем не нужна, и хуже совсем – нелепа. Обычно так судят люди никак не причастные к потомственной аристократии, не понимающие ее психологию. А психология эта особенная.
С раннего сознательного возраста аристократическая среда создает совершенно определенный вектор существования, конкретно один из двух – военной или государственной службы. Нередко с «военных высот» такой человек переходил позже на государственную крупную должность, как это произошло, например, с однополчанином дяди Лорис-Меликовым, «чудесном армянине – отважном, умном и абсолютно честным». Последнее качество особенно ценно и составляет, увы, большую в Отечестве редкость. Мой батюшка, не взявший никогда из армейской казны ни грошика, с презрением говорил: «всё русский путь ищут, да вот самым простым идти не хотят – честно живи, не воруй».
Несколько отвлекаясь, скажу, что разговоров об этом «пути» действительно было чрезмерно много. Возродились из прежних времен славянофилы, говорившие на каком-то странном языке заклинаний о миссии русского народа, который, изволите ли видеть, для того только и существует, чтобы спасти весь мир. Этому потакали многие известные лица: Тютчев написал «Умом Россию не понять, в Россию можно только верить» – и откровенная нелепость эта очень понравилась, а Достоевский договорился уже до того, что: «Европа даст отдохновение своей тоске в нашей русской душе». И если несомненно выдающиеся люди городили откровенную чушь, чего ожидать и спрашивать от всяких умственных недотеп с их «взглядами» и «идеями».
Однако же надо договорить о дядином жизненном повороте.
После очередной операции полк находился на отдыхе, и дяде впервые попалась какая-то рукописная копия декабристской «Русской правды» – программного документа будущей жизни. Сосланных на Кавказ разжалованных офицеров-декабристов состояло около сорока, отношение к ним было самое дружеское, даже со стороны высокого начальства – самого Ермолова, которого в 1827 году за это как раз и убрали. «Русскую правду» многие сосланные на Кавказ декабристы знали почти наизусть, а молодых офицеров очень интересовало «что вообще это было?»
Национальной политике, после сверженья монархии, надлежало выполнить следующее.
Освободить народы Империи, способные не только образовать собственную государственность, но и не стать скорой добычей каких-то соседей. Понимались под этим, прежде всего, поляки и финны.
Оставить в Империи тех, кто не отвечает предыдущей позиции, с предоставлением им чего-то вроде национально-культурной автономии.
Ассимилировать, путем расселения по России мелкими группами, воинственно-агрессивные к русским народы. Речь шла, конечно, именно о тех, с кем сейчас воевали – о чеченцах и многоплеменных дагестанцах, а дядя, как многие ранее декабристы, сам лично уже пришел к выводу, что война смысл свой уже потеряла.
Так, примерно, звучало его словами.
«Пойми, народы, как и отдельные люди, очень и очень разные. Есть умные люди и туповатые, добрые и злобного нрава – не так ли?.. Но полагают, всё можно преодолеть развитием. И больше того – знание, дескать, делает человека морально порядочным». – «Однако дядя, – возражал я, – так думали с античных времен». – «Вот именно, и даже гении Сократ и Цицерон полагали, что главная причина зла – результат невежества». – «Но Европейское просвещение? И наши – Новиков, Баженов, Радищев?» – «Радищева ты Сережа, не впутывай, он много умней всех остальных, и с жизнью покончил, потому что исторической перспективы для России не видел. А Просвещение для своего времени, да, было важным шагом вперед, но затем стало тормозом. Ты удивлен?.. Каждая идейное теченье мнит себя высшею точкой развития, тут опять сравнение с человеком: мнящий себя совершенным – глуп. Но позволь, я продолжу. Эти горные народы не способны к изменению образа жизни, и будут жить точно так через сто, через двести лет. Внешним видом их жизнь будет меняться по мере поступления разных благ и изобретений из нашего мира, но не изменится внутренний сознательный и моральный уклад».
И коснувшись декабристских идей, он продолжил:
«У них многое слишком оторвано было от жизни. И как они себе представляли переселение да многих сотен тысяч. Без скота, кроме что лошадей. И расселить их на неудобьях мелкими кучками. А жить как и на что? Ведь хороших земель ни помещики, ни крестьяне им бы не дали. А избы строить? И как всё это пережили бы старики и дети, а?» – «Не пережили бы». – «Вот! То есть мы, христиане, отправили бы на тяжелую смерть массу людей. И не сильных мужчин, а тех слабых, кто по возрасту еще пред нами не виноват или уже не виноват – старость наказывать последнее и самое гнусное дело».
Я на этом очень с дядей моим согласился, и даже неловкость возникла за хорошее отношение к декабристам, которые имели к себе всегда инерцию положительного отношенья.
Еще кое-что скажу о них после.
В Европе дядя задержался сначала подвизаясь у Скотланд-Ярда, где холодные англичане не были расположены подробно знакомить его со своими методами, и даже просьба влиятельного члена Верхней палаты ничего в этом смысле не изменила. Во Франции же к нему отнеслись гораздо теплее. И заодно принялись ругать англичан – французы вообще не любят их негалантность, к тому же категорически утверждают, что Скотланд-Ярд полностью выучен ими французами еще в эпоху Франсуа Видока – не менее легендарного детектива в Европа, чем Пинкертон в США.
Видок пришел в полицию почти из тюрьмы, вернее – сбежав очередной раз. Преступная жизнь (аферы; был и грабеж) ему надоела, сыграл роль и шантаж со стороны узнавших о его побеге товарищей из криминального мира, и в 1812 году Видок заявился в Министерство полиции с очень неожиданной идеей борьбы с преступностью: результативно бороться с ней могут только сами преступники. Бывшие, разумеется. Видок умел обвораживать не только женщин, но и мужчин, – идею и Видока приняли.
Наполеон еще в первые два года своей власти расправился с бандами, которые хозяйничали в провинциях, и прежде всего – на дорогах, но в Париже существовали районы, где преступность была практически каждым семейным делом и откуда постоянно шли вылазки в приличные части города. «Клоака» – под таким названием известна огромная подземная система канализационных и водосточных сливов, каменные тоннели, куда можно было скрыться прямо из центра города и благополучно выйти потом в родной и безопасный от полицейских квартал – те туда почти не совались.
Насколько сильна и опасна была там преступность свидетельствует тот факт, что даже существовал целый клан наемных убийц, а «профессия» наемных убийц являлась потомственной.
Видок со штатом всего в тридцать сотрудников за несколько лет сократил число серьезных преступлений в Париже почти вполовину.
В Англии и не мечтали о таких успехах.
В России было нечто сходное с явлением Видока, но в нашей, увы, своеобычной форме.
В 1741 году – первом году Императрицы Елизаветы – в Москве объявился восемнадцатилетний сын крестьянский Иван, известный уже среди преступного мира по кличке Ванька-Каин. Ванька не скрывал своего уголовного прошлого, а предложение его в точности совпадало с тем, что предлагал позже Видок – с преступниками лучше всего справится именно преступник, а про себя врал, что раскаялся.
Получив, по сути, должность главы криминальной полиции, начал вести себя так: мелких одиночек-воров активно вылавливал, а с руководителями крупных банд договаривался – он их не трогает, они платят ему регулярную мзду. Такой же «союз» заключен им был и с раскольниками. Мысль Ваньки-Каина, однако, на этом не остановилась и сделала дальше шаг – прикормить всё влияющее на него начальство.
Идея эта оказалась нетрудною к воплощению, и более десяти лет Ванька орудовал как хотел, но, из-за очень свойственного нам отсутствия чувства меры, совсем впал в кураж. Москва тогда не была в большом внимании у Императрицы, иначе бы Ванька закончил раньше, но всё же закончил – арестом и каторгой.
В отличие от Видока в Париже, преступность наша, и именно опасная, не сократилась, а выросла, да так, что для борьбы с ней понадобились уже военные части.
К истории преступности мы еще вернемся.
Теперь же о радостном – возвращении, наконец-то, из странствия дяди.
Время несколько изменило его: не отобрав привлекательности, добавило внимательности глазам и большей подвижности – экспрессии, энергичности.
«Вроде второй молодости у меня», – докладывал в обществе дядя, и дамы находили, что это совпадает с их собственным впечатлением.
– Ах, Сережа, да это целая другая жизнь! Но как ты повзрослел, друг мой. И дипломированный ученый!
– Нет, дядя, для науки я не гожусь.
– Отчего, мой друг?
Тут я заметил, что в глазах дяди мелькнул даже радостный огонек.
– Оттого что крупных результатов я в ней не произведу, а мелкими уточнениями заниматься неинтересно. Да и живая жизнь куда как любопытней науки.
– Верно! И для ощущения разнообразия жизни ты и пришел в театр. В артисты идут всегда жаждущие жизни люди.
Дядя, как и батюшка мой, нередко удивлял меня той прямотой суждений, которая сразу-вдруг упиралась в истину. Как странно, что сам я никогда не думал, что артисты совсем не случайные люди, а правильно – именно люди, страждущие многих жизней и заключенных в каждой из них переживаний.
И согласившись с дядей я поделился с ним, что в каждой роли пытаюсь найти другой новый мир – правила его, нарушения, ценности.
– Ты точно сказал, Сережа: не придумать, а «найти». Стало быть, ты чувствуешь некоей интуицией, что множество человеческих миров существует. И должен тебе сказать, общения с людьми в эти чужестранные годы, с большим числом от верхнего до самого нижнего уровня, окончательно привели меня к мысли, что человек рождается с уже готовым составом качеств.
– То есть условия жизни, вы хотите сказать?..
– Играют роль, конечно играют. Но какую?.. Попробую объяснить, – дядя немного задумался, затем продолжал: – хотя не уверен, что на вполне удачном примере. Вот камни – драгоценные, полудрагоценные – их куча разных. Допустим, алмаз. Ему можно придать разную огранку, поместить в какое-то обрамление из золота, серебра… неважно – это всё форма, не меняющая качества самого камня. Его твердость, удельный вес, наличие определенной окраски…
– Оптико-световые свойства.
– Да-да. Алмаз после огранки становится бриллиантом и может чудесно играть в тонкой оправе, а может и прозябать незаметным. А видел ты алмаз в первично-природном виде?
– В нашем университетском музее. Невзрачные камешки, обычный человек внимания не обратит, валяйся они на берегу горной речки.
Впрочем, я не понял, чему служит данный пример, и дядя это заметил.
– Видишь ли, во-первых, камень камню рознь, и таковыми они являются от природы, а не в силу условий. Во-вторых, из некоторых полудрагоценных камней делают прекрасные с инкрустацией вазы, но в отдельности камни не очень красивы и не годятся для дорогих оправ. Иначе – они хороши в коллективе.
Я кивнул, начиная ощущать аналогию.
– Но камни не обладают волей, способностью к самодвижению. Представь себе теперь наоборот – ощущая себя алмазом, он прозябает среди гальки в безлюдном месте. – Дядя поводил головой в стороны. – Не-ет, он не станет с этим мириться. А что произойдет дальше, каким способом он станет действовать?.. Или напротив: попавший вдруг в дорогую оправу дешевый камень – захочет ли он считать себя ее недостойным, на что пойдет, чтобы сохранить свое положение?
И не подумав, я, кажется, произнес глупость.
– Но эти случаи, дядя, разве не суть исключенья из правил?
– О-о, далеко нет! По моему жизненному опыту, каждый четвертый-третий человек, во всяком случае в так называемом цивилизованном мире, считает себя недооцененным, незаслуженно отодвинутым, обойденным и в таком прочем роде. Почему столь бурно развивается Северная Америка, которая, нет сомнений, станет главной державой мира?.. А Южная Америка с ее фиестами и сиестами, которая никогда лидером не станет?
– Стыдно сознаться, дядя, я совсем плохо знаю историю этих континентов.
– Но слово произнес правильное – «история».
Дядя поднял вверх указательный палец – знакомый для меня с детства жест, дающий понять, что прозвучит нечто важное:
– А история складывалась так. Южную Америку колонизовывали испанцы, их знать, чиновники и военные захватывали и делили, соответственно рангу, прекрасные земли и прочие дающие большие доходы ресурсы, принуждали к труду на себя индейцев, а скоро стали завозить африканских рабов. И жили так вполне припеваючи, пока местные испанцы, освободившись от своей alma mater, не установили, по нашим понятьям, губерний, заявивших о своей независимости.
– Там были сильные войны?
– И невероятно жестокие. В течение тридцати с лишним лет. В них вовлеклись без исключения все – негры, индейцы. Войны закончились всего лет двадцать назад, я беседовал там со многими их участниками и свидетелями. А теперь обрати внимание: Северная Америка после освобождения от Англии не распалась, а напротив – консолидировалась.
Через год с небольшим в Америке началась война Севера и Юга, но совсем другая, как оценил дядя: «война за свободу негров, которые, милый, имеют такие же, как мы, права на существование».
Однако вернемся.
– Историческая разница между двумя континентами в том, что достоинства жизни в Соединенных Штатах создавались трудом. И прежде всего трудолюбивые и, вместе с тем, ущемленные на своих родинах люди, заселили огромное Северо-Американское пространство. Но рабство давало ведь совсем не так много в общий объем трудового дохода. – В глазах его вдруг сверкнул холодный огонек: – А знаешь, кто были и по сей день остаются наиболее жестокими там рабовладельцами?.. Индейские племена.
– Вот это новость. Я думал, они сами находятся в близком к тому положении.
– Как бы не так! У них огромные территории, куда без их разрешения не может ступить простой белый человек. Официально, «Индейские территории» – есть защищающий их закон от 1834 года. И хотя убивать негров-рабов для всех американцев запрещено, там у себя они регулярно приносят рабов своим богам в жертву.
Очень скоро сказанное дядей моим подтвердилось: с началом гражданской войны в Америке в европейских, потом в наших газетах сообщалось, что крупные индейские племена, хотя не все, выступили на стороне Армии Юга. И оказалось, у самых влиятельных индейцев было в собственности и по двести и по триста рабов. Это очень не соответствовало русским нашим представлениям, созданным во многом романами Фенимора Купера, где некоторые индейцы произносили благородные монологи на зависть нашим адвокатам и европейским либеральным газетчикам, рисовавшим американцев тупыми и злобными гонителями почти безобидных индейцев. А что скальпы с живых снимали (за этим следовала смерть от заражения крови), так это плохие индейцы делали, а плохие люди есть в каждом народе – на этом назидательном разъяснении ставилась точка.
– Так что же ты собираешься делать, Сергей? По жизни, в ближайшие годы?
В дядиных глазах явилось подсказывающее выраженье, словно я должен был про что-то вспомнить.
И не составило трудности – от того, что он в письмах уже высказывал.
Хотя я даже смутно не понимал, какова моя роль в намеченной дядей затее, да и в чем конкретно она заключается, однако без колебаний ответил ему, что готов участвовать – в меру сил и способностей, разумеется.
– Вот и славно, мой милый! И скажу тебе к предыдущему нашему разговору – крупные почти все преступления совершаются именно незаурядными людьми, но поставленными в заурядные условия жизни. Я, конечно, не про садистские зверства и не про тупые убийства ради чужого кошелька, я про спланированные комбинации для овладения серьезными ценностями.
– Разве при этом не совершаются и чисто бандитские действия – те же убийства?
– Совершаются! Это еще одна загадка человеческого рода – способность не колеблясь убить другого. – Он внимательно посмотрел на меня. – Ты, Сережа, подумал про войну?
– У меня, что, на лице написалось?
– Написалось. Да… после первого боя я всю ночь не спал. И водка не помогала. Убить нормальному человеку почти также трудно, как умереть. И именно через ощущение этой рядом смерти своей начинаешь воевать более или менее хладнокровно. – Дядя выдохнул резко и тряхнул головой, отгоняя от себя дурное из прошлого. – А у кого-то нет никаких барьеров… народы, люди отдельные внутри них, настолько многоразличны, что не раз в жизни я столбенел, ощущая непонятность полную – где, среди кого оказался вдруг. У тебя это белое, а у него…
– Черное?
– Квадратное, друг мой, или шершавое!
Дядя расхохотался нехитрому этому юмору – очень характерный его переход: от задумчивости, от серьезной темы – и вдруг к шутке, которая ничего не значит.
В первые дни дядиного приезда я не добился от него толку – что-когда-как мы будем с ним делать. Майский воздух Москвы кружил ему голову, запах черемухи возбуждал детский восторг, он хотел бывать сразу везде – в один вечер в опере и у цыган, радоваться старым друзьям и гулять по Бульварному кольцу в компании только со мной, часто заходить в ресторации с русской кухней, которую «вот сейчас только он по-настоящему оценил», церкви влекли его, в особенности – с хорами, и в мою задачу входило иметь достаточную для милостыни нищим мелкую наличность.
На шестое утро я почувствовал, что сил продолжать в таком режиме у меня уже маловато.
Но дядя, когда мы встретились на завтраке в трактире Гурина, выглядел как нежинский огурец и принялся излагать планы очередного активного времяпрепровождения. Я чуть приуныл, маскируя это бодрым согласием, но всё вдруг, к счастию моему, поменялось. Явился посыльный мальчик, направленный к нам дядиным камердинером, с конвертом в руке. Я только обратил внимание, что конверт запечатан гербом – щит с пышным верхним орнаментом и короной посередине, по бокам от щита какие-то звери… дядя, однако ж, сразу опознал этот герб:
– Ба, да от Сергея Григорьевича Строганова! Знаешь, конечно?
– Лично не доводилось. Они, маменька говорила как-то, с дедом в приятелях были.
– Верно, – дядя стал распечатывать конверт, – и воевали вместе. – В конверте оказался один небольшой листок. – О, он в Москву к нам прибыть изволил.
– Я отчего-то полагал, что он москвич, ведь недавно совсем был нашим генерал-губернатором.
– Был. Ты за политикой не следишь.
– Не слежу, почти.
– Он сейчас в Санкт-Петербурге. Приглашен воспитывать детей Императора… так-с, мероприятия наши на сегодняшний день отменяются. Граф приглашает на пять часов на обед, надо еще зайти к парикмахеру… Впрочем, ты тоже идешь.
– Удобно ли, дядя?
– Вполне. Пожалуй что, он даже обидится, не познакомь я его с внуком близкого очень приятеля.
Граф Сергей Григорьевич Строганов был одним из самых значительных людей нашего века. Родившись в конце восемнадцатого, он успел достигнуть совершеннолетия к Бородинской битве и, отличившись в ней, получил званье поручика; проявил храбрость в боях в Европе – в двадцать лет имел уже награды и звание капитана. Близость ко Двору – флигель-адъютант Александра I, а затем Николая I, – быстро сделала его государственным человеком, ценимым за ум, образование и деловые способности. Образованием – собственным и чужим – Строганов занимался всю жизнь, основал, в том числе, отечественную археологию как науку государственную и систематическую. Граф был очень богат – крестьяне его исчислялись многими десятками тысяч, к тому же не меньшим состоянием обладала его супруга.
Отметить надо также, что Николай I почти с любовью относился к той части аристократии, которая, имея друзей среди декабристов и военную биографию, не пошло ни в какие тайные общества. Почему именно не пошел граф Строганов, скажу позже – от его собственного на сей счет объяснения.
Я в конце завтрака попытал дядю:
– Ведь флигель-адъютант Императора имеет к нему постоянный доступ?
– Разумеется.
– Неужели никто из декабристов не пытался завербовать такого человека, ведь он мог легко выполнить их главный замысел.
– Убить Императора?
– Да.
– А вот ты у него и спроси.
– Полно, он за нахала меня сочтет.
– Ха-ха, не сочтет.
Правда, я слышал не раз, что граф отличается крайней простотой в обращенье с людьми, хотя с властью держится, порой, на грани дозволенного и даже переступая ее, что, в частности, послужило причиной его временной отставки лет десять назад.
Вообще в тот памятный вечер я вживую коснулся до эпохальных событий, о которых прежде лишь знал по слухам или из не очень достоверных печатных источников.
Однако же забегу вперед и расскажу об одной воровской афере, ставшей первым сыскным нашим делом.
Ближе к концу гостевого пребыванья у графа дядя рассказал о своей практике у знаменитого Алана Пинкертона. Граф, я заметил, встрепенулся как-то, а выслушав, произнес:
– Интересно очень, Андрюшенька, у меня ведь тоже дельце одно уголовное есть. И улика с собой.
Тут уже встрепенулся дядя:
– Что за дельце, Сергей Григорьевич? Я ведь досказать еще не успел – собираюсь завести собственную сыскную контору, и вот племянник согласие соучаствовать дал.
Хозяин наш обрадовался, похвалил за полезное начинание и изложил случившуюся с ним недавно историю.
– Заявляется с месяц назад некий господин приличного вида и предлагает для моей нумизматической коллекции дюжину старых монет. Начинаю смотреть монеты, хм, несколько сразу определяю фальшивыми. Через полчаса понимаю – фальшивые все. Ну и, следовательно, довожу свое заключение до посетителя. – Граф усмехнулся и качнул головой. – Сразу понимаю, человек не хотел меня обмануть – у него, у бедного, чуть слезы не потекли. Пробую расспросить, но не выходит: «так, – говорит, – случайно достались».
– А монеты большой очень ценности? – живо поинтересовался дядя.
– Приличной, – граф прикинул в уме. – Вместе все – тысяч на сорок.
– И по впечатлению вашему, посетитель этот сам стал жертвой подделки? – дядя, не дожидаясь ответа, предупредил: – Среди преступников немало превосходных актеров.
– На одном случае, согласен, можно и ошибиться, но история не вся далеко – слушайте дальше.
Дядя, обратясь в сплошное внимание, подал корпус вперед, да и мне сделалось интересно.
– Проходит дней десять и появляется другой господин с почти таким же набором монет.
Мы оба вздрогнули от удивления, я приготовился дальше слушать, но дядя попросил уточнения:
– В каком именно смысле «почти тот же набор»? И еще, Сергей Григорьевич, в наборе были монеты из того первого?
– Вот то-то и любопытно, что фальшивки все были новые. А отличался набор лишь тем, что в первом монет было четырнадцать, а в этом тринадцать.
– То есть во всем остальном совпадение?
– Именно-именно. Да, не помню уж отчего, но первый мой посетитель – показалось мне или оговорка его была – москвич. Второй просто сообщил, что наслышан про мой нумизматический интерес, но он тоже почти что наверняка москвич.
Дяде не удалось спросить, как граф, говоря математическим языком, это вычислил, потому что принесли портвейн – какую-то редкость, бутылка была постарше меня.
Эпикурейская натура дяди тотчас отвлеклась на этот шедевр.
Цвет…
Запах…
Стали пить маленькими глотками…
Я не мастак по дегустации вин, и употребляю их всегда в малом количестве, так как терпеть не могу «поехавшей» головы, а у меня такое начинается скоро.
Но дядя – что папенька – могут пить много, и не меняясь ничуть в мыслях и поведении.
С дядей мы тоже пили вина первого сорта, однако ж этот портвейн показался особенным – его вкусовое многообразие, чудилось мне, превосходит количество моих вкусовых рецепторов.
И дядя скоро признал, что в жизни его были только два случая, когда он пребывал в подобном восторге от питьевых ощущений.
Еще пара минут ушла на это чувственное благополучие.
Однако интересная и недосказанная история звала вернуться.
– Итак, – начал дядя, – вы снова определили фальшивки и сообщили об этом владельцу?
– Однако не стал сообщать о его предшественнике.
– Очень осмотрительно, Сергей Григорьевич. Какова же на этот раз случилась реакция?
– Гневная. Само собою, не на меня – на кого-то третьего, за сценой от нас, так сказать.
– И ничего конкретного?
– Очень быстро откланялся.
Мысль о простом пришла мне в голову.
– Позвольте спросить, граф, люди эти ведь как-то должны были себя называть? Дворецкому или еще кому-то…
Естественный ход моих мыслей у обоих вызвал вдруг замешательство, которое дядя сразу почти снял дружелюбной улыбкой:
– Серж, неужели люди с такой манерою поведения не приготовили заранее себе ложные имена.
– Назывались, конечно, – подтвердил граф, – и третий назвался.
– И третий?! – воскликнули мы.
– Набор как у первого, только добавилась еще одна монетка – византийская, IX века. И непонятная тут деталь – монетка-то настоящая.
– Так-так-так…
Произнеся, дядя задумался, а я спросил графа, почему первые двое визитеров с монетами, по его мнению, москвичи.
– И третий тоже. А объяснение крайне простое. Являлись они в одно почти время, и это совпадение заставило меня взять железнодорожное расписание.
– Браво, Сергей Григорьевич! – включился дядя. – Прибытие московского поезда?
– Плюс время сесть на извозчика и доехать до моего дома.
– Московский след, так сказать… хм, так что этот третий?
– Солгал, представившись отставным капитаном.
– Как, простите, сумели определить?
– Попытка спрашивать о командирах его частей сразу всё выдала. А монеты, якобы, достались в наследство от старой тетушки.
Дальше дядя попросил перо и бумагу и стал записывать признаки, по которым граф отличал доставленные ему подделки.
Граф терпеливо и тщательно всё указывал.
Дотошность дядина выглядела не очень уместной, хозяин, подумалось, рассказал всю историю как некий казус… однако дальнейший их разговор показал, что я совершенно ошибся.
– Ты, Андрюша, застал ту неприятность с Павлом Михайловичем Третьяковым, с поделками «малых голландцев»?
– Застал, незадолго до моего отъезда она приключилось.
Я знал, что богатый купец Третьяков собирает современную русскую живопись, и от товарищей по любительскому театру слышал: намерение его очень серьезное, и даже государственного значения: национальный музей хочет создать. Но причем тут «малые голландцы» – живописцы Голландии XVII века, писавшие небольшого формата картины бытового жанра и всевозможнейшие пейзажи.
– А притом, Серж, что Третьяков свое собирательство с них именно начал и получил сразу в рыло.
Граф, улыбнувшись дядиной грубости, сообщил:
– Я ведь остерегал его – много в Европе сейчас подделок, целая компания немецких художников с десяток лет этим грешила. Да молодость его была не очень внимательна.
– А сколько Рембрандтов фальшивых гуляет! – дядя даже хлопнул себя ладонями по коленям. – Сотнями исчисляются, сотнями!
Опять пришлось удивиться, что нечестное ремесло не есть продукт только лихого нашего времени.
– И когда же их делали?
– Почему ты в прошедшем времени? – поправил дядя. – И сейчас вовсю мастерят. В Америку активно доставлять стали, там богатых профанов хоть отбавляй.
– Примерно через сто лет после смерти Рембрандта начали под него писать, – пояснил граф, – причем одно время завели даже артельное производство. А до того подделывали, главным образом, итальянское возрождение, но начались массовые подделки с самого Альбрехта Дюрера и выполнено по нему работ не меньше, чем написал сам Дюрер.
Граф прервал интересную тему, предложив еще выпить замечательного портвейна…
На несколько минут они – истинные ценители – обо всём забыли, я, однако, с сожалением о себе подумал: «не в коня корм».
И успел задать себе вопрос, на который почти сразу ответил: «Почему даже в средневековые времена, когда любой суверен легко мог расправиться в своих владениях со всяким преступником, почему при этом процветали подделки искусств? Да к тому же, обману подвергалась богатая знать, именно и покупавшая эти произведения». Ответ не потребовал долгого размышления: «Однако как уличать? Любой продавец подделок заранее готовит легенду о том, как вещь попала к нему. Он сам, например, купил ее у другого, и так оно тоже бывало. Но главное – подделка разоблачается не сразу, а там – ищи свищи: продал в Германии, а через месяц жулик уже во Франции – или наоборот».
Старшее поколение, меж тем, «возвратилось к теме» – дядя спросил: как бы граф охарактеризовал тех трех визитеров типологически?
– Я и сам хотел об этом высказать впечатление. В них та между собою похожесть, которая свидетельствует об одинаковой общественной принадлежности. – Граф посмотрел на нас: – Понятно ли я сказал?
Мы оба кивнули, а дядя добавил:
– Торговые люди? Из состоятельных вполне?
– Верно-верно. Всем трем, этак, за сорок. Значит, делом своим занимаются уже много лет. Но не купечество, мне показалось, а что-то от современных доходных дел… – Граф подумал. – Юркие, речь быстрая, не простонародная, но и без следов хорошего образованья. – Граф снова подумал. – Из породы, про которую говорят, что «рвут на ходу подметки».
– Маклеры, перекупщики?
– В этом роде, Андрюша. Хищность заметна в глазах.
Проведя в гостях у графа еще полчаса, мы поблагодарили хозяина и откланялись, с обещаньем вновь навестить его дня через два. Граф должен был сделать кое-какие дела в Московском археологическом обществе, председателем которого продолжал оставаться, а главное – участвовать в мероприятиях памяти Петра Яковлевича Чаадаева, чье пятилетие со дня смерти знакомые его желали отметить.
Часы показывали лишь начало девятого вечера, свет дневной еще не собирался сменяться на сумрак.
Ах, как прекрасна Москва в эти весенне-летние дни, как радостен лишившийся холода воздух, и улыбчивыми становятся люди – это счастье предвкушения лета: тепла, зелени, бесхитростной неги по вечерам. Как замечательны кроны деревьев по московским бульварам, которые недавно совсем были уныло-голыми, – будто хотят сейчас сказать они человеку об обновлении жизни, о неконечности ее вообще и для каждого.
Дядя махнул тростью, подзывая извозчика, и приказал, когда мы устроились:
– В Замоскворечье.
– Черемуху нюхать, дядя?
– А куда там, барин?
– На Ордынку.
Ордынка – дорога, по которой в татарскую орду везли дань, печально известная еще с ранних времен.
Да, впрочем, все названия в Замоскворечье исторические: от поселявшихся там ремесленных групп – Новокузнецкая улица, Кожевническая, Овчинниковские переулки, названия от Татарской и Казачьей слободы, а позже – со второй половины XVIII – место это, с хорошей землей, Москвою-рекой с двух сторон – пришлось очень по вкусу дворянству для городских усадеб, богатому, и не очень, купечеству, и очутилась в Замоскворечье вся разношерстная Москва, всё ее старое и новое представительство.
– Может быть, к Александру Островскому заедем? – пришло вдруг в голову дяде.
– К драматургу?
– Однако, – усомнившись, отказался он от намерения, – хоть и приятели, а без предупрежденья нехорошо – оторвем, чего доброго, от работы. Слышал я, он за три последние года в литературе большую силу набрал?
Дядина молодость проходила в гуще художественной и умственной жизни, и вряд ли не большая часть известных людей Москвы состояла в его приятелях либо хороших знакомцах.
– Да, Островский популярен сейчас весьма. И даже нашим русским Шекспиром зовут, а Аполлон Григорьев утверждает – что превзойдет.
– Ох, Аполлон! Талантище, а меры не знает ни в чем никакой. И художество и ум развиты чрезвычайно, вся наша литературная и идейная молодежь рядом с ним казалась, – дядя ткнул большим пальцем за спину в прошлое, – казалась в чем-нибудь недостаточной, именно на его фоне. У него и прекрасная теория органичности была, так и не прописанная до сих пор.
– А что она из себя такое? И я не полагал, что Аполлон Григорьев серьезный интеллектуал.
– Интеллектуал. И в самом высоком смысле слова. А органическая теория Григорьева заключается прежде всего в том, что любое идейное подчинение человека есть вредная секулярность, очень недолговечная по очередному историческому сроку.
– Что же, у него, долговечно?
– А оно одно единственное, друг мой: борьба добра со злом, с целью всё-таки победить последнее. Ум и душа для этого должны находиться в постоянном союзе, а мироощущение – говорит Аполлон – не может быть сокращено до идеи.
Однако в голосе дяди не прозвучало ноток будущей той победы, но скорее наоборот – выдал себя оттенок печали.
А я задумался о действительно странном изобилии идей и идеек, с которыми носится сейчас русский человек – вот подай каждому на его манер!
Разобщенность людская у нас чрезвычайная.
Не связанность с прошлым.
И будущее не по-разному даже видится, а скрыто оно за какой-то завесой.
Отвлекшись, я лишь следом уже впустил в сознание, что коляска наша остановилась и дядя с кем-то ведет разговор.
Рядом на тротуаре стоял человек лет сорока в зеленом мундире с синим обшитым золотом воротником – форма Канцелярии Его императорского величества. Дядя успел сойти к этому своему знакомцу.
Сейчас они глядели друг на друга после объятий.
Из сбивчивых слов обоих делалось ясно – не виделись много лет… да, с самой Кавказской войны.
А через минуту их разговор продолжался в коляске – представленный мне Дмитрий Петрович Казанцев жил на Садовнической, через которую было нам по пути.
– Так где ты именно, Митя?
– Я, Андрей, два года как служу во Второй экспедиции.
– Ух, как интересно! – дядя обратился ко мне: – Вторая экспедиция Третьего отделения, Сергей, занимается уголовными преступлениями.
– Вряд ли уж так интересно, – улыбнулся сидевший напротив.
Приятное лицо, «очень офицерское» – так бы и сказал почти каждый взглянувший.
В этот вечер мы всё-таки попали в Замоскворечье, но позже, просидев до того полчаса в Троицком трактире на Ильинке, оказавшемся у нас по дороге.
Старые товарищи сначала ударились в воспоминания, и я уж начал скучать – близкие им, живые детали мало что значат для «третьего человека», – однако, по дядиной манере делать вдруг поворот, разговор поменялся.
Он, как об уже вполне состоявшемся, сообщил Казанцеву про наше частное детективное агентство.
От удивления у работника Третьего отделения было открылся рот – и удивление это походило реакцией на поступок детей…
Но дядя быстро сообщил про свой американский опыт, знакомство с европейской полицейской системой.
Взгляд нашего визави стал серьезным, и пауза показала – идет обдумывание.
Дядя мне потом рассказал, что Казанцев отличался от остальных младших командиров большой тактической тренированностью своих солдат, разыгрывал с ними различные ситуации и совместно искал, как в математике говорят, «нестандартные решения». К сожалению, старшие офицеры относились к упражнениям его пренебрежительно, пока не оказалось – потери у Казанцева заметно меньшие, чем у других.
– А дело, наверное, стоящее, – наконец, произнес он. – Я скажу тебе, Андрей, и вам, Сережа: компетентность у наших работников – и у руководителей многих – очень невысока. А законы наши, – он чуть повел глазами на посторонних и сбавил голос, – государевы, н-да, расплывчаты и от того произвольно трактуемы.
– Позволь, Митя, это же, напротив, дает свободу.
– А вот и нет. Конечно, с нижнею частью общества можно не церемониться. Однако согласись, это для будущего плохая метода, когда при дознаниях, – он покрутил кулаком, – разное применяют.
– Плохая, – не замедлился дядя, – у Алана однажды при захвате главаря банды погибла семья этого главаря.
– И с другой стороны – аферисты сейчас как поганки после дождя родятся. Они, однако, большей частью, не из низов – права свои понимают, адвоката сразу зовут, некоторые влиятельных знакомых имеют, и даже вплоть до министра. Так что размытость законов сковывает нас часто.
– Как бы чего не вышло?
– Вот именно. Мне что интересно в затее вашей – совместно можно работать. Сочетать наше законно-силовое с приемами, которые мы применять не можем.
Дядя обрадовано улыбнулся, Казанцев поднял ладонь вперед, желая еще досказать:
– Во всяких аферных делах страдают часто обеспеченные очень люди, желающие помочь сыску деньгами, но мы взять их прав не имеем. А вы, пожалуйста, можете нанять на них штат филеров.
Тут мне только в голову пришло – сыск ведь дело затратное.
– Внедрение к преступникам нам также почти недоступно, не предусмотрено-с.
– А вербовка людей той среды?
– Это дело плохо очень поставлено. Нет специальной статьи расходов, требуется докладная записка начальству с объяснением необходимости выделить средства, потом примут решение, и ежели положительное – время-время, – досадуя, он махнул рукой.
– Ну-у, брат, – протянул дядя, – нескладно у вас.
– У нас, Андрей, как и по всей России.
– Одичали вы, дядя, совсем на чужбине!
И мы с Казанцевым засмеялись, а дядя снисходительно покивал головой:
– Да, братцы, многое из того, что у нас, у них давно невозможно, и главное – ничего нельзя делать как попало.
А через минуту, выпив со старым другом по рюмке Мартеля, рассказывал уже историю графа Строганова.
Казанцев, мне показалось, не очень заинтересовался подделками старых монет, но вдруг встрепенулся к концу рассказа с выражением беспокойства, брови его сдвинулись, глаза ушли вверх, чтоб окружающее не мешало думать.
Дядя тоже заметил.
Мы ожидали…
– Да-с, господа, скорее, убийство это никакого отношения к фальшивым монетам и не имеет, – начал, всё еще хмуря брови, Казанцев, – но рассказать об нём надо.
Он, сделав паузу, заговорил короткими фразами, языком служебного протокола.
– Художник двадцати семи лет. Жил в Кадашах, снимал мансардное помещение. Задушен веревкой, наброшенной сзади. Борьбы, пристав считает, не было. Произошло у входа на лестницу в мансардное помещение. Лестница пристроена к боковой стороне дома, больше она никуда не ведет.
Я легко себе представил такую конструкцию, имевшуюся у каждого третьего московского строения, особенно у домов деревянных, мещанско-купеческих.
– Прости, Митя, а давно ли убийство случилось?
– Забыл сказать, вот позавчера. Причина преступленья – грабеж. Рядом с убитым валялся его вывернутый пустой бумажник.
– Еще раз прости. У лестницы ты сказал…
– Да-да, – догадался докладчик, о чем досказать, – лестница крытая, вход к ней через дверь, замочек у которой был предварительно взломан. Художник вошел, а там поджидал грабитель.
– Стало быть, внутри за дверкой, – дядя кивком попросил продолжать.
– Хозяева дома, сами понимаете, за толстыми стенами ничего не слышали.
– А в котором, примерно, часу?
– Вечером… или поздним вечером, но не ночью – по мненью врача. А обнаружила утром женщина, убиравшая у него.
– Она интересный может оказаться источник для показаний.
– Хм, да, сам я, впрочем, на осмотр не выезжал, – Казанцев заметил наши удивленные взгляды: – По рангу не положено мне на такие случаи.
По мундирному обозначенью имел он чин действительного статского советника, сиречь генерала.
– И ежели по правде, лишь одно такое убийство из трех нам удается раскрыть, – Казанцев с недовольною гримасой уточнил: – даже из трех-четырех. – Но сразу лицо оживилось: – А вот деталька одна засветилась сейчас, после, Андрей, твоего рассказа.
Мы оба насторожились.
– В протоколе осмотра приставом сказано, что в кармане среди нескольких медных монет оказалась одна золотая, и по всему судя – старинная.
– В кармане с медью носил, а где она? – спешно проговорил дядя.
– Погоди. Пристав местный сообразил – и послал помощника с этой монетой на Моховую в библиотеку Университета. Достали какой-то европейский каталог. Быстро разобрались – испанский пистоль 1537 г.
Я было хотел сказать, но дядя опередил:
– Помню-помню, Серж, граф называл такую монету.
– А монета сейчас у нас на хранении, – закончил Казанцев.
– Как взять ее на экспертизу?
– Выдам тебе под расписку.
– Серж, отвезешь с утра показать ее графу. Митя, а мы осмотрим всё завтра на месте?
– Разумеется. Мансарда эта опечатана.
– Женщину нужно вызвать – что убирала.
– Само собой. И пристав с помощником будут.
Я вдруг понял, что могу оказаться «за бортом» этих событий и волнение так отразилось в моем лице, что оба моих старших товарища улыбнулись.
– Значит, завтра в 9 утра у меня в Экспедиции, – Казанцев протянул дяде визитную карточку. – Оттуда недалеко в Кадаши, а после, Сергей, поедете с монетою к графу.
И вот мы в Замоскворечье, идем по Большой Ордынке в половине десятого вечера – день выдался многими впечатлениями, но не театральными, не увеселительными, как несколько предыдущих, а впечатлениями живыми и к деятельному зовущими.
Однако когда много всего, хочется после спокойного.
Прошли Храм иконы Божьей матери «Всех скорбящих радость», построенном при Екатерине замечательным нашим Баженовым.
Свернули в переулок.
Здесь вот она – черемуха! Разливает себя вдоль переулка тонким запахом, кроясь за высокими купеческими заборами.
– Ах, Серж, ну какие там французские одеколоны! – дядя показал мне рукой идти медленней. – Знаешь, все эстетические ощущения связаны обязательно с какими-то смыслами.
– Вербализируются, говоря по латыни?
– Совершенно так.
– И что тогда аромат черемухи?
– Аромат мечты, друг мой, мечты!
Я даже вздрогнул от его слов, вспомнив сразу, как младшая моя сестричка, в несознательные свои еще годы, спросила матушку: «А Россия какая?» Матушка удивилась такой «проблемной» постановке вопроса, но принялась объяснять – и прежде всего про необъятные наши просторы от морей до морей, от северов до горячих пустынь… и скоро глаза ребенка обрели отсутствующий вид. Отец, сидевший в стороне со стаканом вина, тоже сначала слушал, потом, недовольно вздохнув, поманил сестру пальцем… «Россия – это мечта». Эффект неожиданный самый – радость охватила малышку: «мечта-мечта!» – закричала она и побежала внутрь дома оповещать кого встретит; со странным чувством слушал я тот убегающий крик.
– А здесь по соседству Аполлон провел свое детство, – произнес дядя. – Откуда у него такая чувственная тонкость поэзии?.. И от черемухи этой – тоже.
Он приостановился:
«Венгерка» Григорьева, которую чаще называют «Цыганкой», меня всегда задевала последними строчками, молодой князь Саша Гагарин часто пел ее на любительских театральных вечерах наших, брал гитару…
Гитарные аккорды зазвенели вдруг в саду за забором и складный тенор запел первый, не сказанный дядей, куплет:
И вслед уже нам, зазвучали, многими чувствами, гитарные переборы.
Небольшая золотая монетка покоилась у меня в защелкнутом отсеке бумажника, который сам находился в застегнутом внутреннем кармане летнего пиджака. Монетка оказалась грязноватой, замечена была внимательным глазом пристава, но отличить ее среди нескольких медных монет не вглядываясь, было бы трудно. К тому же, преступников интересовал бумажник художника, а не мелочь в кармане, общею суммой менее пятнадцати копеек.
Да…
А почему я произнес про себя «преступников», откуда взялось множественное это число?
Мы ехали от Никитской к Большому Каменному мосту, а там, налево, уже недалеко совсем Кадаши.
Откуда взялось «преступники»?
Вот надо чтоб этак выскакивало из головы!
Вчера, засыпая, я думал об рассказанных Казанцевым обстоятельствах, и странным мне показалось, что у убийцы не было сообщника, который бы дал знать ему, что жертва приближается – ну, странно как-то предполагать, что убийца томился за дверью в постоянной напряженной готовности; в уголовном мире нетрудная вовсе задача – найти для такого дела мелкого себе помощника.
Вспомнив и обрадовавшись, я быстро изложил свою логику старшим.
– Хм, дело говорит, – признал Казанцев.
Дядя отреагировал скорее нейтрально:
– Ну что ты хочешь от математика, им по профессии до́лжно непротиворечивые конструкции создавать.
И чувствовалось: дяде не мысли сейчас нужны, а место преступного происшествия.
Скоро совсем мы там оказались.
Точнее, подъехали к дому, где всё произошло, и где сейчас нас ожидали пристав с помощником и шагах в трех позади женщина – молодая, непримечательная какая-то.
Полицейские чины вытянулись перед прибывшим начальником, тот быстро вылез из коляски и поздоровался с каждым за руку, кивнул женщине со словами, что долго ее не задержат, представил нас, еще сидевших в коляске, своим подчиненным.
Дядя, тем временем, использовал высоту коляски для осмотра ближайшей вокруг территории.
Дом стоял в переулке, метрах в сорока от угла Полянки – второй по этой стороне, и тут с боковой части дома как раз и находилась ведущая вверх на мансарду лестница, обшитая сбоку и сверху струганными еще светлыми досками, отличавшимися от темно-серого цвета бревен дома.
Женщина, оказалось, – родственница хозяина дома, здесь же и проживающая, не было надобности, посему, звать самого хозяина.
Между этим и первым от улицы домом было бесхозное метров в двадцать пространство с деревом – старой липой – и дикой травой. Я заметил: с угла улицы движение сюда человека отлично просматривается, и даже поздним вечером, так как неподалеку стоит фонарь. Заметил и дядя, однако, по словам его – «весьма любопытно», направленным в сторону мансардной лестницы, он заметил что-то еще.
– Что ж, господа, пойдемте наверх осматривать помещение, – пригласил всех Дмитрий Петрович.
Пристав достал ключ от мансарды художника, Казанцев пошел следом за ним и помощником, дядя галантно пригласил вперед женщину, мне оставалось только замкнуть процессию.
Лестница оказалась совсем не темной благодаря окну наверху перед входом в мансарду, что я увидел несколько позже, но прежде пришлось постоять наружи из-за застрявшего в открытой двери дяди.
Внимание его вызвал замочек двери к лестнице – взломанный…
Дядя, отчего-то, остался очень им недоволен.
Поднявшись вверх по ступенькам, прошли вслед за прочими в помещение, кое внимательным взглядом уже обводил Казанцев.
– Полагаю, – начал он, – следует, прежде всего, проверить, не похищено ли что-нибудь из жилища покойного. Убийца, имея доступ к карманам жертвы, мог вынуть ключ и подняться сюда для грабежа. – Он обратился к женщине: – Осмотрите, будьте любезны, не спеша помещение.
– Дозвольте доложить, что собрать удалось о художнике, – начал пристав.
– А где бумажник? – спросил вдруг дядя. – Пустой, что был брошен.
Помощник указал место, приподняв небольшой, поношенный изрядно портфель.
– Дмитрий Петрович, – обратился дядя к Казанцеву, – а нельзя ли этот бумажник на время мне? Тоже под расписку.
– Не надо тут никакой расписки, – он знаком показал помощнику передать бумажник и обратился к приставу: – Слушаем вас.
– Тэк-с, – тот, для верности, держал пред собою блокнот, – приехал он полгода назад из заграницы. Неизвестно, где первые две месяца в Москве жил, но затем переселился сюда. – Женщина, открывавшая шкаф, покивала утвердительно головой. – Происхождение имеет из мещанского сословия, обучался два года в Императорской Академии художеств в Петербурге. Прервал учебу, взяв отпуск, и уехал заграницу.
Меня задело несовмещение фактов: происхождение из мещан по заграницам ездить не позволяет, а «недоучившегося» от Академии на казенный счет не пошлют.
Задело не меня одного – дядя, поймав мой взгляд, показал кивком, что того же мнения, а Казанцев полувопросительно произнес:
– На какие это деньги он по заграницам шастал.
– Помощник мой обошел вчера вечером ближайшие трактиры, – продолжил пристав, уже не глядя в блокнот, – в двух его опознали. И время теперь понятное – вышел он из трактира около одиннадцати.
– А опознали как – по устному описанию? – удивился Казанцев.
– По автопортрету, – он показал помощнику на портфель, – достань.
Сейчас только я начал осматривать помещение.
Просторное… светлое очень…
А-а, кроме двух боковых окошек в крыше, на французский манер, еще два окна проделаны – изрядно больших.
Помощник достал из портфеля картонную папочку.
Я ощутил вдруг внутри себя удивление – пара секунд ушла, чтобы понять отчего… картины, станок для писания маслом с многоцветьем мелких на нем мазков, кисти, карандаши – ничего этого не находили мои глаза, знакомые с обстановкой студий художников – двое из них были моими товарищами по любительскому театру.
Апропо, один из них закончил Императорскую Академию художеств в Петербурге и по возрасту почти как убитый – надо его спросить, возможно, они были знакомы.
Дядя с Казанцевым уже рассматривали автопортрет.
Передали мне.
Работа карандашом: суженное вниз лицо, волосы не то чтобы длинные, правильнее – разбросанные… глаза привлекают, темные, наверное, от природы, с выразительным взглядом, но… но… подчеркнутость проступает, романтическая подача… и эстетичность образа – воротничок хорошей недешевой рубахи, не играющий роли в портрете, тщательно, тем не менее, обрисован, волосы не просто слегка растрепаны, а так именно, чтобы выгодно отличали детали лица…
Я тут поймал себя на придирчивости, взявшейся откуда-то неприязни, а это всегда не нравственно и критически пресекаться должно. Вернул портрет помощнику пристава, и заметил – мы стоим с ним вдвоем, а остальные разошлись по помещению.
Стол темного дерева у одного из боковых окон – длинный с округлыми краями, не накрытый ничем явно назначен был для работы, такое следовало из его высоты – значительной слишком в сравнении с обычном столом «для сиденья». Но вот опять ощущенье малой занятости его предметами.
Я подошел ближе.
Карандаши, две пачки бумаги – видно, что разной плотности, кусок картона – что-то из него вырезалось, линейки две, угольник, лекала, баночка с клеем, еще какая-то…
– А вы когда здесь убирали? – услышал я голос Казанцева.
– Вот второго дня, утром, – голос ее звучал от волнения приглушенным.
– То есть – в день убийства. При нем шла уборка?
– Нет, я всегда… когда он кушать в трактир уходил.
– Понятно. Продолжайте смотреть – не пропало ли что.
Женщина попыталась что-то ответить, я повернулся в их сторону.
– Как? – переспросил Казанцев.
– Да вроде и не пропало.
Дядя, стоявший в конце помещения у открытого шкафа, поманил меня пальцем.
– Взгляни, есть на что.
Шкаф оказался довольно вместительным, и плотным от помещавшихся там вещей.
Лисий полушубок сразу бросился мне в глаза – дорогой, совершенно новый, вот и торговая бирка на нем.
Ба, смокинг…
В этаком в высшем свете появиться нестыдно.
Еще что-то дорогое-хорошее я хотел рассмотреть, но помешал дядин голос, и почему-то тихий совсем:
– Обрати внимание – смесь.
Я не понял о чем.
Дядя, показывая пальцем, опять проговорил тихо:
– Отменные вещи перемежаются с затрапезными.
…правда, вот две кофты простые, одна сильно ношеная, еще что-то старое и дешевое, а рядом вешалка с атласными брюками…
Посмотрев, я было повернулся к дяде, но его уже след простыл – вон у полочек вдоль стены всматривается неизвестно во что.
Казанцев уже сказал женщине, что та может быть свободна, однако дядя быстро проговорил:
– Один момент. Вот тут на полке стояли такие металлические чашечки, – он показал руками, как они суживаются к низу. – Три… и четвертая еще, побольше.
Казанцев, заинтересовавшись, подошел к нему… и утвердительно покивал головой, глядя на те голые места на полке, где, стало ясно, остались следы какие-то.
Оба они повернулись к женщине.
– Были, – та подняла слегка голову вверх, – тяжелые такие.
В каждом слове ее слышалась робость.
– А когда они тут стояли? – в голосе Казанцева услышалось раздражение от этого робкого немногословия.
– Да как, – она засомневалась тому, что хотела сказать…
– Ну, уборку в последний раз делали – они тут стояли?
Лицо ее стало увереннее:
– Не стояли. А в позатот раз, – сомнения опять возвратились и голос без всякого ручательства произнес: – они, значит, стояли.
Пристав, не чувствуя смысла в продолжении разговора с нетолковою бабой, понемногу сдвигался к выходу, помощник его вообще думал о чем-то своем… женщина, вдруг, решительно подошла к столу, осмотр которого я несколько минут назад произвел.
– Тут вот коробка лежала деревянная.
Руки показали длину сантиметров в тридцать, а пальцы, словно бы ее обхватившие, – толщину в половину ладони.
Сразу мне пришло в голову, что коробка мастеровая.
– А внутри что?
Женщина двинула плечи вверх и вытянула вперед нижнюю губу, чем выразила «а не знаю».
– Тяжелая коробка? – спросил уже дядя. – Двигали ее, когда стол вытирали?
– Двигала, – опять пауза, – фунта, будет, четыре.
– Да, не конфеты, – сопроводил Казанцев, и по виду – ему тоже здесь надоело.
Женщину отпустили.
Я сразу же сказал про приятеля-художника, возможно очень, знакомого с убитым по учебе в Академии.
– И могу от графа заехать к нему.
– Очень полезно бы, – обрадовался Казанцев, – а то знаете, делать запрос в Академию, ожидать, когда они соизволят прислать ответ, – он выразительно отмахнулся от неприятной такой процедуры.
– А какой рост у покойного? – неожиданно спросил дядя у пристава.
– Немного повыше среднего, а комплекция – худощавая.
– Ну что же, можно опечатывать, – Казанцев обратился к нам: – Пойдемте, на улицу, господа.
С верхней площадки лестницы закуток перед дверью внизу показался мне маленьким, узеньким… рассматривая, я чуть привстал, препятствуя выходить другим.
– Что, обратил внимание? – прозвучал сзади у меня голос дяди.
Я поспешил вниз, чтобы успеть осмотреть взломанный замок.
…так, пропустили в щель маленький ломик или гвоздодер и вырвали язычок замка из паза… и что же – возвращаясь, художник ничего не заметил?
Сразу явилось предположительное объяснение и, вышедши наружу, я стал с нетерпением ожидать появления пристава.
А как только тот показался, сразу спросил:
– Вы говорили, убитого опознали в двух трактирах. В тот вечер, не спрашивали, он много пил?
Пристав улыбнулся, и даже с некоторой снисходительностью:
– Сытно поужинал, выпил две всего рюмки водки, чаю две чашки.
– Трактир какого разряда? – спросил дядя.
– Оба первого, что он посещал.
Разъезжаясь, договорились встретиться все втроем в 2 часа пополудни у Гурьина – отобедать и для обсуждения дел.
Граф еще вчера поздно вечером ответил запискою, что примет меня утром после десяти, оно и получалось, что окажусь у него в начале одиннадцатого.
Не зная пока, какие именно выводы, сделали для себя дядя мой и Казанцев, начал раздумывать я о своих.
Извозчику я велел слишком не торопиться, так как вообще не люблю летом быстрой езды, а наоборот – неспешный ритм, теплый и светлый воздух, привычная и вместе занятная глазу московская суета создают внутри ту спокойную не отягощенную ничем атмосферу, которой благодаря являются сами вдруг нужные мысли, и бывало такое, что приходили решенья математических не очень простых задач.
Первый мой вывод был прост и подсказан, конечно, дядей – при осмотре одежного шкафа: у художника, и недавно сравнительно, появились серьезные деньги. На этих именно радостях был им куплен дорогой и ненужный в начале лета лисий полушубок, а не выброшенные, еще привычные ему старые вещи говорят, что психологически перестроиться на новый жизненный лад он еще не успел.
Тут всё ясно, хотя обидно несколько – не ткни меня дядя в эту одёжную чересполосицу, сам я вряд ли б сумел заметить.
Второй вывод тоже весьма напрашивался и требовал уже пристального к себе внимания.
Две рюмки водки, выпитые художником за ужином в трактире, вывести его из здравого ума не могли. Такие дозы влияют на настроение, но не на голову. Шел он домой с нормальною головой – я хорошо представил себе фонарь всего в шагах пятнадцати наискосок, – кем-то открытая дверь на лестницу была, вне сомнений, им сразу замечена. Как человек ведет себя в таких случаях? Безлюдный в одиннадцать часов переулок, взломанная дверь, тишина… Я на мгновенье увидел себя там стоящим, и сразу возникло чувство опасности – у меня здесь, посреди светлой многолюдной Москвы… Стоп-стоп! да мы, когда подъезжали к дому, видели неподалеку сторожевую будку, быстро пройти до нее не потребует двух минут, а дальше – можно вернуться с крепким мужиком себе на подмогу. Вместо этого шагнуть в немую эту страшную темноту?.. Приходит только одно объяснение – в мансарде находилось нечто важное слишком, столь ценное, что мысль о возможной пропаже заставила его устремиться внутрь.
Полезное напряжение мысли, требуя для себя разрядки, нередко приводит к другой – и из другой области: по дороге почти проживает приятель мой, учившийся в то же примерно время в Академии художеств. Лучше заехать к нему до визита к графу, а не наоборот, как я замышлял, – у графа я могу засидеться, и приятель уйдет куда-нибудь по делам.
Решив так, я снова вернулся к непонятной в тот поздний вечер истории.
Что могло находиться в мансарде особо ценного? Деньги?.. Вполне. Но тогда они должны там оставаться припрятанными где-то сейчас. В мансарде полный порядок, а при поиске денег с обстановкой не церемонятся. Или убийца знал, где находятся деньги?
Нечто на мостовой попало под колесо, сиденье тряхнуло – будто сторонняя сила вознамерилась мне помочь: да отчего же тогда преступник не взломал верхнюю дверь и не проник раньше в мансарду?
Минут пять я ехал без всяких мыслей, не желая ощущать себя в тупике.
– Прибыли, барин!
О, здесь за углом жилище-студия моего товарища.
Я поспешил подняться на второй этаж и дернул у двери за шнур колокольчика.
Подождал…
Еще раз, и сильнее подергал.
Подействовало, заслышались шаркающие шаги и голос глухой: «иду-у».
Вид хозяина сразу обо всем мне сказал.
– Ты, Сережа… ой, заходи, как ты, однако, кстати.
– Похоже больше, ты нуждаешься в продолжении сна.
– В рюмке водки я нуждаюсь. А лучше – в двух.
Мы вошли в большую комнату с неубранным диваном, на котором почивал хозяин, у стены еще стоял небольшой круглый стол со стульями, к нему мы и направились, остальное пространство было занято «художественным беспорядком», который не стану описывать, но именно тем рабочим беспорядком художника, коего не было и следов там на мансарде.
Хозяин достиг стола, хлопнулся на стул и потянулся к графину…
– Ой, брат, налей мне сам, как же напились мы вчера, у-фф, а Сашка Гагарин чуть не упал в Москва-реку.
Он назвал еще трех театральных наших, пока я наливал ему… и даже пришлось помочь поднести ко рту.
– … спасибо, брат.
– Ты бы хоть яблоком закусил, отрезать кусочек?
– Н-нет, я не смешиваю. Как хорошо, что пришел, а то я лежу и маюсь… и воли нет встать.
Товарищ мой прикрыл глаза.
Пришлось подождать.
Недолго.
– О, отпускает уже.
Я поспешил воспользоваться и назвал фамилию убитого.
– Знал ты его по Петербургу?
– Зна-ал. Будь так любезен, на подоконнике у меня трубки – одна как вроде заправлена.
Я быстро нашел, зажег ему прикурить и дал чуть времени обрести себя и почувствовать удовольствие.
– А ты к чему спрашиваешь?
– Убили его два дня назад.
– Уби… вот те, – известие грустно подействовало. – Это не страна, Сережа, а воровской и бандитский вертеп, это не власть – суки они предержащие, ой!
Он поглядел на графин.
– Обожди.
– Как убили-то?
– Удавкой. Ограбление.
– Тьфу, не знаешь здесь когда что случится.
– Ты как о нем можешь отозваться? Про те годы, я имею в виду.
– Способный очень. По рисунку средь нас один из лучших. Графиком стать мог отменным. Да вот потянуло его идти по классу медальерных искусств у Лялина. А на третий год обучения не пошел, уехал неожиданно заграницу.
– У него средства от родителей были?
– Какое, родителей самих не было – умерли давно от холеры, воспитывался у тетки. Бедный тогда – как мы все. А, заграница?.. Да мы сами тогда удивлялись.
– А он как говорил?
– Невнятно. Что родственник дальний объявился. Да мы и не больно допытывались.
Теперь уже твердой рукой он потянулся к графину.
У графа я оказался в итоге в двадцать минут одиннадцатого, встречен был очень любезно и с предложением выпить хорошего кофе.
Граф мне составил компанию, кофе – уже по запаху стало ясно – совершенно чудесного качества, а на столике, помимо салфеток и сахарницы, лежала большая лупа: так что я понял – удовольствие с делом можно вполне совмещать.
Граф сохранял отличное зрение, и без помощи лупы, взяв монету, сразу сказал:
– Испанский пистоль 1537 года. Первая чеканка, потом пистоль чеканили еще не одну сотню лет.
Он отложил монету, взял чашечку, предлагая жестом и мне.
И после первого небольшого глотка, смешливо сощурил глаза:
– Полагаю, впрочем, что эта чеканка из самых последних.
Я быстро рассказал про происхожденье монеты.
– Ну-с, посмотрим на нее повнимательнее, – граф отставил чашку и взял лупу.
– А подобную среди тех подделок вам не предлагали?
– Не было. Так-так… у меня есть такая в коллекции. По ней, и вообще я знаю, что у первых чеканок пистоля аверс – то есть главная сторона, и реверс – обратная, не вполне симметричны по осевой линии.
– Как бы с поворотом относительно друг друга?
– Именно. Незначительное очень расхождение, но оно есть – испанские чеканщики того времени не придавали ему большого значенья.
Он еще присмотрелся и сообщил:
– О-о, затертость на реверсе совсем современная. Еще: монеты эти делали строго по весу, и избыток убирали – вот как здесь, видишь, нет кусочка края. Это типично. Современный мастер данную особенность знал, но посмотри, как точно по линии сделано.
– То есть заложено уже в саму форму отливки?
– Правильнее, в штемпель.
Я уже знал разницу: литье – заливка металла в форму, штемпель же выдавливает изображение – здесь тот же принцип, что у обычной печати; где-то в середине XVI века штемпель стали крепить на стержень винтового пресса, а с конца того века стал распространяться изобретенный Леонардо да Винчи способ конвейерной штамповки на роликовом механизме.
– Любопытно, за что же заплатил он всё-таки жизнью. И он ли автор других тех монет?.. Не исключено, Сережа, на поприще этом трудится не один.
– Этот художник по классу медальерных искусств у Лялина учился.
– У Александра Павловича? – удивился граф. – Хм, способный, следовательно, был молодой человек. Профессор Лялин большая фигура, Императорские заказы имел, в ученики его попасть могли только немногие.
Лакей подошел с маленьким серебряным подносом, на котором лежал белый конверт.
Конверт был уже сбоку разрезан, граф вынул из него небольшой листок.
Пробежал очень быстро… и с ироническим оттенком улыбка явилась на мгновение в его лице.
– Мой преемник – нынешний генерал-губернатор – дозволяет мне лекцию в Московском университете о Чаадаеве.
– Дядя говорил, вы были с ним очень близки. Имя его, из-за запретов всяких, окутано тайной.
– А ты, Сережа, читал его знаменитое философическое письмо?
– Читал. Среди студентов у нас ходил от руки переписанный текст. А вы ведь, как главный тогда цензор России, допустили эту публикацию в «Телескопе», хотя трудно угадать было последствия.
– Последствия?.. Ну, гнев Государя Императора меня тогда меньше всего остерегал, да и должен сказать – ко мне он очень благоволил. А вот общественная реакция беспокоила, и гнев с разных сторон оказался больше мной ожидаемого.
Философическое письмо Петра Яковлевича Чаадаева знала почти вся мыслящая Россия. Появилось письмо в 1836 году в журнале «Телескоп». Собственно говоря, название «Письмо» было наивной маскировкой – дескать, публикация воспроизводит всего лишь мысли, высказанные частным образом некой даме. Никто на это, что называется, не клюнул, и меньше всех Император Николай I, объявивший Чаадаева сумасшедшим.
А само «Философическое письмо» превратилось в постоянный предмет обсуждений и споров.
Чаадаев писал о безнадежной отсталости России от европейского прогресса по всем направлениям – гражданственным, духовным, творческим. Ведущую роль в европейском историческом развитии он уделял католической церкви и не пытался демонстрировать уважения к церкви нашей православной. Критические высказывания о состоянье России были, можно сказать, нецеремонны, в силу чего крайне обидны для каждого, кто искренне или для утвержденья себя проповедовал исключительную истинность православия и великую будущность России, без указания, впрочем, откуда вдруг таковая возьмется. С этого «Письма» пошло деление российских умов на «славянофилов» и «западников». «История» для Чаадаева была не местом существования человека, а средством его устремления. Куда?.. Здесь не было полной ясности, однако сам Чаадаев называл себя религиозным христианским философом, и окончательно мысль его упиралась в движение человека к Богу. Только движение это должно осуществляться при максимальной независимости человека и, вместе с тем, обязательности перед другими членами общества. Можно сказать, что права и обязанности гражданина были для Чаадаева теми самыми аверсом и реверсом одной монеты. Многие поняли, однако, только неуважительную к России и православию часть письма, но отчеты их нельзя признать убедительными – оные носили преимущественно ругательный характер, а попытки выставить встречные аргументы лучше всего выразились в «Письме» Хомякова, тоже, как и у Чаадаева, к неизвестной даме. Здесь же обозначилась и «главная линия» славянофилов: известная им, но неизвестная отчего богоизбранность наша, высшие свойства души, которые нам изначально присущи, но не присущи европейцам-католикам. Самонадеянность эта со временем больше и больше людей раздражала, но не мешала получать удовольствие к ней сопричастным.
Пушкин, преклонявшийся, почти, перед Чаадаевым, за слабостью прочих, привел для возражения чувственный аргумент: если б ему-Пушкину предстояло вновь родиться и выбирать место жительства, то только Россию и ничего кроме не выбрал бы, и вот именно с этой ее историей. А раньше, пятью всего месяцами, в письме жене по-другому сказал: «черт догадал меня родиться в России с душой и талантом». Как вместе всё понимать?
Припоминаю спор года два назад приключившийся у нас за столом, когда один из соседей-помещиков, патриотичный во всём до рубах и кафтанов, излагал именно те пушкинские слова про единственную Россию, в ответ на что матушка, улыбнувшись, сказала: а почему бы нашему Пушкину не родиться, к примеру, одним из товарищей Колумба и плыть с ним на открытье Америки, или плохо ему крестоносцем за гроб Господен повоевать?
Неожиданный вопрос насупил нашего гостя.
А батюшка, с привычной ему прямотой казармы, добил патриота совсем:
– Вот Крымская война, на которую я, слава Всевышнему, не попал, чтоб не застрелиться потом от позора. Летом 54-го года, действуя почти всею группою войск, проваливается противная сторона в атаке, отступление пошло беспорядочное. А с фланга у них повис наш свежий корпус генерал-лейтенанта Петра Горчакова. Удар – и блокада Севастополя была бы снята, а потери противника заставили б его думать о перемирии. Мне офицеры Горчакова рассказывали: прибегают к нему в палатку, а он, подлец, пьяный в стельку лежит! Это средь бела дня, и приказ в наступление корпусу отдать некому. А Петьку я с давних лет знаю – и смелость в нем есть, и Россию любит, заплакал бы за нее после двух рюмок водки, сиди он с нами теперь за столом.
Сосед показал желание возразить.
– Нет, брат, ты дослушай. Вот другая история той войны. Долинка там есть, между нашими позициями и противником. Позиция наша подковкой – по фронту вал-ров с пехотой, по флангам артиллерия. У англичан, оказывается, тоже с генералами неполадок: дает их командующий гвардейской кавалерии приказ атаковать по фронту наши позиции – что ему в голову! – там кавалерии пройти нельзя: от укрепленной пехоты пули, с боков картечь артиллерии. Все понимают, что верная гибель. А кавалергарды – все офицеры, английская аристократия. Командир их только удивленно переспросил командующего, правильно ли понял приказ. «Правильно», – отвечает тот дуболом. Вся кавалерия идет в бой и вся, ни за грош, погибает. Вот тебе, брат, присяга Англии. – И батюшка совсем разошелся: – А у нас весь тыл армии проворовался! На нашей территории, приплыв из-за морей, нам по первое число накостыляли!
Эта история, хотя и быстро мелькнувшая, перевела меня на «домашний лад», поэтому вопрос, который я не знал как задать, вырвался слишком уж непосредственным:
– А как вышло, Сергей Григорьевич, что вы с Чаадаевым не оказались в числе декабристов?
Неожиданно для меня граф рассмеялся.
– Ах, Сережа, да в этих тайных и полутайных обществах не состоял разве только сам Император Александр I. Хотя знал он о них с самого начала и до самого конца. Вот например, устав «Союза благоденствия», возникшего в 1818 году, был с благосклонностью им прочитан. И что, в конце концов, написал страдалец наш Чаадаев? Что жить так нельзя – написал. А знаешь ли ты, что сельская девочка Жанна д’Арк была вполне грамотной? Сельские дети Франции во второй половине XIV века обучались грамоте через католические приходы. Да когда мы, отогнав Наполеона в Европу, вошли туда следом, ты полагаешь – что более всего поразило?
– Благоустройство во всём, достаточное крестьянство, – ответил я по общепринятому мнению.
Граф слегка отмахнулся:
– И это, конечно. Но более всего глубина цивилизации их – строения многих прошлых веков, соборы, Сережа, конструкции которых тебе современной математикой трудно было бы рассчитать. И в этих соборах голова сама поднимается вверх. Ощущенье одно у всех – здесь история, которая как высь собора, заставляет держать поднятой голову, а у нас… грустно сказать, прозябанье какое-то.
– Так Александр всё знал?
– И за полтора месяца до восстания донесенье получил о его подготовке. Но к тому времени Государь окончательно уж приготовил себя для отшельничества.
– Значит, слухи эти о старце Федоре Кузьмиче в Сибири…
– Под Томском он сейчас. Да, Сережа, он самый. Здравствует, Слава Богу. Как и супруга его, Елизавета Алексеевна. Но ты понимаешь, это конфиденциально всё.
Слухи об Александре I, не умершем в 1825 году, а ставшим монахом-схимником, считались среди «прогрессистов» чем-то вообще не стоящим никакого внимания – но слухи, тем не менее, ходили. А вот про жену Императора, тоже внезапно умершую через несколько месяцев после мужа, я ничего не знал.
Однако же интересным стечением обстоятельств назначено мне было узнать еще об этом скоро совсем.
Настроение графа изменилось, тем временем, в грустную сторону.
– Странное случилось с Россией в ту пору. Словно вот, спал ребенок, да разбудили не вовремя.
– Россия-ребенок?
– И хуже – без воспитателя. Государь Александр I мог бы им стать. Но как-то обмолвился мне, что является ему Россия коротким видением как живое огромное существо, в сравнении с ним он чувствует себя ничтожной величиной и боль сердце его пронизывает. «И никто, никто не сможет ею руководить – только сама она, и спасением Божьим!» – горячо он так произнес, что мне страшно сделалось. Смотрю на него, он на меня – и обоим нам страшно.
Граф замолчал, грусти в лице его, мне показалось, даже добавилось.
– Да, страшное дело совершилось декабристским восстанием.
– Но если бы им удалось?
Граф категорически мотнул головой.
– Не могло. Ни о какой капитуляции со стороны Императора Николая I и его ближайшего окружения, куда и я входил, между прочим, ни о чем подобном не могло быть и речи. Это понимали вполне и восставшие, следовательно, у них оставался тот крайний вариант, на котором и ранее настаивали некоторые.
– Убийство всей царской семьи – идея Пестеля?
– Первоначально она не была идеей Пестеля, Лунин и еще некоторые за несколько лет до восстания ее предлагали. А Павел вообще не был таким зверем, как многие его рисуют. Так вот убить им пришлось бы гораздо большее число людей, потому что кто бы из нас – по ту сторону от восставших – не стал бы грудью на защиту невинных. И какую б реакцию злодейство такое вызвало во многих армейских частях, расквартированных по России? Не только, заметь, среди офицеров, но и простых солдат. А губернаторы, дворянство местное, священничество? Разве не объявили б они народу о свершившемся душегубстве? Уверяю, вся авантюра эта не продержалась бы и месяца одного.
Сказать, что с глаз моих пелена упала – совсем ничего не сказать: и декабристы, и прогрессивная наша публика, которая от них в восхищении, и сам я, не понимавший по сию пору простого совсем события, – всё вместе психически пошатнуло меня; да как же так – глядеть и не видеть откровенно безнадежного мероприятия?
– Теперь о других, худших гораздо последствиях, – продолжал граф, – последствиях от неполучившегося. Общество, Сережа, потеряло большую часть от наилучших своих людей, от той, в том числе, молодежи, которая в близком времени могла возглавить государственные учрежденья, командные должности в армии – и в этаком расположении сил очень могли произойти мирным путем те реформы, которые Государь Александр II только сейчас намеревается совершить. Потеря исторического времени произошла очень опасная, и поправима ли она – мы не знаем.
– А верно ли, что главным виновником все-таки являлся Пестель?
Граф подумал, и стало заметно – вопрос доставил ему беспокойство.
– Знаешь, при любви и уважении ко многим, Пестеля должен признать самым выдающимся среди нашего поколения. Военных доблестей – от Бородинской битвы и далее – хватило бы на несколько биографий. Административные способности имел тоже крайне незаурядные. Быстрый и точный ум, сравнимый, разве что, с Чаадаевским. Ненарочное над людьми превосходство. Ну, если у тебя больше таланта, чем у других, что с этим поделаешь?