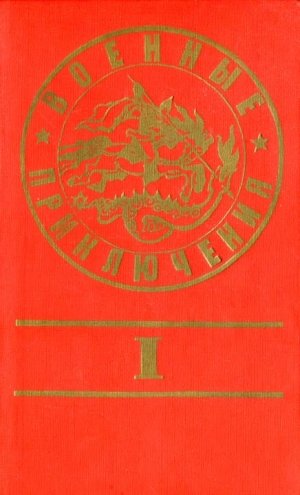
Владимир Зарубин
УБИТЬ СКОРПИОНА
Никто не знал, что это случится сегодня.
Но два человека предполагали возможность явления чрезвычайного и, опасаясь друг друга, уже несколько дней находились в нервном ожидании, стараясь скрыть свое напряжение и желая предвидеть и угадать тот кратчайший шаг, отделяющий время обычное от необычного, то критическое мгновение, когда им придется действовать, не раздумывая, потому что в миг тот позади каждого из них разверзнется пропасть с кратким названием смерть. Непонятная стихийная космическая сила вмешается в их намеренные действия и осложнит противодействие человека человеку, по эти двое, превозмогая себя и природу, сохранят полярные заряды активности до конца.
Один из них был сержантом конвойно-караульных войск, старшим наряда по охране пятерых заключенных. Рослый, русоволосый, со светлым незапоминающимся солдатским лицом, двадцатидвухлетний сержант, несмотря на то что был на голову выше и двух солдат — подчиненных, — и пятерых заключенных, зрительно как-то терялся среди них и был почти незаметен, отличаясь меланхолической молчаливостью. Но так только казалось со стороны, а каждый из пятерых заключенных, наверное, не раз ощущал, что сержантская мощная фигура синтезировалась из воздуха именно в той точке пространства, которая перед этим казалась свободной от всякого присутствия в ней человека. Фигура эта как будто вырастала из ничего и подавляла волю великолепной невозмутимостью. Происходило это оттого, что сержант никогда не торчал перед глазами у охраняемых, по стоило кому-либо из них оглянуться или посмотреть в сторону, чтобы там увидеть сержанта и ощутить на себе его спокойный взгляд, как холодный луч голубого лазера. Ничего грозного не было в его зрачках, но лучше уж не глядеть, а отвести глаза от этого взгляда. Но может случиться, что, проявив интерес и посмотрев почему-либо в другую сторону, вновь наткнешься на этот голубой взгляд. Сержант перемещался бесшумно и невидимо.
Это отметил во время наблюдений за ним лидер в конвоируемой пятерке заключенных по кличке Скорпион. Смуглое острое лицо его с нервными сухими мышцами было сдержанно спокойно, но чувствовалось, что он вслушивается и всматривается во все его окружающее, как дирижер и композитор перед премьерой концерта, но только играть он будет не с листа, а готовит себя к великой импровизации, последним аккордом в которой прозвучит либо свобода, либо смерть.
На площадке перед входом в штольню заброшенной рудной выработки все остановились, и сержант взглядом показал одному из своих товарищей, где тому занять место для охраны, пока третий солдат, засветивший фонарь, пошел обследовать штольню. Так было положено по Инструкции.
Добыча в этих шахтах была давно прекращена, и местность уже почти потеряла следы человеческого внедрения, заросла травой и кустарником, только перед самым входом в штольню широкая площадка еще не имела почвы для растительности, да в саму штольню была вправлена прочная бревенчатая рама, много лет предохранявшая ее от разрушения. Существовало мнение, что когда-то здесь добывали стратегическое сырье, но то ли иссякли его запасы, то ли были найдены другие, более богатые месторождения и добыча здесь стала невыгодна, — разработки прекратились. Но теперь что-то изменилось и кто-то вспомнил об этих шахтах, и с дальнего материка, из еще более далекого столичного мира науки и экономики послали сюда человека для повторной разведки и исследования чего-то, во что ни сержанта, ни тем более заключенных посвящать никто не собирался.
— Перекурим, начальник? — Щуплый по прозвищу и по комплекции заключенный заискивающе посмотрел на сержанта. Он был самым бойким и разговорчивым в группе, принадлежал к тому типу людей, для которых общительность и веселость компенсируют недостаток ума и физической силы. Эти люди, почти всегда присутствуя в центре или неподалеку от всего совершающегося в жизни, удачно избегают больших неприятностей, у них нет воли, но огромное любопытство и желание быть на виду приводит их иногда к таким ситуациям, в которые они, затянутые как мусор в воронку, погружаются и, не имея силы выплыть, вращаются по наклонной поверхности в беззаботных мечтах на удачу и счастье.
Остальные трое не имели характерных примет, если не считать приметой окончательную деградацию личности, явно выраженную после многолетнего и неоднократного пребывания в заключении. Они привыкли к такому состоянию жизни и не заботились о ее перемене, да и сама перемена в перспективе виделась им как последующее заключение, только не в этой, а в какой-то другой колонии.
— Курите, — сказал сержант, прислонившись к каменной глыбе на краю площадки.
— Угостишь? Я на присланных мне сигарах кончики не обрезал — так и остались нераспечатанными в кабинете.
Заключенные всегда и у всех по возможности клянчили сигареты: у солдат, у надзирателей и офицеров — чаще безнадежно и безрезультатно. Но сержант никогда не отказывал и делал это не из чувства жалости к заключенным или доброты, а потому что, поскупясь в такой мелочи, он бы измучился от унижения в собственных глазах.
Вот и сейчас он вытащил из кармана пачку и бросил ее Щуплому.
— Не все забирайте, мне оставьте, — сказал только.
— Оп-па! — Щуплый поймал сигареты. — Мы по одной…
Осторожно, как взрывоопасные или очень хрупкие и нежные предметы, Щуплый достал и передал в потянувшиеся к нему руки по сигарете. Скорпион не курил и отрицательно дернул щекой, отказываясь от поднесенного ему курева. Щуплый не преминул сунуть скорпионову «долю» себе за ухо, не забыв достать еще одну — для себя.
— Спасибо, начальник! Лови!
Брать от заключенных или передавать им какие-либо предметы считалось нарушением Инструкции. Не полагалось также вести и посторонних разговоров. На языке юстиции в случаях каких-либо происшествий все это именовалось «недозволенной связью с заключенными». И опять же из чувства непонятной гордости сержант позволял себе подобную «связь», не считая, что нарушает закон, хотя понимал, что при чрезвычайном происшествии это зачтется не в его пользу.
Срок службы подходил к концу, оставалось не более двух месяцев, и сержант предполагал, что еще успеет сдать экзамены в университет — только не на юридический факультет! — и навсегда забудет о существовании тех немногих, кто осужден людьми и жизнью отбывать наказание за преступления перед ними, и тех немногих, кто, как и он, призван охранять закон: «Не преступайте — и не будете судимы!», — который он считал справедливее общеизвестного и забытого: «Не судите — и не будете судимы». Некоторое время спустя ему предоставится возможность убедиться в полной несправедливости обоих этих «законов», и сержант, не сделавший никому зла, будет подвергнут попытке осуждения и ему ничего не останется делать, как применить закон силы, диктуемый жаждой жизни. Что такое жизнь, сержант не понимал, это было само собой разумеющееся явление. Но два с лишним года службы на острове стали тяготить его, он начал задумываться об этом явлении: зачем оно? На острове и для солдат, и для заключенных жизнь была невыносима. Вероятно, в ней содержался какой-то смысл, оправдываемый какой-то общественной необходимостью, но никто не мог объяснить ему, в чем конкретно состояла эта необходимость. В лучшем случае в ответ на вопрос он услышал бы общие, ничего не значащие, обтекаемые слова. Но сержант никому не задавал вопросов, потому что в «худшем» случае на него бы странно посмотрели, как на человека не в своем уме. Солдат для службы подбирали по особым признакам: исполнительных, честных и не слишком вдававшихся в «философские» размышления. Домино, футбол, кино. Два раза в месяц, иногда реже — судя по погоде — приходил пароход с почтой, продуктами и другими необходимыми вещами. Солдатская казарма вроде маленькой крепости, здание управления колонией, барак для заключенных, огороженный основными и предупредительными заборами, водокачка, котельная, пищеблок для заключенных внутри забора, причал — вот и все сооружения, отнюдь не радовавшие глаз изяществом архитектурных форм. Остров — круг почти правильной формы с диаметром около десяти километров — издалека напоминал мужскую велюровую шляпу, изрядно поношенную и помятую. Заключенные собирали на острове бурые камни, цепные для приготовления каких-то красителей, и складировали их у причала. За этими камнями в начале и в конце лета приплывала баржа и отвозила их в какую-то другую страну, на экспорт.
Неделю назад сержанта вызвал к себе в кабинет начальник конвойно-караульной команды и поставил задачу: взять двух солдат и конвоировать пятерых заключенных к старым штольням на северный берег острова. Там прибывший с материка научный сотрудник будет проводить изыскания, а заключенные, в случае необходимости, должны расчистить проходы и завалы, чтобы обеспечить ученому доступ в полуобвалившиеся штреки и шурфы. Капитан, морщившийся от возобновившихся язвенных колик, не слишком вдавался в подробности, а отдал стереотипный приказ: обеспечить охрану «объекта» и не допустить побега заключенных. Сержант слово в слово повторил этот немудреный приказ и дополнительно расписался в Книге службы. В канцелярии колонии, куда сержант пришел за дополнительной информацией о выделенных на работу под его охраной заключенных, он забыл о цели своего первостепенного стремления — сведениях о склонностях и оперативной характеристике охраняемых, — а с удивлением узнал и увидел, что научным сотрудником — «объектом охраны» — является молодая и очень красивая женщина, и почему-то очень смутился. Он представлял себе седенького старичка пли заджинсованного крепыша с ассирийской бородкой, а тут сидело существо хрупкое и эфемерное, похожее на экзотическую бабочку, непонятным образом залетевшую в их суровые края. Вчера ее не было, иначе бы эта необычайная весть о гостье облетела бы всех островитян.
«Наверное, ночью… пограничный катер был…» — думал сержант, усиленно пытаясь не глядеть в сторону женщины и сосредоточить внимание на словах начальника колонии, который что-то говорил ему, но смотрел в другую сторону, куда боялся взглянуть сержант. Речь майора не вязалась с обстановкой, как и улыбка на его лице со следами одинокого ночного пьянства не укладывалась в похмельные мешки и морщины. Он пускался в ненужные и длинные наставления по организации охраны, потом уверял, что отдаст какие-то распоряжения о повышении безопасности, и наконец устал мужественно бороться с утренней головной болью и условными рефлексами.
— Смотри, сержант! — это было сказано совсем некстати и так нелепо, что даже женщине стала понятна неофициальная строгость его намекающих на что-то личное слов. — Смотри, чтобы ни один волосок не упал… Чтобы ни одна пылинка не легла на голову нашей милой посетительницы.
Майор встал и сделал нелепейший поклон в ее сторону.
Женщина что-то сказала, но ее слова заглушил доклад молоденького вольнонаемного служащего — надзирателя о том, что заключенные готовы и ждут на контрольно-пропускном пункте.
— Отправляйтесь, сержант! В восемь тридцать вы должны быть на месте. А вас, — майор еще раз столь же учтиво, сколь неуклюже, поклонился, подходя к женщине, — я довезу туда, если вы готовы.
Сержант поспешил выйти. Что она сказала? Имя свое? Или слова благодарности? Кажется, имя… Но сержант не расслышал его, коридорный сквозняк с гулом захлопнул дверь канцелярии.
Женщина была неутомима и упорна: за неделю она дотошно облазила все старые рудники. Оставались две штольни — и работа ее будет закончена. Она все время записывала что-то в блокнот, отбирала некоторые образцы и, кажется, была довольна результатами поисков.
Сержант не осмелился заговорить с ней о чем-нибудь таком, что не входило в круг его служебных обязанностей, с самого начала он не сделал этого, а теперь просто так невозможно ничего сказать! Все так внезапно. И врасплох застигнутый любовью, сержант с испугом затаился перед необъятным чувством. Слова, как жалкие насекомые, мысленно тянулись, волоча за собой земные соринки, а любовь была, как небо и солнце — сияющая и высокая. Хмурая пелена молчания удручала его, и где-то в глубине души он даже был бы рад появлению грозового облачка подозрения, что может случиться нечто необычайное, что разразится буря и сержант примет на себя удар. Это была его первая любовь, романтическая и героическая, всегда готовая на самопожертвование. Но жертва, если до того дойдет, должна совершиться в триумфе победы. Спокойно, сержант! Спокойно… Сначала победа, а жертва — потом. К этому надо быть готовым.
Заключенные вели себя прилично, с энтузиазмом, обычно им несвойственным, разбирали завалы, расчищали и раскапывали осыпи, если находились залегания каких-то примечательных для науки жил. Старались угодить молодой женщине. Ее присутствие придавало им ощущение сопричастности к чему-то великому, утраченному ими в неволе и теперь оказавшемуся так близко, что можно было уловить его могучее дуновение, словно льющиеся волны музыки и света торжественного и одухотворенного смыслом праздника человеческого творчества. Они вели себя настолько корректно и послушно, что сержант уже не сомневался: такое не к добру. Уже на второй день он подумал о том, что состав надо было бы менять, а не посылать одних и тех же. В целях безопасности это было бы разумнее. Но каждое утро из ворот КИП выходили почему-то одни и те же, а ему никак не удавалось выбрать время, чтобы ознакомиться с оперативными и другими данными, характеризующими эту пятерку, и особенно «старшого», Скорпиона. Очень не нравился сержанту этот Скорпион. Ему показалось, что он все время исподволь наблюдает за конвоем, изучает, следит. Но, кроме интуитивных импульсов, подозрения свои сержант ничем подтвердить не мог.
А Скорпион наблюдал. Вот и сейчас он отметил, как сержант при кажущейся малоподвижности и медлительности ловко поймал сигаретную пачку левой: четко сработала кисть, пальцы. Вроде не левша. Но и это не исключено. Не исключено, что сержант в совершенстве владеет всеми приемами задержания как с оружием, так и без. Не исключено, что сержант сильнее и выносливее. Ничего не исключал Скорпион из наблюдений и заключений о достоинствах сержанта. Собственный перевес он видел в психологии, которая у Скорпиона не только допускала крайние меры жестокости, что не снилось этому мальчику в самых кошмарных снах, но полностью основывалась на этих крайних мерах. Что замышлял Скорпион — ему самому не было до конца ясно. Да и замышлял ли он? Может, на досуге тренировал мозг решением авантюрных задачек? Ведь он должен был понимать, что побег из этой колонии невозможен. Сам остров, на котором она располагалась, надежно изолировал ее от мира, и добраться на материк можно было, лишь захватив какое-либо судно, что само по себе создавало каскад трудностей. Но призрак свободы являлся ему по ночам в удушливой мерзости барачного пролета, где три сотни отверженных, душевно изломанных рецидивистов-уголовников натужно пытались забыться сном скотов. А время почти не двигалось, словно вся прошлая жизнь стремительно соскользнула в глубокую яму. Каждый день — ступенька, а таких ступенек еще более пяти тысяч надо выдолбить на крутом откосе этой ямы. Скорпион не смирился и не сдался, а затаился и мрачно мечтал. Он знал и другое: иногда самую безумную идею можно довести до исполнения, а самую, казалось бы элементарную, — провалить, споткнуться на пустяке. Такой «пустяк» и привел его сюда. Скорпион не раскаялся в своих преступлениях — слишком много надо было принести покаяний.
Добывать свободу для всех заключенных Скорпион не собирался, ни с кем не делился мыслями, потому что никому не доверял и всех презирал. По истечении срока на свободу он выйдет почти стариком, а так хотелось еще пожить. Ах, как ему хотелось! Уж теперь не сделал бы ни одной промашки. Свой извращенный ум он ставил намного выше не только окружавших его людей, но, может, всего человечества. Но выйти раньше можно было только на гребне кровавой волны, которую надо поднять, всплеснуть и, подмяв ее под себя, вынестись в жизнь обетованную.
Исподволь он наметил сообщников на время активных действий.
Очень кстати появилась эта женщина. Судьба. Случай. На другой такой случай надеяться невозможно, надо использовать этот. Неизвестным в его уравнении оставался сержант. И начинать надо именно с него, с сержанта. Он должен был стать первой струйкой в том кровавом потоке, который может вынести Скорпиона на свободу. Но сержант не раскрывался. Скорпион отмечал каждый его шаг, каждое движение и… не находил ошибок. За эту неделю Скорпион не раз уже чувствовал адское вдохновение, но вовремя останавливался и после убеждался, что правильно поступал. Преодолевая ненависть, Скорпион «зауважал» сержанта, попытался его «разговорить», но с ужасом почувствовал, что сержант ведет с ним непонятную игру, словно провоцирует его на последний шаг. Зачем? Подозревает? Ясно, все заключенные находятся под подозрением в склонности к побегу. Но тут было иное: психическая дуэль. Этот мальчик решил заработать медаль! Вот в чем дело. Каждому свое.
Но женщина. Должна же она ему нравиться? Так оно и есть. Нравится. Скорпион ждал. А сержант молчал. Белая мумия. Поговорил бы хоть с обожаемой! Старшой уводил свою пятерку в глубь штолен, предоставляя возможность сержанту, но тот в таких случаях занимал «безобидную» позицию в тени. Под землей — хорошо: даже звук выстрела не дойдет на поверхность. Если он успеет выстрелить. Лучше, конечно, если выстрела не будет. Тех двоих у выхода Скорпион возьмет голыми руками. Но сержант не раскрывался. А если отвечал на вопросы, то, чувствовалось, «ваньку валял», деревеньку из себя строил.
Не переусердствовал ли сам Скорпион с добропорядочным поведением? Заключенные должны вести себя естественно, они же слишком вежливы и трудолюбивы целую неделю. На сегодня Скорпион назначил «развлекательную» беседу. Они приходили на место всегда чуть раньше. Женщину привозил майор. Утром, в обед и вечером он курсировал с нею на личном автомобиле. Год назад, вернувшись из отпуска, майор непонятно зачем на барже, приходившей за грузом, доставил себе прихотливое удовольствие, привезя сюда этот автомобиль. Неделю покатался, забавляя любопытных сусликов, издалека следивших за его бессмысленными автопробегами и прятавшихся при его приближении. Потом майор оставил механизированные моционы, запивая по ночам семейную драму. Теперь это средство передвижения было вновь введено в действие ради прекрасной особы.
— Хотя бы отец наш родной, — так зеки за глаза именовали начальника колонии, — задержался подольше. Неохота от такого солнышка под землю заползать.
— Да. Скоро мы распрощаемся с батей. Женится — переведется из этой дыры.
— Он женат. А ты: женится…
— Тю! Так та его бросила. Поэтому батя закладывать стал. Теперь, видишь, неделю трезвый!
— Молода она больно для него. Не пойдет…
— Чего не пойдет? Зарплата у него здесь — дай боже! Трат никаких. Мужик состоятельный.
— Что ты пиликаешь! Она лет на двадцать, а то и больше, моложе его. Ей, как нашему сержанту, почитай. Сколько тебе стукнуло, сержант?
Тот не ответил, хотя слышал вопрос.
Заключенные начали спектакль по сценарию Скорпиона. Жмурясь на солнышке как коты и бережно затягиваясь «стрельнутыми» сигаретами, четверо разглагольствовали, пропустив безответное молчание сержанта несколькосекундным промедлением, не глядя на него.
— Конечно, батя для такой девочки староват в наше время. Но если заглянуть в историю на десяток тысяч лет назад, то нет ничего нового или удивительного, — и Щуплый процитировал: «Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его: пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним и лежала с ним, — будет тепло господину нашему царю. И искали красивой девицы во всех пределах Израильских, и нашли Ависагу Сунамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем и прислуживала ему, но царь не познал ее».
— А тут и познавать нечего. Тут дело, кажется, уже решено.
— Точно. Отец родной снова кольцо на пальце носит.
— Чего вы пиликаете? — вмешался угрюмый тип, гробокопатель; он получил высшую меру за осквернение могил. — Отшила она батю с первой попытки.
— Отшила? Откуда у тебя такие сведения? Уж не выкопал ли ты их там…
— Козел! — гробокопатель взъярился, почуяв намек, и стал приподниматься.
Заключенные сравнительно спокойно переносят любые клички и оскорбления, кроме безобидного слова «козел». Обычно при этом «имени» среди них возникает потасовка. Сержант знал, что стычки в таких случаях неминуемы. Но тут она не произошла. От сержанта не ускользнул взгляд Скорпиона, направленный в сторону гробокопателя.
— Слышал, как надзиратели на вахте трепались, когда я пол мыл, — сказал угрюмый, усаживаясь и успокаиваясь.
— Чего же он ее возит три раза в день?
— Сержанта боится! — Щуплый улыбался. — Надеется хоть так поднять свои шансы. Зачем позавчера батя нас на беседу вызывал? Что его интересовало? Есть ли, мол, претензии к конвою? Да когда это было, чтобы ему наши претензии знать надо? Я сразу и не врубился. Лаптем прикинулся: не понял, говорю, слово какое-то мудреное. А сам думаю: на кого же он «стук» от меня услышать хочет. Батя и выклался: как, мол, сержант ведет себя на службе? Не нарушает законность? А кто его знает, говорю, молчит как сыч. Ну а с дамой — напрямую чешет! — заигрывает, спрашивает. Я его успокоил. Чокнутый, говорю, наш начальник. Ни бум-бум! Ни слова.
— И что любовь с человеком делает! Потерял батя голову.
— А ты бы не потерял, если бы…
— Я — нет! Ученые дамы — все мымры! У них ученость все чувства вытравила.
— Какая же она мымра? Изящная дамочка. Эхма! Была бы денег тьма — купил бы баб деревеньку и жил помаленьку.
«Аплодисментов не будет. Для чего этот треп? — думал сержант. — Случаен он или не случаен? Почему опаздывает майор? Тоже случайность?» Он окинул местность взглядом, не меняя положения головы. Машины майора не видно.
— Сержант, а тебе нравится гражданка барышня? — Щуплый спрашивал, а остальные притихли, ожидая чего-то. — Молчишь, значит, нравится.
— Нет, — почему-то сказал сержант.
— Неправда. Чего покраснел тогда? — Щуплый наглел, надо было бы его одернуть, но сержант воздержался, он и вправду покраснел.
— Таких девочек мало, — продолжал Щуплый. — Видишь, даже мы за неделю ни одного бранного слова не произнесли. Облагораживает. И ведь что главное? Чистота. Без какой бы то ни было червоточинки. Видать, из хорошей семьи: папа, мама, обстановка, воспитание, благородство. Музыка! Гармония! Ничего лишнего, и все в избытке. Голова кружится!
И «артисты» с искусной и дотошной достоверностью суперреализма стали, сменяя и дополняя друг друга, рисовать портрет девушки: лицо, фигура, походка, голос, мельчайшие неуловимые глазу детали — создавали фотографически точный словесный портрет. Зримо, наглядно, почти осязаемо выписывали они каждую черточку, иногда, не жалея красок, накладывали такие густые и сочные мазки на грани пошлости, сопровождая все правдоподобными комментариями Щуплого, неизвестно каким путем почерпнутыми из ветхозаветных источников. Если словесное хамство можно было бы назвать искусством, то это было величайшее искусство, при помощи которого, словно препарируя живую плоть, они показывали затаенную и еще не расходованную чувственную нежность изображаемой ими девушки.
Сержант хотел прекратить это изощренное сквернословие, где оскорбительным было уже то, что о ней говорили эти.
Но внезапно обрушившимся занавесом покрыл сцену хриплый всхлип Скорпиона:
— Заткнитесь, вы! Ублюдки… Не вашими языками… Сержант, заткни им глотки! Или тоже?.. Все подонки. И майор подонок, и ты, сержант, подонок! Слушаешь, слюни глотаешь, истекая животной мерзостью. Один меньше, другой больше, но все мы гады…
Скорпион не кричал. С болезненным остервенением, медленно, словно глотая сухие непережеванные комья земли, выговаривал он слова, по искореженному судорогой лицу бегали нервные мышцы, а из перекошенных глаз падали крупные капли и, казалось, слышны были их удары о камень.
— Господи! Сука, если ты есть, Господи! Дай мне прожить эти годы и вернуться в чистый мир! Дай! Дай! Падла я, Господи! Падла пропащая! Дай подняться! Очиститься дай… От мерзости уведи, дай светлой смертью загнуться, а не в дерьме и блевотине душевной! Дай, милый Господи! Почему ты раньше не отнял у меня разум и позволил испакостить себя? Буду! Буду землю есть… Уничтожь меня, стерву! Зачем ты…
Захлебываясь, задыхаясь и давясь рыданиями, Скорпион упал вниз лицом, катаясь по земле и зажимая уши ладонями. Неразборчивые бормотания или прерывистый хриплый вой еще некоторое время глухо вырывались у него из раскрытого рта.
Все притихли. «Молитва» Скорпиона по «сценарию» не предполагалась, он о ней вчера и не заикался: условились завести сержанта «за бабу» и посмотреть, что у него за нервы. Если сержант психанет — прекратить и, может, попросить прощения — Скорпион походя должен был придумать концовку. Истерика Скорпиона была неожиданностью для сообщников. Они сами были неплохими мастерами психических сеансов, рассчитанных на простачков: незаметно вскрыть капилляр и пустить кровавую пену, гулко биться головой о стену, сопровождая свои действия истерическим смехом — это азы, этим в колонии никого не удивишь. Скорпион без дешевых эффектов достойно сыграл свою партию, похоже было, что человек испытывал самые настоящие душевные страдания от несуразно сложившейся жизни. Испытав нечто подобное очищению от скверны, Скорпион утих, привстал, ни на кого не глядя, взял из-за уха у Щуплого сигарету, прикурил и закашлялся то ли от непривычки, то ли от судорожной затяжки.
— Извини, начальник! — сказал он немного погодя. — Нервы сдали. Ослаб. А вы — это относилось к дружкам — в зоне не разводите базара о том, что я слюни пускал тут. Считайте, что не было этого. Мне еще до звонка долго ждать, выдержать надо, пакость с себя смыть. Попрошусь завтра параши чистить, а то эта идиллия до петли доведет…
Из штольни вернулся солдат, сказал, что она длинная: со множеством ответвлений, а в самом конце — завал.
— Щель узкая, я дальше не пошел, но посветил фонарем — кажется, все! — очень уж глубоко забрался.
— Едут! — сказал кто-то.
По кромке усохшей травы и песка, по верхней черте приливов пологого берега двигалась пестрая легковая машина, поблескивая стеклами и остатками никеля. Издалека и слегка сверху казалось, что это ползет божья коровка, натыкаясь на невидимые отсюда преграды, сворачивает то влево, то вправо, а иногда подаваясь назад и вновь устремляясь вперед. И ничего не было бы удивительного, если бы эта неторопливая букашка растопорщила жесткие крылышки и взлетела бы. Но вот она подползла ближе и потеряла сходство с божьей коровкой, разъяренно урча, вползла на подъем и остановилась в сотне метров. Из нее вышло небесное создание. Что-то сказав майору, женщина поспешно пошла к штольне. Машина, описав дугу, на повышенной скорости покатилась вниз, бросая из стороны в сторону заднюю часть на неровностях. Лихо скатившись вниз, майор прибавил газу и помчался вдоль берега, поднимая веер песчинок.
— Начальник! Мне бы… это… — один из заключенных встал, держась за живот, — антипоесть и антипопить. Баланда сегодня была малость того… жидковата…
«Неужели — сейчас? — сержант оценил обстановку. — Непохоже».
— У кого еще пищеварение нарушилось? — спросил он.
Назвался еще один.
— Проводи их вон туда, — показал сержант солдату.
— Я опоздала, — женщина остановилась около сержанта, продвинувшегося на несколько шагов ей навстречу, — мне радиометр чинили, отказал почему-то. Сегодня досмотрим последнюю штольню и на этом закончим. Она, оказывается, самая большая, но надо успеть, потому что я сегодня улетаю.
Она была возбуждена, возможно, обрадована чем-то. Но ее радость — только ее радость. И зачем она говорит, что майор обещал радировать в часть, в штаб части, а те позвонят в ее учреждение и за нею пришлют вертолет? Для нее это радость, но других это не касается. Она улетит. Все правильно. Иного быть не может. Так должно быть. И все равно мысль эта пришла, как неожиданность. Опомнись, сержант! Скорпион слышал, о чем говорила женщина. По лицу его скользнула судорога, скрыть которую Скорпион не сумел, и он отвернулся.
— А чего мы теперь ждем? Пойдемте?
— Сейчас…
Что ей сказать? Она стояла перед ним очень близко, ни разу так близко она не была. Он почувствовал страх и растерянность. Но собрался, как будто оторвал от себя что-то.
— Сейчас… — повторил он. — Вы пойдете за мной.
Ступил в сторону. Нельзя показывать другим слабость. Как обычно, расставив часовых у входа, объявил заключенным о порядке передвижения и поведения под землей. Как обычно… Все должно быть как обычно… Никакой тревоги. Спокойно, сержант, спокойно!
— Да знаем, начальник! Каждый день ты говоришь это, — перебил Щуплый.
— Прекрасно, если вы знаете. Но служба есть служба. Я говорю не просто слова, а то, что сейчас является для вас законом. Если нарушаю этим общий закон — вы вправе это обжаловать, но не раньше, чем мы вернемся в зону. Итак, старшой впереди, остальные по два в ряд, дистанция — два шага. На всем пути следования строй без моего разрешения не менять. Пошли!
Он повернулся к женщине:
— Постарайтесь с заключенными сегодня не разговаривать… — И добавил: — Без необходимости, если они заведут разговор. О чем угодно. И еще: не стремитесь вперед, то есть я хочу сказать, не становитесь между ними и мной.
— А что такое?
— Да ничего! — пугать ее он не хотел и соврал: — Начальство говорит, что я демократию развел. Разговоры всякие позволяю… Не положено.
— Понимаю. У вас могут быть неприятности. Я скажу вашему майору, что все было прекрасно…
— Нет, нет! Ничего не надо говорить.
— Но это правда! Я очень довольна вашей… — она помолчала, подыскивая слово, — очень благодарна вам за помощь. Вы так здорово все организовали. Такую уйму работы сделали!
В ответ сержант мог сказать лишь одно: огромную работу, которую проделали заключенные, организовывал другой, это старался Скорпион. Но сержант не сказал этого, а спросил лишь:
— Вы точно сегодня улетаете?
— Да. Разумеется, если из вашей части созвонятся с моим начальством. Результаты наших находок настолько ошеломляющи, что все придут в восторг.
— А что вы нашли? Если не секрет…
— Ой! Вероятно, это будет секретным.
— Ясно. Трансурановые элементы, стратегическое сырье, бомбы…
— Вы почти угадали. Правда, здесь не те актиниды, что идут для бомб, но очень важные.
— Ладно. Мне это ни к чему. Не забудьте: держитесь за моей спиной или хотя бы в стороне от них.
Штольня была широкой в проходе почти на всем протяжении, с высоким сводом. Дно полого уходило вниз, и работать было удобно, но продвигались все же медленно, потому что на каждой десятиметровой отметке женщина брала пробы радиоактивности и делала записи, кроме того, здесь было много боковых штреков, которые она тоже не пропускала. Сержант посмотрел на часы — около трех часов они находились под землей.
— Все! Дальше завал. Разбирать? — донесся из глубины голос Скорпиона.
Заключенные остановились перед осыпью. Яркая лампа от мощной батареи громоздила тени на неровные стены тоннеля.
— Сейчас посмотрю, — женщина склонилась над схемой. — Сколько мы поворотов сделали: три или четыре?
— Пять, — сказал сержант.
— Разве? Ах, да! Я не отметила. Да, пожалуйста, разберите, чтобы можно было пройти. Мы почти у финиша.
— Покурить бы, начальник… Как ты думаешь?
— После этого завала перекурите.
Скорпион распоряжался впереди, понукая нерасторопных. Тени прыгали, падали, переламывались.
«А если лампа погаснет? — подумал сержант. — Ничего страшного… управлюсь. Два шага в сторону. Фонарь в левой на отлете, подальше от себя…» Еще он подумал, что, может, напрасно не изменил схему охраны, надо бы один — у входа, двое — в штольне. Но такая перестановка была теперь невозможна. Не о том думаешь, сержант! Выступы, ниши, осыпи — возможные укрытия или помехи. Осталось не более часа…
— Готово, начальник! Перекурим теперь?
Он посмотрел на женщину: она ждала.
— Пошли вперед!
— У-у-у! Нехолосый натеяльник! — заключил кто-то. — Омманули дитисэк…
— Кончай! — окрик Скорпиона прервал шепелявый голос.
Он взял батарею с лампой и двинулся. За ним побрели остальные.
«Патроны в патроннике? Или нет? — задавал себе вопросы Скорпион. Когда он его дослал? Не заметил. Или не досылал? Ладно. Конечно, там, сидит там моя пуля».
Сто шагов. Они очутились в широком и высоком гроте. Штольня закончилась. Скорпион с фонарем обошел площадку.
— Все, дальше хода нет, это — конец. Куда лампу?
— Поставь на середине. Можете курить. Не рассыпайтесь по пещере. Садитесь справа.
— Я быстро, — словно извиняясь, сказала женщина и принялась за работу.
Заключенные сидели в пяти метрах от сержанта, в нише, Скорпион перед ними, спиной к сержанту.
«Если б знать наверняка… — Скорпион нервничал. — Что знать?! Там, там сидит желтенькая такая пулька. Моя? Посмотрим, чья!.. Нейтральная. Следующие за ней — чьи? Твои, сержант, твои… Почему ты не закуриваешь? Неужели не хочется? Зажигалки у тебя нет… Нет зажигалки… Чиркнешь спичкой, по привычке — пусть и одной левой зажжешь! — по привычке сощуришься на огонек… ловя его кончиком сигареты… Ну закури, сержант! Нервничаю. Так нельзя. Но и так нельзя! Времени нет! Время — свобода, а свобода — все!..»
— Сержант, — Скорпион обернулся, — дай сигарету…
«Хорошо сидит, — отметил положение противника. — Автомат на коленях, стволом ко мне, палец на месте… Я бы тоже так сел… сиди… сейчас ты бросишь… сигарету, я не поймаю, как бы точно ты ее не бросил, а я ее не поймаю… она упадет… где она должна упасть?.. вон там она должна… — мысли полетели вихрем: — Пачку бросишь? — Нет — одну — ты осторожен — с одной меньше волокиты — левой рукой — они в левом кармане — я встану — ты встанешь — если успеешь — успеешь — и твой затылок — есть! — красивый выступ — угодит — ты не спешишь — и я — бросай — первый удар по стволу — и пуля мимо — должна мимо — мимо — мимо — мимо…»
Сержант бросил сигарету. Скорпион ее не поймал, он чертыхнулся и потянулся за ней, не достал. Взял у Щуплого спички, приподнялся, зачем-то зажег одну, наклонился, поднял сигарету и, выпрямляясь, прикурил, отворачиваясь, перенес тяжесть тела на одну ногу. Свободной ногой удар по стволу! Бросок! Но бросок, который должен был размозжить затылок сержанта о каменный выступ, не получился: сержант не встал на ноги. На лету Скорпион хотел скорректировать движение, и, возможно, коррекция удалась бы, сделай сержант малейшую попытку подняться. Но тот, сидя, прижался к стене и «помог» Скорпиону пролететь над собой. В следующее мгновение от сгруппированного толчка ногой в пах Скорпион шарахнулся к противоположной стене, потеряв сознание.
Четверо сидели, не шелохнувшись, не понимая, о чем их спрашивает сержант. А когда шок прошел, божились и клялись, что о нападении на конвой им ничего не известно. Но был уговор «прокачать начальника за бабу», разозлить его и тем потешить себя, но психанул сам Скорпион. Они ничего не понимают.
— Ладно. Разберемся, — сержант бросил ремешок, прикрепленный к кольцу электрического фонарика. — Он приходит в себя. Длинный, свяжи Скорпиону руки за спиной. Остальным — сидеть и не шевелиться! Игра закончена. Перестреляю всех, можете не сомневаться, в данном случае у меня выбора нет.
А женщина, вероятно, не поняла, что произошло, но, увидев сидевшего с окровавленным лицом Скорпиона, о чем-то, конечно, догадалась и перепугалась.
— Выходим! — Сержант резко мотнул головой.
Из рассеченной брови по переносице в глаз его затекла кровь.
— Вы ранены…
— Чепуха. Это — царапина. Идите к выходу.
— Да, да! Я сейчас, только прибор возьму…
Она вернулась за оставленным в углу пещеры радиометрическим прибором.
Ему показалось, что он теряет сознание. Увидев серебристое мерцание в глубине под темными сводами грота и ощутив легкий крапивный зуд в теле, он крикнул: «Скорей!», — стараясь удержаться на ногах и направив автомат на заключенных. Он слышал неприятный гул. Землю качнуло раз, другой, со свода упало несколько камней, один, небольшой, звякнул по стволу автомата.
— Скорей! — еще раз крикнул сержант, срывая голос, и с облегчением отметил, что неприятный гул в ушах прекратился и исчезло зыбкое ощущение дрожи и зуда в теле. — Идите вперед! Наверх! Сидеть! — рявкнул он на пошевелившихся заключенных.
— Что это? — женщина стояла перед ним, вызывая досаду промедлением.
— Землетрясение! Или — обвал… Да идите же! Идите вперед!
— Радиация. Слышите? Откуда такой поток?
В ее включенном радиометре что-то шипело и потрескивало, словно в нем жарилась яичница.
— Откуда я знаю, что это?! — он подтолкнул ее к выходу.
Может быть, при землетрясениях всегда так… Радиация! Какое ему дело до радиации? У сержанта сейчас забот и без радиации достаточно. Комментировать сейсмические события будем после, сейчас не время, надо думать, как выйти отсюда… Сержант подождал, пока женщина отошла на достаточное, по его мнению, расстояние, сделал указание заключенным следовать за ним, стал выходить, оставив их далеко позади: никуда не денутся!
Женщина вышла из штольни первой и тут же с криком, коротким и пронзительным, отпрянула назад. Сержант с автоматом на изготовку оттеснил ее к стене.
— Погасите свой фонарь! — шепотом приказал он. — Что там?
— Me… Мертвый там. Солдат ваш!..
— Еще что?
Она трясла головой, ничего не говоря больше.
— Что еще видели? Да говорите же!
— Ничего больше…
— Отойдите подальше.
Сержант приблизился к выходу. Выглянул. В двух шагах грудью на каменной гряде лежал часовой, застывшее искаженное болью лицо с открытыми выпученными глазами, тело было вытянуто, словно он силился ползти, спрятаться в штольне, а смерть настигла его в этой позе. Он был мертв — у живых не бывает таких ужасных, беззвучных и продолжительных гримас. Второй часовой ничком лежал чуть подальше, тоже мертвый.
«Спокойно, — сказал себе сержант. — Спокойно…» Огляделся. Никого. Ничего. Было тихо. Безмятежно тихо. Неестественно тихо. Так тихо может быть только тогда… Когда?! Он недодумал эту мысль. Она была слишком немыслима. Вышел на площадку, готовясь встретить любую возможную и непредвиденную опасность автоматной очередью — на поражение. Коротко так и подумал: «На поражение. Без предупреждения». Упасть, прыгнуть, отскочить и — стрелять! — на ходу, на лету, в падении, стрелять короткими, длинными, одиночными…
Немота. Тишина. Даже песчинки под ногами молчали. Странная тишина заполняла пространство. Смутно, как в нокдауне, хотя тело его было напряжено готовностью к бою, в сознание сержанта с толчками его сердца густеющей кровью продвигалась мысль-догадка, мысль-тромб: случилось нечто ужасное, и предотвратить ничего нельзя. Волю сковывало сжимающееся оцепенение беспомощности и страха перед какой-то непонятной катастрофой, непонятной — без имени, без надежды. Молчаливая гримаса смерти на лице погибшего товарища — сержант старался не смотреть туда! — висела сзади, и чья-то невидимая рука сняла ее и протягивала сержанту, предлагая примерить эту фантасмагорическую маску, примерить на себя и оставить навсегда, насовсем…
Нет. Нет! Нет!!!
— Спокойно, — повторял сержант, не замечая, что говорит вслух. — Спокойно…
Произошла какая-то ошибка. Местного значения ошибка. Она будет исправлена — и все встанет на свои места.
Он посмотрел в сторону колонии. Тихо. Слегка, как всегда, курилась стальная труба котельной и водокачки. Ни шума, ни выстрелов не слышно. Ни огня, ни дыма не видно. В слоистом мареве полуденного воздуха дрожали и колебались отдаленные линии рельефа. Дифракция, рефракция… От земли поднимались нагретые солнцем потоки… Все на месте. В белесой дымке, растворявшей черту горизонта, терялась бледно-голубая полоса воды, сливаясь с таким же по цвету небом.
Женщина остановилась рядом и пыталась в его лице найти ответы на безмолвные вопросы. Ей, перепуганной, казалось, что он должен знать нечто большее. Но сержант молчал. Он обычно молчал, и никогда в голову ей не приходила мысль узнать, что это за молодой человек, какой он — хороший или плохой, — ей это было не нужно и неинтересно. Неделю ежедневно она видела его, несколько раз она случайно взглядом встречалась с его взглядом — и только. Безукоризненные, внимательные глаза. Сейчас они были другие, какие, она не знала — в них появилось что-то неприятное. Но здесь он был единственным человеком, кто мог бы защитить ее от собственного страха.
— Пойдемте отсюда! Скорее… — теперь она заторопилась и потянула сержанта за рукав, вынудив его сделать несколько шагов.
— Начальник, а нам куда?
Сержант остановился. Как он мог забыть! Он солдат, прежде всего — солдат. Заключенные стояли, с испугом озираясь на трупы часовых.
— Идите, — сержант освободил свой рукав от ее пальцев. — Мне надо с ними.
Оглядываясь, она медленно отошла, потом заспешила, почти побежала.
«Не спешите! — хотел он крикнуть ей вдогонку. — Далеко не уходите от нас». — Но она бы его уже не услыхала. Он махнул автоматом — повел стволом, отойдя в сторону: пошли, мол! Четверо двинулись. Только Скорпион сидел. Ноги его тоже были связанными.
— Кончай со мной, сержант! Тошно мне глядеть на твою рожу. Никто тебя не обвинит. Стреляй! И мне легче будет.
Скорпион отвернулся.
К сержанту вернулась уверенность.
— Эй! — крикнул он заключенным. — Вернись кто-нибудь сюда, развяжи ему ноги.
Оружие часовых брать не стал: «Может пригодиться при следствии…» — взял только патроны.
Ощущение грандиозного, непонятного и страшного события не покидало сознания, а возрастало и усиливалось, подавляя все остальные мысли. Колония была уже близко, только никакого движения и сопровождающих звуков оттуда не доносилось. Исчез и дым из трубы котельной. Тишина и молчание вокруг заставляли молчать идущих — все прислушивались, невольно осторожным делался шаг. Заключенные шли осторожно и неуверенно. Услышав раздавшийся в этой тишине крик, все поняли, что это кричит ушедшая вперед женщина. Без команды сержанта все замерли. Он метнулся вперед, желая, но пока не зная, как рассчитать свои действия, чтобы блокировать и этих пятерых, и тех, кто нападет, и оказать помощь кричавшей. Она выбежала из-за угла ограждающего колонию забора.
«Ложись!» — крикнул сержант, но она продолжала бежать, а заключенные попадали.
Преследования не было, но женщина бежала мимо, никого не видя. Сержант бросился ей наперерез, остановил ее.
— Что там? Говорите спокойнее.
— Все мертвые… Все лежат мертвые… Все, все! — произнесла и осела на землю без сил и без сознания.
«Если она умрет, то… и мне незачем жить теперь…» Почему это подумал — неизвестно. Подумал — и все. Лихорадочно перебирал пальцами по ее тонкому запястью. Пульса не было. Но увидел на шее слабенькую голубоватую жилку — есть, стал ощущать едва уловимые ритмы жизненных токов. Обморок. Жива.
Но надо было не терять контроля и над окружающим.
— Щуплый! Да-да, ты! Сходи узнай, что там делается!
— Я не пойду, начальник! Я… боюсь.
— А ты? — посмотрел на гробокопателя.
— А я — что, рыжий?
Сержант плюнул с досадой. Оставлять женщину нельзя. Пропади оно все пропадом! Вспомнил, что во фляге должна остаться вода. Побрызгал осторожно на лицо и на шею, смочил ее лоб. Веки дрогнули, она вздохнула и открыла глаза.
— Выпейте воды. Правда, она уже теплая.
Какое это имеет значение? Тьфу! Не то он говорит. «Теплая»! — как будто он мог предложить газировку со льдом.
Она пила, неловко захватив краешек горлышка фляги губами, хотел помочь — наклонил больше фляжку: вода потекла мимо. Надо было приподнять ей голову. Досадовал на себя за неловкость!
Женщина пришла в себя, но забыла, где она и что с ней, и не понимала, о чем ее спрашивает этот человек, но потом опомнилась, повторила, что видела мертвецов, живых не видно.
— Наверно, все умерли. Слышите: никаких звуков…
Она говорила очень тихо. Заключенные встали и приблизились к ним на несколько шагов.
— Назад! — гаркнул сержант и машинально выпустил короткую очередь.
«Не то делаю! Не то… — растерянно соображал он. — Хорошо еще, что не задел никого. Нервничаю. Мог и убить с дуру…» Наверное, он был очень добрым человеком, если так подумал.
— Вы идти сможете? — сержант принял решение. — Или побудьте здесь, спрячьтесь вон в тех кустах и ждите.
— А вы?
— Я посмотрю. Мне надо проверить все…
— Я с вами!
— Встать! — скомандовал пятерым подопечным. — Вперед, марш!
— Куда, начальник?
— В зону. В барак по своим местам.
— Но если там…
— Прекратить разговоры! По два в ряд, Скорпион сзади, и не оглядываться. Шаг в сторону — стреляю.
Солдаты, офицеры, надзиратели лежали неприхотливо и безропотно. Где попало. Как попало. Ничком, навзничь, боком… Жутко выглядела площадка у караульного помещения и контрольно-пропускного пункта — здесь было больше всего неподвижных тел.
— Война, наверно… — предположил кто-то из заключенных то, что было у каждого в мыслях.
— Но какому идиоту вздумалось бомбардировать этот вшивый остров?
— Ничего не разрушено… Только люди…
— Может, газом? Сержант, как ты думаешь?
— Никак! Проходите!
— Куда?
— Повторяю: по своим местам.
Он открыл засовы на дверях КПП, ждал.
— Ты рехнулся, начальник! Там мертвяки, отсюда видно: вон, лежат…
— Проходите, пока я вас здесь не уложил.
Сержант не шутил.
— Отойдите подальше и отвернитесь, — обратился он к женщине.
— Зачем? — не поняла она.
Сержант взял автомат на изготовку.
— Групповое неповиновение — я вынужден…
— Что вы хотите делать? Это бесчеловечно! Они же безоружны!
Ей показалось, что этот солдат сошел с ума. В данной обстановке — совсем не удивительно. Это была какая-то непонятная ей жестокость, необходимость которой она не видела. Обстановку разрядил Скорпион.
— Не стреляй, начальник. Мы повинуемся, — он первым шагнул в зону, за ним прошли остальные четверо.
Сержант запер засовы. Сделал это механически, формально: не мог он один обеспечить охрану пятерых заключенных круглосуточно. Сержант не знал, что произошло на острове и вообще в мире. Не знал, когда сюда придут люди. И придут ли они вообще? Может, сегодня, может, завтра. А может… Доставил заключенных в место их пребывания, не им, сержантом, определенное, но узаконенное, и, сделав это, выполнил последний отданный ему приказ. Если поступит другой приказ — он выполнит и его, а теперь до нового приказа он вправе поступать, как подскажет его гражданская совесть. Но совесть ничего не подсказывала. Этот солдат был хорошим исполнителем приказов — и не потому, что любил их исполнять или боялся нарушить — нет, сержант не любил свою службу, но признал ее необходимость и неизбежность в своей жизни. Служил по поговорке: не напрашивался и не отказывался. К этому он привык с детства, которое без отца и матери было, возможно, немного жестким, но сержант не знал другого. Сравнивать ему было не с чем. Не понимал он хныкающих здоровых юношей, мучившихся в солдатской жизни от неудобств, и не жалел этих «маменькиных сынков». Сочувствовал им в душе, но не жалел, стараясь не быть к ним жестким. Сам он переносил эту жизнь легко, как ему казалось, и спокойно. Иногда было и тяжело. Ну и что? «Жизнь вообще — трудная штука, — думал он. — Все временно, и все неизбежно — и трудности тоже». То, что с ним случилось теперь, было одной из несуразных трудностей жизни, через которую надо пройти.
Он подумал, что неплохо бы найти сейчас кого-либо из живых офицеров, кто взял бы на себя ответственность отдавать приказы и распоряжения, а сержант согласен остаться исполнителем этих приказов. Коллективная воля, сконцентрированная в инструкциях и законах, все то, что касалось его службы на этом острове, было хорошо известно, но в данном случае потеряло свою неумолимую силу и правду, и сержант с тоской сознавал, что желание остаться в гармонии с законом и своей совестью будет нарушено не по его вине. Даже в этих необычных обстоятельствах те пятеро не могут быть его друзьями и товарищами. Уйти с этого острова не смогут, но, вероятно, попытаются. Почему же он растерялся и не знает, что делать? Надо все предусмотреть. Эх! Найти бы какого завалященького, живого лейтенантика… Но, видно, придется обходиться собственными силами и разумом.
Собрать оружие. По крайней мере — все патроны, пока Скорпион не одумался и не начал действовать.
Вахтенный на КПП лежал в углу между столом и стеной, и сержант довольно долго провозился, пока расстегнул кобуру и вытащил пистолет: он хотел это сделать осторожно, чтобы не слишком беспокоить покойника.
На улице женщина настороженно ждала его появления. А после недавнего намерения сержанта расстрелять заключенных он ей стал казаться таким же страшным, как все, что она видела вокруг. Он, не понимая ее отчужденности, относил ее состояние к общей растерянности перед ужасающим видом смерти, овладевшей островом. Не зная, как ободрить ее — да и можно ли было этого достигнуть? — сказал только:
— Держитесь. Мне надо обойти все.
И пошел, осматривая все помещения штаба колонии, квартиры офицеров и вольнонаемных служащих. Трупы, трупы, трупы… Похоже было, что умерли все одновременно в результате какого-то сверхмощного излучения. При виде мертвых женщина вздрагивала, приближалась вплотную к сержанту и ни на шаг не отходила, кроме тех случаев, когда сержант приближался к лежащим. Преодолевая страх и напряженное отвращение к смерти, он иногда поворачивал тела, чтобы взять у мертвецов ненужное им оружие или убедиться, что оружия нет. В голове его цедились, обрывались и падали повторяющиеся капающие мысли: текли — падали — расплывались, соскальзывали — исчезали, появлялись вновь. Кап… кап… кап-кап!.. кап… Где-то висела ледяная мокрая и скользкая глыба страха, от нее струилось холодное проникающее скольжение. Он не видел эту глыбу, но ощущал змеиное присутствие, угрожающую затаенность бесплотного чудища — в обычной жизни оно называлось абстрактно: смерть. В своем апофеозе смерть превратилась из абстрактного понятия в реальное ощущение неотвратимости, она была слишком огромна и несоразмерна с коротеньким отрезком времени, который в сознании определяется словом жизнь, и поэтому терялся смысл и понятие последнего.
Огромная и несоразмерная с человеческим телом смерть умудрилась спрятаться в неподвижности его бывших товарищей, друзей, сослуживцев. Кого-то при жизни он уважал, к кому-то не проявлял большой приязни, но сейчас не смог бы определить своего к ним отношения. Все как-то отдалились, отделились, отгородились стеной молчания и неподвижности, заглядывать за которую было неприятно и бестактно. Ему было тягостно и неловко глядеть на мертвецов, потому что в смерти чувствовалось презрение и высокомерие к нему, живому. Иногда казалось, что мертвецы только притворяются мертвыми: они затихают, замирают в неподвижности при его приближении, а стоит удалиться — они оживают, двигаются и разговаривают, играют в игру неуклюжую и бессмысленную. Недоумевал: зачем и кому это нужно? Он гнал эту глупую мысль и в то же время хотел, чтобы так оно и было, чтобы это было только игрой, чтобы мысль его не обманывалась и оказалась истиной, и каким-то чудесным образом восторжествовала над жестокой ложью смерти. Он понимал, что желание его наивно: есть одна правда, это либо правда — жизнь, либо правда — смерть. Но дикарское любопытство к жизни хотело и в смерти видеть всего лишь игру в неподвижность. Хотелось тайком оглянуться и поймать притворщиков, разоблачить их неумные шутки, увидеть, как они, стряхнув с себя оковы неуклюжести, двигаются и улыбаются. Но сержант боялся оглянуться, боялся не их, а того, что реальность и воображение могут соприкоснуться, а раздвоенное сознание уже не отличит одного от другого.
Во дворе казармы за врытым в землю столом на лавочках сидели четверо солдат в естественных позах играющих в домино людей, напряженно и молча ожидая очередного, вероятно, решающего хода. Неестественным было только молчание: это же не шахматы, а домино. Облокотившись на доски стола, игроки держали в пальцах фишки домино, пряча их друг от друга. Увлеченные своим делом, они не замечают его, сержанта, или не хотят замечать. Он остановился и замер в ожидании, что-то соображая, только не в силах сообразить. Послышался костяной звук упавшей игральной таблички. Один из игроков шевельнулся, рука его соскользнула со стола, и тело стало клониться на бок, словно игрок хотел поднять оброненную фишку.
Женщина вскрикнула.
А сержант отшатнулся. Бежать! Бежать, лишь бы не видеть этой партии в домино, продолжавшейся уже не здесь, а где-то там, по ту сторону разумного. Бежать, пока тот, кто наклонился под стол, не выпрямился, подняв игральную кость, и не стукнул ею по столу, не сказал по-мертвецки леденяще и пронзительно: «Ры-ба…»
Бежать!
Но, уцепившись за плечо сержанта и запутавшись рукавом в карабинчике ремня автомата, на нем безжизненно повисла женщина. Он рванулся, рукав затрещал, разрываясь, женщина упала. Сержант пришел в себя и остановился. Доминошники мертвые… Она живая… Он живой… Ей нужна его помощь. Бежать некуда. Главное, не сойти с ума. Не сойти с ума… Если он об этом подумал, значит, еще не… Это — хорошо. А почему: хо-ро-шо? Что хорошего? Может, лучше — сойти?! Может, он уже?! Нет! Это — ужасно, все это ужасно, но еще ужасней будет, если он сойдет. Это только кажется, что сумасшедшие ничего не сознают и не мучаются. Никто не знает, что они чувствуют. Может быть, это высшая и последняя ступень разума. Дураки с ума не сходят, им просто не с чего сходить. Но тогда зачем бояться за этот ум. Надо быть мудрым. Но… «Во многой мудрости много печали». Может, не прав тот, кто это сказал? Мертвым легче. Эти четверо сейчас ничего не знают, ничего не испытывают, ничего не боятся. Не боятся того, что случилось, и того, что может случиться. Но чего боится он, живой? Того, что уже случилось? Или того, что может случиться? Мертвые не знают, что они мертвы. Он знает, что когда-нибудь умрет. Только не теперь. Сейчас он еще жив.
Пусть они играют в безобидную игру домино. Один склонился под стол. Только бы он не встал и не сказал: «Ры-ба…» Если это произойдет, тогда — все! Тогда надо кончать. Нет, мертвец не встает и не шевелится. И остальные не выражают нетерпения. Они спокойны. Им незачем суетиться, их игра уже не окончится, она бесконечна…
Вот дверь казармы. Открыта одна створка.
Сержант протискивается в дверь с ношей на руках. Что-то не дает пройти. A-а… Это ствол автомата зацепился. Поправил. Прошел. Дневальный за столом, склонился, задремал что ли?.. Фу! Потом, после… Дальше. Командир команды здесь или… Опять! Он же видел его: командир дома лежит с обострением язвы. И зачем он на этот остров приехал с язвой? Скрывал, наверно. Здесь больше платят. А жена у него красивая, на фотографии. Ей, наверное, мешала его язва. Но разве язву вылечишь большим служебным окладом? Нет, конечно. Может, от того и язва. У командира два дома: один там, где жена, — далеко, а другой — здесь. Фактически — ни одного.
«А вот и мы дома, — подумал сержант, занося женщину в комнату, где размещалось его отделение. — Правда, это — не дом, это моя кровать только. Даже не моя… Полежите здесь. Жилка бьется? — он посмотрел и легонько потрогал рукой эту маленькую жилку, на шее у женщины. — Бьется. Ну и хорошо. Полежите, а я осмотрюсь…»
Сержант обошел казарму и спустился на первый этаж. Никого, кроме дневального, в здании не было. Он подошел к двери кладовой, где старшина хранил хозяйственное добро. Подумав немного, снял с автомата штык-нож и взломал замок.
«Не сердись, старшина, — мысленно извинился он. — Никому это теперь не нужно. А мне необходимо сменить белье. И ей постель, а то ведь неудобно… Что еще? Аптечки. Пригодятся. А это? Ху! Спирт. Как его майор пил? Может понадобиться…»
Женщина пришла в сознание и уже сидела на кровати, поджав ноги. Когда открылась дверь, она вскочила и взвизгнула, но, узнав сержанта, успокоилась. Он сложил на стол все, что принес. Она ничего не понимала, да и сержант ничего не понимал, но, поймав себя на этой безнадежной мысли, сделал вид, что понимает — ведь надо было оставаться разумным! — и поэтому сказал:
— Тут вот белье… Заменить надо.
— Зачем?
— Вы здесь будете… — и добавил: — Пока…
— А где мы?
— В казарме. Это моя кровать. Но вы можете выбрать любую.
— А вы?
— Что я?
— Вы где будете? Вы уходите?
— Нет. Я не ухожу. Мне идти некуда. Я запру в казарме двери и буду в соседней комнате.
Сержант вынес дневального на улицу. «Извините, ребята. Не обижайтесь на меня, — мысленно обратился он к «доминошникам». — Я не выгоняю вас. Но мы теперь на разных берегах». Он уложил их тела около забора на деревянный помост, где солдаты занимались поднятием штанги и гирь. Накрыл мертвецов простыней, одной не хватило, принес еще две. По краям, чтобы не сдуло ветром, положил металлические диски — «блины», как их называют штангисты. Отошел, но, вспомнив о ключах, что остались у дневального, вернулся. Ключи ему были необходимы. Простыни бугрились от согнутых в локтях и коленях конечностей — это были уже не руки и ноги, а именно конечности — застывшие, неповоротливые. Не без ужаса сержант, приоткрыв простыню, увидел чьи-то широко раскрытые глаза, это были уже ничьи глаза. Мертвец глядел сквозь него, в никуда, холодными, высохшими и обесцвеченными глазами неимоверной и непрекращающейся муки. Ни упрека, ни мольбы не было в этом взгляде, не было в нем и смирения с тем, что случилось. Сержанту вдруг показалось, что он понял, что такое смерть. Даже не понял, а как бы на миг почувствовал себя в этом состоянии, узнал нечто. Странное состояние невесомости тела, незначительность всего, что называется жизнью, и одна мысль: все суета сует. Им овладел соблазн смерти. Ни страха, ни боли, ни ужаса, ни печали, ни радости. Он тряхнул головой и посмотрел в глаза мертвецу. Нет! Надо жить. Пусть непонятно, зачем. Никакие слезы, стенания, боль и ужас не могли сравниться с выражением этого чуждого, равнодушного, ничего не просящего и ничего не прощающего взгляда. Он снова забыл о ключах, а, вспомнив, не мог сообразить: кто из этих пятерых был дневальным, у кого должны быть ключи, нехорошо будет, если он ошибется. Он ведь не смотрел в лица мертвецов, когда переносил их сюда, а теперь они все были одинаковы. «Этот, — решил он. — Подошвы сапог не в пыли».
Взяв связку ключей, он заботливо поправил складки простыней, словно это имело какое-то значение, и вошел в казарму. Проверил все окна и решетки на них, запер входную дверь, поднялся наверх. За дверью, где находилась женщина, ничего не слышно.
— Я здесь, — сказал он, чуть приоткрыв дверь, — в соседней комнате.
И пошел туда.
«Надо или не надо? — подумал он. — Но лучше переспать, чем не доесть!» Этим любимым солдатским каламбуром прогнал сомнения и стал читать инструкции на химпакетах для дезактивации при случаях радиоактивного поражения. На учениях по химической подготовке ему не раз приходилось имитировать эти действия, но сейчас он сделал все более последовательно и тщательнее, чем на учениях. Закончив «обработку», решил узнать, как обстоят дела у спутницы.
— Войдите! — услышал он поспешный возглас на стук в дверь.
Дела у нее обстояли плохо. По-видимому, она была в шоке.
— Вы ничего не делали? — спросил он, хотя можно было и не спрашивать — все лежало на столе нетронутым.
— Что?
Женщина не понимала, что надо делать. Он стал объяснять, хотя сам не был уверен в необходимости принимать какие-то меры.
— Я не знаю, что произошло, — сказал он, — отчего все погибли. Помните, в штольне вы первая сказали: «радиация»?
Женщина что-то сообразила, кивнула головой.
— Ну так вот, — продолжал сержант спокойно. — Нас она не убила, потому что над нами был надежный… экран. Но здесь могут быть остаточные явления того, от чего и погибли все. Поэтому не помешает, если вы протрете себя содержимым этих ампул. Поможет это или нет, не знаю. Но это все, что я нашел. Еще есть спирт. Понятно?
Она кивнула.
Сержант вышел. Через некоторое время, считая, что его прошло достаточно, он снова постучал в дверь.
— Войдите!
Сержант вошел и увидел, что все осталось нетронутым и поза у сидящей не изменилась. «А может, и не надо ничего делать…» — подумал он. Но все же спросил:
— Вы считаете, что ничего не нужно?
— Я почти ничего не вижу, — ответила она. — У меня в глазах дрожит. Я не знаю, что и как надо делать.
Сержант раздумывал: у него в глазах не дрожало. Может быть, это от того, что он успел вовремя себя дезактивировать?
— Вам очень плохо?
Она в ответ только кивнула головой.
И солдат решился: она же ничего не соображает и абсолютно беспомощна. Спокойно, сержант, спокойно. Было не было, была не была радиация, не радиация.
— Встаньте и раздевайтесь, — сказал он решительно. — Повернитесь и смотрите в окно. Или вообще не смотрите.
Он приготовил побольше марлевых тампонов, вскрыл ампулы с дезактиватором, смочил марлю и… Нет! Сержант, рано тебе умирать сегодня. Ты должен жить, пока есть это чудо на свете. Спокойно, сержант, спокойно. Ты сносно держался перед чудовищным ликом смерти, так имей же мужество устоять и не дрогнуть перед… перед ее антиподом, перед прекрасным обнаженным телом женщины. Хотя, может быть, это одно и то же… Ну, чего ты уставился? Для этого что ли заставил ее раздеться? Идиот!
Женщина поежилась от прикосновения холодных и мокрых салфеток. «Спокойно, сержант, спокойно! — повторял он про себя. — Она должна жить, а все остальное — чепуха».
— Все, — сказал он и отошел. — Одежду попытайтесь сами…
В соседней комнате он лег на койку, потер лицо, оно горело. «Глупости, — сказал он себе. — Так нужно». Что делать дальше, он не знал, и лежал в бездействии, а мысли путались, переплетались, словно мыслить разумно он разучился. Попробовал сосредоточиться и составить подобие схемы всего случившегося, но ничего путного с того момента, как он увидел мертвых часовых у входа в штольню, не получалось. Не было объяснения катастрофе. Из тупика сумбурных мыслей его вывел вопрос женщины, стоящей на пороге. Он почти забыл о ней. А она спросила:
— Можно, я буду с вами?
— Конечно. А что случилось?
Она вся дрожала.
— Мне холодно, — ответила, слегка заикаясь. — Я замерзла. И боюсь.
Сержант вспомнил о фляге со спиртом.
— Минутку! — выскочил, принес аква-вита. — Выпейте!
Почему ей было холодно, он мог только догадываться.
Женщина машинально сделала два глотка, закашлялась до слез и еле отдышалась. Но дрожать перестала. Ее бледное лицо порозовело, ожило. И скованность в ее движениях исчезла. Она села на кровать, посмотрела на сержанта и даже улыбнулась:
— Мне стало легче, лучше, — сказала она в ответ на его вопросительный и тревожный взгляд.
Алкоголь снял шоковое состояние.
— Хотите еще? — сержант показал на флягу.
— А что это?
— Спирт.
— A-а… Я не поняла сразу. Нет, не хочу. Я уже пьяная. Я спать хочу.
— Ложитесь.
Он смотрел на нее, не понимая.
— Отвернитесь. Мне… раздеться надо. Не надо уходить! — видя, что сержант поднялся и направился к двери. — Не уходите, не оставляйте меня одну! — чуть не плача, повторяла она.
— Вы сильный и мудрый человек, — говорила она, укладываясь. — Вы мне нравитесь своим спокойствием и выдержкой. А я… я, наверное, мешаю вам. Мне страшно. Все так нелепо и ужасно.
Солнце село. Стало потихоньку смеркаться. Он хотел ответить, что никакой не мудрый он и не сильный, что ему тоже страшно. Хотел сказать, что она ему не мешает, и если бы не она, то… Но сержант не знал, что бы случилось, если бы не было здесь этой женщины. И еще он что-то хотел ей сказать, только ничего не сказал. А вскоре сделалось совсем темно, и голос ее доносится как бы издалека, хотя расстояние между ними было не более двух-трех шагов. Но как велико было это расстояние! Может быть, длиной в жизнь человеческую. А может, и больше…
— Вдруг завтра все-таки прилетит вертолет, — говорила она, засыпая. — Надо будет сходить за тетрадью… Она там осталась… Очень важно…
Он сидел и смотрел в окно, ничего не различая в сгущенном мраке. Мысли перепрыгивали одна через другую, теснились, разбегались. Невозможно было собрать эти ускользающие мысли и додумать до конца — толчея, путаница, обрывки. Что-то звенело, кричало, не умолкая.
Женщина умолкла. Заснула.
Пусть спит. Неизвестно, что ждет их завтра, через час, через минуту. Сержант закурил и при свете спички посмотрел на женщину: чуть вздернутая верхняя губа придавала ей выражение детской серьезности. Он вышел, стараясь не шуметь. Тишина стояла необычайная. Поистине на острове не осталось ничего живого, кроме них, да еще тех пятерых. Что же случилось? Может, ничего не случилось и все это — страшная галлюцинация? Сказка с фантастическим сюжетом? Кошмарная сказка. Чем она кончится? Что делается в мире? Может, везде такое? Надо бы поискать приемник — у кого-то из ребят был. Но заходить в темные комнаты казармы жутковато. Утро вечера мудренее. Но вдруг до утра у них уже нет времени. Тогда тем более бессмысленно что-то делать… И все же сержант вспомнил, что у кого-то есть маленький батарейный приемник, и принялся его разыскивать. Он нашел его, но ответа на вопрос, что же произошло в мире, не было. Сержант вернулся в комнату, сел на койку, привалившись к стене, и пытался услышать какое-либо сообщение. Эфир молчал, равномерное шипение и потрескивание доносилось из динамика — ни одного слова человеческой речи сержант не услышал. Может, на Земле людей уже нет? Странно, но эта мысль его не испугала. Если Земля пришла в такое состояние, значит, люди достойны того. С острова на материк им, пожалуй, не выбраться. И надо ли пытаться? Если человечество погибло, то на материке им делать нечего. Если живо, то их в конце концов найдут. Кого это — их? — позвольте спросить, товарищ сержант. Меня и ее… А пятеро заключенных? Да. Навязались на мою голову. Осудить их на смерть сержант не мог ни по законам человеческим, ни по законам души и совести. Но был почти уверен, что «мирного сосуществования» ждать нечего. Если бы не было женщины… Но кто же осудит Елену за гибель Трои!
Как ее зовут? А не все ли равно. У нее должно быть какое-то очень удивительное имя. Имя, которое он, возможно, никогда не узнает. Сержант зажег спичку и посмотрел на спящую женщину. Ему вдруг захотелось поцеловать ее. Тут же прогнал эту мысль, стал принуждать себя решать деловые вопросы жизни: первое — выжить, второе — оградить ее от возможных посягательств. Таким образом, пребывание на острове в течение продолжительного времени у сержанта не вызывало сомнения. Рассчитывать надо на худшее.
Отдалилось и сгладилось видение множества мертвецов — оно напоминало теперь гравюру Доре к «Божественной комедии» Данте, иллюстрация и не более того: мертвые уплыли вдаль по спирали, то появляясь, как неприятное головокружение, то исчезая. И тогда он услышал сонное дыхание женщины, оно его успокоило окончательно.
Сказка — если это страшная сказка — должна окончиться хорошо. Он думал о себе как о некоем третьем лице, герое сказки, способном страшную историю, не им сочиненную, додумать, досказать, досочинить до счастливого конца. Что такое счастье? Человечество так и не смогло ответить на этот вопрос. По-разному отвечали, и все не то… Ему надо искать собственный ответ. И никто ничего не подскажет, а ответ будет зависеть от того, как он усвоил лучшие законы человечества.
Его счастье было рядом — усталое, испуганное, нежное и слабое существо, чье сонное дыхание он слышал в мертвой тишине ночи. Что надо сделать, чтобы это дыхание не остыло и не замерло в черном стекле темноты, надвинувшейся на Землю? В закупоренной, впаянной во тьму комнате стало тесно, словно в маленьком воздушном пузырьке, застрявшем в вязкой аморфной массе. Пространство остывало, затвердевало стеклом.
Сдавливаемая со всех сторон могучими силами комната стала уменьшаться, превратилась в ящик и все сжималась и сжималась. Уже невозможно выпрямиться и повернуться и, наконец, пошевелиться негде. Он сидел скорчившись, поджав ноги и опустив голову. Трудно дышать… Не выбраться. Поздно. Тело уменьшалось, и сержант стал похож на маленького согбенного грустного человека, сидящего внутри игрушечного кубика. Чья-то рука пыталась вытащить его оттуда. Поздно! Поздно… Оставьте меня. Здесь неудобно сидеть, но мне не больно и не страшно, только грустно. Я не хочу превращаться снова в живого. Не хочу. Здесь нет ни живых, ни мертвых, ни людей, ни скорпионов — все они остались там, снаружи. А я внутри, внутри себя, не хочу туда. Здесь мало места, но мне достаточно, мне хватит. Здесь я один, и — хорошо. А они там, там, там…
— Откройте глаза! Проснитесь, ради бога! Он здесь!
— Кто? Где?
Сержант услышал собственный голос и превратился из игрушечного человечка в настоящего. Женщина робко трясла его за плечо, плавно и осторожно, скорее, баюкала, чем будила. Тоскливый утренний свет, еще не окрашенный солнцем, стоял в комнате.
— Проснитесь! Там пришел этот тип… Он вас зовет.
— Что ему надо? — сержант понял, что за «тип» пришел: со двора донесся крик Скорпиона: «Начальник! Выйди же сюда. Хватит спать!»
— Не знаю, чего он хочет. Я бы вас не будила, но он кричит и кричит… Не ходите туда!
— Вас он видел?
Женщина пожала плечами.
— Вы окно открывали?
— Да…
— Значит, видел. Спокойно. Сидите здесь. Сейчас узнаем, чего он хочет.
Прихватив автомат, сержант вышел в коридор и отворил балконную дверь. Скорпион стоял внизу, против входа в казарму, подняв голову.
«Быстро же он освоился в обстановке, — подумал сержант. — Это, конечно, разведка. Ну что ж… Постой! Значит, я напрасно «дезактивацией» занимался. Остаточной радиации, судя по виду Скорпиона, нет…»
— Доброе утро, сержант!
— Для кого как… — ответил сержант.
— Это верно. Прости. Не такое оно и доброе…
— Давай напрямик, Скорпион. Зачем пришел?
— О жизни надо потолковать…
— А чего о ней толковать? Вчера ты ее чуть не лишился. Думаю, что новая попытка решать подобные вопросы окончится для тебя печально.
Скорпион проглотил издевку.
— Ладно, сержант. Я знаю, что ты силен. Не об этом речь.
— А о чем?
— О том, что произошло. Ты можешь сказать, что случилось?
— Могу. А случилось вот что: ты покинул место, определенное тебе по закону, ты совершил побег. И я вправе применить оружие.
— Согласен. Но тебя же совесть замучит. Законов, о которых ты помянул, уже не существует.
— Ну, ну! Дальше! — сержант решил дослушать «версию» Скорпиона. — Куда делись законы? Кто их отменил?
— Война, сержант! Это война, сержант. И человечество, придумавшее всякие законы, — тю-тю! — перестаралось малость.
— Ты уверен, что это война?
— Так молчат же все! — Скорпион помахал отличным транзистором. Где он его успел раздобыть? — Молчат! Гробанулись гомосапиенсы. Мои, так называемые, преступления меркнут перед этим событием.
— Насколько я тебя понимаю, ты хочешь, чтобы я объявил амнистию?
— Я хочу, чтобы между нами больше не возникало недоразумений. Если можешь — возьми меня под стражу, охраняй. Я не окажу сопротивления. Можешь убить, если у тебя есть такое право, я опять же не буду сопротивляться. Ты прав был вчера, прав и сегодня. Вот и решай.
— Я уже решил.
Сержант помолчал. Молчал и Скорпион.
— Кроме вас в зоне есть живые?
— Нет. Все готовы, — ответил Скорпион. — Похоронить бы надо их.
— Вот и займись этим делом. Но до полудня из зоны не выходить.
— А тебе хватит этого времени?
— Хватит, — усмехнулся сержант. — Основное я сделал еще вчера. — И добавил: — Амнистия, временная амнистия, вступает в силу после полудня. И учти: увижу оружие — предупреждать не буду. Так что лучше не бери его в руки. И вообще приближаться ко мне и на пятьдесят шагов не стоит — я буду считать это нападением. Все ясно?
— Ясно.
— Радиоприемник оставь. Не твой он.
— Пожалуйста.
Скорпион ушел.
Сержант на секунду заглянул в комнату, ровно на столько, чтобы сказать:
— Не выходите из казармы, — и исчез.
Вернулся он часа через полтора, принес что-то в мешке. Потом ходил по казарме, делал непонятное для женщины, но ее и не интересовали его дела. Она снова погрузилась в состояние, близкое к шоковому. Апатия и равнодушие сковывали сознание. Она слышала, как сержант вошел в комнату. Только не повернулась, а лежала на кровати лицом к стене.
— Как вы думаете, что все-таки случилось? — сержант, видно, закончил хлопотливые дела и испытывал потребность в разговоре.
— Я бы сама хотела знать. Может, прав ваш утренний визитер: мир стоял у черты и переступил ее.
— Не похоже.
— А вы разве знаете, как все должно произойти?
— Не знаю. Но, мне кажется, не так. А не провалились мы в какую-нибудь черную дыру с антиизмерениями?
— Все может быть. Последние данные науки говорят, что так называемые измерения — условность, схема, весьма отдаленно напоминающая действительность. Но и подобная гипотеза может оказаться бредом или условностью. Мир бесконечен. А в бесконечности все возможно.
— Да, я знаю: в бесконечности и параллельные линии пересекаются. А вы верите в это?
— Во что? В то, что параллели пересекаются?
— В то, что в мире все возможно.
— Что значит верю? Наука это допускает.
— Прекрасно. Если наука допускает, то я, грешный, могу допустить, что из кладовой эзотерических знаний произошла утечка информации и кто-то по недоразумению или по злой воле воспользовался этим, в результате чего и произошло непонятное событие.
Она посмотрела на него с ужасом:
— Вы в своем уме?
— Пока да. Что будет дальше, не знаю. Чужого ума мне не надо, а свой постараюсь не потерять. Если он у меня есть, конечно.
«Господи, с чего это я рисуюсь, тумана напускаю? Чтобы она подумала: какой, мол, информированный мальчик. Дурак» — мысленно выругал себя сержант. А вслух спросил:
— Есть хотите? Прошло уже столько времени…
Она не расслышала. «Сколько прошло времени? Какого времени? Того или этого? Абсолютного или относительного? Имело ли время теперь прежнее значение? Этот странный солдат задает странные вопросы. Понимает ли он, что, если допустить то, что он сказал, все теряет смысл? Жизнь теряет смысл. Куда жить? Вперед? Назад? Тянуло назад, в прошлое, вперед в будущее не хотелось — там неизвестность, а сейчас… Что такое сейчас? Это почти никогда, во всяком случае сей — вроде настоящее, а час — уже прошлое. По инерции можно думать, что живешь порциями времени, определяющимися прошлым и будущим, но, по сути, все это беспрерывно и необратимо. Никто не может повторить того или иного состояния времени, лишь в бесконечности можно достичь любого желаемого результата». И ей показалось, что сходит с ума: только что заклинала эту самую бесконечность прекратить вот уже сутки длящийся кошмар — как ее желание стало исполняться.
— Летит! — она вскочила. — Вертолет!!! — и бросилась из комнаты.
И сержант был на грани веры в чудо — слышался характерный четкий клекот работающего двигателя. Они оба шарили глазами по небу, ожидая спасительной колесницы. Но чуда не произошло. Это Скорпион на авто майора совершал похоронные дела. Он успел оторвать глушитель, двигатель выстреливал выхлопные газы с грохотом и свистом.
Женщина погрузилась в сомнамбулическое состояние. Слишком велико было разочарование. Сержант, цепляясь за какие-то стебельки, пытался выкарабкать мысли из трясины бессмыслицы. Он крутил ручку настройки преемника, из которого лился равномерный шум и вспышки треска. Какие-то звуки, как метроном, отзывались в ушах. Он долго не мог определить источник. Это стучал маятник его часов. Он отсчитывал время, значит, оно куда-то двигалось. Надо что-то делать, надо действовать. Что он еще не сделал? На сегодня хватит: сигнализация, оружие убрал… Она… неудобно как-то — имени не знает.
— Как вас зовут?
Ответа не было.
— Скажите…
— Что вам от меня нужно? Ничего я не знаю! Ничего!! Оставьте меня в покое!
Он постоял, помолчал. В покое так в покое. Занялся усовершенствованием — это дело по его соображениям имело смысл.
«И чего на меня кричать? — досадливо думал сержант, протягивая капроновую лесу по всем стеклам окон казармы и соединяя ее с сигнальными хлопушками. — Что я вам сделал? Мне ведь тоже… Что — тоже? Нелегко. — Он горько усмехнулся. — Зачем я все это делаю? К черту все!» Но сержант заставлял себя «не обижаться на женщину», хотя это давалось ему с большим напряжением. Спокойно, сержант, спокойно…
Приемник шипел и трещал — ни слова. «Надо посмотреть потом рацию в штабе колонии», — подумал он, продолжая устанавливать хлопушки, где только можно, — это отвлекало от безответной мысли: что же все-таки случилось?
Она лежала с закрытыми глазами, перед которыми, перетекая из одного в другое, проплывали гипертрофированные лица человекообразных чудовищ. Боясь открыть глаза и увидеть наяву это аморфное месиво гаснущего сознания, женщина плотнее зажмурилась и уткнулась лицом в подушку. Но в цветном мраке воображаемых картин продолжали возникать чудища, в окружении которых она почти не ощущала собственное тело, словно в космической невесомости проплывая между ними в облаках черного душного пара и проваливаясь куда-то, слыша жалобный голос умирающей птицы…
…У нее были перебиты крылья и ноги, но она была еще жива и безнадежно, болезненно вытягивала долгую шею, лежа на примятых камышовых стеблях. Виден был один немигающий глаз, устремленный в неизвестность, молящий о чем-то птичий глаз…
…Яхта с зарифленными парусами мягко ткнулась килем в илистую мель. Неустойчивое головокружение. В льстивой суете поздравляли владельца яхты и организатора пикника с удачным выстрелом…
…Шефу во всем везет! Ни гусь, ни утка — а именно лебедь…
…Да! Величавая птица, а была ведь, вспомните, гадким утенком. Но, в сущности, чем она отличается от своих собратьев? Мясо такое же, опереньем только!
…Это одна из завистниц и соперниц…
…Ей показалось, что все посмотрели на ее белое платье невесты и усмехнулись. Стало обидно, стыдно и больно, а ее венценосный жених был небрежен, удачлив и весел, он еще не устал от поздравлений по случаю окончания, опубликования и признания его последней, поистине гениальной работы, которая принесет ему мировую славу. Праздник своего гения, своего научного таланта он хотел украсить праздником любви, не скрывая нескромной радости взглядов, жестов и слов, обращенных на нее…
…В сущности, это она была лебедем, сбитым на лету его метким выстрелом, это она лежала на подмятых, подкрашенных кровью камышовых стеблях, поводя умирающей шеей и светясь непонимающим взглядом, измеряя последнее расстояние от жизни до смерти. Это она добровольно согласилась стать трапезой, это ее подадут деликатесом на стол знаменитости…
…И она почувствовала тошноту и омерзение к деловому смеху и разговору талантливых ученых вокруг гениального учителя, руководителя, шефа…
…Почему? Почему ей казалось, что она любит этого самовлюбленного человека? Этого удачливого убийцу?..
…Белый лебедь лежал, распластав перебитые крылья, изгибая тяжелую шею, и никто не замечал, что он еще жив, а соринку на белом пиджаке шефа заметили, сняли чьи-то пальцы…
…Шефу везет! Помните, прошлый раз тоже…
…Прости меня, природа! Все-таки наша работа стоит того, чтобы заплатить за нее белой птицей!
…Господи, как он высокопарен и гнусен! Неужели он не понимает?..
…Это будет нашей традицией… Правда, шеф?
…Она ощутила на себе ядовитую слюну соперницы, что-то липкое просочилось сквозь белоснежное платье невесты…
…Рубиновый глаз на беспомощно поднятой голове умирающей птицы…
…Наконец чья-то милосердная рука скрутила птице голову…
…Время хрустнуло, как шейный позвонок…
…Кто-то сломал пружину времени…
Она закричала или застонала. Когда это было? Вчера или завтра? Бегство по лесу в белом платье. Она пряталась, слышала, что ее звали, искали, не нашли… Ее ищут! Спрятаться! Кто-то где-то разговаривал. Кровь рубинового заката растеклась по стеклу лебединого глаза…
Болезненные галлюцинации пошли по кругу, усиливая видения прошлого кошмарными вариациями безвременья настоящего…
— Вставайте, мы уже больше суток ничего не ели…
Кто это? Она не видела с тех пор своего «жениха». Не желала его видеть! Он принес ей жаркое из лебедя. Традиционный пир победителя. Пахло кровью убитой птицы. Окровавленное крыло скользило по лицу. Отражение заката в створке открытого окна.
— Сержант! Выйди на минуту!
Кто-то прокричал эти слова сильным, красивым, но почему-то очень неприятным баритоном. Бодрость этого голоса была так же тошнотворна, как запах жареного птичьего мяса. Комната, каюта яхты, плавно проваливалась в пустоту.
Кто там разговаривает? Наваждение схлынуло. Это не яхта. Это совсем другие люди. О чем они хлопочут? Она не понимала, как они могут владеть собой, эти равно далекие люди, грубые и бесчувственные, не знающие ни страха, ни сострадания, ни боли умирающего лебедя. Какого лебедя? Им, вероятно, не понять ужаса гибели земной цивилизации, музыки, искусства, красоты, созданных тысячелетним гением человеческого ума. Женщина не видела противоречия в мыслях: в гибели цивилизации эти «грубые» и «бесчувственные» люди — белобрысый сержант и тот, еще более непонятный ей человек, — были бы виноваты, наверное, меньше других. Кого других? Могут ли пальцы, ласкавшие белые клавиши рояля и извлекавшие божественные звуки, нажать на спусковой крючок коллекционного ружья и оборвать лебединый полет?
Эти вопросы задавать было некому. И, может, поздно.
Она встала.
Тот, второй, во дворе умудрялся быть веселым:
— Упарился я, сержант! Прости, времени не было, ей-ей! — он неуклюже потоптался, неприлично прижимая руку ниже живота. — Я сейчас…
Его взгляд скользнул по женскому лицу, появившемуся в окне, не потеряв хищности даже на расстоянии. Женщина отошла и села на кровать.
— Этих пятерых мы тоже туда, — услышала она снова неприятный голос. — Все люди — братья, в братской и похороним.
Потом послышался грохот автомобиля, скрежет металлического листа, волочащегося по земле, необычный катафалк совершил последний рейс. Она поняла, о чем говорили те люди, и представила себе, как грузили и возили трупы. Вдобавок на руке Скорпиона блестел дутый золотой перстень майора, она почему-то вспомнила этот перстень. В роли добровольного таксиста майор был смешон, выпячивая палец, обремененный дорогой пошлостью. Душу обволокла муть, и женщина упала на койку, чтобы ничего не видеть и не слышать.
Но вернувшийся в комнату сержант принес ей новые муки. Он возился у стола, выкладывая на тарелки разогретую тушенку. Сейчас начнет насыщать утробу и, наверное, чавкать и сопеть от удовольствия. Стало совсем невыносимо, когда он подошел к ней, остановился в нерешительности и, помедлив немного, взял ее за локоть.
— Вставайте ужинать.
Женщина не шевелилась. Он дотронулся до ее волос, решая какую-то замысловатую задачу. Решил. Погладил по голове и повернул ее лицо, заглянув в глаза.
— Не отчаивайтесь. Пока я жив, с вами ничего не случится. А жить я собираюсь долго, — он слабо улыбнулся. — Переждем, переживем, и все будет хорошо. Не плачьте. Не надо плакать…
И как-то так получилось, что его ласковую влюбленность, его робость перед ней ужас свершившегося притупил, а великая чувственная сила отдалила этот ужас. Он потянулся к ней беспомощно, но неумолимо, и ласки жалости перестали быть жалостью в бессознательной силе стихии. Так срубленная весенняя ветвь, не желая знать смерти, раскрывает цветы, для которых вся жизнь — в миге цветения, и этот миг нельзя остановить.
— Оставьте меня!.. Животное…
…на озере жарили лебедя…
…желать лебединого тела…
Он увидел очень близко налитые болью зрачки. Ее неподвижное тело холодно и отчужденно застыло в его объятиях. Опомнись, сержант! Ты любишь ее, но кому нужна теперь любовь. Он резко вышел из комнаты, но вскоре вернулся.
— Вставайте, поешьте, — не глядя на женщину, проговорил он.
— Не хочу.
— А я хочу доказать, что я не животное. Не знаю, почему так получается.
Она встала. Съела приготовленную тушенку, наверное, не заметив, что это. Он хотел объясниться, но подумал, что все слова ни к чему, и, стараясь усмирить досаду за неуместность овладевшего им чувства, сказал только:
— Вы потерпите, но порознь находиться жутковато. Впрочем, я могу перейти в другую комнату.
— Мне все равно.
Она сказала неправду: ей было не все равно — остаться одной в темноте она бы не смогла.
Он расценил ее слова как абсолютное презрение к нему, ревниво кольнувшее, но дававшее право обходиться без объяснения. И что он мог объяснить?
Глядя в одну точку на потолке, он пытался поймать, различить движение вечерней тени, подступавшей вкрадчиво и неуловимо. Концентрируя внимание на этом занятии, он хотел освободиться от смуты мыслей, которая владела им уже сутки, но сознание неохотно отвлекалось от реального бытия и необычности случившегося, объяснения которому не было. Сумерки становились плотнее, исчезли детали, которые раньше были различимы, но когда они исчезли, не мог ответить точно. Причина всем изменениям была сама жизнь, а как следствие возникали неожиданные повороты. Но почему неожиданные? Он ждал нападения Скорпиона в штольне и был готов к нему. Если бы сержант вмешался в ход тогда назревавшего нападения, то — как знать! — что бы с ним было сейчас.
Стало совсем темно. Но темнота тоже понятие относительное — в ней различались предметы в комнате, а может, угадывались с помощью памяти.
— Вы спите? — тихо, почти шепотом спросила женщина.
Он хотел ответить, но почему-то промолчал, а потом стал досадовать на себя за то, что не отозвался сразу, а теперь — поздно.
Она больше не спрашивала. Он слышал, как она дышала и раздевалась, различал во тьме светлое пятно ее лица, закрыл глаза, чтобы не стать тайным свидетелем чего-нибудь недозволенного, потому что зрение его было достаточно острым. Он заставлял себя не думать о ней, только не было иных мыслей. С усилием перенес наваждение нахлынувшего воображения, упрекая себя в бесстыдстве, и призвал на помощь размышление о тех пятерых заключенных, которые, он был уверен, никогда не станут его единомышленниками, а навсегда останутся врагами. В создавшейся обстановке казалось, что те пятеро по сравнению с ним ничего не потеряли, а оказались в несомненном выигрыше, потеряв всего-навсего тюрьму. Не было у сержанта праздника в жизни, и то большое чувство, которое пришло к нему, чувство благоговейного восхищения женской красотой, пришло на том несуразном сдвиге времени, событие его любви совместилось с кошмарным событием смерти, словно неведомые силы специально ожидали этого момента или рок осудил его любовь на необычайное испытание. Любовь, о которой так много говорят в мире, казалась ему до этого поэтической выдумкой, игрой в безумие. В жизни подобного не встречалось, все низводилось до пошлости в бытовых отношениях между мужчиной и женщиной. Раньше казалось, что он знал, зачем живет: так надо, жить и познавать жизнь. Он жил созерцательно, словно из любопытства, не стараясь творить и переделывать не только жизнь вообще, а даже собственную, отмечая только в окружающем то, к чему он расположен духовно. К чему-то он был непримирим, но эта непримиримость внешне ничем не выражалась, и мало любезного видели люди в его замкнутости и неторопливости. Сержант не был ни добрым, ни злым, потому что такие понятия, как зло и добро, очень часто сами себя поедали в окружающем мире и воспринимались каждым по-разному. Он считал себя добрым, потому что старался уберечься причинить боль другим. Но люди конкретны: не делая зла одним людям, невольно причиняют зло другим, близким или далеким, а, может быть, вообще неизвестным, а как это происходит, непонятно, но все дела человеческие по ниточке сложных и запутанных связей как-то действуют и влияют на жизнь всего человечества.
«Что бы там ни случилось — теперь у меня есть цель в жизни», — подумал он. Этой целью стала Любовь к Женщине. Даже не любовь, сержант еще и не знал любви, что это и как, а сама жизнь этой женщины стала для него явлением мира и мироздания, без которого собственное существование теряло смысл. Не сейчас, но после, когда представится случай, он скажет ей об этом, чтобы женщина не тревожилась, чтоб ее не тревожила сегодняшняя сцена.
Ему захотелось курить, и сержант вышел. С балкона ему показалось, что за угол казармы откачнулась тень. Наверное, показалось, подумал он, потому что, вглядываясь и прислушиваясь, ничего не услышал, но курил осторожно, чтобы огонек сигареты не послужил для кого-то точкой прицеливания.
«Значит, сержант не спал, — думала женщина, когда он вышел, — и не отозвался… Да что ж это творится на свете, и долго ли это будет продолжаться? Кто? Кто ответит на эти вопросы? Может быть, я сошла с ума и вижу все это в кошмаре?!» Ей сделалось страшно, она прижала руку к лицу, чтобы не закричать, закрыла ладонью рот. Если это конец, то конец всему, и не важно, кто сошел с ума, весь мир или она одна. Да нет же, она-то не сошла, она понимает… «Что? Что я понимаю?» — задавала себе вопрос. «И этот человек… он тоже сошел с ума?» Почему-то ей вспомнилось, что сегодня утром, то есть когда-то очень-очень давно, не забыл вычистить ботинки — так резко и остро пахло тогда сапожным кремом в туалетной комнате. И еще она видела, как снял он нагрудные солдатские значки, вложил в коробку и сунул в зеленый мешок, сделав это очень аккуратно. Именно аккуратно, что было странно и непонятно — зачем? Она уже тогда подумала о несоответствии того, что с ними происходит, с действиями этого человека. А вот сейчас подумалось, что, может быть, как раз в его действиях и было нечто важное. Это были все-таки действия, а у нее были только галлюцинации и наваждения, которые так неожиданно и необычно прекратились, когда она вдруг ощутила запах шепота его губ и дыхание на своих губах. Лежа теперь в темной комнате, она опять ощутила запахи и этот шепот — в них была та сила, которой ей не хватало, но эта сила уже не казалась грубой. Это была добрая сила, потому что это была сила жизни. Женщина подумала, что сила эта рано или поздно овладеет ею, но не было уже так неприятно, как вначале. Может, сейчас он войдет, и тогда она подчинится тому, что сильнее ее. В фантасмагории ее чувств, с момента ужасного события, впервые, за множество часов, появилось осознанное желание жить.
Сержант вошел. Еще слыша его шаги по коридору, она, словно облекаемая теплой волной, замерла и пыталась как бы выпустить из себя тревогу сдержанным дыханием. Он почти неслышно прошел мимо, она даже глаза закрыла, и так же неслышно лег, чуть царапнув чем-то металлическим, вероятно, положенным на изготовку автоматом.
— Простите меня, — проговорила она в темноту комнаты, где с его приходом ощущалась горькая табачная гарь. — Простите, я не должна была вас оскорблять. Но поймите, что я… что мне… неприятно…
Она замолкла, смешалась, сказав не то и не так. Что он должен понять? Ее целомудрие? Глупо… Отчего ей неприятно и что?
— Не надо об этом. Я все понимаю, все правильно, — ответил сержант как бы издалека. Его мысли продолжала занимать качнувшаяся за угол тень, если она не почудилась. Добавил: — Если услышите подозрительные звуки, вообще любые звуки в здании или снаружи, разбудите меня. Спокойной ночи!
Спать ей не хотелось, мешала тишина упруго, как проволока, натянутой ночи, и боязно было прикоснуться к этой тишине, словно она могла разорваться — и тогда свершится нечто совсем уж непоправимое и невыносимое. И заговорить с человеком, сказавшим «Спокойной ночи!», женщина не решилась, хотя была уверена, что и сержант не спит в этой напряженной тишине, и ей даже стало обидно, а потом стыдно и за обиду, и за мысли против него. Она вздохнула глубоко и произвольно, чтобы снять напряжение, заснуть и не думать ни о чем, но совершенно случайно подумала о том, что случилось с ее обонянием, которое всегда было острым и чутким, улавливающим на расстоянии даже запахи камней, но теперь усилившимся по непонятной причине. Она различала запахи стен и потолка, окна, двери, не говоря о запахе краски, еще исходившем от солдатских ботинок, одежды и тела сержанта. Все это было естественно и не тревожило ее восприятие. Но было нечто в комнате, некая вещь, которая пахла тяжело и угрюмо, густо и сладковато, словно пожар — потухая, но шевелясь еще волнами дыма, золы и пламени и не желая потухнуть. Всю ночь тревожил ее необыкновенный запах, и женщина силилась понять, что же это, но лишь на рассвете, очнувшись от забытья, увидела бесшумно прошагавшего к двери солдата и поняла: оружие! Это его оружие мучило ее всю ночь особым запахом. Она успокоилась и уснула.
Новый день почти ничем не отличался от предыдущего, если не считать того, что сержант разнообразил его приготовлением и завтрака, и обеда, и ужина. Люди не разговаривали, да и не было причин для этого: сержант появлялся лишь затем, чтобы молча поставить перед ней еду и удалиться. Она опять слышала его передвижения по всей казарме то там, то тут, даже на чердаке он производил некие действия. И еще ночь, и еще день, и еще… По ночам он куда-то исчезал. И все это почти в полном молчании. Наконец женщина не выдержала, заговорила, прошла, может, неделя, а может, и больше.
— Вы все время что-то делаете. Может быть, я что-нибудь, чем-нибудь… помочь могу? Объясните.
Он посмотрел на нее как-то странно, но, как ей показалось, радостно:
— Объясню…
Из объяснений она поняла одно: сержант пытался из казармы соорудить «неприступную крепость», вырыл даже подземный ход. Объяснил, как и когда им можно будет пользоваться.
— Да зачем все это?
Он посмотрел на нее как на дурочку, потом улыбнулся, потом серьезно начал:
— Если все это не пригодится — и ладно. Но…
Появился Скорпион со свитой, и сержант, указав в их сторону, произнес:
— Вот за этим самым.
Разговаривал он с ними, как Цезарь с плебеем — с трибуны балкона. Разговор шел о продуктах, которых должно хватить на год.
— А дальше что? Друг друга жрать начнем? — Скорпион выругался, он нарочно применял иногда сальные словечки, чтобы создать видимость собственной «необразованности». — Слушай, сержант, мы теперь государство почти, надо подумать о перспективе. Остров не так велик, и мы в конце концов по закону эволюции перегрызем друг друга и подохнем. Надо нам на материк, а? Планчик есть. Мы тут с ребятами нашли рыбацкий баркас.
— Утопия, — бросил сержант.
— Почему обязательно утопнем? А если не утопнем, а выплывем? Если с умом взяться, а мы беремся движок на нем установить по всем правилам, то доберемся. Пока у нас есть запас продуктов… На плотах люди океаны пересекали, а тут каких-то сотня километров.
— Двоих Боливар не вывезет.
— Почему? Он полсотни вывезет, а нас всего семеро.
— Ты знаешь, о чем я говорю.
— И ты знаешь, что другого способа у нас нет. Ты — командор, мы — матросы. Доберемся до материка — и веди нас в любую тюрягу. Но я думаю, что их нет, тюряг. Наконец-то человечество освободило себя от тюрьм и войн. Ну, так как?
— Хорошо, — ответил сержант, — Я знаю, что вы от этой бредовой идеи не откажетесь. Делай свой корабль.
— Есть, адмирал! Только у нас ни карты, ни компаса нет. Позаботься об этом. У вас-то найдется?
— Зачем ты разбил рацию? — вместо ответа спросил вдруг сержант.
— По нечаянности, ей-богу, по нечаянности! Или ты думаешь, что я совсем идиот? Случайно получилось.
— Не случайно, а на всякий случай, когда понял, что я лампы вытащил. И вообще ты мародерствуешь.
— Что ты, сержант! Перстень этот? Сдам. Одежду? Тоже сдам. Автомобиль, как видишь, я уже не трогаю, надо топливо экономить. Разве это мародерство. Ладно. Значит, готовимся к отплытию. А карта и компас за тобой. Так?
— Так. За мной.
— Ох, и хитер ты, сержант! — не удержался Скорпион от лести. — Мы не успели опомниться, как ты уже все прибрал: и документы, и медикаменты, не говоря об оружии. Ну что ж, это говорит о том, что с таким капитаном смело можно в кругосветку идти.
Женщина слышала этот разговор, и ей стали понятнее настороженность и деятельность сержанта.
— Вы примете предложение этого человека? — спросила так, что он услышал в ее голосе надежду на возможность возвращения к старой жизни.
Сержант не хотел ее разочаровывать, но ответил почти безнадежно:
— Нет. Скорее всего, нет.
— Почему?! Если есть хоть один шанс, почему его не использовать?
— Как бы это… Как бы это понять самому… почему? Вы уверены, что произошла катастрофа на всей Земле?
— Н-нет. Не уверена.
— Я — тоже. И Скорпион сомневается, хотя старается убедить меня в том, что произошел глобальный катаклизм, например, всесокрушающая ядерная война. Если это так, то есть если катастрофа везде, то чем лучше там? Помочь я ничему и никому не смогу. Это во-первых. Во-вторых, шанса, мне лично, остаться в живых, даже если мы доплывем, Скорпион не оставит. Смогу ли я угадать его ход — не знаю. Всегда, до конца он будет стремиться только к одному — уничтожить меня. Может, это эгоизм с моей стороны, пусть! Допустим, я эгоист. Но такой же эгоист и Скорпион. Наш эгоизм полярный. Я знал, что он нападет на меня в штольне. Не знал только когда. Ваши слова «сегодня я улетаю» были ответом: сегодня. Я был готов. Свернуть конвой и расстроить ваши работы я не мог — не было доказательств. Менять схему, то есть изменить расстановку, не хотел, потому что Скорпион сразу бы догадался и, кто его знает, что бы он выкинул? То есть я мог помешать только себе. Ну и… — сержант усмехнулся, — мы совершенно случайно могли быть на поверхности, когда тут все произошло. Последнее. Если это произошло только на острове, то разумнее ждать: скорее к нам придут, чем мы доплывем до материка. Скорпион рвется, ему надо спешить. Мы будем ждать. Скоро все должно решиться.
— Но если беда только здесь, то почему не прилетел вертолет?..
— Я не хотел вам говорить. Не было радиограммы отсюда на материк об этом, или забыли, или не успели… Правда, одно очень удручает: если там ничего не случилось, почему радиоприемник молчит? Ни одна радиостанция не работает, что ли…
— А мы так и будем сидеть в казарме все время?
— Если хотите, прогуляемся.
Если бы можно было, сержант отказался бы от прогулки и предпочел сидеть в казарме, но в женских глазах увидел бы затеплившуюся радость жизни, которая тут же могла погаснуть, и поэтому согласился. Они пошли к берегу, продолжая начатый в казарме разговор.
— Вы заметили, что ни птиц, ни насекомых не видно?
— Заметил.
— Здесь зона какого-то излучения, оно, может, и создает помехи радиоприема.
Он тоже так считал. Не ощущая физических неприятностей — боли или каких-либо отклонений и видимых проявлений излучения, промолчал, подумав: «Чему быть, того не миновать». Не зная, что в данном случае надо бы предпринять, благоразумно решил не предпринимать ничего.
Она сама спохватилась и выразила тревогу:
— Мы ушли из казармы, а те… вдруг они…
— Что?
— Человеку надо… Он должен знать, что у него есть место, куда можно вернуться.
— Не бойтесь, — ответил он туманно, но уверенно, — в казарму они не пойдут. Ничего хорошего там для них нет, Скорпион об этом знает. Кстати, стрелять вы хоть умеете?
— Нет. Никогда не стреляла.
— Хотите научиться?
— Зачем? Я никого не смогу убить.
— Что ж, может, и верно, может, вам и не надо.
— А вы их отпустите, если они соберутся плыть?
— А что я могу сделать? — он помолчал. — Пусть плывут. Мне кажется, не доплывут они…
Он подумал еще о том, что Скорпион не удержится и, даже получив все необходимое для плавания, попытается разделаться с сержантом здесь, на острове, чтобы скрыть концы в воду. Они стоили друг друга, эти два человека. И можно сказать, что, не зная друг друга, очень хорошо друг друга понимали. Жизнь разломилась, как магнит, а эти двое, как два полюса, испытывая острую непримиримость и отвращение, были вынуждены находиться на забытом богом клочке земли, сталкиваясь магнитными силами неприязни. Скорпион в первый момент растерялся, не понимал, почему сержант не разделался с ним сразу после выхода из штольни или в первую же ночь. Скорпион думал, что так и случится. Так бы и было, сержанту нужен был повод, а Скорпион не дал этого повода, ничего не предпринял и тем самым избежал смерти от сержантской пули. И, несомненно, воля Скорпиона была надломлена еще там, при неудачном нападении в штольне. Механизм зла не смог одолеть механизм добра, потому что добро сержанта было не просто добро непротивления, а четко осмысленное человеческое добро, уложенное в строгий футляр физического здоровья и силы. Разум, душа этого невзрачного на вид солдата были по-детски чисты, нетронуты и столь же энергичны, как и его тело. Нужны были исключительные обстоятельства, чтобы они проявились во всей гармонии: разум, как доброе начало, плюс сила, способная осуществить разумные указания. Это и почувствовала женщина. Его слова, движения, взгляд окружали ее, проникали в сердце и успокаивали.
— А вы не боитесь? В смысле, вы никогда не испытываете страха? Вы всегда так уверены?..
Вот и сейчас он сидел спиной к морю, хотя естественнее было бы наоборот, но женщина предположила, что так ему удобнее: те, пятеро, могли появиться только с одной стороны, эту сторону он и взял под наблюдение. Автомат, к запаху которого женщина уже привыкла, лежал на камне за его спиной.
— Таких людей, наверное, нет, кто не испытывал страха.
Простой ответ показался женщине особенным, словно об этом говорилось впервые. Но, может, так и было, потому что сержант говорил сейчас не по долгу службы, а свободно, от души, иногда останавливаясь, подбирая слова, не для эффекта, а для точности. Чувствовалось, что человек «соскучился» по словам, и женщина с удивлением слушала, совсем забыв о собственной «учености». А сержант говорил, и мысли его были не новы, и отнюдь не оригинальны, но привлекательны уже тем, что звучали из уст незаметной единицы человечества — солдата с автоматом. Он закурил и продолжил:
— Страх ко всем приходит. Наверное, к разным людям по разным причинам. До этого, скажем, случая у меня не было причин для страха, для растерянности, раскола оболочки разума, его воли, когда душа, а может, и не душа, а что-то другое начинает вытекать через трещину. Надо суметь собраться и залепить эту трещину. Ведь страх в основном возникает перед смертью, перед тем известным явлением, когда мы понимаем, что привычное явление, жизнь, может прекратиться. Может быть, все и не так, ведь есть же люди, добровольно обрывающие собственную жизнь, но и это, наверно, не значит, будто самоубийцы очень храбрые люди. Я почему говорю о смерти? Потому что страх смерти для большинства, наверное и для меня тоже, самый значительный страх, если можно так выразиться. Мы все боимся умереть. Но мы ведь все точно знаем, что когда-то умрем. И этого мы не боимся. Значит, мы боимся умереть в следующую секунду! Мы боимся именно того, что в следующую и до самой последней секунды живем, вернее, до предпоследней. Страх, который полностью развалит здание разума в последнюю секунду, это уже не жизнь, это фактически смерть. Риск, который обычно приписывают храбрым людям, это вовсе не риск, то есть это непринятое: «Эх, была не была!», а совсем другое. Человек, идущий на риск, твердо уверен, что случится именно так, как ему хочется. Он уверен, хотя, может быть, и не способен к действию, на которое решается. И вот тут получается непонятное: случится или не случится? То есть что такое везение — случай или закономерность? Мне кажется, все-таки случай. Ведь если в жизни весь прежний выигрыш делать ставкой и повторять так еще и еще — неминуемо придешь к нулевому результату. Везучие так не делают, оставляют впрок нечто или прекращают игру сразу же после выигрыша. Их останавливает страх, они попросту не уверены. В штольне я выиграл, но продолжаю игру. Обстоятельства заставили. Прекратить в моем случае игру — это не выйти из игры, нет, мне не дадут… Прекратить игру — значит уничтожить Скорпиона. Это меня заставит сделать страх, только страх, когда появится прямая угроза моей жизни. Или вашей, — добавил сержант, не глядя на женщину. — Напугал я вас? Нет? Это я все говорю к тому, чтобы вы не имели иллюзии в отношении тех людей, которые сейчас сооружают ковчег. Помощничков себе Скорпион подобрал не отпетых. Если допустить, что он доберется до материка, то знаете, что он в первую очередь сделает? Придушит своих сообщников — дальше они ему будут мешать, а мертвые не разговаривают.
— Но если вы уверены, то…
— Что ж вы не договорили? — сержант усмехнулся. — Могу за вас договорить: то почему не закончу игру?
— Нет. Не совсем так, — смутилась женщина, — но… А в самом деле, как тут поступить?
— Захватить их ковчег и отправиться вдвоем! — засмеялся сержант. — Хотите? Не надо. Это все равно, что их отпустить с богом, пусть плывут! Надо убедить Скорпиона, что я так и намереваюсь сделать. Вот только как быть с вами, я не знаю…
— Я вам мешаю?
— Н-нет… Не то. Наоборот, вы мне не мешаете. Но, признаться, не будь вас, дилемму: отпускать или не отпускать Скорпиона, если, конечно, он сам намерен покинуть остров, мне было бы намного проще решить. Впрочем, что я говорю? Не будь вас — мне бы и решать было нечего… Все было бы уже решено.
— И как? — словно бы не понимая, спросила женщина. Ей почему-то нестерпимо захотелось узнать больше об этом молодом человеке, на которого она смотрела теперь совсем по-иному. Он как-то приблизился и стал ей интересен. Видя, что сержант медлит, не понимая вопроса, пояснила: — Каково было бы решение, если бы меня не было?
— Не было бы вас, не было бы штольни и не было бы меня, — сержант словно бы уклонился от ответа, который готов был высказать, и повторил очевидное, но ответ прозвучал так, словно он робко произнес признание. — И я буду, пока есть вы.
Голубое небо, голубая вода, голубые глаза. Пусть безумие! Пусть сумасшествие! Пусть! Она потянулась навстречу заливавшей голубизне, вызвав в памяти ощущение запаха шепота его губ, желая воображение обменять на действительность, и закрыла глаза, погружаясь в эту неумолимую голубизну, выдыхая на его губы совсем уж бессвязные слова:
— Пусть будет… Я верю вам… Пусть будет, как вы хотите.
И прошло некоторое время, прежде чем она почувствовала, что сержант словно бы сопротивляется ее внезапному чувству и как-то беспомощно обнимает, целуя ее. И женщине вдруг сделалось обидно и стыдно за собственные слова, которые и впрямь были, наверное, на грани бесстыдства, и, охладев от жары и забытья, она прислушалась к тому, что было вне ее, открыла глаза и увидела его зрачки, странно сужавшиеся и расширявшиеся, словно подбиравшиеся к ней. Она готова была уже сказать или сделать неприятное и обидное, даже оскорбительное, для чего и отвернула лицо в сторону, как вдруг опять густой, сладковатый, тяжелый, удушающий запах возник, и угрожающей аллегорией перед глазами выросла его рука, сжимавшая автомат. Она все поняла и засмеялась освобожденно и весело. Она все поняла! Но смех был слишком неожиданным для сержанта, словно от удара, он вздрогнул, и зрачки его стали маленькими и острыми. Не давая ему встать, она обняла его за шею и, целуя часто и много, тихо улыбалась, а потом вдруг проговорила, став серьезной и спокойной:
— Я вас буду любить… — и добавила еще серьезней: — Всегда. А теперь давайте уйдем отсюда, я знаю, что вам здесь неспокойно, но прежде хотела бы выкупаться, я редко бывала на море. Или… — она посмотрела на него выжидающе. — Может, нельзя?
— Почему же нельзя. Можно.
Купание ее не заняло много времени. Она вышла из воды, подошла к нему сзади и погладила мокрой рукой по щеке.
— А вы не хотите? Давайте, я постерегу вашу автоматику. Скажите только, на что надо надавить, в случае чего.
— Давить ни на что не надо. А в случае чего — взять и бросить его подальше в воду.
— И все?
— И все.
Он начал раздеваться. Все ли ты предусмотрел, сержант? Все! Как будто все. Даже отвернулся, увидев, что один густой полынный куст пошевелился и переместился. Пошел в воду, нырнул, вынырнул и, не оглядываясь, поплыл к камню, до которого от берега было метров семьдесят. Женщина присела на платье, обсыхая, и увидела Скорпиона только тогда, когда чья-то рука уже взяла автомат сержанта. Она закричала и пыталась вскочить, но сзади кто-то надавил на плечи и заставил сесть.
— Как дела, курортнички? — ухмыльнулся Скорпион. — Тихо! Заткните ей флейту, ушам больно.
Сержант был возле камня. Он наконец оглянулся и оценил обстановку. Спокойно, сержант! Пока все идет по боевому расписанию. «Прости меня… Господи! Я даже не знаю, как ее зовут! Потерпи немного, сейчас все кончится. Мерзость-то какая! — подумал он. — Всех пятерых надо…»
— Как вода, сержант? — поинтересовался Скорпион.
— Отличная. А чего это ты пожаловал?
— Да вот тоже искупаться решили, — Скорпион отвел затвор и заглянул в казенную часть, потом отсоединил магазин и вновь присоединил. — Сколько тут патронов?
— Пять, — ответил сержант. — Еще вопросы есть?
— Выходи, потолковать надо.
— Я, понимаешь, не при галстуке сейчас. Не удобно с таким, как ты, джентльменом беседовать в таком виде. Говори, зачем пришел?
— Ты знаешь, что мне надо.
— Не знаю.
— Карту и компас.
— Почему ты такой нетерпеливый? Я же тебе сказал, что отдам. Я бы тебе даже боекомплект подарил на дорогу, чтобы ты своих дружков не заставлял мучительно умирать, а покончил бы с ними по-человечески. Разве вы сегодня отплываете?
— Завтра.
— Завтра и приходи.
— Мне нужны гарантии, сержант, а их я хочу получить сегодня.
— Мне тоже нужны гарантии. Всем нужны гарантии.
— Не упрямься, сержант. Ты умный человек и должен сообразить, что сегодня ты проиграл. Давай решать дело миром.
— Как это миром, Скорпион?
— Сообща значит. Всем жить хочется, не одному тебе, — не удержался и Щуплый, делая прозрачный жест в сторону женщины.
Сержант подумал немного: не слишком ли он спокоен? Не вызывает ли это подозрение? Чтобы их успокоить, сержант вылез из воды и уселся на камень, выбрав место, чтобы в нужный момент плюхнуться в воду: неизвестно еще, какие они стрелки. Но убивать сразу они его не будут, Скорпиону нужны карта и компас. В одну из ночных вылазок сержант слышал это своими ушами. Вряд ли они переменили прежнее решение. Ему нужно, чтобы был израсходован первый патрон, остальные пустые. Как вынудить его на один-единственный выстрел?
— Я согласен решить дело миром. До завтра, Скорпион! Оставь все как было и уходи.
— Шалишь, сержант! Я не хочу иметь лишнюю дырку в голове.
— Да? А я сомневался и не проветрил тебе мозги, все думал, ошибаюсь.
— Ты не ошибался.
— Ну, спасибо! Вот пример, когда совесть — плохой советчик.
— Выходишь или нет? — Скорпион подождал и стал прицеливаться.
«Еще убьет, сволочь, с дуру!» — подумал сержант, готовясь нырнуть. Но тут произошло неожиданное. Женщина после первого испуга и вскрика сидела в оцепенении. Потом до ее сознания вдруг дошло необычное. И необычное было в поведении сержанта, какая-то загадка. Не то чтобы ей передалось что-то, но неосознанно она решила по-своему. «Пять!» — крикнул сержант в ответ на вопрос Скорпиона. Она подумала, что наступил решающий момент, когда ей тоже надо действовать, и ударила по правой руке Скорпиона, толкнув ее в сторону. Прогремел выстрел, неожиданный и для сержанта, но увидев на берегу возню, он уже плыл к берегу.
— Подержите эту сучку, — прохрипел Скорпион, сшибая вцепившуюся в него руку. — Я с ним сейчас поговорю!
Его приспешники уже оттащили женщину за руки и ноги, прижав к земле.
— Стойте! — кричала она сержанту, силясь подняться. — Не выходите! Он убьет вас!
Скорпион еще раз заглянул в казенник автомата, удостоверившись, что патрон на месте, сказал:
— Выходи, не бойся, убивать я тебя не буду, но мосел раздроблю, чтоб ты не дрыгался. Если хорошо себя вести будешь, то клянусь своими пятнадцатью годами — век воли не видать! — только чуть-чуть пораню. До свадьбы заживет!
Сержант стоял по пояс в воде, отстегивая очень мешавшее ему сегодня некоторое устройство.
— Может, решим дело без убийств, а? Скорпион! — видно было, что сержанту плохо стал даваться спокойный тон в разговоре, голос был резок, подрагивал, срывался. Он стоял метрах в пятнадцати. — Один там был патрон. Один, Скорпион! Ты снова проиграл.
Скорпион спустил курок. Выстрела не было, передернул затвор еще и еще…
— Бросьте ее, ублюдки! — Скорпион испугался. — Сюда! Да говорю же вам, скоты!
Его сообщники наконец сообразили, что хочет их вожак, оставив женщину, они сгрудились возле него.
— Давай, давай! — подбадривал сержант. — Вас же пятеро, чего боитесь. Сидите на месте! — крикнул он женщине, поднявшейся и тоже направившейся к воде. — Вот и прилив начинается. Это хорошо — могилы для вас копать не придется.
Сержант разорвал зубами полиэтиленовый пакет. Пятеро бандитов ошалело остановились, сделав несколько шагов, прямо на них смотрел ствол пистолета. Скорпион все же успел прыгнуть, словно ныряя навстречу выстрелу. Потом прозвучали еще четыре…
Уронив пистолет, сержант вышел из воды и побрел в казарму. Он шел как слепой, спотыкаясь и едва не падая, так что женщине пришлось идти рядом и поддерживать его, иначе бы он упал наверняка.
Уже закончился этот день, и наступил вечер, а сержант все лежал, уткнувшись лицом в подушку. Она первая оправилась от потрясения, но что-то мешало подойти к лежащему. Всевозраставшая тревога за его душевное состояние подталкивала ее, и только приблизившись и склонившись над ним, она поняла, что ей мешало сделать это ранее: одежда осталась там, на берегу, а после схватки со Скорпионом на ней почти ничего не было. «Ах, какие же это пустяки, — подумала она, — по сравнению с переживаниями этого человека!» Сержант зябко вздрогнул от ее прикосновения.
— Что ж вы мучаете себя, милый? Не надо. Ведь все хорошо… — шептала она.
— Да как же я жить теперь буду? — спросил он тихо и отрешенно, даже испуганно.
— Не думай об этом сейчас, милый! Спи. Так и будем жить вместе. Ты и я. Так и будем…
Над островом стояла тишина.
Феодосия