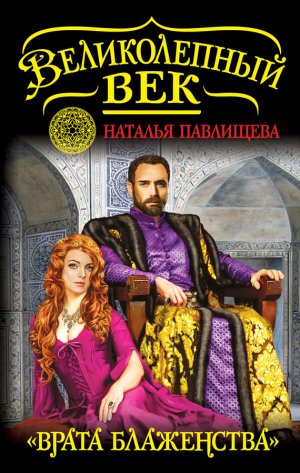
Ожидание
Как все же жестока жизнь! Поманит радостью, счастьем, поднимет на крыльях и сразу бросит вниз, чтоб не забывала, что все радостное преходяще, а страх, беспокойство, боль вечны…
Только что радовалась рождению сына, тому, что любимый назвал Хасеки – милой сердцу, близкой, тому, что Мехмед хоть и слабенький, но за жизнь цепляется, значит, жить будет. И Сулейман возвращался…
И вдруг беда – Мехмеда у нее забрали, негоже, мол, самой грудью кормить, обвиснет грудь. Валиде проще объяснила:
– Хочешь сама кормить – Повелителя тебе не видеть, твоя грудь немедленно вытянется, как уши старой собаки.
Никто из кадин детей не кормит, даже Повелителя кормила специальная женщина.
Все бы ничего, кормилицу нашли хорошую, да не одну, а целых трех привели, но Мехмед ни у одной грудь не взял! Плакал, криком исходил, но не сосал.
Роксолана умоляла дать ребенка ей, но повитуха твердила, что ребенок от ее молока и заболел, а потому мальчика нужно отдать кормилице.
Несчастная юная женщина не находила себе места, казалось, она сквозь стены слышала, как плачет ее маленький сын. У самой Роксоланы грудь готова лопнуть от молока, а ее ребенок голодает! Зейнаб, посоветовавшись с Фатимой, предложила выход:
– Хуррем. Давай-ка покажу, как грудь от молока освобождать.
– Зачем?!
– Чтобы она не начала болеть.
– Нет! – Роксолана прикрыла грудь руками. – Молоко пригодится Мехмеду.
– Пригодится, да только тебе сына не дадут. Давай лучше сцедим и в бутылочке кормилице передадим. Пусть хоть так попоит.
– А можно?
– Делай, как покажу.
Зейнаб действительно научила Роксолану сцеживать молоко в сосуд, потом его переливали в меньший и тайно под одеждой несли кормилице Мехмеда. Та качала головой:
– У госпожи столько молока, что сама могла бы быть кормилицей.
В материнском молоке смачивали кусочек мягкой ткани и давали сосать малышу. Тот замолкал…
Но все равно этого было мало, разве накормишь голодного ребенка вместо груди таким образом? Служанки боялись, что кто-то узнает, выболтает валиде или, хуже того, Махидевран. Сам крошечный Мехмед цеплялся за жизнь, но слабел с каждым днем.
Роксолана ждала возвращения Сулеймана из похода, словно манну небесную, и вместе с тем боялась. Возвращаться в Стамбул было опасно…
В 927 году хиджры (1521 г.) в Стамбуле не просто нежеланная, а ненавистная гостья, которая незваной приходит часто, – чума. Она почти каждый год собирает страшную дань. Оттоманы относятся к ней как к божьей каре, а потому не противятся.
Черное проклятье не миновало и дворец. И дань на сей раз была самой страшной – не стариков, не больных и слабых, не красавиц наложниц или изуродованных евнухов забрала чума, а султанских детей. Погибли сыновья Сулеймана. Фюлане, матери старшего из умерших принцев Махмуда, уже давно не было в живых, а вот мать Мурада Гульфем волосы на себе рвала, и не только от тоски по сыну, еще и потому, что становилась в гареме никем, со смертью сына обрывалась последняя нить, связывающая ее с Сулейманом.
Остался один Мустафа, сын Махидевран. После гибели братьев он единственный шехзаде, а его мать Махидевран мать единственного наследника. Баш-кадина вернулась во дворец, возразить никто не посмел. Валиде сразу почувствовала эту перемену, теперь Махидевран не так-то просто привести в чувство, она, словно застоявшийся конь, почувствовавший близость скачки, была напряжена и готова ринуться в бой.
Насидевшись в одиночестве в Старом дворце, Махидевран готова собственными руками задушить любого, кто встанет поперек дороги. Она притворно сочувствовала убитой горем Гульфем и плачущей о внуках Хафсе и при этом старательно прятала глаза, чтобы не заметили довольный блеск. Будущая валиде! Теперь никто не помешает. Даже если у десятка наложниц родится по сыну, ее Мустафа все равно старший, он будущий султан, а значит, она сама валиде!
Махидевран вернула себе положение баш-кадины, ходила по гарему почти хозяйкой, горделиво поглядывая на остальных и примечая, насколько низко наложницы и евнухи опускают головы. Хафсе почти не кланялась, только склоняла голову, как перед старшей женщиной. В каждом ее взгляде сквозило ожидание: скоро, совсем скоро она станет главной женщиной! Сулейман и без того любил Мустафу больше остальных сыновей, а теперь, когда тот остался единственным, вообще будет беречь и лелеять.
Сам шестилетний Мустафа горько плакал по умершим братьям, особенно по Махмуду, который был на три года старше и казался мальчику совсем взрослым. Да и маленького забавного двухлетнего Мурадика Мустафа тоже очень любил. Он понял, что что-то изменилось со смертью братьев, знал, что именно, но еще не сознавал этого до конца. Единственный… Для ребенка в шесть лет это еще означает просто своеобразное сиротство, он не понимал, почему у матери блестят глаза, когда она произносит это – «единственный наследник».
Пройдет совсем немного времени, и Мустафа осознает, что значит быть главным шехзаде. Единственным он был совсем недолго. 27 дня в месяце зуль-каада 927 года хиджры (29 октября 1521 г.) султан Сулейман объявил наследником и только что родившегося Мехмеда – сына Хуррем.
И снова Махидевран хлестала по щекам служанок за малейшие провинности или вообще без них, снова скрипела зубами. Ее триумф матери наследника испортила эта проклятая Хуррем, родившая щенка! Конечно, сама Махидевран была баш-кадиной, но сердце чувствовало, что рождение Мехмеда многое изменит. А когда от султана привезли написанный золотыми чернилами на лучшей бумаге фирман, в котором повелевалось называть шехзаде Мустафу и Мехмеда, а Хуррем Хасеки, несчастная Махидевран не могла даже порадоваться за сына, потому что Сулейман невиданно возвысил рабыню и ее ребенка. Это испортило радость от сознания, что Мустафа назван первым наследником.
Умом Махидевран понимала, что так и должно быть – два старших сына (а у Сулеймана просто не было других) становятся шехзаде, но то, что не ее, мать первого наследника, а Хуррем султан назвал «дорогой сердцу», приводило несчастную женщину в бешенство, не давало спать ночами, заставляло болеть сердце…
Валиде прекрасно понимала состояние невестки, сочувствовала той, а еще словно чувствовала свою вину, ведь именно она привела в гарем Хуррем. Но кто же мог знать, что эта худышка умудрится так надолго захватить сердце султана.
– Махидевран, успокой свое сердце. Назвать Хасеки – это еще ничего не значит. Ты мать наследника, сын Хуррем младший, и еще неизвестно, выживет ли.
– А что такое? – почти оживилась Махидевран, даже глаза заблестели.
Хафса поморщилась. Как бы то ни было, маленький Мехмед тоже ее внук, как и те, что умерли, как и Мустафа. Конечно, Мустафа красивый, умный мальчик, он будет прекрасным султаном в будущем, Аллах велик, он знал, кого из сыновей оставить в живых. И если не выживет маленький Мехмед, который не берет грудь кормилицы и все время плачет, такова воля Аллаха, не ей противиться.
И все же валиде не нравилось оживление Махидевран. Весь гарем заметил радость баш-кадины из-за смерти Махмуда, старшего сына султана, как ни старалась Махидевран спрятать свою радость, та сквозила в каждом взгляде. Хафса больше всего боялась, чтобы этот блеск в глазах не заметил Сулейман, тогда и Старым дворцом не обойдется, Махидевран прямой путь в кожаном мешке в воды Босфора, хотя Сулейман тоже больше любил Мустафу, чем своего первенца Махмуда.
Валиде вспоминала, как совсем юный отец (сколько было самому Сулейману, когда родился первенец, лет шестнадцать?) гордился сыном, ходил важным, точно павлин, только что хвост не распускал при каждой возможности. А вот родился и чуть подрос Мустафа, и отцовская любовь была отдана ему. Может, этого боится Махидевран, того, что маленький Мехмед отнимет у Мустафы хотя бы часть отцовской любви?
Но нельзя, чтобы наследник был один, хорошо, что у Хуррем сын родился, сыновей должно быть много… на всякий случай…
От мысли о том, что именно ждет всех этих сыновей, кроме того, который станет следующим султаном, Хафса даже вздрогнула.
Прадед нынешнего падишаха Мехмед Фатих (Завоеватель), тот, что расширил границы османов и завоевал вожделенный Константинополь, перенеся туда столицу и назвав город Стамбулом, узаконил страшный обычай братоубийства, используя изречение из Корана: «Безурядица пагубней убийства». О своем собственном семействе он выразился определенней:
– Лучше потерять принца, чем провинцию.
Жестокий закон, введенный Мехмедом, повелевал следующим правителям уничтожать всех родственников, могущих претендовать на престол кроме нового султана.
Первым, применившим этот закон, по иронии судьбы был сын Мехмеда, самый мирный из последующих султанов – Баязид. Баязид очень не любил воевать, он любил литературу, искусство и предпочел бы провести свой век в садах прекрасного дворца. Тем не менее не дрогнул, объявив своему брату Джему:
– Нет дружбы между царями.
Все же Баязид позволил Джему бежать сначала на Родос, а потом к папе римскому и долгое время платил европейским правителям за пребывание у них Джема на условиях почетного пленника с условием уничтожения в случае попытки бегства или опасности освобождения.
Последние годы тот жил у папы римского Александра (Родриго Борджиа), но когда разразилась война с французами, несчастного Джема нашли-таки способ устранить. Папа римский лишился важной статьи дохода, но поделать ничего не мог. Принц Джем умер то ли от яда, то ли от простой дизентерии.
Баязид не дрогнул и тогда, когда пришлось казнить двоих собственных сыновей. Два других давно умерли от болезней, еще один от пьянства. Но что делать с оставшимися тремя – Ахмедом, Коркудом и Селимом, султан просто не знал, вернее, ничего поделать не мог, да и невозможно отстаивать свою власть, сидя на шелковых подушках гарема вместо седла. Каждый из трех оставшихся в живых сыновей прекрасно понимал, что его ждет в случае прихода к власти брата, и каждый был готов принести братьев в жертву.
Братоубийственная война, столь осуждаемая другими народами, была для османов не столь уж страшна. И дело не только в разброде и возможности развала империи из-за борьбы за власть, дело еще и в том, что сыновья были рождены разными матерями, каждая из которых поддерживала стремление своего сына стать следующим султаном, потому что получала права главной женщины гарема. Султаны справедливо полагали, что жен у мужчины может быть целых четыре, наложниц сотни, а вот мать только одна, и потому именно матери доверяли управление огромным хозяйством, называемым гаремом.
Но чтобы стать первой женщиной гарема – валиде-султан, нужно привести к власти сына, прекрасно сознавая, что в случае неудачи участь будет незавидной…
Что стоили жизни чужих сыновей для женщин, у которых выбор был невелик – статус валиде-султан в случае прихода сына к власти, прозябание в Старом дворце, куда ссылали ненужных женщин, или в худшем случае кожаный мешок и воды Босфора. Можно ли их осуждать за то, что выбирали первое? А неизбежные жертвы в виде соперников и их детей новых валиде волновали мало, ведь это были чужие дети и внуки. И даже когда султан уничтожал собственных сыновей, его мать волновалась мало, внуки всегда оставались еще. Сами внуки тоже мало считались бы с бабушкой…
Зато империя оставалась целой и продолжала расширять свои границы. А принцы?.. Мехмед Фатих знал, какой закон утверждать.
К тому же одной наложнице полагался всего один сын, это дочерей могло быть сколько угодно. Султаны уже перестали жениться, предпочитая не иметь законных жен, а в гареме держать наложниц. Так проще, наложницу за любую провинность можно отправить в кожаном мешке в Босфор, а за жену придется объясняться с ее родственниками. Наложницы, родившие султану детей, становились кадинами – не венчанными женами. Мать старшего из них была баш-кадиной и будущей валиде.
Пока наследник мал, султан мог быть спокоен, но как только шехзаде становился достаточно взрослым, чтобы меч Османов, которым опоясывали нового султана в знак восхождения на трон, не волочился за шехзаде по полу, наследник и его мать становились по-настоящему опасны для правящего султана. Пусть не они сами, но стоящие за ними силы вполне могли решить, что пришел их черед править.
К тому времени, когда очередной шехзаде становился султаном, его старшие сыновья уже крепко сидели в седле. Принимая меч Османов, обычно уже очень взрослый султан вполне мог опасаться мятежа со стороны сыновей.
Хотя правили султаны все равно подолгу – Мехмед II тридцать лет, Баязид тридцать один год.
Три оставшихся в живых сына султана Баязида не стали ждать, когда их отец отойдет в мир иной добровольно, они сцепились за власть уже при его жизни. Сам отец больше тяготел к старшему – Ахмеду, двое других братьев – Коркуд и Селим – были с этим не согласны.
Селим поднимал мятеж против отца дважды и вынужден был даже бежать от отцовского гнева в Крым. Довольно долгое время до того Селим управлял Трапезундом, потом балканскими провинциями Османской империи, был силен, опытен и жаждал власти. После первого мятежа, когда небольшое войско Селима было наголову разбито огромным войском Баязида, Селим кое-что понял: дело не только в желании взять власть, не только в мощи собранной армии и поддержке тестя – крымского хана Менгли-Гирея, на дочери которого Айше Хафсе был женат Селим, но и в поддержке янычар, то есть тех, кто составляет основную силу собственно султана. Султан тот, кого поддерживают янычары.
Кто подсказал Селиму важность подкупа и обещаний янычарам, неизвестно, но буйное войско и впрямь поддержало именно этого сына Баязида, когда тот предпринял новую попытку захвата власти в 918 году хиджры. В таком случае собирать войско было бесполезно, Баязид прекрасно осознал положение дел и добровольно отрекся от престола в пользу Селима.
Это было невиданно, никогда прежде султан не отказывался от власти сам, к тому же не объявлял об этом вот так: с балкона криком на всю площадь, где собрались янычары. Седьмой день месяца сафар 918 года хиджры (24 апреля 1512 г.) стал триумфом Селима, который, опоясавшись мечом Османа, стал девятым султаном Османов и третьим правителем османского Стамбула.
Но меч Османа это еще не все, султан Селим прекрасно понимал, что пока жив отец и братья, покоя не будет. Сознавал ли Баязид, что сын, с которым он не виделся больше четверти века, предпочтет не иметь столь опасных родственников? Наверное, и все же он попросил разрешения уехать в родовое имение Димиотику. Селим, только что притворно предлагавший отцу вообще остаться в Стамбуле, благосклонно разрешил, даже подготовил огромный обоз, собрав все вещи, которые были дороги лично Баязиду, и проводил отца до городских стен.
Но доехать бывший султан смог только до Чорлу. Через месяц после своего отречения в пользу сына отец скончался в ужасных муках, якобы от кишечных колик. Те, кто неосмотрительно говорил, что колики вызваны лекарством, которое дал бывшему султану врач Хармон, приставленный к Баязиду по приказу Селима, говорить быстро перестали вообще, лишившись языков, а то и голов, в которых те помещались.
Селиму было сорок два, и, взяв власть, он вовсе не собирался ее с кем-то делить. Недаром отец, отказываясь от жизни в Стамбуле рядом с новым султаном, сказал:
– Двум мечам в одних ножнах не бывать…
Теперь предстояло разобраться с братьями и племянниками. Коркуд попробовал бежать, но был пойман и казнен. Перед смертью он целый час писал брату трогательное письмо в стихах, но милости не просил, прекрасно понимая, что отец был прав, говоря о двух клинках в ножнах. Селим, прочитав это послание, даже прослезился и объявил всеобщий траур по казненному.
Это не помешало ему преследовать и Ахмеда. Тот в поэзии не был силен, но отправил на память новому султану перстень, стоимость которого превышала годовой доход с Румелии. Султан впечатлился меньше, траура не было…
За двумя братьями последовали шесть племянников, а затем… трое собственных сыновей – Абдулла, Махмуд и Мурад!
Вот теперь у Селима оставался только один Сулейман. Десять дочерей, пятеро из которых уже были замужем за пашами, не в счет, кто их считал, этих дочерей…
Поговаривали еще об одном сыне – Ювейс-паше, рожденном наложницей, которую Селим щедрой рукой подарил одному из визирей уже беременной, но этого Селим сыном не признавал. Ювейсу повезло, именно отцовское презрение спасло жизнь.
Сулеймана Селим оставил в живых то ли считая самым безобидным, то ли потому, что был очень обязан своему тестю, крымскому хану Менгли-Гирею, поддержавшему в трудную минуту зятя, бунтовавшего против отца. К тому же Селиму был нужен хоть один наследник. Султан оставил наследника наместником в Манисе, куда его определил еще дед, султан Баязид, набираться опыта правления. Это было вполне привычным делом, шехзаде с отроческих лет учились правлению как можно дальше от столицы, так безопасней для правящего султана…
Сулейман, рожденный Хафсой еще в Трапезунде, тогда стал единственным шехзаде, а его мать Айше Хафса баш-кадиной султана. Мать самого бунтаря Селима Айше-Хатун пробыла валиде-султан недолго, скончалась меньше чем через два года после его восшествия на престол. Селим вызвал в Стамбул Хафсу и поручил гарем ей. Не валиде, но главная женщина гарема – тоже неплохо.
Сложность для Хафсы оказалась в том, что сам Селим давно перестал интересоваться женщинами, хотя некогда даже стихи писал, очарованный прекрасными глазами возлюбленной (не Хафсы). У султана были совсем иные пристрастия и интересы. Взамен женского гарема, который он теперь не посещал вовсе, Селим завел себе гарем из мальчиков, к тому же кастрированных.
Только сама Хафса знала, каково это – испытывать такое унижение и жить в постоянном страхе за свою жизнь и жизнь сына. С другой стороны, именно отсутствие у Селима сыновей определенно сохраняло жизнь Сулейману. Присутствие Хафсы в Стамбуле, а не рядом с сыном давало Селиму определенные преимущества, сын и мать становились словно заложниками. Стоило Сулейману предпринять что-то против отца, как пострадала бы Хафса. Селим знал, как любит и ценит Сулейман мать, прекрасно понимал, что тот не сделает и шагу для захвата власти, опасаясь за ее жизнь.
Восемь лет правил Селим, прозванный Явузом – Свирепым, Непримиримым, Грозным. Его суровая наружность и строгий, пронзительный взгляд внушали окружающим почти священный ужас, Селима боялись все – от визирей, которых тот казнил, едва успевая запомнить имя, до дворцовых слуг. Боялись и европейские правители тоже, потому что этому султану дома не сиделось, он воевал и с коня на землю спускался редко.
Однажды Селим сказал Сулейману, что султан, который предпочитает седлу подушки, быстро теряет все. Сам Селим терять власть не собирался, его нога всегда была в стремени. Он взял Каир, одолев мамелюков, и привез в Стамбул последнего халифа Аль-Мутаваккиля и священные реликвии, означающие верховенство в мусульманском мире.
Внешне все выглядело вполне пристойно и даже красиво, султан построил специальный павильон, получивший название павильона Священной Мантии, содержал халифа в достойных условиях, как соловья в золотой клетке. Сообразительный халиф не возражал, когда Селим объявил себя «Служителем обоих священных городов», то есть новым халифом. Это сохранило Мутаваккилю жизнь, после смерти султана он смог даже вернуться в Каир и прожить там еще двадцать три года. Мутаваккиль не вспоминал о том, является ли халифом, предпочитая сохранить язык и жизнь, но османские султаны считали таковыми себя. Это должно было давать им духовную власть над мусульманским миром. Но если таковая и была, то принесена скорее оружием, чем слабостью духа последнего из Аббасидов Мутаваккиля.
Через восемь лет, когда подготовка к новому походу слишком затянулась, Селим решил отложить его до следующего года, а сам отправился в Эдирне на отдых. Но доехал он только до… Чорлу, где внезапно заболел и, промучившись на смертном одре шесть недель, скончался в девятый день шавалля 926 года хиджры (22 сентября 1520 г.).
Бывший рядом с ним Ферхад-паша на время скрыл от всех смерть султана, чтобы дать Сулейману время прибыть из Манисы в Стамбул и принять власть.
Сулейман стал новым султаном, а Хафса – валиде-султан.
Новый султан отличался от прежних тем, что был молод – всего двадцать шестой год, а еще он не имел соперников, его дед и отец постарались за Сулеймана. Десятому султану Османов не пришлось казнить своих братьев или племянников, может, потому европейские монархи так обрадовались, уверенно заявляя, что на троне взамен льва ягненок. В Европе служились благодарственные молебны в честь смерти Селима Явуза, правители радовались, надеясь, что османская угроза миновала.
Но уже в следующем году оказалось, что радость преждевременна, Сулейман продолжил дело прадеда и отца, уже в следующее лето он двинулся на Белград, свершив то, что не смогли до него. «Ягненок» взял Белград, повергнув Европу в шок!
У Сулеймана ко времени вступления на престол были три сына, но чума, пришедшая в Стамбул, когда он был под Белградом, унесла жизни всех, кроме Мустафы. Родившемуся Мехмеду султан радовался от души, даже потеря других сыновей не смогла умалить эту радость.
Неписаный закон велел отстранить от султана родившую Мехмеда Хуррем, наложница становилась кадиной, но не должна иметь доступ в спальню Повелителя.
Такое положение дел мало волновало валиде, но очень нравилось Махидевран, которая стала баш-кадиной бесповоротно, потому что была матерью старшего из сыновей, да и саму Хуррем, которая не очень задумывалась о своем новом положении, ее куда больше волновал Мехмед. Сынишка категорически не желал брать грудь ни одной из кормилиц, он кричал, требуя материнского молока. Втайне от Хафсы (вернее, та делала вид, что ничего не знает) Роксолана стала сцеживать свое молоко и передавать его кормилице, которая обмакивала в молочко кусочек ткани и давала малышу его сосать. Только это и спасало маленького принца от голодной гибели, но малыш слабел, ему нужна была материнская грудь.
Все мысли Роксоланы были заняты только Мехмедом, она не могла думать ни о чем и ни о ком другом, кроме разве Сулеймана. Только бы сын дожил до возвращения отца, Роксолана верила, что Сулейман спасет мальчика.
Хафса злилась на упорного младенца и его не менее настырную мать. Но постепенно помимо ее желания приходило уважение. Сначала к ребенку, который отчаянно боролся за жизнь, потом к его матери, которая не менее настойчиво пыталась ему помочь. Валиде не могла понять, ведь для Хуррем было выгодней, чтобы сын не выжил, тогда оставалась надежда задержаться подле султана.
– Самира, на что она надеется?
Хезнедар-уста, главная помощница и хранительница тайн Хафсы еще со времени Трапезунда, вздыхала:
– Госпожа, мне кажется, что она действительно любит Повелителя. И хочет, чтобы ее сын выжил. В этой девочке пока нет стремления к власти.
Валиде тоже вздыхала:
– Пока нет, потом появится. И что-то подсказывает мне, что эта женщина сумеет взять в свои маленькие ручки не только сердце моего сына, но и всю власть при нем.
– Разве это плохо? Она умней Махидевран и Гульфем, схватчива, разумна, когда требуется, умеет учиться…
– Разве женщине нужен такой ум?
– Вай, госпожа, а не вы ли твердили, что именно умной женщины не хватает при вашем сыне, и не вы ли всегда хвалили Нур-Султан за ее ум?
Хафса морщилась от правоты Самиры, возражала, только чтобы возразить:
– Для гарема вовсе не такой ум нужен. А в государственных делах у Сулеймана и без этой девчонки советчиков хватит. Да и не нужны ему советы.
Хезнедар-уста хотела возразить, что отцу Хафсы крымскому хану Менгли-Гирею тоже ума не занимать, однако помощь умной Нур-Султан вовсе не помешала, да и Хафсе с Селимом тоже. Не соболя ли, присланные другом Нур-Султан московским правителем Иваном, отправленные потом в Стамбул в подарок любимым женам султана Баязида, помогли Селиму получить отцовское прощение за первую попытку бунта?
Но говорить об этом не следовало, совсем не следовало. Самира прекрасно знала, что Хафса все помнит и понимает и сама, а если не желает вспоминать, значит, и напоминать ни к чему.
Это было так, крымский хан Менгли-Гирей взял в жены уже дважды овдовевшую Нур-Султан по совету московского князя Ивана III. Ногайская красавица побывала женой казанского хана Халиля, но даже ребенка от него родить не успела – овдовела. Став следующим ханом, брат умершего Ибрагим по наследству получил и его супругу. Юная Нур-Султан была так хороша и разумна, что легко затмила всех красавиц гарема и родила двух сыновей и дочь Гаухаршад.
Ибрагим прожил тоже не слишком долго, а пришедший после него к власти в Казани Ильхам, сын старшей жены хана, терпеть не мог молодую мачеху. Пришлось вдове с сыновьями удирать в Москву под крыло великого князя Ивана III. Вот тогда князь и решил, что крымскому хану Менгли-Гирею не хватает именно такой разумной жены. Прожив несколько лет в Москве, Нур-Султан оставила сына на попечении Ивана III и отправилась к Менгли-Гирею в Бахчисарай.
Хафса помнила ее появление в гареме отца, самой дочери Менгли-Гирея тогда шел седьмой год. Она не считала новую ханшу красивой. К тому же Нур-Султан не была молодой, ей больше тридцати лет, два взрослых сына, старший из которых успел побывать, хоть и очень недолго, казанским ханом, свергнув Ильхама. С собой новая мачеха привезла младшего из сыновей Абдул-Латифа.
Нур-Султан не шла ни в какое сравнение с матерью Хафсы, очень красивой, но безвольной полькой. Она умудрилась настоять на официальной женитьбе Менгли-Гирея на себе, вернее, не согласилась быть в его гареме просто наложницей. Ей, дважды ханше и бывшей ногайской царевне, не пристало становиться рабыней даже крымского хана.
Менгли-Гирей женился.
Хафса испытывала к мачехе двоякое чувство, с одной стороны, как все женщины гарема, она ненавидела эту, как ее называли, зазнайку, ведь никому другому не удавалось женить на себе хана, все оставались на положении наложниц. Презирала из-за отсутствия яркой красоты, невысокого роста и щуплости. Считала колдуньей, не веря, что женщина в тридцать пять лет, не применяя колдовство, может очаровать мужчину, имеющего гарем из красавиц, настолько, чтобы тот предпочел ее остальным.
Ненавидела и восхищалась, потому что сама, будучи неглупой, быстро поняла, в чем колдовство Нур-Султан. Мачеха показала пример того, что женщина может быть неотразимой в любом возрасте, имея ум и обаяние. Даже шипевший вслед гарем в присутствии Нур-Султан попадал под ее чары и становился шелковым.
Нет, ханша вовсе не стала устанавливать в гареме свои порядки, соперницы для нее словно не существовали, Нур-Султан жила ханом Менгли-Гиреем и своими сыновьями.
Как Айше Хафса мечтала стать такой же – женщиной, которой подвластно все! Тайно наблюдала за мачехой, норовила оказаться поближе, чаще видеть, больше слышать, хоть чему-то научиться. Как ей хотелось иметь такую мать! Но Нур-Султан, казалось, не замечала девочку. Да и как заметить, если в гареме их столько!..
Ханша была столь умна и деятельна, что Менгли-Гирей предпочел переложить на ее плечи многие из собственных дел. Нур-Султан куда лучше хана умела договариваться с правителями других стран, особенно с теми, от кого Крымское ханство поневоле тогда зависело, – со Стамбулом и Москвой. Менгли-Гирей передоверил дипломатическую переписку ханше. Из Москвы и Казани в Бахчисарай везли соболей, ловчих птиц, клыки невиданных северных зверей, которые столь ценили костерезы. Обратно следовал жемчуг, иноходцы, красивое оружие… Потом часть мехов отправлялась в гарем Топкапы, а птицы султану…
Пришло время, и ханша заметила красавицу Хафсу. Заметила, когда понадобилось срочно найти жену принцу Селиму. У Селима уже был гарем и дети, но умная Нур-Султан сделала для Хафсы то, что сделала для себя, – Селим женился на дочери Менгли-Гирея. Это ставило Хафсу в особое положение, куда девалась наложница, никто не спрашивал, а вот за жену пришлось бы отвечать. Но это же в 898 году хиджры (1493 г.), году их свадьбы, было смертельно опасным.
Во-первых, Селим не старший и не любимый сын султана Баязида, стать следующим султаном он мог едва ли. Во-вторых, принц был в опале, ему пришлось бежать от гнева отца в Крым, и возвращение грозило смертью. В-третьих, сам Селим не обладал тихим и даже сносным нравом, становиться его женой само по себе значило навлекать на свою голову трудности.
Но выбора у Хафсы просто не было, а Нур-Султан спокойно обещала, что султан Баязид Селима простит, а со временем сам Селим станет султаном вопреки любым доводам здравого смысла.
Хафсе казалось другое – Нур-Султан просто решала свои вопросы, используя ее, к тому же четырнадцатилетняя красавица приглянулась младшему сыну Нур-Султан Абдул-Латифу. Нур-Султан, мечтавшая о совсем другом браке для сына, предпочла отдать ее Селиму.
Но слово свое Нур-Султан сдержала, Хафса не знала всех тайных путей, по которым двигалось золото и дорогие подарки из Бахчисарая в Стамбул, но Селим стал султаном, а дочь Менгли-Гирея главной женщиной империи.
Еще об одной помощи Нур-Султан лично себе и об их последней встрече в Трапезунде Хафса никогда не вспоминала даже наедине с собой, чтобы не проговориться. Только Самира знала эту тайну, но на эту помощницу Хафса могла положиться, как на саму себя, Самира скорее позволила бы отрезать себе язык, чем проболтаться. Более четверти века молчания не вычеркнули из памяти прошедшее, но спрятали его так глубоко, что оно больше не тревожило Хафсу.
Самира догадывалась, почему так ревниво относится госпожа к Хуррем. Слишком та похожа на Нур-Султан. Нет, не внешне, хотя и это было, ведь Хуррем так же мала ростом и тоже щуплая, но главное – какая-то внутренняя сила и необычный ум. У самой Хафсы ум иной, она скорее хитра, Хафсу не тянуло к наукам, хотя образование получено прекрасное, Менгли-Гирей сумел развить своих детей. Валиде предпочитала править гаремом и не всегда понимала Нур-Султан, для которой мир дворца был слишком мал.
Хафса признавала мир за пределами дворца и интересовалась им, но не всем же! Она всегда сознавала, что не смогла бы так, как Нур-Султан, переписываться с правителями других стран, спокойно разъезжать по чужим землям, она даже на хадж никогда не решилась бы. А вот Нур-Султан решилась.
И теперь Хафса чувствовала, что вот эта зеленоглазая худышка тоже решилась бы. Именно Хуррем могла бы стать настоящей ученицей Нур-Султан. Кстати, дочь самой Нур-Султан принцесса Гаухаршад уже была соправительницей в Казанском царстве. Женщина во главе правительства… Нет, уж лучше во главе гарема. Вот гарем Хафса держала твердой рукой. И в глубине души завидовала Хуррем, у которой видела вот эту способность – стать соправительницей.
– Нет уж, только после моей смерти!
Хафса и сама не могла объяснить, почему вдруг родился такой протест. Самира осторожно заглянула в лицо госпожи:
– Что после вашей смерти?!
– Она получит Сулеймана только после моей смерти.
– Вах! О чем вы думаете?! Какой Сулейман? Ну, стала Хуррем кадиной, так ведь не первой и не матерью наследника.
Хафса дала себя убедить, что ничего особенного даже в том, что Повелитель назвал Хуррем Хасеки, нет, сегодня она Хасеки, завтра другая, это же не официальный брак. Но в глубине души прекрасно понимала, что в ожиданиях права – восхождение Хуррем к вершинам власти, причем власти большей, чем есть у нее самой, только начинается.
Самира уже старательно подоткнула одеяло под бока госпожи, тихонько устроилась в углу и принялась сопеть, делая вид, что спит, потом действительно заснула, а Хафсу все мучили все те же мысли.
Она очень долго шла к своему положению главной женщины империи, сначала дрожала от страха за свою судьбу и судьбу детей в Трапезунде, потом за сына в Манисе, потом за него же, но уже правя гаремом в Стамбуле. И вот она год как валиде-султан. Всего год или целый год? Неважно, главное, что на эту власть покушается зеленоглазая девчонка с крупной грудью и непонятной тягой к мужским знаниям.
На какую власть, ведь валиде была и есть главная женщина для султана, Сулейман чтит обычаи, для него мать важнее всех жен, вместе взятых. К тому же на власть в гареме Хуррем явно не претендовала, даже родив сына, она не зазнавалась, а наоборот, еще больше от всех отдалилась. Отпусти, так вовсе переселится в Старый дворец, только чтобы со своим сыном.
Неужели глупая не понимает, сколь непрочно положение наложницы, даже родившей ребенка? К тому же Мехмед очень слаб, долго не проживет.
Тогда почему же так боится власти этой зеленоглазой Хафса? И какой власти, если у Хуррем нет никакой, разве что над своими служанками?
Хафса честно призналась сама себе: власти над сердцем Сулеймана. Зеленоглазой худышке безраздельно принадлежит та часть души султана, которая неподвластна никому другому, среди всех красавиц гарема, даже если их станет в сто раз больше, Сулейман все равно выберет эту, не самую красивую. Хафса понимала, что может уничтожить эту женщину, приказать отравить, обвинить в измене, в чем угодно, но ни вытеснить ее из души Повелителя, ни заменить не может.
Как любая мать, Хафса не желала влияния на своего сына другой женщины, тем более когда сын султан, Повелитель огромной империи. Как всякой матери, тем более сделавшей для своего сына очень много, она не желала делить его успех с кем-то, желала быть единовластной хозяйкой сыновнего сердца. Одно дело властвовать на ложе, Сулейман сильный мужчина, ему нужны женщины, должны рождаться внуки, но совсем иное власть над разумом и волей султана.
С властью другой женщины над телом Сулеймана Хафса согласна не только мириться, но и принимала ее, а вот власть над душой и мыслями, если таковые не о страстных объятиях, признавать не желала.
Хафса была честна с собой и пыталась разобраться, почему Хуррем вызывает у нее ревнивое отторжение. Нет, не было ненависти или откровенной неприязни, было именно ревнивое неприятие юной женщины. Почему?
Красива? Да, в гареме некрасивых просто не бывает. Но есть те, у кого красивей черты лица, стройней фигура, гибче стан, выше рост, больше глаза, изящней руки… Нет, не этим покорила Хуррем Сулеймана. Когда султан прислал фирман, назвав Мустафу и Мехмеда шехзаде, а Хуррем Хасеки, по гарему поползли слухи, что наложница околдовала Повелителя. Умная Хафса прекрасно понимала, что это не так, то есть Хуррем околдовала Сулеймана, но вовсе не зельем, не любовным приворотом, а чем-то иным, но валиде были выгодны слухи, и она не опровергала нелепости.
Самира замечала размышления госпожи, а также то, в чем Хафса не желала сознаваться даже самой себе, хезнедар-уста ждала, когда валиде пересилит сама себя и честно признает, чем Хуррем взяла султана.
Хафса в очередной раз тихонько перевернулась с боку на бок. Лежать на левом боку не позволяла боль под ребрами, много лет переживаний сказались на сердце валиде, под левой грудью все чаще и чаще болело, иногда даже темнело в глазах, не хватало воздуха…
Она притихла, прислушиваясь. Все посапывали. Хафса тихонько вздохнула, и вдруг со стороны матраса, на котором лежала Самира, донесся шепот:
– Она просто умней остальных, но не женским, не хитрым умом.
Хафса вздрогнула, хезнедар-уста произнесла то, что понимала и сама госпожа, но не желала признаваться себе. Не нужно объяснять, о ком речь, конечно, о Хуррем, старая служанка, столько лет проведшая рядом с госпожой, прекрасно понимала, о ком тайные вздохи валиде.
– Ты не спишь?
– Нет. А почему вы не спите? Что плохого в том, что Хуррем не такая, как все? Она не баш-кадина и ею не будет. И власть в гареме для нее не важна…
– Не важна… – усмехнулась Хафса. – Это пока. Пока такой власти у нее нет.
– И не будет. Повелитель чтит традиции и законы, Хуррем может стать баш-кадиной, только если Аллах заберет и Мустафу тоже.
– Хай Аллах! О чем ты?!
– К тому же Мехмед должен выжить, а он очень слаб. Госпожа, не перечьте Повелителю, он все равно сделает по-своему, а на вас затаит обиду. Эвел Аллах, все наладится. Разве не так же опасно казалось, когда Махидевран завоевала сердце Повелителя? А когда Гульфем стала его возлюбленной?
– Нет, тогда было иначе…
– Наверное, но против идти все равно не стоит.
– Ты права.
Хафса еще долго лежала в темноте, тихонько вздыхая. Старая Самира все верно сказала, Сулейман все равно сделает по-своему, если решит приблизить к себе Хуррем, то приблизит. Но Самира права и в другом – султан привержен закону, он не пойдет против. А закон твердит, что шехзаде – Мустафа, а его мать Махидевран баш-кадина.
Что ж, чему быть, того не минуешь. Но правильно говорят: крепость берут изнутри, не можешь ее штурмовать, сделай вид, что не собирался этого делать, и подожди, пока откроют ворота. Может, Самира права, с Хуррем лучше подружиться и тихонько понаблюдать, чтобы понять, так ли она разумна и, главное, насколько опасна. А вот идти против воли Сулеймана нельзя, он не терпит противоречивых. Испорченные однажды отношения восстановить будет трудно.
Рассвет застал Хафсу в полудреме, она только начала засыпать. Самира, которая все это время лежала, стараясь вовсе не дышать, наконец смогла повернуться на другой бок.
Не зря госпожа боится, эта Хуррем еще себя покажет, хезнедар-уста в этом не сомневалась. Когда Повелитель стал проявлять слишком большой интерес к девчонке, Хафса поручила Самире внимательно понаблюдать за ней. Но султан вскоре ушел в поход, и все, казалось, разрешится само собой. Повитуха, наблюдавшая за Хуррем, сказала, что будет мальчик. Это означало, что ее время в спальне Повелителя закончено, а сын не старший.
Но Бог решил иначе, из сыновей Сулеймана остался только Мустафа, а Хуррем родила Мехмеда. К тому же сам султан назвал ее в фирмане Хасеки – близкой к сердцу. Пока Хуррем ходила беременной, Хафса поручила верной Самире узнать от Зейнаб о Хуррем все.
Когда-то, много лет назад, когда Хафса и Сулейман жили еще в Трапезунде, Зейнаб была среди служанок Хафсы. Но женщина никогда не была рабыней и с Хафсой в Манису не поехала, а вот в Стамбуле объявилась снова. Увидев Зейнаб, Хафса даже обрадовалась:
– Пойдешь ко мне служить?
Та пожала плечами:
– Я лекарством занимаюсь.
– Вот и хорошо, мне такая очень нужна.
Но Зейнаб и теперь предпочла свободу, она приходила и уходила, когда хотела, потом умудрилась подружиться с Фатимой и просто прилипла к ее подопечной. Теперь обе старухи жили в крохотной комнатке у Хуррем, опекая наложницу так, словно она была их внучкой.
Хафса задала вопрос Самире:
– Почему? Узнай, что такого они нашли в этой девчонке.
Хафса хорошо знала обеих женщин, они просто так кого-то опекать не будут. А ведь Фатима даже уходила от Хуррем, но вернулась. Значит, не так проста эта роксоланка.
Самира не раз пыталась разговорить Зейнаб, та в ответ только усмехалась:
– Эта женщина такая же, какой была Нур-Султан.
– Мечты – богатство бездельников, – фыркала Самира. – Твоя Хуррем никто!
Зейнаб в ответ усмехалась:
– Время покажет. А твоя госпожа зря беспокоится, Хуррем ей не помеха.
– Кто тебе сказал, что госпожа беспокоится?
– А то нет?
– Беспокоится, конечно, ей не все равно, кто будет матерью внука.
– Аллах дает науку тому, кто просит, а ум – тому, кто сам захочет.
– Э, нет, говорят не так! А богатство – тому, кто сам захочет. Вот как.
– А ум не богатство, скажешь? Самое большое богатство, потому что глупая курица и красивый гребень петуху поносить дала, да об этом забыла, и снесенное яйцо у нее отбирают, потому что кудахчет по глупости, в суп первой попадает. А умная серенькая птичка и птенцов высиживает, и до старости живет.
– Вах, вах, раскудахталась! Что такого есть в твоей Хуррем, чего нет в других? Мало ли умных женщин в гареме?
– Умных, да не таких. А в ней готовность учиться и меняться, если нужно.
– Вороне ее птенец соловьем кажется. Не тверди о сухой лепешке, что это мед, не то уста слипнутся.
– Ничего, еще увидите…
Так ни о чем и не договорились.
Роксолана держалась чуть в стороне, это совсем не нравилось валиде. Издавна в гаремах было правилом не оставлять наложниц одних. Девушки и женщины, даже став гезде или кадиной, все равно все делали на виду друг у дружки. Они вместе ели, а кадина на глазах у служанок, вместе гуляли, много болтали… Так спокойней, когда разговор общий, пусть он глупый или завистливый, невозможно не выболтать самое сокровенное.
Хуррем даже если рядом с другими, то все равно одна. Часто она просто не слышала, что говорят остальные, витала в облаках собственных мыслей, если спрашивали – отвечала, просили прочесть стихи – читала, но не больше. Была ли веселой, смешливой? Скорее такой казалась.
Но еще чаще она под каким-то предлогом старалась держаться отдельно – гуляла по саду в сопровождении Гюль, сидела под наблюдением кизляр-аги в покоях султана за книгой, ухаживала за цветами в саду.
Это не могло нравиться валиде, женщина, которая сторонится остальных, может думать о чем угодно. Но поделать Хафса со строптивой наложницей ничего не могла, та не нарушала основных требований, а свои долгие прогулки или сидения за книгами объясняла просто: читать разрешил Повелитель, а во время прогулок ребенок меньше толкается, ему легче, когда она ходит.
После рождения Мехмеда Хуррем и вовсе стало не до остального гарема, особенно когда малыша у нее забрали и мальчик отказался брать чужую грудь.
Конечно, Хафса могла разрешить строптивой мамаше самой кормить ребенка, но почему-то противилась этому изо всех сил, даже понимая, что внук голодает. Почему? Словно чувствовала, что, победив в одном, Хуррем сумеет одержать верх и в остальном.
Но валиде не жестокая, она сделала вид, что не догадывается, что Хуррем сцеживает молоко и Мехмеда кормят им. Однако долго такое продолжаться не могло, ребенку нужно нормальное кормление, а не слабое его подобие. Зейнаб уже решила идти к Хафсе и требовать, чтобы та перестала мучить внука и позволила Хуррем кормить самой, понимала, что после того валиде выставит ее из гарема, потому и оттягивала такой разговор. Но тут пришло известие, что султан возвращается.
Хасеки
Сулейман вернулся в Стамбул почти тайно, оставив войско позади. Переправился во дворец со стороны запасного входа, ближе к гарему. Отмахивался от любых уговоров Ибрагима показаться народу. Душа не лежала красоваться перед ревущей толпой, когда в семье горе.
Да и не в одной султанской семье, чума всегда выкашивала много народа. И Европа, и Азия страдали одинаково, считая болезнь карой Божьей. В Европе после очередной эпидемии тоже почти пустовали города.
Приехав, долго сидел, не допуская к себе никого. Да, любимым сыном у султана был Мустафа, а не умершие Махмуд и Мурад, но все равно это сыновья, к тому же Махмуд старший. Болезнь забрала сыновей взамен успехов на поле боя, тяжелая жертва…
В гареме знали, что Повелитель во дворце, все ждали его появления или вызова к себе.
В напряжении сидела Хафса, она словно замерла, привычно прислушиваясь к тишине гарема. Что скажет Сулейман, укорит ли за то, что не сберегла сыновей? Кто знает, в чем нажаловалась ему эта Хуррем, ведь как только взяла к себе переписчицу, так гонцы устали мотаться к султану и обратно с ее посланиями.
Укоров из-за смерти сыновей Хафса не боялась, к смерти все привыкли, ее воспринимали как неизбежное зло. Так привыкают к гибели на поле боя, прекрасно зная, что ни одна битва, ни один штурм не обойдется без жертв. Так и чума, она всегда собирала страшный урожай, плохо, что на этот раз ее страшной жатвой стали принцы, но в этом нет вины валиде. И все же Хафса была напряжена.
Она прекрасно понимала почему – из-за Хуррем и ее Мехмеда, но даже самой себе не желала в этом признаваться.
Словно тигр в клетке металась Махидевран, служанки тихонько стояли у двери, боясь поднять на госпожу глаза, но та словно никого не замечала. Так и было, Махидевран вернулась во дворец самовольно на положении баш-кадины и теперь просто боялась, что скажет Повелитель. Одно дело надменно смотреть на служанок и даже усмехаться в лицо валиде, но совсем другое смело глянуть в глаза султану.
Вдруг женщина поняла, что нужно сделать:
– Эй, немедленно приведите ко мне Мустафу!
Да, рядом с сыном, тем более единственным, Повелитель не сможет прогнать ее обратно.
Махидевран не желала принимать в расчет маленького Мехмеда, щенок, рожденный этой тощей нахалкой, едва жив, долго не протянет. Мустафа главный шехзаде, он наследник и должен быть единственным наследником! Инш Аллах! Бог желает этого!
Мустафу привели, мальчик тревожно смотрел на мать:
– Мама, папа приехал?
– Да, он скорбит по твоим умершим братьям. Скоро позовет и нас с тобой.
– А Мехмедик все плачет?
Махидевран с недоумением смотрела на сына. Мустафа добрый, но всему же есть предел. Интересоваться здоровьем щенка Хуррем?.. Это слишком даже для доброго Мустафы. Сама она интересовалась, но сквозь притворное сочувствие сквозила такая радость по поводу бесконечного плача Мехмеда, что все торопились спрятать глаза.
Повелитель не звал…
Хафса не выдержала первой… На правах матери, скорбящей по потерям своего сына, она отправилась к султану сама.
– Валиде… – Сулейман склонился к ее рукам, целуя. Хафса обрадованно прижалась губами к его макушке. Сын есть сын, а мать – это мать, и никакие наложницы не заменят им друг друга. – Я рад, что вы пришли, уже хотел приказать кизляр-аге, чтобы просил вас об этом.
– Я боялась нарушить ваше скорбное одиночество, Повелитель.
– Инш Аллах! Такова воля Аллаха, что можно поделать?
– Вы вернулись домой здоровым, это главное. Эвел Аллах!
– Да, жизнь продолжается. Как Мустафа?
– Ваш сын здоров и весел, он плакал из-за смерти братьев, но уже пережил это.
Хафса напряженно ждала вопроса о Махидевран, она не сомневалась, что кизляр-ага уже доложил Повелителю о ее возвращении, но Сулейман не спрашивал. Как не интересовался и родившимся у Хуррем сыном.
Что это значило? Хафса прекрасно знала, что после появления в гареме султан не виделся ни с кем из женщин. Почему он не интересуется Хуррем, неужели фирман о ее названии Хасеки был просто душевным порывом? Где-то в глубине души шевельнулась даже жалость к зеленоглазой глупышке, счастье которой оказалось столь коротким. Ее сын долго не протянет, Мехмед слабеет с каждым днем, если Повелитель не интересуется самой мамашей, то никакие названия вроде Хасеки не спасут роксоланку от участи жить в Старом дворце.
Валиде ломала голову над тем, как напомнить о втором внуке самой, но сделать этого не успела, вошедший кизляр-ага привычно склонил голову:
– Повелитель, вы приказали… Она пришла…
Не нужно было объяснять, о ком говорит кизляр-ага. Сулейман повернулся к двери, так блестя глазами, что Хафса поняла: все ее надежды, что сын забыл Хуррем, беспочвенны. Не просто не забыл, именно ее он позвал, при том, что мать пришла сама!
Роксолана тоже ждала, но иначе, она сидела, сжавшись в комок, прислушиваясь к каждому звуку, каждому шагу по коридору. Но Сулейман уже второй день был во дворце и не звал.
– Успокойтесь, госпожа. – Гюль присела перед Роксоланой, протягивая той какой-то напиток.
– Гюль, а он не болен?
Служанка, привыкшая, что все вопросы Хуррем только о Мехмеде и его здоровье, покачала головой:
– Госпожа, все, как вчера. Сегодня мы уже носили ваше молоко принцу, он попил, сколько смог.
– Я о Повелителе…
– Не… не знаю…
Подошла Фатима:
– Госпожа, Повелитель здоров, кизляр-ага сказал, что он просто скорбит по умершим сыновьям.
Роксолана закивала в ответ сокрушенно, какая же она жестокая, конечно, Повелитель вспоминает умерших сыновей, ему не до нее. Но ведь она не одна, у него есть и Мехмед.
– А Мустафу он звал к себе?
Не хотелось добавлять: с Махидевран.
Фатима все поняла сама:
– Нет, даже валиде пока не звал.
Хорошо все-таки иметь в приятелях кизляр-агу. Пусть не совсем в приятелях, но иногда снисходящего к просьбам и вопросам Фатимы.
– Госпожа, лучше подумайте, как вы предстанете перед Повелителем, когда он позовет вас. Нужно подготовиться.
– До вечера далеко, сейчас только утро…
– Но на вашем лице следы беспокойства и слез, ваши волосы нужно расчесать…
Уговаривая Хуррем, Фатима с помощью Гюль принялась расчесывать ее длинные рыжеватые волосы, а Зейнаб протерла принесенным из своей комнаты раствором ей лицо и руки…
Но закончить процедуру они не успели, в коридоре послышались шаги. И объяснять не нужно, чьи, такая семенящая походка только у кизляр-аги, сопровождавшие его евнухи уже приноровились ходить так же.
Так и есть, в открывшуюся дверь вошел кизляр-ага и остановился, смиренно сложив руки на животе. Он мог бы ничего больше не говорить, послушная поза кизляр-аги лучше слов говорила о том, что султан вспомнил о Хуррем и желает ее видеть. Фатима улыбнулась: не зря они принялись готовить Хуррем к вечернему походу в спальню Повелителя.
Но кизляр-ага сказал иное:
– Госпожа… Повелитель ждет вас…
– Сейчас?! – в один голос уточнили Фатима и Гюль.
– Да, сейчас. Он просил прийти как есть…
– Да-да, конечно, – засуетилась Роксолана, поправляя одежду. Кизляр-ага смотрел насмешливо. Не ожидала, но так даже лучше.
Роксолана еще не успела дойти до покоев султана в гареме, а добрая половина гарема уже знала, что Повелитель потребовал ее к себе.
Махидевран, которой новость принесла вездесущая служанка Амина, имя которой – «Правдивая» – совершенно не соответствовало ее лживой, верткой натуре, даже костяшками пальцев защелкала от злости. Вместо того чтобы позвать валиде или единственного оставшегося в живых сына (Махидевран упорно не желала признавать таковым Мехмеда), Повелитель снова вспомнил проклятую наложницу.
Она даже встала, чтобы отправиться к султану без его зова. Не сможет же он выгнать любимого сына. Но в последнюю минуту опомнилась: а вдруг не пустит или вообще потребует ответа, почему сама Махидевран во дворце, если приказа вернуть ее не было?
Махидевран не решилась, но доброты в ее отношении к Хуррем и маленькому Мехмеду у баш-кадины не добавилось. Плохо, когда много женщин борются за внимание и любовь одного мужчины…
Роксолана шла в покои султана так быстро, что кизляр-ага едва поспевал следом. Ему тоже не очень нравилось, что Повелитель первой позвал эту худышку, ведь даже валиде пришла сама…
У двери у Хуррем хватило ума остановиться и пропустить вперед кизляр-агу. Тот привычно доложил о приходе вызванной наложницы, вернее, теперь кадины. Сулейман кивнул:
– Пусть войдет.
Роксолана вошла и тихо встала почти у двери. Сулейман вглядывался в любимое лицо, стараясь уловить произошедшие за время его отсутствия изменения. Она стала матерью, многие женщины дурнели из-за беременности…
Нет, Роксолана относилась к тому счастливому исключению, у кого ни единый волос, ни единый зуб не выпал, напротив, она расцвела от материнства, и только тревожная складка между бровями чуть портила ставшее еще красивей лицо. И без того крупная грудь стала еще больше, налившись молоком, а вот тонкая талия не расплылась, молочная белизна кожи не испорчена ни одним пятнышком, бедра не стали неохватными…
Довольный Сулейман усмехнулся:
– За сына проси что хочешь, все исполню!
Валиде в ответ на такие слова султана к Хуррем только глазами сверкнула. За какого-то щенка, который и грудь-то не берет, чем жив до сих пор, непонятно, султан обещает выполнить любое желание. Не многовато ли? Мальчишка родился здоровеньким, но с тех пор все плачет и плачет, временами криком заходится. Все считали, что не жилец.
А Сулейман с тревогой и некоторым раздражением всматривался в лицо Хуррем. Мысли женщины словно витали где-то, она здесь и где-то еще. Встрече рада, глаза заблестели, но в них тревога. Хотелось спросить, но присутствие валиде сдерживало султана.
В ответ на щедрое обещание выполнить любую просьбу Хуррем вскинула глаза:
– Позвольте мне самой кормить ребенка!
– Что?!
– Позвольте мне самой кормить вашего сына, Повелитель.
Хафса не выдержала, фыркнула:
– Он и грудь не берет!
– Чужую не берет, мою возьмет! – Хуррем словно торопилась, чтобы не остановили.
Сулейман замер, не зная, как быть. Султану решать вопросы кормления младенца, даже если это его собственный сын? Такого в гареме не бывало. А валиде на что?
– Но… у всех детей кормилицы…
– Повелитель, ваш сын умрет от голода… Вы обещали…
Глаза Хуррем умоляли, Сулейман чуть раздраженно дернул губой, кивнул в сторону:
– Пусть принесут ребенка.
Не сомневался, что выполнят бегом. Сулеймана сейчас интересовало не выполнение приказа, а то, как вела себя Хуррем. Она лишь благодарно улыбнулась ему и повернулась к двери. Он, Тень Аллаха на земле, Повелитель огромной империи, в руках которого были жизни всех окружающих, в том числе и ее собственная, почти перестал для нее существовать! Хуррем впилась глазами в дверь, превратилась в сплошное ожидание, смотрела туда, откуда должны принести ее дитя.
Краем глаза Сулейман успел заметить, как напряжена валиде. Что-то здесь не так, какая-то тайна.
Мехмеда действительно принесли быстро. Стоило служанке со свертком войти в комнату, как Хуррем почти рванулась навстречу, но вовремя опомнилась, обернулась к Сулейману. Глаза снова молили:
– Можно?!
Тот сделал знак, чтобы отдали.
Как только Хуррем взяла в руки слабо пищащий сверток, как тот затих.
– Я покормлю?
Вмешалась валиде:
– Разве можно кормить? Грудь обвиснет!
– Корми.
Она присела на край дивана, отвернулась, чтобы достать грудь. Сулейман успел заметить, что и без того немаленькая грудь готова просто лопнуть от молока, казалось, тронь пальцем, и молоко брызнет во все стороны.
Валиде, на возражение которой никто не обратил внимания, все так же напряженно следила, возьмет ли мальчик грудь.
Не просто взял, впился маленьким ротиком, стал жадно сосать. Хуррем что-то шептала-приговаривала над малышом. Хафса не выдержала:
– Что ты там колдуешь?!
– Валиде, не трогайте ее, пусть кормит.
Сулейман никогда не видел, как кормят маленьких детей, ни Фюлане, ни Гульфем, ни Махидевран своих сыновей не кормили, это делали кормилицы и уж никак не на глазах у султана. Ему очень понравилось то, как Хуррем обращается с младенцем, она любовалась тем, как сын сосет.
На вопрос валиде обернулась чуть испуганно:
– Я жалею, что он голодный. Мехмед взял грудь, он плакал просто потому, что хотел кушать…
Хафса отошла в сторону, а Сулейман присел напротив, глядя, как счастливая Хуррем кормит сына. Немного погодя малыш заснул, так и не выпустив сосок из красного ротика. Юная мать тихонько смеялась, пытаясь вытащить, но тот не пускал.
Сулейман почувствовал даже укол ревности. Он явно отошел на второй план, теперь для Хуррем главное – вот этот слабенький пищащий комочек. Хотя нет, он больше не пищал, видно, действительно был голоден.
Хуррем подняла на султана счастливые глаза, полные благодарных слез, и тот почувствовал, как сжалось сердце от любви и нежности к этой юной матери. Как он может ревновать ее к их же сыну? Хуррем хорошая мать, очень хорошая. Она готова была на все, только бы он разрешил покормить сына.
– Сын будет жить с тобой. Иди к себе. Я вечером позову…
– Спасибо.
Слезы все-таки потекли по щекам, но теперь она улыбнулась. И столько было в этой улыбке благодарности и любви, что Сулейман поспешил отвернуться, чтобы не броситься к ней, не схватить в объятия вместе с сыном.
– Иди.
Она все-таки освободила грудь из цепкого захвата малыша, запахнулась и поспешила прочь, крепко прижимая к себе драгоценную ношу.
Когда за Хуррем закрылась дверь, Сулейман повернулся к матери. Та стояла, напряженно ожидая гневного окрика сына, а может, и гораздо большего.
Эта Хуррем свела султана с ума, пока тот еще был дома, сумела быстро забеременеть и даже родить сына. Повелитель долго отсутствовал, но эту наложницу не забыл, напротив, стоило вернуться, сразу же позвал к себе именно ее. Кто знает, как повернет его недовольство?
Но вопреки напряженному ожиданию султанского гнева валиде услышала:
– Хуррем хорошая мать, не мешайте ей, валиде. Позвольте кизляр-аге проводить вас в ваши покои?
Вот и весь разговор, словно не было долгого похода, многих страшных событий в гареме, словно не о чем поговорить с матерью, кроме как о наложнице, родившей сына.
Хафса почувствовала укол в сердце, оно снова ныло и ныло, как бывало в последнее время очень часто. К себе возвращалась быстро, хезнедар-уста едва поспевала следом. От покоев султана до покоев валиде два шага, но гарем есть гарем, всем немедленно станет известно, что Повелитель звал к себе Хуррем, что туда принесли Мехмеда, а валиде вернулась к себе взволнованной и почти бегом.
Бывали минуты, когда Хафса и сама проклинала всезнание гарема. Она сама же и создала это всезнание, так удобней держать сотню женщин под твердой рукой и постоянным присмотром, не евнухи, так сами наложницы и служанки присмотрят друг за дружкой.
Едва успела присесть на диван, чтобы чуть перевести дух, а Самира подать госпоже травяной отвар, чтобы прогнать смертельную бледность с ее щек, как следом примчалась Махидевран:
– Валиде, Повелитель не позвал Мустафу! – Быстро сообразила, что для начала надо бы поинтересоваться самим султаном, добавила: – Повелитель здоров?
– Инш Аллах, Повелитель здоров. Он звал Хуррем, потому что сказали, что новорожденный сын все время плачет.
Хафса солгала, и сама не зная почему. Просто не хотелось признаваться Махидевран, что и ее саму тоже не позвали, а вот Хуррем позвали.
– Разве может ослица родить скакуна? Я слышала, что щенок Хуррем без конца плачет?
Теперь Хафса обиделась на Махидевран:
– Ты говоришь о сыне Повелителя…
Махидевран на мгновение смутилась, но тут же взяла себя в руки:
– Не все сыновья одинаковы.
– Это мой внук, – напомнила ей Хафса.
Поняв, что ничего хорошего из разговора сегодня не получится, баш-кадина, которая хотела предложить отправить к султану Мустафу, обиженно поджала губы и удалилась, едва сказав на прощание положенные слова.
Но валиде было не до нее, сердце давило так, что дышать трудно. А ведь сорок два года, жить еще и жить, тем более сейчас, когда сын стал султаном.
Пришлось прилечь и приказать приоткрыть окно.
Кизляр-ага зашел напомнить, что вечером Повелитель приказал Хуррем быть у него в спальне.
Гарем единодушно ахнул: Хуррем снова в спальне Повелителя?! Но ведь ее должны бы удалить вовсе, хватит, родила уже сына, надо дать шанс попасть на ложе султана и другим. Мало нашлось в этом женском царстве тех, кто порадовался за Роксолану, большинство завистливо сплетничали, перемывая косточки ей, Махидевран и даже валиде. Снова в гареме разлад, и снова по вине Хуррем.
А ее саму в два голоса наставляли Зейнаб и Фатима:
– Не считай все решенным…
– Будь послушной…
– Помни, что ты рабыня Повелителя, а не его госпожа…
К тому времени, когда кизляр-ага пришел за ней, чтобы отвести к Сулейману, Роксолана готова была плакать.
Внутри все дрожало, ей очень хотелось снова ощутить на своем теле его горячие руки, на своих губах горячие губы, хотелось прижаться, самой касаться волос, плеч, самой целовать… Но разве она могла, тем более после таких наставлений?
А вдруг эта ночь последняя? Вдруг Повелитель позвал попрощаться? Ведь у нее есть сын, достаточно. Сердце подсказывало: можно еще рожать дочерей… Но кто мог сказать, сын или дочь родятся следующими?
У Роксоланы уже прошли очистительные дни, тело было готово дарить и принимать ласки, сердце тем более, она истосковалась по Сулейману, хотя и не мечтала попасть на зеленые простыни его ложа снова. Вызов в спальню обнадеживал и страшил. Вдруг ему не понравится новое тело, вдруг он захочет чего-то, что она не сумеет дать?
Кизляр-ага не мог надивиться, эта Зейнаб хорошо влияет на Хуррем, идет тихая, не огрызается, не смотрит по сторонам с вызовом…
А Роксолане просто было что терять, не только султана, но и сына. Сделай она хоть один неверный шаг, и может быть отправлена в Старый дворец, разлучена с Мехмедом…
Она вошла к спальню, как полагалось: низко опустив голову, не смея поднять глаз, но не то что пасть ниц, даже на колени опуститься не успела, Сулейман почти резко бросил:
– Не кланяйся. Стой прямо.
Кивнул кизляр-аге, чтобы тот удалился, подождал, пока прикроют двери, сделал Хуррем знак, чтобы следовала за ним во вторую комнату. Та покорно засеменила, но там сразу застыла, опустив голову и сложив руки в знак покорности.
Султан сердится? Но она готова молить о прощении, иначе не спасти маленького Мехмеда, он действительно умер бы от голода.
Сулейман подошел, поднял за подбородок ее голову:
– Ты хоть ждала меня?
И Роксолана не выдержала, вскинула на него глаза, хотя помнила, что делать этого нельзя:
– Очень…
Он хмыкнул, не зная, что еще сказать, но потом все же поинтересовался:
– Правда, ждала?
Подбородок уже отпустил, потому Роксолана покивала.
Султан отошел в сторону, почти отвернулся, поинтересовался через плечо:
– Радовалась, когда я назвал Хасеки?
– Повелитель, я всегда ваша рабыня…
Сулейман резко обернулся. Да что с ней случилось?!
– Мне не рабыня нужна, а женщина, с которой я мог бы говорить! Рабынь и без тебя много.
И замер, потому что в глазах Роксоланы светилась такая радость… Снова чуть смущенно хмыкнул, вернулся к ней:
– Тебя, я вижу, многому научили за это время. Запомни: когда мы не одни, веди себя, как полагается по правилам, чтобы не вызывать нареканий. Но когда наедине, забудь, что я Повелитель, а ты рабыня. Ты мать моего сына… И еще будут дети… будут?
– Иншалла…
– Ты мусульманкой стала?
Роксолана не стала скрывать:
– Не хотела, чтобы мой сын был сыном гяурки.
– Правильно сделала. Я объявлю твоего сына следующим за Мустафой наследником.
– Благодарю вас, Повелитель.
– Я же тебе только что сказал: не рабыня ты для меня, а любимая женщина. Я не зря тебя Хасеки назвал. Почему ты так изменилась, чего боишься?
– За сына боюсь, – почти прошептала, но он услышал.
– Чего бояться? Он теперь наследник…
И вдруг понял, что теперь еще опасней. Дернул головой, думать об этом вовсе не хотелось. Перед ним стояла женщина, о которой столько думал ночами, к которой рвалось сердце, а она словно и не рада, вялая какая-то. Сколько можно бояться?
Сулейману так хотелось отклика ее тела, трепетного и горячего. Неужели не получит? Неужели рождение сына так повлияло на нее? Нет, вон как похорошела, грудь, и без того немаленькая, стала еще больше, бедра чуть раздались, лицо немного округлилось. Не женщина – гурия, такую только в объятиях и держать.
Снова подошел, тихонько потянул халат с плеча. Она чуть вздрогнула и вдруг… прижалась к нему всем телом! Сулейман даже опешил, но, почувствовав ее желание, сжал в объятьях.
Позже, когда, насладившись близостью, лежал, по-прежнему обнимая, она вдруг тихонько рассмеялась.
– Что?
– Я так боялась, что после рождения сына вы меня отвергнете.
– Почему?
– Одна наложница – один сын.
Сулейман помнил этот неписаный закон. До сына наложница могла рожать сколько угодно дочерей, но, родив сына, удалялась от султана. Она оставалась в гареме на положении кадины, имела немалое содержание, много подарков, но в спальню больше не ходила. Вдруг еще сын?
– Дочь родишь.
– Угу, – Роксолана уткнулась ему в грудь носом.
Сулейман счастливо рассмеялся.
У Роксоланы не получалось уходить до рассвета, как полагалось наложнице, и сам Сулейман тоже не уходил, как делал после близости с другими. Наложнице, и даже кадине, не полагалось видеть Повелителя спящим, считалось, что это опасно, во сне человек расслаблен, его проще сглазить, выведать тайны… Но эту женщину Сулейман почему-то не опасался совсем, словно чувствовал, что она скорее сама выдаст сокровенное, чем выпытает у него.
К тому же ему бывало мало одной близости, хотелось еще.
Это оказалось не так-то просто. У Роксоланы грудь полна молока, нужно либо кормить Мехмеда, либо сцеживать… Когда в первую ночь после возвращения она попыталась тихонько выскользнуть из объятий любимого, Сулейман даже обиделся:
– Я не приказывал тебе уйти.
– Мне нужно… Повелитель, я должна сцедить молоко, время уже…
– Что сделать?!
– В моей груди много молока для вашего сына. Нужно либо покормить его, либо сцедить молоко. Простите…
Сулейман вспомнил, как Хуррем кормила Мехмеда, ее счастливое в ту минуту лицо. Захотелось увидеть снова:
– Скажи, чтобы принесли ребенка. Покормишь здесь.
Такого гарем еще не видел – маленького принца принесли в покои султана, и Хуррем кормила ребенка не просто сама, а при Повелителе! Кажется, в ту ночь не спал никто, во всех коридорах слышался неясный шум, словно шипели переплетающиеся змеи.
Так и было, услышав новость, наложницы, служанки, евнухи передавали ее друг другу немедленно. Но во дворце нельзя разговаривать громко, все приглушенно, а ночью и вовсе шепотом. Гарем шипел…
А Сулейману и Роксолане было просто наплевать. Маленькому Мехмеду тоже, он сосал грудь, а счастливые родители наблюдали.
– Мне кажется, этот сын будет лучшим, любимым…
Роксолана даже вздрогнула от таких слов. Приятно, конечно, очень приятно и радостно, но…
– Что? – Сулейман заметил, бровь чуть приподнялась.
– Повелитель, для меня большая честь, я очень рада… но, прошу вас, не называйте так Мехмеда вслух… Опасно… Зависть никогда не отдыхает.
– Любовь не скроешь. Но я понимаю, как тебе трудно. Много скорпионов, собранных вместе, обязательно погибнут от укусов друг друга, много женщин, живущих рядом, обязательно будут завидовать. Но таков гарем, я могу поставить тебя над всеми, но это не избавит от зависти.
Роксолане хотелось сказать, чтобы просто избавился от гарема, но она подумала, что пока такое говорить рано, и произнесла другое:
– Я справлюсь сама, просто не стоит лишний раз подчеркивать мое положение.
– С чем справишься?
– С гаремом.
– Ты?
Женщина вскинула голову:
– Справлюсь. Мне есть за кого бороться. У меня ваша любовь и Мехмед. Справлюсь.
Сулейман с тревогой услышал железные нотки в голосе любимой.
– Только не стань такой, как все. Я сегодня не слышал твоего смеха. Кизляр-ага сказал, что ты редко смеешься. Хуррем и не смеется…
– Я очень боялась за жизнь Мехмеда, Повелитель. Теперь буду смеяться.
– И бояться не будешь?
– Бояться буду, но теперь я знаю, что ваша любовь со мной.
– А раньше не знала? Я же писал…
– Я очень боялась, что вы прогоните меня после рождения сына.
– Вот еще!
И тем не менее это была проблема. Удалить от себя Хуррем Сулейман просто не мог, не представлял себе ночей без этого тела, дней без этих глаз и этого голоса, а теперь появилось желание каждую ночь еще и видеть, как она кормит сына.
Но даже Повелитель, во власти которого были все жизни не только во дворце, но и в империи, который мог карать и миловать даже по своему капризу, не мог пойти против закона. А закон действительно повелевал: одна наложница – один сын.
Торопясь в Стамбул, Сулейман гнал от себя такие мысли, но совсем отмахнуться не мог. Султан, который мечтал править по закону, в первый же год оказался заложником этого закона.
И все же он отмахнулся, пока есть время.
Как много? Нет, Сулейман вовсе не желал, чтобы Хуррем предохранялась, он очень хотел, чтобы она рожала еще сыновей… И дочку, обязательно дочку, похожую на маму. Маленькую принцессу, которая будет вот так же смешно причмокивать, получая порцию маминого молока.
Почему ему никто не говорил, какое это счастье – видеть, как его любимая женщина кормит их сына? Ведь любил же и Махидевран, и Гульфем, но никогда не видел, как сыновья сосут грудь. Кормила ли Махидевран сама? Вряд ли, от этого обвисает грудь.
Вспомнив о такой досадной угрозе, Сулейман нахмурился. Роксолана решила, что это из-за того, что Мехмед слишком долго ест, попыталась отнять грудь, но голодный малыш вцепился в нее ручонками.
– Зачем ты отнимаешь?
– Вам нужно отдыхать, мы мешаем…
– Хуррем, это мой сын, так же как и твой. Аллах дал нам это счастье, почему ты думаешь, что мне неприятно смотреть на него? Я счастлив.
И вдруг рассмеялся:
– В Европе мне показывали изображения их божественной матери, которая кормит маленького бога своим молоком.
Роксолана тоже рассмеялась:
– Богоматерь с младенцем.
– Ты тоже видела? – Султан вспомнил, что Хуррем была христианкой.
– Да, на многих иконах.
– На картинах.
– Наверное, есть и на картинах, я не видела, но слышала. У Иисуса матерью была простая женщина, она кормила ребенка вот так…
В голосе слышалось что-то, насторожившее Сулеймана. Она же мусульманка, но с такой любовью вспоминает христианские иконы…
Роксолана нутром почувствовала его беспокойство, улыбнулась:
– Это всегда приятно, когда мать кормит ребенка. Кормилица не то, не она родила. У пророка Мухаммеда тоже была мама? Простите, если я спрашиваю глупость.
Сулейман расхохотался:
– Ты у улемов только не спрашивай. Лучше у меня.
Они сидели и разговаривали, как простая семья с младенцем, двое молодых людей, любящих друг друга и новорожденного сына. Вот оно, простое счастье, и неважно, что он Повелитель, Тень Аллаха на земле, а она просто наложница, рабыня, над которой он властен полностью.
Но глядя на свою Хуррем, Сулейман все больше понимал отца, султана Селима, Явуза – Грозного, считавшегося жестким, даже жестоким, который в стихах вздыхал, что попал в плен женщины с глазами лани. Так и есть, ему самому могли подчиняться города и страны, миллионы людей быть в его власти, а один чуть лукавый взгляд этой кормившей младенца женщины брал в плен с такой легкостью, от которой кружилась голова.
– Скажи, чтобы не уносили малыша, пусть спит здесь.
Гюль, ждавшая во второй комнате, притихнув, как мышка, даже руки ко рту прижала, чтобы не ахнуть на весь гарем. Она слышала каждое слово из разговора Повелителя с Хуррем, но последняя фраза Повелителя поразила особенно.
– Ему негде здесь спать…
– Хорошо, пусть сегодня унесут, ты не уходи. Завтра я велю поставить серебряную колыбельку и в моей спальне. Хочу, чтобы ты каждую ночь кормила его у меня на виду.
Скандал! Скандал! Трижды скандал!
Колыбелька в спальне Повелителя!..
Гарем не просто шипел, были забыты все прежние споры и распри, гарем объединился против одной-единственной женщины, ради которой султан шел на нарушение неписаных правил. Пока только неписаных, а что будет дальше?
А счастливая Роксолана словно не замечала завистливых и недоброжелательных взглядов, хотя именно теперь она поняла, что значит вызвать зависть гарема. Все прежнее не шло ни в какое сравнение с начавшимся теперь.
Партию недовольных, конечно, возглавила Махидевран. Разве могла баш-кадина простить Хуррем такое предпочтение Повелителя? Конечно, Сулейман позвал к себе и Мустафу, и его мать, ни словом не обмолвившись из-за ее самовольного возвращения во дворец. Но вызвал не первыми и на саму Махидевран обратил мало внимания.
Война между женщинами гарема не прекращалась никогда. Сотня красавиц, живущих ради одного: попасть на ложе Повелителя и родить от него желательно сына, не могла крепко дружить между собой, в гареме всегда следовало ожидать не просто битых стекол в постели, но чего-то похуже. Яд, порча всех видов были даже обыденными, но никогда еще гарем столь единодушно не ополчался против одной.
– Почему они меня ненавидят? – допытывалась Роксолана у Фатимы. – Я не делаю никому из них ничего плохого, ни о ком дурного не говорю, Повелителю ни на кого не жалуюсь.
Она действительно не проронила ни слова о тех обидах, которые перенесла за время отсутствия султана, Сулейману это очень понравилось, он даже пытался спрашивать сам, но Роксолана только отмахивалась:
– Нет, ничего дурного…
– За что они меня ненавидят, Гюль?
Служанки только вздыхали:
– За ту власть, которую вы имеете над Повелителем…
– Нет никакой власти, просто ему нравится быть обычным человеком, нравится смотреть на своего сына, чувствовать себя просто мужчиной…
– Инш Аллах! Что вы говорите, госпожа?! Разве можно называть Повелителя обычным мужчиной?! Только бы вас никто не услышал.
– Почему Повелитель не может любить своего маленького сына? Разве его самого родила не мать?
– Госпожа, вы так и не поняли, где находитесь. Это гарем, здесь другие законы. Здесь все борются за внимание единственного мужчины – Повелителя, а вы захватили его внимание одной себе и надолго. Такого гарем не прощает.
Роксолана вздыхала, она и сама понимала, что каждый вечер, идя в сопровождении Гюль, несущей маленького Мехмеда в сторону спальни султана, она лишает надежды попасть туда кого-то из наложниц. Хорошо, что ей выделили комнаты совсем рядом с султанскими, ходить через весь гарем было бы слишком тяжело, из-за каждой двери, из-за каждого ковра, из каждой щели смотрели завистливые, ненавидящие взгляды, казалось, вопрошающие: почему она, а не я?!
Роксолана не осуждала соперниц, понимая, что они не виноваты, что оказались в гареме, не виноваты, что не попали вовремя на глаза Повелителю, что не стали его избранницами. Ловя на себе такие взгляды, она мысленно содрогалась, представляя, что будет, если Сулейман ее отвергнет, как отвергал прежде других.
Как ни гнала от себя такие мысли, они возвращались. Особенно по утрам, когда также в сопровождении Гюль возвращалась с сынишкой обратно к себе.
Новый враг
Но не только гарем злился на Роксолану, у нее появился еще один враг, возможно, страшнее всего гарема. Что могла сделать Махидевран или кто-то другой? Насыпать битого стекла в постель, подсыпать яд в еду, навести порчу. Но рядом были Зейнаб, Фатима и Гюль, на которых Роксолана теперь уже могла полагаться.
Другой противник мог воздействовать на самого султана, и это было для Роксоланы куда опасней.
Ибрагиму совсем не нравилось поведение Сулеймана. Одно дело писать письма, даже сочинять любовные стихи, но совсем иное, вернувшись в Стамбул, не пожелать видеть янычар, зато проводить вечер за вечером в общении с этой зеленоглазой колдуньей и ее сыном. Эка невидаль – наложница родила ребенка! Можно подумать, что для султана это редкость.
В отличие от Махидевран и остальных наложниц Ибрагим не мог пожаловаться на невнимание султана к себе, Сулейман общался с ним больше и чаще, чем с Хуррем, но Ибрагим чувствовал, что мысленно Сулейман все время с той женщиной. Сам грек старался гнать мысли о Хуррем, уже давно перебил их другими женщинами, более красивыми и доступными.
Но наверное, всегда человеку нужно именно то, чего у него не может быть. Не будь Хуррем столь желанной для султана, она не интересовала бы и самого Ибрагима, во всяком случае, теперь уже не интересовала. И только потому, что разговор султана то и дело возвращался к маленькому сыну и его матери, Ибрагим снова вспомнил о зеленоглазой худышке.
И все равно, не реши Сулейман допустить любимца в гарем, Хуррем так и осталась бы для того никем.
С чего Сулейману пришла в голову мысль устроить спальню Ибрагиму рядом со своей прямо в гареме, не знал и он сам. Просто не захотелось расставаться с греком даже по вечерам. Но и с Хуррем не хотелось. Повелитель поселил Ибрагима рядом с собой, не спрашивая ничьего мнения, он мог себе это позволить, кто посмел бы возразить? Мешков на всех хватит, а Босфор глубок…
И все же Хафса ужаснулась: не влияние ли это Хуррем? Где это видано, чтобы кроме евнухов и женщин кто-то имел доступ в гарем. Харрам – запретная половина, туда не должна ступать нога чужака.
– Сын мой, это Хуррем подсказала вам мысль допустить в гарем Ибрагима?
– Хуррем? Нет, она даже не знает. Я решил так, потому что доверяю Ибрагиму, не имею от него никаких секретов. К тому же он распорядитель моих покоев, а они не только во дворце, но и в гареме.
Хафса обиженно поджала губы, мало ей кизляр-аги, который не желает полностью подчиняться и выбалтывать доверенные ему султаном секреты, теперь еще и грек! Сулеймана, ставшего султаном, окружала ревность, каждый, кому он уделял хоть малую толику своего внимания (или даже не уделял вовсе), ревновал к остальным. Наложницы друг к дружке, кизляр-ага к наложницам, валиде к кизляр-аге, все к Хуррем, а теперь вот все к Ибрагиму.
Стало смешно от мысли, что из-за этого Ибрагим и Хуррем должны подружиться. Странно, но Сулейман вовсе не допускал мысли, что молодой, умный мужчина и такая же женщина могут стать интересны друг другу. Нет, он слишком любил Хуррем и Ибрагима, слишком доверял им обоим, чтобы даже на мгновение допустить такую мысль.
В гареме новый переполох, удивительно, но на сей раз вызван не Хуррем. Повелитель привел в гарем чужого мужчину! Женщины немедленно прикрыли нижнюю половину лица платками. Все так редко выходили за пределы своей клетки, так редко пользовались покрывалами, что почувствовали неудобство. Но никто не ворчал, присутствие чужака ненадолго, зато какое развлечение! Будет что обсуждать несколько дней. Не все же о Хуррем языки чесать…
– Пусть женщины откроют лица, я разрешаю. Перед Ибрагимом можно. Хуррем, тебе тоже.
Еще до того, как Хуррем взялась за край своего покрывала, прикрывшего нижнюю часть лица, они с Ибрагимом встретились глазами. Грек почувствовал словно удар молнии. Эта молния была зеленого цвета. Все, что он считал забытым и уже неважным, всколыхнулось.
Нет, не забыл, сердце помнило и ее тонкий стан, и красивую грудь, и дивный запах волос… Но женщина не просто принадлежала другому. Она была любимой женой Повелителя, и это решало все. Уже мгновение спустя Ибрагим понял, что Хуррем любит Сулеймана, причем не как Повелителя, а как мужчину, человека. Это задело сильней всего.
Ибрагим слушал, отвечал, даже смеялся, но все словно во сне. Внутри билась одна мысль: она могла бы любить меня… теперь Ибрагим не сомневался, что, оставь он Роксолану в своем гареме, та стала бы любимой женой и это его, а не Сулеймана сын лежал бы сейчас в колыбельке.
Гарем воспринял появление Ибрагима как призыв к действию. Грек любимый друг Повелителя? Значит, султан мог бы подарить свою наложницу этому красавцу? Внимание большинства наложниц, никогда не бывавших в спальне Повелителя, мгновенно переключилось на Ибрагима.
В другое время это вызвало бы гнев Сулеймана, он ревниво оберегал своих женщин, но сейчас султан только посмеялся:
– Ибрагим, ты только посмотри, как одалиски строят тебе глазки. Выбирай любую, подарю.
– Любую?
– Нет, Хуррем не тронь, она моя, остальных можешь забирать.
Разговор получался странный, та, которую действительно хотел бы забрать Ибрагим, была недоступна. И именно ее недоступность разжигала желание обладать еще сильней. Грек натянуто рассмеялся:
– Повелитель желает, чтобы я завел второй гарем здесь?
Они смеялись, сидели в спальне султана с кальянами, беседовали допоздна, так долго, что Сулейман впервые за все дни, проведенные дома, не позвал Роксолану.
Утром он снова был занят с греком, показывал Ибрагиму сад и кешки, хотя сам не слишком хорошо знал расположение, водил его к валиде, они вместе обедали в саду… И снова без Роксоланы. А потом уехали на два дня на охоту…
Ибрагим легко перехватил внимание Сулеймана, у них были свои дела, свои интересы, которые не касались постели, грек показал Роксолане, что она с сыном в жизни Повелителя не главное, что тот легко находит занятия и вне спальни.
Когда вернулись, Сулейман в первый же вечер позвал Роксолану к себе:
– Я соскучился…
– Вам было интересно? Я рада за вас.
– А ты скучала?
– Нет…
– Нет?
– Это не скука, это тоска.
– Хуррем… Я больше не оставлю тебя надолго.
Она заставила себя рассмеяться:
– Нет-нет, Повелитель! Нет, у мужчины, тем более султана, много дел и без наложницы. Я не хочу мешать, только дайте мне знать, что не забыли, что помните обо мне, этого будет достаточно. Одно слово, чтобы я знала, что все еще в вашем сердце, это слово лучшее лекарство и от тоски тоже.
Утром Сулейман все же сказал:
– Мы уезжаем на неделю охотиться, не скучай.
– Буду. И тосковать буду. И плакать тоже. Но удерживать не стану, езжайте. Так надо, сокола нельзя держать все время на привязи, он эту привязь возненавидит, а я хочу, чтобы вы меня любили. Обещайте только помнить обо мне эти дни.
– Что тебе привезти в подарок? Ты хочешь подарок?
– Хочу.
– Что?
– Себя самого. Это лучший подарок, большего не надо.
Она промолчала о том, в чем еще не была уверена. Ничего, пока не пришло время сказать, что она, кажется, снова беременна.
Сулейман был в восторге, наконец-то у него женщина, которая не виснет на поле халата, умоляя не покидать ее, не ноет, но признается, что будет тосковать.
Султан со своим другом уехал охотиться, в гареме снова наступила тишина, не перед кем было показывать свою походку, не с кем кокетничать. Одалиски не решились бы кокетничать с самим Повелителем, а вот грек, пусть и паша, который лишь вчера был рабом, вполне подходящий объект для кокетства.
Роксолана так и не сказала пока Сулейману, что прошла неделя сверх положенного срока, а женских дел нет. Может, задерживаются, а может… Думать о том, что может случиться потом, просто не хотелось. Не успев насладиться близостью с Сулейманом, она рисковала навсегда потерять возможность посещать его спальню. Вдруг снова сын?
Нет-нет, Сулейман же сказал, что будет дочь! Уверенно сказал. И пусть дочери не в чести в султанских семьях, словно они сами родились не от дочерей, если сейчас выбирать между сыном и дочерью, Роксолана желала бы дочь. Но Аллах и без ее просьб и подсказок знал, кого давать и давать ли вообще.
Прошли еще три дня, теперь вопрос задала уже Фатима:
– Госпожа, не слишком ли большая у вас задержка?
– Какая задержка?
– Вы беременны?
– Не знаю, кажется.
– Сколько дней просрочено?
– Десять.
– Ладно, пока ничего говорить не будем, еще через несколько дней Зейнаб посмотрит. Молчите.
Конечно.
Это Роксолана понимала и сама, нельзя говорить раньше времени, наоборот, стоит молчать, пока такая возможность есть. Чем меньше людей знает о беременности, тем лучше.
Фатима не могла понять:
– Она же кормит ребенка?
Зейнаб вздыхала:
– Госпоже очень хочется родить Повелителю дочь… Аллах всегда помогает в таких желаниях.
А в воздухе висел вопрос: что же дальше?
Султан охотился, а в гареме женщины снова мучились этим вопросом. Конечно, многие будут рады невольной отставке Хуррем, даже если на время беременности. Это означало свободное место на ложе султана, возможность испытать счастье и себе. Роксолана мысленно уже видела, как в спальню к Повелителю кизляр-ага провожает кого-то другого.
Попросить у Зейнаб средство, чтобы избавиться от ребенка до возвращения Сулеймана? Была и такая мысль, такой грех, но Роксолана тут же выбросила ее из головы и дольше обычного в тот вечер стояла на молитвенном коврике. Какому богу молилась? И сама не знала, просила только простить за грешную по любым меркам мысль об избавлении от дара божьего – ребенка от любимого.
С такими мыслями ей было не до Ибрагима, даже не вспомнила грека, не почувствовала его мстительный интерес. Зато мысли крутились вокруг одного: как, потеряв возможность бывать на ложе Повелителя, не потерять его самого. Любовь ведь не только в постели, она, прежде всего, в сердце. Как остаться нужной, интересной Сулейману, когда любить его на ложе уже будет нельзя?
Пока еще носила сына, старалась как можно меньше бывать среди наложниц гарема, боясь сглаза, боясь недобрых слов и взглядов. Часто только в сопровождении служанок сидела в саду или гуляла, размышляя.
Размышлять было о чем.
Она очень быстро забеременела, а Сулейман после того очень скоро отправился в поход, мало случилось у них сладких ночей, мало радости. Письма всего не скажут, да и переписаны переписчицей, она сама грамотой владела еще плохо, читала легко, а вот писала хуже.
Родит ребенка, станет кадиной. Что за этим последует? Родится дочь, Роксолану оставят рядом с султаном, если тот пожелает, а если сын? Она прекрасно помнила неписаное правило гарема: одна наложница – один сын. После рождения сына наложницу следовало от султана удалить, она продолжала жить на положении кадины, но только в спальне Повелителя больше не бывала.
По звездам, по положению живота, по другим приметам все твердили, что будет сын. Значит, все, больше не знать ей жарких объятий Сулеймана? Сердце Роксоланы обливалось кровью. Неужели после рождения желанного ребенка она будет видеть султана только на торжествах, почти издали, зная, что на зеленых шелковых простынях ночью другие?
Ну почему женам можно рожать сыновей, а наложницам только одного?!
О том, чтобы стать женой или что Сулейман может нарушить закон, пусть даже неписаный, не думала, знала, что на это лучше не надеяться. И сына, который требовательно толкался крохотными ножками внутри нее, тоже не кляла, радовалась будущему дитяти.
Цепкий ум никого не клял, даже ненужные, жестокие законы, он искал выход. Как можно видеть султана, не только его высокую фигуру издали, а глаза, обращенные к ней, слышать его голос, смех, беседовать с ним, знать, что и ему интересно?
Роксолане семнадцатый год, самое время для любви, а не для размышлений, но жизнь заставила, и пришлось думать.
Она успела понять, что должна стать для Повелителя интересной собеседницей, настолько, чтобы не пожелал отпускать от себя. Пусть не в спальне, так хоть в саду, в кешке, чтобы читал гюзели, что-то рассказывал, спрашивал…
Роксолана сама подолгу просиживала в кешках – небольших беседках, затененных вьющимися растениями, с журчащими ручейками, читала суры Корана, стараясь самое важное запомнить. Гюль удивлялась:
– Вы улемом или хафизом хотите стать?
Они смеялись, женщина-улем, то есть богослов, или хафиз, знаток Корана наизусть, – это смешно. Но фатиху – первую суру Корана – Роксолана выучила. Это оказалось не так сложно. Женщине Коран читать не положено, приходилось просить настоящего улема повторять и повторять. Тому надоело, принес переписанную суру, тихонько сунул в руки:
– Только не показывайте, кадина, никому.
Роксолана ловко сунула листы за пазуху, кивнула:
– Не скажу.
Улем ей лично попался хороший, все, что надо, разъяснял, повторял, не злился на ненужное любопытство вчерашней гяурки. Но Роксолана прекрасно понимала, что не такое знание ей нужно. Действительно, не станет же она беседовать с Повелителем о сурах Корана?
А о чем? Поэзия хороша тоже в определенных объемах.
Когда привезли первые подарки от султана – книги, собранные в городах, которые покорил, сначала обрадовалась. Махидевран, Гульфем, да и наложницы, тоже смеялись над ней, мол, вместо стоящих подарков какие-то дурные попросила. Прислушавшись к совету Зейнаб и Фатимы, Роксолана старалась не злить соперниц, не привлекать внимания, книги отнесли в библиотеку.
Но теперь ей предстояло биться за внимание и сердце Сулеймана не с наложницами, не с Махидевран, даже не с валиде, а с Ибрагимом. Роксолана уже поняла, что это куда серьезней. Любая наложница интересна султану только в постели, это не так страшно, валиде может завладеть его вниманием только на время, это все в гареме, значит, на виду, значит, не так опасно. У грека была дружба Сулеймана вне стен гарема, там, куда доступа Роксолане не было. Он мог увести Повелителя, и увести надолго, отнять его, занять его мысли чем-то другим, кроме семьи, кроме любви.
И это куда опасней любых опасностей гарема, потому что под защитой Повелителя в гареме ей было не страшно, не так страшно, а вот потеряв эту защиту, можно потерять все, не только любовь и приязнь, но и саму жизнь. Хотя для Роксоланы это было равносильно. Жить в клубке шипучих змей без любви единственного мужчины, неважно Повелитель он или нет, невозможно.
Потому она решила, что опасней всего Ибрагим, он опасней Махидевран и валиде, вместе взятых, именно с греком ей придется бороться за Повелителя, за его сердце, его внимание и уважение, за саму жизнь.
Но эта самая жизнь быстро показала, что она рано сбросила со счетов остальных…
Сердце с утра не на месте, Роксолана и сама не могла понять почему. На бесконечные вопросы о том, как Мехмед, следовал один и тот же ответ:
– Хорошо, госпожа. Шехзаде здоров и спокоен.
С сыном все в порядке, неужели что-то с Сулейманом? Но сердце чувствовало, что не с ним, а именно с ней самой.
Когда валиде вдруг позвала к себе, сердце трепыхнулось: вот оно!
Но Хафса была даже приветлива, принялась расспрашивать о малыше, причем делала это так, словно не видела Хуррем добрых пару месяцев или юная женщина с сыном жила вдали. И все же от Роксоланы не укрылось легкое беспокойство валиде, та словно ждала какого-то известия, а тем временем тянула и тянула беседу.
Наконец, в комнату вошла хезнедар-уста и остановилась у двери. Валиде и глазом не повела, но Роксолана почувствовала, что та успокоилась. Вернее, беспокойство стало несколько другим.
– Я могу идти, валиде-султан?
Хафса приподняла бровь:
– Мы так редко беседуем с тобой, ты держишься в стороне. Не любишь, когда с тобой говорят?
– Я не слишком хорошо себя чувствую. Я могу идти?
– Да, иди.
Роксолана с трудом сдержалась, чтобы не выскочить из покоев, поклонилась и степенно шагнула за дверь.
За дверью тут же прошептала Гюль:
– Где шехзаде? Что с ним?!
– Дети спят. С ними рядом Мириам.
Расстояние до своих покоев показалось Роксолане бесконечным, тем более нужно идти медленно и спокойно, чтобы по гарему не разнеслось, что Хуррем бежала от валиде, как зачумленная.
Закрыв дверь в свои покои, она немедленно кинулась во вторую комнату. Мехмед спокойно спал на большой кровати, рядом сидела Мириам, помахивая опахалом.
– Как он?!
– Все хорошо, госпожа.
– Никто не заходил?
– Сюда нет. Даже слуги не заходили.
– А туда? – Роксолана подозрительно кивнула на первую комнату.
– Туда кто-то из служанок заходил.
Она вышла в комнату, остановилась, прислушиваясь к себе.
Что-то не так, даже не поймешь, что именно. Огляделась еще раз. Так и есть, книга на столе закрыта, а ведь она хорошо помнила, что, уходя к валиде, оставила открытой.
Кто посмел коснуться книги?! Это один из фолиантов, привезенных Сулейманом из Дубровника специально для нее. Рабыни не знают латыни, к чему трогать книгу?
Гюль стояла у двери, тревожно глядя на хозяйку.
– Гюль, узнай, кто входил в комнату, пока я была у валиде. Хотя постой, не спрашивай. Накрой платком вон ту книгу, что лежит на столе, только не касайся ее. А мне подай похожую в красном сафьяне, видишь, лежит на том столе.
– Госпожа, вы боитесь…
– А это мы сейчас узнаем. Только молчи. Пойдем со мной.
Подхватив поданную Гюль книгу, Роксолана поспешила обратно в покои валиде. Евнухи у двери едва успели расступиться.
Хафса с изумлением обернулась к нежеланной гостье:
– Что случилось, Хуррем?
– Валиде, перед тем как вы меня позвали к себе, я читала, хотела вам повторить умные мысли, но никак не могла вспомнить. Позвольте, я прочту… – С этими словами Роксолана решительно распахнула принесенную книгу.
На долю мгновения, всего миг отшатнулись валиде и хезнедар-уста, Хафса тут же сумела взять себя в руки, но Роксолане этого вполне хватило:
– Это не та книга, валиде. Здесь нет яда… А что, если бы я, не открывая, вернула ту Повелителю?
Вот теперь валиде испугалась по-настоящему, но она уже пришла в себя:
– О чем ты болтаешь?! Совсем потеряла рассудок со своей учебой?
– Так мне отдать ту книгу Повелителю молча или сначала рассказать о своих подозрениях?
– Уйди, Хуррем, со своими глупостями! – взвыла Хафса.
Роксолана развернулась и бросилась прочь. Может, она и правда выдумала все, может, показалось? Но почему тогда так испугалась вида книги валиде? И хезнедар-уста тоже испугалась…
Так ничего для себя и не решив, Роксолана подошла к двери. Рядом с покоями стояли три служанки – две свои и одна новенькая.
– Ты кто?
– Я Бахижа, госпожа.
– Откуда ты?
– Меня прислала к вам баш-кадина Махидевран в подарок.
– Счастливая, говоришь? – Роксолана задумчиво покусала губу. – Ты пыли боишься?
– Чего?
– На столе лежит завернутая в платок книга, осторожно, не разворачивая ее, возьми, вынеси подальше в сад и там потряси, перелистай. В ней столько пыли еще из Дубровника, что я скоро чихать начну. Айше, вынеси ей книгу, только не разворачивай, осторожно. И не урони.
Служанки замерли, ничего не понимая, что это нашло на Хуррем? Сама она осталась наблюдать, как Айше с предосторожностями несет книгу.
Бахижа приняла сверток с опаской и недоумением.
– Иди, иди. Вытряси ее хорошенько, заверни обратно и отдай… оставь пока в саду, пусть полежит.
– Где оставить, госпожа?
– В беседке в саду. Я завтра пришлю забрать.
Бахижа несла книгу на вытянутых руках, глядя ей вслед, Роксолана пыталась понять, знает ли девушка, что книга опасна? А может, вовсе не опасна?
Оставалось ждать.
– Госпожа, почему вы назвали ее счастливой?
– Бахижа по-арабски значит «счастливая».
– Как хорошо понимать чужую речь.
Роксолана рассмеялась:
– Айше, кто же мешает тебе научиться?
Хафса с тревогой слушала сообщение Самиры о том, что Хуррем заставила новую служанку унести книгу в сад. Но тревога никак не отразилась на ее все еще красивом лице. Долгие годы борьбы за власть научили Хафсу не выдавать ни своих мыслей, ни своих чувств.
– Хорошо, иди, – махнула валиде рукой служанке.
Она досадовала на себя, что позволила Хуррем заметить мгновенный испуг, когда та вернулась с книгой. Конечно, его можно объяснить тем, что женщина примчалась, как сумасшедшая, растолкав евнухов, но это объяснение не обманет саму Хуррем.
Валиде жестом велела удалиться всем и подозвала к себе хезнедар-уста:
– Плохо сделали. Теперь она нажалуется Повелителю. Как она сообразила, что книга опасна?
– Ведьма! – уверенно заявила хезнедар-уста.
Роксолана распорядилась вымыть стол и сменить ковер на полу, а также протереть все в комнате и сменить одежду слугам.
В гареме ничего не происходит без участия и разрешения кизляр-аги, тот примчался немедленно:
– Что это ты затеяла?! А меня спросила?
– Что ты кудахчешь, как курица, которая снесла яйцо? Крику-то из-за того, что я сменила надоевший ковер.
Роксолана ловко сунула в руки кизляр-аги кошель с деньгами, судя по весу, сумма в нем заметно превышала то, во что обошлась ее переделка. Тот только фыркнул:
– Могла бы спросить сначала.
– Кизляр-ага, ну стоило ли мне беспокоить такого занятого человека из-за такой мелочи? У вас небось и без меня голова кругом…
– Да уж…
Выпроводив евнуха, Роксолана попросила:
– Айше, сходи осторожно посмотри, что делает с книгой эта Бахижа. Только не приближайся к ней.
Служанка вернулась быстро:
– Вах! Уже муэдзин прокричал призыв к вечерней молитве, а Бахижа все трясет книгу. А держит-то ее как!.. Словно ядовитую змею или взбесившуюся кошку – на вытянутых руках и отвернувшись.
Роксолана усмехнулась:
– Ну и ладно. Нам тоже пора на акшам вставать, не то кто-нибудь из шпионов заметит, что мы не вовремя помолились.
Роксолана, Гюль и Айше старательно расстелили свои коврики поверх нового ковра и опустились на колени.
Еще произнося слова перехода в новую веру, Роксолана поклялась сама себе, что прежнюю не забудет, но будет честно выполнять все, что требует новая. Верить надо искренне, иначе это двойной грех. Она с удивлением обнаружила множество совпадений, а то, что не совпадало, приняла достаточно легко. Да был ли у нее выбор?
Большинство женщин и девушек гарема родились в иной вере, но стали правоверными мусульманками, не слишком переживая из-за этого.
Жизнь в гареме настолько не была похожа на все, что происходило за его пределами, что иногда и вовсе закрадывалось сомнение, а существует ли вообще жизнь там, за этими высокими стенами?
Наверное, эта жизнь все-таки существовала, ведь кто-то выращивал фрукты и овощи, ловил рыбу, пас овец и верблюдов, ткал, делал ювелирные украшения, утварь и мебель… – все, что доставлялось во дворец и попадало в гарем. Иногда оттуда, из другой жизни приходили знахарки и торговки снадобьями, музыкантши, акробатки, но никогда мужчины. Нет, они бывали, но слепые, например, музыканты – согбенные, шаркающие ногами, жалкие.
Мужчина для обитательниц гарема существовал только один – Повелитель. Каждый визит султана становился событием. Крайне редко он приводил с собой кого-то, кто имел бы право видеть женщин Повелителя. Но за прошедшее время Роксолана только и видела, что визиря Пири-пашу, старого, обремененного годами и недугами, у которого одна мысль: избавиться от бремени власти. Пашой он был еще при прежнем султане – Селиме. О Селиме говорили, что его визирем становятся за месяц до смерти. Это было верно, потому что Селим Явуз казнил своих визирей и чаще. Пири-паша, к удивлению многих, пережил султана, но тяготился своей должностью.
Однако если бы Сулейман предложил старику уйти на отдых с большой пенсией, тот явно обиделся бы. Устать от дел и отойти от них не одно и то же.
Роксолана постаралась выбросить из головы все мысли, кроме молитвенных. Негоже молиться, думая о Пири-паше. Единственный, о ком она позволяла себе думать в такие минуты, – Сулейман, против всяких правил к молитве добавляла просьбу о его благополучии и здоровье, потому что без Повелителя не будет и их с сыном.
Следующую молитву – ятсы – почти ночную, когда наступает темнота, читали не всегда, но на сей раз Роксолана встала и на нее, благодаря Аллаха за подсказку, она была совершенно уверена, что в книге спрятано что-то страшное.
Вообще намаз следовало совершать пять раз: на заре – сабах; в полдень – егле; послеобеденную – икинди; перед заходом солнца – акшам; и когда наступала темнота – ятсы. Вставали на молитвенные коврики, каждая на свой, повернувшись лицом к Мекке, и читали соответствующие стихи из Корана.
Большинство наложниц только делали вид, что произносят эти стихи, потому что написанного не понимали, а зазубривали как попало. Роксолана Коран изучала не просто так, а со смыслом, потому что было интересно сначала сравнивать с Библией (у нее хватило ума не говорить об этом сравнении никому, не то не избежать бы беды), потом, чтобы цитировать.
Она хорошо знала, что ученые мусульмане, не только улемы, но и все, кто хоть что-то знают, любят цитировать стихи из Корана и поговорки, поэтому внимательно слушала, как приговаривает Зейнаб, кизляр-ага, хезнедар-уста, смотрительница белья, просто служанки, особенно пожилые. Переспрашивала, приводя тех в изумление, иногда даже записывала.
Постепенно начала пользоваться самыми яркими выражениями сама, чем приводила одних в восторг, других почти в ярость. Кизляр-ага смеялся:
– Ты, Хуррем, хочешь совсем османкой стать?
– У меня сын осман, почему бы мне не последовать за ними с Повелителем? А что вы вчера говорили о друге и враге, повторите?
Кизляр-ага хмыкал, польщенный вниманием к собственным словам, и повторял назидательным тоном:
– Я сказал, что умный враг лучше глупого друга.
– Надо запомнить… – Она посмеивалась. – Если Повелитель спросит, у кого научилась, обязательно скажу, что у кизляр-аги.
Она добавляла это, уже развернувшись, словно сама себе, прекрасно зная, что у кизляр-аги прекрасный слух, он все уловил и приметил. Свидетельством тому был довольный смешок евнуха. В сущности, он неплохой человек, а что подарки любил, так кто же их не любит? А еще очень трудно раздваиваться, умудряясь служить сразу и Повелителю, и валиде, при этом никогда не выдавая секретов обоих. Кизляр-ага умудрялся…
На следующее утро Роксолану разбудила взволнованная Гюль:
– Госпожа…
– Что, Мехмед?!
– Нет, госпожа. Бахижа.
– Что с ней?
– Она вся покрылась красными пятнами и волдырями, особенно руки и лицо. Я думаю, это из-за книги, ведь справа красноты больше, а она трясла книгу, отвернувшись влево.
– Где она?
– В больнице. Лекарка сказала, что она выглядит ужасно.
– Ну что ж, она приняла на себя то, что готовила для меня.
Одевшись, Роксолана отправилась к Махидевран. Та сидела мрачней тучи, вернее, не сидела, а снова мерила шагами свою комнату.
– Это ты прислала ко мне больную служанку?
– Я подарила тебе служанку здоровой, что с ней сделала ты, Хуррем?
– Здоровой? Она и дня у меня не пробыла, вся покрылась струпьями еще вчера. Ты хотела, чтобы эта Бахижа заразила меня, а я Повелителя? Хороший подарок ты сделала Повелителю, я обязательно расскажу ему.
Теперь уже красными пятнами покрылась Махидевран, но она продолжала защищаться:
– Эта девушка пробыла в моей комнате два дня и ничем не болела, а как попала к тебе, ты отравила ее…
– Я или то, что она попыталась насыпать в мою книгу, а потом была вынуждена вытряхивать из нее, когда я заподозрила неладное? Об этом тоже рассказать Повелителю?
Роксолана не стала выслушивать возражения Махидевран, почти бегом бросилась к валиде.
Там сцена повторилась.
– Валиде, я хочу сама покупать себе слуг.
– Тебе чем-то не нравятся Фатима и Гюль? Их нужно заменить?
– Нет, но я прошу никого мне не дарить, если понадобятся еще слуги, я куплю сама.
– Я никого тебе не дарила. Почему ты так спрашиваешь?
Хотелось крикнуть, что валиде и сама все знает, но Роксолана сдержалась, заставила себя глубоко вздохнуть и объяснила:
– Махидевран подарила мне больную служанку, которая сегодня вся покрылась сыпью. От нее могла заболеть я и передать болезнь Повелителю.
Последние слова услышала почти вбежавшая в комнату Махидевран. Она остановилась напротив Роксоланы, уперев руки в бока, и закричала:
– Это ты чем-то заразила Бахижу! Девушка была в моих покоях два дня, и никакой сыпи у нее не было! Это ты отравила ее, а теперь пытаешься свалить все на меня.
Что помогло Роксолане сдержаться, она не смогла бы объяснить сама, но удалось спокойно дослушать крик баш-кадины и так же спокойно ответить, пожав плечами:
– Конечно, у тебя в комнатах ничего не было. Ты дала ей какой-то порошок, который Бахижа насыпала на страницы книги в моей комнате, пока я сама была вчера в вашей комнате, валиде. Вернувшись и увидев, что книга закрыта, хотя я оставила ее открытой, я отправила Бахижу саму вытряхивать эту гадость, потому порошок попал именно ей на лицо и руки.
– Это выдумки, так можно обвинить меня в чем угодно! Где доказательство, что ты сама не насыпала этот порошок, чтобы обвинить меня?
И снова Роксолана сумела сдержаться. Она спокойно кивнула:
– Несколько рабов видели, как Бахижа это делала, к тому же я могу попросить Повелителя допросить Бахижу с пристрастием, она наверняка расскажет все честно.
– Успокойся, Хуррем. Не думаю, что Бахижа делала все по приказу Махидевран. И ни к чему обо всем рассказывать Повелителю, у него и без ваших глупостей есть чем заниматься.
– Валиде, я вижу, что вы не верите, что меня хотели изуродовать? Что делать мне, как не просить помощи у Повелителя?
Роксолана круто развернулась и отправилась к себе. Она не желала слушать ни Махидевран, ни валиде. Они сговорились в попытке хотя бы на время испоганить ей внешность, что можно противопоставить двум самым сильным женщинам гарема? Она беззащитна, а Повелитель далеко.
Кулачки невольно сжались, хотелось бить ими в стену от досады.
– Позови кизляр-агу!
Евнух в коридоре поспешил выполнить требование Хасеки.
Кизляр-ага, уже предупрежденный, что в гареме не все спокойно, в свою очередь поспешил к Хуррем:
– Что случилось?
– В мою комнату не смеет больше войти ни одна служанка, кроме Зейнаб, Фатимы, Гюль, Мириам и тех, кого я куплю себе сама! У двери поставишь двух евнухов, которые головами будут за это отвечать!
– Валиде отдала такое распоряжение?
– Тебе мало того, что это велю я? Хорошо, вернется Повелитель, получишь распоряжение от него! Поди прочь!
Евнух немного постоял в раздумье, но поскольку Хуррем ничего добавлять не собиралась, посеменил в коридор. Нет, он не собирался выполнять прихоти Хуррем, даже при том, что она Хасеки.
Роксолана в тоске огляделась:
– Что делать, Зейнаб, Фатима? Что нам делать?
– Хуррем, сначала разведи брови, если не желаешь, чтобы между бровей легла складка.
– Пусть, это неважно!
– Ты думаешь? Ты не права. Я поставлю перед входом знак, который не смогут перешагнуть те, у кого в отношении тебя дурные помыслы. Вы, прежде чем переступить его, будете мысленно читать специальную формулу, она короткая, всего четыре слова. Но обязательно молча, чтобы не подслушали. Но ты должна подумать, как завоевать сердце Повелителя настолько, чтобы все его мысли были только о тебе.
– Приворожить?
– Нет! Если приворожишь, кто-то сумеет в это вмешаться. И без того на тебя косятся, считая колдовством внимание Повелителя к тебе. Надо иначе, Хуррем. Ты умница, постарайся использовать это. Против любой ворожбы будут применять свои средства, но никто не поверит, что Повелителя можно завоевать умом. Пока тебе удавалось.
Роксолана бессильно опустилась на подушки:
– Мне страшно, очень страшно…
– Не бойся, но не стоит ни с кем ссориться. Чем больше у тебя будет противников в гареме и вообще во дворце, тем труднее жить. За всеми не уследишь, потому постарайся не заводить новых врагов. Плохо, что теперь рядом и этот грек. Он старается отвлечь Повелителя от тебя и вообще от гарема, это опасно, но тут ничего не поделаешь.
– Поделаю! – вдруг вскинула голову Роксолана. – Я постараюсь уговорить Повелителя отправить грека куда-то с важным поручением…
– Нет, ты не столь сильна, чтобы действовать против него. Не стоит начинать, можешь потерпеть сильное поражение. Напротив, пока старайся показать Ибрагиму, что ты его ценишь и не презираешь, как, например, Махидевран.
– Я его ненавижу!
– За что? – заглянула ей в лицо Зейнаб. – Не он ли привел тебя в гарем?
– А теперь я чувствую исходящую от него страшную опасность.
– Не выдавай этих чувств раньше времени, тебе еще рожать. Вот родишь второго ребенка, тогда и потягаешься. А пока со всеми мирись и терпи.
– Со всеми?
– Да, даже с Махидевран. Чтобы твои враги не объединились против тебя, лучше сделай вид, что дружишь с каждым из них по отдельности.
– Как это?
– Чтобы одолеть врагов, им мало не позволить объединиться, их нужно между собой рассорить.
– Я не хочу этого делать! Я не хочу сама становиться змеей, не хочу кого-то с кем-то ссорить, не хочу, чтобы моя душа была черной…
Она бросилась на постель и разрыдалась.
Зейнаб вздохнула:
– Куда ты денешься, если иначе не выжить?..
Но что бы ни говорила Роксолана, она понимала, что Зейнаб права. У нее в гареме слишком много врагов, чтобы уследить за всеми, а особенно сильных, к которым теперь добавился и грек, нужно либо как-то привлечь на свою сторону, либо хоть поссорить между собой.
Задача невыполнимая, потому что Повелитель не должен ничего заподозрить. После сегодняшнего происшествия враги на некоторое время затихнут, а что дальше?
– Зейнаб, можно распустить слух, что я действительно предвижу неприятности. А еще лучше что-нибудь подстроить, чтобы я разоблачила? Пусть хотя бы какое-то время боялись со мной связываться.
– Хорошо, сделаем. У тебя есть какой-нибудь дар для Махидевран?
– Что?! Дар?
– Подарок в знак примирения. Якобы ты ее простила…
– Ну, возьми что-нибудь. Только не из подарков от Повелителя, чтобы он не обиделся.
Нашли красивый браслет, его купила сама Роксолана, но никогда не надевала, потому что оказался великоват, все собиралась передать ювелиру, чтобы уменьшил, да забывала. Махидевран будет впору.
– Зачем это тебе? Мне не жалко, но я не понимаю.
– В ответ она обязана отдарить, а там увидишь… Отправь Фатиму с браслетом к баш-кадине.
Браслет положили на красивый поднос, накрыли тонким платком, и Фатима в сопровождении евнуха отправилась к Махидевран.
– Что ей сказать-то?
– Скажи, что госпожа не желает ссоры и в знак примирения и того, что не будет жаловаться Повелителю, просит принять этот дар.
– Прошу?! – возмутилась Роксолана. – Да я готова выцарапать ей глаза!
– А ты уверена, что это она, а не кто-то другой?
– Конечно, служанка-то ее.
– Но в комнату могла войти не одна Бахижа. Вот то, что ты запретила переступать порог кому-то, хорошо. Пусть кизляр-ага это переварит и поставит еще одного евнуха.
Фатима отправилась с поручением, приведя в полное смятение весь гарем.
Махидевран, увидев подарок от Хуррем, сначала отказалась его принимать, хотя было видно, что браслет очень понравился. Хитрая Фатима чуть усмехнулась:
– Зря госпожа боится, здесь нет ничего дурного. Просто Зейнаб удалось убедить Хуррем, что она зря ссорится со всеми подряд и всех обвиняет. Может, Бахижа и не виновата, проклятый порошок был в книге, только сама Хуррем до этого не долистала.
– Да! – оживилась Махидевран, почувствовав, что это выход. Она сделала вид, что оскорблена нападками Хуррем и принимает подарок с неохотой.
Фатима не стала ждать, пока баш-кадина найдет чем отдарить. Это был совет мудрой Зейнаб.
– И что теперь?
– Посмотрим, что она передаст в ответ. Прикажи евнуху никого не впускать, я выйду принимать подарок сама.
– А если не передаст?
– Значит, она глупа и жадна. Завтра о ее жадности узнает весь гарем.
Махидевран жадной не была, но ей понадобилось время, чтобы подыскать что-то, чего еще не видел Повелитель и тем более не дарил. Тут она вспомнила о страсти Хуррем к чтению и решила подарить ее светильник. Махидевран радовалась удачному решению, ведь это никак не украсит Хуррем, а к себе она никого не пускает…
Немного погодя раздался стук в дверь, евнух сообщал, что пришла служанка от Махидевран. Зейнаб чуть приоткрыла дверь и попросила подождать:
– Сейчас выйду.
Она успела шепнуть Хуррем:
– Что бы сейчас ни случилось, не бойся и кричи, что таков ответ Махидевран на твою доброту.
Но все пошло не так. Одновременно со служанкой, принесшей ответный дар Махидевран, к Роксолане пришла валиде. Хафса решила поговорить с Хуррем, чтобы та не поднимала шум. Зейнаб намеревалась сделать вид, что Махидевран снова прислала какую-то опасную гадость сопернице, но изобразить это прямо на глазах у Хафсы не рискнула.
– Хуррем, ты правильно сделала, что помирилась с Махидевран, не стоит ссориться на радость врагам.
Каких врагов имеет в виду, валиде не уточнила.
– Я заходила в больницу, Бахижа, конечно, выглядит ужасно, но клянется, что ничего не подсыпала в твою книгу. Это кто-то другой. Если желаешь, можешь приобрести себе служанок, которым доверяешь, но помни, что слуг можно подкупить. Лучше постарайся чаще улыбаться, когда ты смеялась и я назвала тебя Хуррем, у тебя было куда меньше врагов.
– Тогда я не была даже гезде, и у меня не было сына от Повелителя.
Хафса устало вздохнула:
– Мы живем в жестоком мире, Хуррем, не наживай себе лишних врагов, не зазнавайся.
Хафса была права, врагов и без того слишком много, чтобы плодить их нарочно, разве только поссориться со всем миром сразу?
Помириться не помирились, но Хуррем обещала валиде, что не станет ничего говорить Повелителю, чтобы не расстраивать его. Если честно, то она и сама уже не была уверена, что виновата именно Махидевран, уж слишком отчаянно клялась в своей невиновности Бахижа.
На некоторое время вражда между женщинами затихла. Надолго ли? Конечно, нет. Когда столько красивых женщин борются за внимание одного мужчины, разве возможна долгая дружба между ними?
Роксолану удручало понимание, что в этом придется прожить всю оставшуюся жизнь, какой бы та ни была – длинной или короткой. И детей рожать и растить тоже придется в этом шипении, склоках, сплетнях и зависти.
Ибрагим-паша
Ибрагиму удалось отвлечь султана от мыслей о гареме и Хуррем. Они славно поохотились, загонщики постарались, и добычей Сулеймана стали целых три кабана. Грек внес свой посильный вклад, но всего лишь выводя кабана на Повелителя.
Вечером подолгу сидели, беседуя, умный Ибрагим позволял Сулейману философствовать, выводя того на мудрые суждения, как во время охоты кабанов под удар. Обычно грек давал понять господину, что умнее его, оставаясь на позициях учителя, хотя разница между ними всего год. Просто у Ибрагима быстрее ум, лучше память, да и времени для занятий той же философией куда больше. Ибрагим не имел столько женщин, которые отвлекали мысли, а порученные государственные дела пока ограничивались заботой о самом султане.
Да и с юности Ибрагим верховодил в их паре, был лучше образован, поскольку учился в знаменитой школе при султанском дворце, где простых мальчиков учили неизмеримо большему, чем принцев. Это было задумано не зря: воспитанники школы попадали в нее после специального отбора на сообразительность и скорость мышления. Воспитывая будущих чиновников государства, их учителя старались не просто дать большой объем знаний, но прежде всего научить мыслить и эти знания добывать самостоятельно.
Ибрагим в учебе преуспел, эта школа пригодилась. Умный, эрудированный, уверенный в себе грек фактически вел за собой шехзаде, ставшего султаном. С юности Сулейман привык не просто полагаться на знания Ибрагима, но и советоваться с ним почти по любому поводу.
И только когда Сулейман стал султаном, Ибрагим с горечью стал отмечать, что Повелитель все чаще проявляет излишнюю самостоятельность. Все верно, вокруг развелось слишком много советчиков, а самому Ибрагиму все чаще приходилось выполнять обязанности, не связанные с советами Сулейману.
Грек боялся, что наступит время, когда советы умного приятеля станут уже не столь важны его царственному другу. Что тогда? Конечно, можно было бы получить должность визиря, даже первого визиря, Пири-паша уже стар, но это грозило двумя проблемами. Во-первых, нашлось бы слишком много противников и завистников, во-вторых, это накладывало слишком большие обязанности, причем обязанности весьма хлопотные….
Пока все шло хорошо, султан с ним советовался, а практическое выполнение сваливалось на Пири-пашу, старика, бывшего визирем еще при султане Селиме.
Удачно сходили в поход, теперь предстоял второй… Да мало ли будет еще.
Если бы не вмешалась эта зеленоглазая красавица, Ибрагим чувствовал бы себя хозяином положения. Он старательно обманывал сам себя, стараясь убедить, что Хуррем мешает только потому, что отвлекает внимание султана, мол, Сулейман слишком много думает о Хуррем, давно пора бы найти другую женщину. Родила сына, и хватит.
В глубине души он понимал, что не только внимание Сулеймана к Хуррем злит его, но и внимание самой Хуррем к Сулейману. Конечно, она так и должна, если Повелитель обратил внимание на рабыню, рабыня должна быть не просто счастлива, но готова в любую минуту доставить Повелителю удовольствие.
Ибрагим ожидал от Хуррем хотя бы благодарности за то, что не оставил у себя, а отдал Сулейману, ведь она стала кадиной. Он считал это большой заслугой, но зеленоглазая нахалка так не считала, похоже, она лишь самой себе приписывала честь стать любимой наложницей султана. Даже глазом в его сторону не повела, когда появился в гареме! Словно не помнила его руки и губы.
Грек пытался осадить сам себя: правильно делает, что не помнит, такие воспоминания опасны для них обоих, Сулейман бешено ревнив, не пожалеет ни Хасеки, ни друга и советчика. Но ему хотелось, чтобы сама женщина дала понять, что благодарна.
Досада порождала желание показать Хуррем ее действительное место. Не то, на которое ее поставил Сулейман, а настоящее. Неужели не понимает, что внимание Повелителя преходяще, что все это временно, уж на что любимой была Махидевран, а вот прогнал Сулейман из дворца за провинность, и пикнуть не посмела, уехала, глотая слезы.
Разве может женщина навсегда занять сердце мужчины, да еще такого, как Сулейман? Повелитель любит красивые тела, ценит женскую красоту, он допустил к себе Хуррем только потому, что до похода и рождения Мехмеда они слишком недолго были вместе. Скоро, очень скоро наложница надоест, другая попадет на глаза султану (уж Ибрагим об этом позаботится!), другую назовет он хасеки…
Если бы кто-то подслушал мысли грека и спросил, зачем это нужно ему самому, Ибрагим не смог объяснить. Просто если бы Хуррем дала понять, что помнит его заслугу, пожалуй, грек стал бы ее другом, вернее, терпел бы эту женщину рядом с Сулейманом, это даже удобно, вместе они смогли бы направлять мысли Повелителя в нужную сторону. Ибрагим уже выбросил мысли о том, что его сын мог бы стать наследником, а потом и султаном под видом настоящего, нет, сейчас его уже вполне устраивала просто возможность незаметно диктовать свою волю султану.
Договорись он с Хуррем, можно было бы править из-за спины Повелителя, двигая им, как движут кукол кукловоды во время представлений. Однажды Ибрагим видел такое, куклы спорили, пели, даже дрались словно живые, а потом из-за ширмы вышел скромно одетый человек, и оказалось, что все актеры просто надеты на его руки. Тогда мальчика потрясла сама возможность быть таким кукловодом.
Прошло время, он кукловодом стал, а его «кукла» даже превратилась в Тень Аллаха на земле, правителя огромнейшей империи. Теперь следовало вести ее осторожно, чтобы сама кукла не заподозрила, что выполняет волю кукловода.
Хорошим подспорьем могла стать Хуррем, но в первый раз наладить какую-то связь с ней не получилось. Ибрагим даже разозлился: зазналась красавица, став Хасеки? Ничего, я тебе покажу, кто ты на самом деле. Где это видано, чтобы сильный мужчина подчинялся даже самой красивой женщине, а уж самой красивой Хуррем не назовешь.
Если во время похода Ибрагим всячески старался отвлечь мысли Сулеймана от зеленоглазой худышки, то теперь следовало показать ей ее место, может, поймет, что без Ибрагима никуда, тем более в гареме.
Он с усмешкой вспомнил, как сейчас должна выглядеть Хуррем. Паша не сомневался, что ловкий евнух, купленный им специально для таких поручений, сумеет в нужный момент подсыпать зелье в нужное место. Если все получится, как надо, то руки и лицо Хуррем должны покрыться противными болячками. Это не смертельно и даже не опасно, но безобразно выглядит и, если не лечить, оставит на коже следы в виде темных пятен.
Ибрагим знал средство, которое могло помочь, если, конечно, не запустить болезнь надолго, но это средство нужно сначала попросить… А если не попросит? Если останется обезображенной? Что ж, судьба Хуррем грека сейчас не волновала. Жаль было бы терять такую помощницу, но что-то подсказывало Ибрагиму, что подчинить роксоланку своей воле будет не так легко, он привык прислушиваться к себе, а потому временами даже задумывался, стоит ли вообще связываться.
Ибрагим считал, что сам к зеленоглазой колдунье остыл, а потому был рад, когда Сулейман выделил другу спальню рядом со своей прямо в гареме и позволил женщинам даже открыть перед пашой лица. Это дорогого стоило, означая, что Ибрагим стал своим в султанской семье.
Но, встретившись глазами с Хуррем, Ибрагим понял, что ничего не прошло, его все так же волнует эта женщина. Плохо, очень плохо, от такого наваждения следует избавиться, и как можно скорее. Он уже не мечтал о своем сыне под видом султанского, осознав, что это было горячечным бредом, теперь желал только одного: справиться со своими чувствами и найти в Хуррем исполнительницу своей воли.
Вдали от гарема казалось, что это не просто возможно, а достаточно легко осуществить. Сулейман тоже словно забыл о своей Хасеки, он с удовольствием охотился, философствовал, просто сидел, мечтательно глядя на огонь… Казалось, вернулись прежние, почти беззаботные времена, когда они были совсем молоды и беспечны.
Но Ибрагим зря радовался, однажды он понял, что все время молчания Сулейман думал о Хуррем.
– Госпожа, позвольте мне сходить к Бахиже, как бы она ни была виновата, не стоит отказывать ей в помощи.
– Сходи.
Вернувшись, Зейнаб долго не могла приступить к какому-то трудному разговору, пока Роксолана сама не потребовала:
– Говори уж, что там такое!
– Хуррем, не Бахижа подсыпала порошок. Клянется, что ничего такого не делала, приставлена была шпионить, но не травить. Она не врет.
– Но почему тогда так странно вытряхивала, словно боялась отравы?
– Она действительно боится пыли, нос очень чувствительный.
– Значит, кто-то другой? Кто мог войти в комнату, пока нас не было?
– Многие… Но я вот что думаю: подсыпать прямо в комнате опасно, можно ненароком попасть на собственную руку или просто задеть.
– Тогда где?
– Может, насыпали в саму книгу раньше?
– В Белграде?
– Нет, можно и во дворце. Знали, что вы смотреть будете, а Повелителя в это время не будет. Эти болячки не опасны и не заразны, просто некрасиво. Бахижа еще долго будет ходить пятнистой.
– Значит, рассчитывали отвратить Повелителя от меня…
Но сколько ни думали, ничего придумать не смогли. Чувство опасности просто захлестывало Роксолану. На каждом шагу находились те, кто мог отравить, подсыпать битое стекло или порошок, чтобы изуродовать, могли просто сглазить… А она снова беременна, сомнений уже не было. Зейнаб, Фатима и Гюль в один голос советовали пока никому не говорить, даже Повелителю, тянуть, сколько будет возможно. В гареме если знает один, знают многие, а это опасно.
– Скорей бы уж вернулся Повелитель.
Повелитель вернулся в Стамбул и в гарем. Рядом с ним привычно Ибрагим, теперь и в гареме тоже. Женщины снова ожили, валиде недовольно заворчала, присутствие чужого мужчины ей вовсе не нравилось, даже если это второе «я» Повелителя. Волнение наложниц ей ни к чему, они стали слишком много времени уделять своему внешнему виду и слишком небрежно относиться к обязанностям. Кое на кого даже пришлось прикрикнуть, пообещав отправить из гарема прочь. На время помогло, но грек все же интересовал одалисок и простых служанок, его присутствие по-прежнему будоражило гарем.
Роксолане очень хотелось сказать любимому о новой беременности, хотя она понимала, что служанки правы в своих советах пока скрывать новость. К тому же рядом с султаном его тень – Ибрагим. Но еще больше поразило женщину то, как сам грек посмотрел на нее.
Глаза Ибрагима против его воли в первую очередь устремились на руки Роксоланы, потом пробежали по лицу. Заметив, как паша смотрел на ее руки, Роксолана быстро отвела глаза, но взгляд Ибрагима на лице почувствовала. Он был словно удивлен чем-то.
Все это страшно не понравилось Роксолане, но женщина промолчала, ведь они с султаном не одни. Повелитель расспрашивал валиде о здоровье и делах в гареме, о принцах, о планах на ближайшие дни… Хафса говорила обо всем, кроме несчастья с Бахижой и ссоры Хуррем и Махидевран, напряженно ожидая, что Хуррем что-то скажет. Напряглась и Махидевран. А самой Роксолане вдруг захотелось их помучить.
– Повелитель, было еще одно происшествие, – серебряный голосок Хуррем весело звенел, вызывая у Хафсы и Махидевран холодный пот по спине. – Из клетки выбрался попугай, бедная служанка, которой пришлось его ловить, даже пострадала, теперь лежит в больнице…
Ненавистью сверкнули два взгляда и какой-то странной догадкой еще один. Ибрагим-паша слишком задержал свой взгляд на лице Хуррем, чтобы она этого не заметила.
Над происшествием с попугаем посмеялись, больше разговоров не было.
Теперь уже Роксолана, вернувшись к себе, долго мерила шагами комнату. Не понравился ей взгляд Ибрагима, было в нем что-то неприятное… Хотя, кто знает, как обычно грек смотрит на открытые женские лица?
Но она вспомнила, что сначала Ибрагим смотрел именно на руки, а не на лицо и, кажется, его что-то поразило. Вдруг Роксолана даже остановилась от пронзившей страшной догадки: Ибрагим ожидал увидеть болячки, пятна на руках, а тех не было! Неужели?!.
От понимания, что обрела в гареме столь сильного противника, вернее врага, стало плохо, даже голова закружилась.
– Что с вами, госпожа?
– Фатима, кажется, я знаю, по чьему приказу насыпали яд в книгу…
– Вы что-то заметили?
– Да, это не Махидевран и не валиде, это грек. Только как и когда?
Все верно, насыпать порошок между страниц нетрудно, а зная, что Хуррем именно в эти дни будет читать, паша мог увезти султана на охоту. Все складывалось… Значит, Ибрагим смертельно опасен? Но за что, почему? И главное – что теперь делать? Этот человек подле Повелителя словно тень, чем ему мешает женщина, рожающая султану детей?
Роксолана понимала, что говорить Сулейману о своих подозрениях нельзя, греку он доверяет и от себя не отстранит, мало того, не имея доказательств, можно испортить отношения с самим султаном. Нужно поговорить с Ибрагимом, попытаться объяснить, что она не мешает, не претендует на власть, не вредит самому паше.
Это удалось, хотя и не сразу. Во время прогулки по саду Фатима вдруг шепнула, что паша в дальнем кешке. Роксолане с трудом удалось умерить шаг, чтобы не бежать. Оставив служанку на дорожке сада, она решительно шагнула внутрь, прекрасно понимая, что Повелителю немедленно доложат об их разговоре:
– Ибрагим-паша, поговорить хочу…
Ибрагим обернулся словно от удара. Он стоял, глядя на залив и не видя ничего, в саду гарема нашлось немало местечек, где можно посидеть или постоять в одиночестве, размышляя о своем. Удивительно, но наложницы вовсе не стремились уединиться, наоборот, они сбивались стайками, передвигались по саду толпой, стоял неумолчный щебет, отвлекающий от мыслей, давящий на уши. Ибрагиму надоело, и пока Сулейманом занимался брадобрей, паша выбрался подальше от женской болтовни. Повелитель тоже любил этот кешк и должен прийти сюда. Но вместо этого пришла Хуррем.
Ибрагим чувствовал себя вдвойне неуютно. Его беспокоило возможное появление султана, никакая дружба не спасет, если Сулейману придет в голову, что Ибрагим интересуется его женщинами. Однако не бежать же от кадины стремглав?
Глупые бабы не понимают, что риск не всегда оправдан! Ибрагим, совсем недавно желавший объятий Хуррем, теперь был готов перепрыгнуть через ограду кешка и помчаться прочь:
– Хуррем Султан, сейчас сюда придет Повелитель.
Роксолане стало не по себе, она прекрасно понимала опасность того, что Сулейман застанет ее с Ибрагимом наедине в дальнем кешке, но выхода уже не было. Краем глаза она уже заметила Повелителя на дорожке к кешку, бежать поздно.
– Паша, чем я вам мешаю?
– Мне?
– Бахижа покрыта теми самыми пятнами, что должны были достаться мне.
Ибрагим, мысли которого были заняты исключительно приближающимся султаном, не сумел справиться с собой и откровенно вздрогнул. Но быстро опомнился:
– Какая Бахижа, какие пятна?
– Те, которые вызвал порошок из книги.
А Сулейман был уже совсем рядом с кешком… Глупая женщина, она нарочно завела этот разговор, чтобы услышал Повелитель?
– Я ничего не рассказала и не расскажу Повелителю, но чтоб это было в последний раз!
– В чем вы меня обвиняете, Хуррем Султан? – Ибрагим решил держаться до конца, но глаза выдали.
– В последний раз! – довольно громко повторила Роксолана, словно не слыша шагов возле кешка.
Мысленно прокляв всех женщин, кроме родившей его самого, Ибрагим склонился перед входящим в кешк султаном:
– Повелитель…
– Что в последний раз, Хуррем?
Та вздрогнула, усилив опасения Ибрагима, но тут же склонила голову перед султаном:
– Повелитель…
– Я спросил, что в последний раз.
Мысли Ибрагима метались, словно мыши, застигнутые котом, а Хуррем спокойно, хотя и чуть смущенно объяснила:
– Я узнала об опасности, которой вы подвергались на охоте, и выговаривала Ибрагим-паше за это. Простите мою вольность, Повелитель, но мне страшно представить, что ваша жизнь может быть в опасности. – Она буквально метнула сердитый взгляд на Ибрагима и вздохнула: – Но Ибрагим-паша не пожелал обещать, что такое больше не повторится.
Сулейман хохотал от души, а Ибрагим, с трудом переведший дыхание, чувствовал, как по спине течет противный холодный пот. Женщина показала свою проницательность и выдержку, она не испугалась, не дрогнула, она нашла выход.
– Обещаю, что сам не буду подвергать жизнь ненужной опасности, Хуррем, не брани Ибрагима.
– Не смею мешать вашей беседе, Повелитель.
Глядя вслед маленькой фигурке, каждый из мужчин думал о своем. Сулейману была приятна такая забота Хуррем, польстил выговор, устроенный Хасеки Ибрагиму. А сам Ибрагим с трудом приходил в себя, понимая, что побывал просто на краю. Эта женщина опасна, очень опасна…
А сама Роксолана примерно то же шептала едва поспевавшей за ней Фатиме:
– Грек опасен, очень опасен….
– Что вы ему выговаривали, госпожа?
– Фатима, я уверена, что порошок подсыпали по его приказу.
– Зачем ему?
– Я мешаю их дружбе с Повелителем. Грек желает владеть сердцем султана в одиночку. Это очень плохо, потому что сил и ума у него куда больше, чем у Махидевран, а валиде за меня заступаться не станет. К тому же Повелитель скорее поверит Ибрагиму, чем мне.
Фатима только вздохнула, что можно ответить на такие слова? Хуррем и впрямь многим мешает, а потому не знаешь, с какой стороны ждать беды. Но то, что грек как-то странно смотрит на Хуррем, правда. Конечно, служанке показалось, что взгляд вовсе не полон ненависти, скорее это сожаление о чем-то.
Фатима с Зейнаб уже обсудили такую догадку, выяснили кое-что и теперь знали куда больше, чем сама Роксолана. Старые женщины лучше молодой понимали, сколь опасной может быть неутоленная страсть мужчины, как легко становится врагом та, которая оказалась в чужих объятиях. А уж у такого сильного мужчины, как Ибрагим-паша, все еще ярче, а значит, страшней для Хуррем.
Старухи придумывали, как обезопасить госпожу от этой ненависти, но Хуррем снова беременна, значит, не всякие средства применимы, можно навредить ребенку.
В конце концов решили:
– Поживем – увидим.
Получив разрешение не только валиде, но и самого султана, Роксолана отправилась покупать себе рабынь.
– Разве тебе мало тех, кто рядом? Если мало, скажи кизляр-аге, он добавит служанок.
– Нет, Повелитель, я хочу купить сама, купить такую, которая ляжет к душе с первого взгляда. Мне было бы достаточно слуг, но Мириам больше не может ухаживать за Мехмедом, она сама ждет ребенка, а Гюль одна не справится.
– Разве у тебя всего две служанки?
– Есть еще Фатима и Зейнаб, но они стары.
– Тогда замени их молодыми.
– Нет-нет, они дают столько полезных советов, что я не могу от них отказаться. Я не превышаю своего содержания, Повелитель, не трачу на служанок лишних денег, у Махидевран и Гульфем слуг много больше…
– Хорошо, покупай, но помни, что эти женщины будут ухаживать и за Мехмедом.
– Об этом я не забываю ни на минуту.
Впервые за много месяцев Роксолана, закутанная в ткани так, что кончиков пальцев не видно, на носилках, также плотно закрытых, выбралась за пределы не только гарема, но самого дворца. До внешних ворот носилки сопровождали четверо евнухов – черных, рослых мужчин, у которых мышцы вздымались буграми, а на лицах сверкали белки глаз, подчеркивая черноту кожи. За воротами добавились янычары, султан вовсе не желал, чтобы его Хасеки подверглась малейшей опасности.
Увидев столь внушительную охрану, Роксолана сокрушенно вздохнула:
– Что и кого я смогу увидеть?
Она посадила с собой Зейнаб, та была свободной женщиной и могла приходить в гарем и уходить когда вздумается на правах повитухи.
Как только носилки миновали внешние ворота, Зейнаб принялась творить странные дела, она ловко скинула с себя большой платок, под которым оказался еще один, набросила его на голову Роксоланы, поправила и довольно кивнула.
Женщина поняла хитрость служанки, темная ткань скрывала все от головы до пяток, для глаз оставалась совсем узкая щелочка, но она все же была! Даже если в таком наряде выйти из носилок, никто не узнает. Нельзя только подавать голос.
Роксолана закивала, давая понять Зейнаб, что догадалась о хитрости. Для начала она чуть тронула занавеску носилок, образовывая щель. Шагавший рядом евнух тревожно покосился на эту щелочку, но, заметив простой черный плат, успокоился. В том, что наружу выглядывала эта черная ворона-служанка не было ничего страшного, главное, чтобы не кадина.
Так они добрались до рынка рабов. Все время Роксолана с трудом сдерживалась, чтобы не засыпать Зейнаб вопросами или восклицаниями. Она впитывала впечатления, как сухой песок воду, прятала их внутри, стараясь запомнить как можно больше, чтобы потом расспросить подробней. Все же Роксолане не исполнилось и семнадцати, самое время веселиться, кокетничать, любить, а не страдать в страхе за свою жизнь и жизнь детей.
Но сейчас Роксолану занимало другое: ей очень хотелось найти не просто толковую, а ученую служанку. Еще когда собирались, Зейнаб почти обиженно поинтересовалась:
– Какую служанку желаете найти вы, госпожа? Чем вас не устраивают Фатима и Гюль?
Роксолана заговорщически улыбнулась:
– Ты всегда говорила мне «Хуррем», Зейнаб. Почему изменила обращение?
– Потому что вы изменились, госпожа.
– Чем? Тем, что покупаю еще слуг? Гюль тяжело справляться с Мехмедом, к тому же еще родится маленький, к тому же Хуррем Султан, названной Повелителем Хасеки, положено куда больше слуг. К чему отказываться? А рабыня мне нужна особая. Вы с Фатимой прекрасные советчицы, я без вас не выжила бы, но даже вы не можете знать все.
Зейнаб, начавшая расплываться в улыбке, снова поджала губы:
– Чего же мы не знаем, госпожа?
– Прекрати меня звать так, когда никого рядом нет! Да и я не все знаю, например, я немного говорю по-итальянски, выучила в Кафе, но только немного.
– К чему это вам?! – Старухи ахнули уже в один голос. Гюль пока просто прислушивалась.
– Ибрагим готов отвратить Повелителя от меня. Он умней, сильнее и знает много больше, чем я. Ибрагим-пашу много учили, меня меньше. Я должна научиться сама.
– Вах, госпожа! Да тому ли нужно учиться женщине? Вам достаточно быть приятной Повелителю на ложе.
– Э, нет… Вот в этом ты не права. Если буду просто приятной на ложе, то останусь только наложницей.
– Вы уже Хасеки.
– Потому что горяча в постели?
Старухи задумались, эта юная женщина права, есть и погорячей, и красивей, а Хуррем взяла другим – своим умением поговорить с Повелителем, а не только ублажать его.
– Но вы же не можете выучить все, что знает Ибрагим-паша.
– А мне и не нужно. Мне вообще почти не нужно знать то, что знает паша. Мне нужно знать то, чего он не знает.
– Как это?
– О чем ведут беседы Повелитель и валиде, можете сказать?
– Вы хотите, чтобы мы подслушали? Это слишком опасно.
– Нет, мне просто нужно знать, о чем они говорят, а не что именно.
– Тут и без подслушивания ясно – о делах в гареме. Не Повелителю же заниматься этими делами, распоряжаться наложницами и слугами, подсчитывать расходы?
– Конечно, этим занимается валиде. Ни влезать в эти дела, ни мешать валиде я не собираюсь. К тому же мне вовсе не хочется заниматься ссорами одалисок. А о чем беседует Повелитель с Ибрагим-пашой?
– Мало ли у мужчин разговоров? Та же охота…
– Правильно, Ибрагим-паша много знает, с ним интересно, к тому же они обсуждают дела империи. А я?
– Разве вы мало знаете и с вами не о чем говорить? Одни стихи чего стоят.
Женщины никак не могли понять, к чему клонит их подопечная.
– Стихами долго жить не будешь. Конечно, поэзия – это прекрасно, но когда-нибудь Повелителю просто надоест видеть во мне домашнего поэта. Он интересуется жизнью других стран и народов, мне это тоже интересно, я просто не представляю, как живут за стенами гарема.
– Вах! Да разве вы мало читаете?
– Этого мало, чтобы что-то узнать, недостаточно просто листать книги, книги написаны давно, да и не обо всем в них можно прочесть. Нужно беседовать с людьми, расспрашивать их. А чтобы беседовать, надо знать их язык.
Нет, Зейнаб и Фатиме совсем не понравилось то, что говорила Хуррем. Глупая она, что ли? Повелитель назвал ее Хасеки не столько за умные беседы, сколько за то, что родила сына. Нужно за это и держаться. Конечно, опасно жить в гареме, но другой-то жизни у нее все равно нет. При чем здесь жизнь в других странах? Глупости!
Но Хуррем стояла на своем:
– Мне нужны служанки, которых захватили в плен, такие, что родились и воспитывались в богатых семьях и многое знают.
– Да будут ли они работать?
– Для работы купим других. Зейнаб, нужно найти хотя бы одну женщину грамотную, умеющую читать, знающую о жизни в Европе. Лучше, если она будет образованна, но некрасива и не слишком молода.
Зейнаб задумалась. Да, если женщина некрасива, она не будет стоить дорого при всей образованности. Кому нужна образованная дурнушка? К тому же она ничего не будет уметь делать, ведь жившая в богатой семье сама небось привыкла к слугам.
Поняв, что требуется Хуррем, Зейнаб сама отправилась к торговцу живым товаром. Она могла выходить из дворца и возвращаться обратно свободно, а потому уже к вечеру сообщила, что есть две женщины, которые могут подойти Хуррем:
– Если госпожа прикажет, я приведу сюда обеих, вы выберете.
– Зачем приводить, мне разрешили посетить Бедестан самой.
– Что?! Это зачем?
– Зейнаб, я забыла, когда видела солнце просто над головой, а не сквозь решетку окна или сада. Забыла, как шумят люди на улицах, как вообще звучат людские голоса, а не шепот.
Служанкам оставалось только вздохнуть.
И вот теперь Роксолана подглядывала сквозь щелку за жизнью стамбульской толпы… Ее собственная жизнь и впрямь была похожа на жизнь соловья в золотой клетке. Гарем велик, сад и того больше, в нем много прекрасных цветов, которые сладко пахнут, звонко поют птицы… Но любая птаха из сада может улететь, а обитательницы гарема видят только стены и корабли на водной глади Босфора.
Они действительно купили двух служанок-итальянок. От Роксоланы не укрылось то, как презрительно сморщился евнух, увидев внешность женщин. Обычно служанок старались покупать красивых и молодых, чтобы приятно было смотреть самим, а Хуррем Султан купила двух бездельниц, это видно с первого взгляда, у них руки ни к чему не приспособлены.
Но кто мог возразить Хасеки?
Одна из женщин была флорентийкой, вторая венецианкой. Обе захвачены пиратами, привезены без особой надежды продать, а потому содержались в той самой одежде, в которой попали в плен, торговец не слишком завысил цену, справедливо полагая, что не часто находятся желающие приобрести некрасивую, строптивую женщину.
Роксолана не позволила отвести их к кизляр-аге:
– Служанки мои, Фатима сама присмотрит, чтобы их вымыли и переодели. А Зейнаб убедится в их здоровье.
Третья купленная ею женщина была просто няней, добрая, уютная, она легко располагала к себе.
Когда всех троих действительно вымыли и переодели, а потом накормили, они показались куда более симпатичными, чем у торговца. Зейнаб тут же принялась лечить их раны от веревок, многочисленные ссадины и синяки.
Роксолана пришла посмотреть на новых служанок:
– Как вас зовут? Где вы родились и в каких семьях?
– Госпожа говорит по-итальянски?
– Я немного знаю этот язык, совсем немного. Вы должны меня научить. Кто вы?
– Я Изабелла, родилась в богатой семье, госпожа правильно сделала, что купила меня. За меня дадут хороший выкуп.
– Как же, дадут! – усмехнулась вторая. – Ничего за нас не дадут, хотя могли бы. Я Мария, тоже из состоятельной семьи, но не думаю, что наши с ней родные станут выкладывать денежки, чтобы вызволить нас.
– Почему?
– Нас ждал монастырь. Тех, кого родные туда отправляют, вряд ли станут выкупать из плена.
– За что вас решили отправить в монастырь?
– За нежелание выходить замуж по воле родителей.
Роксолана с сомнением смотрела на женщин. Да, они молоды, но ни красотой, ни статью не отличались, и возраст не юный.
Мария, видно, поняла ее сомнения, усмехнулась:
– Мы обе, овдовев, отказались становиться женами тех, кого выбрали родственники, и решили посетить святые места. А тут такое… Зачем мы вам?
– Где вы родились и жили?
– Я родилась в Риме, но жила во Флоренции, а Изабелла в Венеции.
– Что вы знаете, кроме итальянского?
– Многое. Мой муж был богат, в нашем доме бывали художники, поэты, многие знаменитые люди Флоренции. Да и в Риме мы не бедствовали, пока не пришли французы и все не разорили. Тогда мои родные были вынуждены бежать сначала в Феррару, а потом во Флоренцию.
– А ты?
– Я тоже обучалась многому и со многими общалась. Мой муж был знаком с Леонардо да Винчи, заказывал скульптуры Микеланджело…
Роксолане эти имена ничего не говорили. Она вообще с трудом разбирала речь итальянок, а уж о Микеланджело и вовсе не слышала.
– Хорошо, вы постараетесь как можно быстрей выучить турецкий язык, а меня научить говорить по-итальянски так, чтобы я могла подолгу беседовать с вами. В остальном поступаете в распоряжение Фатимы, будете делать, что она прикажет.
Кизляр-ага ворчал:
– К чему Хуррем Султан такие бездельницы? Они и говорить по-человечески не умеют, и вообще ничего не умеют.
Вообще-то оказалось, что умеют, обе итальянки прекрасно вышивали, обе знали некоторые приемы врачевания, искусно причесывали, творя из локонов Гюль удивительные прически, быстро осваивались.
Поинтересовался и Сулейман:
– Ты купила новых рабынь?
– Да, Повелитель. Две итальянки, они из богатых семей и знали многих знаменитых людей своей страны. Третья просто хорошая нянька, Мехмед сразу попросился к ней на колени. Теперь Гюль может уделять время мне.
– Ты довольна?
– Очень.
– Зачем тебе итальянки?
– Они прекрасно вышивают…
Почувствовав неуверенность Хуррем, султан заглянул ей в лицо:
– Эй, не лги, не ради красивых вышивок ты их купила.
– Они учат меня итальянскому.
– Зачем?
– И рассказывают о своей стране, о людях, с которыми встречались.
– Как они могут рассказывать, если ты не знаешь итальянского?
– Немного знаю, научилась в Кафе. Учу. К тому же они легко читают и даже пишут на латыни. Это образованные женщины. Когда я научусь, то многое от них узнаю.
Сулейман смотрел на возлюбленную с изумлением:
– Тебе мало своих забот?
– Каких? У меня две заботы – вы и Мехмед. Но вы часто бываете далеко, а Мехмед, хвала Аллаху, перестал болеть и весел. К тому же с ним все время Алия, третья служанка.
Сулейман не знал, что отвечать, возразить нечего, Хуррем не желала быть просто наложницей, но он и сам не желал этого. Потому, когда начала ворчать валиде, он мягко остановил мать:
– Валиде, пусть Хуррем делает, что хочет. Она же никому не мешает. Сына любит и бережет, со мной ласкова, что еще нужно? А то, что не болтает целыми днями с остальными одалисками, то это только хорошо, меньше наслушается глупостей.
Возражать оказалось некому, болтовня по поводу новых служанок Хуррем быстро прекратилась, всех занимал Ибрагим-паша. Грек, услышав о нововведении Хуррем, только пожал плечами:
– Образованные женщины ничего хорошего собой не представляют. Но если Хуррем Султан нравится, пусть учится.
Когда Роксолане передали его слова, она только фыркнула:
– Его не спросила!
К концу зимы скрывать беременность было уже невозможно. Услышав от Роксоланы о будущем ребенке, Сулейман сам обрадовался, как ребенок:
– Хуррем… Сколько в тебе женской силы!
Но оба не могли скрыть если не тревогу, то опасения. Даже если вторым ребенком будет дочь, Сулейман должен отдалить от себя Хуррем. Что делать? Никто не знал, но отдалять любимую у Сулеймана желания не было.
Они подолгу общались почти каждый день, Хуррем рассказывала то, что узнала от своих новых учительниц. Это было занимательно и поучительно. Там, за морем текла совсем иная жизнь, и дело не в вере, она просто иная. К Риму рвался еще Мехмед Фатих, султан Баязид предпочитал свой дворец, а султан Селим просто любил воевать, хотя и поэзию любил не меньше.
Сулейман удался в прадеда, ему было важно не просто завоевать, не просто покорить, а объединить Восток и Запад. Он пока еще и сам не очень понимал, как это сделать, но чувствовал, что сделает. А потому ему нравилась идея Хуррем сначала попробовать изучить, понять тех, кого намерен покорять. Удивительно, но с любимой женщиной султан все чаще обсуждал то, о чем раньше мог говорить только с Ибрагимом.
Конечно, Хуррем была неразвита, учеба в школе наложниц в Кафе не дала ей достаточного образования, там учили больше петь и танцевать, но она желала, жаждала учиться и постигать новое, и тем была особенно дорога Сулейману. Красивая, любимая умница, уже родившая сына и вновь носившая его дитя… Разве он мог от такой отказаться? Но сделать это предстояло… И Сулейман искал выход…
Хуррем предложила его сама:
– Повелитель, я знаю, что, родив второго сына, должна буду покинуть вашу спальню…
– Родишь дочь.
– Но я могу остаться вашей собеседницей, советчицей хотя по бы поводу Флоренции и Венеции…
Сулейман смеялся от души:
– Я назначу тебя драгоманом! Выучишь итальянский, будешь переводить. Или вообще станешь пашой, визирем, наденешь шапку и халат и будешь беседовать с послами…
Они смеялись, не подозревая, что наступит день, когда Хуррем действительно будет беседовать с послами, принимая их самостоятельно! Но как же еще далеко было до этого дня, сколько предстояло пережить Роксолане, сколько бед вынести, скольких опасностей избежать…
А пока у нее рос живот, и росла неприязнь гарема.
Почему? Где это видано, чтобы Повелитель не отстранил наложницу, даже если она кадина, даже если Хасеки, в то время, когда она беременна? Оберегая плод, султан не брал Хуррем на ложе, это опасно, в его спальню приводили других, но не каждый вечер и только на короткое время. А все свободное время он предпочитал проводить со своей беременной Хасеки.
Это не могло нравиться никому – ни валиде, которая откровенно ревновала сына к Хуррем, ни одалискам, которым не удавалось задержать в постели Повелителя дольше определенного времени и попасть туда дважды, ни Ибрагиму, которого Сулейман все чаще менял на Хуррем. Хуррем завладела сердцем и разумом Повелителя, никто не мог с ней сравниться… Не мешала даже беременность.
Одна женщина не могла владеть сердцем султана, это неправильно, к чему тогда гарем? Но вырвать ее из души Повелителя не удавалось. Оставалось одно – уничтожить!
Расправиться с беременной женщиной проще, чем с обычной. Любые болезни можно свалить на беременность.
Весна в том году пришла красивая, это вообще прекрасное время года, когда прекращают дуть холодные ветра, возрождаются людские надежды, кажется, что впереди только хорошее. Сулейман словно и не собирался уходить в поход, хотя к нему готовились. Никто не мог понять намерений Повелителя.
Первый поход был столь удачным, что все поверили в блестящее будущее Сулеймана как полководца. Война не бывает без жертв, каждый, кто идет в поход, понимает, что может не вернуться или остаться калекой, но, конечно, надеется на удачу, на то, что именно его минуют несчастья, смерть и раны, зато будет хорошая добыча.
У походов османских турок одна особенность, собственно, она одинакова для всех – воевать можно только в теплое время года, да и то не всегда, а только когда вышедшие из берегов реки вернутся в свои русла, а грязь подсохнет. Если выйти раньше, то лошади не смогут вытащить ноги из грязи, не то что тянуть тяжеленные пушки. А к пушкам после Мехмеда Фатиха у турок отношение особое, если бы не пушка, едва ли они смогли бы взять Константинополь раньше, чем его защитники вымерли бы от голода.
Не только лошадям трудно, каково янычарам в пешем строю топтать грязь, тем более, когда сверху льет и льет дождь, костры гаснут, обсохнуть нет возможности?
Но и зимой воевать невозможно, нечем кормить лошадей и людей тоже, холодно, невозможно согреться, а в снегах Европы особенно.
Потому для походов время только летом.
Именно потому в Стамбуле, где послов, кроме венецианских, и не было, многочисленные соглядатаи, числившиеся купцами, приглядывались к военным приготовлениям. Странные они в этом году. Султан словно собирался выступать, но не слишком торопился. Не спеша готовились янычары, зачем-то флот… Если флот, значит, море, но к чему тогда конница, ее не перевезешь… Вернее, перевезти-то можно, да только толку мало.
Но больше всего удивляла именно неспешность, наступил май, дороги подсохли не только в Турции, но по всему югу Европы, а Сулейман все не объявлял поход. В год восхождения на престол нынешнего Повелителя его отец султан Селим тоже протянул время и в поход так и не собрался, но тогда другое дело, подготовка шла трудно, средств не хватало, желающих присоединиться по своей воле не находилось.
Сулейману после его успеха в Белграде верили, войско почти собрано, а он не спешит… Что-то здесь не так.
По Стамбулу поползли слухи: это все его Хуррем виновата, она родить должна, вот Повелитель и ждет. Глупость, конечно, потому что никогда предстоящее рождение даже первенца никого не останавливало. Но болтливые языки нашли повод, за него зацепились, и понеслась глупая сплетня!
Особенно старался гарем, Хуррем почти ежедневно спрашивали, как еще надолго она задержит выступление в поход? Однажды, не выдержав, она спросила об этом у Сулеймана. Султан даже не сразу понял:
– Я не жду твоих родов, Хуррем, просто мне не нужно выступать рано, мы не в Европу пойдем.
Но не станешь же об этом кричать на каждом углу базара, и с минаретов не огласишь, болтовня продолжалась, и Хуррем, и сам Сулейман понимали, что чем больше будут наказывать за глупые сплетни, тем упорней они станут распространяться. Лучший выход не слушать.
– Да сохранит нас Аллах от недостатка пищи и от избытка слов!
Легко сказать, да трудно сделать. Бедная женщина старалась не показываться никому на глаза, уходила в дальний кешк сада, сидела там, слушая рассказы флорентийки о великих людях ее родины. С каждым днем Хуррем все лучше понимала речь Марии и все легче складывала сложные фразы сама.
Изабелла не присутствовала, она вообще не желала говорить, словно замкнув свои уста на замок, молча двигалась, что-то делала, но будто отсутствовала в этом мире. Зейнаб сказала, что у нее больна душа, и было принято решение удалить женщину от беременной Хуррем Султан. Хуррем хватало и Марии, та действительно была образованна, знала многих и многих, часами могла рассказывать об итальянских городах, об их красивых зданиях, фресках, о картинах, поэтах, часами читать стихи.
– Хуррем, мне кажется, судьба нарочно привела меня в этот дивный сад, чтобы я могла рассказать вам о не менее прекрасной земле – Италии.
Странная дружба кадины и рабыни тоже мало кому нравилась, но Повелитель не возражал, и остальные терпели, даже валиде и кизляр-ага, правда, не забывавший напомнить, что покупка второй рабыни оказалась просто потерей денег. Да и эта чем занимается – непонятно. Только языком мелет, как сорока, а еще говорят, что Хуррем не любит болтовню! Послушали бы…
Жизнь на грани смерти
В яркий день 23 джумада-аль-ахира 928 года хиджры (20 мая 1522 года) Хуррем вдруг почувствовала себя совсем плохо. В последние дни ее мучили сильные боли внутри, понять причину которых Зейнаб никак не могла. Вернее, догадывалась, но боялась озвучить.
Дав госпоже успокоительное, она присела в стороне, сокрушенно качая головой. Хуррем лежала, закрыв глаза и прислушиваясь, как боль хотя бы на время затихает. Она предпочитала терпеть, только не пить средства, от которых будущий ребенок мог стать дурным. Но иногда становилось невыносимо, тогда Зейнаб со вздохами давала что-то выпить.
К старой лекарке подошла Фатима, видно, решив, что измученная Хуррем заснула, тихонько поинтересовалась:
– Отравили?
– Да.
– Выдержит?
– Она, может, и да, а вот ребенок…
Хуррем вдруг распахнула глаза:
– Ребенок может не вынести?
– Госпожа…
– Если вызвать роды сейчас, он может выжить?
– Это опасно для вас.
– А если я вот так день за днем еще два месяца буду пить опий, это не опасно разве? Я же привыкну.
– Опасно.
– Ты знала, что я отравлена, и ничего не делала?
Зейнаб со вздохом пересела ближе:
– Госпожа, ничего нельзя поделать, у вас ребенок. Если бы я дала вам сильное противоядие, то ребенок умер бы внутри, а если и родился, то уродцем.
– А так?
– Не знаю, – честно призналась старуха. – Может родиться здоровым, вы можете даже доносить, но может и нет.
В разговор вмешалась Мария, уже немного понимавшая по-турецки, но обратилась к Хуррем по-итальянски:
– Госпожа, я не повитуха, но моя сестра умерла при похожих обстоятельствах. А другую удалось спасти, вызвав преждевременные роды. Объясните своим лекаркам, что это лучше. Если ребенок родится через месяц, то он не выживет, лучше сейчас. Либо вовремя, либо сейчас.
Это подтвердила и Зейнаб, дети, рожденные за месяц до срока, выживают реже, чем за два месяца.
Все четверо понимали, что это опасно, служанки знали, что с них просто спустят шкуру, если ребенок не выживет, но знали и другое – еще два месяца Хуррем не вынесет: либо умрет, либо настолько привыкнет к опию, что превратится в безвольную куклу.
Дрожащая рука Хуррем протянулась в сторону Зейнаб:
– У тебя есть средство, вызывающее роды?
Гарем заволновался: Хуррем Султан рожает на два месяца раньше срока! Сама она в бреду, горит огнем, к ней в комнату никого не пускают. Эта наглая рабыня-итальянка захлопнула дверь даже перед хезнедар-уста, присланной валиде!
Сулейман узнал о том, что творится в гареме, сидя в своем кабинете во дворце. Негоже мужчине совать нос в такие дела, оставалось только переживать, дожидаясь выстрела пушки со стены. Это означало бы рождение еще одного наследника.
А если девочка? Никакого выстрела не будет, рождение дочерей не только не праздновали, но и вовсе не упоминали.
Но Сулеймана беспокоило не это, он не был готов, намеревался до рождения ребенка, неважно сына или дочери, сделать еще одно дело, но не успел. В последние дни он не бывал в гареме, уезжал, чтобы посмотреть за подготовкой к походу, вернулся только что и сразу получил сообщение, что роды начались преждевременно. Теперь идти в гарем поздно.
Попробовал читать присланные для доклада бумаги, понял, что не может сосредоточиться. Взял книгу, потом просто стихи, но снова ничего не получалось. Подошел к расставленным на маленьком столике шахматам, игра тоже не клеилась. А выстрела все не было.
В дверь постучали…
Это могло означать одно из двух – либо родилась девочка, либо… О втором думать не хотелось.
Но вошел Ибрагим:
– Повелитель, у Хуррем Султан…
– Я знаю!
И вдруг испугался, вдруг паша пришел сообщить о дочери или мертвом ребенке?!
– Что у Хуррем Султан?
Ибрагим недоуменно посмотрел на Повелителя:
– Начались раньше срока роды.
– Это я знаю. Распорядись, чтобы пришел кизляр-ага.
Кизляр-ага пришел довольно быстро, остановился у двери, повздыхал, прежде чем начать говорить. Он не выдавливал из себя слезу в знак скорби, это значило, что Хуррем жива.
– Бисмиллах! Госпожа сильно мучается…
– Отправляйся обратно, как только будут какие-то вести, немедленно сообщи. Слышишь, немедленно. Там есть врач?
– Ее служанки никого не пускают.
Сулейман помнил, что Хуррем говорила о служанке-повитухе, причем опытной и доброй, если не пускают, значит, так нужно. Махнул рукой:
– Пусть так. Иди…
На следующий день, намучившись и почти в бреду, Хуррем родила девочку, но ребенок оказался на редкость живучим. Малышка взяла грудь кормилицы, которую пришлось срочно разыскать, поела и спокойно уснула.
А вот ее мать все металась в бреду. Временами Зейнаб казалось, что Хуррем не справится, она огнем горела, стремилась куда-то вверх, просила воздуха и света, хотя в комнате были зажжены все светильники, а окна открыты настежь.
Вдруг к постели подошла Мария, женщина почти знаками попросила Зейнаб, чтобы та позволила подержать Хуррем за руку. Решив, что хуже уже не будет, повитуха уступила итальянке место.
Та принялась шептать молитву, но не отходную, хотя лоб Хуррем покрывал уже предсмертный пот, а прося за нее прощения у Господа за смену веры, за то, что не может помолиться сама, умоляя не сиротить детей, которых не уберечь без матери. Мария сидела долго, чувствуя, как постепенно успокаивается Хуррем. Роженица притихла, ее перестала бить дрожь, немного ровнее стало дыхание…
К утру следующего дня жар еще не спал, но Хуррем открыла глаза:
– Кто?
– Девочка. Живая, крепенькая, грудь у кормилицы взяла, жить будет.
– А… Повелитель?
Ей было бы достаточно одного слова о том, что Сулейман знает, что рад рождению девочки, ведь сам столько раз твердил, что Хуррем должна родить дочь.
Но обрадовать свою госпожу служанкам было нечем, от Повелителя никто не приходил даже поинтересоваться делами роженицы. Хуррем закусила губу, чтобы не расплакаться. Что это, Сулейман зол за преждевременные роды или просто не желает видеть дочь? И все же непрошеные слезы хлынули из глаз.
Чтобы успокоить Хуррем, Гюль поспешила принести девочку. Та спокойно спала, и даже сейчас, когда личико не пришло в нормальное состояние после рождения, все еще красное и подпухшее, девочка была красива.
– Красавица будет! – Гюль демонстрировала дочь матери так, словно сама произвела на свет этого ребенка.
– Почему будет, уже есть, – засмеялась Зейнаб.
– Ее надо покормить…
– Госпожа, ее уже покормили, девочка сыта. А вам нельзя, ваше молоко будет вредным для малышки.
Хуррем, полюбовавшись сладко посапывающей дочерью, позволила унести малышку и расплакалась снова. Никто не пришел поинтересоваться не только от султана, но и от валиде. Только евнух сунул нос в комнату, наверняка прислал кизляр-ага. Было больно и обидно, неужели Сулейман и правда вычеркнул ее из своей жизни, как это положено по закону?
– Госпожа, выпейте лекарство, вам не стоит плакать, девочка может это почувствовать.
– Я не буду пить, это вредно для малышки, для молока.
– Вам нельзя кормить ребенка, совсем нельзя, яд уже мог попасть в молоко.
Хуррем позволила напоить себя успокаивающим и лежала, беззвучно рыдая, пока не сморил сон.
В комнате стояла гнетущая тишина. Никого в гареме, кроме собственных служанок, не интересовала судьба Хуррем Султан, Хасеки Хуррем, всесильной еще вчера Хуррем. Почему? Да потому что не интересовался Повелитель!
В этом дворце, в гареме всё равнялось на него, не присылает султан слугу узнать, как дела, значит, сердит на Хасеки, значит, она уже больше не Хасеки, не милая сердцу. Кисмет, судьба, что поделать, сегодня ты на вершине, а где завтра? В гареме это чувствуется особенно.
Многие приободрились, особенно те одалиски, что в последние месяцы бывали на ложе Повелителя. Может, вспомнит и позовет? А там и до положения икбал недалеко… На Хасеки никто не замахивался, но не потому, что жива прежняя, а потому, что судьба Хуррем слишком ярко показала, как опасно заноситься высоко – падать потом приходится низко.
Хуррем почти похоронили, во всяком случае, открыто обсуждали, отправит ли ее Повелитель в Старый летний дворец, где не так давно отсиживалась после провинности Махидевран, или все же оставит в гареме. Мнения разделились, но никто не желал неудачнице, родившей дочь вместо сына, выздоровления, говорили только о ее несчастной судьбе.
Это не потому, что гарем столь жесток, хотя, конечно, жесток, просто все привыкли к частой смене фавориток, к борьбе за внимание Повелителя, здесь уважали сильных, беспощадных, потому что знали – случись им самим бороться за свое место, не пожалеют никого так же, как не жалеют их самих. Здесь нельзя проиграть, проигрыш равносилен забвению, а это равносильно гибели. Сколько красивых молодых женщин, надоевших или просто провинившихся, было утоплено в водах Босфора, сколько превратилось в старух в полузаброшенном дворце, куда ссылали надоевших и неугодных.
О проигравшей забывали тут же, потому что нельзя терять времени в попытке вернуть себе пошатнувшееся положение или в попытке положение завоевать. Жалеть больную некогда, лить слезы по ее судьбе глупо, всех ждет такое же. Это так и было, следующему султану не нужны наложницы предыдущего, придя к власти, он легко отправлял красавиц или бывших красавиц либо доживать свой век в забвении, либо вообще в дар чиновникам подальше от столицы. Тем вовсе не нужны избалованные красавицы, да и собственные жены не жаловали новеньких, участь подаренных тоже не была завидной.
Время возможностей коротко, терять его даже на жалость, на раздумья о другой нельзя. И хотя в гареме бывала дружба, одна наложница помогала другой, они сбивались в группки, переходили из одной в другую, сплетничали, враждовали группами, но это все забывалось, стоило только мелькнуть надежде завоевать место себе. Стоило забрезжить такой надежде, как вся старая дружба и вражда забывалась, каждая боролась только за себя, прежних подруг готовы утопить, только чтобы выплыть, показаться повыше самим.
Когда много красивых женщин борются за внимание одного-единственного мужчины безо всякой надежды получить кого-то другого, ничего хорошего ждать не стоит. А уж если кому-то главный приз достается надолго, да еще и, по общему мнению, совершенно незаслуженно, тут вообще держись! Чего же, как не злорадства, ждать, когда выскочка получает по заслугам?
О… гарем злорадствовал от души, прикрываясь горестными вздохами о несчастной судьбе роксоланки. Но в каждом вздохе слышалось:
– Так ей и надо!
Она могла не сделать никому ничего плохого, могла, напротив, дарить и дарить подарки, разбрасывать золото горстями, это вызывало бы только бо´льшую зависть, потому что известно: мало дарят и жертвуют от души, много от богатства. Богатство всегда вызывает зависть, а у тех, кто сам мог получить это богатство, тем более.
Гарем наслаждался бедой, болезнью Хуррем и невниманием к ней Повелителя. Так ей и надо! – просто висело в воздухе, слышалось в каждом вздохе, в шелесте, в шуршании шелков, тихих шагах…
Сама Хуррем с трудом приходила в себя. Повелитель так и не прислал никого с поздравлениями по поводу рождения дочери, потому служанки, жалея госпожу, давали ей снотворное, чтобы спала, чтобы не задавала вопросов ни им, ни себе.
А Сулейман сидел в своих покоях, причем не в гареме, а во дворце, закрывшись и не пуская никого, кроме одного из слуг. Он не желал никого видеть и слышать. И во дворце тоже перешептывались, тоже злословили, и там звучало:
– Так ей и надо!
Словно рождение дочери вместо сына было самым страшным преступлением. Казалось, все забыли, что рождены матерями, каждая из которых в свою очередь была вот такой новорожденной девочкой. Но представить себе проклятия со стороны родителей по отношению к их собственным матерям не мог никто.
Повелитель приказал пустить к нему только улема, ученого богослова Махмуда по прозвищу Адил – «законный». Прозвище улем получил не зря, лучше него никто в Османской империи не знал весь свод законов, написанных со дня, когда их вообще начали писать. Зачем султану Махмуд Адил, не знал никто, говорили, что три дня назад он уже призывал к себе улема, но потом почему-то отпустил. А потом началась суета с Хуррем и об улеме просто забыли.
На четвертый день улем пришел снова, помня приказ Повелителя, Махмуда Адила спешно провели к султану в кабинет. Сулейман шагнул навстречу, приветствуя, поцеловал улему руки, пригласил присесть, дождался, пока слуга принесет кальяны и удалится, и только потом поинтересовался:
– С чем вы пришли, уважаемый?
Улем развел руками:
– Боюсь, должен огорчить вас, Повелитель. Сколько ни искал, ничего не нашел. Я перечел заново весь свод законов, но такого нет.
И с удивлением отметил, как посветлело лицо Сулеймана. Султан уточнил:
– Вы утверждаете, что во всем своде наших законов нет запрещающего оставлять наложницу подле себя и в качестве Хасеки, сколько и каких бы детей она ни родила?
– Такого закона нет, Повелитель, это неписаное правило. Но вы вправе сделать его законом, любое ваше слово может стать законом.
Сулейман сделал отвращающий жест:
– Нет, я вовсе не намерен издавать такой закон и бросать свою Хасеки тоже не намерен. Мне просто нужно знать, что я не нарушаю написанный дедами закон.
Улем облегченно выдохнул:
– Повелитель, если бы вы сразу сказали… я бы давно подтвердил, что такого закона не существует.
– Нет, я поступил правильно. Если бы я сказал, что он мне не нужен, вы легко бы подтвердили, что его нет. Но разве у вас самого не осталось бы хоть малейшее сомнение, что такой закон не забыт? А вы искали его, но не нашли, значит, не пропустили и не забыли.
Махмуд Адил рассмеялся:
– Вы правы, Повелитель, так честней.
– Да, теперь не сомневаетесь ни вы, ни я.
Проводив с почестями и подарками улема, Сулейман позвал секретаря:
– Пиши…
Немного погодя, полюбовавшись на красиво написанный фирман (снова золотые чернила и красная сургучная печать), Сулейман вдруг приказал:
– Ну-ка, сверни мне фирман и перевяжи красивой лентой.
В дверь постучали. Слуга сообщил, что войти просит валиде. Хотя Повелитель приказал никого не пускать, но слуги не знали, касается ли этот запрет матери султана. К тому же у самого Повелителя явно изменилось настроение:
– Входите, валиде, я рад вас видеть.
Но на лице у Хафсы почти скорбь. Сулейман ужаснулся:
– Что?!
И почти сразу понял, что скорбь немного притворная.
– Мой сын, ваша Хасеки родила дочь.
– Я знаю. Как чувствуют себя мать и дочь?
– Девочка хорошо, она даже живей сына, – не сумела соврать валиде. – А Хуррем лежит в беспамятстве почти все время. Я не знала, что вам уже известно о рождении девочки, не то не стала бы беспокоить…
– Вы так огорчены болезнью Хуррем?
– Я огорчена тем, что она не смогла родить вам сына, пусть даже раньше срока…
– Валиде… вы полагаете, что я не рад дочери?
– Неужели рады?
– Вы меньше любите Хатидже, чем меня, потому что сын? – Глаза Сулеймана почти смеялись.
Хафса невольно возмутилась:
– Как вы можете так говорить?! Мать любит всех детей одинаково. Разве можно сказать, какой из пяти пальцев руки жальче, если они пострадают?
– А почему вы думаете, что для отца не так? Я просил Хуррем родить дочку, она выполнила мою просьбу.
Встретился взглядом с матерью и понял ее невысказанный вопрос: что же ты до сих пор тянул, что же не высказал своей радости? И тут Сулейман понял, что творится в гареме. Почему-то именно об этом не думал, пока ждал улема. Конечно, Хуррем родила дочь, и Повелитель от нее отвернулся! Какой же он черствый, совсем не задумался над тем, каково Хуррем, да еще больной!
– Валиде, я только что приложил свой перстень к фирману, в котором сообщаю всем о счастливом рождении принцессы и ее имени – Михримах. Она станет первой красавицей Османской империи. А еще утверждаю, что ее мать Хуррем Султан была и остается моей Хасеки. Можете объявить об этом в гареме. Улем Махмуд Адил несколько дней по моей просьбе изучал законы и объявил, что закона, запрещающего мне так поступать, нет. Я не преступаю закон и не меняю его. Четыре дня я ждал, пока улемы изучат все написанное в поисках такого закона, и теперь знаю, что прав.
Он дал понять, что желает идти:
– Валиде, вы возвращаетесь в гарем? Я иду к Хасеки, хочу сам прочесть ей фирман, а вы сообщите остальным.
Хафса вздохнула:
– Надеюсь, вы не совершаете ошибку, сын мой.
– Вы не рады рождению внучки? Но если бы не было дочерей, не было бы вообще никого, это дочери становятся потом матерями. Радуйтесь красивой внучке, валиде, внуки у вас уже есть и еще будут. Ведь внучка красива?
Хафса растерялась:
– Не знаю, не видела…
– За три дня не видели собственную внучку?! Хорошо, я посмотрю сам.
Гарем даже не шипел, он гудел, как растревоженное осиное гнездо. Ничего эту Хуррем не берет! Стекло подсыпали в постель – заметила, ядом травили – выжила и даже дочь родила, говорят, красивый ребенок. А теперь вот новый фирман Повелителя во славу Михримах…
Сама Хуррем лежала почти без чувств, когда увидела входящего в комнату Сулеймана, показалось, что это бред, но на всякий случай попросила прощения:
– Повелитель, простите, я родила вам дочь, а не сына… Но она красивая…
– Я уже видел. Спасибо, ты выполнила мою просьбу, я все время просил, чтобы ты родила дочь. Следующие будут сыновья, много сыновей…
Она только слабо улыбнулась и прикрыла глаза, не в силах бороться с дремой из-за слабости.
– Повелитель, простите, Хуррем Султан больна, она невольно засыпает… – Зейнаб готова была на коленях умолять у султана прощение.
Сулейман кивнул:
– Я вижу, что она слаба. Когда проснется, покажите фирман и скажите, что я приходил. С ней все будет хорошо?
Зейнаб чуть не крикнула: теперь да!
Вот как гарем мог узнать все, что произносил султан в комнате Хуррем? Не мог, но слышал. Поистине в гареме и стены имеют уши, и потолки глаза.
Повелитель нарушил все возможные правила. Он сам явился к родившей женщине, прежде чем та очистится, объявил о рождении дочери на равных с сыновьями, произнес имя маленькой принцессы для всех: Михримах – красавица, сам пришел посмотреть на новорожденную. Но главное – он объявил, что Хуррем была, есть и будет Хасеки!
Махидевран рыдала в подушки, Гульфем прибежала к двери в комнату Хуррем с подарками, правда, ее не пустили. Словно получив какую-то команду, понесли подарки и остальные. Прежде всего обитательницы гарема. Казалось, они только ждали возможности выразить свое восхищение рождением девочки, радовались появлению на свет принцессы, почти мечтали об этом.
Если правда, то мечтали, ведь рождение девочки должно бы разлучить Хуррем с Повелителем, как и рождение сына, но этого не произошло, султан всем объявил, что рад дочери и по-прежнему любит ее мать. Можно ли найти лучший повод для злословия? В гареме было о чем почесать языки…
Меньше двух лет назад Хафса приняла роксоланку в гарем и назвала ее Хуррем за веселый нрав, приняла в расчете на то, что необычная новенькая на время завладеет вниманием султана и заставит Махидевран и Гульфем прекратить склоки друг против друга, объединившись против новенькой. Удалось чересчур, не только Махидевран с Гульфем, но и все остальные споры прекратили, казалось, теперь для всеобщего возмущения и осуждения существовала одна Хуррем. Почему? Никто из одалисок объяснить не смог бы. Слишком уж везло этой роксоланке, а везучим всегда завидуют….
Обижен был Ибрагим, Сулейман не звал к себе, даже не допускал, не желал видеть наравне с остальными. Но грек уже привык чувствовать себя на особом положении, он не остальные, он второе «я» султана, как мог Повелитель советоваться о чем-то не с ним, всегдашним советчиком и почти наставником, а с кем-то другим?! Неважно, что этот другой старый улем.
Узнав, о чем вопрошал улема Махмуда Адила султан, Ибрагим и вовсе взбеленился. Снова эта женщина! Как удалось ей родить здоровую дочь?! Казалось, и сама не доживет до рождения ребенка, но почему-то роды начались раньше времени, и девочка выжила, и сама Хуррем жива, и султан вдруг во всеуслышание объявил, что рад малышке, а Хасеки благодарит.
Ибрагим под предлогом срочных дел уехал из Стамбула, чтобы не выдать своих истинных мыслей, а Сулейману отправил письмо, в котором поздравлял, восторгался, желал… Грек умел красиво выражать мысли, особенно те, которых в действительности не было. Научился у венецианских купцов, с которыми с каждым днем общался все чаще.
Никто не должен знать, что Ибрагима связывали с венецианцами не только государственные, но и чисто финансовые связи. У него находилось все больше дел, приносивших выгоду обеим сторонам. Если можно выгодно продать венецианским купцам, то почему бы этого не сделать. Служба у султана, конечно, приносила доход, и немалый, но деньги никогда не бывают лишними, сколько бы их ни прибывало.
Вот и сейчас, чтобы не беситься от злости, Ибрагим поспешил на побережье, где у него дела с венецианцами: его занимала мысль использовать в своих купеческих целях флот Венеции. Казалось, посланцы Великолепной Синьоры Венеции вовсе не были против, понимая, что выгода будет обоюдной.
Но как ни старался Ибрагим, выбросить из головы мысли о Хуррем и поведении Сулеймана из-за нее не получалось. Образ зеленоглазой колдуньи преследовал его всюду, во время похода, казалось, удалось выбросить ее из головы, но встречи в гареме невольно возвращали снова и снова.
В последние месяцы она старалась прятаться, уходила в дальние уголки сада, не показывалась, боясь сглаза… Но от этого не становилась менее красивой и менее желанной двум мужчинам сразу. На счастье Ибрагима, Сулейман не догадывался о его истинных чувствах и отношении к Хуррем. Сам грек каждый день давал клятву выбросить из головы красавицу, но не получалось. Он был готов проклясть Хуррем от отчаяния, и только какая-то тайная надежда не позволяла сделать это. В этой надежде грек не признавался даже сам себе.
Любил и ненавидел одновременно, все больше скатываясь к готовности погибнуть самому, только чтобы погубить ее. Это самая страшная смесь чувств, разрушительная, гибельная, но такая, против которой бессилен даже самый крепкий человек.
Венецианцы дружили с Османами с незапамятных времен, они не проникали в Черное море, как генуэзцы, основавшие Кафу, но упорно осваивали побережье Средиземноморья и саму Османскую империю. Еще сто лет назад Мехмед Фатих (Завоеватель) даже пригласил венецианского живописца Джентиле Беллини, чтобы тот изобразил его на холсте. Джентиле, перепоручив начатую роспись собора брату, немедленно отправился в Константинополь, ставший теперь Стамбулом. Личность султана показалась ему столь замечательной, что Беллини написал целых шесть портретов Мехмеда Фатиха. А еще разрисовал стены внутренних покоев его дворца весьма вольными картинами. Фрески откровенно эротического содержания потом замазал следующий султан Баязид, посчитавший, что гарем гаремом, а срамоту на стенах иметь вредно даже для евнухов. А может, возбуждения наложниц испугался?
Но главными были, конечно, не живописцы и даже не послы Венеции, а торговцы. Венецианские купцы вездесущи, они умели вовремя преподнести подарки, знали, кому и что именно, легко уловили особенности восточных традиций отдариваний и попросту взяток.
С территории Османской империи везли пшеницу, хлопок, пряности, шелк-сырец, медь, в больших количествах соду для производства муранского стекла (этим же стеклом потом отдаривая) и многое другое, все сырье. Ввозили готовые изделия, прежде всего ткани, зеркала, тонкое стекло, хорошую бумагу, мыло, множество предметов роскоши. Венецианцы быстро приноровились к вкусам и запросам состоятельных оттоманов и научились их даже предвосхищать. Купцы сновали по морю туда-сюда, невзирая на то и дело обостряющиеся отношения.
Венецианский Совет Десяти во главе с дожем (Тайная полиция Венеции) время от времени озадачивал своих послов улаживанием вопросов очередных стычек на море – пираты с обеих сторон не дремали, там, где есть корабли, перевозящие дорогие вещи, обязательно найдутся те, кто пожелает прибрать их к рукам.
Должность посла Венецианской республики не из завидных. Послу не полагалось много: например, он не мог брать с собой жену, не мог создавать себе особых условий пребывания. Это и неудивительно, потому что сначала послы назначались всего-то на три-четыре месяца, ни к чему возить за собой жену и большой штат слуг. Послами отправляли знатных граждан Венеции насильно, не просто не спрашивая их согласия, но и против него. Если человек отказывался, он вынужден платить большущий штраф, но через несколько месяцев его выбирали снова и штраф повторялся. Устав платить, богатые венецианцы невольно отправлялись в дальние земли, рискуя жизнью.
Легче, когда таковыми оказывались именитые купцы: у них и привычка к перемене мест уже была, и налаженные связи, и глаз наметанный. Не избежал участи и Андреа Гритти. Он торговал в Константинополе, который теперь называли Истанбулом, или Стамбулом. Мало того, османам просто надоела бесконечная смена венецианских послов, не успевали привыкнуть к одному и выучить его имя, как приезжал другой. Конечно, послы снова преподносили дары, но османы и сами достаточно богаты, чтобы не покупаться на эти крохи, они предпочли бы иметь дело с кем-то постоянно.
Особенно смена послов досаждала визирям, которые тоже менялись довольно часто, особенно при султане Селиме. Но был один, который уходил и неизменно возвращался – Херсекли Ахмед-паша, который пять раз назначался на эту должность: трижды султаном Баязидом и дважды неугомонным Селимом. У султана Селима визири менялись чуть реже, чем венецианские послы, – дважды в год.
Отсидев в Стамбульской тюрьме четыре года и выйдя оттуда только благодаря заступничеству Ахмед-паши и личной приязни султана Баязида, Гритти поспешил отбыть домой в Венецию. У Андреа в Стамбуле родились четверо сыновей и несколько дочерей (кто же их считает?), конечно, все от наложниц, но как иначе? На последней аудиенции у султана синьор Гритти клятвенно обещал пытаться стать следующим дожем Великолепной Синьоры Венеции и в этом качестве неизменно крепить дружбу с Османской империей, а также прислать в качестве поддержки в Стамбул собственных сыновей, во всяком случае, одного.
Возможно, это обещание и вытащило излишне любопытного венецианца из тюрьмы, – османам в подземельях Стамбула от него толку мало, все, что мог отдать, Адреа уже отдал, а в качестве нового правителя Венеции он еще мог пригодиться.
Но выполнить обещанное сразу не получилось, дож Леонардо Лоредано оказался слишком живучим и свой пост просто так уступать не собирался. Лоредано правил целых двадцать лет, из которых Гритти пришлось ждать целых пятнадцать. Но и после того Андреа дожем не выбрали, несмотря на возраст и тюремное прошлое, он был слишком крепок физически, а дожей норовили выбрать постарше и поболезненней. Следующий дож правил недолго, всего два года.
Андреа Гритти доказал, что умеет ждать и выполнять обещания. Все эти годы он исподволь готовил свое избрание, не забывая о связях со Стамбулом. Слишком большая выгода могла быть для венецианского купца у османов. Одно плохо: за время вынужденного ожидания на престоле сменились два султана, сначала Селим вынудил отца отречься в свою пользу, а потом и сам отправился к праотцам. Новый султан поглядывал в сторону Средиземного моря несколько иначе, Сулейман, в отличие от его деда султана Баязида, воевавшего с южными и восточными соседями, обратил свой воинственный взор на север, в сторону Европы. Пока воевал на суше, но от венецианцев не могло укрыться активное строительство нового флота Османов. Зачем Османам флот? Черное море их интересовало мало, они больше стремились на запад. Это могло принести Венеции много неприятностей.
Именно потому венецианцы усиленно обхаживали главного советчика нового султана – грека Ибрагима. Пока грек набивал себе цену, но все прекрасно понимали, что как только цена будет определена и удовлетворит обе стороны, Ибрагим может стать для Великолепной Синьоры весьма полезным приобретением.
Сам Ибрагим прекрасно понимал ведущиеся вокруг него игры, пока ничего не обещал, был осторожен и только прикидывал возможную выгоду. Казалось, он тоже ждет, когда Андреа Гритти станет новым дожем, и это было правильно, потому что договариваться со старым, едва живым Антонио Гримани почти бесполезно, он стал дожем совсем недавно, всего год назад, но все понимали, что ненадолго. А вот будет ли следующим Андреа Гритти, еще вопрос. Как бы не прогадать…
Сейчас венецианцев интересовало только одно: для какого похода султан строит флот? Сулейман не строил новый флот, он просто завершал то, что начал отец. Султан Селим, осознав, что одними сухопутными войсками, живя на побережье, воевать просто глупо, да и невозможно, потребовал от визиря новый флот. Пришлось Пири-паше вникать в дела кораблестроения, пусть не самому, но подбирая толковых людей. Греки корабелы опытные, за неимением другой работы и ввиду хорошей оплаты взялись за строительство с чувством, и немного погодя силуэты новых кораблей уже вырисовывались в доках Стамбула.
Куда направит новый султан этот флот?
Ибрагим понимал, что вопрос будет задан, и прикидывал, стоит ли отвечать на него. К чему открывать секреты, не зная, будет ли от этого выгода?
Но и венецианцы тоже осторожничали. Кто такой этот Ибрагим? Да, ближайший друг султана, его правая рука, но он всего лишь сокольничий и смотритель внутренних покоев. Невелика должность, а визирем-то до сих пор Пири-паша, и султан Сулейман в любую минуту может обойтись без советов давнего друга.
Ибрагиму предстояло понять, насколько серьезно можно рассчитывать на выгоду от сотрудничества с венецианцами, а также насколько далеко в этом сотрудничестве можно зайти без риска для собственной шеи. Хорошо давать советы султану, когда это ничем не грозит, хорошо наставлять шехзаде, понимая, что все наставления не больше чем советы одного молодого человека другому. Но теперь, когда Сулейман стал султаном, советы на вес золота в буквальном смысле, один неверный может стоить султану поражения, а советчику головы.
Ибрагим пытался найти для себя положение, при котором можно было бы продолжать давать советы без необходимости нести за них ответственность. Такое положение не находилось. Крутиться просто так становилось все труднее, тем более главный визирь Пири-паша старел и все меньше соответствовал растущим амбициям молодого султана. Перед Ибрагимом все острее стоял выбор – взяться за все дела рядом с Сулейманом и нести за это ответственность или отойти в сторону и потерять влияние на султана.
Ибрагим лукавил сам с собой, за восемь лет, проведенные рядом с Сулейманом, он так привык, что тот слушает и поступает, как подсказано, так привык быть наставником, несмотря на то что старше всего лишь на год, что не мог представить султана поступающим без подсказки. Ибрагим давно и прочно руководил Сулейманом и не собирался отказываться от этого впредь. Он желал власти и побаивался ее – слишком велика могла быть и власть, и цена тоже.
А тут еще эта женщина. Сначала пришла шальная мысль родить с ней сына и выдать за своего, то есть привести на престол своего сына под видом султанского. Но Ибрагим быстро понял, что придумать такое можно лишь в полном угаре, любовном или каком другом, неважно. Однако к тому времени он уже успел подарить роксоланку султану, о чем тут же пожалел.
Словно нарочно сбылось то, чего он так желал сначала, – Хуррем покорила Сулеймана настолько, что стала настоящей помехой самому Ибрагиму. Никакие попытки отвратить сердце султана от зеленоглазой красавицы или очаровать его другой красоткой не удались. Сулейман спал с подсунутыми ему красотками, но сердцем был дома со своей Хуррем.
Родила сына, стала кадиной, казалось, вот и предел, но Повелитель назвал ее Хасеки и тут же одарил еще одной беременностью.
Поняв, что Хуррем в сердце Сулеймана если не навсегда, то прочно и надолго, Ибрагим избрал другой путь, надеясь сделать юную женщину своей помощницей. Вдвоем они могли бы крутить султаном как пожелают, друг-советчик и возлюбленная вместе могли управлять империей от имени султана. А чтобы Хуррем поняла его силу, решил немного проучить.
Задумано было тонко, открой Хуррем книгу на нужной странице, она ненадолго, но основательно покрылась бы сыпью и волдырями. Это нестрашно, со временем прошло бы, но Сулейман весьма осторожен и впечатлителен, он просто побоялся бы приближаться к Хуррем. И вот тогда помочь отчаявшейся красавице смог бы Ибрагим. И дело не в зелье для заживления болячек, его могли дать и лекарки, каких в гареме полно, и у самой Хуррем есть. Ибрагим рассчитывал помочь Хуррем вернуться в спальню к султану, посодействовав в этом и, следовательно, получив власть над самой красавицей.
Дергать за ниточки, чтобы послушные люди-куклы совершали нужные движения… О, это и есть настоящая власть. Только глупцы думают, что она на троне, в роскошных одеждах, в золотых цепях или венцах на голове. Нет, настоящая власть молчалива и внешне мало заметна. Только наметанный взгляд может определить, что она есть и в чем выражена. Не зря говорят: не смотри на того, кто говорит, смотри на того, кто заставляет говорить.
Ибрагим умел ценить именно эту настоящую, незаметную власть и получал удовольствие от нее. Даже обладание красивой женщиной и богатством не доставляло такого удовольствия.
И тут произошло неожиданное. Во-первых, Хуррем каким-то образом догадалась о подсыпанном яде. Евнух, которого Ибрагим нарочно пристроил в гарем и даже к самой Хуррем, клялся, что она ничего не заметила, даже решила, что это проделки Махидевран, и устроила той скандал. В результате заболела не Хуррем, а простая служанка.
Но Хасеки догадалась еще и о том, кто «заставлял говорить». Это было уже не просто поразительно, а опасно. И все-таки не это испугало Ибрагима, а его собственное сердце. Грек не мог совладать сам с собой. Не видя Хуррем, он мог не вспоминать о ней. Но стоило попасть в гарем, как глаза сами искали ее невысокую фигурку, старались встретиться с зелеными глазами. Это становилось наваждением, не поддавалось никакому лечению, с этим не удавалось справиться.
Ибрагим привык диктовать свою волю, не прямо, но упорно подчиняя себе, он привык быть хозяином положения, хозяином самому себе. Можно сколько угодно служить султану, выполнять его волю и при этом знать, что сам султан выполняет твою.
Но то, что происходило с Ибрагимом при виде Хуррем, не нравилось ему совсем. Принадлежи женщина ему самому, ничего страшного, терять голову в объятиях красавицы, которая послушна тебе, все равно что служить султану, который поступает по твоему совету. Но Хуррем была чужой, опасно чужой, и не подчинялась. Хуже того, она любила Сулеймана, и как бы ни убеждал себя Ибрагим, что у роксоланки просто нет другого выхода, она обязана любить того, кому принадлежит, в глубине души он понимал, что Хуррем любит по-настоящему.
В такой капкан Ибрагим не попадал ни разу в жизни. Обидней всего было сознавать, что устроил его себе сам. И выхода не видно…
Звери, попав в капкан и не желая доставаться охотнику, иногда спасаются из ловушки страшной ценой. Известны случаи, когда лисы в капканах отгрызали себе лапы, чтобы освободиться, предпочитали оставаться калеками, гибнуть, но на воле, не становясь воротником или шубой.
Ибрагим был в похожем состоянии: не имея возможности и сил выбраться из капкана живым, он предпочел принести жертву. Только жертвой становилась Хуррем.
Венецианский купец очень удивился, услышав просьбу о яде:
– Это опасно, синьор Ибрагим, очень опасно.
– Никто не узнает, где я его взял, да и то, что это я, тоже не узнают.
– Но для кого?
– Синьор Марко, зачем вам подробности, это опасно.
Яд грек получил, даже сумел применить, но снова все пошло не так. Хуррем должна была погибнуть вместе с не родившимся ребенком, но родила раньше срока и осталась жива. И девочка жива и здорова. Обман со стороны венецианца?
– Синьор Марко, вы обещали результат, но ничего не вышло.
– Вы говорите о любимой наложнице султана? Просто кто-то догадался и применил противоядие. В случае не мгновенной, а медленной смерти это не редкость.
Больше оправдания Ибрагима поразила осведомленность венецианца. Откуда он все знает о Хуррем? По спине снова полз холодок, как он мог так выдать себя?
– О какой наложнице вы говорите? При чем здесь женщина, тем более султана, я применял против мужчины.
– Ну да, ну да…
Но Ибрагим видел, что купец не поверил неуклюжему объяснению, и видел, что он видит. Стало совсем не по себе, дать такой козырь в руки тех, перед кем набиваешь себе цену! Теперь у них есть чем пугать…
На душе было совсем гадко. И отравление не удалось, и венецианец теперь хозяин положения. А что он может сделать, рассказать султану, что давал яд против его обожаемой Хуррем? Нет, зря дрожать не стоит, ничего венецианец не сделает, самому дороже может обойтись.
Хуррем очнулась, чувствуя себя уже значительно лучше. Зейнаб не стала давать еще снотворное, наоборот, торопилась вернуть бодрость.
По просьбе матери принесли малышку. Михримах сладко посапывала, девочка оказалась спокойной и хлопот не доставляла. Налюбовавшись дочерью, Хуррем позволила унести ее. Вздохнула:
– Какой мне сон снился…
– Какой? – переглянулись Зейнаб и Фатима.
– Будто Повелитель приходил и даже принес фирман с именем дочери.
– И как же он назвал маленькую принцессу?
– Не помню…
– Михримах он ее назвал, Хуррем. Это был не сон, Повелитель действительно приходил и принес вот это! – Фатима подала свернутый в трубочку фирман.
Хуррем не могла поверить своим глазам и ушам, даже руки дрожали, когда принимала свиток. Буквы прыгали перед глазами, их застилали слезы счастья. Сулейман объявлял о рождении дочери так, как обычно делали только о сыновьях, давал ей имя, а саму Хуррем снова называл Хасеки.
Оставался вопрос, почему Повелитель сделал это не сразу, почему принес столько горя, не приняв дочь в первый же день?
Уже все разузнавшая Фатима шепотом сообщила:
– Повелитель советовался с улемами, те объяснили, что нет такого закона, чтобы бросать наложницу после рождения ребенка, если султан этого не хочет. Повелитель решил оставить тебя Хасеки.
– А как Мехмед?
– Тоже хорошо, он даже не капризничал все эти дни, словно чувствовал, что вам тяжело. И грудь у кормилицы тоже взял.
Это ли не счастье – дети здоровы, любимый назвал Хасеки…
Оставался вопрос: кто же отравил, ведь она едва не умерла.
Фатима и Зейнаб в один голос советовали не вспоминать, но Хуррем все равно думала. Ответ пришел посреди ночи, вернее, просто приснился. Она увидела… Ибрагима и, не просыпаясь, поняла, что это сделано по его воле. Почему? Не знала сама, просто была убеждена, что это так.
Во дворце снова праздник, конечно, не такой, как при рождении сына, но, почуяв отношение султана к маленькой принцессе, многие поспешили засвидетельствовать свое почтение ей и ее матери. Хуррем принимала поздравления и выслушивала пожелания здоровья, красоты, счастья, богатства своей дочери, лежа за занавеской: чтобы никто не мог заглянуть за нее, по обеим сторонам стояли два дюжих евнуха, а у стены еще…
Но никто заглянуть не пытался, подходили, произносили речи, складывали подарки, кланялись и уходили.
Валиде морщилась:
– К чему было устраивать такой праздник в честь дочери?
– Это моя любимая принцесса. У меня же нет дочерей. Я буду баловать и задаривать маленькую Михримах.
Хуррем счастливо улыбалась.
У одного из евнухов, стоящих на страже подле занавеси, она заметила лишний палец. Стало чуть не по себе, к чему брать шестипалого евнуха? Евнух заметил ее взгляд, смущенно спрятал руку. Хуррем старалась не смотреть в сторону шестипалого евнуха, но невольно возвращалась взглядом к его руке.
Пришел поздравить и Ибрагим. Ему трудно далось такое решение, все же не так просто смотреть в глаза человеку, который выжил случайно…
Неожиданно для себя, когда Ибрагим подошел близко, чтобы произнести слова поздравления (ему как близкому человеку было разрешено сделать это в комнате счастливой матери и даже посмотреть на новорожденную), Хуррем вдруг отчетливо произнесла:
– Я знаю, что это ты.
– Что?
– Ибрагим-паша, не пытайтесь отравить меня, в следующий раз пострадаете сами, а Повелитель все узнает.
Он сделал вид, что не понял, о чем речь, только недоуменно пожал плечами. Их не слышал никто, кроме Гюль, да и та делала вид, что занята разбором многочисленных подарков. Ибрагим постарался сделать непроницаемый вид, но на мгновение, всего на мгновение в темных глазах мелькнул испуг. Этого хватило, чтобы понять, что подозрения верные.
Но что могла поделать Хуррем, как доказать? Никак. Оставалось молчать.
И снова Сулейман нарушил все правила, в том числе толковые. Он так истосковался по своей Хуррем за время ее беременности, так желал ее, что вызвал в спальню, не дождавшись окончания очистительного срока. Валиде, услышав о столь вопиющем нарушении, обиженно поджала губы, с трудом сдержав рвущееся изнутри ругательство:
– Сучка!
Она во всем винила Хуррем. А кто еще мог быть виновен, как не эта зеленоглазая ведьма? Околдовала Повелителя, не иначе.
Так решили все, обитательницы гарема снова шипели на Хуррем, словно это не они всего несколько дней назад несли подарки и говорили поздравления со счастливым разрешением от бремени и рождением красивой дочери.
А им было безразлично, если эти двое и были околдованы, то вместе. В объятиях друг друга они забывали обо всем, наслаждаясь новизной ощущений, словно наверстывали упущенное за время вынужденной разлуки.
Результат не замедлил сказаться: когда к осени Сулейман все же собрался в поход на Родос, Хуррем точно могла сказать, что беременна в третий раз.
Услышав такую новость, валиде схватилась за сердце:
– Да что же творится?! Неужели кроме нее рожать некому?
Третий ребенок за три года, в то время, когда Повелитель и не смотрит на остальных! Почему одной всё, а другим ничего? Где же справедливость?
На Хуррем снова смотрели волками, снова провожали завистливыми, даже ненавидящими взглядами.
А Повелитель отправился в поход, – таков удел всех правителей, недаром отец Сулеймана султан Селим говорил сыну, что султан, который предпочтет седлу шелковые подушки гарема, быстро потеряет все. Янычары тоже были наслышаны о странностях в гареме, Сулейман просто не мог оставаться в объятиях Хуррем, он должен воевать. К тому же по поводу Родоса у него были свои мысли…
Из послов европейских стран в Османской Турции только венецианский. Остальные монархи предпочитали делать вид, что не подозревают о такой стране и исходящей от нее угрозе. И хотя в первый же год своего правления Сулейман сумел сделать то, чего не сделали до него прадед, дед и отец, – взять Белград, европейские монархи не считали его себе равным.
Сулеймана это бесило, его тянуло к Европе, вопреки советам своих визирей и особенно Пири-паши он стремился завоевывать земли на западе, а не на востоке. А на западе и севере лежала Европа, еще не подозревавшая, что ей предстоит испытать силу турецкого оружия сполна. Европа была страшно раздроблена, каждый монарх, чуть посильней соседей, норовил перетянуть одеяло на себя, а тех, кто врозь, бить легко, во всяком случае, возможно. И все-таки Сулейман начал не с европейских стран. Взяв в первый год Белград, на следующий в ту же сторону не пошел. Агенты европейских государств гадали, куда направит своих янычар и сипагов (конницу) молодой султан, к чему ему хороший флот, что задумал этот высокий, мертвенно-бледный человек?
А он решил подчинить себе Родос. К чему султану небольшой остров, да еще и в стороне от европейского побережья? Но Сулейман был прав: засевшие на острове рыцари не давали покоя кораблям, перевозившим товары из Европы в Стамбул и из Стамбула в Европу. Обидно дорого купить в Венеции отменные зеркала или дорогое оружие, тонкое стекло или прекрасные ткани и все это потерять из-за нападения пиратских кораблей.
Сулейман решил, что море от Босфора до итальянского сапожка принадлежит Османам и потому никто другой там хозяйничать не должен. Конечно, это не совпадало с интересами Венеции, но защищать Родос венецианцы не стали, никто другой, кроме самих рыцарей в крепости, тоже. К Рождеству Родос был взят турками…
Мирный год
Пока султан выживал с Родоса рыцарей, Хуррем вынашивала и рожала третьего ребенка. Снова стреляла пушка со стен Стамбула – у Повелителя родился сын! Второй сын Хуррем и третий из живущих. Сулейман назвал мальчика Абдуллой, что значит «раб Бога». Почему именно так, не знал никто.
Снова несли и везли подарки. Из Московии прибыли роскошные собольи шкурки, Хуррем даже всплакнула, проводя рукой по мягкому, шелковистому меху. Хорош соболь на Руси, что и говорить, хорош. Но себе не оставила, заметив чуть завистливый взгляд Хафсы, подарила ей, мол, пусть подарок с далекого севера греет валиде.
929 год хиджры (1523 год) был счастливым. Все складывалось хорошо, третий ребенок родился здоровым, никто Хуррем и ее детей не травил, а султан впервые за много лет не повел никого в поход и даже к нему не готовился.
Сначала никто не поверил в миролюбие Османского правителя, считали, что снова хитрит, наступит осень и Сулейман двинется… только вот куда? Никто не мог угадать. Ко всем дворам Европы летели сообщения агентов, гадавших, словно дети или воины, выбрасывающие кости ради забавы. То казалось, что пойдут еще раз на Венгрию, но проходили недели, а большой барабан, собиравший войско в поход, молчал. Значит, поход начнется осенью? Тогда на север и запад не пойдут. Оставался восток. Неужели Персия?
Но султан и не собирался никуда идти. Этого не понимали многие, в том числе близкие к Сулейману люди. Поддерживал Ибрагим и, конечно, Хуррем. Так невольно эти двое, бывшие уже врагами, советовали одно и то же.
Почему, ведь Ибрагиму было бы выгодно ходить с Сулейманом в походы? Но выгодно только на первый взгляд. Грека больше устраивала мирная жизнь, он тяготел к купеческим делам и предпочитал зарабатывать на торговле, а не на грабеже завоеванных городов.
Сам Сулейман размышлял здраво. Походы ради расширения территории не всегда оправданны, всему свое время, будут и походы…
Но для себя он усвоил другое: не только для завоеваний, но и для того, чтобы держать огромные территории в узде и просто в повиновении, нужна хорошая армия. Чтобы содержать армию, нужны деньги. Чтобы были деньги, нужно, чтобы богател сам народ, а значит, заботиться нужно прежде всего о тех, кто засевает поля и собирает урожай, кто пасет скот и кормит тот же Стамбул.
Султан вовсе не был народным защитником, он просто трезво оценивал положение дел. Можно ходить в походы и привозить из них добычу, но эта добыча сделает богатыми только военачальников, на время янычар и других воинов, но не обогатит народ. Землепашец не может покинуть свое поле на полгода ради военной славы Повелителя, иначе ему нечего будет есть зимой.
Да и что такое военная слава, завоевания? Большую территорию легче завоевать, чем потом удержать, да и к чему чужие земли? Для их удержания нужны воины, чиновники, много людей, которые через некоторое время начнут жить своей жизнью, им будет не нужен султан и Стамбул. Стоит ли забираться далеко от дома, чтобы потом даже не знать, что происходит в самых дальних провинциях? Не проще ли получать дань, пусть не такую большую, как от покоренных земель, но зато не тратя даже на сбор ничего. Он сам предпочел бы получать дань только за то, что не нападает.
Но Сулейман хорошо понимал, что либо он завоевывает, либо его. Пока была передышка, Европе не до завоеваний и крестовых походов, она едва дышит сама, без конца перекраивая собственные крошечные территории. Этим следовало воспользоваться и навести порядок в своей стране.
Многие начали ворчать, в первую очередь янычары, которым сидеть в городе все равно что тигру в клетке. Душа янычар, воспитанных в готовности к войне, ее и требовала.
Ворчал и Пири-паша. Старик говорил, что он устал, что пора на покой, но в то же время выговаривал Сулейману за бездеятельность, мол, растерять завоевания дедов и отцов легко, а попробуй что-то свое добавить… И при этом настойчиво звал на юг и восток, там много добычи, там не пустые европейские безделушки, а проверенное веками – богатая земля, богатые народы…
Сулейман на Персию идти не желал, его тянуло в Европу, и все чаще приходила мысль заменить Пири-пашу кем-то другим. Султан прекрасно знал, кем хотел бы заменить, но выгодное и приятное для него решение могло вызвать настоящий скандал, а потому Сулейман никак не мог решиться. Смешно, человек, бросавший на штурм крепостей десятки тысяч воинов, легко отдававший приказ о начале смертоносной атаки, не мог решиться назначить человека, которому бесконечно доверял, своим визирем.
А еще он не хотел обижать отставкой верного Пири-пашу. Пусть старик уже мало что мог, пусть жил старыми реалиями, не понимал и не принимал новое, но он был разумен и давным-давно служил потомкам Османа.
Хуррем (она уже и сама себя называла теперь так, слишком много всего пережито под этим именем за столь короткое время) всегда тонко чувствовала настроение любимого, понимала, когда его нужно развеселить, а когда просто поддержать. Она умудрялась давать советы именно такие, каких ждал сам Сулейман, угадывая его собственные мысли. Чаще всего получалось, что повторяла то, что было в голове у самого султана, а он воспринимал это как поддержку.
Наверное, так и должно быть. Хуррем пока еще плохо разбиралась в политике, не так много знала, потому умение просто поддержать в нужный момент было ценней ее собственных размышлений. Придет время, и она будет диктовать многое, но тогда еще было рано. Женское чутье помогало не говорить глупостей, не лезть со своими советами в то, в чем не разбиралась совсем. А там, где могла подсказать, Хуррем делала это так ловко, что Сулейману казалось, будто это он сам додумался.
Вот и сейчас, каким-то чутьем уловив, что Сулейман размышляет о замене Пири-паши и связанных с этим проблемах, Хуррем живо откликнулась:
– Совсем стар стал Пири-паша…
Она начала этот разговор неожиданно даже для себя, а уж для Сулеймана и вовсе нежданно. Обернулся, вскинул на Хуррем глаза:
– Почему ты о нем?
Она присела у ног на ковер, удобней пристраивая свой уже большой живот, коснулась его ступни, потом колена, чуть улыбнулась:
– Сегодня видела, как он ковылял. На покой бы старику…
– А кого взамен поставлю?
Сказал и подумал: хорошо, что не слышит валиде, хотя ей все равно передадут, в гареме у стен есть уши, кизляр-ага все слышит. Где это видано, чтобы султан что-то обсуждал с наложницей, пусть даже хасеки?
– Ибрагим-пашу, кого же еще?
– Кого?
– Вы доверяете больше всего ему, больше, чем любому другому человеку на свете. Он умен, хорошо знает положение дел, у Ибрагим-паши налажены отношения с купцами, его любят в армии…
После таких слов кто мог бы обвинить Хуррем во враждебном отношении к Ибрагиму? На время все действительно затихло, после рождения Михримах Хуррем больше не пытались убить, во всяком случае, пока не пытались. А теперь Хуррем носила уже четвертого ребенка, и Зейнаб говорила, что снова будет мальчик. Счастливый Сулейман чувствовал себя именинником.
– Но Ибрагим не согласится…
Хуррем хотелось закричать, что спрашивать необязательно, любой был бы счастлив таким назначением, но она сдержалась, ни к чему выдавать истинное отношение к греку.
В ее совете кроме понимания реального положения дел и того, что по совету или без Сулейман все равно назначит Ибрагима визирем, был еще и расчет, что при новой должности греку будет некогда задумываться о доставлении неприятностей ей и детям. Ибрагим подчеркнуто выделял Мустафу, чем весьма радовал Махидевран. Если станет визирем, то баш-кадина и вовсе почувствует поддержку.
Но Хуррем была готова и на это, только бы отстали от нее и детей. Она сама тоже притихла, ни с кем не спорила, не ссорилась, стараясь держаться от всех подальше, а к детям поближе. Трое малышей даже при служанках и няньках требовали внимания, а тут еще очередная беременность. Хуррем носила детей легко и рожала так же. Михримах не в счет, если бы не отравили, девочка тоже родилась вовремя. Она действительно была очень хорошенькой, живой и быстро привыкла к всеобщему вниманию. Султан, как и обещал, принцессу баловал. Валиде поджимала губы:
– Вырастет капризной.
Мехмед уже в таком маленьком возрасте показывал недюжинный ум и способности, он легко схватывал итальянские слова, которые учила мать, и с Марией разговаривал по-итальянски. Это была просьба Хуррем, которую Мария с удовольствием выполняла. Она ежедневно подолгу беседовала с малышом, чтоб тот привыкал к разным языкам.
И снова валиде ворчала, потому что мальчик часто говорил на смеси турецкого и итальянского, это приводило Хафсу просто в ужас, а у Мустафы вызывало зависть:
– Я тоже хочу учить итальянский!
Мустафе восемь, вполне взрослый мальчик. Махидевран тут же объявила, что Ибрагим найдет для шехзаде настоящего учителя, не то что эта нищая итальянка.
«Нищая итальянка» посмеялась:
– Дворец моих родителей немногим меньше султанского, об остальном я говорить не буду.
Сама Мария по-прежнему много времени проводила за разговорами с Хуррем. Она не сразу поверила, что женщина ничего за пределами дворца не видела и не знает:
– А как же родители?
– Рогатин маленький город, в нем нет огромных зданий и соборов. Но большой собор я однажды видела, когда ездила с отцом во Львов. Но тогда я была слишком мала, чтобы что-то понимать. А потом налетели татары и взяли меня в плен. Дальше была Кафа, но тоже за высоким забором в школе наложниц, а потом Стамбул и гарем.
Мария пыталась рассказывать о дворцах Рима и Флоренции, о живописи, скульптуре, о музыке… Она действительно оказалась высокообразованной женщиной, к тому же любящей искусство и историю, Хуррем раскрыв рот слушала ее рассказы о Лоренцо Великолепном, о прекрасной Италии, о древнеримских императорах, о Цезаре, Августе, Александре Македонском… Рядом, так же раскрыв рот, слушал маленький Мехмед. Он мало что понимал, но стоял, завороженный плавной речью флорентийки.
Слушала Гюль. У нее появилась возможность выйти замуж за весьма состоятельного чиновника, даже Сулейман давал согласие, но Гюль на коленях умоляла Хуррем не отдавать ее:
– Мне так хорошо рядом с вами!
Хуррем не просто слушала, она училась. Занимательные истории рассказывались не только ради забавы или итальянского языка, они развивали мышление. Конечно, все двигалось очень медленно, иногда настолько, что Мария приходила в отчаяние, чтобы объяснить одно, ей приходилось долго рассказывать предысторию, она плохо знала турецкий, Хуррем немного лучше итальянский, приходилось повторять и повторять… Но все же двигалось. В то время как другие обитательницы гарема пересказывали друг дружке сплетни или попросту сочиняли их, Хуррем либо возилась с детьми, либо чему-то училась.
Зато Сулейману становилось все интересней с ней беседовать и все менее интересно это делать с другими. Даже когда с Хуррем уже нельзя было спать рядом, он предпочитал не брать наложниц. Валиде выговаривала, Сулейман пожимал плечами:
– О чем с ними говорить?
– О любви!
– Валиде, о любви я могу говорить с одной женщиной – Хуррем, вы же знаете.
– Имея такой гарем, быть привязанным к одной!..
Хафса не зря злилась, третий год Сулейман и впрямь знал одну Хуррем, даже если брал кого-то на ночь, то только на ночь, выпроваживая немедленно. А наутро уже забывал, как зовут ту, с которой провел часть ночи.
Третий год Хуррем властвовала в душе Повелителя. Никто не мог поверить, что это продлится долго, все ждали падения Хасеки, но его все не было. Хуррем, даже будучи беременной, умудрялась оставаться для султана самой красивой, самой лучшей, самой интересной. Все вокруг пожимали плечами:
– Околдовала, не иначе.
Сулейман назвал Ибрагим-пашу главным визирем. Скандал! Все понимали, что рано или поздно это произойдет, ждали этого. Но, как всегда, то, чего не желаешь, как бы ни ждал, происходит неожиданно.
Назначение сродни пощечине многим, тем, кто считал себя вправе рассчитывать на эту должность. Понимали, что Ибрагим самый достойный по деловым своим качествам, но родовитые, те, чьи отцы, деды и даже прадеды служили отцу, деду и даже прадеду Сулеймана, оскорбились возвышением безродного грека, вчерашнего раба. Что будет, если султан начет забывать прежние заслуги родов, саму родовитость? Это означало, что никакого заступничества, никакой надежды на достигнутое предками, самому нужно добывать положение при Повелителе. Могло ли такое понравиться? Нет.
Но Сулейман был готов к недовольству. Для назначения Ибрагима на место старого Пири-паши ему требовался всего толчок. Этот толчок сделала Хуррем.
То, что Ибрагима ценит и валиде, Сулейман знал.
Все совпало: вопреки недовольству знатных пашей вчерашний раб Ибрагим-паша стал визирем. Он и раньше был правой рукой султана, а теперь стал таковым и официально.
Умный Пири-паша, делая наставления перед передачей власти, советовал только одно: набраться терпения и служить Повелителю не за страх, а на совесть. Ибрагим мысленно усмехнулся, но вслух ничего не сказал.
Перед назначением Сулейман беседовал с другом, Ибрагим пытался отказаться от назначения, помня, каково было визирям при прежнем султане.
– Клянусь, я не сниму тебя с должности просто так, по капризу. Или вообще не сниму, пока сам не попросишься.
Ибрагим знал, что Сулейман свои клятвы держит, относится к произнесенным словам трепетно, но он не хотел навешивать на себя такой груз власти, а на султана такое недовольство пашой. Сулейман, поняв, в чем дело, махнул рукой:
– Всем хорош не будешь, пусть привыкают, что в милости у меня будут за заслуги, а не по родству или заслугам отцов. И сам не отказывайся, потому что кому, как не тебе, вместе со мной во все впрягаться? Я же все равно с тобой по всем вопросам советуюсь.
Ибрагим хотел сказать, что не по всем, но промолчал. Не все следует произносить, что подумалось, даже самому большому другу не все, что просится на язык, можно говорить. А уж то, что просилось на язык у Ибрагима, вовсе стоило от Сулеймана припрятать.
Тот год действительно был примечательным, в Венеции синьор Андреа Гритти все-таки дождался своей очереди и стал дожем. Ему было шестьдесят восемь, но новый дож отличался отменным здоровьем, любовью к власти, женщинам и богатству. Власть он получил, богатства хватало, а женщины все еще боготворили статного красавца с орлиным профилем. Гритти в таком возрасте умудрился соблазнить монахиню, которая произвела на свет очередного незаконнорожденного отпрыска Гритти. Венеция была в восторге!
Андреа Гритти обещал Османам вечный мир, впрочем, прекрасно понимая, что воевать просто не сможет. Но и турки воевать с Великолепной Синьорой тоже не желали, они с большим удовольствием получали оттуда зеркала, ткани, ковры, разные красивые безделушки, в том числе изделия из цветного стекла.
Ибрагим был готов развивать торговые отношения с Венецией особенно активно. Нового визиря, как и нового дожа, вполне устраивал мир между странами и взаимовыгодная торговля. К тому же венецианцы умели благодарить тех, от кого что-то зависело. Однажды они преподнесли Ибрагиму перстень стоимостью в 4000 дукатов при годовом доходе дожа в 1800 дукатов, а простого венецианского чиновника в 100 дукатов.
Ибрагим, видно, умел использовать свое положение не во вред себе самому, ну и Турции тоже. Бедестан наводнили товары из Венеции, а по Мраморному морю, так незаметно переходящему в Средиземное, снова засновали венецианские корабли, тем более рыцари-пираты больше не мешали. Оставалось привести в чувство своих собственных, но это было еще впереди. Во всяком случае, венецианские корабли даже турецкие пираты старались не тратить. Вот как выгодно дарить дорогие подарки визирю!
Но к чести Ибрагима, он с головой погрузился в работу, которая требовала не только много времени, но и частого присутствия в самых разных местах и регионах. Голова Ибрагима теперь постоянно была занята делами империи, ему оказалось не до душевных страданий. Но это не мешало ему мечтать о реванше и унижении Хуррем.
Сама же Хуррем искала, чем еще отвлечь опасного противника, чтобы тот больше ничего не замышлял против нее самой.
Искала и ведь нашла!
В гареме очень мало развлечений, ну сколько можно сплетничать, слушать птичек, разглядывать рыбок в бассейнах или прудах, просто прогуливаться по дорожкам сада? Еще был хамам, очень редкие поездки в каретах и иногда цирковые представления.
Когда султан или валиде вдруг решали порадовать обитательниц гарема каким-то представлением, это выливалось в настоящий праздник. Казалось, чем можно удивить тех, кто наряжается ежедневно? Но наложницы умудрялись и тут поразить друг дружку. Один наряд лучше другого, ярче, богаче, заметней. На представление собирались задолго до его начала, это время требовалось, чтобы обсудить и взаимно осудить вкусы, умение подобрать украшения, их богатство и блеск, решить, кому уже пора переселяться в Старый летний дворец, а кто еще может привлечь внимание.
Валиде нарочно оставляла время для таких разговоров, иначе и представление смотреть не будут, отвлекаясь на чужие наряды. В гареме не принято говорить громко, девушки словно шелестели, шепотком обмениваясь фразами и кивками – осуждением.
Сегодня предстояло выступление труппы, в которой есть мужчины, поэтому большинство девушек прикрыли лица. Вряд ли у воздушных гимнастов, делающих одно за другим сальто, была возможность хотя бы просто скосить глаза на обитательниц гарема, но понимание того, что рядом чужой мужчина, заставляло женщин прятать лица.
Хуррем исподтишка оглядывала собравшихся. Все-таки даже у закрытого лица есть свои преимущества. Накинутая на голову вуаль позволяла осторожно наблюдать, не выдавая себя.
За три года она привыкла быть одна, смеялась, старалась выглядеть и быть веселой, словно смех и улыбка защищали от дурного глаза, от чужой нелюбви и даже ненависти. Может, так и было?
По положению, имея троих детей от султана и будучи кадиной, она должна быть рядом с Гульфем, однако не стремилась к этим женщинам, понимая, что те постараются продемонстрировать, что она ниже по положению.
У кресла султана на ступеньке лежала большая подушка, все делали вид, что не знают, для кого она. Раньше это место предназначалось матери наследника баш-кадине, но в последние месяцы подушки на месте не оказывалось, а вошедший султан демонстративно кивал Хуррем, и кизляр-ага быстро приносил на что сесть Хасеки. Сегодня подушка лежала, но ни Махидевран, ни Хуррем не решались занять место. Все ждали султана.
Первым пришел Ибрагим. И вдруг… нет, Хуррем была готова поклясться, что ей не почудилось. Глаза Хатидже Султан явно блеснули радостью при взгляде на нового визиря! Хуррем осторожно скосила глаза на сестру султана еще раз. Нет, не показалось, Хатидже действительно чуть смущенно потупилась, когда взгляд Ибрагима скользнул по ней.
Хатидже Султан сидела не в накинутой на голову вуали, а закрыв только нижнюю часть лица, глаза оставались на виду.
Размышлять долго не пришлось, вошел Повелитель, оглядел зал, нашел взглядом саму Хуррем и сделал ей знак, чтобы подошла. Женщина выполнила, склонившись перед Сулейманом. Тот так же молча показал на подушку у своего кресла. Хуррем почувствовала, как полоснул по ней взгляд Махидевран. Было от чего, ее, мать наследника, лишали законного места, и кто – рабыня!
Зато Гульфем поглядывала на баш-кадину почти злорадно. Тоже было от чего, давно ли ее саму вот так же вытеснила отовсюду – из постели Сулеймана, а потом с этой подушки сама Махидевран? Фюлане, родившая самого первого сына Махмуда еще в Кафе, ни на что претендовать не могла, ее век оказался совсем коротким. Но в Манисе Гульфем и Махидевран сцепились не на шутку. Когда хитрой и умной Махидевран удалось оттеснить соперницу и все же занять заветное место на подушке и в сердце Сулеймана, никто не сомневался, что она никому его не уступит. И вот тебе!..
Но Хуррем так привыкла к ненависти баш-кадины, что почти не обращала на нее внимания, ее занимало другое.
Началось представление. Акробаты, вернее, акробатки, выбежавшие на середину зала, принялись выделывать такие трюки, что казалось, у них вовсе нет костей, зато руки и ноги, как у сильных мужчин. Под музыку старшие подбрасывали и гнули младших, словно те были куклами, а не живыми девочками.
Хуррем почувствовала даже зависть, ведь сама была снова круглой, как шарик.
Уже со своего места, с подушки у ног султана, она снова пригляделась к Хатидже Султан. Нет, не показалось, сестра Сулеймана явно благоволила к греку, она то и дело косила в его сторону взглядом, поймав ответный взгляд, почти вспыхивала, быстро отворачивалась, но почти сразу поворачивалась снова.
Для себя Хуррем уже решила, что будет делать. Хатидже понравился Ибрагим, сестричка Повелителя просто влюбилась. Ей давно пора замуж, извелась вся, а за кого? Просто паша не устроит, а у тех, кто постарше, есть гаремы.
У Османов не один закон, регулирующий жизнь султанской семьи, законов много. Есть такой, что запрещает мужьям султанских жен иметь гаремы. Верно, это оскорбление для сестры Повелителя – делить мужа с другой и быть одной из жен, пусть даже первой.
В тот же день Хуррем осторожно завела разговор о том, что Хатидже замуж давно пора.
– Знаю, – нахмурился Сулейман, – только за кого ее выдашь?
– За того, кто ей самой нравится.
– Кто это ей нравится? – У Сулеймана даже дрему как рукой сняло.
Хуррем тихонько рассмеялась:
– Тот же, кто и вам.
– Хуррем, говори, что знаешь, не люблю ваши женские штучки.
– Да вы слепой, что ли? Неужели не видели, как Хатидже на Ибрагим-пашу смотрит? А он на нее, – тут же на всякий случай добавила Хуррем.
Султан приподнялся на локте, он лежал после сытного обеда, честно борясь с дремотой, Хуррем сидела рядом.
– Ты уверена?
– Конечно. У Ибрагим-паши жены нет, детей тоже, он красив, умен, достойный муж для вашей сестры.
– А вдруг она против?
– А вы спросите и увидите сами.
Хуррем обратила внимание, что о согласии Ибрагима речь не идет, да и кому пришло бы в голову отказаться, если предложат жениться на сестре Повелителя, к тому же молодой, красивой и неглупой?
– Поговорите с валиде, только не говорите, что это я сказала.
Сулейман так и поступил. Когда он озадачил валиде вопросом об отношении Хатидже к Ибрагиму, Хафса даже чуть растерялась:
– Никогда бы не подумала, что вы способны такое заметить.
– Ну почему же? – чуть смутился Сулейман, мысленно благодаря наблюдательную Хуррем. – Как вы полагаете, согласится ли Хатидже стать женой Ибрагим-паши?
– Она согласится, а вот согласитесь ли вы взять в родственники вчерашнего раба?
Сулейман поморщился, он никогда не считал Ибрагима рабом, даже тогда, когда тот им был.
– Я не считаю Ибрагима рабом.
– А сам Ибрагим?
Повелитель не ответил, он вдруг сообразил, что жениха-то не спросили. Согласится, куда он денется.
– Я поговорю с Ибрагимом. А вы с Хатидже.
Поговорить с Ибрагимом оказалось не так-то просто. Выход снова подсказала Хуррем:
– Предложите ему породниться. Он поймет.
– Ты уверена?
– Не Михримах же вы ему предлагаете? Ясно, что Хатидже.
Ибрагим согласился, он действительно умен и прекрасно понимал, что, отказавшись, просто закроет себе все пути. Сулейман хоть и не злопамятен, но отказа жениться на сестре не простит. Хатидже не вызывала у Ибрагима ни приступов страсти, но и отторжения.
Свадьбу сыграли очень шумную, несколько дней проходили гуляния и состязания на Ипподроме. Султан подарил другу большой дворец возле Ипподрома, Ибрагиму понравилось, потому что это район, где издавна селились посланники разных стран, ведь даже не имея постоянных послов, монархи всегда держали немало агентов. Также рядом жили многие состоятельные купцы, в том числе венецианские…
Хуррем отдыхала душой. Казалось, в Стамбуле, а главное, в гареме наступил долгожданный мир. Сначала прошел праздник возрождения новой жизни, стамбульцы радовались, султан пожертвовал на празднование огромные деньги, ели от пуза, всюду неумолчно звучали зурны, сазы, били большие барабаны, раздавались голоса певцов, зазывал, крики приветствия и иногда отчаяния тех, кого ограбила рука нечестивца…
Сулейман все правильно понял: если нет войны, должен быть праздник. Разница только в том, что на войну уходят надолго, а праздник через несколько дней забудут и снова примутся злословить. На всех не угодишь, да это и не нужно. Если станешь экономно расходовать казну, скажут, что скуп, примешься часто устраивать праздники – сначала отпразднуют, а потом немедленно назовут транжирой. Ибрагим не советовал обращать внимание на злословие. Он прав…
Сорок раз по утрам совершали утреннюю молитву – сабах – в Айя-Софии. Все посты соблюли, все положенные намазы отстояли, потом праздновали истово, чтобы Аллах видел, что живут по правилам.
А в месяц раджаб падишах объявил, что выдает свою сестру за визиря Ибрагим-пашу и дарит молодым дворец Ипподрома.
Многих возмущало возвышение грека, давно возмущало, но понимали, что Повелитель слишком доверяет его советам, слишком привязан, готов во всем слушать до сих пор. Разумом понимали, что Ибрагим-паша самый достойный, действительно умен и разумен, что не одно и то же, что он хорошо разбирается в делах государства и польза будет большая.
Но визирь – это одно, а зять – другое. Отдавая Хатидже Султан Сулейману, падишах роднился с рабом! Пусть бывшим, пусть вчерашним, но все равно рабом. И хотя среди высокородных пашей нашлось бы мало желающих жениться на сестре Сулеймана (все помнили о законе, запрещающем иметь других женщин), выбор именно Ибрагима оскорбил многих. Получалось странное недовольство: на его место не хочу, но почему он, а не я?!
Никто не спрашивал Ибрагима, каково ему самому. Хатидже хороша собой, умна, молода, но ведь сердце может не лежать даже к самой красивой и умной женщине. На счастье Ибрагима, пока его сердце было отдано той, которая была для него недоступна, вернее, из-за невозможности обладания любовь быстро перерастала в ненависть. Так бывает, говорят, от ненависти до любви один шаг, но ведь и обратно тоже.
Ибрагим пока еще сам не осознал, что ненавидит Хуррем с каждым днем все сильнее, ему казалось, что он равнодушен, а сердечное волнение объяснял опасениями, как бы глупая женщина их не выдала. Видел, что этого никогда не будет, знал, что она будет молчать, но себе внушил, что боится этого.
Плохое внушение, того, кого опасаются или с чьей стороны боятся предательства, даже невольного, начинают ненавидеть. И удивительно, что чем больше получают доказательств, что страх напрасен, тем сильнее боятся и сильнее ненавидят. Все кажется, будто человек обязательно предаст, обязательно погубит.
Гибели Ибрагим не боялся, в слишком жестоком мире он жил, чтобы не понимать, что жизнь человеческая мало что стоит, даже жизнь визиря и зятя падишаха. Куда сильнее он боялся падения, унижения, потому не желал быть главным визирем, малейшее понижение, уменьшение доверия, малейшая ошибка, и его просто затопчут, растерзают, заплюют его противники. Нет, не противники – враги, потому что противников у тех, кто рядом с троном, кто поднялся так высоко, особенно с самого низа, из нищеты, нет, все вокруг враги, даже те, кто улыбается по-дружески, заверяет в своей верности и дружбе. Каждый, кто не дополз до вершины, не достиг, не сумел, ненавидит того, кому удалось.
Если бы он понял, что единственным его настоящим союзником, для которого важен, прежде всего, султан, могла бы стать Хуррем, они вместе составили бы несокрушимую пару. Но как раз этого оба не могли, никогда, ни за что Хуррем бы не поверила Ибрагиму, а Ибрагим ей. Они были судьбой обречены ненавидеть друг друга и бояться. Два талантливых и сильных человека уже потратили и еще потратят много сил на противостояние.
Но сейчас им обоим предстояло радоваться.
Никто не знает, что именно испытывал Ибрагим во время свадьбы и после нее, но улыбался он довольно убедительно. А если от улыбки сводило скулы, то все понимали – это от усталости. Восемь дней он развлекал тех, кто попроще, – янычар, сипахов, дворцовую челядь, потом пришла пора везти невесту в дом жениха, и очередь приниматься за застолье дошла до знатных.
Гарем совсем опустел, потому что женщины, от валиде и баш-кадины до простых рабынь, отправились, кто готовить невесту к свадебной церемонии, а кто просто поглазеть. Хуррем не полагалось быть там, хотя она очень хотела хоть бы посмотреть. Но не пошла не только потому, что лезть со своим большим животом слишком опасно, но и потому, что в 24-й день месяца раджаб 930 года хиджры (28 мая 1524 года) у нее с самого утра начались схватки! То ли она ошиблась и повитухи тоже, то ли ребенок намеревался родиться раньше срока, но у Хасеки Хуррем начались роды.
– Вах, госпожа! Нужно немедленно сообщить валиде-султан!
– Нет, ничего не нужно. Пусть свадьба идет своим чередом. Я Аллах!
– Инш Аллах! – Зейнаб уже принялась распоряжаться, чтобы принесли побольше горячей воды.
Они видели, как хочется рабыням тоже посмотреть на счастливую Хатидже, а потому Фатиме пришлось даже раздать несколько пощечин, чтобы привести рабынь в чувство:
– Ваша госпожа рожает, а вы куда-то в сторону смотрите?!
Хуррем тихонько заплакала, но не от боли, а от обиды. Даже здесь она позади. Ну почему роды начались именно в этот день, не вчера, не завтра, не через неделю. В результате вокруг нее остались только самые верные: Зейнаб, Фатима и Гюль с Марией.
Тужась, Хуррем стискивала кулачки и клялась себе, что станет главной женщиной гарема, станет во что бы то ни стало! Такой, легкое недомогание которой заставит прерваться любой праздник, а Повелителя сидеть у ее постели, а не в золотой карете рядом с сестрой на празднике!
Как она могла на такое рассчитывать, ведь не она мать первого шехзаде, у нее столько врагов, столько тех, кто говорит гадости, даже ни разу не видя и не слыша ее голоса, даже таких, кому она что-то пожертвовала, чем-то помогла… Почему? Потому что стала любимой женщиной Повелителя, не расталкивая других, никого не уничтожая, не губя ничьи жизни? Нужно было подкупать, злословить, делать гадости, а то и травить, убивать, клеветать? Тогда бы сплетни и слухи хоть были не зря.
На этой волне злости, обиды на всех, на свою судьбу, не позволившую ей просто любить мужчину, а ввергнувшую в ненависть и зависть гарема, где просто невозможно сохранить душу незапятнанной, заставившую сменить веру, забыть свое имя, свою родину, Хуррем родила быстро, хотя и довольно тяжело.
Сулейман сидел на празднике, ждал, пока произнесут все заготовленные поздравительные речи, пока поэты прочитают сочиненные ими стихи, среди которых не нашлось достойных, только слабое подражание былым поэтам, пока прозвучат все пожелания плодовитости и счастья молодым… Праздник казался бесконечным…
И вдруг…
Даже гром барабанов и голоса многочисленных зурн, приветственные возгласы гостей и шум на улице не смогли скрыть выстрела пушки на стене.
– Пушка?!
К поднявшемуся во весь рост султану подскочил присланный кизляр-агой евнух:
– Повелитель, Хасеки Хуррем Султан родила вам сына.
Точно так же, как пушечный выстрел пробился сквозь свадебный шум, этот тихий голос евнуха был услышан гостями.
Теперь поздравления слышались уже в его адрес.
Махидевран просто перекосило от злости:
– Нашла время рожать! Не могла до завтра дотерпеть, даже свадьбу Хатидже умудрилась испортить.
Валиде, видя счастливые глаза сына, тихонько возразила:
– Да ведь роды не ждут и не спрашивают, когда можно, а когда нет.
– Это она нарочно вызвала их сегодня!
Сам Сулейман гордо провозгласил:
– Сын Хасеки Хуррем, названный в честь моего прославленного прадеда Мехмеда Фатиха, уже есть, теперь нужно назвать в честь моего отца. Называю сына, рожденного Хасеки Хуррем, Селимом. А уж будет ли он Явузом или Хаяли (Мечтателем), покажет время. Бисмиллах!
Он снял с руки перстень с огромным рубином и протянул гонцу:
– Передай это в дар Хасеки. А это тебе, – в руку принесшего хорошую весть перекочевал еще один перстень поменьше. – А еще скажи, что я велю сделать ступеньки из золота, чтобы она могла садиться в седло, как она хотела.
Слова потонули в гуле одобрения, словно то, как станет султанша взбираться на коня, было самым важным.
Махидевран снова не сдержалась:
– Ступеньки ей из золота? Чтобы на шею Повелителю удобней взбираться!
– Замолчи, ты с ума сошла?! – Хафса стиснула руку Махидевран так, что остались следы пальцев.
Хорошо, что женщины сидели отдельно за решеткой, чтобы не быть видными мужчинам, но все слышать. Ажурная косая решетка позволяла видеть только силуэты и слышать их нежные голоса, волнуя воображение гостей.
Хафса молила Бога, чтобы Сулейман не слышал ничего из сказанного Махидевран, иначе завтра баш-кадина может вернуться в Летний дворец. Ей самой тоже вовсе не понравилось такое совпадение, но валиде понимала, что Хуррем не нарочно подгадала роды.
У несчастной Махидевран улыбка перекошена так, что остальные стараются в ее сторону не смотреть. Есть от чего кривиться, у Повелителя четвертый сын, у Хуррем уже третий… Сколько же эта сучка будет приносить потомство? И ведь какое живучее! Первый щенок грудь не брал, девчонка родилась до срока, этот, кажется, тоже, но прибежавшая из гарема рабыня подтвердила: да, Хуррем родила здоровенького мальчика. Махидевран едва не плакала. Она поняла бы султана, если бы соперница обладала выдающейся красотой, а так… Ведьма, не иначе.
Конечно, ведьма! – твердо решила для себя Махидевран. Сердце несчастной женщины обливалось кровью. Она вовсе не была злой или такой уж коварной и искренне любила султана, но провела рядом с ним совсем немного времени. Сначала между ней и Повелителем влезла наглая Гульфем, а потом вот эта зеленоглазая ведьма.
Молодая женщина, любившая и не так давно любимая, чувствовала себя ненужной и от этого несчастной. Махидевран сильно похудела, хотя и не стала гибким стебельком, каким была когда-то, она применяла разные средства, чтобы улучшить цвет лица и свою кожу, чтобы не допустить морщинки, тщательно следила за своим телом, чтобы на нем не было ни единой лишней волосинки, делала все, чтобы быть привлекательной. Темные глаза баш-кадины сверкали, встречаясь с глазами Повелителя, светились радостью, стоило ей увидеть Сулеймана…
Но все напрасно, его сердце похитила эта ведьма…
Что оставалось Махидевран? Только бороться за свою власть в гареме, за то, чтобы ее сын стал следующим султаном, чтобы проклятая ведьма не внушила Повелителю мысль сделать шехзаде ее щенка. Да-да, Махидевран уже боялась даже этого.
Но у нее оставалась надежда, что Хуррем все же надоест Повелителю, баш-кадина уже не надеялась вернуться в спальню султана, она хотела только того, чтобы из этой спальни ушла соперница. Пусть там будет кто угодно другой, только не эта Хуррем!
Подумав об этом, Махидевран даже обернулась к валиде, но прикусила язык, не время сейчас о таком. Валиде заметила ее порыв, как и то, что невестка сдержала себя. Мысленно похвалила Махидевран за сдержанность, не время проявлять к Хуррем какую-то злобу, Повелитель счастлив не только свадьбой сестры и любимого друга, но и рождением еще одного сына. Всему свое время, спадет с глаз Повелителя пелена, и Хуррем не вечна в его спальне.
Вымученно улыбаясь, Махидевран делала вид, что радуется празднику Хатидже. У нее такого не было, султаны уже давно не женились, а просто держали наложниц в гареме. Можно стать кадиной, даже баш-кадиной, но это все равно не венчанная жена, все равно рабыня, даже если не купленная. Кроме того, Ибрагим обречен быть верным жене, у него не будет гарема, а значит, у Хатидже не будет соперниц. Счастливая… А всего лишь надо было родиться сестрой султана.
Хафса с тревогой наблюдала за Махидевран. Она понимала все, что чувствовала баш-кадина, сама когда-то испытывала подобное. Счастливая соперница, невнимание мужа, страх перед будущим… Правда, Хафсе в свое время было еще хуже. Махидевран хотя бы какое-то время была любима, а она сама и того не испытала, очень красивая и сознающая это Хафса была вынуждена мириться с откровенным пренебрежением Селима. Мало того, Селим не был султаном и едва ли мог им стать, тогда никто не знал, что будет.
Но мудрая Хафса все равно понимала чувства брошенной женщины. У Хафсы тогда хватило ума не восстановить сына против отца, никогда не сказать ни единого дурного слова, ни взглядом, ни вздохом не дать понять Сулейману, что презирает Селима, что не держит на него обиду, не показать, насколько несчастна. Понял ли Сулейман? Если и понял, то только сейчас, при жизни отца она удержала сына от протеста, даже от негодных мыслей об этом.
Сумеет ли это сделать Махидевран, не внушит ли, пусть даже невольно, Мустафе чувство досады, злости на отца из-за несчастья матери? Не может же мальчик не видеть, что творится? Этого Хафса боялась больше всего, она решила после свадьбы поговорить с матерью Мустафы, объяснить ей опасность такого внушения. Мустафа не должен возненавидеть братьев, чувствовать опасность, исходящую от них, стать им врагом.
Конечно, все в гареме заметили недовольство и даже несчастье Махидевран. И правда, почему мать Мустафы после его рождения Повелитель удалил из своей спальни, радовался растущему сыну, но Махидевран к себе не брал, может, потому, что ее заменила Гульфем? А вот Хуррем берет к себе, и та снова рожает ему детей. Уже четверо за неполные четыре года!
На следующий день Хафса позвала к себе Махидевран:
– Как Мустафа? Мальчик здоров после праздников?
– Здоров, благодарю вас, валиде-султан.
– А ты здорова ли?
– Здорова.
– Не похоже.
– Голова болит от шума и криков. Мы не привыкли к такому. Это мужчины, которые ходят в походы, могут терпеть барабаны, а для слабых женщин тяжело.
Она пыталась делать вид, что все хорошо. Вечером долго не могла заснуть, все пыталась понять, как ей быть, как вести себя. Разум подсказывал, что Повелителя не вернуть, а глупое сердце продолжало надеяться. Но как об этом скажешь кому-то, даже валиде? Махидевран продолжала вымученно улыбаться, ссылаясь на головную боль из-за шума.
– Махидевран, я хочу с тобой поговорить. Никогда раньше не рассказывала, хотя, думаю, ты все знаешь сама. Садись, послушай.
Конечно, им лучше бы выйти в кешк, чтобы кто-то хоть ненароком не услышал, но, с одной стороны, Хафса действительно собиралась говорить то, что известно всем, с другой – была уверена, что не подслушают, покои валиде так расположены, что подслушивать некому.
– Все знают, как трудно мне было рядом с султаном Селимом, каково пришлось. Но я все вытерпела, когда наступили трудные времена, – Хафса не стала говорить, что других просто не было, – я перестала думать о собственном счастье или несчастье, я думала только о Сулеймане.
– Вы воспитали прекрасного сына, валиде-султан…
– Знаю, но сейчас не о том. Главное, я сумела не внушить ему ненависть к отцу, это спасло Сулейману жизнь. Понимаешь? Что бы ни было с тобой, постарайся, чтобы этого не заметил Мустафа. Он должен знать, что любим отцом, и сам должен любить Повелителя. А для этого не должен видеть несчастья матери. Ты меня слышишь? Понимаешь ли?
Как ни сдерживалась Махидевран, а слезы на глазах выступили.
– Понимаю, только смогу ли? Повелитель без конца возится с Мехмедом и Михримах. Нянчится с ними, восхищается.
– Они совсем маленькие. Мехмед толковый мальчик, но не толковей Мустафы. А Михримах просто девочка, Повелитель мечтал о дочери, тем более, она хорошенькая. Они дети и твоему сыну не угроза.
Махидевран даже возражать не стала, она прекрасно понимала, что валиде лжет сама себе. Как могут братья не быть угрозой? Султан Селим был младшим, да и Сулейман тоже…
Хафса долго еще убеждала Махидевран, та кивала, постепенно разговор пошел просто о делах в гареме, о вчерашней свадьбе. Уже перед уходом баш-кадина вспомнила:
– А вы видели новорожденного, каков он?
Хафса заметно смутилась, вчера она не стала заходить к Хуррем, все размышляла, как станет разговаривать с Махидевран, а сегодня прямо с утра этим и занялась, да вот заговорились… Уже полуденная молитва прошла, а она до сих пор не навестила роженицу.
Постаралась ответить как можно безразличней:
– Нет, я еще не была. Сейчас схожу…
Махидевран очень понравился ответ валиде, отмахнулась:
– Она, наверное, спит. Или разглядывает перстень Повелителя.
Нет, Хуррем не спала и перстень не рассматривала. Она кормила маленького Селима, решив кормить самой, как делала с другими сыновьями. Так надежней.
Женщину никто до сих пор не навестил. Хуррем знала, что пушка выстрелила, Повелитель прислал подарки, добавив к перстню еще много всего. Но мужчине нельзя приходить к рожавшей женщине целых сорок дней, значит, его ждать не стоило. Хуррем и не ждала, но почему же не зашла ни валиде, никто из одалисок, даже те, кто только вчера подлизывались на всякий случай?
Хотя с одалисками понятно, они ждут, как поведет себя валиде. Сейчас весь гарем ждет, притихнув. А валиде словно и не догадывается, что у нее новый внук. Хуррем старалась не плакать, она знала, что должна выглядеть довольной и счастливой, когда к ней придут. Покормила Селима, отдала, чтобы уложили спать. Потом покормила маленького Абдуллу. Михримах уже не сосала грудь, да если бы и так, у нее есть кормилица.
Хуррем приласкала дочку и старшего сынишку…
Напряженно ждала, но никто не появлялся. Отдав малышей Гюль и Марии, чтобы погуляли, вдруг села к столу и попросила писчие принадлежности. На лист легли строчки:
Хуррем извинялась за то, что не смогла поздравить сама и передать приготовленные подарки.
Она задумалась, не отправить ли подарки с евнухом, но потом решила подождать, что-то подсказывало не торопиться. Женщина снова вскинула перо. Обещала сказать пожелания счастья лично и подарки преподнести тоже.
Немного погодя раздался стук в дверь.
– Валиде! – вскинулась Хуррем. Фатима как-то странно покачала головой.
Вошел кизляр-ага, он не мужчина, ему можно входить даже к только что родившей женщине. Произносил слова поздравления, желал здоровья Хасеки Хуррем и новорожденному, но как-то странно отводил глаза. Кизляр-аге не привыкать, у него глаза редко поднимаются от пола, и как только видит все вокруг? Но смотрел как-то не так, словно не собирался и в то же время жаждал что-то сказать.
– Здоров ли Повелитель?
– Инш Аллах!
– Как молодые?
– Все хорошо.
Тогда кто же и что произошло?
– Я хотела передать Хатидже Султан и Ибрагим-паше письмо с извинением, – Хуррем протянула незапечатанный лист кизляр-аге, тот взял лист и снова опустил глаза, но не уходил. Значит, есть что сказать.
– Как здоровье валиде-султан?
– Она приболела…
– Что с ней?! – Хуррем испугалась по-настоящему. Вот почему нет валиде, а она-то думала, что та просто не желает видеть внука!
Но то, как именно прятал глаза кизляр-ага, заставляло подозревать, что не все так просто. Евнух говорил о недуге как-то так, словно валиде всего лишь прикусила губу или ударилась локтем. Ах, вы так?!
Хуррем взволнованно просила передать пожелания здоровья и долголетия валиде, извинялась за то, что не может прийти и пожелать лично, ведь ей нельзя выходить.
– Если бы было можно, я поползла бы на четвереньках или побрела, держась за стену. Может, мне все-таки разрешат выйти? Кизляр-ага, вечером, когда никто не видит? – А глаза смотрели насмешливо.
– Нет-нет, не стоит, ей уже лучше, намного лучше.
И снова Хуррем передавала приветы и свои пожелания. Кизляр-ага поторопился уйти. Вот теперь он не лгал.
Хуррем повернулась к Фатиме:
– Это будет большим нарушением, если я выйду из комнаты?
– Женщине нельзя видеть мужчину до конца очистительных дней, вернее, мужчине ее.
– Мужчин в гареме нет. Я чувствую себя достаточно хорошо. Ну-ка, одеваться!
– Госпожа, стоит ли?
– Это к Хатидже я не могу поехать, чтобы ненароком не увидел Ибрагим-паша, хотя и там можно скрыться. А что мешает сходить к валиде и пожелать здоровья больной?
– Ничего, это для нее будет уроком. Совсем зазналась, завладела сердцем Повелителя, не допуская никого, – в голосе Махидевран горечь и боль, но губы привычно улыбаются.
Хафса же сидела как на иголках, когда она вдруг решила не идти к Хуррем и новорожденному внуку, делая вид, что больна, все казалось правильным. Не пошла сразу, хотя надо бы, теперь стоит сделать вид, что это из-за недуга. У валиде давно больно сердце, после стольких дней волнений праздника неудивительно, что оно снова прихватило.
Но у гарема чуткие уши и глаза, они все слышат и видят, кизляр-ага не зря смотрел в сторону, в гареме знали, что валиде не больна, а притворяется.
Стук в дверь раздался неожиданно, и одновременно с евнухом почти вбежала взволнованная Хуррем. Хафса не успела не только прилечь, изображая нездоровье, но и выпустить из рук кусочек пахлавы. Насмешливый взгляд Хасеки окинул стол, полный яств, сидящих явно за приятной беседой валиде и баш-кадину, и опустился вниз:
– Валиде… Махидевран… Кизляр-ага сказал, что вы больны, иначе я не посмела бы прийти без зова. Валиде-султан, как ваше здоровье? Примите мои поздравления со вчерашним событием и позвольте сообщить о рождении внука. Повелитель решил назвать его в честь своего отца Селимом.
Она все рассчитала верно, Хафса отмахнулась от невестки:
– Я знаю.
И тем самым выдала свою осведомленность и то, что не пришла навестить намеренно. Это граничило с оскорблением, но Хуррем сумела сдержаться, напротив, принялась с особенным волнением расспрашивать валиде о ее недуге, словно важнее недомогания Хафсы не было ничего.
– Валиде, простите мою настойчивость. Мне очень хотелось расспросить о свадьбе Хатидже Султан и Ибрагим-паши, на которой я не смогла побывать, и показать вам внука, но, узнав, что вы больны, я поспешила навестить, чтобы пожелать здоровья. Надеюсь, вам вскоре станет лучше, и вы сможете увидеть сына Повелителя, которого падишах назвал в честь своего отца Селимом. Еще раз прошу простить.
Хуррем поклонилась, как положено, и прежде чем Хафса успела ответить, вышла из ее покоев. Она не стала пятиться и выходить спиной, как полагалось бы наложнице и даже кадине, она бросала вызов, отворачиваясь от валиде, глаза Хасеки при этом сверкнули, словно этот вызов подтверждая.
Служанки Хуррем пятились, как положено…
Своим появлением и словами Хуррем поставила Хафсу в неловкое положение, вернее, в таковое валиде поставила себя сама. Если бы она действительно была больна или просто успела прилечь, болезнь изображая, все выглядело бы прилично, но Хуррем застала валиде врасплох, теперь все будут знать, что ее болезнь ложная.
Хафса решила не обращать внимания на болтовню гарема, ясно, что никто не осудит валиде, все дурные слова достанутся Хуррем. То, что валиде не стала немедленно навещать родившую невестку, давало всем понять, что валиде не одобряет увлечение своего сына этой женщиной.
Вызов
Хуррем действительно бросила вызов. Если раньше она норовила уходить от любых столкновений, отвечать смехом на любые выпады против себя, то теперь вдруг почувствовала настоящую злость. Конечно, свадьба Хатидже куда важней, но свадьба была вчера, сегодня можно бы вспомнить, что родился внук? Пусть далеко не первый, даже у самой Хуррем четвертый ребенок, но ведь и Сулейман далеко не старший из сыновей, и сама Айше Хафса не старшая и не любимая дочь.
Неужели так будет всегда, неужели ее, Хуррем, дети всегда будут на заднем плане? А впереди кто, только Мустафа. Разве рождение одного сына, тоже ведь не первенца, дает право Махидевран чувствовать себя хозяйкой не меньшей, чем валиде? Даже назвав Хуррем Хасеки, то есть особо любимой и приближенной к себе, Повелитель не смог поставить ее выше баш-кадины – матери наследника.
Она кормила малышей, кусая губы от досады, когда мудрая Фатима вдруг начала говорить:
– Госпожа сердится из-за того, что валиде не пришла посмотреть внука? Но ведь кизляр-ага сказал, что она больна?
– Не больна, и даже плохо делает вид, что больна! Ей не нужны мои дети, у нее есть Мустафа!
– Хуррем Султан, позвольте мне сказать…
– Говори. И не разговаривай со мной так, словно я недоступна. Мне очень тошно, Фатима. Сына родила, а поздравлений не слышу, никто даже не поинтересовался ни моим здоровьем, ни новорожденным принцем. Неужели так будет всегда?
– Я об этом и хочу поговорить. Махидевран Султан долго ждала своего часа, очень долго.
– Да она давно баш-кадина!
– Давно, но только потому, что не было матери Махмуда. И пока был жив сам шехзаде Махмуд, сила Махидевран не была настоящей. Только когда Мустафа стал первым шехзаде, Махидевран стала настоящей баш-кадиной. Шехзаде Мустафа родился еще в прежние дни, когда и сам Повелитель не был султаном, это очень важно. Потому для валиде и самого падишаха этот сын так важен.
– Я понимаю, что он наследник, и даже думать не хочу ни о чем плохом для шехзаде Мустафы. Но что же делать мне? Почему мои дети не интересны, не нужны валиде?
– Они просто еще совсем малы. Их никто не воспринимает как настоящих принцев и принцессу. И у них нет другой защиты, кроме их матери. Пока дети в гареме с матерью, даже их отец султан им не защита. Нужно, чтобы вы это поняли, и пока они не подрастут, не делали и не говорили ничего, что могло бы повредить детям.
Некоторое время Хуррем молча смотрела на Фатиму, пытаясь осознать то, что услышала. Старая рабыня права, пока дети в гареме, пока сыновья не ушли под опеку отца и других мужчин, им защитой только мать.
– Что мне делать, как удержать Повелителя?
– Вспомните, чем вы славились всегда? Смехом, весельем, приветливостью. Хуррем, вот вы кто. Не стоит забывать об этом сейчас.
– Но смеяться совсем не хочется.
– Нужно. Мужчины не любят женщин, в чем-то их упрекающих. Махидевран допустила в этом ошибку, не повторяйте. Только приветливость, только ласка и веселье.
– Но как можно быть приветливой, если мужчина провел ночь с другой?
– Вы можете что-то изменить? Запретить?
– Нет.
– Тогда зачем морщить лоб, чтобы на нем легла ненужная складка? К приветливому лицу хочется возвращаться, к хмурому и недовольному, к упрекам и слезам никому возвращаться не хочется. Запомните это.
Хуррем только вздохнула в ответ. Фатима, ободренная тем, что Хасеки слушает, продолжила наставления:
– Вы не должны отвлекаться на валиде и Махидевран, не они главное.
– А кто, Повелитель?
– Конечно, Повелитель и ваши дети, прежде всего, Мехмед. Он умный и красивый мальчик, Повелитель очень любит этого сына, если Аллаху будет угодно, то Мехмед вырастет красивым и умным мужчиной.
– Инш Аллах!
– Инш Аллах! – отозвалась Фатима. – Но пока он мал, вы должны сделать все, чтобы мальчик рос таким. Махидевран допускает главную ошибку: она старается внушить Мустафе, что он самый лучший, что остальные ничего не стоят. И это вместо того, чтобы делать сына лучшим. Шехзаде Мустафа всем хорош, но из-за матери все больше зазнается. Ему будет очень трудно признать кого-то из братьев равным. Я пока не буду говорить дальше, но вы подумайте над тем, что уже сказано. Привлекайте Повелителя тем, чем привлекли с самого начала, – улыбкой и умом, в этом вам нет равной. И Мехмеда старайтесь воспитать таким же, все время подчеркивая, что Мустафа старший и что его нужно любить.
– Это зачем?
– Госпожа, вы молоды, и хотя многое повидали, жизнь еще многому научит. Она не заканчивается завтра и бывает совсем не такой, как хотелось бы или как ожидали.
– Хочешь сказать, что Мустафа и сам не так давно стал наследником?
– И это верно, но сказать я хочу иное. Брату трудно ненавидеть брата в ответ на его любовь, пока оба дети. А к тому времени, когда оба повзрослеют, войдет в привычку и много воды утечет… К тому же, если Повелитель увидит, что Махидевран настраивает своего сына на ненависть и презрение, а вы своих на любовь, он не сможет не оценить вашу мудрость.
Она еще долго внушала Хуррем, что ненавистью в гареме вызовешь только ненависть.
– Но что бы я ни делала, меня все равно ненавидят.
– Это зависть, ее не избежать.
После разговора Хуррем решила написать Сулейману письмо, сообщить, что родила еще одного сына. Думать о возможной судьбе этого ребенка не хотелось. Хуррем помнила, что пришедший к власти султан уничтожает все мужское потомство, могущее претендовать на трон, кроме него самого.
Нужно изменить этот страшный закон! Почему брат должен убивать братьев?
Она вдруг усмехнулась: задумалась об изменении закона, данного Мехмедом Фатихом… Самой бы выжить и детей вырастить…
Сулейман отправился в гости к молодым. На свадьбе Ибрагим сказал, что такого пира не может быть ни у кого на свете, когда задетый падишах возразил, грек рассмеялся:
– Повелитель, ты можешь устроить любой пир, пригласив хоть всех османов, но у тебя никогда не будет на пиру в гостях Повелителя, Тени Аллаха на земле!
Сулейман рассмеялся шутке друга, но его чуть задело обращение на «ты», все же не стоило этого делать при таком количестве чужих людей вокруг. Постарался тут же забыть об этой неловкости, даже забыл, но внутри осела маленькая песчинка недовольства.
Это была не первая песчинка, уже не раз, даже не замечая того, Ибрагим демонстрировал свое превосходство над Сулейманом. Не нарочно, так получалось. Они давно вместе, очень давно, с того самого времени, как Селим стал султаном, отправив Сулеймана бейлербеем в Манису. Грек всегда был на полшага впереди, демонстрируя свои знания и способность очень быстро схватывать новое. Нет, Сулейман не отставал, но пока он в Трапезунде, а потом Кафе просто жил, Ибрагим учился в дворцовой школе, а учили там серьезно.
Ибрагим знал больше шехзаде Сулеймана, был умен и любил верховодить. Это и нравилось, и не нравилось Сулейману, но у него больше не было друзей, его наставник Ахмед-паша мудр, слагал великолепные стихи, но он был стар, а потому для дружбы не годился. Может, потому Сулейман столь сильно попал под влияние друга…
Но время шло, недостаток образования Сулейман успешно наверстывал, добавляя и собственные размышления, стихи он слагал уже куда лучше грека, книг прочел не меньше, но все же большую часть сведений и советов получал от друга. После смерти Ахмед-паши и вовсе беседовал в основном с Ибрагимом. И снова грек демонстрировал свое превосходство, не явно, не прямо, замечанием, сделанным вскользь, брошенным словом, насмешливым взглядом…
Как ни был умен Ибрагим, он не понимал, что из миллионов малых песчинок состоит огромная пустыня, из крохотных капелек воды море, из мгновений вечность. Так рано или поздно, накопившись, эти крохотные обиды и унижения превратятся в большой камень, который потопит их с Сулейманом дружбу. Тем более, Сулейман быстро наверстывал упущенное и во многом даже ушел вперед своего друга.
Когда стал султаном, даже не подумал оставить друга в стороне. Сначала сделал сокольничим, потом смотрителем внутренних покоев, чтобы всегда был рядом, чтобы иметь возможность посоветоваться, чувствовать опору и поддержку.
Они оба были совершенно неопытны, когда в первый год пошли на Белград, но именно неопытность и непредвзятость помогли иначе посмотреть на проблему, и та разрешилась, Белград, который не смогли одолеть предки, пал к ногам Сулеймана.
И Родосом тоже овладели не воинским умением, а разумом, осаждать можно было еще долго, но Сулейман правильно выбрал время и, пусть ценой немалых потерь в войсках, одолел рыцарей.
Султан набирался опыта, и вместе с тем крепла его уверенность в себе, подсказывать ему прямо становилось все трудней. Но Ибрагим не беспокоился, у него было не просто средство влияния на султана, умный грек знал, что есть то, в чем он во много раз сильнее Повелителя. Дело в том, что Ибрагим был гораздо свободней султана, даже будучи рабом, он мог свободно передвигаться, беседовать с людьми, он мог видеть жизнь за пределами дворца и знал о ней в тысячу раз больше Сулеймана. Султан поневоле был ограничен теми сведениями, которые находили нужным докладывать, пересказывать, доносить ему. Это было далеко не все, что следовало знать. Манипулируя этими сведениями, можно было серьезно влиять на решения Повелителя.
Несмотря на свою молодость Сулейман прекрасно понимал, что им могут и будут пытаться манипулировать. Он знал, что большинству доверять просто нельзя, что каждый при дворе будет пытаться перетянуть все на себя, а потому верил, прежде всего, старому другу, то есть Ибрагиму. В этом доверии и была главная сила Ибрагима.
В гареме Сулейман был, словно в лесу ночью, всем распоряжались и обо всем ему рассказывали валиде и кизляр-ага, дополняя друг друга, они довольно успешно управляли беспокойным хозяйством из сотен женщин, детей и евнухов. Это сильно облегчало жизнь султану. Конечно, он знал лишь малую часть того, что происходило в гареме, ему доносили только самое важное, старательно скрывая очень и очень многое.
А о жизни вне дворца рассказывал Ибрагим. Конечно, были и те, кто доносил по долгу службы, но это была все та же обрывочная информация. К чести Ибрагима, он действительно разбирался в том, что творится в Стамбуле и стране, наладил отношения со многими купцами и дипломатами. Официально в Стамбуле почти не было постоянных иностранных послов, только от Венецианской республики, да еще пара посланников, остальные прибывали и убывали по мере необходимости.
Доклады глав самых разных служб, доклады бейлербеев с мест, доклады янычарских пашей и даже имамов теперь стекались к Ибрагиму. И в основном от него теперь получал нужные сведения Сулейман. Понимал ли султан, в какую зависимость попадал от старого друга? Понимал, но что он мог поделать? Ибрагим даже советовал султану в переодетом виде гулять по рынкам и улицам Стамбула, чтобы своими глазами видеть, чем живет столица. Но Сулейман счел это неуместным, а вернее, боялся увидеть то, за что просто прикажет казнить виновных и выдаст себя в первый же день.
И снова Ибрагим был на шаг впереди, снова Сулейман поступал по его если не подсказке, то наводке. Нельзя сказать, что Сулейман не понимал зависимости, скорее просто не желал ее замечать. Эта власть очень нравилась греку и вовсе не нравилась султану. Снова было превосходство раба над господином, и снова откладывались крохотные песчинки, готовые когда-нибудь погрести под песчаной горой старую дружбу и доверие.
Но пока это не грозило, султан еще только набирал силу, советовать все равно было некому, да и рассказывать о мире за пределами дворца тоже. Сулейман правил четвертый год из предстоящих ему сорока шести, все еще было впереди.
А потом между ними словно встала Хуррем. Сначала казалось, Ибрагим счастлив счастьем Повелителя, потом даже пытался найти Хуррем замену, но поняв, что это не получится, просто не обращал на Хасеки внимания. Но для Сулеймана Хуррем была важна не просто как необычная женщина, он был влюблен не в одни ее зеленые глаза или золотые волосы, Сулейман любил и ее схватчивый ум. Удивительно, но рядом с Хуррем Сулейман начинал играть ту же роль, которую при нем играл Ибрагим. Султан вдруг почувствовал вкус не только к получению новых знаний, но и к их передаче.
Конечно, их разговоры с Хуррем не могли сравниться с беседами, которые велись с Ибрагимом, но Сулейман не просто читал стихи, он учил. Учил мыслить, рассказывал что-то новое, о чем она не знала, даже спорил. О чем можно спорить с женщиной, кроме безделушек или ссор в гареме? Но с Хуррем можно, она больше любила обсуждать прочитанное в книгах или разбирать философские стихи любимых поэтов Сулеймана, чем даже слушать газели о любви.
Конечно, Ибрагим ревновал, даже не осознавая этого. Во всяком случае, так считал султан. Это верно, женщина, даже умная, никогда не должна вставать между мужчинами.
Сулейман и заподозрить не мог, насколько прав в этом убеждении. Хуррем отвоевывала все больше места не только в сердце влюбленного султана, но и в его разуме. Если с первым Ибрагим вполне мог мириться (должен же султан кого-то любить), то второе не нравилось греку совсем. Место женщины на ложе, а лезть в серьезные занятия мужчин ей не пристало совсем, не говоря уже о том, чтобы философствовать.
Но если бы это была просто женщина, а то ведь та, которую никак не удавалось забыть самому Ибрагиму, которая знала тайну, способную уничтожить его самого. Наблюдая за тем, как Хуррем становится все дороже Сулейману, грек волновался, потому что, если султан и впрямь полюбит женщину всей душой, он простит ей невольное прегрешение. Ее прегрешение действительно было невольным, ведь она, рабыня, не могла противиться воле купившего ее мужчины. А вот Ибрагим… Конечно, он мог взять рабыню, мог делать с ней все, что пожелал, но только не имел права скрывать это от Повелителя.
Ее помыслы были чисты, а не его. Ибрагим понимал, что Хуррем тоже невыгодно открывать Повелителю тайну, но понимал и другое: если ее доведут до края, то она это сделает. А погибая сама, обязательно утопит и виновника.
Люди устроены одинаково, независимо от того, султан или простой пахарь, визирь или дервиш, улем или янычар… Все любят тех, кому сделали что-то хорошее, и не любят тех, кто сделал хорошее им самим, особенно ненавидят тех, от кого зависят, кому не смогли вернуть за их дары, а должны бы сделать это. Но всего сильней ненавидят тех, кто может погубить в любую минуту. Только если этот человек сильней и выше по положению, то пресмыкаются, а если равен или ниже, то ненавидят черной ненавистью.
Ибрагиму впору ненавидеть Хуррем именно так, ведь одно ее слово могло погубить уже почти всесильного пашу. Но ненависть грека была особенной, самой страшной. У сильного человека желание обладать женщиной, натыкаясь на невозможность делать это, превращается в ярость, а если к этому добавить понимание, что собственными руками такую возможность разрушил, и угрозу падения, связанную все с той же женщиной, получалась ненависть, выход у которой только один – гибель Хуррем. Ибрагиму было легче задушить ее собственными руками, чем каждый день видеть рядом с Повелителем, знать, что они друг друга любят, и знать, что Хуррем может погубить его в любую минуту.
Она не знала, за что именно ненавидит ее грек, он даже не подавал вида, что ненавидит, но чувствовала это всем сердцем. Стоило Ибрагиму появиться рядом, как возникало ощущение страшной опасности. Хуррем посоветовала сделать Ибрагима визирем, надеясь, что, получив печать и огромную власть, грек просто забудет о ней. Не вышло. Теперь оставалась надежда на то, что в качестве султанского зятя Ибрагим станет спокойней.
Неприятие греком Хуррем заметили все. Сулейман решил, что это просто ревность друга, которому стали уделять меньше времени. Султан тоже надеялся, что, женившись, Ибрагим станет мягче и тоже будет занят…
Зато Хафса и Махидевран, нежданно получив столь сильного единомышленника, обрадовались. А если вспомнить и Хатидже… Правда, пока было неясно, как можно объединить усилия.
Хуррем просто не догадывалась, что натворила, посоветовав султану отдать свою сестру в жены Ибрагиму. А если бы узнала? Наверное, даже порадовалась злой радостью.
Она не ошиблась, заметив интерес Хатидже к греку. Это неудивительно, Ибрагим был хорош собой, статен, умел окружить себя богатством и даже поклонением. Его свита росла и грозила стать большей, чем у самого Повелителя, одет Ибрагим был едва ли не богаче султана, а уж драгоценностей на визире куда больше, чем на Сулеймане. Любил Ибрагим золото и камни, любил роскошно одетую свиту, рослых телохранителей, хороших лошадей, согбенные спины. В этом он был султаном куда больше, чем сам султан.
Любил красивых женщин… О султанской сестре Хатидже никогда и не думал. Не была Хатидже Султан столь неотразима, чтоб глаз с нее не спускать, к тому же Ибрагим не мог видеть ее лицо, наполовину прикрытое яшмаком, а свободная одежда не позволяла заметить стройность фигуры. Даже получив право постоянно бывать в гареме, он не вглядывался в лица женщин, опасаясь недовольства Повелителя. Конечно, женщины гарема стреляли в него глазками, но только глазками и только одалиски и рабыни, к тому же, несмотря на его новое положение, старались прикрыть низ лица. Это не свой гарем, в котором можно видеть всех женщин.
Мысли Ибрагима были заняты совсем другим, и даже не Хуррем. Он стал визирем, а это накладывало слишком много обязанностей и огромную ответственность. Одно дело давать султану советы из-за плеча или намекать на неверные решения, принятые Пири-пашой или другими визирями, совсем иное принимать эти решения самому, прекрасно понимая, что малейшей ошибки не простят.
Грек втайне мечтал о таком назначении и боялся его. Он чувствовал в себе силы и способность справиться, но понимал, что ошибок не простят не только враги и завистники, но и сам Сулейман, боялся потерять не просто свое положение, но многолетнее доверие Повелителя. Ибрагиму было не до женщин и, тем более, не до сестры падишаха. Когда Сулейман намекнул, что может породниться, грек несколько мгновений, не понимая, смотрел на султана. Быстрый ум Ибрагима перебрал всех возможных дальних родственниц Повелителя, которых он знал, о Хатидже даже не вспомнил. Одно дело назначить визирем и потом снять за какую-то недоработку (а Сулейман даже поклялся, что не снимет с должности просто по капризу), но совсем другое отдать бывшему рабу свою сестру.
Пришлось Сулейману почти открыто говорить, чтоб сватал Хатидже. Когда в месяце раджаб Повелитель вдруг объявил, что отдает свою сестру Хатидже в жены Ибрагим-паше, остальные и удивились, и нет. Удивились тому, что Сулейман так быстро на это решился, а не удивились тому, что продолжилось возвышение Ибрагим-паши. Нашлись злые языки, которые прошептали, что и свой гарем Повелитель завещал греку. Болтунов не нашли, слишком многие не любили везучего Ибрагим-пашу, чтобы смельчаков можно было выловить. Ибрагим обещал себе, что наступит время, и он сумеет поквитаться со всеми болтунами. Он ничего не забывал и не прощал, но не имел силы противиться сплетням, пока его не боялись.
И в этом они были похожи с Хуррем, ее, как и Ибрагима, султан возвышал по своей воле и заслуженно, но простить этого возвышения двум рабам без рода и племени сановитые завистники не могли. Зато как бы порадовались их падению!..
Ибрагим до конца не понимал, в какую петлю попал, пока не пришлось клясться в любви Хатидже Султан. Нет, это не потребовало больших усилий, очаровывать женщин он умел всегда, а Хатидже была красива и умна, хотя и несколько в возрасте. Сестры давным-давно имели семьи и детей, а она все ждала, когда же найдется достойный претендент на ее руку. Уезжать куда-то далеко от родных не хотелось, а дома того, кому сначала Селим, а потом Сулейман могли бы отдать Хатидже, не находилось. Когда Хатидже впервые увидела Ибрагима уже не слугой, сопровождающим шехзаде Сулеймана, а визирем Повелителя, разодетым сановником с большой свитой, пред которым склонялись гордые паши, ее сердце дрогнуло. Многолетний друг Повелителя не женат, но рискнет ли султан возвысить Ибрагима до своего родственника? Рискнул, за что Хатидже была брату благодарна.
Она была влюблена, а проведя ночь в объятиях опытного любовника, окончательно потеряла от него голову. Самому Ибрагиму Хатидже понравилась, но он головы не терял и был этим очень доволен. Лучше изображать любовь, чем действительно сходить с ума. Влюбленный мужчина не способен трезво рассуждать, любовь опьяняет сильней вина, может отравить безжалостней любого яда, связать по рукам и ногам крепче любых веревок, лишить воли, отнять разум… Пример тому султан, готовый нарушать ради своей зеленоглазой колдуньи любые правила приличия.
Нет, Ибрагим такого не желал, а потому был рад, что в его постели не Хуррем, а Хатидже, которая не противна, но и не сводит с ума. Влюбленную Хатидже легко подчинить своей воле, она готова выполнить любую просьбу, она будет хорошей заступницей перед Повелителем в случае необходимости.
Приехавший с поздравлениями Сулейман поцеловал рдеющую от смущения и счастья Хатидже в лоб и тихонько поинтересовался:
– Ты довольна?
Сестра вскинула на брата блестящие глаза:
– Я счастлива!
– Я рад, – от ее счастья и смущения Сулейман смутился тоже.
Сердце сжалось, как там Хуррем? То, что она родила довольно быстро и сын здоров, султан знал, ему так хотелось увидеть обоих! Но нельзя, проклятые запреты и правила. Он нарушил однажды, когда позвал к себе Хуррем через несколько дней после рождения Михримах. Валиде потом долго укоряла, не явно, не открыто, но при каждом удобном случае напоминая, что родившая женщина сорок дней грязна, к ней не стоит подходить, что не все законы нанесены на бумагу, есть неписаные, которые соблюдаются обычно крепче написанных, именно потому их нет необходимости закреплять буквами…
Когда родился Абдулла, чтобы не давать повода для нового осуждения, пришлось терпеть положенные сорок «грязных» дней. Сорок дней… это так долго! Хотя нет, уже тридцать девять. Все равно долго!
Когда сидели с Ибрагимом и Хатидже, обсуждая прошедшую свадьбу (сами празднества еще не закончились, еще не съели все, приготовленное для пира, не выпили, не нарезвились), из гарема принесли письмо от Хуррем. От Сулеймана не укрылось, как дернул щекой Ибрагим, а вот Хатидже, светившаяся от счастья, послание взяла:
– Повелитель, можно мне открыть?
– Конечно.
Он видел, как читала, расцветая улыбкой, сестра, сдержанно улыбнулся тоже:
– Что в нем? Если, конечно, не секрет.
– Нет, Хуррем Султан просит прощения, что не смогла быть на свадьбе сама и сама поздравить. Обещает обязательно сделать это лично и подарки подарить тоже.
Для Сулеймана было новостью, что Хуррем приготовила подарки для молодых от себя. Он даже бровь приподнял.
– Она и стихи прислала. Хотите, прочитаю?
– Конечно.
Хатидже читала стихи с явным удовольствием, а Ибрагим поспешил перевести разговор на другое:
– Повелитель, мы не поздравили вас с рождением еще одного сына. Вы назвали его Селимом в честь своего отца?
– Да, надеюсь, это принесет сыну счастье.
– Вы богатый отец, брат, четверо сыновей и дочка.
– Да, сестренка, – улыбнулся Сулейман Хатидже, назвав ее так, как звал в детстве. Ей захотелось прижаться к плечу брата и попросить почитать газели, он ведь так хорошо их читал в Трапезунде. А потом у брата появилась Фюлане, потом еще наложницы и дети, потом он стал султаном. Теперь, конечно, читать газели некогда… Или Сулейман их читает своей Хуррем?
Неожиданно Хатидже спросила это вслух. Теперь чуть смутился Сулейман:
– Читаю. Она любит поэзию и умеет красиво читать газели и даже писать стихи сама, – рука Повелителя повела в сторону листа, лежавшего на подушке рядом с сестрой. Та восхищенно кивнула:
– Я слышала стихи Хуррем, она хорошо пишет. Но вы, Повелитель, много лучше. Завидую Хуррем, ей достаются стихотворные строчки моего брата!
Хатидже и Сулейман рассмеялись. Они беседовали между собой так, словно рядом не было Ибрагима. Нет, это не нарочно и даже не случайно, просто сам грек не считал нужным участвовать в разговоре, но ему не понравилось такое единодушие по поводу Хуррем. Ибрагим снова перевел разговор на новорожденного сына султана:
– А маленький Селим здоров?
– Здоров, хвала Аллаху!
– Вы его видели?
Хатидже почти в ужасе посмотрела на мужа:
– Ибрагим-паша, как можно?! Еще не прошло сорок дней.
Тот натянуто рассмеялся:
– У меня нет детей и опыта в этом. Надеюсь, вы, госпожа, подскажете мне, что можно, а чего нельзя?
Хатидже зарделась:
– Подскажу. Женщинам известно многое, что непонятно мужчинам.
– Просто сами женщины это и придумали! – снова рассмеялся Ибрагим.
Что-то в его голосе и тоне не понравилось Сулейману, но султан решил, что это просто смущение молодого мужа перед женой, причем не просто женой, а сестрой Повелителя. Одно дело мужская дружба между господином и слугой, но совсем иное иметь дело с женщиной, принадлежащей к такому высокому роду.
Они еще долго сидели, пересмеиваясь, у Сулеймана было игривое настроение, он решил, что завтра непременно сходит пусть не к Хуррем, если это нельзя, то хотя бы к валиде и подробно расспросит о том, каков маленький Селим.
Из дворца Ипподром султан вернулся в свои покои в Топкапы почти вечером. Ему не хотелось оставаться одному. Сулейман понимал, что верный Ибрагим теперь будет занят Хатидже, но не ревновал к сестре, слишком счастливые были у той глаза. А вот у Ибрагима не очень. Почему, он не слишком счастлив в браке или просто скрывает свою радость?
Сулейман даже посмеялся сам над собой: как можно судить о счастье или несчастье в браке, если тот продлился всего день? Конечно, Ибрагим старается не выдать своих чувств, считая, что мужчине это не к лицу. Он ласково смотрел на Хатидже, сестра довольна, если бы что-то было не так, она не сумела бы скрыть.
Мысленно пожелав им счастья в любви и много детей, Сулейман попробовал заняться украшениями. Султан, как и его отец Селим, был хорошим ювелиром. Просто так заведено, чтобы каждый из Повелителей учился делу, словно им предстояло кормить себя этим. Селим Явуз любил создавать украшения, его примеру последовал и Сулейман.
Для свадьбы сестры он сделал семь (так положено!) разных украшений, которые невеста надела на себя. Семь счастливое число, семь украшений на невесте символизировали будущее счастье в семейной жизни, любовь, благополучие и хорошее потомство. Султан постарался, но не все задумки успел воплотить, захотелось продолжить, тем более, заняться вес равно нечем. Идти к Хуррем или звать ее к себе нельзя, звать кого-то другого не хотелось, тем более, после вида счастливых глаз Хатидже.
Как же это долго – сорок дней! И тридцать восемь, которые остались, тоже безумно долго!
Султан со вздохом подумал о том, что остался на эти дни один, близкий друг женат и счастлив, его мысли заняты молодой женой, а собственная любимая недоступна. Стало грустно…
В дверь постучали, вошел евнух, доставивший письмо из гарема.
От Хуррем! Сулейман с трудом дождался, пока евнух, пятясь задом, покинет комнату, казалось, тот разучился двигаться быстро. Едва створки двери закрылись настолько, чтобы евнух уже не мог видеть Повелителя, Сулейман сломал печать Хуррем (сам учил ее капать воском и вдавливать в него перстень).
Благодарственное письмо Хуррем было полно любви и ласки. Она сообщала о том, что новорожденный Селим крепок, хорошо спит и ест, что от него не отстает и Абдулла, а Михримах не желала снимать новое платье, требуя, чтобы купали прямо в нем… что Мехмед не просто знает числа, но и научился складывать их на пальчиках, правда, пока в пределах одной своей ручки.
А еще писала, как любят они с детьми своего Повелителя и отца, как дети хотят его видеть, как она сама тоскует по глазам, голосу и любви своего Повелителя.
Сердце сжалось от любви и желания увидеть всех их. Какое же счастье, что Аллах дал ему эту женщину!
Муэдзин прокричал призыв к вечерней молитве. Султан опустился на молитвенный коврик и в тот вечер долго и горячо благодарил Бога за такой подарок. Умная, красивая женщина, любящая, родившая ему сыновей и дочку… Он любит и любим удивительной, необычной женщиной, ради которой готов на все. Если многие не понимают эту необычность Хуррем, считают ее выскочкой, колдуньей, то бог им судья. Не стоит таких слушать, они же не знают настоящей Хуррем, той, которая умеет уловить любое движение души своего Повелителя, всегда найдет отклик на него, всегда поддержит и посоветует. Конечно, Хуррем не слишком сведуща, но она не теряет времени даром, откуда-то получает новые знания.
Сулейман вдруг понял, что Хуррем знает больше, чем могла бы узнать из книг и разговоров с ним. Да не просто больше, она знает то, чего не знает сам Повелитель.
От этой мысли султан даже замер. Почему-то раньше не задумывался, откуда его Хасеки знает о флорентийских и римских строителях и дворцах, которые те возвели. Кажется, она спрашивала, похожи ли римские дворцы на Айя-Софию… Хм… тридцать восемь дней действительно слишком большой срок, за это время он может забыть вопрос, а сейчас Сулейману очень хотелось поинтересоваться у Хуррем об источнике сведений.
Решив на следующий день обязательно навестить хотя бы валиде и поговорить о новорожденном Селиме, султан наконец улегся спать.
Заснуть сразу не удалось, еще долго думал, но не об осведомленности Хуррем, а о том, какой она стала после рождения уже четвертого ребенка. Очень хотелось обнять, хотя бы провести по золотистым волосам, коснуться щеки, услышать смех, утонуть в зелени ее глаз…
Утром он отправился в гарем к валиде не сразу, все же у султана были дела и помимо семейных. Хитрый кизляр-ага вчера сообщил, что валиде-султан немного устала на свадьбе, но уже к обеду хорошо себя чувствовала, поэтому у султана кроме собственного интереса был повод навестить Хафсу. Предупреждать о приходе не стал, но приказал нести за собой большую корзину отменных фруктов.
Движение Повелителя не может быть незаметным, султан еще только двинулся в сторону ворот Баб-ус-сааде, а евнухи уже бежали к кизляр-аге с сообщением об этом. Главный евнух должен встречать господина у входа…
Он встречал. На вопрос, как чувствует себя валиде, скромно потупил глаза:
– Валиде здорова и спала хорошо.
Говорил так, словно это его личная заслуга, но оказанная из любви к султану безо всякого ожидания награды…
– А Хуррем Султан и принц Селим?
– Хвала Аллаху!
Еще на входе Сулейман сделал знак, чтобы не оповещали о его появлении. Не хотелось обычной шумихи, ведь шел не выбирать новую наложницу на ночь, а проведать валиде. Но, уловив его настроение, кизляр-ага не стал предупреждать и Хафсу тоже.
Потому, когда в открывшуюся дверь протиснулся евнух с сообщением, что идет Повелитель, изображать болезнь было поздно, да Хафса и не собиралась. Да, чувствовала себя вчера плохо, потому что устала во время свадьбы, неудивительно, она часто прихварывает, сказываются годы волнений…
– Валиде… Позвольте узнать о вашем здоровье.
– Повелитель, как я рада видеть вас в добром здравии и хорошем настроении.
– Вчера я весь день провел у Ибрагим-паши и Хатидже. Кажется, они довольны друг другом.
Хафса была рада такому сообщению. Она принялась расспрашивать о том, как выглядит Хатидже, весела ли, как обращается с женой Ибрагим-паша…
Последнего вопроса Сулейман даже не понял. Как может обращаться с сестрой султана Ибрагим? Кто бы рискнул обижать Хатидже?
Когда он сказал, что глаза Хатидже светятся счастьем, на глазах валиде даже выступили слезы. Она хорошая мать и любила своих детей, какими бы взрослыми те ни были. А старший из детей и единственный сын Сулейман, а также младшая Хатидже были ее любимцами.
У Сулеймана действительно было хорошее настроение, он заботливо поинтересовался у присутствующей тут же Махидевран, как здоровье ее и Мустафы, как его занятия, понравились ли шехзаде выступления во время праздника. Махидевран была рада проявленному интересу, подробно рассказала о Мустафе, посетовала, что тот ушел к янычарам…
Все было хорошо, казалось, семья воссоединилась в прежнем составе, ведь когда-то они часто сидели именно в таком составе – Сулейман, тогда еще не Повелитель, а просто шехзаде, валиде и Махидевран, которая очень старалась быть как можно ближе к Хафсе, чтобы у нее видеть мужа. Тогда противостояние Махидевран и Гульфем еще не зашло далеко, а сама баш-кадина была стройной козочкой. Времена изменились, теперь все иначе…
– А Хасеки Хуррем, как она? Как маленький Селим, он похож на мать?
Валиде явно смутилась:
– Хуррем?.. Она здорова, и ваши дети тоже.
Что-то в ответе матери не понравилось Сулейману, он подозрительно поинтересовался:
– Вы видели Хуррем?
И тут валиде допустила ошибку:
– Да, она вполне здорова, вчера приходила проведать… Даже прибегала.
– А… вы внука?
– Пока не видела.
Он ничего не стал спрашивать дальше. По тому, как прятала глаза Махидевран, как почти с вызовом вскинула голову валиде, понял все: Хуррем одна, только с детьми и служанками, никто ее не проведал, не поинтересовался, как дела. Сама прибежала вчера, услышав, что валиде плохо себя чувствует, но потом никто не пришел к ней. Не нужно быть знатоком отношений в гареме, чтобы понять, как произошедшее, вернее, не произошедшее отразиться на Хуррем. Валиде пренебрегла тем, что она родила сына, следом за валиде будут пренебрегать и остальные. Сулейман не сомневался, что никто не посмел переступить порог покоев Хуррем, если этого не сделала Хафса.
– Эти внуки вас не интересуют, валиде? И внучка тоже?
– Повелитель, я сама была больна.
– Я знаю, – султан старался говорить как можно мягче, он любящий сын, по-настоящему любящий. И отец тоже. – Но сегодня вы здоровы? Почему вы не любите этих внуков, валиде?
Не дождавшись ответа, вдруг развернулся и молча вышел прочь. Хафса обиженно поджала губы. Снова эта Хуррем во всем виновата!
Валиде понимала, что это некрасиво, но поделать с собой ничего не могла, ну, не лежало сердце к этой зеленоглазой худышке и ее детям. Хафса любила Мустафу и умершего Махмуда, а детей Хуррем просто признавала своими внуками… Нет, она ничего не делала и не говорила против малышей, но не слишком жаловала их, возможно, просто потому, что еще слишком малы, в том возрасте, когда дети еще крикливы и мало что понимают. Валиде не желала признавать, что Мехмедик умен и быстро всему обучается, к тому же ему третий год – самый забавный возраст. Да и маленькая Михримах, которой два, тоже любопытная красивая девочка. Но Мехмед был пусть и не явной угрозой всеобщему любимцу Мустафе, к тому же он сын выскочки Хуррем, этим все сказано.
Но валиде понимала, что султан прав – сходить к Хуррем и внуку все же придется.
Она кивнула хезнедар-уста:
– Узнай, ушел ли Повелитель или еще в своей спальне?
Самира как-то странно пожала плечами:
– Повелитель из гарема не ушел, но он не в своей спальне.
– А где?
Где это мог быть султан без ведома матери? Куда смотрит кизляр-ага?!
– Он… Повелитель у Хуррем Султан.
– Что?!
Валиде вскочила и метнулась к двери. Снова нарушил все правила, сорок дней мужчине нельзя видеть родившую женщину, и младенца тоже, они некрасивы это время.
Но у двери остановилась, замерла, пытаясь понять, что ей делать. Несомненно, Сулейман отправился смотреть на сына и Хуррем, потому что она, валиде, этого не сделала. Хотелось проучить Хуррем, а наказала себя. Бежать следом за султаном глупо, не ходить значило почти наверняка вызвать недовольство сына.
Хафса решила, что стоит схватиться за сердце, но сделать этого не успела, вернулась только до середины комнаты, как дверь снова отворилась и в ней появился кизляр-ага. Валиде была готова почти наброситься на несчастного кастрата почти так, как когда-то Махидевран набросилась на Хуррем. Но даже сказать ничего не успела, следом за кизляр-агой евнух внес большую корзину, полную отборных фруктов.
– Повелитель просил передать вам с пожеланиями здоровья.
Кизляр-ага тоже отступал спиной, как все слуги, и глаз не поднимал, но никто не мог бы поклясться, что он не видит сквозь опущенные веки, да и спиной тоже. Отсутствие мужского достоинства у кизляр-аги с лихвой возмещалось умением видеть через стены и слышать даже движения паука в паутине.
Настроение было окончательно испорчено.
Хуррем никак не ожидала появления Сулеймана, она сидела на ковре, играя с малышами. Селим лежал в люльке, Абдулла просто таращил глазки, еще не понимая, что происходит, а Мехмед и Михримах пытались разгадать фокус с то пропадавшим, то появлявшимся маминым большим пальцем. Детский смех сливался со смехом Хуррем, они были счастливы даже так – изгоями в гареме. И Хуррем знала, что сделает все, чтобы защитить этих четверых малышей, сумеет обмануть кого угодно, даже перегрызть горло, если понадобится.
Уже прошло время полуденной молитвы, скоро первая из вечерних, если бы валиде хотела, то уже пришла бы проведать. Но валиде не шла, не заглядывали и остальные, гарем твердо знал неписаные правила.
Ну и что! – тряхнула золотыми волосами Хуррем, – нам не нужна валиде, мы и сами справимся. Плохо, что гулять с детьми нельзя, ей хотелось бы порезвиться с малышней на лужайке сада, но придется подождать.
Вдруг ее осенило: сорок дней взаперти, конечно, несладко, но кто сказал, что она должна сидеть в своих комнатах? В гареме нет мужчин, Повелитель в Топкапы, Ибрагим-паша с молодой женой у себя во дворце Ипподром, евнухи не в счет… Значит, в сад-то выходить она может? Нужно просто делать это, не привлекая внимания. Решив так завтра и поступить, Хуррем даже рассмеялась счастливым смехом.
Мехмед сообразил заглянуть за руку матери.
– Э, нет, так не пойдет! Не подглядывай.
– Там пальчик, – малыш ткнул в ладонь Хуррем.
Ответить она не успела, потому что открылась дверь и…
На пороге стоял Повелитель. В комнате замерли все, сама Хуррем безмолвно раскрыв рот. Произошло невиданное, султан снова нарушил правила, явившись в комнату к недавней роженице.
Первым опомнился Мехмед, мальчик бросился к Сулейману:
– Папа!
Повелитель подхватил своего любимца на руки. Следом подбежала Михримах, вцепилась в полу халата, закричала:
– Я!
Султан подхватил дочь второй рукой, счастливо рассмеялся:
– Рук не хватает.
Абдулла, перепуганный поднятым шумом, заплакал, его подхватить пришлось Хуррем. Но малыш тоже потянулся к отцу, он хоть и был совсем мал, но хорошо знал, что имеет право на этого бородатого человека в большущей чалме.
Хуррем шагнула к мужу как можно ближе, чтобы и Абдулла смог своими маленькими ручонками дотянуться до отцовской шеи. Конечно, обнять султана за шею тут же понадобилось Михримах и Мехмеду.
Сулейман стоял, облепленный тремя детьми, для которых он не Повелитель, не султан, а просто любимый отец, и старался сдержать слезы. В этом тоже была вся Хуррем – она внушала детям мысль о величии Повелителя, но старалась, чтобы они прежде всего видели в нем отца, родного и близкого человека, которого можно вот обнять за шею. Махидевран очень старалась, чтобы Мустафа видел в отце султана, которого предстоит заменить, чтобы учился у того величию и сдержанности. Сдержанность, конечно, хорошо, но как Сулейману с самого детства не хватало вот такой простой человеческой близости, нехитрой ласки, бескорыстной любви.
Наобнимавшись вдоволь, дети запросились на пол. Мехмед стал рассказывать, что мама умеет отрывать себе большой палец и возвращать его обратно.
– Вот так? – Сулейман показал фокус.
Михримах завизжала от восторга, а хитрый Мехмед уже сообразил:
– А, ты тоже прячешь палец, прячешь!
Еще некоторое время заняло разоблачение родителей-фокусников. Потом, не выдержав, Сулейман тихонько поинтересовался:
– А Селим?
– Вон спит в колыбельке.
Селим был спокойным ребенком, малыш трех дней от роду спокойно спал, в то время как старшие галдели совсем рядом.
Пока Сулейман смотрел на пока еще красное личико Селима, Хуррем с тревогой вглядывалась в его лицо. Правильно мужчинам не показывают ребенка целых сорок дней, это для матери ее дитя красиво в любом возрасте, даже если некрасиво вовсе, ведь говорят же, что для вороны ее птенец орел. Отцу могло не понравиться личико новорожденного сына.
Но Селим открыл глазки и невольно улыбнулся. Это не была осознанная улыбка, просто у младенца ходуном ходил ротик, но выглядело именно так. Селим хотел кушать и пытался сообщить это матери пока без крика. Хуррем поняла:
– Повелитель, он просит кушать. Можно, я покормлю его?
– Конечно.
Он сидел на диване, держа на одном колене маленького Абдуллу, а на втором Михримах.
– Паша Мехмед, садись рядом со мной.
Мехмед кивнул как взрослый и устроился рядом с отцом, елозя по подушкам.
Если что-то делал Мехмед, Михримах немедленно должна повторить.
– И я!
– Садись.
Но, устроившись по другую сторону от отца, девочка тут же взвыла:
– Мне не видно!
И тут Мехмед снова показал, что он старше и умней, мальчик подвинулся:
– Садись здесь.
Теперь Сулейман сидел, держа одного ребенка на колене, а двух других обнимая за худенькие плечики, и смотрел, как Хуррем кормит четвертого ребенка.
Подумалось: так ли нужна власть, если есть вот такое счастье?
Но он был султаном, Повелителем, а потому должен думать о последствии любого из поступков.
Уже через минуту после появления султана в комнате Хуррем гарем не просто знал, что он там, но и принялся горячо обсуждать это из ряда вон выходящее событие. Снова из-за этой Хуррем Повелитель нарушал правила!
Конечно, Сулейману и Хуррем вовсе не было все равно, что о них думают валиде и остальные обитательницы гарема, но если Повелителя просто раздражало, то Хуррем понимала, что его появление вызовет новую волну зависти и ненависти. Так бывало всегда прежде, она боялась этой ненависти, боялась, что не сможет защитить себя и детей.
Но на сей раз все было иначе. Глядя на счастливого султана, облепленного детьми, их детьми, она вдруг поверила, что сумеет справиться со всем, одолеть любую неприязнь, вернее, научится сама и научит детей не обращать на нее внимания. Поняла, что их в этом мире пятеро – Повелитель, четверо их детей и она, обязанная защитить сыновей и дочь, остальные просто не в счет.
Меньше четырех лет назад Настю привезли в гарем, называя уже Роксоланой, она долго сопротивлялась, но приняла это имя. В гареме назвали Хуррем, она приняла и это имя и до самого рождения дочери звала сама себя только так. Перед рождением первенца стала мусульманкой, постаралась верить искренне, старалась учиться, чтобы быть интересной Повелителю, как могла, не замечала зависти, боролась за свою жизнь. Уже была настоящей Хуррем, заставив себя не вспоминать прежнюю жизнь, забыть Настю, и даже Роксолану забыть.
Но сейчас рождалась новая Хуррем. У прежней в случае опасности было желание забиться в уголок, чтобы не видели, не косились вслед, не замечали. Новая Хуррем за своих детей, да и за себя тоже, могла любому перегрызть горло, она больше не боялась, опасалась, но не боялась.
Почему?
Когда Сулейман не отверг ее после рождения сына, казалось, что это просто потому, что до рождения они слишком мало были вместе. Когда после рождения дочери взял к себе почти сразу, думала, что это случайность, тем более, когда родился Абдулла, султан выдержал все положенные сроки.
А вот теперь он бросал вызов всем, ставя ее и детей выше любых правил и негласных законов, выше любого осуждения, недовольства, неважно, чье оно. Разве могла Хуррем при этом предать любимого? Она даже не стала клясться, что выдержит все, она это знала, словно раньше была в тумане и не понимала, куда ступать, как делать следующий шаг, а теперь вдруг нащупала верную дорогу. И туман еще не рассеялся, и дорога едва ощутима, но если по ней пойти, то из мрака выйдешь.
Сулейман удивился, заметив, каким вдруг спокойным, уверенным стал ее взгляд. Показалось, что эта юная женщина в сотни раз мудрее всех улемов, вместе взятых, что она знает что-то такое, чего не знает больше никто. А еще, что в мире существуют только они пятеро – он, его Хуррем и их дети.
Эту новую Хуррем почувствовали и все остальные. Когда на следующий день валиде все же решила навестить Хасеки и посмотреть на внука, оказалось, что Хуррем нет в ее покоях!
– Где она?!
– Повелитель разрешил Хуррем Султан гулять с детьми в саду. Там сейчас очень хорошо.
Разрешил… Да, Сулейман мог разрешить все, что угодно, но почему же он ничего не сказал валиде? Хотя после вчерашнего разговора едва ли хотел о чем-то спрашивать.
Сама Хуррем с каждым днем все меньше обращала внимание даже на валиде. Нет, она не скандалила, ничего не требовала, была вежлива и спокойна, она просто жила своей жизнью с детьми, но так, словно ни от кого больше не зависела. Наверное, так и было, уверовав в покровительство Повелителя, Хуррем совсем отгородилась от гарема, не допуская в свою жизнь никого, кроме самых верных служанок. Она купила еще двух девушек и двух личных евнухов. Султан не возражал, остальным в случае его согласия возражать просто не полагалось.
Да и кто мог возразить, если уже немного погодя Хуррем вернулась в спальню Повелителя, вернее, он каждую ночь снова проводил с ней в своей спальне в гареме, забыв о других наложницах.
Как пройти по краю
Казалось, для Хуррем наступили золотые дни, Повелитель снова подтвердил свою любовь к ней и к детям, валиде поставлена на место и не смеет возразить, Махидевран тем более, Ибрагим-паша больше не присутствует в гареме, он занят делами и женой, дети здоровы, умны и красивы.
Но все хорошо долго не бывает, тем более в таком страшном месте, как гарем.
Кизляр-ага не перечил Хуррем, прекрасно понимая, что ночная кукушка дневную всегда перекукует, Повелитель выполнит любую просьбу и даже каприз своей Хасеки, если тот, конечно, не затрагивает государственных дел. Но туда Хуррем пока не лезла, а в гареме вела себя временами даже надменно.
Много ли женщине нужно, чтобы возомнить себя самой главной? Влюбленный мужчина, которому послушна половина мира, невольное поклонение остальных, ему подвластных. Многие смогли бы на ее месте заметить эту грань между просто послушанием и вынужденным подчинением, между просто завистью и откровенной ненавистью, спрятанной за угодливыми улыбками, а еще то, как сама переступает границу между просто независимостью и надменностью?
А если женщине всего девятнадцать и у ее ног Повелитель, Тень Аллаха на земле?
Хуррем зазналась, постепенно она перестала отличать правду от лести, нежелание вступать с ней в спор от поклонения, замечать явные признаки надвигающейся беды. К тому, что с ней не желают общаться остальные одалиски, Хуррем уже привыкла, да ей и не очень нужно общение, хватало султана и детей, для разговоров попроще были служанки, хотя у Марии она учиться почти перестала – некогда.
Первой от Хуррем ушла Зейнаб. Повитуха была вольной, а потому задержать ее невозможно. Сказала жестко:
– Хуррем, ты потеряла чувство меры. Если не станешь прежней, судьба тебя накажет.
Та только дернула плечом:
– Ничего я не потеряла! Повелитель любит меня, нас с детьми, вот и все. А остальные пусть сдохнут от зависти.
– Но живешь-то ты в гареме. Здесь нельзя заводить врагов, их и без того хватает. Я много раз об этом говорила. Можешь жестоко поплатиться. Ревность и зависть способны на все.
– Я не боюсь!
Зейнаб только сокрушенно покачала головой:
– Хуррем, тебя ждет беда, если не изменишься.
– Хватит пророчить беду!
– Я ухожу, вернусь, если станешь прежней.
Хуррем рассмеялась:
– Тогда уходишь навсегда, я не стану прежней, мне надоело всем кланяться и ждать, когда валиде скажет приветливое слово. Молчит, ну и пусть молчит!
Зейнаб ушла. Остальные уйти не могли, но почти не разговаривали, молча выполняя приказания госпожи. Хуррем потребовала объяснений от Марии:
– Что случилось, почему на меня злятся слуги? Я никому из них не сделала ничего плохого, наоборот…
– Госпожа, позвольте сказать. Зейнаб права, со своими слугами вы терпимы, но с остальными нет. Не только с вами, но и с нами никто в гареме не разговаривает, смотрят косо, делают вид, будто не слышат…
– Почему ты винишь меня, а не тех, кто это делает?
Мария вздохнула:
– Мы живем в гареме, и слугам трудно, если госпожа враждует со всеми. Но главное – вы почти перестали смеяться.
Хуррем в недоумении раскрыла глаза, ее смех каждый день слышен всему гарему, когда они резвятся с детьми. Мария подтвердила:
– Только с детьми, госпожа, только с детьми. Будьте так же веселы с остальными. Можно презирать людей и даже ненавидеть их, но если бы вы находили силы улыбаться даже тем, кого ненавидите, ненависть обязательно уменьшилась. В опасности не только слуги и вы сами, но прежде всего ваши дети.
Хуррем разозлилась:
– В гареме всегда опасно! А вы для того и есть, чтобы защитить моих детей даже ценой собственной жизни.
– Я помню, госпожа, что наши жизни ничего не стоят, но мы не всегда сможем защитить принцев и принцессу. А еще…
– Что еще, договаривай!
– Госпожа, это не мое дело, простите, что вмешиваюсь, но вы даже с Повелителем все чаще разговариваете так, словно он ваш слуга.
– Что?! Это действительно не твое дело! Пошла прочь!
– Простите…
Мария ушла, а Хуррем долго сидела одна в кешке, где они разговаривали. Нет, она не признавала правоту служанки, не желала признавать, но о ее словах про Повелителя задумалась. Можно воевать с валиде, ненавидеть Махидевран, фыркать на кизляр-агу и презрительно не замечать остальных обитателей гарема, но с султаном так нельзя, он единственный защитник ее и детей в этом мире. Неужели она действительно позволяет себе и с Повелителем разговаривать свысока? Это плохо, очень плохо, нужно следить за собой.
Итальянка и Зейнаб были правы: объявив войну гарему, Хуррем невольно изменилась, раньше она старалась не замечать окружающую злобу, а если и отвечала, то весело, словно вся эта грязь, чернота ее не касалась, скатывалась как с гуся вода. А теперь словно бросала вызов, давала пощечину.
Ответ не замедлил явиться, с ней действительно не желали знаться. Валиде просила приводить внуков в свои покои и старалась, чтобы это делали служанки, либо звала служанок с детьми к себе, когда сидела в саду. Если вместе с детьми была их мать, разговор быстро становился невыносимым, Хуррем поглядывала на валиде словно свысока, Хафса, ожидая резкости в ответ на свои слова, старалась как можно меньше говорить, Махидевран и вовсе находила предлог уйти, даже Мустафа стал реже играть с маленьким Мехмедом, которого очень любил.
Хуррем не раз перехватывала взгляды, которыми обменивались валиде с баш-кадиной, те словно жаловались друг дружке или подтверждали, мол, видели, смотрите какова! Женщина в ответ бросала вызывающий взгляд: да, такова, и ничего вы со мной не сделаете! Ей казалось, что это правильно.
Но Мария сказала верно: надменность и рождающееся высокомерие Хуррем стал замечать и Сулейман. Он любил эту женщину, очень любил, и то, что она становилась похожей на многих других обитательниц гарема, волновало и расстраивало султана больше, чем кого-либо. Сулейман понимал, что если Хуррем превратится в подобие Махидевран, то это будет равносильно ее потере. Она куда меньше интересовалась книгами и беседами даже с Марией, зато больше внимания стала уделять своей внешности. Хорошо хоть основное время проводила с детьми, стараясь чему-то научить Мехмеда и Михримах.
Но Сулейман не мог не чувствовать ненависть, окружающую Хуррем в гареме, и как умный человек не мог не понимать истинную причину этой ненависти. В гареме такие отношения не редкость, но на сей раз во многом была виновата сама Хуррем, которая не желала замечать или делала вид, что не замечает растущей напряженности.
Рано или поздно все должно было плохо закончиться.
О Хуррем начали распускать дурные слухи. Никто не мог поверить, что, имея столько красавиц, султан довольствуется одной, к тому же не самой красивой и статной. Кому было дело до ума и обаяния Хуррем, одалиски видели другое: мала ростом, худа и надменна. Губки маленькие, глаза тоже, а прочитанные книги… но не это же нужно для ложа. Конечно, плодовита, но родила четверых, можно бы и остальным уступить место.
В Стамбуле стали поговаривать, что без колдовства не обошлось. Конечно, эта роксоланка просто знает средство для удержания Повелителя подле себя. И пошло-поехало!..
Колдовство! Недаром в гарем зачастили самые разные странные особы, под прикрытием чадры они носят роксоланке снадобья, которые кидают в котлы с едой для султана, эти снадобья не имеют ни цвета, ни запаха, но навсегда привязывают Повелителя к колдунье.
Почему не привязываются остальные члены семьи и обитатели гарема, которые едят из тех же котлов, никто не задумывался.
Она сделала амулеты-украшения, которые зашептали тысячи колдунов, чтобы султан не мог отвести глаз от их обладательницы.
И никто не обращал внимания, что браслеты для своей возлюбленной сделал сам султан, который, конечно, ни к каким колдунам их не носил, тем более, к тысяче.
Она поет Повелителю какие-то особенные песни, от которых тот теряет волю. Это песни-привороты. Песни действительно были, Хуррем уже хорошо играла на струнных и хорошо пела, иногда на родном языке.
Но султан понимал язык, потому что для большинства янычар именно он был родным. Янычарами обычно становились славянские мальчики, еще в детстве забранные по обычаю девширме из семей в Румелии – европейской части империи. Они становились мусульманами, забывали свои семьи и обычаи, но язык оставался, даже зная турецкий, янычары часто разговаривали и пели на родных языках.
Но то, что позволительно воинам султана, непозволительно их наложнице, даже если она мать принцев.
Роксоланка не любит пауков, священных для всех мусульман!
Это была правда, Хуррем терпеть не могла пыль и паутину, и о том, что паук священен, узнала не сразу. Еще когда только попала в гарем, увидев большущего паука, вскочила и запустила в него туфлей, поражаясь тому, что остальные не принимают никаких мер. В паука попала, а потом ей рассказали о том, как паук спас от погони самого пророка, когда тот прятался в пещере, за что и стал священным.
Пророку нужно было укрыться, когда тот покинул Мекку и бежал в Медину, преследуемый властями. Он со сподвижниками спрятался в пещере, не имея шансов на то, что не обнаружат. Но шустрый паучок, живший в пещере, моментально оплел вход в нее паутиной. Преследователи, увидев паутину, затянувшую вход, решили, что внутри никого быть не может, как могли люди проникнуть внутрь, не нарушив столь тонкую завесу, и отправились искать дальше. Так паук спас пророка, тем самым заслужив себе почет.
– Но как же бороться с самой паутиной? Если не сметать, то пауки затянут не только пещеру, но и жилища.
Фатима объясняла новенькой:
– Для этого существуют яйца страусов. Если такое яйцо поместить в доме или даже мечети, людям вреда не будет, а пауки найдут себе другое место.
Хуррем запомнила, а недоброжелатели запомнили ее давнишнюю ошибку. Прошло несколько лет, но ту туфлю, запущенную в паука, до сих пор припоминали.
Болтали многое, но пока болтали, было не страшно, потом начали действовать.
Те, кому мешала Хуррем, знали: главное, поколебать доверие к ней у султана, тогда свалить зеленоглазую колдунью можно будет легко. Просто шептать Повелителю о колдовстве Хуррем бесполезно, он только посмеивался, требовалось что-то более действенное. Зная мнительность и опасения Сулеймана за свою жизнь, это нетрудно.
Недоброжелатели рассчитали все верно, если нападки на саму Хуррем, попытки отравить ее или изуродовать не удавались, значит, нужно сделать что-то для ссоры султана с ней.
Жарко с самого утра, словно не конец лета, а его середина, ветерок плохо проникал в помещения сераля, даже открытые настежь окна и двери не помогали. Легче в саду, куда устремились все обитательницы гарема. Хуррем тоже сидела в кешке с книгой, туда же должен прийти Повелитель. Она заставляла себя читать, но мысли были о другом. У маленького Селима всю ночь болел животик, Хуррем опасалась отравления. Но она кормила малыша грудью и сейчас прислушивалась к себе, пытаясь понять, не творится ли с ней самой что-то неладное. Нет, никаких плохих признаков не было.
Вздохнув, Хуррем отложила книгу в сторону, не читалось. На сердце почему-то росла тревога, предчувствие неприятностей. Так бывает, когда на небе ни облачка, но в воздухе уже веет бурей. Беспокойство не позволило ей сидеть, встала, вышла из кешка, немного постояла на дорожке сада, заметив в дальнем ее конце Повелителя, поспешила вернуться. Сделала шаг к дивану с лежащей на нем книгой и замерла, потому что из закрытой книги в качестве закладки торчала рукоять кинжала!
Мысли метались, как мыши, застигнутые котом врасплох. Откуда в кешке мог взяться кинжал?! Хуррем беспомощно огляделась вокруг. Ни одна ветка, ни один листик не шевелились, если кто-то и проник в кешк, то невидимкой, сумев выбраться до ее возвращения. Стало страшно. Как объяснить султану наличие небольшого кинжала? Таким можно нанести смертельную рану. Зачем он здесь, как не для этого?
Хуррем уже поняла, что никого не собирались убивать, но, не заметь она кинжал, трудно было бы объяснить, кто его принес, когда и зачем. А теперь не трудно? Куда девать злосчастную находку?
Раздумья длились всего мгновение, уже в следующее она просто шагнула обратно к выходу из кешка, на ходу закрепляя яшмак на нижней части лица. Полупрозрачная ткань хорошо защищала от солнца нескромных взглядов мужчин, мало ли кто рядом с Повелителем…
Нет, за ним шел только кизляр-ага и два евнуха, но Хуррем не стала опускать яшмак, солнце действительно жгло, нежной белой коже вовсе ни к чему покраснение, к тому же так легче скрыть волнение.
– Повелитель… Сегодня жарко, может, пройти в тот кешк, где фонтан?
– Хуррем, ты чем-то взволнована?
– Нет, просто жарко, тяжело дышать.
– Хорошо, пойдем.
На ходу осторожно метнув взгляд в сторону кустов вокруг кешка, Хуррем не заметила ничего подозрительного. Ну, не невидимка же этот злодей! Или злодейка? А может, показалось, и никакого кинжала не было? От жары чего только не бывает…
Однако на всякий случай Хуррем уводила султана как можно дальше от проклятого кешка. Ей было бы трудно поддерживать простой разговор, не отвлекаясь на мысли о кинжале, если бы не сетование Сулеймана:
– Хатидже Султан теперь будет скучно одной…
– Почему? Молодой муж уже сбежал?
Спросила, не подумав, потому что мысли заняты совсем другим, и невольно выдала свое отношение к Хатидже.
Сулейман нахмурился, ему совсем не нравилось то, как стала держать себя Хуррем, она словно озлобилась, все чаще улыбка выглядела фальшиво. Сулейман очень любил эту женщину и болезненно воспринимал изменения. Так не хотелось, чтобы зеленоглазая возлюбленная превратилась во вторую Махидевран. Неужели это удел всех женщин, почувствовавших власть над мужчиной?
– Нет, Ибрагим-паша уехал в Египет, исправлять ошибки Ахмед-паши.
Хуррем даже не сразу поняла, о чем говорит Повелитель. Последние дни и даже недели она была слишком занята своими собственными делами и мыслями, чтобы думать о других.
Ибрагим действительно помчался в Египет усмирять бунт.
Когда султан только назвал его главным визирем взамен Пири-паши, главным недовольным был именно Ахмед-паша, из него злоба, казалось, била фонтаном во все стороны. Тогда Сулейман даже подумал, что имя у паши одно и то же, что и у давнего наставника, но насколько добрым, умным и терпимым был Ахмед-паша, поэт и учитель тогдашнего шехзаде Сулеймана, настолько этот Ахмед-паша спесив и надменен.
Не желая и дня находиться рядом с Ибрагимом-визирем, Ахмед-паша сразу попросился бейлербеем в Египет. Сулейман согласился не задумываясь, и даже позже, получив известие о том, что Ахмед-паша захватил всю власть и объявил себя султаном Египта, не подчиняющимся Османам, не сразу поверил в такое предательство.
Но поверить пришлось, Ахмед-паша действительно перебил в Каире янычар султана и взял власть. Средства оттуда в казну Стамбула поступать перестали. Но правил Ахмед-паша недолго, на всякого предателя найдется свой, не менее ловкий, таким стал один из его визирей – Мухаммед-бек, который решил, что лучше заслужить благосклонность Сулеймана, чем Ахмед-паши. Пришлось паше удирать в полуголом виде прямо из хамама, где его пытались схватить во время бритья.
Ахмед-паше удалось добраться до цитадели Каира в надежде пересидеть там, пока не подтянутся верные войска. Но ни верных войск, ни даже тех, кто пожелал защищать новоявленного султана, в крепости не нашлось, воины не собирались складывать головы за того, в кого мало верили.
Ахмед-паша сумел сбежать и оттуда, призывая на помощь бедуинское племя и обещая золотые горы казны за помощь в новом захвате власти. Но через неделю, выяснив, что эти самые золотые горы уже растащили и казна попросту пуста, шейх племени выдал бунтовщика его бывшему визирю.
Чтобы не пришлось еще гоняться за беспокойным пашой, Мухаммед-бек предпочел отделить голову от туловища, бросив туловище собакам, а голову на серебряном подносе отправив в Стамбул султану. Прославленный полководец, блестяще показавший себя при захвате Белграда и на Родосе, пожелав большей власти, закончил так бесславно.
Но пустая казна не только в Каире, казна самого Сулеймана тоже не радовала обилием золота. Его, конечно, было немало, но налоги ни с запада, ни с востока в последние месяцы не поступали. В Египет отправлен зять султана Ибрагим-паша разбираться, а в Стамбул вызван бейлербей восточных провинций – другой зять султана Ферхад-паша, муж его сестры Сельджук.
Опомнившись, Хуррем обещала написать Хатидже и пригласить пожить в гареме. Сулейман смотрел на любимую с удивлением. Хатидже не требовалось приглашение Хуррем, чтобы погостить в доме матери. Неужели Хуррем настолько зазналась, что считает себя главной в гареме, забыв о валиде?
Это плохо, потому что означало, что все жалобы валиде на неподобающее поведение Хуррем не выдумки, а правда.
– Съезди к ней сама, повези детей, чтобы они тоже увидели что-то за пределами дворцовых стен.
Хуррем не поверила своим ушам, неужели султан позволяет ей покинуть Бас-ус-сааде?
– А можно?
Сулейман рассмеялся, все же она девчонка, быстро забыла всю свою напыщенность.
– Можно.
Увлекшись мыслью о визите во дворец к Хатидже, Хуррем даже забыла о кинжале. Но после ухода султана в своих покоях вспомнила.
– Гюль, сходи в кешк, принеси оставленную мной книгу.
– Да, госпожа…
– Гюль…
Служанка смотрела на Хуррем, понимая, что та хочет сказать еще что-то, но боится.
– Да, госпожа…
– Будь осторожна и… Ничего, просто будь осторожна.
Служанка принесла книгу, но никакого кинжала в ней не было.
– Там ничего не было?
– Нет, книга лежала раскрытой на диване кешка, и все…
– Точно не было?
– Да нет же.
Хуррем решила, что все же показалось, перевела дух, но нехорошее чувство опасности осталось.
На следующий день она с детьми действительно отправилась во дворец Ибрагима. Хатидже, уже не первый день скучавшая в одиночестве, и вообще скучавшая без гарема (слишком привыкла к присутствию десятков женщин вокруг), принимала Хуррем с радостью.
Хасеки прибыла в плотно закрытой карете, под покрывалом, также старательно закрыв и детей. Боялась не столько, что увидят, сколько, что сглазят. В гареме дворца не сняла яшмак. Дети, не привыкшие видеть мать такой, с удивлением глазели на нее. Хуррем взяла с собой только двух старших, Абдулла и Селим еще слишком малы, чтобы наносить визиты.
Мехмед, помня, что он шехзаде, пусть и не первый, и вообще, почти мужчина, вел себя соответственно, держался важно, от попыток Хатидже расцеловать племянника в обе щеки уклонился. Он был одет, как маленький паша, стойко терпя неудобство.
А вот Михримах своего любопытства не скрывала, она совала нос во все щели, пыталась все разглядеть и разузнать. В свои два с половиной года девочка вела себя как взрослая принцесса, сказалось воспитание Хуррем, которая внушала дочери, что она единственная принцесса, а потому особенно любима отцом. Это так и было, Сулейман баловал любимицу, позволяя ей многое, но еще больше позволяла мать. Хатидже даже головой покачала:
– Ох, Хуррем, как бы потом вам не плакать с ней.
– Повелитель любит дочь и балует ее.
– Любить и баловать не одно и то же. Нужно сказать брату, чтобы был с принцессой построже.
Хуррем вовсе не понравилось такое намерение, и если сначала соскучившаяся по общению Хатидже и не менее соскучившаяся по воле Хуррем болтали непринужденно и даже с удовольствием, то после замечания по поводу Михримах Хуррем словно подменили. Она словно испуганный еж свернулась клубком, выставив наружу все свои иголки. Хатидже очень хотелось сказать, что она не желает диктовать Повелителю и Хуррем, как воспитывать маленькую Михримах, что сама любит девочку, но Хуррем была так напряжена, что ничего хорошего не вышло.
– Хуррем, Михримах очень красивая девочка, и я ее люблю, но она капризна, это может потом породить много проблем.
– Мы с Повелителем сами знаем, как воспитывать своих детей!
– Я не хотела советовать, прости.
Но доверие было разрушено. Хатидже не чувствовала себя виноватой, ведь она не сказала ничего плохого, но Хуррем вела себя так, словно плохое услышала. Сестра Сулеймана подумала о том, как трудно с Хуррем валиде.
Когда вечером Сулейман поинтересовался, как прошел визит, Хуррем только плечом дернула:
– Они все лезут не в свои дела!
– Какие?
Взгляд Сулеймана стал жестким, не заметив этого, Хуррем снова дернула плечом:
– Учат, как воспитывать наших детей.
– Разве валиде не касается воспитание внуков, а Хатидже племянников? – султан пытался быть мягким, но Хуррем не могла остановиться.
– Валиде не любит моих детей, для нее прежде всего Мустафа.
– Хуррем, Мустафа старший, и он много времени вместе с Махидевран проводит рядом с валиде, конечно, он ближе.
– Но я же не могу приводить и приносить всех детей в покои валиде и сидеть там с ними. Да меня и не зовут!
Она была права, но как же Сулейману не нравилось вот это неприятие друг друга самыми дорогими ему женщинами – валиде и Хуррем. Их тихая война не могла привести ни к чему хорошему. Так недолго и до беды…
Беда разразилась раньше, чем он ожидал, причем не одна.
Сулейман сидел у валиде, в очередной раз выслушивая жалобы на Хуррем, на то, что она ведет себя вызывающе, ни с кем не считается, думает только о своих детях.
– Хуррем вытребовала себе еще одну комнату, пришлось пробить стену и присоединить к ее покоям соседнее помещение.
Повелитель попробовал мягко укорить мать:
– Валиде, но ведь у нее четверо детей, как можно жить в трех маленьких комнатках?
Хафса все прекрасно понимала и сама, она даже переселила бы Хуррем с детьми в другие покои, более подходящие, но это если бы Хуррем попросила, а не требовала.
– Хуррем совсем забыла, что существуют просьбы, она знает только требования.
Это Сулейман уже испытал на себе. Он тоже чувствовал, что его возлюбленная попросту зазналась, но не видел, как можно все исправить. Чуть смущенно разведя руками, посетовал:
– Что же мне, ее наказать?
Валиде смотрела на сына почти с жалостью, блестящий полководец и правитель (мать не сомневалась, что Сулейман себя еще не показал по-настоящему, все впереди), в гареме и особенно в присутствии этой колдуньи Сулейман становился если не беспомощным, то каким-то потерянным. Вот так женщина может лишить силы самого крепкого мужчину.
– Хуррем не мешало бы наказать. – Валиде была рада, что они беседуют наедине, верная хезнедар-уста, притаившаяся в уголке, не в счет, она и слова не скажет об услышанном. – Только я не знаю как.
– Она прекрасная мать, валиде.
– Да, как орлица над своими детьми, я не спорю, но их не нужно защищать в гареме, никто не обидит принцев и принцессу. А то, что Хуррем считает, что я меньше люблю ее детей, не верно, я люблю всех внуков одинаково, просто Мустафа старше и мне ближе. То, что я больше люблю мать Мустафы, чем мать Мехмеда, то тут уж сердцу не прикажешь. Зато вы больше.
Валиде попыталась улыбнуться собственной шутке, но услышать ответ сына не успела, евнух едва успел открыть дверь, как в нее просто ворвалась Хуррем.
– Хуррем, что случилось?!
Она была так возбуждена, что едва заметила самого Сулеймана, приведя того в неописуемое изумление. Но изумление длилось недолго, потому что взбешенная Хуррем принялась выкрикивать Хафсе:
– Это ваши люди убили мою служанку?! Это по вашему приказу?
– Что?!
– Я подарила новенькой служанке Сафие свою накидку. Хотели убить меня, а убили Сафие, потому что та была в моей накидке!
– Хуррем, убийцу сейчас же найдут, только перестань кричать.
– Повелитель, как я могу не кричать, если боюсь за жизнь свою и наших с вами детей?
Сафие, новую служанку Хуррем, не убили, хотя серьезно ранили, кто и за что, пока неизвестно. Выговаривая валиде в присутствии султана, Хуррем рассчитывала на одно: что тот заберет ее с детьми из гарема в Топкапы, где проводит основное время сам. Конечно, в Новом дворце нет места для гарема, там проходят заседания дивана и никогда не слышали детских голосов. Но все когда-то бывает впервые, разве не нарушал Повелитель законы ради нее, почему бы не сделать это еще раз ради детей?
Это был дерзкий замысел – отделиться от гарема и стать единственной не просто наложницей Повелителя, но единственной его женщиной. Таким образом, она низводила гарем просто для места доживания ненужных женщин, включая валиде. Так доживали получившие отставку одалиски и старые богатые рабыни в прежнем дворце, почему бы и этому не стать таковым? А на новом месте она заведет свои правила, там не будет больше наложниц, Хуррем и только Хуррем!
Она так увлеклась своей идеей, что забыла всякую осторожность.
Увидев державшуюся за бок раненую Сафие, Хуррем решила действовать немедленно. Она уже знала, кто именно и за что ранил Сафие, девушка умудрилась заигрывать сразу с двумя евнухами, обещая свои ласки обоим. Евнухи не могли вступать с одалисками и рабынями в связь, но ласкать-то и получать ласки они умели.
Глупая Сафие слишком вольно вела себя и за это поплатилась, накидка Хуррем была ни при чем, но не использовать такой шанс Хуррем не могла.
Возможно, все и получилось бы так, как хотела Хуррем, но она перестаралась, не дождавшись предложения Сулеймана поменять место жительства, она снова обвинила валиде в нелюбви к своим детям и недосмотре. Хафса, наконец, пришла в себя и встала, возмущенно сверкая глазами.
– Хуррем, убийцу сейчас найдут и накажут, но научись вести себя прилично. Какой позор! Вбежала, как сумасшедшая, выкрикиваешь слова, о которых потом пожалеешь, не слушаешь Повелителя. Немедленно выйди вон!
И тут Хуррем допустила вторую ошибку, она не дождалась реакции Сулеймана, возмутилась сама:
– Выйти вон?! А может, мне и вовсе покинуть гарем, если я вам мешаю?!
Скажи она это иначе, возможно, Сулейман и предложил бы переехать хотя бы на время в Топкапы, но они только что говорили с валиде, что Хуррем стала невыносима, а тут она сама подтверждала обоснованность жалобы Хафсы.
На мгновение замерли все трое. Первым пришел в себя Сулейман, Хуррем и правда пора наказать.
– Можешь покинуть дворец и отправиться в Летний, если тебе плохо в гареме.
И снова все замерло, мгновение, пока Хуррем пыталась переварить услышанное, длилось для нее вечно. Слова Повелителя, как ушат ледяной воды на голову базарной бабы, каковой в ту минуту Хуррем и была. Зарвавшись, она просто получила то, что заслужила.
– Да, Повелитель…
Даже уходила, не поворачиваясь спиной.
А вот к себе почти бежала.
Ей вслед смотрели со злорадством. Гарем все слышит и все знает, конечно, обитатели уже знали, почему и что кричала Хуррем в покоях валиде в присутствии Повелителя, и, конечно, знали, что Повелитель ответил! О, это был бальзам на измученные завистью души одалисок!..
Падение (и какое!) той, что так быстро и высоко вознеслась и слишком долго держалась на вершине, не могло не вызвать прилива радости у остальных. Гарем снова загудел, как растревоженное осиное гнездо. Каждая была готова с удовольствием пнуть поверженную фаворитку, сказать вслед гадкое слово, а если и посочувствовать, то так, чтобы вместе со словами из уст струился яд.
Некоторое время после ухода Хуррем Сулейман и Хафса молчали, приходя в себя. Султан дал выход своему гневу, но об этом не жалел. Хуррем действительно зарвалась, и ее следовало проучить. Пусть немного посидит в Летнем дворце, там, конечно, зимой не слишком уютно, сыро и холодно, хотя можно протопить, но скоро конец зиме, к тому же Сулейман вовсе не собирался держать там наказанную долго. Через несколько дней, небось, запросится обратно. Вот и хорошо, иногда полезно…
Султан хлопнул в ладоши, тут же появился согнутый пополам евнух. Сулейман в очередной раз удивился, как они умудряются видеть все вокруг, глядя только в пол?
– Позови кизляр-агу.
Главный евнух пришел не сразу, он также был согнут, также смотрел в пол, тем более, султану было за что гневаться.
– Что случилось со служанкой Хуррем, кто и за что ее убил?
– Убил? Нет, Повелитель, Сафие жива, хотя ранена.
Сулейман с Хафсой переглянулись. Узкие темные губы валиде тронула едва заметная усмешка. Султан вздохнул.
– Виноват евнух, он уже схвачен и ждет наказания. Твердит, что ударил ножом из ревности, Сафие изменила ему.
Изумление заставило султана замереть, он никогда не думал, что евнухи могут иметь отношения с кем-либо. Зачем же тогда их кастрировали?! Это означало опасность для гарема. Сулейман просто не знал, что спросить, выручила валиде.
– Он хотел ударить Хуррем Султан, ведь служанка была в ее накидке?
– Нет, то есть да, Сафие была в накидке, подаренной Хуррем Султан, но Ферхад видел, кого бил, они же разговаривали.
– Иди, – махнул рукой Сулейман, чувствуя, что у него идет кругом голова от проблем гарема. Как хорошо, что заботу обо всех этих евнухах, которые почему-то соблазняют служанок, и самих служанках, заигрывающих с евнухами, взяла на себя валиде.
Когда за кизляр-агой закрылась дверь, султан все же задал вопрос:
– Как это возможно?
Хафсе не нужно было объяснять, о чем идет речь. Она чуть улыбнулась:
– Повелитель спрашивает о евнухе и девушке? Евнухи безопасны, но ничто не мешает им целовать, обнимать и даже ласкать рабынь. У мужчины есть руки… К тому же ни одна из служанок, на которую обратил внимание какой-то евнух, никогда не попадет на глаза Повелителю, а та, которая попала, никогда не обратит внимание на евнуха.
Несколько мгновений Сулейман обдумывал услышанное, потом усмехнулся:
– А… кизляр-ага?..
– И у него есть возлюбленная, которая счастлива. К чему лишать счастья человека, уже лишенного многого? Несчастные люди озлоблены.
Сулейман вздохнул, валиде тоже, они вспомнили о Хуррем. Женщина использовала нападение на служанку в своих целях, только вот в каких? Не ради же переезда в Летний дворец она это сделала?
Не в Летний, тогда куда? Эта мысль одновременно мелькнула и у сына, и у матери, их глаза встретились. Султан и валиде поняли, на что надеялась Хуррем. Глаза матери смотрели вопросительно, глаза сына твердо обещали: этого не будет.
– Повелитель, может, все-таки не стоило так с Хуррем, она виновата, но Летний дворец…
Сулейман усмехнулся:
– Пусть посидит там несколько дней. – Потом подумал и добавил: – Я с ней вечером поговорю, чтоб поняла, за что наказана.
Султан едва дождался вечера, ему действительно очень хотелось поговорить с Хуррем уже спокойно, объяснить, что она ведет себя просто неподобающе, что в гареме всегда было подчинение старшей женщине, валиде нужно уважать и повышать на нее голос просто недопустимо. Ему было странно, что столь очевидные истины Хуррем нужно объяснять. Умная женщина, а не понимает простых вещей.
Закралась мысль, что понимает, но нарочно вызывает ссоры, чтобы добиться своего.
Сегодня она явно пыталась вынудить его под видом опасности для нее и детей в гареме переселить в Топкапы. Но чего добилась? Теперь несколько дней посидит в Летнем дворце, где если и есть кто-то, то только бывшие одалиски, давно получившие отставку и не сумевшие выгодно пристроиться.
Ничего, пусть побудет там, ей полезно, за пару дней сумеет осознать, куда можно упасть, если думать только о себе. Хуррем умна, она все поймет, к тому же Сулейман рассчитывал, что разлука с детьми тоже поможет строптивице осознать размеры возможных потерь.
Так же думала и Хафса. Устраивать позорные скандалы, да еще в то время, когда Повелителю и без того тяжело!.. Валиде решила завтра съездить к Хатидже и посоветоваться с дочерью, она не собиралась ничего рассказывать Махидевран, чтобы не вызывать лишних разговоров, хотя прекрасно понимала, что баш-кадина уже все знает и злорадствует.
Конечно, Махидевран, убедившись, что Повелитель ушел (чтобы не попасть под горячую руку), нашла повод прийти к валиде с какой-то мелочью, которая могла подождать не только до завтра, но и до следующего года. Но как ни старалась баш-кадина, вынудить валиде на разговор о Хуррем не смогла, Хафса, не желавшая перемывать косточки Хуррем просто потому, что пришлось бы признать неправоту сына, отговорилась недомоганием и избавилась от недовольной Махидевран.
– Кизляр-ага, приведи ко мне Хуррем. Не на ночь, я должен с ней поговорить.
Евнух в изумлении уставился на султана:
– Повелитель, она уехала. Сказала, что это ваш приказ, и отбыла в Летний дворец.
Сулейман почувствовал легкую досаду, воспитательная беседа срывалась. Но, в конце концов, это тоже неплохо, Хуррем желает посидеть пару дней и подумать? Пусть посидит и подумает. Вид несчастных позавчерашних фавориток и неудачниц ее образумит.
Но что-то заставило поинтересоваться:
– А как дети?
– Хуррем Султан забрала их с собой.
– Что?! Всех?
– Да, она сказала, что мать с детьми неразделима.
– Сумасшедшая! Взять детей в холодный Летний дворец! Служанок тоже?
– Да, и двух своих евнухов.
– Два евнуха для охраны мало. Хорошо, я подумаю.
Кизляр-ага покорно попятился к двери, а Сулейман действительно задумался. Хуррем решила показать свой гонор? Пусть показывает, ее саму он с удовольствием сейчас отправил бы в Летний дворец надолго, был обижен за такую выходку, а вот дети…
Что теперь делать, распорядиться, чтобы привезли детей, но он понимал, что дети будут плакать без матери. Селим с Абдуллой маленькие, они не понимают, а вот Мехмед уже достаточно сообразителен, чтобы осознать, что их лишают мамы. А где Мехмед, там и Михримах, сестра повторяет брата настолько, что однажды Хуррем даже задавала вопрос: что будет, когда Мехмеду придет время делать обрезание. Они долго смеялись, представляя себе картину, как Михримах, не желающая отставать от Мехмеда, требует такое и себе тоже!
Вспомнив дочку и сына, которых любил особенно, Сулейман почувствовал, как сжало сердце. Хуррем знала, чем его уколоть, понимала, что любовь к ней самой – это одно, а любовь к детям во много раз более сильное средство давления. Но султан был вынужден признать, что сама Хуррем тоже прекрасная мать, это она позаботилась о настоящей учебе Мехмеда вместо просто изучения Корана.
Она права, Коран Кораном, а шехзаде, даже если никогда не станет султаном, должен знать многое.
Сердце Сулеймана сжало при следующей мысли. Он вдруг впервые задумался о судьбе Мехмеда. Мальчику пятый год, он многое знает, болтает по-итальянски так же легко, как по-турецки, умеет читать, считать и крайне любопытен. При этом у Мехмеда материнские золотистые волосы и отцовские темные глаза под черными ресницами. Волосы скорее всего потемнеют, но горящие глаза останутся.
Они похожи с Мустафой и непременно со временем станут соперниками. Мустафе десятый год, совсем большой. Он тоже умен и красив, шехзаде обожают янычары, которые видят в мальчике будущего султана. Да, а еще заранее стараются внушить ему, что ценнее самих янычар для султана никого нет, разве только наследник – усмехнулся Сулейман.
О янычарах стоило подумать отдельно, но сейчас мысли отца занимали старшие сыновья. Они неизбежно станут соперниками, и что будет после его собственной смерти? Конечно, сам Сулейман еще молод, крепок и силен, но свою судьбу не может знать никто. Мустафа поступит по закону Мехмеда, то есть уничтожит братьев?
Стало не по себе, Сулейману не пришлось никого уничтожать, и он просто представить не мог, каково это – приказать убить братьев или племянников. Не об этом ли несколько раз заводила разговор Хуррем, пытаясь обсуждать закон Мехмеда Фатиха? Если так, то она мудрей, чем о ней думает валиде. А сейчас куда она увезла детей? Что это – простой каприз взбалмошной женщины или порыв матери, предчувствующей беду для своих детей?
Сулейман вдруг понял, что ни возвращать Хуррем, ни забирать от нее детей он не будет. Такова судьба, она мудрей самих людей, которым достается.
Но что делать одному, пока строптивая Хасеки показывает свой норов в Летнем дворце? А не съездить ли ему на охоту в Эдирне.
Султан усмехнулся: стоит съездить, пока это возможно, потом подрастет Мустафа и делать это станет опасно, можно будет уехать и… умереть в Чорлу от несварения желудка, чем раньше никогда не страдал.
Он решил так и поступить. Ибрагим в Египте наводит порядок и собирает новые налоги, в восточных провинциях безобразие творит Ферхад-паша, которого давно пора призвать к порядку, иначе либо станет тем, чем не сумел стать в Египте Ахмед-паша, либо разграбит земли так, что с них побегут люди, а казна при этом останется пустой.
У Сулеймана давно чесались руки самому потаскать за бороду Ферхад-пашу, невзирая на то что тот зять. Зарвался, заелся, обирает подвластные земли до нитки так, словно это вражеская территория, которую нужно пограбить и быстрее уйти. Не думает о том, что разоренные люди в следующем году не смогут дать вообще ничего. Жалобы на Ферхад-пашу не просто текут рекой, они накатывают лавиной.
Чем оправдается, если призвать к ответу? В казну от него не поступает ничего, а если спросить, почему, разведет руками, мол, население нищее, собранного едва хватает, чтобы содержать своих янычар и чиновников. Для Сулеймана было неважно, что у самого паши сундуки ломились от золота, а на пальцах столько колец, что и пальцев не видно.
Но он чувствовал, что Ферхад-пашу пора вызывать для разговора. Да, Ферхад-паша много сделал для империи и даже лично для Сулеймана, но куда больше навредил. Он родственник, но вспоминал об этом только тогда, когда родство с султаном приносило доход. Так было до Сулеймана, ведь сестру нынешнего Повелителя Сельджук-султанию выдал за Ферхад-пашу еще прежний султан Селим. Сулейман понимал, почему пашу любили янычары, тот позволял грабить безжалостно, после него оставалась безжизненная, выжженная пустыня, которая уже не могла прокормить ни победителей, ни побежденных.
Ради добычи Ферхад-паша мог не просто рискнуть, он был способен рискнуть бездумно, бессмысленно. Пока султан с остальным войском осаждал, а потом успешно брал Белград, Ферхед-паша с Бали-беем, даже не поставив в известность султана, со своим пятнадцатитысячным войском переправились через Саву и отправились грабить округу. Грабили бессмысленно, не подумав оставить хорошую охрану у кораблей, на которых переправлялись, и о разведке тоже. Ума не хватило узнать, где же основные силы венгров.
Результат был плачевным: венгры сначала попросту сожгли суда двух самонадеянных умников, а потом наголову разбили их войско. Из пятнадцати тысяч переправившихся ради грабежа обратно вернулись считаные единицы, но среди них оба зачинщика – Ферхад-паша и Бали-бей. Удаль двоих обернулась гибелью и рабством для тысяч. Турки потеряли пятнадцать тысяч воинов, коней, оружие, корабли…
Конечно, за Ферхад-пашу заступились Сельджук-султания и сама валиде. Сулейман выбросил пашу из дивана, назначив бейлербеем восточных провинций. Тому бы пересидеть тихонько, пока блистательный родственник не забудет его вины, но не таков зять Повелителя. Почувствовав возможность нажиться, он мгновенно забыл, что виноват, и пустился во все тяжкие. Да, он усмирил бунтовавших кызылбашей, но какой ценой? Бунтовать стало просто некому, как и некому платить налоги в казну. Разграбленная земля, вырезанные деревни, разоренные города… Когда Ферхад-паше не с кем было воевать на поле боя, в таковое превращалось все вокруг.
Сулейман задумался. Его зять – любимец янычар, насколько янычары не любили Ибрагим-пашу, настолько же они обожали Ферхад-пашу. Причина ясна – попустительство грабежу, хотя, конечно, никто не мог гарантировать, что этим же не станет заниматься Ибрагим, ведь до сих пор у грека просто не было возможности что-то делать самостоятельно. Не ощиплет ли Ибрагим Египет, как это сделал с восточными провинциями Ферхад-паша?
Но пока на грека не жаловались, а вот на Ферхад-пашу жаловались, и даже очень.
Вызывать его в столицу опасно, он может запросто поднять на свою защиту недовольным двухлетним бездействием (отсутствием приносящих грабительский доход походов) янычар. И Сулейман решился.
Он объявил, что уезжает охотиться в Эдирне, едет надолго, на несколько месяцев.
Услышав такую новость, валиде ужаснулась:
– Повелитель, Ибрагим-паша в Египте, а вы уезжаете в Эдирне. Кто останется в Стамбуле, кто защитит нас в случае необходимости?
– Я подумал об этом. Янычары ненадежны, я говорю об этом только вам, валиде, прекрасно зная, что мои слова останутся тайной. Охранять вас будет новая гвардия, уже отобранная среди янычар, еще не вкусивших удовольствий от грабежа и предательств, а также опытные воины. Это будут бостанджи – охрана сада.
– Но садом ведают либо слабые садовники, либо евнухи, не способные держать в руках оружие!
– У меня есть другие… Отныне нести охрану дворца снаружи будут именно они – бостанджи.
Это мало успокоило валиде, но существовал еще один вопрос, который Хафса хотела бы прояснить:
– Вы приказали Хуррем отправиться в Летний дворец вместе с детьми?
– Нет, все, что я приказал, вы слышали. Когда вечером велел кизляр-аге позвать Хуррем для серьезного разговора, оказалось, что она уже уехала.
– Но сейчас еще зима, и держать детей там безумие.
– Они с матерью.
Хафса не успела крикнуть, что никакая хорошая мать не станет так мучить своих крошек, Сулейман продолжил:
– Хуррем хорошая мать, а я отец. Я уже отправил туда дополнительную охрану, деньги на содержание и слуг, но так, чтобы она об этом не догадывалась. А сама Хуррем распорядилась продать часть драгоценностей, чтобы сделать то же.
– Она продает ваши подарки?
– Да, но для детей. Пусть посидит и подумает, а я поохочусь. Если поймет свои ошибки, вернется во дворец.
– А если нет?..
Султан только нахмурился. Ему совсем не хотелось думать о такой возможности. Сулейман просто не мог жить без этой зеленоглазой колдуньи.
– Заодно и выяснится, привораживает ли она меня. Из Летнего дворца, в то время как я охочусь в Эдирне, делать это будет трудно.
– А откуда вам известно, что Хуррем продала драгоценности?
– Пока всего одну. Этот браслет мне принес ювелир, а я свою вещь отличу от любой другой. Пришлось бедолаге объяснять, откуда взял…
Сулейман был прав, Хуррем умчалась в Летний дворец, подхватив детей и самое необходимое. Но у нее хватило ума забрать драгоценности.
Фатима и остальные служанки были в ужасе:
– Повелитель выгнал госпожу?!
– Нет, я сама так решила.
Ну кто же поверит, что кадина может себе такое позволить?
В Летнем дворце на другом берегу Босфора хорошо только весной и летом, зимой он мало приспособлен для роскошной жизни. Конечно, в старых постройках, оставшихся еще от прежнего владельца, в крохотных комнатушках жили отставные наложницы и рабыни прежних султанов, озлобленные на жизнь и тех, кто оказался удачливей старухи. Крохотные комнатки было легче отопить, а жить по несколько человек в одной большой женщины категорически не желали, памятуя прошлые обиды. Тяжелое соседство.
Главное здание зимой не отапливалось, и когда наступала весна, требовалось время, чтобы все проветрить и просушить. Каково же было изумление слуг Летнего дворца, когда они увидели, что с барка высаживаются женщины. Женщины в зимнюю пору могли означать только одно: султан кого-то выставил вон из гарема.
Даже в таком заброшенном месте новости разносятся мгновенно. Хуррем с детьми и сопровождающими еще не успела выгрузиться на берег, а все население дворца собралось поглазеть. По богатству нарядов и обилию вещей стало ясно, что это кто-то очень важный. Ой-ё… что творится в этом Стамбуле!.. Давно ли здесь жила баш-кадина Махидевран? Султан не желает топить своих женщин, он их высылает в Летний дворец, чтобы перевоспитались?
Если бы только сплетницы с той стороны Босфора знали, как близки к истине.
Но им было некогда раздумывать, потому что оказалось: вновь прибывшая сама Хасеки Хуррем Султан! Если бы злорадство могло стекать лужей, все обитательницы Летнего дворца стояли бы по колено в собственной желчи. Это потом Хуррем начнут сочувствовать, в первые минуты было только злорадство: еще одна, занесшаяся высоко, получила по заслугам!
Если бы спросили за что, ни одна не ответила бы, но все были уверены, что свершилась справедливость, тот, кто высоко возносится, обязательно должен низко и больно упасть.
Хорошо, что лицо Хуррем скрывали яшмак и вуаль, к тому же женщине было не до подруг по несчастью, да и несчастной она себя не считала. Пока. Хуррем еще не осознала, куда попала и каково ей будет здесь. Мысли Хасеки занимали дети и их обустройство на новом месте. Она все еще верила, что это ненадолго, что уже завтра султан пришлет за ними кизляр-агу, а то и приедет сам. Однако драгоценности с собой взяла, потому что что-то внутри подсказывало, что нужно быть готовой к любым неожиданностям.
Смотрителю дворца Хуррем коротко объяснила, что пока поживет в Летнем дворце, Повелитель согласен. Это озадачило смотрителя. Что значит «пока» и «Повелитель согласен»? Но вопросы задавать не стал, тем более получив несколько золотых монет. Хуррем попросила купить еду на ближайшие дни, а также распорядиться о покупке дров и подготовке назавтра хамама.
– Мы так устали от переезда, хотелось бы пойти в хамам.
Поскольку Хуррем уезжала без предварительного распоряжения Повелителя, никто в Летнем дворце предупрежден не был, и хотя Хуррем Султан торопились создать условия (мало ли что, Махидевран Султан вон вернулась, и довольно быстро), эти условия были несравнимы с теми, что остались во дворце.
Нагреть удалось всего одну большую комнату, в которой и устроились пока. Перекусили тем, что Гюль сообразила взять с собой, уставшие дети начали капризничать, их пришлось устраивать спать в первую очередь.
Наконец все было закончено: комната нагрелась, внесенные в нее матрасы тоже, дети и взрослые поели, Хуррем покормила самого маленького Селима, который еще не бросил грудь, и, уложив детей, вышла из комнаты.
Ей старались не мешать, потому все женщины вышли в коридор, вернее, на длинный балкон, тянущийся по всему периметру. Служанки стояли, зябко кутаясь в свои одеяла.
– Идите в комнату, не стоит мерзнуть, дети заснули. Если завтра не придется возвращаться, то постараемся протопить несколько комнат, чтобы жить по-человечески.
Когда все зашли внутрь и они остались вдвоем, Фатима вздохнула:
– Ой, боюсь, нам долго придется ждать приглашения вернуться.
– Это почему?
– Уж валиде с Махидевран постараются. У них появилась такая возможность от вас отделаться, вернее, вы сами ее дали.
– Ничего ты не понимаешь! Немного погодя султан сам примчится сюда или пришлет кизляр-агу. А я не вернусь в гарем, придется забирать нас в Топкапы.
– Куда?!
– Ты не ослышалась: в Топкапы.
– Там нет гарема, и женщине нельзя появляться там, где проходят заседания дивана.
– А приходить к только что родившей женщине можно? Повелитель уже не раз нарушал все правила, нарушит и еще одно!
Старая служанка снова качала головой:
– На сей раз вы перестарались, госпожа.
Хуррем и сама думала так же, но старалась не подавать вида. Если испугается она, плохо будет всем. Не может Повелитель бросить своих детей просто так, обязательно постарается вернуть хотя бы их, а уж как вернуться самой, Хуррем придумает! А вдруг и правда завтра следом приплывет кизляр-ага с приказом вернуться? Она решила немного покочевряжиться, прежде чем давать согласие на свое возвращение.
На следующий день никакого кизляр-аги или его посланника не было. Во дворце делали вид, что ничего не случилось, словно Хуррем никогда и не жила рядом с ними. Хуррем понимала, что в гареме праздник по поводу избавления от ненавистной Хасеки Султан, на это ей было наплевать, но почему так ведет себя Повелитель? Сулейман, так любящий своих малышей, не мог о них забыть за минуту.
Хуррем старалась не оставаться без дела по двум причинам: во-первых, это давало возможность не разговаривать с теми, кто жил в маленьких комнатках, не слышать их шипения, жалоб на тяжелую и скучную жизнь и друг на дружку, во-вторых, это позволяло не смотреть без конца на гладь Босфора в ожидании барки Повелителя. Второе было даже важнее.
Она присматривала за тем, как чистят и моют комнаты, как выносят негодную или почему-то не устраивавшую ее мебель, как вытирают светильники, вытряхивают старые подушки, одеяла, уносят старые и приносят новые матрасы, беседовала с поваром, со смотрителем, распределяла работу между слугами и евнухами, кормила детей, следила за тем, чтобы были накормлены слуги… Она весь день была занята.
Уже к вечеру жизнь наладилась, пусть не такая, как была во дворце, но вполне сносная. Все сыты, пристроены, уложены…
И тогда настало время подумать, что же происходит. Хуррем ужаснулась сама себе. Во-первых, ей понравилось распоряжаться. Во-вторых, она делала это так, словно была уверена, что жить придется долго. Обманывая сама себя, твердила: да, так и есть, я не позволю быстро уговорить себя вернуться, я еще подумаю. А внутри билась страшная мысль: а если и уговаривать не станут?
Через два дня в Летнем дворце появилась Зейнаб. Пришла спокойно, словно никуда и не уходила, приветствовала, ни о чем не напоминая, и принялась распоряжаться, взяв на себя часть забот.
Со всеми, кто и раньше жил в Летнем дворце, Хуррем с первого дня старалась держаться приветливо, но не сближаться. Кто знает, что за женщины здесь собрались. Это был верный шаг, потому что, как и в большом гареме, здесь тоже были свои противницы, соперницы, ненавидящие друг дружку и старающиеся навредить. Просто у этих женщин больше ничего не осталось в жизни, кроме воспоминаний и взаимной ненависти.
Еще через несколько дней принесли очень неприятное известие: Повелитель отправился охотиться в Эдирне!
Хуррем не могла поверить своим ушам, Сулейман уехал в Эдирне на несколько месяцев, взяв с собой почти всех визирей дивана, но оставив детей в холодном Летнем дворце, даже не поинтересовавшись, как они там?! Пусть бы забыл ее, разлюбил, взял себе другую, но дети?! Что она должна отвечать Мехмеду и Михримах, которые уже вполне способны понять, что папа не приходит, а мама плачет по ночам?
Она действительно плакала, стараясь не тереть глаза, чтобы не краснели, но глаза подпухали… Все это замечали, однако никто не укорял, служанки видели, как заботится Хуррем о детях и о них тоже, как, забывая о себе, старается, чтобы все были сыты и спали в тепле.
Не смогла не пожаловаться верным Зейнаб и Фатиме:
– Повелитель забыл о детях? Пусть бы обо мне, но чем виноваты они?
Зейнаб очень хотелось сказать, что это ей урок, чтобы сначала думала, а потом делала, но она поняла, как несчастна Хуррем, и чуть коснулась ее руки:
– Хуррем, не забыл.
– Как же, если даже не узнал, как мы, и уехал в Эдирне?
– А на какие деньги, ты думаешь, смотритель делает все, что ты прикажешь, откуда в Летнем дворце столько слуг, новые повара, все, что мы едим, что горит в наших жаровнях, даже сами жаровни?.. Повелитель распорядился выделить все, что нужно, чтобы вы жили достойно. А уж если уехал охотиться, значит, так нужно.
Хуррем слушала все с замиранием, но не смогла не возразить:
– Мог бы написать…
– Видно, ты его обидела.
Так и текла жизнь в Летнем дворце, отделенном от остального Стамбула Босфором. Каждый день Хуррем видела купола Айя-Софии, слышала доносившийся с того берега призыв муэдзинов к молитве, представляя, что при этом происходит в гареме. О Сулеймане она старалась не думать, потому что становилось тошно от одной мысли, что, добиваясь невиданного положения для себя, она погубила будущее детей. Махидевран и валиде только радуются, что она исчезла из гарема. Да кто там вообще жалеет? Никто.
Хуррем своими руками разрушила все, чего столько времени добивалась. Даже если не добивалась, то просто получила.
Но теперь она хотя бы смогла сказать Мехмеду, что отец уехал в Эдирне охотиться.
– Это надолго, когда он вернется, будет уже весна. Мехмед, ты должен многому научиться до его возвращения.
Она решила, что и в Летнем дворце обучение маленького шехзаде не должно прерываться. Пусть он совсем кроха – пятый год, но пальчики, камешки, веточки помогали учиться считать, а Мария по-прежнему разговаривала с ним и с Михримах только по-итальянски. Как и с самой Хуррем по ее просьбе. Это обманывало многих, слуги считали, что итальянка не знает турецкого, и свободно болтали при ней.
Когда жизнь наладилась, у Хуррем снова появилось время для долгих бесед с Марией, и не только с ней. Нашелся венецианский купец, который сообразил приносить в Летний дворец всякую всячину. Просьба приносить и книги купца не удивила, он уже знал, что здесь живет странная женщина, околдовавшая султана. Синьор Леон с удовольствием удовлетворял интерес султанши к знаниям. Конечно, ему мешало покрывало на ее голове, трудно беседовать с человеком, не видя глаз, но он был опытным купцом и легко привыкал ко всему.
Бунт
В первый день месяца джумада-аль-ахира 931 года хиджры Хафса проснулась с чувством неясной тревоги.
Подоспевшая хезнедар-уста сообщила, что ничего не случилось. В гареме после отъезда Хуррем все спокойно…
– Значит, случится, у меня дурное предчувствие.
С кем могло случиться что-то дурное, чтобы сердце валиде сжималось от тоски? Конечно, с Повелителем! Она даже сама себе не признавалась, что ни о ком другом и не подумала, для Хафсы важен только Сулейман, о нем и только о нем болело материнское сердце. Говорят, внуков любят больше, чем детей, но Хафса больше всех людей на свете любила Сулеймана! Она могла жалеть дочерей, могла ласкать внуков, но думала только о сыне.
Первый месяц весны этого года выдался теплым, солнышко пригревало почти по-летнему, а на сердце тревога и мрак. Сын далеко, ему может грозить опасность. Самира успокаивала:
– Валиде-султан, ну что может грозить султану не на войне?
– Падение с лошади!
– Но упасть с лошади можно и дома в Стамбуле. А Повелитель прекрасный наездник. Перестаньте думать о плохом, вы притянете несчастье на голову Повелителя.
Хезнедар-уста была права, Хафса приказала себе не думать о дурном, но сердце давило, а непрошеные мысли упорно возвращались.
Однако она не успела многого передумать.
Во дворце и в гареме всегда тихо, говорить полагается вполголоса, здесь даже праздничные зурны звучат тише обычного, а барабанов и вовсе не бывает. Откуда же этот страшный звук? Нет, это не барабаны, словно металлом по металлу бьют…
Хафса уже собралась послать за кизляр-агой, чтобы объяснил, что происходит, но тот явился сам, бледный, как лист бумаги.
– Что?!
В ответ евнух произнес только одно слово, объяснившее странные звуки:
– Янычары.
Янычары были основной воинской силой, квартирующей в Стамбуле. Они должны бы защищать султана, дворец и его обитателей, именно на янычар всегда полагались Повелители. Полагались и боялись. Султана Селима привели к власти разумные советы, деньги и янычары, перешедшие на его сторону.
В это войско попадали крепкие подростки с подвластных территорий, чаще всего Румелии, то есть они были славянами. Мальчиков набирали по девширме – особому виду «кровного налога», когда из семьи забирался здоровый подросток и на время передавался в турецкую семью на воспитание. Со временем становилось понятно, к чему склонен юноша, тогда самые сообразительные отправлялись в дворцовую школу, чтобы потом стать чиновниками, советниками и даже визирями (такую школу окончил и Ибрагим), а самые сильные любители драк и оружия становились янычарами.
Не имеющие родных, принявшие ислам, возвышенные из рабов волей султана, они были готовы сложить за Повелителя жизнь в бою или в случае опасности. Янычары славились яростью, иногда даже зверствами, были столь же бесстрашны, сколь и жестоки, и им было скучно без войны.
Пришедшему к власти султану полагалось щедро одарить янычар и обещать немалые доходы в будущем. Повседневная жизнь в казармах вовсе не была ни легкой, ни сытной, так себе. Янычары добывали средства при грабеже, а нынешний султан не слишком грабеж жаловал. Во время похода на Белград еще куда ни шло, там пограбили, не спрашивая разрешения Повелителя, а вот на Родосе и вовсе запретил…
У янычар были свои любимцы, например, Ферхад-паша, этот грабил сам и поощрял янычар. Под его руководством восточные провинции обобрали так, что и метлой больше не вымести. Но в прошлом году похода не было… Правда, султан организовал большой праздник по поводу замужества своей сестры. Но праздник это недолго и не так выгодно. К тому же злые языки болтали, что это все было ради ненавистного всем грека.
Вот уж выскочка так выскочка. Ведь из таких же – мальчишкой забран даже не по девширме, а просто схвачен пиратами на берегу. Учился в дворцовой школе, потом попал на глаза шехзаде Сулейману, будущему султану, присосался к нему, как пиявка прилипает к ногам в болоте, с ним и во дворец Стамбула попал. И ведь не сидел тихо, все норовил вылезти повыше. Стал главным визирем, получив на хранение печать в обход многих знатных, женился на сестре Повелителя….
Нет, тому, что стал зятем султана, честно говоря, завидовали немногие, все помнили о запрете для зятьев султана иметь других жен и даже наложниц, жизнь с одной женщиной, да еще и сестрой султана… Вдруг она некрасива или еще что?..
А вот тому, что именно Ибрагим-пашу Повелитель отправил наводить порядок в Египте, завидовали. Все понимали, что там все кончено и без паши, Ахмед-пашу уже поймали, вернее, предательски выдали, головы лишили, его сторонники, которых и было-то немного, разбежались кто куда и забились по норам, оставалось только взять свое и султанское и торжественно привезти в Стамбул.
Ибрагим-паша взял с собой янычар, но кто это был!.. Так, мальчишки, только что пришедшие в войско, не видевшие ни одного сражения, ни разу не взмахнувшие саблей, чтобы отрубить голову врагу. И эти мальчишки, годные, скорее, для свиты, чем для боя, сумеют хорошенько обогатиться, в то время как опытные воины сиднем сидят в Стамбуле на голодном пайке. Жалованье султан не платил уже давно, ссылаясь на то, что казна пуста, в походы не водил и не собирался, а своим любимчикам позволял наживаться.
А потом пришло известие, что Повелитель казнил Ферхад-пашу, якобы за прегрешения под Белградом, когда по вине паши погибли пятнадцать тысяч воинов. Янычары в Стамбуле, конечно, в том поражении Ферхад-паши за рекой Сабой не бывали, оттуда почти никто не вернулся, зато они помнили, как паша позволял грабить восточные провинции. Хороший человек, не жадный… А справедливость, она хороша для своих, те, кого завоевали и поработили, требовать справедливости не могут. За что же казнить Ферхад-пашу?
Янычар не успокоило заверение, что никто пашу не казнил, он был убит в схватке с охраной султана, когда набросился на них.
Конечно, казнь Ферхад-паши была только поводом. Как же не возмутиться, если в столице никого нет, ненавистный янычарам грек в Египте, султан в Эдирне, в Стамбуле только шехзаде Мустафа, но он слишком мал, чтобы на него делать ставку, учитывая, что и у Ибрагим-паши, и у Повелителя войска.
Янычары не собирались никого свергать и приводить к власти нового султана, нет, они желали просто проучить нынешнего. Он должен заботиться о янычарах, как о своих детях, думать прежде всего об их благе, а уж потом об этом греке. Да, еще о колдунье, заставляющей Повелителя сидеть дома, держась за краешек своих шальвар. Конечно, не зря же весь Стамбул болтает о ее колдовстве, о том, как эта роксоланка завладела сердцем султана, сделала его беспомощным и неспособным воевать.
Хороши любимцы у Повелителя – грек, который грабит (в этом никто не сомневался) и дает дурные советы, и роксоланка, колдовством удерживающая уже который год султана в своей постели и дома в Стамбуле. Разве может обычная женщина за четыре года родить четверых детей, если остальные наложницы не рожают вовсе? Конечно, колдовство!
Янычарам было все равно, виновны или нет Ибрагим и Хуррем, все, как обычно: султан хороший, но плохие советчики, советчиков следовало убить, а султана проучить, чтобы понимал, с кем стоит советоваться, а с кем нет, чтобы до конца жизни запомнил, что советчики у него только они, янычары.
Но первый враг – Ибрагим-паша – был далеко и под защитой своего войска, а вот роксоланка близко и без защиты султана. Разве что колдовские чары применит…
Произошло то, чего больше всего боялись все султаны: в Стамбуле прозвучал клич «Казан калдырмак!». Это означало, что янычары перевернули свои котлы и котелки для плова и принялись стучать по дну ложками. Когда несколько сотен тысяч человек вдруг принимаются со всей силы барабанить по своим котелкам, выкрикивая при этом «Казан калдырмак!», страшно от одного грохота. А если еще и знать, что станет продолжением?..
Именно этот звук – грохот тысяч ложек о тысячи днищ котелков – и привлек внимание валиде. Если бы янычары сразу кинулись к воротам гарема, они вполне могли бы застать охрану врасплох и перебить ее. Но верные себе янычары сначала кинулись грабить город. «Казан калдырмак!» выплеснулось на улицы Стамбула, жителям на себе пришлось испытать то, что испытывали побежденные во время разбоя янычар.
Кто не успел закрыть свои лавки, спрятать деньги и красивых родственниц и спрятаться сам, пострадали в первую очередь. Были разграблены Бедестан и базары попроще, еврейский квартал, дворцы многих пашей – сторонников Ибрагима. Разграбили и его дворец Ипподром, растащив все, что можно, а что унести не удалось, просто побили, раскромсали, испортили. Искали во дворце Хатидже, но не нашли.
Дворец султана громить не рискнули, хотя капиджи, что стояли на воротах снаружи, пострадали.
Вот когда валиде мысленно поблагодарила Сулеймана за новых воинов-охранников – бостанджи, именно они взяли на себя защиту гарема от нападения. Сколько ни ярились янычары, сколько ни бросались на ворота, попасть в гарем не смогли. Если честно, то они и не пытались брать гарем штурмом, прекрасно понимая, что после этого доброго отношения султана не видать. Но кричали много, требуя выдачи Хуррем и ее детей.
Хафса удивлялась, почему янычары требуют выдачи именно Хуррем, чем им мешала эта наложница, не говоря уже о ее детях? Хуррем колдунья? Если бы просто болтали в гареме, было понятно, даже если на рынке, тоже понятно, но почему янычары, которые сплетен не слушают, им-то кто внушил или просто подсказал эту мысль?
В гареме, конечно, переполох, и успокоить тысячу перепуганных женщин непросто. Никто внутрь не прорвался, бостанджи стояли крепко, не боясь нападок янычар, пока только словесных, но даже просто слышать эти крики и беспрестанный грохот ложек о днища котелков было страшно. Сколько пролито слез за эти дни…
Наложницы сбивались в группы, сидели тихо, как мыши, закрывая руками уши, умоляя Аллаха, чтобы янычары не сломали ворота и не проникли внутрь гарема.
А валиде, которой тоже приходилось несладко, вдруг сделала для себя страшное открытие: она заметила, как горят глаза Махидевран и что Мустафа повторяет гадкие слова янычар о Хуррем.
– Махидевран, откуда Мустафа знает такие вещи, почему он твердит, что Хуррем ведьма?
Баш-кадина смутилась, но ненадолго.
– Но об этом все знают.
– Я тебя спросила о Мустафе, а не обо всех. Ты сказала?
– Не помню.
– Значит, сказала. А Мустафа повторил твои слова янычарам.
Хафса была права, янычары воспринимали Мустафу как будущего султана и охотно учили его. Если бы обучение касалось только умения владеть маленьким, игрушечным, сделанным специально для шехзаде оружием, все было бы хорошо, но янычары старались внушить мальчику, что они главная сила государства, что их надо слушать и им подчиняться. Воины заранее гнули будущего султана под себя, обещая поддерживать во всем.
Пока Мустафа мал, это влияло только на его отношение к младшим братьям, но мальчик рос, к чему могло привести такое воспитание? Обещание поддержки при захвате власти… у кого захватывать, у отца? Султан – игрушка в руках этих сумасшедших и угроза погрома в случае неповиновения? Так кто у власти, Повелитель или эта масса, звереющая при одной мысли о возможности грабежа? Они прекрасные воины во время битв и штурма крепостей, они сильны, когда соревнуются во время праздников, они великолепны, когда проходят по улицам Стамбула под бой своих барабанов, отправляясь на войну. Но они теряют человеческий облик и всю свою привлекательность, когда начинают грабить.
Подумав о том, что ждет Мустафу при такой поддержке, валиде ужаснулась. Нет, только не это!
Но когда поняла, что могут сделать с Хуррем и детьми янычары, если доберутся до Летнего дворца, и вовсе схватилась за сердце.
– Только бы не узнали… Махидевран, не вздумай выдать.
Хафса беспокоилась о Хатидже, ведь сестра султана оставалась в своем дворце одна со слугами. На счастье валиде, они сидели в гареме взаперти безо всяких новостей. Сидели в осаде, янычары не могли проникнуть внутрь, но не мог и никто другой. Вскоре повара сообщили, что скоро готовить будет не из чего. Поскребли во всем углам, собрали все, что можно, но все равно скоро кухня перестала манить запахом готовящейся пищи.
Сколько раз за это время Хафса мысленно взывала к сыну:
– Сулейман, где ты?
Конечно, при первых стуках янычарских ложек и первых криках в Эдирне метнулся гонец, и не один. Но султан не спешил выручать свою столицу, свой дворец и свой гарем. Почему?
Хуррем и остальные в Летнем дворце слышали шум на другом берегу Босфора, перепугались, а когда принесли известие о бунте янычар, Хуррем и вовсе стало плохо. Она помнила рассказы Сулеймана о бунте с перевернутыми котелками.
Немного погодя приплыл тот самый купец, что приносил книги, сокрушенно мотал головой:
– Какое счастье, что у меня товар на этом берегу! Мои знакомые пострадали, у многих разграблены и разгромлены лавки, склады, кое-кто убит. В Стамбуле страшно и голодно, торговцы скотом и другими продуктами просто боятся везти товары туда, чтобы не быть ограбленными, горожане боятся выходить на улицы…
У них в Летнем дворце еда была, больше того, боясь переправлять свой скот в Стамбул и не желая уводить отары обратно, торговцы отдавали все за бесценок. Но Хуррем все равно распорядилась ввести строгую экономию, кто знает, как долго придется сидеть в осаде.
И осады тоже не было, они могли уйти или уехать в любую минуту, только вот куда? Сначала, услышав о том, что кричат янычары, требуя смерти ее и детей, Хуррем испугалась по-настоящему и задумала бежать, но потом опомнилась. Какая разница, если переправятся, то догнать будет нетрудно, у нее слишком много людей, чтобы можно было исчезнуть, раствориться, затеряться, даже переодевшись.
На вопрос, не собирается ли бежать, ответила решительно:
– Нет, останемся здесь. Скоро вернется из Эдирне Повелитель, он справится с бунтовщиками.
Мысль о том, что янычары могут переправиться и привести свои угрозы в исполнение, старательно гнала от себя и тоже мысленно молила-вопрошала:
– Сулейман, где же ты?!
Уже не ради себя, даже не ради только своих детей, ради Стамбула, его жителей, ради его спокойствия. А в самом Стамбуле в бунте янычар снова винили… Хуррем и Ибрагима. Горожане были убеждены, что, получи ненавистных людей на растерзание, янычары не стали бы громить сам город. Глупее не придумать, но на каждый роток не накинешь платок.
Тянулись страшные дни, ибо самое тяжелое для человека – неизвестность. Люди могут вынести многое, но они должны знать, ради чего мучения, и быть уверены, что они когда-то закончатся.
У Хуррем такой уверенности быть не могло, оставалось только убеждать саму себя и остальных. От ее спокойствия зависело спокойствие всех обитателей Летнего дворца. Все понимали, что Босфор не такая уж серьезная преграда для янычар, переплыть пролив можно легко. Хуррем с ужасом ждала проклятий и здесь, ведь уже стали известны требования, выдвинутые янычарами в Стамбуле: выдать им Ибрагима и Хуррем с детьми.
Казалось, присутствие ненавистной янычарам Хасеки должно вызвать у остальных женщин возмущение и требование либо действительно выдать Хуррем, либо им покинуть дворец. Но произошло обратное: женщины, сами познавшие унижение и забвение, словно сплотились вокруг несчастной Хуррем. Теперь уже не было деления на своих и чужих, страх заставил обитательниц Летнего дворца забыть распри и переселиться в главное здание по несколько человек в комнату. От обитательниц не отставала и челядь.
Неожиданно для себя Хуррем оказалась во главе небольшого гарема, отличительной особенностью которого было отсутствие ревности, зависти и ненависти. Если такая и была, то только по отношению к тем, кто превратил их жизнь в кошмар бесконечного ожидания.
Фатима тронула за плечо дремавшую Хуррем, все эти ночи они спали вполглаза, лишь слегка прикрывая глаза, под которыми поневоле легли тени.
– Что?! – вскинулась Хуррем.
Фатима, сделав знак, чтобы та молчала, поманила за собой. У Хуррем всколыхнулась надежда: Повелитель?! Но в коридоре ее ждало нечто иное.
Позади двух закутанных в простые покрывала женщин стоял огромный черный евнух. Даже в ночном полумраке, который едва разгоняли два светильника, Хуррем легко узнала Бану – евнуха из дворца Ипподром. А женщины?..
Одна откинула покрывало, и Хуррем невольно вскрикнула:
– Хатидже!
Не в силах больше сдерживаться, сестра султана бросилась к ней в объятия:
– Да, это я.
Хуррем прижимала к себе ту, что совсем недавно ненавидела ее, а сейчас словно просила защиты, и уговаривала:
– Все будет хорошо, все будет хорошо.
Оказалось, что Хатидже удалось бежать из дворца уже тогда, когда янычары в него ворвались. Два дня она скрывалась в мечети, но потом решила бежать сюда, надеясь двинуться дальше в Манису.
– Там есть где спрятаться, я знаю, в Манисе нет этих проклятых янычар.
– Они есть везде, но сейчас об этом лучше не думать, поговорим завтра. Сейчас вы должны отдохнуть.
Хатидже с ее служанкой устроили в маленькой комнате в покоях самой Хуррем. На этом настояла Хуррем, заметив, что Хатидже скоро рожать.
– Не беспокойтесь, госпожа, с нами Зейнаб, она хорошая повитуха и лекарка.
Хатидже еще долго рыдала, не в силах поверить, что уже почти в безопасности, убеждала Хуррем, что с рассветом нужно отправиться в путь.
– Да-да, конечно, а пока поспите, госпожа, нужно набраться сил.
Хуррем понимала, что ни о какой дороге не может быть и речи, измученная женщина вот-вот родит до срока. Но сама задумалась, может, Хатидже права и им следовало отправиться в Манису? Но вспомнила о десятках женщин, которые доверились ей и для которых она была последней надеждой, и вздохнула: нет, она не сможет бросить всех этих несчастных.
На следующий день из-за усталости пропустившая не только утреннюю, но и полуденную молитву Хатидже рассказывала о том, что знала.
В Стамбуле ужас, янычары решили показать всему миру, и особенно султану, кто хозяин в столице и империи, они грабили и жгли дворцы и дома всех, как-то связанных с Ибрагим-пашой, а то и вовсе не связанных, просто чтобы показать свою силу. Многие купцы в ужасе бежали из города, клянясь больше не возвращаться. Разрушение ради разрушения, просто кураж, просто желание показать свою силушку. Грабить и убивать своих же, чтобы испугать султана…
Конечно, ни в тот день, ни на следующий никуда не поехали, потому что измученная Хатидже родила раньше срока. Ребенок прожил несколько часов, ни опытная Зейнаб, ни повитуха из живших во дворце помочь не смогли, слишком много перенесла в последние дни несчастная женщина.
Остались в Летнем дворце, вознося молитвы, чтобы никто не выдал их янычарам, чтобы эта озверевшая от собственной силы, как звереют от запаха крови животные, масса не перебралась через пролив.
Но янычары уже начали остывать. Они хозяйничали в Стамбуле целую неделю, громя то, что было легко взять. Капиджи, должные охранять ворота дворцов, сбежали, лишь завидев янычарские сотни, а потому во дворцы врывались легко. Но охрана гарема оказалась крепкой, и ворота даже не пробовали штурмовать, просто собирались рядом, кричали, угрожали, но не больше.
Янычары требовали своего: выплатить жалованье за три года и вести в поход, чтобы можно было обогатиться. Султан никаких требований не принимал, разговаривать с мятежниками не стал. Вот вернется из Египта Ибрагим-паша, который отправился туда за деньгами… Сулейман не был уверен, что Ибрагим привезет деньги, для этого следовало в самом Египте тряхнуть многих.
Примчись султан для расправы над мятежниками или на выручку своему гарему, боевой дух янычар снова поднялся бы, но Повелителя не было, он покинул Эдирне, однако в Стамбуле не появлялся. Было странно и тревожно. Все чаще раздавался ропот сомнения и сожаления. Одно дело пограбить и сжечь взятый чужой город даже без разрешения султана, но совсем иное Стамбул. В запале, пока жгли, разрушали и даже убивали, об этом не думали, со своими разбирались, как с врагами, а теперь начали приходить в себя и становилось страшно.
Теперь было уже не до Хуррем, хотя прошел слух, что она по ту сторону Босфора. Многие втайне даже радовались, что не удалось до нее добраться, это оправдание перед султаном, мол, погрозили, но не тронули же. А что дворцы пашей разграбили, так им и надо! Дурные у тебя советчики, султан, гони от себя этого грека и роксоланку, и янычары продолжат служить верой и правдой.
Но султан не возвращался в Стамбул, и никто не знал, где он. Теперь становилось страшно уже самим янычарам, неизвестность пугает…
Немного придя в себя после родов и плача по умершему ребенку, Хатидже рассказала, что за время отсутствия Хуррем в гареме произошло многое. Повелитель уехал в Эдирне, забрав с собой почти всех визирей. Почему – никто не мог понять, словно предчувствовал бунт. Оставшиеся визири непременно погибли бы.
Туда же он вызвал для объяснений и Ферхад-пашу. Зять приехал, уверенный, что за него заступятся жена и валиде, а потому прегрешения, как всегда, сойдут с рук. Возможно, так и было бы, отобрав власть, Сулейман сохранил бы Ферхад-паше жизнь, даже после того как тот принялся оскорблять самого султана. Но паша вступил в перепалку с охраной Повелителя, что было делом трудным, ведь Сулеймана охраняли немые, и был ими убит.
Конечно, говорили, что убит по приказу самого султана, которому надоело слушать грязные слова, изрыгаемые зятем. Возможно, а может, было, как сказал султан: Ферхад-паша не пожелал добровольно покинуть покои султана и оказал сопротивление дильсизам – немым охранникам Повелителя. Те его и порешили.
Узнав о гибели мужа, Сельджук-султания пришла к Повелителю в черном одеянии и при всех объявила, что надеется скоро надеть такое же по самому султану! Сулейман прогнал ее прочь и приказал не появляться перед глазами до конца дней. Валиде, ездившая с дочерью к султану, совсем почернела. Одно дело, когда муж расправляется со своими братьями или сыновьями, рожденными другими женщинами, но совсем иное, когда брат расправляется с мужем сестры.
Известие об убийстве паши подлило масло в огонь, и янычары перевернули свои котелки…
Хуррем и сама не могла объяснить, почему вдруг бросилась на берег, сердце позвало. А навстречу уже спешил смотритель и оба евнуха:
– Там барк Повелителя!
Это действительно был султан, который приплыл, сделав порядочный крюк от Эдирне до побережья, но сразу в Стамбул не пошел, ждал, пока принесут известие о том, что творится в городе. Сулейман уже знал, что гарем не пострадал (хвала его предусмотрительности и бостанджи!), но сожжены дворцы многих пашей, в том числе и Ипподром. Где Хатидже, конечно, не знал.
– Приведи детей, – коротко бросила Хуррем Гюль, почти бегом направляясь к пирсу, куда уже подходил барк султана.
Сулейман увидел спешащую Хуррем издали, она была одета довольно просто, закутана в покрывало, потому что вокруг мужчины, но султан угадал сердцем. А потом увидел, как от дворца спешат служанки с детьми. Невольно посчитал: четверо, значит, с ними все в порядке.
– Повелитель… – склонили головы все встречавшие, но Сулейман видел только одну – свою Хуррем. Хотя видны только глаза в прорези яшмака, а в них слезы.
Султану не пристало обнимать женщину при всех, кроме того, эта женщина сбежала из гарема, хлопнув дверью. Сулейман сделал знак, чтобы следовали за ним, и отправился во дворец. Навстречу спешили служанки с детьми, Мехмед и Михримах не вытерпели и кинулись к отцу сами:
– Папа!
Наклониться в высоком тюрбане султана и не уронить его очень трудно, Сулейман просто взял детей за руки и прибавил шаг. Это выглядело странно: впереди быстрым шагом шел высокий, худой Сулейман, почти таща за руки притихших сына и дочь, а за ним следом спешили Хуррем, Гюль и Мария с Абдуллой и Селимом на руках и многочисленные сопровождающие.
Хуррем все поняла: султан не может ничего говорить при людях, наверное, случилось ужасное и им нужно бежать? Она готова, пусть только скажет куда. Хуррем знаком подозвала Бану:
– Покажи Повелителю, где наши комнаты.
Да, это было то, что нужно Сулейману, он спешил оказаться только со своей семьей.
Знаком приказав слугам выйти, Гюль посадила Селима в его колыбельку и поспешила прочь, Мария передала Абдуллу Хуррем и тоже вышла. Дети стояли, молча глядя на мрачного отца.
Когда двери закрылись, Хуррем наконец смогла скинуть покрывало и убрать яшмак. Глаза впились в лицо султана с вопросом: «Что?!». А он почти без сил опустился на диван и привлек к себе Мехмеда и Михримах, показал, чтобы подошла Хуррем. Сулейману невыносимо хотелось обнять саму Хуррем, но сначала дети. Перецеловав всех четверых, он, наконец, обратился к их матери:
– Я все знаю. С янычарами разберусь. В гарем не проникли, но дворец Ибрагима сожгли. Хатидже…
– Она уже немного успокоилась, Повелитель.
– Кто?
– Хатидже.
– Откуда ты знаешь? Где Хатидже?
– Здесь. Она до срока родила сына, но мальчик умер.
– Хатидже здесь?! Как она сюда попала?
– Ей удалось выбраться из дворца, а приплыв сюда, Хатидже Султан уже никуда дальше не поехала.
Он спрашивал о Хатидже, расспрашивал о детях, говорил о бунте и скором возвращении Ибрагима и ни слова о ней самой. Сердце Хуррем сжалось от боли. Неужели она совсем не нужна Сулейману, неужели тем поступком оттолкнула его от себя навсегда? Ведь даже не прикоснулся, не заглянул в глаза…
Но она радовалась хотя бы за детей…
Султан решил пробыть во дворце до следующего дня. Хотелось спросить, не опасно ли это, но как она могла? Молчала…
Вечером Сулейман прислал за Хуррем евнуха Бану. Здесь не было таких условий, как во дворце Стамбула, хотя Повелителю тут же освободили лучшие комнаты, но какой сейчас спрос?
Хуррем шла, гадая, что скажет Сулейман, велит отправляться в ту же Манису вместе с детьми, ждать в Летнем дворце, пока он разберется с мятежниками, или вообще прогонит, поблагодарив за спасение детей и сестры?
Шагнула за дверь, поклонилась:
– Повелитель…
Он сделал знак евнуху удалиться. Когда дверь закрылась, подошел совсем близко, как делал когда-то, поднял ее лицо за подбородок, тихо спросил:
– Ждала?
И словно прорвало плотину, которая столько времени держала, у Хуррем потоком хлынули слезы. Здесь она плакала от отчаяния только первые дни, вернее, ночи, когда стало по-настоящему опасно, о слезах было забыто. Сулейману рассказали о том, как толково распоряжалась во дворце Хуррем, как все организовала, как к ней потянулись остальные женщины, как приехала Хатидже… много рассказали такого, что вызывало восхищение его возлюбленной, но для султана было главным другое: ждала?
Она плакала, орошая слезами рубашку на любимой груди, а он стоял и просто гладил ее золотистые волосы. И не нужно никаких объяснений, никаких слов. Она сумела сберечь детей, она ждала… А он приехал.
Сулейман справился с янычарами быстро, он просто позволил им растерять пыл, выждал, пока чуть остынут, когда ярость уступит место сомнениям, вернулся в Стамбул и приехал во дворец почти без охраны и вызвал к себе зачинщиков. Янычары воины, они оценили уверенность и бесстрашие султана, потому что их было во много раз больше, чем тех, с кем прибыл Повелитель.
Так приучают строптивого коня: если его сразу дергать за узду или тянуть на аркане, взбрыкнет, опытный укротитель умеет постепенно согнуть шею вольного животного, склоняя его голову до земли. Султан позволил янычарам растерять их ярость и спокойно гнул головы к земле.
Они уже были готовы покориться, но, собравшись вместе, снова почувствовали кураж и решили диктовать свою волю. Но Сулейман не растерялся, он выхватил саблю и просто снес голову оказавшемуся рядом янычару. Остальные склонили головы безропотно. Страшная, разрушительная сила была покорена, хотя успела многое натворить за время бунта.
И янычары, и султан получили хороший урок: янычары поняли, что у этого Повелителя рука хоть и холеная, но крепкая, саблю держать умеет и головы рубить тоже, а Сулейман – что дикой силе нужно давать выход, чтобы она не обратилась против него самого. Для этого янычар нужно просто водить в завоевательные походы, а еще постепенно, как шею норовистого коня, гнуть к земле.
В следующем году был обещан новый поход…
Куда? Конечно, в Европу. Предусмотрительные правители поспешили прислать в разоренный Стамбул послов с предложениями мира. Султан, справившийся с дикой силой янычар, перед которыми дрожала вся Европа, достоин уважения и пристального изучения…
Тайны свои и чужие
– Госпожа! – Кейе была не просто взволнована, она почти вцепилась в Хуррем.
– Что случилось?! Мехмед? Михримах?
– Нет, госпожа. Умоляю, не выдавайте меня!
– Кому? Что ты натворила?
– Там… там эта страшная женщина. Не отдавайте ей меня, умоляю.
Поняв, что дело касается только Кейе, Хуррем слегка успокоилась. Для нее главное Сулейман и дети, остальное уже не столь важно.
– Говори толком, кого ты так испугалась. Я никому тебя не отдам, если на тебе, конечно, нет большой вины.
– Там Исра, она… она колдунья, госпожа.
– Откуда ты знаешь?
Одновременно с Хуррем вопрос задала и Зейнаб:
– Откуда ты знаешь Исру?
Кейе опустила голову:
– Я была у нее служанкой, но сбежала.
Сбежавшая рабыня – это плохо, если ее захотят схватить, даже Хуррем заступиться будет трудно. Но Хуррем поразило то, как старательно расспрашивала Кейе Зейнаб:
– Что ты делала у Исры?
– Я ничего, только дом убирала и стирала. Но я видела, как она колдует. И она видела, что я увидела. Тогда я сбежала. Это страшно.
– Зейнаб, что это за Исра?
Старуха откровенно нахмурилась:
– Спрячьте девочку, госпожа. Только пусть сначала скажет, к кому пришла Исра. Я кое-что расскажу. Это плохо, что Исра здесь.
– Евнух проводил ее вон туда…
– В покои валиде?
– Я не знаю, я только видела, что ее повели туда.
– Там и Махидевран живет.
Зейнаб как-то не слишком хорошо усмехнулась:
– Не-ет… это к валиде.
– Что ты знаешь, рассказывай!
– Кейе, спрячься и не показывайся, пока Исра не уйдет. Она не должна знать, что мы о ней знаем. Тебя никто не видел?
– Нет, – замотала головой служанка.
– И мне нельзя показываться этой ведьме. Хуррем, я расскажу тебе кое-что, если поймешь, как надо, расскажу еще многое. Но только тебе, чтобы не было лишних ушей.
Они ушли в дальний кешк сада, сели так, чтобы были видны все подходы. Этот небольшой павильон Хуррем очень любила, отсюда открывался прекрасный вид, обдувал легкий ветерок, в жару не было душно, а в прохладное время года холодно.
А еще действительно хорошо видно, если кто-то приближался. Хуррем часто уходила сюда с книгой, это никого не удивляло.
Вот и сейчас она устроилась на подушках, словно для чтения, Зейнаб присела рядом и, почти не разжимая губ, принялась рассказывать.
– Ты знаешь, каким был отец Повелителя?
– Султан Селим Явуз? Жестоким, сильным… О чем ты?
– Я не о том. О том, каким он был человеком.
– Откуда же мне знать?
– Никогда не расспрашивала о жизни валиде и детских годах Повелителя?
– Нет, как я могу?
– Хорошо сделала. Послушай. Айше Хафса у султана Селима была младшей женой. Будущему султану тогда пришлось скрываться от гнева отца в Крыму, отец Хафсы хан Менгли-Гирей поддержал. У Хафсы мачеха Нур-Султан своим умом славилась, она и постаралась, чтобы царевич Селим Айше Хафсу в жены взял. Взять-то взял, а вот каково при этом Хафсе было, никто не подумал.
Хафса Селиму много детей родила, пока они в Трапезунде жили, но выжили только девочки и вот Сулейман. Все понимали, зачем Нур-Султан постаралась сосватать падчерицу. Своих дочерей у Нур-Султан не было, болтали, что Хафса в младшего сына самой Нур-Султан влюбилась, тот тоже глазами стрелял в сводную сестру. У Нур-Султан были два сына от второго мужа, одного московский правитель воспитывал, второго она с собой в Крым привезла. Вот в него-то и влюбилась Хафса. Да не судьба, видно…
Потом Селим в Эдирне ушел, против отца мятеж поднял уже настоящий. И против братьев. Ходили слухи, что Нур-Султан заветное слово против отца Селима султана Баязида знала или с его любимой женщиной сумела договориться, чтобы султан Баязид от престола отказался в пользу не своих старших сыновей, а в пользу младшего – Селима.
Роксолана передернула плечами:
– Все ради власти!..
– Не только, Хуррем. Ради жизни тоже. По закону султана Мехмеда пришедший к власти мог истребить всех родственников, способных на нее претендовать. Братья Селима ни его, ни его детей не пожалели бы. Хафса знала, что если Селим не станет султаном, то ее и детей ждет удавка.
– А сам Селим?
– А он поступил так же. Отец после отказа от престола недолго прожил, не успел даже до Эдирне доехать, умер вдруг. Братьев и племянников Селим уничтожил. А потом и собственных старших сыновей тоже. Остался один Сулейман. Ему никого уничтожать не пришлось, когда отец умер, у Повелителя ни дядьев, ни братьев, ни двоюродных братьев нет. А султан Селим умер там же, где и султан Баязид, – в Чорлу. Тоже в Эдирне ехал. Говорили, что от чумы.
– А в действительности?
Зейнаб чуть поморщилась:
– Говорили: от чумы. Но я не о том тебе рассказать хотела. Слушай дальше.
Султан Селим был мужчиной высоким и красивым, Повелитель и ростом, и статью в него, только вот отец крупный, а Повелитель сухощавый. Женщин в гареме было много, но только вот странность у султана имелась… – Женщина снизила голос почти до шепота. – Мальчиков любил… белых евнухов…
– Ну и что?
– А то, что не всегда так было. В Трапезунде нормальный был, а как стал жить от Хафсы отдельно, так и…
И все равно Хуррем не понимала, к чему клонит Зейнаб. Ну, любил султан Селим мальчиков, но ведь наплодил же детей, у него не один Сулейман был, и дочерей тоже полно.
Поняв, что Хуррем запомнила все, что ей сказано, Зейнаб зачем-то кивнула и продолжила:
– В Трапезунде Хафсе помогала Исра, все знали, что она приворотами-отворотами занимается. К чему Хафсе привороты, если муж вынужден уехать, а ее с детьми оставить? Явно наоборот – отворот. Или приворот, да только другой. Понимаешь?
Хуррем на всякий случай кивнула, хотя не понимала.
– А потом Исра исчезла, говорили, что она в Стамбуле. Когда я в Стамбул перебралась, ее уже не было, но нашлись те, кто твердил, что она у Хафсы была, а потом в Манису уехала. Но что султан гарем забросил и женщинами интересоваться перестал, это точно.
– Ты хочешь сказать, что Исра занимается отворотом от женщин?
– И?..
– И приворотом к мальчикам?! Ты с ума сошла! Не может быть такого.
– Я тебе рассказала, что знаю, а ты уж думай, кто чем занимается и чем это тебе грозит.
– Ой, Аллах!
Она размышляла два дня, боясь самой себе признаться в подозрениях, а потом решительным шагом отправилась к валиде.
– Ты куда? – загородила ей дорогу Зейнаб, боясь, как бы Хуррем не натворила бед.
– К валиде.
– Зачем?
– Спрошу, что тут делает Исра.
– Ох, зря я тебе рассказала, выболтаешь лишнее…
– Не бойся.
Рядом с Хафсой, как обычно, была Самира.
– Валиде, хочу поговорить наедине.
– У меня от хезнедар-уста секретов нет. Говори.
– Вы потом расскажете все сами, но я буду говорить только наедине.
Хафса возмутилась:
– Не хочешь разговаривать при хезнедар-уста, не говори, я тебя не звала и не держу.
Теперь разозлилась уже Хуррем, она помнила предостережение Зейнаб, но раздражение росло.
– Зачем в гареме Исра?
Заметно было, что имя знакомо, но и без того Хуррем верила рассказу Зейнаб, та зря болтать не будет.
– Кто такая Исра?
– Зачем к вам приходила Исра? – Понимая, что валиде может просто прекратить разговор, Хуррем добавила: – Я знаю, чем она занимается. И знаю вашу тайну. – Заметив, как вздрогнула валиде, вдруг уточнила: – И не одну.
И тут же осознала: она просто приговорила сама себя к смерти. Что ждет того, кто проникает в запретные тайны? С чего вдруг родилось следующее, и сама не могла бы объяснить, скорее от отчаяния. Развернулась, чтобы выйти, и вдруг остановилась почти у двери.
– Валиде, если я пойму, что с Повелителем что-то происходит, я расскажу ему все. Если что-то случится со мной или моими детьми, то Повелитель все прочтет в оставленном у имама письме.
В свои покои она почти бежала, едва закрыв дверь, потребовала писчие принадлежности. Когда уже занесла руку, чтобы начать писать, вдруг лукаво улыбнулась и с удовольствием нанесла на бумагу всего несколько слов.
Через минуту Хуррем уже шла к имаму, который в это время обучал новеньких рабынь молитвам для намаза. Попросив поговорить, она подала письмо:
– Вы не должны никому отдавать его, пока я жива, никому.
В руку имама кроме листа перекочевал перстень с изумрудом. На всякий случай, как напоминание об обещании. Перепуганный имам пообещал и спрятал запечатанный лист как можно дальше.
Теперь оставалось ждать.
Хафса старалась не вспоминать ни свою юность, ни свою молодость, ограничивая мысли о прошлом тем временем, когда Сулейман стал султаном. Это так мало… Словно и не жила вовсе. Но вспоминать было слишком тяжело. Она прожила непростую и очень трудную жизнь, хотя всегда была окружена богатством, часто несметным. Однако если подумать, не знала и минуты покоя.
Так живут все, у кого власть и богатство, спокойны, наверное, только нищие да дервиши. Верно говорят: голого не смогут ограбить и сорок разбойников.
Но Хафса не за богатство боялась, она боялась за жизнь свою и детей. Они могли быть живы только пока мать в силах защитить.
Со стороны могло показаться, что валиде сидит, задумчиво глядя вдаль и наслаждаясь видом из окна. Но хезнедар-уста, живущая рядом с хозяйкой с тех самых пор, когда Айше Хафса была просто принцессой во дворце хана Менгли-Гирея, знала, что это не так, иногда ей казалось, что Хафса и вовсе не спит и не отдыхает, что все ее время посвящено размышлениям. Это верно, чем больше знаешь и чаще размышляешь, тем ты сильней. Кто поступает быстро и бездумно, редко поступает правильно.
А валиде было о чем подумать.
Само имя Самиры по-арабски означало «вечерняя собеседница», раньше так и бывало, они много говорили по вечерам, несмотря на то, что одна хозяйка, а другая служанка. Когда Хафса стала валиде – матерью султана, Самира при ней стала хезнедар-уста – правой рукой. И теперь они мало беседовали по вечерам. Но размышляла Хафса по-прежнему много.
Самире бывало жаль свою такую умную и красивую госпожу, которую Аллах обделил счастьем. Она прекрасно знала достоинства Хафсы, знала, что та заслужила. За много лет была свидетельницей многих ее тайн. Казалось бы, что же от Самиры таиться? Да видно, не все тайны известны многолетней помощнице…
Самира в своих подозрениях права, не все известно даже ей – многолетней помощнице, пожалуй, единственному близкому человеку, на которого могла рассчитывать в своей жизни валиде-султан.
У Хафсы сын – умный, красивый, сильный Повелитель. Как когда-то мечталось, чего она добивалась, ради чего старалась столько лет, чем столько лет жила. Были невестки, внуки… Но сыну не выскажешь то, что столько лет на душе, невесткам тем более. А жаловаться Самире, даже при том, что та ни слова не скажет и под пытками, Хафса не стала бы. Она хорошо помнила слова отца, сказанные, правда, не ей, а сыновьям:
– Никогда не жалуйтесь. Пожалеть не пожалеют, а уважать и бояться перестанут.
Хафсе никто ничего не говорил, она с детства была не нужна, хотя жила в роскоши дворцовых покоев.
Просто в их семье царила мачеха – Нур-Султан. Менгли-Гирей взял ее третьей женой, причем взял по совету московского князя Ивана. Хафса была тогда совсем девочкой, лет шесть-семь, но хорошо запомнила, как шипели жены и наложницы Менгли-Гирея:
– Зачем хану такая? Она уже старуха!
– Дважды вдова и с двумя сыновьями!
Нур-Султан и впрямь не могла похвастать ни юностью, ни красотой, ни богатством, ничем, кроме ума. Наверное, в молодости была хороша, но ведь годы прошли, уже четвертый десяток, дважды оплакивала умерших мужей – ханов Казанского ханства, два больших уже сына, старшего Нур-Султан оставила на воспитание московскому князю, а младшего привезла с собой.
К чему Менгли-Гирею такая жена? Никто не понимал, но все видели, что нужна. Хан и думать забыл об остальных женах, теперь существовала только Нур-Султан.
Нур-Султан поразила Хафсу с первого взгляда. Нет, та не была самой красивой из женщин, ни статью, ни ростом тоже не отличалась, и голос довольно тихий. Но то, что новая жена хана Менгли-Гирея говорила, а главное, как говорила, заставляло подчиняться беспрекословно. Тихим, спокойным голосом Нур-Султан распоряжалась жизнью во дворце и Бахчисарае, поступками самого хана и всеми делами ханства.
Женщина переписывалась с правителями других стран, советовала мужу и им, как поступать в том или ином случае, именно она сумела убедить султана Баязида, что с далекой Московией лучше дружить, а после и подарки от великого князя Ивана принять.
Нур-Султан разъезжала по миру сама, она могла отправиться в Казань или далекую Москву, и хан Менгли-Гирей не препятствовал этому. Мало того, отпустил с ней своего младшего сына Сахиб-Гирея. Этого брата Хафса не знала совсем, он родился после замужества самой Хафсы.
Именно мачеха объяснила Хафсе, что женщина может иметь власть не меньшую, если не большую, чем многие мужчины. То, что сказано ласковым голоском возлюбленной или просто толковой советчицей, часто имеет куда большее значение для правителя, чем все советы его визирей. Нур-Султан умела использовать нужных людей, она одинаково ловко пользовалась дружбой с московским правителем великим князем Иваном и хасеки османского султана Баязида, знала, кому какой подарок отправить, не пожалела своего дорогого жемчуга для князя Ивана, когда понадобилась его помощь старшему сыну Мухаммед-Амину. Мать верно решила, что удача сына куда важней большой жемчужины.
Не все удалось Нур-Султан, сыновья удались не в мать, ни старший Мухаммед-Амин, ни младший Абдул-Латиф не сумели ни удержаться на казанском троне, ни завоевать свое место при дворе московского князя. Особенно трудно стало, когда князь Иван умер и править стал его сын Василий, относившийся к Нур-Султан и ее сыновьям вовсе не так доброжелательно. У Мухаммед-Амина наследников не было, а Абдул-Латиф умер еще раньше, и тогда умная Нур-Султан использовала все свои связи, чтобы на казанский престол сел пасынок – Сахиб-Гирей.
Нур-Султан всегда помогала пасынкам и падчерицам, она не просто постаралась выдать Хафсу за Селима, но и очень постаралась, чтобы Селим стал султаном. О… там было много тайн, которые могла узнать упрямая Хуррем. О какой из них говорила эта роксоланка?
Когда османы захватили южное побережье Крыма и Кафу, оставив крымскому хану только внутренние территории, Менгли-Гирей выступил против, выступил неудачно, попав в плен и проведя целых три года в тюрьме у султана Мехмеда Фатиха. Вышел оттуда ценой обещания быть вассалом Османов, получил крымский трон обратно и с тех пор лавировал между Османами и Московией. Это была трудная задача. Османов мало волновала другая опасность, существовавшая для Крыма, – Золотая Орда, которая никак не желала умирать и в своей агонии могла принести неисчислимые беды подданным хана.
С остатками Орды, которые были еще весьма сильны, постоянно поддерживала отношения Литва, взамен московский князь Иван старался поддержать крымского хана, в чем преуспела присланная им Нур-Султан. Но в этом перекрестье интересов все время приходилось учитывать Османов. Вот тогда Менгли-Гирей и поддержал своего зятя Селима против его отца султана Баязида.
Отношения Менгли-Гирея с Москвой или Стамбулом мало волновали бы Хафсу, не завись от этого ее собственная жизнь. Какими-то стараниями Менгли-Гирея и Нур-Султан (Хафса подозревала, что больше мачехи, чем отца) Селим султаном Баязидом был прощен и поставлен бейлербеем (наместником султана) Трапезунда. Далековато от Стамбула, зато близко к Крыму. Там родились дети Хафсы и Селима, оттуда начался его поход к трону.
В Трапезунд как раз к рождению Сулеймана приезжала Нур-Султан, она отправилась в хадж – в Мекку. Конечно, не шла пешком, а ехала, причем верхом (это в ее-то годы!), а красавца-иноходца, на котором совершала хадж, потом отправила в дар московскому князю. Святой конь, он тоже побывал в Мекке. Нур-Султан пробыла в Трапезунде ровно столько, сколько было нужно…
Подумав об этом, Хафса вздрогнула: неужели эта тайна стала известна проклятой роксоланке?! Но тут же успокоила сама себя: раскрывать ее Хуррем совсем не выгодно, даже больше, чем валиде. Но трогать роксоланку нельзя, погибая сама, она может утащить на дно Босфора за собой многих.
Хафса уже давно жалела, что приняла когда-то подарок Ибрагима. Лучше бы Махидевран с Гульфем по-прежнему ссорились или шипели друг на дружку, они, конечно, надоели со своими гадостями, но хотя бы были предсказуемы и слушали окрики, а теперь?..
Нур-Султан научила падчерицу главному: муж завтра может взять другую жену, попасть под влияние другой возлюбленной, для женщины главное – ее сыновья. Сын, особенно если он может стать султаном, сделает мать главной женщиной империи. Вот за что надо держаться и бороться. Сын должен вырасти сильным и достойным, а главной женщиной для него при любом количестве красавиц в гареме должна оставаться мать.
Хафса сумела этого добиться. Да, не ее заслуга в том, что Селим стал султаном, скорее всего, постаралась Нур-Султан, а Менгли-Гирей поддержал, Крыму выгоден на османском престоле султан, который не будет держать крымского хана у своих ног на коленях. Сделав султаном зятя, Менгли-Гирей мог немного передохнуть. Жаль, что получилось очень немного, потому что сам Менгли был уже давно и серьезно болен, а через три года после восшествия Селима на престол Османов умер.
А когда умер Менгли-Гирей и мудрая Нур-Султан потеряла свое влияние в Салачике, тогдашней столице Крымского ханства, отношения с Крымом серьезно испортились. Селим не Баязид, он вовсе не желал сквозь пальцы смотреть на двуличную политику крымчан, требуя беспрекословного подчинения. И хотя Орда уже была разбита, а на московском троне давно сидел не князь Иван, а его сын Василий, вовсе не обладавший ни такой силой, ни такой мудростью, Крым не мог дать отпор Османам.
Став султаншей, Хафса, как ее учила мачеха, занялась не мужем, а больше сыном. Не Селим, а Сулейман был ее надеждой. Селим что-то почувствовал и после смерти своей матери заставил Хафсу принять гарем. Ей пришлось рваться на части между Стамбулом и Манисой, где Сулейман был бейлербеем.
Хафса понимала, что умный и сильный Сулейман все больше мешает воинственному отцу. Да, он единственный наследник и даже замещал отца, когда тот ходил в походы. Но только в Эдирне, в Стамбул Селим своего наследника не допускал…
Хафса была главной женщиной Османов, потому что валиде у Селима не было, но жизнь ее сына Сулеймана постоянно была в опасности. Даже единственный наследник может отправиться к праотцам, если мешает своему отцу. Султан Селим не выказывал никакого недовольства Сулейманом, но Хафса слишком хорошо знала мужа, чтобы не понимать – это временно. Селим не стар, а Сулейман достаточно силен и любим многими, чтобы представлять угрозу для отца.
Она справилась, со всем справилась. И когда поняла, что Селим может родить еще наследников…
Султан умер вдруг, в Чорлу, когда янычары оставались в Стамбуле не слишком довольными оттяжкой похода, на который надеялись… Возражавших не нашлось, тем более, визири не сразу сообщили о смерти султана Селима, давая возможность его сыну прибыть в Стамбул, чтобы принять власть. Хафса могла гордиться. Чем, тем, что стала валиде – первой женщиной империи, или?..
Что еще узнала роксоланка?
Что бы она еще ни узнала, Хуррем опасна, но сначала нужно привлечь ее на свою сторону. Так твердила разумная Самира, но мудрая Хафса в страхе допустила ошибку… Она не могла ждать.
Прошло два дня, наконец Хафса не выдержала:
– Нужно забрать письмо у имама!
– А если не отдаст?
– Отдаст, я сама заберу. Пойдем!
Имам перепугался еще сильней, чем тогда, когда Хуррем письмо отдавала, он лепетал что-то про обещание, про то, что нельзя отдавать…
– Обещание не клятва, вы же не клялись?
Несчастный имам, которому приходилось лавировать между двумя сильными женщинами, обрадовался:
– Не клялся. Только обещал.
– Я освобождаю вас от этого обещания, а с Хуррем Султан поговорю сама. Давайте письмо.
Имам достал лист, подал валиде, рассчитывая, что та станет читать сразу, и он тоже узнает, что же прятала Хасеки от валиде. Но Хафса вовсе не собиралась открывать письмо при нем, сунув в руку имама большой перстень со словами: «На нужды мечети», она удалилась быстрым шагом.
Хуррем, наблюдая, как валиде и хезнедар-уста почти бегом возвращаются в свои покои, рассмеялась:
– Повезло имаму, небось, еще заработал.
– Что вы там написали, госпожа?
Хафса от волнения уже держалась за сердце.
– Читай…
Самира распечатала лист и с изумлением уставилась на него.
– Что?
– Вот…
Нет, лист не был пустым, на нем значилось:
«Не стоило этого делать. Письмо совсем в другом месте, я знала, что вы будете искать».
Хафса сидела, опустив руку с листком на колени и поджав и без того узкие темные губы. За много лет она так привыкла поджимать губы, чтобы не сказать лишнего, чтобы промолчать, когда из груди рвался крик, чтобы сначала десять раз подумать, прежде чем открыть рот, что сами губы превратились в узкую темную ниточку.
Но Самира заметила, что темная ниточка временами становится светлой, а на висках госпожи выступают капельки холодного пота. У валиде болело сердце, все чаще болело и долго не могло успокоиться.
– Госпожа, вам принести успокоительный чай?
– Да. С этой Хуррем скоро придется только его и пить…
– Лист вернуть имаму?
– Зачем? Она же прекрасно знала, что мы его откроем.
– У кого она еще может прятать?
– Все равно. Передай Исре, чтобы больше не появлялась во дворце и ничего не делала. Пусть занимается своими делами.
– Вы уступите Повелителя этой женщине?
– Если это возможно, то уже уступила. Но Хуррем не Нур-Султан, она долго не продержится. Для меня лучше не мешать ей, а просто найти замену, но так, чтобы Хуррем не догадалась, что это мои старания. Но сначала нужно понять, чем же так понравилась Повелителю эта худышка.
– А если она его действительно любит?
– Пусть любит, я же не хочу, чтобы сын был несчастлив. Мне нужно лишь, чтобы Хуррем не разрушила мое собственное влияние на Повелителя и не сбила его с нужного пути.
– Разве женщина может сбить умного мужчину?
– Еще как может, умного особенно. Это упорного глупца не собьешь…
– Повелитель любит с Хуррем беседовать, потому что она много знает. Она себе даже служанку купила какую-то очень разумную.
– Эта служанка попадалась на глаза Повелителю?
– Она заинтересовать падишаха не сможет, возраст не тот, да и внешность тоже. Черна, как ворон, кривозуба, востроносая.
– Значит, надо найти светловолосую умницу.
Самира улыбнулась:
– Валиде-султан, а потом будем искать третью, чтобы отвратить от Повелителя эту?
Хафса вздохнула тоже с улыбкой:
– Ты права, так можно искать бесконечно.
– Нужно просто поставить Хуррем под свою руку. Она снова беременна, пока стоит предложить Повелителю красавиц, непохожих на Хуррем, чтобы почувствовал разницу.
– Она следит за тем, какая женщина бывает у Повелителя.
– Она! А должны следить вы. Вы старшая женщина гарема, вам выбирать наложниц для Повелителя, а не ей. Если вы добровольно уступите Хуррем это право, конечно, она им воспользуется! Ваше право в гареме, не забывайте об этом. И ваше право купить Повелителю новых красавиц, а может, и не купить…
Хафса снова надолго задумалась, она понимала, что Самира права, что просто так отдавать Хуррем Сулеймана нельзя, это могла сделать Гульфем, даже Махидевран вон сопротивлялась. Да, валиде не может царапать лицо наложнице, даже если та Хасеки, но в силах предложить Сулейману другую.
Утром она ни с того ни с сего вдруг произнесла, когда она были наедине с хезнедар-уста, словно продолжая начатый разговор:
– Беда только в том, чтобы эта другая не оказалась более хваткой, чем Хуррем.
– Пираты привозят многих…
– Пираты?
– Да, валиде-султан. Именно такая женщина – привезенная пиратами или купцами – вам и нужна. Та, что воспитана в гареме, не рискнет связываться с Хасеки, а если это и сделает, то неуклюже. Кроме того, поразить Повелителя привычными к гаремным ласкам женщинами уже трудно, недаром ему понравилась Хуррем.
– Ты права… Попроси-ка позвать ко мне Хатидже. Нет, давай поедем к ней сами.
– Вряд ли стоит рассказывать все Хатидже.
– Мне нужна не дочь, а ее муж. Ибрагим-паша все теснее связывается с купцами и разными иноземцами и живет теперь там. Он скорее сможет найти.
Самира чуть усмехнулась. Следом усмехнулась и Хафса:
– Я помню, что именно Ибрагим-паша привел в гарем Хуррем. Ничего, это хороший урок, она ему мешает не меньше, чем мне. Второй раз мы такой ошибки не повторим.
Сулейман подарил сестре и зятю огромный дворец у Ипподрома с хорошим садом и великолепным открывающимся из сада видом. Размерами это здание превосходило любую постройку Топкапы и особенно Старого дворца, в котором были помещения гарема.
Хатидже встретила мать радостно, она привыкла видеть валиде каждый день и теперь мучилась оттого, что не могла то и дело советоваться, рассказывая о любой мелочи. Поговорить хотелось о многом, но по секрету. Поняв это, Самира сделала вид, что забыла что-то в носилках, мать и дочь остались наедине.
Хафса на некоторое время забыла о Хуррем и о том, зачем пришла. Рядом с ней сидела любимая дочь, Хатидже немало лет, не отдай ее Сулейман за Ибрагим-пашу, кто знает, что было бы. Но Хафса прекрасно видела, что Хатидже действительно любит своего мужа, и была рада состоявшемуся браку. Только бы Хатидже поскорей забеременела.
Она с легким смущением показывала матери и вернувшейся хезнедар-уста огромный дворец, вернее, его женскую часть.
– Я так привыкла к многолюдству, странно, что вокруг нет бесконечной болтовни женщин, никто не мелькает перед глазами, никто не ссорится…
Это была правда, как зять султана, женатый на его сестре, Ибрагим-паша не имел права на гарем и был вынужден раздать своих прежних наложниц. Только сестра падишаха и никто больше. Именно потому, несмотря на почет, сестер не слишком любили брать в жены. Огромный гаремлик был пуст, не считая четверых евнухов (зачем больше?) и десятка служанок (тоже ни к чему еще). И поговорить бедняжке Хатидже не с кем.
Услышав такое сожаление, Хатидже кивнула:
– Да, хорошо, что вчера приезжала Хуррем, мы с ней болтали полдня.
Валиде только глазами сверкнула:
– Она выезжает из гарема, не спрашивая меня?!
– Они приехали вместе с Повелителем, но Сулейман с Ибрагимом уехали по делам, а Хуррем с Михримах остались. У нее такая хорошенькая девочка! Михримах очень похожа на мать, она будет еще красивей. Повелитель без ума от дочки. Да он от всех детей без ума и от их матери тоже! – рассмеялась Хатидже.
– Особенно от матери, – вздохнула Хафса.
– У Повелителя действительно прекрасные дети. Мехмедик такой маленький, но уже так много знает. Он многое умеет произносить по-итальянски. А еще он умеет считать, загибая пальчики.
– Когда это она успела научить?!
То, что Хуррем позволяет служанке говорить с детьми по-итальянски, валиде знала, но к чему учить считать ребенка, которому нет и пяти лет? Хочет показать, что ее дети самые особенные? Будто Мустафа глупей!
– Его Повелитель научил. Просто так пальчики загибали и называли, а Мехмедик запомнил.
Конечно, странно, что этого не знала бабушка ребенка, но Хатидже помнила, что их общение сводится к простым поцелуям, потому что рядом всегда Махидевран, которая зорко следит, чтобы валиде не отдавала предпочтение младшим внукам. Баш-кадина как можно чаще приводила к бабушке Мустафу, подчеркивала, как тот похож на отца, какой он умненький, какой прекрасный будет наследник у Повелителя. Однажды Хафса даже не выдержала:
– Махидевран, стоит ли так часто напоминать, что Мустафа наследник? Ты словно не можешь дождаться, когда он станет султаном!
Махидевран вовсе не глупа, она прикусила язык, больше не напоминала, но часто называла сына старшим принцем. Конечно, ее злило рождение у Хуррем сначала Мехмеда, а потом Абдуллы. Теперь эта Хуррем мать целых трех принцев, да еще и принцессу родила, принцессу, которую просто обожает Повелитель. Было от чего злиться баш-кадине.
Разговор с Махидевран получился долгим, и его результаты огорчили валиде. Она уже понимала, что баш-кадину не стоит брать в союзницы. Та все время будет тянуть одеяло на себя. Как же, будущая валиде…
«Неужели она спит и видит себя в этом качестве? – вдруг подумалось Хафсе. – Наверное…»
Оставалось последовать совету Самиры – наладить отношения с Хуррем. Женщину, так легко выбравшуюся из такой передряги, как бунт янычар, стоило уважать, и как бы ни недолюбливала Хуррем валиде, приходилось признавать ее силу и власть над султаном.
– Самира, попроси Хуррем прийти ко мне, но только так, чтобы об этом не знал весь гарем и особенно Махидевран.
Никто не знал, о чем говорили две самые дорогие для Сулеймана женщины, но самые сметливые одалиски поняли: они о чем-то договорились.
Так и было, Хуррем обещала не раскрывать тайн валиде (хотя и сама не знала каких, кроме Исры), взамен требуя признания ее детей равными Мустафе и уважения к ней самой.
– Валиде, я не претендую ни на какую власть в гареме, не покушаюсь на вашу, я даже не надеюсь стать следующей валиде, я просто хочу, чтобы мне не мешали любить вашего сына и наших с ним детей. Не мешайте нам с Повелителем, я не трону вас.
С этого дня отношения между валиде и Хуррем стали заметно иными, когда, желая угодить (а может, наоборот), валиде подарила двух красивых рабынь-славянок султану и самой Хуррем, из-за недовольства последней была тут же вынуждена забрать подарок обратно, причем с извинениями.
Многие в гареме гадали, чем вызваны такие перемены. Гадали многие, но не догадался никто, а верные Самира, Зейнаб и Фатима молчали. Молчали и сами Хафса и Хуррем.
В следующем году султан повел своих янычар в поход на Венгрию, а Хуррем родила еще одного сына – Баязида.