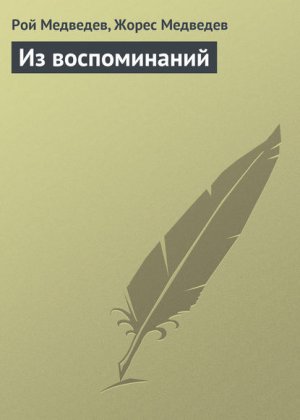
Жорес Медведев, Рой Медведев
Из воспоминаний
Жорес и Рой Медведевы Рассказ о родителях
Жорес I
Еще в студенческие годы меня преследовала мысль написать рассказ об отце. Это намерение возникло в 1947 году после встречи с Иваном Павловичем Гавриловым, старым товарищем отца. Сын Ивана Павловича Володя был моим другом со школьных лет, и когда я узнал, что отец Володи, или Волика, как мы его называли, освобожден из заключения, где находился с 1937 года, я поехал повидать его в какую-то деревеньку в Московской области. Жить в Москве Ивану Павловичу запретили, и он устроился на работу в совхозе, чтобы быть поближе к семье и как-то ей помогать.
Увидев меня, Иван Павлович обрадовался и разволновался. Оказалось, что он случайно встретил моего отца на Колыме в 1939 году хотя занесло их туда в разное время и разными потоками. Гаврилов был арестован в Сибири за «попытку покушения» на какого-то замнаркома, машина которого (в ней находился и сам Гаврилов) попала в дорожную выбоину и повредила колесо. При этом никто из находившихся в машине не пострадал. Мой отец был арестован в Москве за «связь с троцкистами», а по существу в результате клеветнического доноса.
Гаврилов был другом отца еще с 1923 года, когда они вместе учились, а затем и преподавали в Военно-политической школе в Закавказье. Здесь, в Тифлисе, Гаврилов приходил в гости к Александру Медведеву в дом на Никитской улице, чтобы посмотреть на его сыновей-близнецов, появление которых на свет все друзья нашего отца отметили «по-кавказски», когда из больницы пришло известие о рождении сначала одного, а затем и второго сына.
В Магадан Гаврилов был доставлен в 1939 году Отсюда вместе с большой партией заключенных зимой, пешим этапом Ивану Павловичу предстояло пройти несколько сот километров до Нижнего Сеймчана, расположенного у Полярного круга. В Нижнем Сеймчане были медные рудники, которые требовали людских пополнений. Из-за морозов и болезней смертность среди заключенных, работавших на рудниках, была очень велика, а медь была необходима стране.
На зимнем перегоне, километрах в двухстах от Магадана, колонна «пополнения» остановилась на обед и отдых. Здесь они встретились с колонной «сактированных» – больных и полуслепых от ксерофтальмии заключенных, которые шли с рудников в сборный лагерь под Магаданом. В этот лагерь стекались «сактированные» со всего Колымского полуострова и после лечения направлялись в другие лагеря – обычно на более легкие работы. Много позже, уже по просьбе Роя, Гаврилов написал об этой встрече следующее.
«Первый раз я встретился на Колыме с Александром Романовичем в трагической обстановке. Представьте себе: гонят колоннами нескончаемые многотысячные этапы под строжайшей охраной – со злыми немецкими овчарками, в нестерпимый пятидесятиградусный мороз. Большинство заключенных истощены, перенесли и голод, и болезни (пеллагру, дистрофию, цингу, глубокий авитаминоз и другие). На этой почве многие в этапе страдали куриной слепотой, и зрячие водили слепых в уборную, столовую и другие места. В столовой нам давали сухие пайки, и мы готовили пищу на кострах или в палатках. Не обходилось без очередей и драк у печки, устроенной из керосиновой бочки. И вот в Среднем Кане охрана нашей этапной колонны завела нас в одну из палаток, в которых размещались возвращавшиеся из Сеймчанских рудников сактированные врачебной комиссией заключенные, направляющиеся под Магадан на 23-й километр, где находился мрачный лагерь изуродованных, обмороженных, истощенных, слепых – словом, абсолютно нетрудоспособных, безнадежных людей. Этот лагерь называли на Колыме лагерем живых трупов.
Когда мы вошли в палатку, нам приказали снять с этих несчастных, слабых людей заработанные кровным трудом почти новые бушлаты и пимы, отдав им в обмен наше рванье. Поднялся вопль этих людей, мольба пощадить их и дать возможность добраться в своем обмундировании до лагеря 23-го километра. Вдруг я слышу знакомый голос старшего этой палатки. Это был Александр Романович Медведев. Он своим звонким баритоном призывал наш конвой прекратить мародерство над своими же товарищами. Я также обращался к своим товарищам с призывом не забирать у сактированных обмундирование и убеждал, что мы как-нибудь “прочапаем” в старых пимах и бушлатах, а там нам, работягам, дадут все новое… Надо сказать, что большинство нашего этапа отказалось от захвата чужого обмундирования. Но нашлись такие, которые без колебаний отнимали все что могли у более слабых… Узнав друг друга, я и Александр Романович трогательно расцеловались и обменялись сведениями о пережитом. Ведь мы не виделись больше десяти лет. Много мы размышляли, как дошли мы до жизни такой, в чем же наша вина? Что теперь будет с партией и страной? Вопросов было много, но ответа дать мы не могли. Но вот команда строиться в этап, и мы с грустью расстались…»
Через несколько месяцев работы на рудниках Иван Павлович был также «сактирован» как «доходяга», и его отправили на более легкие работы – на покос в совхоз Сеймчан. Здесь, в совхозе, перед новым этапом Гаврилов еще раз встретил нашего отца. Он писал:
«Перед отправкой в этап из Сеймчанского совхоза я вдруг вновь встретился с А. Р. Медведевым. Встреча наша была также трогательной до слез. К сожалению, оставалось мало времени, чтобы успеть обо всем поговорить. На этот раз вид у Медведева был бодрый, живой. Он сообщил мне, что работает в парниках и тепличке, которыми заведует заключенный, и в свободное время участвует в самодеятельности, по-прежнему читает стихи и поэмы Маяковского, состоит в драмкружке и хоре. Далее, с кем бы ни был в этапах и тюрьмах, я всегда подробно расспрашивал колымчан о судьбе Александра Романовича Медведева. Доходили до меня слухи, что он умер в конце весны 1941 года. Более подробно о судьбе моего друга и товарища я узнать не мог».
Рой I
Отец очень любил нас, своих сыновей-близнецов. В 20-е годы в кругу людей, к которому принадлежали наши родители, возникла традиция давать детям необычные имена, отражавшие реалии и символы новой жизни. Появились тысячи Владленов, Кимов, Маев, Ленов, даже Тракторов и Электростанций. Среди моих друзей и сейчас есть Рэм (Революция, Энгельс, Маркс), Марлен, Искра и даже Икки (Исполком Коминтерна). Как вспоминал товарищ отца Иван Павлович Гаврилов, в общежитии преподавателей Военно-политической школы в Тифлисе «процедура наименования близнецов Медведевых протекала не без участия творческой фантазии преподавательского, в большинстве холостяцкого коллектива. После долгих споров решили назвать новорожденных легендарными именами из истории Рима – Ромул и Рем, но потом эти имена трансформировались в Рой и Жорес, вероятно, в честь известных в 1925 году индийского и французского революционеров».
Мы отвечали отцу такой же сильной любовью. Никого и никогда я не любил больше, чем отца, и никто не оказал на мою жизнь и взгляды большее влияние, хотя я видел его в последний раз, когда нам с братом не было и тринадцати лет. Это была не просто любовь детей к родителям. Многие говорили мне позже, что наш отец был человеком очень умным и обаятельным, эрудитом, остроумным собеседником и превосходным оратором. Кроме того, он был комиссаром Красной Армии, а это очень много значило тогда, в начале 30-х годов, – видеть своего отца в военной форме с тремя шпалами или ромбом в петлицах. Когда он вечером приходил домой и садился на железную «походную» кровать, стоявшую в его полном книг кабинете, мы с радостью бросались к нему, чтобы не только рассказать что-то о своих школьных делах, но и стянуть с него командирские, тонкой выделки сапоги.
Известно, что пионеры 30-х годов (а в пионеры попадали тогда далеко не все школьники младших классов) воспитывались главным образом на примерах и образах революции и особенно Гражданской войны. Конечно, и книги Гайдара, Пантелеева, Николая Островского, и фильмы «Чапаев», «Мы из Кронштадта», «Красные дьяволята», «Ленин в Октябре», «Депутат Балтики» показывали нам революцию лишь с одной героической и романтической стороны, но тогда у нас не было повода для сомнений. Однако среди образов Гражданской войны не было более привлекательного, чем красный комиссар. Булат Окуджава, который всего на год старше меня и с которым я заканчивал в эвакуации в Тбилиси одну и ту же 101-ю школу, писал:
Я все равно паду на той,
На той единственной Гражданской,
И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной.
Даже Наум Коржавин – также человек нашего поколения – писал в стихотворении «Комиссары 20-го года»:
Комиссары двадцатого года,
Я вас помню с тридцатых годов.
Вы вели меня в будни глухие,
Вы искали мне выход в аду.
Мой отец был именно таким комиссаром 20-х годов, и у меня были все основания не только любить его, но и гордиться им. Отец был очень занятым человеком. Он был «красным профессором», преподавателем и заместителем заведующего на кафедре диалектического и исторического материализма в Военно-политической академии, читал лекции в Ленинградском университете (ВПА только в 1936 году переехала в Москву), работал в «Союзе воинствующих безбожников», руководил художественной самодеятельностью Академии. Он не так уж часто общался со мной и Жоресом, но редкие эти случаи я помню, вероятно, все до единого. Помню, как он читал нам детские стихи Маяковского, и я запоминал их сразу, читая потом на пионерских вечерах:
Жили-были Сима с Петей.
Сима с Петей были дети.
Пете – пять, а Симе – семь,
И двенадцать вместе всем.
Когда нам было уже лет десять, отец позвал нас к себе в кабинет и прочел (с выражением), как перед большой аудиторией, поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин», которую я также сразу запомнил почти всю и мог потом декламировать наизусть любой отрывок. Политика рано вторглась в жизнь, и с 1935 года я читал не только «Пионерскую правду», но и «Правду». Хорошо помню, какое сильное впечатление произвело на отца убийство Кирова. Мы ходили с ним на Дворцовую площадь, где сотни тысяч ленинградцев провожали гроб с телом Кирова в Москву. Я написал небольшое стихотворение «На смерть Кирова», и оно, к большой гордости отца, было опубликовано в ленинградской газете «Смена». Помню и нечастые прогулки с отцом в пригородных парках, катание на велосипедах. Почти каждую неделю отец бывал в букинистических магазинах. У него была очень большая библиотека – не менее четырех-пяти тысяч книг, и я любил просматривать их, читал отдельные страницы, статьи в энциклопедиях.
Когда я учился в четвертом классе (мы с Жоресом всегда учились в разных школах), меня однажды позвал директор и передал со мной записку отцу с просьбой прочесть лекцию для старшеклассников. Отец согласился. В большом школьном зале собралось человек четыреста, и часа полтора все они с большим вниманием слушали лекцию, время от времени взрываясь смехом или аплодисментами. Это была антирелигиозная лекция, но примеров больше всего было из Гражданской войны и истории церкви. Из младших классов я был единственным «почетным гостем», и после лекции директор школы нашел нужным отдельно меня поблагодарить.
Жорес II
В совхоз к Ивану Павловичу Гаврилову я ездил еще один раз, вместе с Роем. Гаврилов рассказывал без утайки, что приходилось переживать заключенным и во время тюремного заключения, и на Колыме. Он был в конце 20-х годов агрономом, работал в Наркомземе РСФСР, в политотделах МТС. Когда началась война, и на Колыме стало прибавляться и заключенных, и продовольствия не хватало, местное начальство решило расширить строительство парников и теплиц, а также разного рода подсобных хозяйств. Иван Павлович снова стал работать агрономом и отличился на этой работе.
После пяти лет заключения, в 1943 году он был освобожден и сразу же пошел на фронт. Бывший полковой комиссар два года воевал простым солдатом. Он надеялся, что лагерь ему больше не грозит. Однако в 1948 году почти всех освобожденных из заключения людей забрали снова и уже без суда, просто как «социально опасных», вновь отправили в концентрационные лагеря. Эта мера касалась людей, уже отсидевших свой срок по политическим обвинениям. Был вновь арестован и Иван Павлович Гаврилов. К шести годам, уже проведенным в тюрьмах и лагерях, судьба добавила ему еще шесть лет «особлага».
Только в 1954 году Гаврилов вышел на свободу, а в 1956 году его полностью реабилитировали. В процессе реабилитации он встретился и с тем замнаркома, который когда-то свидетельствовал о совершенном на него покушении. Теперь, в 1956 году он, заместитель министра того же ведомства, удостоверил, что никакого покушения не было. В 1957 году Иван Павлович получил квартиру в Москве. Он вышел на пенсию, но продолжал работать партийным пропагандистом на заводе «Красный пролетарий».
Желание написать воспоминания об отце не исчезло у меня и после нового ареста Гаврилова. Воспоминаний, собственно, было немного: когда я в последний раз видел отца, мне было двенадцать лет. И самым острым воспоминанием было последнее – арест отца у нас на квартире на Писцовой улице в Москве 23 августа 1938 года. Подробности этого ареста я описал в небольшом рассказе летом 1950 года. Рассказ был с вымышленными именами и без подписи. Написанный мелким почерком, он хранился в разных местах. В 1969 году я дополнил этот рассказ, назвав в нем реальные имена. Поводом к этому было событие, о котором я скажу дальше. Сейчас я вновь возвращаюсь к этой теме, и следующий ниже текст является переработанным и дополненным давним рассказом.
В 1950 году описывая сцену ареста, я думал, что, зафиксировав все на бумаге, я буду реже возвращаться к этому тяжелому воспоминанию, не боясь уже, что время выветрит из памяти детали, которые я не хотел забыть. Но вот прошло тридцать пять лет после той летней ночи, когда сон нашей семьи был нарушен сильным стуком в дверь, а я могу вспомнить все подробности. Проснувшись от стука, необычно громкого и настойчивого, я услышал как-то очень странно прозвучавший в передней голос отца: «Что же вы так поздно, товарищи?» Затем послышался звук захлопнувшейся двери, чужие голоса. Гости прошли в кабинет, и я снова уснул.
Когда я проснулся, было уже светло, но очень рано. За стеной слышались разговоры, звуки передвигаемой мебели. Вдруг в дверях детской появился отец. На нем была гимнастерка, но почему-то без пояса и без столь привычного ромба в петлицах. Рой тоже проснулся и испуганный сидел в кровати. Неожиданно отец подошел к нашим кроватям, обнял нас обоих вместе двумя руками, прижал к колючему небритому лицу и, не говоря ни слова, вдруг заплакал. Это было так страшно, что мы тоже заплакали, а мать, вошедшая в комнату, громко зарыдала. Недалеко от двери я увидел военного с петлицами НКВД. Все мгновенно стало понятно. Отец поцеловал каждого из нас и вышел. Через несколько секунд в передней снова хлопнула входная дверь.
Мы долго сидели, не зная, что делать. Мама плакала. Затем она достала из буфета бутылку вина, налила полный стакан и выпила. Потом опять долго сидела, молчала, не замечая ничего. Очнувшись минут через тридцать, она заговорила срывающимся голосом: «Ваш отец ни в чем не виновен… это ошибка… Это Чагин и Пручанский оклеветали его… и Васюков вместе с ними… Его должны отпустить, он скоро вернется… Мы сейчас сразу пойдем в ЦК…»
Я помню, что этим же утром мама с горящими от отчаяния глазами взяла нас за руки и почти побежала к автобусной остановке, чтобы ехать в центр города. Вскоре мы оказались у ворот Кремля, возле Спасской башни. Охрана нас, конечно, никуда не пустила, а из окошка охранной будки маме сказали, что по таким вопросам нужно обращаться в Верховный суд или в Прокуратуру. Затем мы оказались в вестибюле большого здания, где было множество людей, взволнованных не меньше нас. Когда подошла наша очередь, дежурный в окошечке попросил маму изложить жалобу в заявлении. Она что-то долго писала, а потом попросила подписать заявление и нас с Роем. С этого дня мы, наверное, раз десять были в этой приемной и в разных других. Мама писала в Прокуратуру, в НКВД, в Наркомат обороны, в Верховный Совет СССР. Всюду мы слышали один и тот же ответ: не беспокойтесь… в НКВД разберутся… невиновных не осуждают…
Спустя месяц к нам в квартиру опять пришла группа людей вместе с военным в форме НКВД. Они сняли печать с кабинета отца и провели тщательный обыск, затем увезли все рукописи, тетради, записные книжки, картотеку, переписку – все, что было когда-либо написано отцом. Заодно взяли именные золотые часы, подарок наркома обороны, облигации государственных займов и ряд ценных вещей, хранившихся в столе у отца.
Отец всегда много писал, но почти ничего не публиковал в то время. Он был старшим преподавателем философии в Военно-политической академии имени Ленина, считался там лучшим лектором. Любил говорить друзьям и дома, что начнет публиковать работы и лекции после того, как ему исполнится сорок лет. «Философ должен обладать зрелым умом, – говорил он часто, – его мысли должны быть взвешены годами раздумий и опыта. Молодой философ – явление неестественное и печальное». И приводил множество примеров, когда ранние работы знаменитых философов полностью противоречили их исследованиям, написанным в зрелом возрасте. Для рукописей отец покупал только лучшие толстые тетради с гладкой бумагой. В эти тетради он переписывал начисто свои работы, тексты лекций, конспекты некоторых книг. Он писал мелким, но необыкновенно четким и красивым почерком. Этими тетрадями был заполнен весь огромный письменный стол отца. В день ареста ему было 39 лет и 7 месяцев.
Моя мать Юлия Исааковна была виолончелисткой, но в последние годы не работала. Примерно через два месяца после ареста отца она устроилась на работу в кинотеатр, в небольшой оркестр, который играл в фойе перед началом вечерних сеансов и вел музыкальное сопровождение картины. Так прошло несколько месяцев. Все мы находились в напряженном ожидании, вздрагивая при каждом стуке в дверь, при каждом звонке телефона. Мне тогда и много лет потом снился один и тот же сон о возвращении отца домой.
Однажды зимой, вернувшись из школы, по заплаканному, искаженному горем лицу матери я понял, что случилось что-то страшное. Я бросился к ней, стал расспрашивать. Она плача рассказала, что был закрытый суд, что папу приговорили к восьми годам заключения. При этом она громко ругала всех: Ежова, прокурора, НКВД, судей и неизвестных мне Чагина, Пручанского и Васюкова, которые, по ее словам, подали на отца клеветническое заявление, а еще раньше – на его друга Тымянского и на кого-то еще.
Примерно через неделю мама нашла в почтовом ящике извещение от жилотдела Академии. Согласно распоряжению жилотдела, наша семья должна была в течение двух дней освободить ведомственную квартиру. Но уезжать нам было некуда, никакой другой квартиры или комнаты нам не предлагали. Через три дня рано утром в дверь снова громко постучали. На лестнице стояли управдом, дворник и милиционер. У них были виноватые, но решительные выражения лиц.
– У нас есть приказ жилотдела Академии освободить квартиру, – сказал управдом и показал матери какую-то бумажку.
– Но ведь мне некуда уезжать, – глухим чужим голосом ответила мать. – У меня двое детей, они ни в чем не виноваты. Пусть нас переселят или оставят хотя бы одну комнату здесь, мы же не можем жить на улице.
– Я понимаю, гражданка, – управдом пожал плечами, – но сделать ничего нельзя. Вы же знаете, такие случаи были. На вашу квартиру выписан ордер, завтра в нее должна въехать новая семья.
Он был прав: только в нашем подъезде в последние месяцы были выселены три семьи, а во всем большом доме Академии – десятки семей преподавателей и слушателей.
Дворник с каким-то помощником и милиционер вошли в квартиру и стали выносить вещи во двор, складывая их прямо на снег. Мы не пытались им помочь. Но когда очередь дошла до книг, до прекрасной библиотеки отца, мать встала и начала все делать сама. Она заворачивала пачки книг в простыни, завязывала веревками и бережно сносила вниз. Возле кучи вещей на снегу собралась небольшая группа любопытных. Все нас знали – дом был академический, а отец работал в Академии больше десяти лет, – но никто не предлагал помощи. Один из друзей и сослуживцев отца, добрый человек, единственный, кто заходил к нам после его ареста, полковой комиссар со странной фамилией Кур, был также арестован месяца два назад, уже после того, как направил в НКВД и другие инстанции заявление, ручаясь в абсолютной честности и невиновности Александра Медведева, которого знал со времен Гражданской войны. Они оба работали в политотделе знаменитой в те годы 11-й армии.
Я помню, что мебель мать тут же, во дворе, продала за бесценок, а книги и некоторые другие вещи перенесли на квартиру к дальним родственникам. Вскоре мы переехали в Ленинград, где жили сестры матери Надежда и Серафима и сестра отца Антонина, а также наша бабушка по матери Елизавета Михайловна, тогда уже больная и полупарализованная. Родные матери жили вместе, у Нади была дочка. Теперь нас было семеро в двух комнатах, жить было тесно, но мы надеялись, что именно сюда придет вскоре письмо от отца, когда он поймет, что по старому адресу нас уже нет. Отец был осужден «с правом переписки», и мы думали, что письма начнут поступать очень скоро. Но прошло несколько месяцев, прежде чем летом 1939 года матери пришло первое письмо из неизвестного нам Сеймчана, с Колымского полуострова на Дальнем Востоке.
Рой II
Сцена ареста отца отложилась в моей памяти так же прочно, как и у Жореса, это страшное утро остается и поныне самым тяжелым и горестным воспоминанием и переживанием моей жизни. Но я помню, что атмосфера в нашей семье изменилась много раньше – видимо, еще с начала 1937 года. Отец приходил домой очень поздно, все время в Академии шли какие-то собрания. Он постепенно терял прежнюю жизнерадостность и присущий ему юмор, редко разговаривал с нами, плохо спал и часто работал по ночам. По вечерам к нему иногда приходили друзья, они закрывались в кабинете, говорили тихо, много курили. В конце 1937 года несколько недель или месяцев отец болел непонятно чем. Знакомый врач говорил, что это от «нервного истощения». По просьбе отца мы перед сном иногда молча сидели на его жесткой «походной» кровати.
В начале лета 1938 года нас с Жоресом, как обычно, отправили в академический пионерский лагерь недалеко от Москвы, близ города Конаково. В «родительский день» к нам приезжали отец и мама, мы ходили купаться, катались на лодках, ловили рыбу. Обычно в лагере мы проводили две смены, но неожиданно в начале второй смены начальник лагеря собрал пионерскую линейку. Перед строем был зачитан приказ о том, что несколько пионеров за плохое поведение и недисциплинированность исключаются из лагерного отряда и отправляются домой. В небольшом списке мы с Жоресом с удивлением услышали и свои имена. Конечно, мы были не самыми послушными из пионеров, но и никаких особых проступков за нами не числилось. Однако тут же была подана машина, нам дали полчаса на сборы и через какой-то час уже везли в Москву.
Я был крайне растерян и думал о том, с каким огорчением будет воспринято дома наше неожиданное исключение из лагеря. К моему удивлению, родители ждали нас и не задавали вопросов. Отец только сделал нам выговор за грязные велосипеды, которые он брал напрокат в Академии и теперь должен был сдавать. Как я понял из разговоров в семье, отец был уже уволен из Академии, а вскоре даже демобилизован из армии и надел гражданский костюм. «Ничего, – говорил он маме, – проживем. Я буду больше читать лекций». Только тогда я понял, почему нас изгнали из академического пионерлагеря. Отец, как я понимаю, ждал ареста, но старался успокоить маму, которая тогда еще совсем не была приучена к трудностям жизни.
Я не проснулся вечером 23 августа от стука в дверь. Ночью я слышал чужие голоса, но не придал этому значения. Рано утром меня разбудили. Закончив обыск в кабинете, группа из НКВД должна была обыскать и детскую комнату. Перевертывали наши подушки, матрасики, поднимали половики, копались в игрушках.
Я плохо помню, в какие приемные и учреждения водила нас с собой мама. Кого она тогда могла разжалобить, держа за руки двух уже не маленьких детей? По законам того времени уголовная ответственность начиналась с двенадцати лет, а нам было почти по тринадцать. Просто сама в растерянности не знала, что делать, и нуждалась в поддержке. Дома с ней иногда случались истерики, и тогда она в полный голос ругала не только неизвестного нам Васюкова или Ежова, которого все знали, но и Сталина. Это пугало нас, мы старались ее успокоить, кто-либо мог услышать.
Приговор – восемь лет заключения «с правом переписки» – по тем временам считался отнюдь не суровым, но мы восприняли его как чудовищную несправедливость. После суда мама получила право на короткое свидание с отцом, но об этом свидании она никогда нам не рассказывала. Она не могла не увидеть следов жестоких пыток, которым подвергали отца и которые все же не заставили его признать себя виновным. Отец разрешил маме продавать все книги из своей библиотеки, кроме книг по философии, истории, политэкономии. Эти книги, однако, пропали позднее по разным причинам в перипетиях войны и эвакуации, и только две книги из отцовской библиотеки сохранились ныне на моих книжных полках.
После выселения из академического дома наши дальние родственники взяли к себе не только книги отца, но и нас с Жоресом, и мы жили в Москве еще несколько месяцев в переулке рядом с Бутырской тюрьмой, где больше полугода подвергали пыткам отца, – но узнали об этом позднее. Мама стала работать в подмосковном городе Клин и жила, вероятно, в каком-то общежитии. Много лет в нашей семье жила няня – молодая девушка Настя из белорусского села. Когда мы подросли, она осталась у нас, помогала по хозяйству. После ареста отца ей пришлось уехать домой. Летом 1939 года, по договоренности с мамой, Настя приехала в Москву и забрала нас с Жоресом к себе в село, где мы прожили целое лето. Мы пили домашнее молоко, ели яичницу, овощи и фрукты – голодные годы в деревне уже отошли в прошлое. Ловили рыбу для дома и даже немного зарабатывали. Рядом с селом был Днепр, одна из проселочных дорог вела на другой берег – в Смоленскую область. Моста на реке не было, а был перевоз, и мы с Жоресом на лодке перевозили желающих с одного берега на другой. Плата за перевоз была, кажется, 20 копеек. Свой заработок мы отдавали, конечно, Насте, которая работала в соседней МТС. Уже после войны мама долго пыталась разыскать нашу добрую няню, но безрезультатно. Именно здесь, на переправе и под Смоленском, в 1941 году шли многодневные тяжелые бои.
В конце августа 1939 года из Белоруссии мы уже не вернулись в Москву. Приехала мать и увезла нас в Ленинград. Там возник вопрос об обмене меньшей жилплощади на большую. Сестра отца Антонина была на заводе простой рабочей и жила в общежитии, семьи у нее не было. Сестра мамы Серафима служила корректором в газете «Ленинградская правда» и не хотела уезжать из Ленинграда. Больше всех помогла нам тетя Надя. Она сумела обменять свою небольшую ленинградскую комнату на две комнаты в большом южном городе Ростов-на-Дону куда мы переехали уже в начале 1940 года вместе с бабушкой Елизаветой Михайловной.
Жорес III
В конце осени или в декабре 1939 года нам удалось обменять комнату в Ленинграде на две сравнительно хорошие комнаты в Ростове-на Дону. Мать устроилась там на работу в театр музыкальной комедии, в оркестр. Тетя Надя, оставившая с 1934 года, после рождения дочки, профессию артистки, работала теперь машинисткой. От отца приходили не только письма, но иногда и подробные заявления, пересылаемые, очевидно, через «вольных». В этих заявлениях, адресованных в ЦК ВКП(б), в Прокуратуру СССР, в Верховный суд СССР, новому наркому внутренних дел Л. П. Берии, отец подробно доказывал необоснованность обвинений, описывал издевательства, которым подвергался, приводил имена следователей, применявших пытки. Я помню почему-то лишь одно из этих истязаний – сидение на торчащей из земли палке, упиравшейся в копчик.
Отец писал, что он, несмотря ни на что, отказался подписать фальшивые признания. В заявлениях отца указывались и имена тех, кто подал на него и на многих других сотрудников Академии клеветнические доносы. Этими людьми, как и была уверена мама, были неизвестные нам сотрудники Академии Чагин, Васюков и Пручанский. Они подписывали доносы втроем, это действовало неотразимо. Тетя Надя снимала с заявлений отца машинописные копии, а оригинал мама обычно везла в Москву – в приемную того, к кому обращался отец. Но на все заявления приходил обычно один и тот же ответ: «В пересмотре дела отказано».
Мы все часто писали на Колыму, посылали продукты, теплые вещи, деньги. Отец просил ничего не посылать, писал, что у него все есть, письма его были бодрыми, написанными все тем же ясным, четким, мелким почерком. Нам с Роем он постоянно давал в этих письмах различные советы.
«Здравствуйте, дорогие Рой и Ресс! – писал он 6 мая 1939 года. – Ну вот и к нам, наконец, дошла весна. Она у нас погостит недолго. Долгая зима здесь быстро и бурно переходит в жаркое лето… Скоро начнутся ответственные полевые работы. Пока мы энергично готовим рассаду.
Физически я очень далеко от вас. Но в своих мыслях и чувствах я близок вам, как никогда: вы “главный предмет моих привычных дум”, смысл и цель жизни. Я без устали перебираю в обострившейся памяти все домашние эпизоды, вплоть до мелочных, и воспроизвожу ваши милые образы. И в этом моя утеха и радость.
Я вступил в возраст, который древние греки называли “акме”. Это позднее лето и начало осени – период творческого плодоношения. В этот период особенно тянет к философии. И я когда-то дал себе слово не выступать в научной печати до сорока лет, чтобы выпускать действительно зрелые произведения. Поэтому я и ограничивался научно-популярной, педагогической деятельностью, накопляя и обрабатывая материал – “заготовки”.
Признаюсь, ребятки, что здесь был расчет и на вашу помощь, содействие и критику. Именно теперь, на пороге вашего вступления в юношеский возраст, в пору цветения жизни, я бы хотел быть подле вас – передать вам свои знания и опыт и, по возможности, уберечь вас от юношеских ошибок. Но судьба решила иначе! И я хотел бы, чтобы разлука не омрачила вашей юности и не гнала радости этой счастливой поры жизни. Живите так, чтобы о вас нельзя было сказать по-лермонтовски:
Взгляните на мое чело,
Всмотритесь в очи, в бледный цвет:
Лицо мое вам не могло
Сказать, что мне пятнадцать лет.
Главное – учитесь, упорно, настойчиво, не ограничиваясь школьной программой. Пользуйтесь временем, когда восприимчивость особенно велика, а память особенно цепка. Не разбрасывайтесь, будьте дисциплинированы в труде. Плеханов любил говорить: “Дисциплина труда – великое дело. При ней и посредственный человек может создать нечто значительное”. А вы – способные, талантливые ребята. Учитесь думать и быть организованными, вырабатывайте твердый характер и волю. Терпение, выдержка – вот что вам особенно нужно. Учитесь преодолевать трудности, как бы велики они ни оказались… Извините за поучительный тон – тон “послания Владимира Мономаха своим детям”. Но зная ваши характеры, я считал необходимым высказать все это. Мало того. Я еще продолжу скучную беседу на эту тему в следующих письмах…»
Но нам с Роем никогда не были скучны редкие письма отца.
«Здравствуй, мой милый Ресс! – писал отец 24 августа из Верхнего Сеймчана. – Извини, дорогуша, что с запозданием отвечаю на твои четыре коротких письма… Из ваших писем я пока что знаю об успехах в учебе и количестве прочитанных книг. Первое (учеба) меня, конечно, очень обрадовало, а второе – не совсем… Когда-то на стене одной библиотеки я прочел чье-то умное изречение, врезавшееся прочно в мою память: “Чтение есть создание собственных мыслей при помощи мыслей других”. Художественная книга (как и любое произведение искусства) живет для каждого из нас дважды: первый раз во время самого чтения, а затем– в нашей памяти и вызванных ею мыслях и чувствах. Беспорядочным чтением вы лишаете книгу законного права на вторую – важную жизнь в нашем сознании. Правда, некоторые из прочитанных вами книг и недостойны этой второй жизни. Но я говорю о хороших и нужных книгах. Такие книги – при хорошем чтении – учат мыслить. А это – самое главное, особенно в вашем возрасте, когда жадное, неразборчивое детское любопытство сменяется пытливой юношеской любознательностью … »
Зимой писем почти не было, авиапочты в те годы практически не существовало, а морская навигация на Колыме закрывалась на шесть-семь месяцев. В начале 1941 года пришла неожиданная телеграмма. Отец сообщал, что находится в больнице, но «выздоравливает». Просил прислать витамины. Мы набивали конверты таблетками витаминов А и С, посылая их авиапочтой – в надежде, что какое-либо из этих писем попадет на редкие самолеты еще до начала навигации. Почта гарантировала доставку писем самолетами только до Хабаровска. Оставшиеся две тысячи километров письмо могло преодолеть только волей случая.
В конце марта 1941 года к нам вернулся телеграфный денежный перевод на 50 рублей с пометкой или наклейкой со страшными словами «возвращается из-за смерти адресата». Мы с Роем долго плакали, мама не плакала, но несколько дней не вставала с кровати, не принимая пищи и не засыпая. Она почти не говорила ни с нами, ни с сестрой, ни с матерью. Но постепенно к ней стала возвращаться надежда, она начинала думать, что все это ошибка. Неожиданно пришло письмо отца, написанное еще осенью 1940 года. Мама не хотела сопоставлять даты, она видела строки письма, и все возраставшая надежда стала возвращать ее к жизни. Она снова писала письма отцу, писали и мы с Роем, хотя у нас такой надежды не было. Мы поджидали почтальона, чтобы забирать у него другие письма и переводы, которые мы отправляли раньше на Колыму и которые возвращались теперь в Ростов с той же надписью – «по случаю смерти адресата». До самого начала войны к нам все еще приходили письма отца, отправленные осенью или в начале зимы 1940 года. Такие же письма получала в Ленинграде и сестра отца Тося.
Война ворвалась в нашу жизнь неожиданно и быстро приблизилась к Ростову. Уже в сентябре 1941 года немецкая армия захватила Таганрог, это было совсем близко. Из Ростова началась эвакуация. Мы не спешили уезжать, но бабушка настояла на отъезде. У нее были еще сын и дочь, которые жили в Тбилиси. «Вы сможете уйти, когда придут немцы, – говорила бабушка. – А что вы будете делать с парализованной старухой?»
Раньше никто из нас даже не задумывался о том, что наша семья «русско-еврейская», но теперь приходилось об этом вспомнить. В Ростове уже было хорошо известно, что немцы в захваченных ими городах убивают всех евреев. Поезда на Кавказ еще ходили, с большим трудом нам удалось попасть в переполненные вагоны. Мы могли взять с собой только немногие вещи. Через три дня мы прибыли, наконец, в Тбилиси. Думали, что придется прожить у родных недолго, но наше пребывание на Кавказе затянулось на несколько лет.
Немцы захватили Ростов в конце октября, в ноябре наши войска отбили город, однако продвинуться далеко не смогли. Наша бабушка умерла в конце 1941 года.
Летом 1942 года Ростов был вновь занят немцами, теперь уже надолго. Более того, быстро продвигаясь вперед, немецкие армии захватывали один за другим города Северного Кавказа. Они стремились выйти к Баку и Тбилиси. Было известно, что и Турция подвела к границе с СССР большую армию. В Закавказье был создан особый Закавказский фронт, войска которого прикрывали перевалы Кавказа, оккупировали северную часть Ирана и создавали линию обороны вдоль турецкой границы. Хотя немецкие войска удалось остановить у города Орджоникидзе, обстановка в Закавказье становилась все более тревожной.
Несмотря на войну, мама продолжала писать письма отцу (и мы также писали). Она подавала заявления в разные учреждения Москвы и Магадана, надеясь прояснить его судьбу. Но ответов не было, и наши письма уже не возвращались назад. В 1943 году у матери прибавились новые тревоги: меня и Роя должны были призвать в армию. Нас предупредили, что призыв молодежи 1925 года рождения начнется с января. Я до сих пор помню мокрые от слез и какие-то полубезумные глаза матери, когда 1 февраля 1943 года она шла по проспекту Шота Руставели, провожая на фронт сразу двоих сыновей. Раньше она всегда радовалась, что у нее близнецы и мальчики. Теперь в этом было ее несчастье, ее мучили плохие предчувствия. Оба ее сына, не доучившись в десятом классе, семнадцатилетними тощими юнцами бодро уходили на войну. Наших сверстников призывали еще не всех, многим разрешили окончить школу, после чего их должны были призвать в военные училища, где шла подготовка младших офицеров. Но детям репрессированных путь в военные училища был закрыт. По какой-то тайной инструкции «дела» таких призывников лежали в военкоматах в папках ПМС («политически-морально сниженные»), и их, призывников, можно было посылать на фронт только рядовыми. А для этого среднее образование не требовалось.
Но судьба не подтвердила плохих предчувствий матери. Она сделала ее намного счастливее других матерей военного времени. Оба ее сына вернулись с войны живыми. Рой всю войну проработал в воинской части, занимавшейся ремонтом поврежденной на фронте военной техники. Я попал на Таманский фронт, но воевал недолго. В конце мая 1943 года я был ранен, несколько месяцев пролежал в госпиталях, в том числе и в Тбилиси.
Осенью 1943 года меня демобилизовали по инвалидности. Пробыв месяц в Тбилиси, я поехал в недавно освобожденный Ростов-на-Дону Наш дом на Пушкинской улице был невредим, но в квартире жили другие люди. Никаких следов библиотеки отца не осталось. Очевидно, ее уничтожили из страха во время немецкой оккупации, все-таки это была библиотека марксиста и военного комиссара.
С осени 1944 года я стал учиться в Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве. Недавних фронтовиков принимали тогда в ТСХА даже без вступительных экзаменов.
Рой III
В Ростове-на-Дону мы жили сравнительно недолго и поначалу спокойно. Мне нравился этот красивый южный город, очень хорошей оказалась и школа, где мне пришлось учиться в седьмом, а потом и в восьмом классе. В Ростове тогда было хорошо с продуктами, и цены на рынках были даже ниже, чем в государственных магазинах. Скоро и по нашему новому адресу стали приходить письма от отца. Он писал всем отдельно: мне, Жоресу, жене, сестре Тосе в Ленинград.
«Здравствуй, сынок! – писал отец в одном из писем, помеченном 24 июля 1940 года. – Наконец-то получил долгожданные письма, совершившие долгий (с 23 марта) и странный путь: побывали на Камчатке и в г. Петропавловске. Скупые вести радостно взволновали меня и особенно порадовали фотокарточки. Перечитываю десятки раз короткие письма. Вглядываюсь до боли в глазах в знакомые милые черты и лью слезы. Роем летят воспоминания. Настроение приподнятое. Приободряюсь. Недоволен я только краткостью ваших писем. Я ждал ответов на множество вопросов и пока не получил их. Сообщаешь мне голые факты, и баста. А этого мне мало, дружок. Например, с книгами. Привел длинный перечень названий, прочитанных за два месяца. А о своих впечатлениях ни слова. Слишком уж ты много проглотил за два месяца! Значит, ты читал без размышления, без записи в дневник важнейших мыслей из прочитанного… Старайся читать прежде всего классическую литературу, т. е. книги гениальных людей. А гений требует уважения к себе и тщательного изучения… Следуй, дорогой, золотому правилу: “Лучше меньше да лучше”… Читай внимательно, перечитывая и записывая важнейшие мысли, образные выражения, афоризмы, вдумывайся в содержание, оценивай форму изложения, следи за развитием сюжета, характерами героев. Будь готов занимательно пересказать прочитанное. Вот в красноармейской казарме вы убедитесь сами, как ценят ребята товарищей, умеющих увлекательно пересказывать прочитанные ими “романы”. А ведь ты бы теперь уже не сумел пересказать “Сердца трех”? Читай медленно, усваивай идеи писателя, оценивай его слог. Слог – это умение писателя употреблять слова в их настоящем значении и способность выражаться ясно, сжато и точно, тесно слить идею и форму ее выражения, накладывая на него отпечаток самобытности, неповторимого своеобразия писателя. Так, кажется, учил Белинский. А он был умница!»
«Извини за нравоучительный тон», «О себе ничего не пишу» – так кончались почти все письма отца. Но меня никогда не раздражал нравоучительный тон в его письмах. Напротив, я старался следовать его советам, хотя и не всегда.
В 1940 году в стране стали создаваться ремесленные училища для выпускников седьмого класса. Отец советовал нам с Жоресом поступить в такое училище или в техникум, чтобы получать стипендию, быстрее овладеть профессией и помогать маме. «Когда я вернусь домой, то помогу вам продолжить образование», – писал он. Мама говорила то же самое, но не настаивала. Однако мы с Жоресом решили иначе. Уже в пятнадцать лет мы оба мечтали заниматься наукой, хотя и в разных областях. Учение давалось нам легко, и в школе мы всегда были в числе первых. Отец согласился с нами.
«Развивайте в себе вкус и любовь к практической деятельности, к физическому труду, – писал он. – Это весьма пригодится в жизни! Заботой об этом и был продиктован мой совет о переходе в техникум. Вы приняли иное решение – и я приветствую его, но только с оговоркой – не забывайте об овладении практическими знаниями и навыками… А тогда иначе станет вопрос и о физкультуре. С гирей, во всяком случае, распроститесь! Научились ли вы плавать? Кто производил квартирный ремонт? Сами? Переписываетесь ли со старыми друзьями? Смотрю на ваши худенькие мальчишески лукавые рожицы и вспоминаю недавнее дорогое былое. До скорого свидания. Отец».
Мечте отца и нашей – о его возвращении – не суждено было сбыться. Известие о его смерти было для всех нас горем, о котором трудно писать. О смерти отца – здорового, сильного человека, которому недавно исполнилось сорок лет, – мы никогда не думали. Мы верили, что недоразумение, ошибка должны быть исправлены, и, в любом случае, были уверены, что отец вернется – пусть и после конца срока. Никто из нас не имел ни малейшего представления о том чудовищном по жестокости режиме, который царил на Колыме и который стал еще страшнее после начала войны.
Телеграмма из больницы взволновала нас, там было несколько путаных фраз, которые мы не могли понять. Когда же наш перевод вернулся с маленькой запиской «возвращается по смерти адресата», я – сам не знаю почему – сразу поверил, что это соответствует действительности. И только через двадцать пять лет, в середине 60-х годов, я узнал некоторые подробности смерти отца.
В это время я уже писал большую книгу о Сталине и сталинизме, собирая по крупицам свидетельства бывших «зэка», старых большевиков, писателей – всех тех, кто был готов мне что-либо рассказать или хотя бы высказать свое мнение. Мое имя стало известно и среди бывших «колымчан», многие из переживших лагеря, пытки и тюрьмы стали сами разыскивать меня, чтобы рассказать о тяжком опыте неволи и обо всем, что они знали или слышали от других, погибших в лагере людей.
Однажды мне позвонила женщина и спросила, не являюсь ли я сыном Александра Романовича Медведева. Я ответил утвердительно. «Я была с вашим отцом на Колыме и работала с ним в одном “совхозе” в теплицах. Из его знакомых я первая узнала о его смерти». Я записал адрес этой женщины и на следующий день вечером был у нее дома. В небольшой московской квартире жили две «колымчанки», не родственницы, а подруги с одинаковой судьбой. Они не разлучались на Колыме все проведенные там семнадцать лет. Им разрешили жить вместе в Москве.
В 1940 году обе они трудились в теплицах в пока еще не особенно большом аграрном хозяйстве Колымы. Весной 1940 года туда попал и мой отец. Во время аварии на шахте он сильно ушиб руку и больше не мог работать под землей. Сил оставалось все меньше, и его определили теперь на «женскую» работу в «совхозе». Он часто рассказывал о своей семье и сыновьях-близнецах, показывал фотографии. «У вас такие редкие имена, – сказала мне одна из “колымчанок”, – Рой и Ресс. Когда нам рассказали о вас, мы подумали: не сыновья ли это Александра Медведева?»
Питание в совхозе было лучше, чем на приисках, но отец становился все слабее. В конце года его положили в больницу, расположенную недалеко от теплиц. Диагноз не оставлял надежды – саркома кости. «У вашего отца был выходной костюм. Он сохранил его, несмотря на домогательства блатных. В этом костюме он хотел выйти на волю, он очень надеялся, что его дело будет пересмотрено. Но в один из дней в начале 1941 года мы увидели этот костюм на плечах нашего бригадира. Оказалось, его вызвали в больницу, чтобы сообщить о смерти его „работника“, и бригадир забрал тот чемоданчик с вещами, с которым Медведев никогда не расставался». Другие вещи, в том числе и все наши письма и фотографии, бригадир, конечно же, выбросил. Эти две «колымчанки», с которыми я беседовал, знали, что на имя Медведева приходили письма, они видели обратный адрес и могли, конечно, написать нам, что отец умер. Но они решили этого не делать. «Пусть лучше сохранится надежда». Они не знали о вернувшемся к нам денежном переводе и заказных письмах.
Война снова изменила судьбу нашей семьи. В июле и августе 1941 года я работал вместе с другими школьниками Ростова на уборке богатого урожая донских степей. В сентябре мы не без труда перебрались в Тбилиси, где познакомились и поженились наши родители, где родились мы с Жоресом и где у матери, Юлии Исааковны, было много родных. В конце 1942 года нас с Жоресом предупредили о предстоящем призыве в армию. Я все же считал важным закончить среднюю школу и обратился по этому поводу в Министерство просвещения Грузии. Но там на этот счет не было никаких указаний, и мне сказали, что единственное, что я могу сделать, – это сдать экстерном все экзамены на аттестат зрелости. Я согласился и три недели по двенадцать-четырнадцать часов в день не вставал из-за стола, штудируя учебники десятого класса. В середине января у меня приняли экзамены прямо в министерстве, и через несколько дней я получил документ, заменяющий аттестат зрелости.
Жорес не стал этого делать. Немецкие войска стояли еще на Северном Кавказе, войне не было видно конца, и вопрос об аттестате казался Жоресу не особенно важным. Всего два месяца мы провели вместе с ним в учебном полку под Кутаиси, где нас учили чему угодно, но не тому, как надо хорошо воевать. Неожиданно в полк пришел приказ генерала Щаденко, который отвечал за подготовку резервов армии. Приказ требовал вернуть обратно в военкомат всех молодых людей со средним образованием для направления их в военные училища. В действующей армии были особенно велики потери среди младших офицеров, и надо было расширить и ускорить их подготовку. Но в училище я все же не попал, так как меня «браковали» мандатные комиссии. В 1943 году уже начали действовать какие-то недоступные нам принципы отбора даже при призыве в армию.
В результате, я скоро начал работать в Артиллерийском арсенале № 3 Закавказского фронта – одном из многих наспех созданных в начале войны военных заводов, которые прекратили свое существование осенью 1945 года. По вечерам я много читал, главным образом книги по философии. В Тбилиси у меня появилось несколько друзей, судьба которых и до сих пор тесно сплетена с моей судьбой. Как и я, они давно уже увлекались историей и философией. У троих из них отцы также были арестованы.
Когда мама узнала о моем решении ехать в Москву или в Ленинград, чтобы поступать на философский факультет, она со слезами на глазах много раз просила меня избрать какую-либо другую профессию. Профессия философа или историка казалась ей слишком опасной. Она все время приводила мне в пример Жореса, который с 1944 года учился в ТСХА и изучал биологию. Именно биология казалась матери самой спокойной из наук. Позже оказалось, однако, что в сталинские годы и даже потом, в годы Хрущева, быть честным биологом не только трудно, но и опасно. Правда, я с горечью убедился вскоре, что быть честным философом или историком тогда почти не представлялось возможным. К счастью, я рано усвоил уроки разумной осмотрительности. Я стремился овладеть профессией отца, но не торопился разделить его судьбу. При поступлении в Ленинградский университет в графе о родителях в анкете и в автобиографии я написал про отца: «погиб в 1941 году». Я никого не обманывал, просто не написал, где именно погиб мой отец.
Мама очень волновалась, когда узнала, что я поступил не в Московский, а в Ленинградский университет, ведь там несколько лет отец читал лекции, и его должны были помнить. Как же отнесутся в ЛГУ к сыну Александра Медведева? Однако я вскоре убедился, что ее опасения были напрасны. Хотя состав преподавателей ЛГУ за годы войны и предвоенные годы сильно изменился, среди преподавателей были люди, которые действительно помнили Александра Медведева. Но никто из них не знал, что я сын известного им и популярного когда-то преподавателя философии. Более того, заведующим кафедрой диалектического и исторического материализма на нашем факультете был тот самый профессор Чагин, который писал доносы на моего отца и многих других преподавателей и слушателей Военно-политической академии.
Осторожно, но внимательно я стал приглядываться к этому человеку. Он не читал нам лекций. После войны в Ленинграде ощущался острый дефицит квалифицированных кадров, заработную плату научных работников еще в 1946 году неожиданно увеличили в несколько раз. Чагин использовал это обстоятельство и по совместительству работал сразу в нескольких ленинградских вузах. На философском факультете он появлялся только для того, чтобы вести раз в месяц заседание кафедры или присутствовать на заседании Ученого совета. Чагин руководил занятиями нескольких аспирантов по своей кафедре, но совершенно не общался со студентами. Никто из преподавателей или даже работников кафедры не относился к нему с уважением, и то, что он доносчик, подлец и развратник, многим было известно.
На нашем курсе было много недавних фронтовиков, боевых офицеров от лейтенанта до майора, сам я уже не был вчерашним школьником. Многие студенты из-за недостатка кадров занимали необычные для студентов посты. Так, В. Андреев, недавний фронтовой капитан, был одновременно и студентом, и заместителем декана факультета. С 1948 года я выполнял обязанности секретаря приемной комиссии университета и читал лекции по философии для одной из групп физико-математического факультета. В это же время мне поручили создание экспозиции по истории Ленинградского университета вообще и философского факультета в частности. Не составляло большого труда узнать поэтому некоторые подробности из жизни Чагина. Оказалось, что еще в 1939–1940 годах, после проведенной Сталиным частичной реабилитации военных кадров, в Москву и Ленинград вернулось несколько человек, оклеветанных Чагиным.
Можно не сомневаться, что Чагин действовал в 1937–1938 годах не просто по собственному злому умыслу: он был или осведомителем, или тайным (секретным) сотрудником НКВД в Военно-политической академии и писал доносы по заданию начальства. У Сталина были свои счеты с военными комиссарами, и в 1937–1938 годах почти всю Академию разгромили. Но возвращавшиеся командиры и комиссары не знали всех пружин террора, уже не только нарком Ежов, но и большая часть его сотрудников были уничтожены. По заявлениям вернувшихся в строй военных Чагин был разоблачен как доносчик и исключен из партии. С первых дней войны он пошел работать на Балтийский флот, здесь он вернул партийный билет и должность политработника. Может быть, именно поэтому он так редко появлялся в ЛГУ, предпочитая работать в других вузах, где его мало знали. У меня этот человек вызывал презрение, но не ненависть или жажду мести.
Появлялся иногда на факультете и Пручанский, который провел у нас несколько занятий, заменяя заболевших преподавателей. Этот человек постоянно работал в каком-то физкультурном институте или техникуме. Он производил впечатление забитого и совершенно опустившегося человека.
О Васюкове мне сказали только, что он сам арестован в 1938 или 1939 году и бесследно исчез. Лишь много позднее я узнал, что Васюков расстрелян в годы террора как «враг народа». Может быть, он давал показания о моем отце уже под пытками на следствии?
В 1950 году Чагина неожиданно сняли с заведования кафедрой нашего факультета – как не обеспечившего должного руководства научной работой кафедры. Это были уже времена «ленинградского дела», когда в городе шли массовые увольнения и репрессии.
Я закончил философский факультет ЛГУ в 1951 году с отличием, но не получил направления на работу. Детям «врагов народа» не могли доверить работу в вузах, их не допускали к экзаменам в аспирантуру. Мне предлагали работу учителя в Ленинграде, но я предпочел уехать из этого города, где в 1951 году было страшно жить и работать. Я обратился в Министерство просвещения и вскоре устроился учителем истории в одну из школ в рабочем поселке на Среднем Урале.
Жорес IV
В 1954 году вскоре после сообщения о суде над Берией, мама, брат и я снова подали в Верховный суд СССР заявление о пересмотре дела Александра Романовича Медведева, уже посмертно. Реабилитации проводились тогда еще с трудом, назначалось переследствие с вызовом бывших сослуживцев, а иногда и доносчиков. Каждый месяц я, как единственный москвич из всей нашей семьи, ходил на улицу Кирова в Приемную Военной коллегии Верховного суда СССР, чтобы узнать о ходе следствия. Два года продолжались эти визиты, а решения все не было. Однако после ХХ съезда КПСС машина правосудия заработала быстрее. В сентябре 1956 года мне была выдана справка о решении Военной коллегии Верховного суда от 1 сентября 1956 года, согласно которому «дело Медведева Александра Романовича» прекращено «за отсутствием состава преступления».
Вслед за этим мы все втроем написали заявление в МГБ с просьбой вернуть нам конфискованные рукописи отца, весь его архив. Рой пошел по стопам отца, окончив философский факультет. В то время он работал директором школы и преподавателем истории в одном из районов Ленинградской области, но продолжал заниматься философией. Он хотел сохранить и обработать научное наследие отца, прочитать его толстые тетради с главами оконченных и неоконченных книг, его многочисленные особой формы карточки с выписками, мыслями, короткими заметками, афоризмами, формулировками. Его лекции по истории философии, по истории религии, по логике – плоды каждодневного, до глубокой ночи, упорного труда. Ответа на наше заявление не последовало. Мы написали снова, на этот раз в ЦК КПСС. Месяца через два стандартный бланк с чьей-то неразборчивой подписью известил нас, что конфискованные после ареста А. Р. Медведева материалы «не сохранились». Фамилия отца была вписана в бланк от руки. По-видимому, тысячи людей получали такие же ответы, поэтому и была заготовлена типографская форма.
Конечно, еще тогда, в 1938 году, готовя «дело» для «суда», следователь не утруждал себя внимательным чтением бумаг арестованного. Арестованных было много, а времени мало, да и зарплата следователей, видимо, зависела от числа успешно законченных «дел». После суда он, наверное, списал весь архив на уничтожение, то есть на сожжение. Не хранить же в НКВД все конфискованные рукописи, бумаги и книги? Тем более не было принято возвращать подобные материалы родственникам «врага народа». Надеждам нашим узнать неопубликованные труды отца не суждено было сбыться. Мы знаем, что отец был философ, знаем несколько опубликованных им в журналах статей. Но большую часть работ он не публиковал, дожидаясь, как он говорил, сорокалетнего возраста. А может быть, ждал он чего-нибудь еще, например, того времени, когда философия действительно станет наукой.
Арест отца, как и аресты многих других советских философов и историков, не был случайным и произвольным. Это была планомерная акция, хотя я понял это много позднее. В 20–30-е годы в общественных науках шла сложная борьба направлений, и если часть ученых считала, что классики марксизма создали лишь основание и методы науки, которую нужно развивать вширь и вглубь, то другая часть считала, что им нужно лишь комментировать труды «основоположников», применяя их к различным условиям. Создавать в философии что-то новое могли, согласно такой точке зрения, лишь вожди и гении, а единственным из живых вождей, гениев и классиков был тогда Сталин.
В области истории линия раздела направлений была еще проще. Борьба шла между теми, кто мог фальсифицировать историю, вычеркивая из нее некогда славные и заслуженные имена и приписывая их заслуги другим, и теми, кто был честен в исторических исследованиях. Хорошо известно, кто одержал верх в этой борьбе. Еще лучше известно, во что превратились в итоге советская история и философия. Одной из жертв этого беспощадного террора и был наш отец. Может быть, он был гением, может быть, способным ученым, а скорее всего, просто честным тружеником науки. Ответа на этот вопрос мы никогда не узнаем, он сгорел в бездонных печах большого здания на площади Дзержинского в Москве.
Реабилитации мы добивались просто из чувства долга перед его светлой памятью. Но при выдаче справки о реабилитации в канцелярии Военной коллегии мне разъяснили, что жена реабилитированного имеет право на получение военной пенсии наравне с женами командиров Советской Армии, погибших на фронте. Таков был приказ министра обороны маршала Г. К. Жукова. Кроме того, всем женам реабилитированных – военных и гражданских – выдавали справку, по которой с последнего места работы погибшего мужа выплачивали как компенсацию двухмесячный оклад по должностным ставкам 1956 года. Когда я получал эти деньги в Военной академии, по доверенности матери, кассир вместо соболезнования вдруг сказал с улыбкой: «Повезло вам. Должность вашего отца считается сейчас профессорской, и зарплата у него теперь в три раза выше, чем была раньше». Мать положила эти деньги в сберкассу и не притрагивалась к ним.
Жена реабилитированного, выселенная после ареста из квартиры, могла хлопотать о переезде в тот город, где она раньше жила. Но мама решила остаться в Тбилиси, где у нее была работа и много родных и подруг. Мы собрали справки о том, что мама жила до ареста в доме Военно-политической академии, нашли свидетелей, которые удостоверили в письменной форме факт насильственного выселения зимой 1938 года. Все эти документы были направлены в горсовет. Заявление было принято, но решения пришлось ждать очень долго. Реабилитированные и члены их семей получали жилплощадь вне общей очереди, но число этих людей было очень велико. Прошло больше трех лет, прежде чем мама приблизилась к цели. Но в это время случилось несчастье.
Мама с подругой снимала небольшую комнату недалеко от театра, в котором работала. В Тбилиси в большинстве домов были печи, отапливаемые углем. Затопив печь, подруги легли спать, не дождавшись полного выгорания угля. Однако сырой уголь горел плохо, и из-за сильного ветра тяга была слабой. Обе женщины угорели и потеряли сознание. Дело было в субботу, тревогу подняли в театре только в понедельник. Подруга матери уже умерла, мать доставили в больницу. Брат и я прилетели из Москвы по вызову родственников, когда мама еще была без сознания. Она очнулась только на четвертый день, узнала нас, немного поела. Казалось, дело пойдет теперь к выздоровлению. Несмотря на свои пятьдесят девять лет, мама была крепкой женщиной, сердце у нее было здоровое, и она до этого ничем не болела. Но выздоровление не наступило.
Возникло осложнение, обычное при сильном отравлении угарным газом, – воспаление мозговых оболочек. Около месяца мы по очереди дежурили у постели мамы днем и ночью, но спасти ее не удалось.
Не могу забыть, как на рассвете в марте 1961 года врачи распорядились вынести мать на носилках в дальний конец коридора и уложили там умирать. Умирать в общей палате больницы по правилам нельзя, а отдельных палат для умирающих не существует, разве только в отдельных больницах. Если врач видит, что смерть близка, больного выносят в коридор. Может быть, это и имеет медицинский смысл, другие больные не видят смерти.
В личных вещах мамы мы нашли сберегательную книжку с двухмесячным окладом отца с последнего места работы. На эти деньги вскоре после похорон мы заказали памятник на могилу. Этот памятник теперь для них обоих. Еще через полгода по месту прописки матери, у сестры, пришло извещение. Исполком горсовета принял решение удовлетворить просьбу Юлии Исааковны Медведевой о предоставлении ей однокомнатной квартиры.
Два года спустя, в 1963 году читая как-то «Известия», я увидел большой, на всю страницу, список ученых, выдвинутых на объявленные Академией наук СССР вакансии действительных членов и членов-корреспондентов. Проглядывая список, я заметил, что какой-то Чагин Борис Александрович, член-корреспондент АН СССР, выдвинут в действительные члены академии по отделению философии и права. Чагин – фамилия редкая, и я как-то сразу решил, что это и есть тот Чагин, который написал когда-то клеветнический донос на отца. Фамилии доносчиков я помнил хорошо: Чагин, Пручанский и Васюков, а инициалы в памяти не удержал. Что же ценного создал этот Чагин, если он уже член-корреспондент?
Я отправился в Библиотеку имени Ленина и стал смотреть авторские указатели за год по «Летописи книг» и «Летописи журнальных статей». Смотреть каталоги библиотек – дело ненадежное, так как сами авторы в отдельных случаях, стыдясь прошлых работ, могут вынимать и уничтожать свои карточки. Во многих случаях карточки каталога удаляются библиографами, следующими разного рода указаниям. Такую практику я обнаружил, когда изучал историю генетической дискуссии в СССР. Меняя идеологическую ориентацию, ученые нередко уничтожали в каталогах следы своих прежних «разгромных» статей и книг. Летописи книг, журнальных и газетных статей – это абсолютно надежный библиографический справочник, по которому можно проследить общественную и научную биографию любого автора.
Моя уверенность оправдалась. Борис Александрович Чагин, ныне член-корреспондент Академии наук, был тем самым полковым комиссаром Чагиным, который в 30-е годы служил в Военно-политической академии имени Ленина. А вот и продукт их совместного творчества с соавтором доносов: Б. Чагин и Б. Пручанский, статья «Классический труд марксизма», опубликованная в «Ленинградской правде» 1 октября 1948 года и посвященная разбору работы молодого Сталина «Анархизм или социализм?». Но Пручанский далеко отстал от Чагина. В 1963 году он все еще доцент при институте физкультуры, обучает марксизму спортсменов.
Чагин же оказался на редкость продуктивен и писал всегда в соответствии с потребностями текущего момента. До 1938 года он издал только одну небольшую книгу «Против реакционных теорий на лесном фронте», выпущенную в 1932 году. Расцвет его творчества начался с 1940 года, а ведь, по словам мамы, Чагин был одного возраста с отцом. Неужели и он ждал сорокалетия? А может быть, просто расчищал себе путь в науку от конкурентов и расчистил, наконец, к сорокалетнему юбилею? В 1940 году Чагин опубликовал книгу «Борьба Ленина за марксистский материализм в 20-х годах», в 1948 году появилась его работа «Партийность философии и борьба с буржуазным объективизмом», в 1950 году последовал труд «Борьба марксизма-ленинизма против реакционной философии». Между 1950 и 1958 годами наступило затишье, а затем пошли те же заголовки, и все это были книги большого объема – «Борьба марксизма-ленинизма против философии ревизионизма» (1959), «Из истории борьбы Ленина за развитие марксистской философии» (1960), «Из истории борьбы против ревизионизма» (1961). В том же духе были и газетные статьи Чагина: «Ленин и борьба…», «Сталин и борьба…», «Ревизионизм и буржуазная идеология», «Англо-американский империализм и современная идеология космополитизма» и т. д. Чагин внес вклад во все политические погромные кампании послевоенного времени – против космополитизма и сионизма, против морганизма и ревизионизма. Он не включался, однако, в борьбу против культа личности Сталина, либо потому, что чувствовал, что эта борьба недолговечна, либо потому, что сам слишком тесно связал себя с этим культом в прежние годы.
В каком году Чагина избрали членом-корреспондентом АН СССР, я не знаю, но в академики в 1963 году он не прошел. Через два года его имя снова оказалось в списках кандидатов на вакансию академика. Но он снова не был избран. В 1967 году Чагин опубликовал книгу «Ленин о роли субъективного фактора в истории». Он становился, таким образом, главным экспертом по философским работам Ленина. Но и в 1967 году Чагина не избрали академиком. В 1969 году в журнале «Вопросы философии» (№ 11) была опубликована статья к 70-летию Чагина. Эта статья давала обзор основных работ юбиляра, посвященных «осуществлению благородной задачи исследования места и роли ленинского теоретического наследия в духовной жизни человечества». О работах Чагина, посвященных «теоретическому наследию» Сталина или критикующих «космополитизм», журнал, конечно, не упоминал.
В 1972 году раскрыв «Известия» за 14 ноября, я опять увидел обширный список кандидатов на две вакансии академиков, и снова в этом списке был Чагин. И опять он не был избран даже на отделение философии и права, где предпочли более важных по должности – М. Т. Иовчука, ректора Академии общественных наук, и В. М. Чхиквадзе, директора Института государства и права АН СССР. Однако в опубликованном 30 ноября списке новых академиков я не нашел и этих фамилий. Случилось редкое явление. Тайным голосованием на общем собрании Академии выборы по отделению философии и права были вообще отменены, и обе вакансии остались открытыми.
Портрет отца всегда над моим письменным столом. Отец на нем молодой, намного моложе меня. Я смотрю ему в глаза каждый день и думаю, что его сыновьям все же повезло. Они смогли пройти тот рубеж сорокалетия, которого ждал и не дождался он. И хотя нам обоим пришлось пережить разного рода давление, угрозы, преследования, обыски, изъятие из архивов и другие репрессии, наша работа все же не пропала и не погибла бесследно, как погиб навсегда многолетний труд отца. Торжество идей справедливости и гуманности еще не наступило, но все же и то время, когда насилие было всемогущим, ушло, как можно надеяться, безвозвратно.
Рой IV
Жорес написал выше о реабилитации отца в 1956 году Тогда мы думали, что эта реабилитация является окончательной. Но что-то происходило в недрах аппарата уже без нашего участия. Через девять лет после справки от Военной коллегии Верховного суда СССР я получил на свой московский адрес письмо № 62312. В нем говорилось, что решением партийной комиссии при Главном политуправлении Советской Армии и Военно-морского Флота Медведев Александр Романович, член КПСС с 1918 года, «реабилитирован (посмертно) в партийном отношении». Оказывается, для членов партии нужна еще партийная реабилитация, без которой невозможно упоминание в печати. Однажды в магазине политической литературы я увидел книгу «Академия имени Ленина» – исторический очерк о Военно-политической академии имени Ленина. Среди имен лучших преподавателей академии 30-х годов я нашел и имя Александра Романовича Медведева. Но в книге ничего не говорилось о судьбе сотен преподавателей, слушателей и руководства ВПА имени Ленина в 1937–1938 годах.
В разное время я встречал людей, которые знали моего отца. Я очень жалею, что мало расспрашивал о нем и не записывал их свидетельств. Сегодня жив, пожалуй, только один из таких людей – литературовед и критик В. Я. Кирпотин, которому недавно исполнилось 90 лет. Впрочем, и Б. Чагин дожил почти до 90 лет, он умер лишь в 1987 году так и не став академиком. Это было Чагину вероятно, очень обидно, так как даже он имел все основания считать себя более «заслуженным» философом, чем М. Митин, П. Юдин, Ф. Константинов или Л. Ильичев, которые имели звания академиков. И таких же липовых академиков немало (если не большинство) на отделениях философии, истории, экономики и права АН СССР. Все же Чагин «удостоился» статьи в шесть строк в Философском энциклопедическом словаре.
В 1970–1974 годах меня несколько раз приглашали на Лубянку или в Лефортово для «бесед», которые фактически были замаскированной формой допроса. Основной причиной для таких «бесед», как я понял, было желание КГБ помешать изданию моих книг за границей или хотя бы узнать, передал я или нет рукописи этих книг в западные издательства. Однажды мой собеседник, по внешнему виду полковник или даже генерал, спросил меня:
«А написали бы вы, Рой Александрович, свою книгу о Сталине, если бы у вас не был арестован отец?» Вопрос оказался неожиданным для меня, и я не смог вразумительно на него ответить.
Моя жизнь и судьба слишком тесно сплелись с жизнью и судьбой отца. Я избрал своей профессией общественные науки, и желание разобраться в природе нашего общества только усилилось после смерти отца на Колыме. Я не озлобился, но и не потерял тех качеств характера, которые воспитал во мне и Жоресе отец. Я всегда думал об отце, когда писал свои книги, и вначале хотел посвятить отцу главный труд своей жизни – книгу о Сталине и сталинизме.
Я никогда не изменял ни убеждениям, ни идеалам молодости, и мне не пришлось бы воровать карточки с названиями моих книг из каталога Ленинской библиотеки, если бы они там были. В этом я тоже вижу влияние отца; он сумел привить мне приверженность к социализму, хотя мои представления о социализме, конечно, менялись. Я не мог бы писать своих книг иначе, чем по глубокому убеждению, хотя мне и приходилось проявлять необходимую осторожность в выражении мыслей.
Но мой отец жил в другое время, и у него было слишком мало шансов остаться на свободе в 30-е годы, время тотального террора. Если бы каким-то чудом машина террора не задела его до войны, и если бы он не погиб в годы войны, то не смог бы выжить после войны, он никогда бы не стал участвовать во всякого рода идеологических кампаниях того времени. Выживали и даже процветали в эти годы только такие люди, как Чагин, Минц или Митин. Так что арест и гибель отца не были случайными. Но ведь отец мог уцелеть в 30-е годы и погибнуть в годы войны. Конечно, в этом случае моя жизнь могла бы сложиться иначе. Но если бы мой отец погиб не на Колыме, а в боях под Киевом или под Берлином, если бы я избрал своей профессией общественные науки, а сталинизм и все, что с ним связано, так же существовали, то ни моя судьба как ученого, ни судьба Жореса существенно не изменились бы. Мы не смогли бы не написать своих основных работ, но, вероятно, не было бы создано этого небольшого рассказа о наших родителях.
Жорес Медведев, 1969–1972Рой Медведев, 1988
Рой Медведев Из воспоминаний о писателях. Константин Симонов
Константин Михайлович Симонов был первым писателем, с которым я познакомился, после того как решил заняться не только педагогикой, но и историей, причем историей становления сталинизма и культа личности Сталина. Константин Симонов первым из известных в стране людей не только прочел и одобрил мою не завершенную еще рукопись, но выразил готовность оказать мне в этой работе поддержку и помощь.
До встречи с Симоновым я вообще не знал писательского мира Москвы и общался лишь со своими друзьями – гуманитариями из московских НИИ и некоторыми из старых большевиков, вернувшихся в Москву после реабилитации. Мне помогали в новой работе и отдельные деятели из Академии педагогических наук, в которой я тогда работал. В этих условиях поддержка и помощь Симонова были для меня важным, неожиданным и приятным подарком судьбы, тем более что инициатива первой встречи исходила от самого Константина Михайловича.
Еще в 1963 году он прочел быстро распространявшуюся в списках рукопись моего брата Жореса «Биологическая наука и культ личности» – по истории агробиологической дискуссии в СССР. Хорошо написанная и понятная для любого образованного человека книга Жореса произвела на Симонова большое впечатление. Он попросил одного из друзей или помощников узнать, где живет и работает автор рукописи, и пригласить его для беседы. Для Жореса это были важные встречи, так как Симонов был не только известным писателем, но и влиятельным общественным деятелем.
У власти в стране стоял тогда Н. С. Хрущев, который активно поддерживал и Трофима Лысенко и лысенковцев. Но для последних быстрое распространение и очевидный успех книги Жореса среди интеллигенции представлялись крайне опасным делом. Они развернули против Жореса интенсивную клеветническую кампанию. Статьи с политическими обвинениями в его адрес публиковались не только в специальных журналах и в газете «Сельская жизнь». Одна из таких статей появилась в газете «Правда», а на очередном Пленуме ЦК КПСС на Жореса и его работу обрушился Первый секретарь Московского горкома КПСС Николай Егорычев. Были и доносы в КГБ, письма и заявления в Академию наук и другие учреждения.
Поэтому для Жореса была очень важна поддержка такого человека, как Симонов. Во время одной из бесед с ним Жорес сказал, что его брат пишет книгу о Сталине, и Симонов выразил большое желание прочесть мою рукопись. Именно Жорес передал мне приглашение Симонова и номер его домашнего телефона.
Я не вел в то время никаких дневников или записей о своих встречах и разговорах. Это было правилом относительной конспирации, которой я придерживался, начиная работу о людях власти. Поэтому я не могу сегодня даже назвать дату нашей первой встречи. Вероятно, это был или декабрь 1964, или январь 1965 года. К этому времени Константин Михайлович опубликовал журнальный вариант романа «Солдатами не рождаются», где в эпизодах был дан весьма убедительный, как мне показалось, образ Сталина.
Позже я понял, что Константин Симонов, многократный лауреат Сталинских премий, человек, неоднократно встречавшийся со Сталиным, даже обласканный им, активно участвовавший во всех идеологических кампаниях 40-х – начала 50-х годов, проводил теперь нелегкий пересмотр роли и личности Сталина, в том числе и роли его в победах и поражениях Отечественной войны. Поэтому для него была интересна любая новая работа о Сталине.
Но и у меня было несколько вопросов, которые я хотел бы задать Симонову. В только что прочитанном мной романе говорилось об освобождении после советско-финской войны нескольких тысяч старших командиров Красной Армии, в числе которых оказался и герой книги генерал Серпилин. Этот факт был известен и нам, историкам. Но в романе можно было прочесть еще и о том, что в самые тяжелые первые месяцы Великой Отечественной войны, когда мысли о возможности поражения стали все чаще и чаще появляться в голове Сталина, он отдал приказ не об освобождении нескольких сотен хорошо известных военачальников, которые еще томились в тюрьмах и лагерях, а об их расстреле.
Мне было важно знать – шла ли речь об известном Симонову реальном факте или это было правдоподобным художественным вымыслом. Забегая вперед, скажу, что Симонов ответил на мой вопрос как-то неохотно и неопределенно, и я не мог сослаться на его свидетельство. Но так или иначе, когда через какое-то время я созвонился с Симоновым и получил от него приглашение, то с радостью его принял.
Я шел к писателю с интересом, но без большого волнения. Я знал, что Константин Симонов не только очень популярный, но и очень влиятельный человек. Я читал почти все его романы и повести, но не пьесы и не стихи. При сравнении с книгами о войне Александра Бека, Петра Вершигоры, Виктора Некрасова произведения Симонова сильно проигрывали в искренности и силе воздействия на читателя. Как поэта я выше всех ставил Александра Твардовского с его «Василием Теркиным». Симонов, конечно же, писал лучше и честнее многих других, но он все же не был одной из вершин нашей литературы. Я также помнил и о той не слишком благородной миссии, которая выпала на долю Симонова во времена борьбы с «космополитами». Симонов несколько раз публично говорил, что в его жизни были поступки, которых он сейчас стыдится и о которых крайне сожалеет.
Я не помню подробностей нашей первой встречи. Я передал Константину Михайловичу свою рукопись, предупредив, что это черновик, над которым я буду еще работать, вероятно, несколько лет. Кабинет, в котором шла беседа, находился в глубине большой квартиры в доме писателей на улице Черняховского. Мне показалось, что в комнате нет окон. Письменный стол был накрыт большим листом белой фанеры, и на нем не лежало никаких бумаг и письменных принадлежностей. Не видно было и пишущей машинки. «Я привык так работать еще со времен войны», – объяснил мне хозяин дома. Это означало выполнять большую по объему работу в сжатые сроки. Симонов обдумывал сюжеты в одиночестве, главным образом по утрам, потом писал от руки наброски и черновики. После приглашал работавшую с ним стенографистку и диктовал ей не только очерки, но и главы романов. Текст затем шел машинистке, литературному редактору, и только потом возвращался к автору. Редактирование велось и позже – в журнале или в газете. Вряд ли при такой системе можно было работать над каждой фразой или словом.
Меня всегда интересовала технология писательства, а Симонов не скрывал своих привычек и методов. Он говорил мне позднее не только о том, сколько страниц он пишет в среднем за неделю или за месяц, но и сколько он таким образом зарабатывает. Это были впечатляющие для оценки писательского труда цифры. В писательской среде Симонов считался очень состоятельным, хотя и не самым богатым человеком. Но он был, пожалуй, самым щедрым из хорошо обеспеченных писателей. Он охотно помогал нуждающимся писателям. При этом Симонов нередко предлагал помощь даже когда его об этом не просили.
О судьбе нашей семьи Константин Симонов знал уже из бесед с Жоресом. Меня он расспрашивал об Академии педагогических наук, где я тогда работал. После довольно продолжительной беседы Симонов пригласил меня поужинать – время было уже вечернее.
За столом – только члены семьи. Гостиная была большой и не совсем обычной. За спинами гостей к трем стенам крепился специальный лоток, по которому текла холодная вода и в котором стояли бутылки хорошего грузинского вина. Стол был обильным и щедрым. Как я узнал позднее, жена писателя, Лариса Алексеевна, была профессиональным дизайнером, кандидатом наук по технической эстетике. Она и поработала с согласия мужа над оформлением как московской квартиры, так и дачи в писательской Пахре.
Разговор за столом шел на разные темы, но доминировала одна – проект грандиозного мемориала в Волгограде в память о Сталинградской битве. Константин Михайлович был против проекта Евгения Вучетича и негодовал, что власти не провели никакого конкурса: ни открытого, ни закрытого. Общественность считала тогда Вучетича человеком консервативных взглядов, сталинистом. Он, впрочем, не скрывал своих убеждений и пытался активно вмешиваться в полемику, которая шла уже между писателями и историками вокруг фигуры Сталина. Но об острых спорах между представителями разных направлений монументальной скульптуры и архитектуры я впервые узнал в доме Симонова.
Недели через две я снова был на квартире у Константина Симонова. Он уже прочел мою рукопись и отозвался о ней со сдержанным одобрением, но не стал делать никаких конкретных замечаний. Он ничего не говорил мне о своих встречах со Сталиным или об отношении Сталина к литературе и к отдельным писателям. Симонов опять-таки гораздо больше спрашивал и внимательно слушал, но не вел беседу. Из нашего весьма продолжительного разговора я не почерпнул никакой новой информации. Я был, конечно, несколько разочарован, однако неожиданно Симонов сделал мне предложение, какого ни раньше, ни позже не делал мне ни один из известных людей.
Он сказал, что ему часто приносят или присылают много разных документов, воспоминаний и художественных произведений, которые связаны с темой сталинских репрессий. Опубликовать их сейчас нельзя, времена изменились, но он, Симонов, тщательно хранит эти материалы в личном архиве. Он готов разрешить мне прочесть эти рукописи, но при двух условиях: я должен читать материалы из его архива в его же квартире и не делать из них выписки. Если мне нужно будет сделать выписку или сослаться на тот или иной материал, то Симонов должен будет испросить на это согласие автора мемуаров. Конечно, я с радостью согласился на эти условия.
Работа началась в тот же день, так как Симонов куда-то уезжал. Меня он оставил в кабинете и дал несколько рукописей, достав их из большого шкафа, заполненного папками. Симонов сказал, что я могу приезжать к нему для работы и в те дни, когда самого хозяина нет дома. Мне нужно лишь уведомить его заранее, чтобы он оставил нужные материалы и предупредил родных.
Я действительно не делал при работе никаких выписок, но не мог выключить память. Не буду писать о подробностях работы в симоновском кабинете. Уже в первый день я убедился, что он хранил в архиве материалы трех видов. Часть рукописей была дана писателю только для хранения – до лучших времен. Авторы таких работ были бы явно недовольны их преждевременной публикацией или распространением в Самиздате. Возможно, что копии этих же материалов авторы направляли в ЦК КПСС, в Институт марксизма-ленинизма или в институты истории АН СССР. Но те же авторы, не слишком доверяя государственным и партийным архивам, хотели подстраховаться, отдавая свои материалы Симонову.
Позднее я сам стал получать такого рода материалы – для хранения. Я не мог использовать их в своих книгах, и мне пришлось создать для таких материалов особый архив вне квартиры, так как в 60–70-е годы я не был застрахован не только от давления, но и от обысков. Читая или просматривая такие материалы в архиве Симонова, я не делал из них никаких выписок и позднее не использовал их в своей работе, хотя, конечно, они косвенно помогали мне, так как давали возможность лучше понять детали и подоплеку некоторых важных событий.
Но в архиве Симонова были и такие рукописи, из содержания которых, а то и из прямых авторских предисловий было очевидно, что авторы передали их Симонову в надежде на публикацию. После издания первых повестей и рассказов Солженицына в «Новом мире» многие взялись за перо или достали из ящиков стола ранее написанное. Эти авторы явно хотели, чтобы их работа получила известность. Такова была, например, рукопись бывшего секретаря обкома из Казахстана Н. Кузнецова, который пытался бороться хотя бы в пределах своей области с произволом НКВД, обращался лично к Сталину и Маленкову, был арестован и провел пятнадцать лет в тюрьмах и лагерях. Будучи реабилитированным, Кузнецов стал работать лесничим где-то вдали от Москвы. Он хотел полного уединения, но теперь считал своим долгом рассказать обо всем, что знал и пережил.
Хранить подобные рукописи в каких-то малодоступных архивах означало идти против ясно выраженной воли авторов. В таком случае, придя домой, я записывал по памяти главные факты и свидетельства, которые узнал из прочитанных работ.
К третьей части архива Симонова относились многочисленные стенографические записи рассказов военных – от младших офицеров до маршалов. Симонов приглашал этих людей к себе, и беседы с писателем или их рассказы и свидетельства стенографировались и записывались на машинке – для такой работы у Симонова были хорошие помощницы. Все эти записи Симонов готовил и как материал к своим романам о войне, и просто как основу для честного освещения истории Великой Отечественной войны.
Из этой части архива я успел познакомиться лишь с некоторыми материалами, да и не со всеми из них Симонов хотел меня знакомить. Он сказал, например, что у него имеются почти четыреста страниц записей рассказов и свидетельств маршала Г. К. Жукова, но я этих записей не читал и не решался просить. Все это происходило за несколько лет до публикации обширных, но сильно «прореженных» цензурой мемуаров Жукова, в которых отдельные страницы написаны не самим маршалом, а редакторами его книги. Без искажений мемуары Г. К. Жукова изданы только в 1990 году Симонов знакомил меня лишь со «сталинской» частью архива, в котором было, конечно, и много других частей. Союз писателей СССР был в то время очень крупным учреждением по делам литературы, а Симонов – одним из наиболее влиятельных секретарей.
Я не злоупотреблял вниманием ко мне Симонова и работал в его кабинете на улице Черняховского не более четырех-пяти раз – с начала 1965 года до начала 1966 года. Должен отметить, что свой архив Симонов содержал в образцовом порядке. Все рукописи были заботливо разобраны, помещены в папки-скоросшиватели, для каждой из которых определено место в большом шкафу. Но я не мог избавиться и от другого впечатления – как все же мало использовал Симонов имеющиеся у него материалы и свидетельства в романах и очерках. Насколько богаче и сильнее могли бы быть его книги, если бы он в большей мере опирался на собранный им архив.
Однако как раз в 1965–1966 годах идеологическая обстановка в стране изменилась не в лучшую сторону, а Симонов не хотел, да и не мог плыть против течения. Осенью 1966 года даже избранная часть фронтовых дневников Симонова «Сто дней войны» была запрещена к публикации. Эта работа была уже принята редакцией «Нового мира», подготовлена к выходу в свет в трех номерах, и первый из них, кажется, № 9, был уже отпечатан и лежал в типографии. Это означало, что у цензуры нет возражений. Возражения возникли позже – у тех, кто стоял выше цензуры. Несколько дней шли какие-то споры, но потом тираж был уничтожен. Твардовский запретил заменять материал Симонова другим, и мы получили очередной номер журнала не только с большим запозданием, но и в уменьшенном объеме: вместо обычных для журнала двухсот пятидесяти страниц в № 9 было меньше двухсот.
Когда мы познакомились, Константин Симонов уже работал над третьей частью военной трилогии с условным названием «Сорок пятый год». Предполагалось углубить анализ событий грандиозных завершающих боев, полного разгрома Германии, победы и более полно дать образ Сталина. Не знаю, что уже было написано, а что еще оставалось только в планах и замыслах, но Симонов не хотел работать «в стол», он хотел видеть свои произведения напечатанными. Поэтому он изменил планы и издал через несколько лет совсем другой роман – «Последнее лето» – о военных сражениях в Белоруссии в 1944 году (в одном из боев главный герой трилогии генерал Серпилин гибнет – от случайного осколка). Это было болезненным поражением для Симонова, хотя он и получил в начале 70-х годов Ленинскую премию по литературе. Но такую же премию получил вскоре и Леонид Ильич Брежнев – за свою трилогию.
Работая в 1965–1966 годах в кабинете Симонова, я несколько раз беседовал с ним на разные темы – как правило, во время обеда или ужина. Впрочем, эти разговоры трудно назвать беседами, так как Симонов по-прежнему больше спрашивал, чем отвечал на вопросы. Осторожность и сдержанность в разговоре была очевидной чертой его характера. Сам Симонов сказал однажды: «Есть люди хорошие и в плохие, и в хорошие времена. Но есть люди плохие в плохие времена и хорошие в хорошие времена. Я отношусь в большей мере ко второй группе». «Все же я поступал не так плохо, как кто-нибудь другой поступал бы на моем месте», – пояснил он в другой раз.
Несколько раз Симонов вспоминал и Сталина, но всегда с уважением. Так, например, он рассказал однажды, как вскоре после войны побывал в США в составе небольшой делегации советской интеллигенции. Это была, в сущности, первая официальная поездка группы советских творческих деятелей в США. До войны Соединенные Штаты посетили, как известно, Илья Ильф и Евгений Петров, оставив непревзойденное описание этой поездки в книге «Одноэтажная Америка». Но это был частный визит, хотя, конечно, с ведома и при некоторой поддержке властей СССР. Всех отъезжающих в США деятелей культуры долго готовили и тщательно инструктировали, хотя никто в действительности не мог знать точно, что делегацию из СССР ждет в Америке. Перед самой поездкой ее участникам неожиданно выдали очень большие суммы в долларах, что-то около двадцати тысяч каждому – на «личные расходы». Более того, в противоположность прежним инструкциям, Симонову советовали не стеснять себя в расходах, останавливаться в лучших гостиницах, приглашать нужных ему американцев в лучшие рестораны, делать подарки и покупки. Как узнал Симонов, это было личное распоряжение Сталина, который также по-своему занимался подготовкой этой поездки. Он, в частности, спрашивал посла СССР в США Андрея Громыко и других «знающих» людей, сколько должен иметь при себе наличных денег человек, который едет на двадцать дней в США, чтобы пожить там «с должным размахом». Ему назвали сумму в десять тысяч долларов, но он увеличил ее вдвое. «Негоже, – сказал Сталин министру финансов Звереву, – чтобы наши писатели выглядели бедными родственниками».
И действительно, американцы всегда уважали людей с деньгами, а надо иметь в виду что покупательная способность доллара в 1946 году была раз в десять выше нынешней.
Естественно, что в 1965 году мы раза два говорили о Солженицыне. Еще перед публикацией «Одного дня Ивана Денисовича» Симонов написал для Твардовского очень хорошую внутреннюю рецензию на эту повесть. Многое он повторил потом и в своей газетной рецензии, она казалась одной из наиболее убедительных. Об этой повести он и теперь отзывался с похвалой, но о самом Солженицыне Симонов говорил даже не сдержанно, а с явной неприязнью. Я понял причину этой неприязни позднее: в романе «В круге первом», которого я тогда еще не читал, именно Симонов послужил прототипом некоего модного и преуспевающего московского поэта, имеющего влиятельных, но не особенно достойных друзей. Несомненно, Симонов на этот счет был уже проинформирован.
В 1965–1966 годах попытки реабилитации Сталина становились все более настойчивыми. Очень сильное давление в этом направлении на нашу идеологию и литературу исходило не только от новой партийной верхушки и средних партийных кругов, но и от влиятельных военных. Симонов не только хорошо знал все эти настроения, но и мог чувствовать из отношения к собственному творчеству. Оно менялось не в лучшую сторону.
Еще в 1964 году я был приглашен на премьеру большого двухсерийного фильма по роману и сценарию Симонова «Живые и мертвые». Фильм производил очень сильное впечатление, это была крайне драматичная, проблемная и патриотическая картина, в ней соединилось мастерство писателя, режиссера и актеров. После фильма зрители расходились не сразу, в фойе за отдельными столиками сидели несколько известных генералов и маршалов. Здесь же можно было купить некоторые из недавно изданных мемуаров этих военачальников, на которых они ставили автографы.
Режиссером фильма был Александр Столпер, который еще в годы войны снял по сценариям Симонова два фильма – «Парень из нашего города» и «Жди меня», а в 1945 году экранизировал повесть Симонова «Дни и ночи». Конечно же, именно Столпер начал работу и над новым фильмом – на этот раз по роману «Солдатами не рождаются». Те, кто видел этот фильм в его первоначальной редакции, говорили, что это будет лучший в нашей стране фильм о войне.
Увы, цензура, потребовала вырезать некоторые из наиболее сильных и правдивых эпизодов картины. У режиссера не было выхода, и он готов был уступить, но Симонов на этот раз отказался идти на уступки, угрожая снять свое имя с титров. В конце концов так и получилось. Симонов снял свое имя и потребовал изменить название фильма. Картина вышла на экраны в 1969 году под названием «Возмездие». Этот фильм не имел успеха и не производил особого впечатления на зрителей. О нем мало писали.
Совсем незамеченным прошел и фильм «Четвертый» по мотивам романа Симонова «Последнее лето». Грубой цензурной обработке подвергся хороший публицистический фильм по сценарию Симонова и Евгения Воробьева под названием «Ни убавить, ни прибавить». В этом фильме (который я видел на одном из просмотров в Доме кино) были очень сильные и впечатляющие сцены, связанные с образом Сталина и темой предвоенных репрессий среди военачальников. Но все это было исключено, и название фильма могло теперь звучать только как насмешка. Картина появилась на экране под названием «Если дорог тебе твой дом».
В разговорах со мной Симонов высказывался вполне определенно и негативно о попытках реабилитации Сталина. Однако я переоценил его решимость бороться или как-то открыто протестовать против подобных тенденций в нашей политической и культурной жизни, и это обстоятельство вскоре изменило развитие наших отношений.
В начале 1966 года в стране шла подготовка к XXIII съезду КПСС. Предыдущий съезд состоялся в конце 1961 года и запомнился всем нам не только программой построения коммунизма в течение двадцати лет, но и громкими разоблачениями Сталина и его ближайших соратников – Кагановича, Молотова, Маленкова, Ворошилова и некоторых других. По решению съезда тело Сталина было вынесено из Мавзолея. Общественная, идеологическая и культурная жизнь страны начала развиваться в ином направлении. Теперь же происходил другой – консервативно-догматический поворот. Поднимали головы ретрограды и сталинисты. В Москве появились слухи, что большая группа видных военачальников подписала обращение к съезду партии с требованием реабилитировать Сталина. Это требование не встретило тогда поддержки даже у Михаила Суслова и у части более осторожных членов партийного руководства.
В противовес требованиям самых крупных военных лидеров, где-то в недрах партийного аппарата родилось предложение организовать коллективное «антисталинское» письмо большой группы интеллигенции. За это дело взялся писатель и публицист Семен Николаевич Ростовский, более известный под псевдонимом Эрнст Генри. Бывший разведчик и автор очень известных в 30-е годы книг «Гитлер над Европой» и «Гитлер против России», Генри жил и работал в Москве и продолжал писать и печататься под разными псевдонимами, например А. Леонидов. Он поддерживал связь с некоторыми старыми большевиками, особенно из Коминтерна, с отдельными деятелями интеллигенции и с некоторыми из знаменитых разведчиков, например с Д. Маклэйном. Именно Эрнст Генри – С. Н. Ростовский составил осторожный, но убедительный текст «Открытого письма XXIII съезду КПСС» с протестом против попыток реабилитации Сталина. Ростовский почти без обиняков говорил, что его инициатива одобрена в «высших сферах», где также есть противники реабилитации Сталина.
Организаторы акции разумно полагали, что под «Открытым письмом» должны стоять имена людей, которых знала и уважала вся страна. Свои подписи поставили такие ученые, как Петр Капица, Игорь Тамм, Андрей Сахаров, писатели Корней Чуковский, Константин Паустовский, Виктор Некрасов, режиссеры Олег Ефремов, Михаил Ромм, Георгий Товстоногов и другие – всего более двадцати человек. Когда письмо было уже отправлено в ЦК, некоторые из крупных деятелей интеллигенции выразили желание к нему присоединиться. Ростовский составил второй, более короткий текст о солидарности, под которым также подписались многие известные деятели науки и культуры.
Ростовский хотел, чтобы под этим документом стояла и подпись Константина Симонова, но тот отказался даже встретиться с этим публицистом. Кто-то сказал Ростовскому, что у Роя Медведева очень хорошие отношения с Симоновым. Семен Николаевич, с которым я раньше почти не был знаком (мы случайно встретились однажды в какой-то общей «околописательской» компании), попросил меня приехать. Дело было хорошее, и я охотно включился в сбор подписей. Благодаря моим усилиям под письмом к съезду появились подписи Владимира Дудинцева, Ильи Эренбурга, академика и генерала химика Ивана Кнунянца, кинорежиссера Григория Чухрая.
Заранее договорившись о встрече, я поехал и к Симонову на его дачу в подмосковном поселке Красная Пахра на реке Десне под Москвой. Официально поселок назывался «Советский писатель», но все называли его «Пахра», или «Красная Пахра», так как недалеко был расположен большой научный городок Красная Пахра с крупным институтом по проблемам физики и жилыми домами сотрудников. Все эти названия происходили от названия реки Пахра, притоком которой является Десна (маленькую Десну не надо путать с большой Десной – самым крупным притоком Днепра).
После короткой беседы я сказал, что хочу познакомить Константина Михайловича с одним важным документом, и передал ему копию «Открытого письма» – с указанием всех, кто его уже подписал. Если бы Симонов выразил какие-либо сомнения относительно текста документа или откровенно сказал мне, что он уже знает о существовании этого письма, но по каким-то причинам решил воздержаться от его подписания, то я бы ограничился общим разговором. Но Симонов неожиданно стал очень хвалить текст письма и тех, кто уже поставил под ним подпись. Он даже сказал: «Прекрасно написано, я готов подписаться под каждым словом этого письма». Конечно, Симонов не подозревал, что я имею какое-то отношение к сбору подписей. И когда я сказал, что именно за этим и приехал и что присоединиться к письму еще не поздно, Симонов явно растерялся. Мне стало неловко, что я поставил его в столь трудное положение. Симонов еще раз прочитал «Открытое письмо», мучительно думал и сказал, что некоторые фразы ему не слишком нравятся. Потом он еще помолчал и, неожиданно повеселев, сказал: «Знаете, Рой Александрович, я все же писатель. Я лучше сегодня вечером напишу собственное письмо с протестом против реабилитации Сталина. Два письма – это будет даже лучше». Я согласился с этим, и обед, на который я был приглашен, прошел весьма оживленно.
После этой встречи Симонов мне не звонил, и я решил, что никакого письма к съезду он не написал. Да и мне было как-то неудобно напоминать о себе, и я перестал приходить к нему в кабинет для чтения мемуаров и других материалов по моей теме.
На XXIII съезде КПСС никакой реабилитации Сталина не произошло, и о Сталине никто не говорил, хотя было очевидно, что консервативный поворот продолжается. Константин Симонов был избран на этом съезде членом Центральной ревизионной комиссии ЦК КПСС, что было важным для него знаком доверия. Избрание писателя в тот или иной орган ЦК КПСС придавало ему особый вес и влияние в Союзе писателей.
Только через тридцать лет – в 1996 году – из публикации в одном из журналов по истории я узнал, что Симонов сдержал слово и написал 23 марта 1966 года большое письмо в ЦК КПСС на имя Л. И. Брежнева с осторожным, но вполне определенным протестом против реабилитации Сталина.
«В своем отношении к Сталину, – писал в этом письме Симонов, – я многие годы был тем, кого называют сейчас “сталинистами”, и как писатель-коммунист несу за это свою долю ответственности. Но тем большую ответственность несу я теперь за то, чтобы о Сталине и его культе непогрешимости, к созданию которого мы сами были причастны, говорилась полная историческая правда». Главной темой письма Симонова была «прямая ответственность Сталина» за тяжелые поражения в начале войны, за лишние жертвы и за репрессии среди военных кадров в 1937–1938 годах. «Вступив в войну после такого разгрома армейских кадров, – продолжал Симонов, – погибла бы любая страна. И то, что наша страна после этого не погибла – чудо, которое совершили народ и партия, а не Сталин».
Вспоминал Симонов и новое избиение кадров после войны. Надо поэтому не отрицать, а лишний раз подтвердить все то, что было сказано о Сталине на ХХ и XXII съездах КПСС, исключив ряд передержек, которые были у Хрущева. На этом большом письме стояла пометка помощника Брежнева: «Доложено 23 марта Брежневу Л. И., который в тот же день беседовал с тов. Симоновым. К. М. Александров». Беседа, видимо, была по телефону. Письмо Симонова отправлено в архив в 1986 году и опубликовано еще через десять лет в «Вестнике архива Президента Российской Федерации» (№ 5 за 1996 год, с. 131–134).
Мои отношения с Симоновым не прервались после XXIII съезда КПСС, но наши встречи и разговоры были, как правило, случайными и малозначительными. Только осенью 1969 года я позвонил Симонову и сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить на важную для меня тему. Симонов сразу же согласился, и на другой день я приехал к нему на дачу.
В это время шло «поэтапное» исключение меня из партии. Минуя первичную организацию, где я несколько лет был парторгом, мое «персональное дело» рассматривалось на партийной коллегии райкома партии, потом на бюро райкома, а после апелляции – на партийной коллегии горкома КПСС и затем на бюро горкома. Теперь дело поступило на рассмотрение КПК при ЦК КПСС. Каждая из этих инстанций заказывала рецензию на мою рукопись «К суду истории», и эти рецензии мне давали читать, не указывая, однако, ни автора, ни организацию, которая данную рецензию одобрила. Среди разного рода вздорных общих обвинений в «очернительстве», «отходе от линии партии», в «правом уклоне» и даже «троцкизме» в отдельных рецензиях содержались и некоторые конкретные обвинения, например, в неверном и «клеветническом» освещении поведения Сталина в первые дни войны.
Я в рукописи ничего не писал от себя, а ссылался на документы и свидетельства, в том числе на доклад Н. С. Хрущева на ХХ съезде КПСС. Но уже в 1969 году появились другие документы и свидетельства, которые противоречили ранее опубликованным. Кому и чему верить? Мне казалось, что Симонов при его осведомленности во всем, что касается ключевых событий Отечественной войны, должен знать истину.
Симонов встретил меня очень приветливо и внимательно выслушал мой рассказ и о партийных делах, и о сомнениях по поводу событий и поведения Сталина в первые дни войны. Продолжать разговор в своем кабинете он не хотел и предложил мне выйти из дома и пройтись по небольшому лесному участку. Однако и теперь Симонов говорил довольно уклончиво. Да, в распоряжении Симонова имелись свидетельства о том, что Сталин через несколько дней после начала войны на два-три дня покинул Кремль и даже не подходил к телефону. Он вернулся к делам только вечером 30 июня, когда к нему приехали почти все члены Политбюро и было решено создать Государственный комитет обороны во главе со Сталиным. Однако затем Симонов начал пространно рассуждать о возможных причинах такого поведения Сталина. Симонов вспомнил даже неожиданный уход с престола Ивана IV в XVI веке, паломничества к нему из Москвы с просьбой вернуться на царство и возвращение царя, позволившее ему основать опричнину и начать еще более крутые расправы над боярством.
Остаток этого дня мы провели вместе. Симонов пригласил меня поужинать, а затем пойти на просмотр какого-то интересного фильма в кинозале расположенного недалеко от Красной Пахры научного института.
В 70-е годы в Советском Союзе тема Отечественной войны стала основной темой всей нашей идеологии и пропаганды. Еще в конце 60-х годов Симонов не раз говорил, что в собственной работе он будет уходить от военной тематики, что его занимают теперь другие вопросы. Но сделать это он так и не смог, ибо и в литературе тема Отечественной войны оставалась главной.
Развитие этого направления – и в истории, и в литературе, и в идеологии – происходило не за счет углубления. Наоборот, книги о войне становились все более поверхностными.
Симонов работал много. Он участвовал в создании нескольких новых фильмов, сумел издать часть своих военных дневников. Однако прежнего подъема и удовлетворения работой уже не было. Симонов часто болел. Мы встречались только случайно. Помню, как на похоронах Александра Бека в конце 1972 года Симонов, увидев меня, решительно пересек зал Дома литераторов, где проходила панихида, поздоровался за руку и тихо стал расспрашивать, как идет моя жизнь и работа. Еще года через два-три, увидев меня на улице в Красной Пахре, Симонов остановился, отвел меня к изгороди своего дома и долго расспрашивал, главным образом о Жоресе, который в 1973 году выехал в научную командировку в Англию, а через несколько месяцев был лишен советского гражданства и остался жить и работать за границей. Мы беседовали около часа, я рассказал ему и о своих новых книгах, и о тех, что уже вышли в свет за границей. Было видно, что некоторые из моих новых работ Симонову интересны, но он не просил дать ему для чтения русские рукописи, а я не предлагал сам, следуя твердому правилу ничего никому не навязывать, но и не отказывать в просьбах.
В 1979 году я с большим огорчением узнал о преждевременной смерти Симонова. Я всегда относился к Симонову с уважением, но мне было жаль, что при своей огромной работоспособности, таланте и знаниях он все же не сделал чего-то главного, что мог сделать только он и никто другой. Лишь через несколько лет я узнал, что весной 1979 года в подмосковной больнице Симонов начал диктовать своему литературному секретарю Нине Павловне Гордон новую большую работу о Сталине. Он хотел рассказать теперь все, что он знал или думал о Сталине в разные годы жизни, а также о том, что мы называем теперь «сталинизмом». Симонов торопился, не заботясь уже о литературной форме, но не успел довести эту работу до конца. Рукопись составила около трехсот страниц машинописного текста.
Симонов писал о своей жизни и работе, а также о размышлениях, не придерживаясь строгой хронологии. Он рассказывал о многих писателях, о политических деятелях, но главным образом о Сталине. Еще на XIX съезде КПСС Константин Симонов был избран кандидатом в члены ЦК КПСС, присутствовал на последнем Пленуме ЦК КПСС с участием Сталина и дал теперь весьма точное описание этого Пленума. Симонов подробно рассказывал об участии Сталина в литературных делах и в работе Комитета по Сталинским премиям, об отношении Сталина к отдельным писателям, о беседах со Сталиным. Смерть оборвала эту работу на одной из самых важных для Симонова проблем – Сталин и Отечественная война. Я знал об этих записях Симонова, но смог их прочесть только весной 1988 года в журнале «Знамя». Публикация была подготовлена Лазарем Лазаревым, она называлась «Глазами человека моего поколения» и имела подзаголовок: «Размышления о И. В. Сталине».
Еще через полгода вышла в свет и одноименная книга, но с добавлением многих материалов из архива Симонова, главным образом об Отечественной войне. Здесь были записи бесед с Жуковым, И. Коневым, с адмиралом И. Исаковым, маршалом А. Василевским. Книга Симонова поступила в продажу в январе 1989 года. Однако несмотря на тираж в четыреста тысяч экземпляров она была почти не замечена в огромном потоке литературы, который буквально обрушился на наши головы в 1988–1990 годах.
1989, 2001
Рой Медведев Три встречи с Ильей Эренбургом
Я познакомился с Ильей Григорьевичем Эренбургом в конце 1965 года. Это произошло благодаря стечению обстоятельств. Еще с осени 1963 года у меня сложились дружеские и доверительные отношения с Евгенией Семеновной Гинзбург, автором замечательных художественных мемуаров «Крутой маршрут». До 1967 года рукопись этой книги ходила в списках и быстро распространялась в потоках Самиздата. После того как Евгения Гинзбург получила небольшую квартиру в Москве – в одном из домов Союза писателей на Красноармейской улице – у нее по вечерам стало собираться весьма пестрое общество друзей из бывших зэка, писателей, поэтов и людей из «окололитературного мира», но в самом хорошем толковании этого понятия. Евгения Гинзбург отличалась не только умом и талантом, но и терпимостью, а также умением почти безошибочно отличать плохое от хорошего и фальшивое от настоящего – и в литературе, и в жизни.
В этом обществе я познакомился с Натальей Ивановной Столяровой, которая также провела много лет в тюрьмах и ссылках и была в заключении и на этапах рядом с Е. С. Гинзбург. Теперь Столярова работала личным секретарем и помощницей И. Г. Эренбурга и пользовалась его доверием. Наталья Ивановна прочла мою пока еще черновую рукопись о сталинизме и решила, с моего согласия, показать эту работу Илье Григорьевичу. Недели через три Столярова сообщила мне, что ее шеф уже прочитал рукопись и просил пригласить автора для беседы. При этом был назначен точный день и час для встречи. Илья Эренбург был очень занятым человеком, и каждый день у него был расписан до мелочей.
В назначенный день я поднимался по лестнице в доме № 8 по улице Горького. Меня удивило, что на одной из лестничных площадок расположилась целая семья. Было очевидно, что эти люди живут здесь уже несколько дней и не собираются уходить. Это были, как я узнал от Столяровой, люди из Башкирии, которые приехали к Эренбургу по своим делам. Эренбург был не только популярным писателем и общественным деятелем, членом Всемирного Совета сторонников мира и Комитета по присуждению Ленинских премий, но и депутатом Верховного Совета СССР от Башкирской АССР. Неудивительно, что многие жители этой республики считали своим правом обращаться к депутату с разного рода жалобами и просьбами, нередко приезжая для этого в Москву без всякого предуведомления.
Принять всех желающих, даже просто выслушать их, а тем более чем-то помочь в запутанных делах Эренбург не мог, а иногда и не хотел. Обычно посетителям говорили, что писателя в Москве нет. Большинство приезжих уходили разочарованными. Но некоторые оставались ждать Эренбурга, располагаясь прямо на лестничных площадках. Из квартиры писателя можно было выйти и на другую лестницу, по которой Эренбург как приходил, так и уходил. Была у него, конечно, и дача под Москвой, где он проводил больше времени, чем в московской квартире. Я обратил внимание на огромный железный почтовый ящик, прикрепленный к дверям квартиры писателя. Обширную почту он получал непосредственно из почтового отделения, из редакций газет и журналов и из разного рода канцелярий. В железный ящик на двери бросали письма, послания и литературные работы люди, которые не хотели пользоваться услугами почты.
Дверь мне открыла Столярова и провела в кабинет писателя. Илья Григорьевич принял меня очень приветливо, усадил на диван и сам устроился в кресле напротив. На столе лежала моя рукопись. Эренбург не стал ни хвалить, ни критиковать ее, не делал он и каких-либо замечаний по тексту. У него в руках не было никаких заметок, да и на страницах рукописи я не обнаружил позднее никаких пометок. Эренбург сказал, что он получает ежедневно не только множество писем, но и немало рукописей и не имеет возможности большую часть их не только прочесть, но даже перелистать. Иногда они несколько дней лежат на его столе, а потом он отправляет их на антресоли, где пылится сейчас не одна сотня рукописей. «Но вашу работу я сразу же начал читать и быстро прочитал ее всю». Это было, впрочем, единственное, что сказал Илья Григорьевич о моей работе. Он ничего не спрашивал обо мне лично, о моей семье, о мотивах, которые побудили меня писать о Сталине. Он сразу же начал говорить о том, как он понимает сталинизм, о событиях 30–40-х годов, но также о Хрущеве.
Это был продолжительный и крайне интересный монолог. Когда я пытался что-то возразить, Эренбург вежливо меня выслушивал, но потом продолжал рассказ, не вступая в полемику. Ему нужен был не собеседник, а молодой и заинтересованный слушатель. Эренбург непрерывно курил, зажигая от кончающейся сигареты новую. Поняв, что беседы не будет, я попросил разрешения кое-что записать и положил на колени блокнот для заметок.
Многое из того, что говорил Эренбург, вызывало у меня несогласие. Он испытывал острую неприязнь к Хрущеву и не скрывал этого. Хрущев, по мнению Эренбурга, был слишком грубым, импульсивным и необразованным человеком. Напротив, о Сталине писатель говорил с явным уважением, хотя и осуждал его за репрессии. Эренбург почему-то попытался объяснить массовый террор 30-х годов кавказским происхождением Сталина. «На Кавказе, – говорил мне Илья Григорьевич, – еще очень живы традиции и обычаи кровной мести. Поэтому, устраняя кого-либо из своих врагов, Сталин должен был устранить и всех родных и друзей своего врага, чтобы избежать мести».
Конечно, я мог бы привести множество примеров, которые противоречили этой примитивной схеме. Но у нас не было полемики. Лишь в отдельных случаях мне удавалось повернуть рассказ Ильи Григорьевича в нужное мне русло.
Оказалось, что Эренбург присутствовал на двух заседаниях Верховного суда СССР, когда там начался судебный процесс по делу Бухарина, Рыкова, Крестинского, Ягоды и других. Илья Эренбург с детства был знаком и дружен с Бухариным, они учились в одной гимназии. Они поддерживали самые добрые отношения в 20–30-е годы, и Бухарин часто просил писателя о статьях и очерках для «Известий», где много лет был главным редактором. Эренбург не верил обвинениям, которые были предъявлены Бухарину, но предпочитал молчать. Перед самым началом фальсифицированного процесса писателю принесли пропуск на заседания Военной коллегии Верховного суда. От Эренбурга не скрыли, что это велел сделать сам Сталин, заметив: «Пусть пойдет и посмотрит на своего дружка». Это было испытание на лояльность. Эренбург пошел в Дом союзов и присутствовал на утреннем и вечернем заседаниях в первый день процесса. «Но в другие дни я туда уже не ходил, очень все это было противно». Я сказал писателю, что среди части старых большевиков существует версия о том, что на процессе в качестве подсудимых были не Бухарин, Рыков и другие, а тщательно подобранные и загримированные артисты, которых потом уничтожили. «Как можно было сломить таких людей, как Христиан Раковский. Это был закаленный большевик, прошедший разные тюрьмы!» Но Эренбург решительно отверг эту версию. На скамье подсудимых были не артисты. Эренбург очень хорошо знал многих подсудимых и не мог ошибиться. Но и он не вполне понимал причины их полной капитуляции, да и не хотел размышлять об этом.
Несколько метких замечаний высказал Эренбург и в отношении Ежова. Он рассказал, как после публикации своих мемуаров «Люди. Годы. Жизнь» получил большое, на двенадцати страницах, письмо дочери Николая Ежова, которая жила где-то в провинции под другой фамилией. В мемуарах Эренбург оспаривал термин «ежовщина» и писал, что было бы ошибочно винить в терроре 1937–1938 годов этого невысокого и малозначительного человека. Дочь Ежова усмотрела в этой фразе некое оправдание отца, которого она продолжала любить. Она писала и об отце, и о трудностях своей жизни после того, как он «исчез». Я попросил Эренбурга показать мне это письмо, а также другие письма о Сталине, которые он получал: я лишь прочту их и верну писателю. Эренбург сразу же согласился, но заметил, что ему надо еще найти это письмо. Однако он его не нашел. Архив писателя содержался явно не в лучшем виде: сотни рукописей и папок с бумагами были в беспорядке свалены на антресолях.
Очень много рассказывал мне И. Эренбург о последних месяцах жизни Сталина, о «деле врачей», о начавшейся тогда недолгой, но дикой и интенсивной антисемитской кампании, о проекте письма знаменитых советских деятелей-евреев Сталину. Илья Эренбург это письмо не подписал, но написал собственное письмо, которое Сталин прочел. Эренбург гордился своим поведением в эти февральские недели 1953 года. Пропустив десять лет, Эренбург перешел к событиям 1963 года, когда состоялась его продолжительная и последняя встреча с Н. С. Хрущевым. На этой встрече по просьбе и настоянию писателя Хрущев согласился на полную реабилитацию знаменитого деятеля Октябрьской революции и первых советских лет Федора Раскольникова.
Наша встреча растянулась на несколько часов. Эренбург говорил много важного и интересного для меня, по-прежнему не задавая никаких вопросов. Физически Эренбург казался слабым, даже дряхлым стариком, но его суждения были острыми и быстрыми, он не уставал говорить, а его глаза поражали ясностью и выразительностью. Я не видел никаких признаков интеллектуального увядания. Во время краткого перерыва мы пили чай или кофе. От не слишком настойчивого приглашения к обеду я отказался, и после того как наш разговор, или, вернее, монолог Эренбурга подошел к концу, я ушел, искренне поблагодарив писателя за его советы и свидетельства. О каких-либо других встречах речи не было. Илья Григорьевич готовился к большой зарубежной поездке.
Наша вторая встреча произошла через несколько месяцев, уже в начале 1966 года. Она была связана с письмом двадцати пяти крупнейших деятелей советской науки и культуры XXIII съезду КПСС, протестовавших против попыток реабилитации Сталина. Хотя «письмо двадцати пяти» было уже отправлено в Кремль, сбор подписей продолжался, и организатор этой акции публицист Эрнст Генри (С. Н. Ростовский) попросил меня поговорить на этот счет с Эренбургом. И. Эренбург сразу же принял меня, быстро прочитал письмо и тут же подписал оба экземпляра предложенного текста. Мне показалось, он был даже доволен, что его не обошли в этой важной антисталинистской акции. Он сказал, что подписал бы письмо и раньше, но его не было в Москве. Беседа была недолгой. Эренбург только спрашивал, как отнеслись разные люди к этому письму, кто еще его будет подписывать и кто отказался.
В третий раз я был у И. Г. Эренбурга не один. Он устраивал ужин в честь Евгении Семеновны Гинзбург и Надежды Яковлевны Мандельштам. Евгения Семеновна просила меня сопровождать ее, и я с готовностью согласился. Мы пришли к Эренбургу около семи часов вечера, а ушли уже после одиннадцати, ближе к полуночи. За столом была и жена Ильи Григорьевича – Любовь Михайловна. Закуски, вино, а потом и все остальное подвозила к нам на специальном столике домработница. Вино употреблялось только французское. Эренбург пользовался привилегией выписывать прямо из Парижа не только вино и привычные для него деликатесы, но и французские газеты и журналы.
Было очевидно, что Надежда Мандельштам, книгу воспоминаний которой я незадолго до этого прочел, хорошо знает порядки в доме Эренбурга. Е. С. Гинзбург и я на таком приеме были впервые. Евгения Семеновна была прекрасным рассказчиком, и ей было о чем рассказать. Но и теперь за столом говорил почти исключительно хозяин дома, а его жена лишь виновато улыбалась гостям – мол, ничего не поделаешь. Однако было бы странно обижаться: все, что рассказывал Эренбург, было очень интересно. Он рассказывал, например, о приеме у Мао Цзедуна, на котором присутствовал в составе делегации Всемирного Совета Мира. Речь шла и о некоторых других встречах и беседах, о которых он еще не успел или не хотел писать в своей книге «Люди. Годы. Жизнь». Как-то незаметно писатель перешел и на тему советского еврейства. Было очевидно, что это для него тема весьма болезненная.
«Про меня говорят всякое, – заметил Илья Григорьевич. – Говорят даже, что я доносил на таких людей, как Михоэлс, Фефер, Маркиш… Да, конечно, я знал о многом, но молчал. Но что я мог поделать? Только погибнуть? Я знаю, – продолжал Эренбург, – меня не любят сионисты или фанатики еврейства. Меня не любят и те, кто хотел бы забыть о своем еврейском происхождении. Но ко мне всегда хорошо относились те евреи, которые не порывают ни с ценностями и историей еврейства, ни с ценностями и историей России и русской культуры, так как они родились и выросли в этой стране и заслуженно считают себя частью советского народа, частью Советского Союза. Таких людей среди евреев в СССР большинство, и очень жаль, что и они до сих пор подвергаются разным формам дискриминации». Эренбург несколько раз возвращался к расстрелам деятелей еврейской интеллигенции в августе 1952 года. «Я не знал тогда ничего об этих расстрелах и не имел к этим делам никакого отношения».
В этот вечер я не задавал Эренбургу никаких вопросов. Только поздно вечером я вспомнил о его антресолях, забитых рукописями. Я предложил свои услуги, чтобы привести в порядок эту часть его архива и составить хотя бы простую опись материалов. Илья Григорьевич, казалось, охотно принял мое предложение. Но он опять должен был куда-то уезжать, а менее чем через год Эренбурга не стало.
Примерно через год после смерти И. Эренбурга мне позвонила его вдова и попросила приехать на следующий день с утра. Обстановка в доме на улице Горького была такой же. С брезгливой насмешкой Любовь Михайловна сказала мне, что сразу же после смерти мужа ее лишили многих привилегий. Так, например, она перестала получать французские газеты и журналы уже на второй день после похорон Ильи Григорьевича, хотя подписка была оплачена до конца года. Почта из Парижа приходила в Москву, но ее не доставляли в квартиру писателя и не отдавали вдове. Ее письменно предупредили, что как жена Ильи Эренбурга она сможет пользоваться «кремлевским лечением», но только в течение двенадцати месяцев после его смерти. Это ее огорчило гораздо меньше, чем потеря французской подписки. «Меня бы давно не было в живых, если бы я не пользовалась услугами хороших частных врачей».
Любовь Михайловна подарила мне верстку и машинописные страницы той части мемуаров И. Эренбурга, которая не прошла цензуру и не была опубликована в 60-е годы. Как известно, полная версия мемуаров Ильи Григорьевича опубликована только в 1990 году в трех томах. Главное, для чего меня пригласила вдова писателя, было не в этом. Любовь Михайловна откровенно сказала мне, что хотела бы поддерживать тот уровень жизни, что был и раньше, но для этого требуется много денег. Государственный литературный архив платит ей за разного рода черновики и рукописи книг, статей и стихов Эренбурга, но этих средств не хватает. Конечно, в доме, на даче и на хранении у семьи есть много картин и рисунков Пикассо, Матисса, Сарьяна, Моне, Фалька и других. Но с этой коллекцией она, художница, никогда не расстанется. Она перестала даже давать эти картины для выставок, так как некоторые картины ей не вернули в оговоренные сроки. Но в семье есть разного рода редкие документы, которые она могла бы продать музеям или частным лицам.
Она показала мне несколько таких документов. Это были действительно редчайшие бумаги, например, автографы Петра Первого, соответствующим образом оформленные и прикрытые какой-то пленкой для сохранности. В одном из писем Петр писал палачу, чтобы тот наказал двух мастеровых за их провинности, но царь предупреждал, что их нельзя калечить, так как они хорошо обучены своему ремеслу и должны работать.
Но кто в СССР мог купить такие бумаги? И за какую цену? Аукционов у нас не проводилось, а музеи были бедны и не имели средств. Они покупали экспонаты и у частных лиц, но по произвольно установленным ценам. Сами историки, как правило, люди бедные, и у них нет денег на коллекции редких документов. Я мог посочувствовать вдове писателя, но не мог ей помочь.
Еще через год Любовь Михайловна умерла.
Илья Григорьевич был человеком необычайно талантливым и интересным. Он писал легко, быстро, но не поверхностно. Он сделал очень много для советской и российской культуры. Никто из писателей нашей страны – ни раньше, ни позже – не имел таких широких и прочных связей с деятелями европейской и западной культуры. Конечно, он шел на компромиссы, он должен был выживать. Но эта гибкость сочеталась у него с большой силой и таланта, и ума, и с этим не мог не считаться даже Сталин. Выступая против фашизма, Эренбург был искренен и добился поразительных результатов. Я сам приобщился к его публицистике с шестнадцати лет – с конца 1941 года, и ни одна из прочитанных мной статей Эренбурга в «Правде», в «Красной звезде» или в «Известиях» не оставила меня равнодушным. Эти газеты вывешивались тогда на специальных стендах почти на всех улицах в центре Тбилиси. По силе воздействия на граждан нашей большой страны, на ее солдат и офицеров ничего равного этому нет в истории отечественной публицистики, да и во всей русской литературе. В армии статьи Эренбурга нередко читали перед строем, на привале, в землянке. С этой точки зрения Илью Эренбурга можно было бы назвать и одним из величайших ораторов ХХ века.
Занимая видное положение в обществе, Эренбург был у всех на виду и не мог бы долго скрывать свои истинные мысли и чувства. Просто для того чтобы сохранить свою жизнь, он должен был проявлять глубокое уважение, даже любовь к Сталину. Это была цена за жизнь, которую не обязаны были платить только те, кто был менее заметен.
В 1966–1967 годах Эренбург несколько раз выступил в защиту писателей-диссидентов, он не хотел возвращения тоталитаризма. Когда он умер, под некрологом, опубликованным во всех газетах, стояли имена А. Твардовского, К. Федина, К. Паустовского, В. Каверина, К. Симонова и других писателей, но не было подписей руководителей страны. Память об Эренбурге не была увековечена в Москве. На квартиру Ильи Эренбурга на улице Горького – с его кабинетом, с картинами великих мастеров на стенах – нашлось немало претендентов. Вскоре мы узнали, что эта квартира, которая могла бы стать мемориальным музеем, передана малоизвестному, но влиятельному по тем временам критику и литературоведу Александру Овчаренко, который считался знатоком творчества М. Горького и заведовал сектором по изданию Полного собрания сочинений М. Горького в Институте мировой литературы.
Все бумаги, вещи, картины, принадлежавшие семье писателя, перешли к его единственной дочери, и судьба этой части наследия И. Эренбурга мне неизвестна.
2004
Рой Медведев Воспоминания о Юрии Трифонове
Как крупный, а затем и выдающийся писатель Юрий Валентинович Трифонов раскрылся поздно и, увы, во многих отношениях не до конца. Он не строил планов писательской работы на всю жизнь. Однако чем более твердым и уверенным становилось его перо, тем более смелыми и широкими становились его замыслы.
В доме Евгении Гинзбург я познакомился с писателем Борисом Ямпольским, а тот познакомил меня осенью 1967 года с Юрием Трифоновым. Но если знакомство с Ямпольским ограничилось двумя-тремя встречами, то мое общение с Трифоновым постепенно стало потребностью и для меня, и для него и продолжалось без малого пятнадцать лет.
В то время Трифонов не был еще широко известным писателем. Его первую повесть «Студенты», которая принесла молодому Трифонову Сталинскую премию и позволила ему стать профессиональным литератором, я не читал, как и романа «Утоление жажды» – о строителях Каракумского канала. Этот роман был опубликован в 1963 году и даже представлен на Ленинскую премию. Но для богатого литературными событиями 1963 года роман Ю. Трифонова был не столь уж заметным явлением.
Первым произведением Ю. Трифонова, которое я прочел в журнале «Знамя» в 1965 году, была повесть «Отблеск костра». Это была откровенно антисталинская документальная работа, посвященная жизни, деятельности и трагической гибели отца писателя – Валентина Андреевича Трифонова, известного большевика, одного из создателей большевистских организаций на юге России, участника революций 1905 и 1917 годов, одного из организаторов Красной Армии.
В 20–30-е годы Валентин Трифонов работал на многих ответственных постах в советской юстиции, народном хозяйстве, структурах управления и науки. Летом 1937 года он был арестован и через год расстрелян. Известным большевиком и военным деятелем был и дядя писателя Евгений Андреевич Трифонов, которого от ареста и расстрела спасла только неожиданная смерть.
Случайно на подмосковной даче, принадлежавшей родственнице Валентина и Евгения Трифоновых, обнаружился сундучок с личными документами и письмами братьев Трифоновых еще времен Гражданской войны. Обычно все подобного рода личные архивы органы НКВД забирали при аресте и потом уничтожали, чаще всего не просматривая содержащихся там материалов. Но не у всех же родственников шли подобного рода обыски. Личный архив отца и стал основой для книги сына, книги в высшей степени честной, вдумчивой и интересной и для писателя, и для историка, для всех людей, неравнодушных к нашей сложной и драматической истории.
Я прочел «Отблеск костра» еще до встречи с автором этой повести. Было видно, что Трифонов работал над произведением в 1962–1964 годы, то есть после XXII съезда КПСС. Многие писатели и историки пытались за эти три года поднять какие-то новые сюжеты и темы. Однако в 1965 году эта относительная либерализация кончилась. Что-то, конечно, могло проскочить и мимо бдительных цензоров. Однако Юрию Трифонову удалось превратить журнальную публикацию 1965 года в отдельную книгу, которая вышла в свет в 1966 году. Конечно, писателю просто повезло, как повезло ему в 1951 году получить Сталинскую премию. Никто из тех, кто представлял повесть «Студенты» к награждению, и из тех, кто принимал решение, не знал, что отец студента Литературного института Юрия Трифонова расстрелян, а мать отправлена в лагерь и ссылку. Повезло ему и в 1937–1938 годах: он не попал в какой-нибудь специальный детский дом, куда отправляли чаще всего детей известных большевиков, павших жертвой сталинского террора.
Юрий Валентинович жил в удобном большом доме недалеко от станции метро «Сокол». Он был вдовцом и жил с дочерью Олей, которая училась в школе. По хозяйству писателю помогала мать. После реабилитации она получила квартиру в Москве и жила отдельно, но приезжала к сыну почти каждый день.
При первой же встрече Ю. Трифонов подарил мне небольшую книжечку «Отблеск костра», а я передал ему для чтения свою рукопись «К суду истории». Он подарил мне также роман «Утоление жажды» и сборник рассказов. Узнав, что я не читал повесть «Студенты», Трифонов обрадовался и очень просил меня никогда не читать эту книгу. «Мне сейчас стыдно за эту вещь», – сказал он. От других писателей я узнал позже, что в основу повести положены реальные события, которые происходили в Литературном институте в 1948–1950 годах. Но молодой автор не просто ошибался в своих оценках или шел на компромиссы под давлением– он описывал и оправдывал изгнание из института профессора-«космополита», прототип которого был совсем не похож на героя повести и пользовался симпатиями большинства студентов. Однако смелые по тем временам протесты нескольких десятков студентов не нашли отражения в книге Трифонова. Я выполнил просьбу Трифонова и никогда не брал в руки «Студентов».
Наш первый разговор был не особенно продолжительным, в нем приняли участие Борис Ямпольский, Лев Гинзбург и драматург Александр Гладков. Гладков сам прошел после войны через тюрьму и лагерь. Он также прочел мою рукопись и прислал мне потом свои замечания и пожелания в большом, очень содержательном и доброжелательном письме.
У Трифонова было много добрых знакомых, но настоящим личным другом у него, по моим наблюдениям, был только А. Гладков, который часто присутствовал на наших ставших регулярными встречах. Несколько раз Юрий Трифонов приезжал по разным поводам ко мне на улицу Дыбенко в район Химки—Ховрино. Но чаще всего мы встречались у него на квартире, а летом на его даче – в писательском кооперативе в подмосковном поселке Красная Пахра. В этом же поселке жили и многие другие известные люди, с которыми я тогда часто встречался: Александр Твардовский, Константин Симонов, Владимир Тендряков, Владимир Россельс, Александр Дементьев, Михаил Ромм. Позднее Трифонов дал мне ключ от своей дачи, где он жил только летом, да и то с большими перерывами. Я мог приезжать сюда отдохнуть на несколько дней, особенно в зимнее время или ранней весной. Юрий Валентинович просил приезжать почаще и оставлять на ночь свет в верхних комнатах. Пустые писательские дачи были заманчивым объектом для воров. На дачу Ю. Трифонова они наведывались дважды.
Имелось несколько обстоятельств, которые способствовали если не дружеским, то очень близким и доверительным отношениям между мной и Трифоновым. Мы родились в одном и том же 1925 году Мой отец тоже был участником Гражданской войны и политработником Красной Армии, и он тоже погиб в годы сталинского террора. Наши взгляды на людей, на литературные события и на положение в стране в большинстве случаев совпадали. Во многом мы могли помочь друг другу, так как Трифонов интересовался не только литературой, но и историей, причем в первую очередь историей революционного движения в России в XIX и ХХ веках. Его глубоко занимала и тема сталинизма, корни которого он пытался искать еще в идейных и политических течениях прошлых веков. Я приносил ему материалы из так называемого Самиздата, в том числе и обширные машинописные мемуары, к которым он был особенно неравнодушен. С другой стороны, и он разрешал мне брать из своей очень большой библиотеки некоторые важные для меня книги. Особенно редкие издания он просил читать только у него дома и оставлял меня на несколько часов в своем кабинете. У Трифонова имелись почти полные комплекты таких очень редких журналов, как «Каторга и ссылка», «Былое». Журналы были аккуратно переплетены: писатель пользовался услугами частного переплетчика.
В конце 60-х годов, как и все писатели его круга, Трифонов был глубоко озабочен судьбой Александра Солженицына. Повесть «Раковый корпус» была распространена среди писателей Правлением ССП – для публичного обсуждения. Трифонов просил меня достать для него рукопись романа «В круге первом», с которым я уже был знаком. Роман произвел на Юрия Валентиновича большое впечатление. «Такую книгу нельзя запретить, – сказал он. – Романа такой силы во всей Европе нет». Он не скрывал своего удовлетворения, когда через несколько лет в одном интервью Солженицын, перечисляя писателей, «составляющих ядро русской прозы», назвал и имя Трифонова. Много позднее, во второй половине 70-х годов, когда мой брат Жорес оказался не по своей воле в Лондоне и мог с помощью друзей из разных стран не только информировать меня о жизни старой и новой эмиграции, но и присылать различные книги и материалы, Юрий Трифонов нередко просил достать для него самые разные работы русских писателей-эмигрантов: Замятина, Ремизова, Бердяева, Ходасевича, Р. Гуля, мемуары политиков и генералов белой эмиграции.
Юрий Валентинович особенно ценил сочинения В. Набокова, книги которого я читал без большого интереса. Трифонов объяснял мне, что мало кто из писателей столь мастерски владеет искусством слова и стиля, как Набоков. «У Набокова любой русский писатель может многому научиться». Лично я читал в основном эмигрантские журналы, особенно новые, на которые Трифонов обращал мало внимания. Он почти никогда не комментировал новинки советских писателей, в том числе и тех, с кем поддерживал приятельские отношения. «Я этого еще не читал», – обычно отвечал он на мои вопросы. «Мы, писатели, – сказал он однажды, – очень мало читаем книги своих коллег по Союзу писателей. У меня для этого просто нет времени. В первую очередь я читаю классику».
Трифонов был неразговорчив, он больше слушал, чем говорил, и некоторым казался человеком не только медлительным, но и скрытным. Отчасти сказывалось здесь наследие тех лет, когда ему действительно приходилось многое скрывать. Но имела место и некоторая застенчивость писателя, он не любил ни многолюдных компаний, ни застолий. Он не хотел и не мог поддерживать разговор только из вежливости, когда собеседником оказывался неинтересный ему человек.
Текущей политикой он интересовался мало и лишь бегло просматривал газеты. Да и что было интересного в наших газетах в 70-е годы? Гораздо больше он интересовался спортом и читал спортивные газеты, даже сотрудничал в некоторых из них. Ю. Трифонов хорошо читал по-немецки, и на его письменном столе я часто видел немецкую прессу. В дни хоккейных чемпионатов лучше было его не навещать: он не мог пропустить ни одного из главных матчей, хотя смотрел их он почти всегда только на экране своего телевизора. Когда он оказывался в большой и мало знакомой ему компании людей, то чувствовал себя неуютно и по большей части не поддерживал общей беседы или спора, предпочитая отмалчиваться.
Однажды Трифонов попросил познакомить его с Евгенией Семеновной Гинзбург, книгу которой «Крутой маршрут» он очень ценил. Конечно, Евгения Семеновна была рада пригласить к себе Трифонова. Мы пришли к ней втроем: Трифонов, А. Гладков и я. Трифонов предполагал, вероятно, что мы проведем вечер именно в такой небольшой компании. Однако небольшая квартира Е. Гинзбург была всегда открыта для ее многочисленных друзей и знакомых, и они собирались здесь по вечерам без предварительного уведомления. Дома Евгении Гинзбург, Льва Копелева, Владимира Россельса напоминали салоны второй половины XIX века, куда близкие по духу люди приходили просто пообщаться друг с другом или даже решить между собой разного рода дела. Здесь можно было встретить как известных, так и малоизвестных писателей и поэтов, а также бывших зэка самых разных профессий и положения в обществе.
Неудивительно, что вскоре после нашего прихода в квартире Е. Гинзбург собралась компания в пятнадцать-двадцать человек, которые в комнате и на кухне обсуждали последние политические и литературные новости. Александр Гладков чувствовал себя в этой обстановке как рыба в воде. Но Трифонов весь вечер просидел в углу, не проронив ни слова. Ему было интересно в доме Е. Гинзбург, но многих пришедших сюда он не знал, и его смущало это шумное многолюдье. Конечно, он не стал постоянным гостем в квартире Евгении Семеновны, где сам я бывал часто и где обрел много добрых знакомых. У себя в квартире или на даче Юрий Валентинович собирал, и то довольно редко, не более трех-четырех человек.
В конце 60-х годов Ю. Трифонов жил очень скромно. После смерти матери ему было трудно вести хозяйство, но летом на даче ему помогала одна из пожилых родственниц. Временами Юрий Валентинович испытывал явную нужду и у него не было средств, чтобы привести в порядок свою большую дачу, которую он построил давно – на Сталинскую премию. Забор вокруг дома покосился, деревянные полы прогибались и скрипели. На даче имелась также небольшая библиотека, и когда я туда приезжал на два-три дня зимой, то целый день лежал на диване, слушал музыку и читал книги о народовольцах. Телевизор с дачи унесли воры.
Повесть «Обмен» Юрия Трифонова была первой повестью, которая имела быстрый и большой успех у читателей. Ее опубликовал журнал «Новый мир» еще при Твардовском, которому она пришлась по душе. Позднее вместе с режиссером Юрием Любимовым Трифонов переделал повесть в пьесу, и Юрий Валентинович пригласил меня на премьеру. Постановка имела большой успех и долго держалась в репертуаре «Театра на Таганке». Ю. Трифонов приходил в театр каждый раз, когда шел «Обмен». В конце спектакля Трифонов вместе с Любимовым и артистами выходил на сцену под аплодисменты зрителей. В театре он более непосредственно, наглядно и эмоционально ощущал успех своего произведения. В этом не было никакого авторского тщеславия.
Трифонов был мнителен. Он работал медленно и очень тщательно, долго подбирал слова, фразы, переходил от одного черновика к другому. Из одной страницы текста он делал полстраницы, иногда оставлял только несколько строчек. Писателям тогда платили гонорар по объему работы в печатных листах. Поэтому, встречая меня у порога, он мог сказать: «Сегодня я выбросил из своего кошелька еще сто рублей». Трифонов долгое время испытывал чувство неуверенности в своем писательском таланте, и это мешало ему работать. Он сильно переживал неудачи или просто невнимание критики. Зато успех делал его более твердым – и в отношениях с людьми, и наедине с листом бумаги. Повесть «Обмен» была переведена и издана в большинстве западных стран. Затем на экраны советских кинотеатров вышел фильм по мотивам этой повести.
После «Обмена» все новые повести Юрия Трифонова о жизни горожан имели большой успех или по крайней мере вызывали большой интерес. В подцензурной литературе 1970–1971 годов это были наиболее значительные работы, а Трифонов не хотел и не мог работать «в стол» или для Самиздата. Он не был писателем-«подпольщиком», как Варлам Шаламов или Александр Солженицын. У Трифонова поэтому был и другой читатель.
В 70-е годы каждый из нас имел свой круг читателей, и эти аудитории мало совмещались друг с другом. Александр Твардовский уже покинул «Новый мир», и это ставило Трифонова в трудное положение. После вынужденной отставки Твардовского многие известные писатели и поэты приняли решение бойкотировать «Новый мир» и осуждали тех авторов, которые продолжали посылать свои рукописи в этот журнал. В конце 60-х годов Юрий Трифонов публично и не раз возмущался начинавшейся тогда травлей А. Твардовского. Трифонов был инициатором письма-протеста, которое подписали многие известные писатели. Это письмо в защиту «Нового мира» и его редакции было направлено руководству Союза писателей. Коллективное письмо другой группы писателей против Твардовского было опубликовано в журнале «Огонек».
Общественное мнение в стране только зарождалось, и все подобного рода документы горячо обсуждались в литературной и окололитературной среде. Но Юрий Трифонов не был еще столь известным и независимым писателем, чтобы его с удовольствием и радостью принял в авторский актив любой другой «толстый» журнал. Между тем новое руководство «Нового мира» было явно заинтересовано в сохранении Ю. Трифонова в авторском активе журнала. Многие работники редакции, которым просто некуда было уходить, также убеждали Юрия Валентиновича давать свои новые вещи в «Новый мир», заверяя писателя, что можно будет сохранить традиции и позиции этого журнала и без Твардовского, без Лакшина, без Виноградова.
Это была иллюзия, но Трифонов принял ее, опасаясь остаться ни с чем. Даже наедине со мной он пускался в долгие объяснения насчет того, что в нашей стране все журналы в конечном счете партийные, и потому не так уж важно, где печататься, а важно, что и как ты пишешь. Я с Трифоновым не спорил, так как был убежден, что подобного рода проблемы каждый автор должен решать для себя сам. Для меня с уходом Твардовского и Лакшина прежний «Новый мир» прекратил существование. Появился совсем другой журнал, но с прежним названием. Однако повести Трифонова я читал и в этом журнале.
В конце 60-х и в начале 70-х годов Ю. Трифонов работал над большим историческим романом «Нетерпение». Это была книга о наиболее важном и «героическом» периоде в жизни знаменитой российской революционной организации «Народная воля». Читатель этой книги, вышедшей в свет в 1973 году мог следить за перипетиями той рискованной и беспощадной «охоты», которую народовольцы вели за царем Александром Вторым и которая завершилась его убийством 1 марта 1881 года. В центре внимания автора была судьба известных русских революционеров и террористов – тогда эти понятия могли совпадать – Желябова и Перовской. Роман создавался в популярной серии «Пламенные революционеры» по договору с издательством политической литературы.
Большинство книг этой серии были написаны плохо, так как издательству не удавалось привлечь к своим темам крупных и талантливых авторов. Если известный писатель, привлеченный высокими гонорарами Политиздата, брался за роман о каком-либо революционере, то, как правило, работал небрежно. Именно так Василий Аксенов написал тогда же роман об известном большевике-подпольщике Леониде Красине. Но Трифонов работать небрежно не мог, хотя не был равнодушен к большим гонорарам. Мне он говорил, что «Нетерпение» отняло у него три года, но зато он может после выхода книги в свет спокойно работать лет пять, не заботясь о пропитании. Тема романа была близка писателю, и он еще раньше собрал большую коллекцию книг о народовольцах. В ошибках и в судьбе народовольцев он искал корни многих ошибок большевиков.
Ю. Трифонов очень скрупулезно изучил жизнь и атмосферу революционного подполья России 70-х годов XIX века. Роман читается легко, он будит мысль и дает много важной для всех нас информации. Однако успех – и читательский, и материальный – книги Трифонова в СССР оказался умеренным. Да и на Западе не торопились с переводами новой работы писателя.
Позднее роман был переведен на многие языки и получил на Западе даже большую популярность, чем в СССР. Особенно высокую оценку роман получил в кругах умеренно левой западной интеллигенции. Генрих Бёлль в своей рецензии писал о высоких художественных и этических достоинствах романа Трифонова. Среди нескольких десятков книг, выдвинутых в 1975 году на соискание Нобелевской премии по литературе, был и роман «Нетерпение». Однако в советской печати о западных откликах на роман Трифонова предпочитали ничего не писать. Наибольший успех книги Юрия Трифонова в середине 70-х годов имели в Германии, и писатель тщательно собирал все немецкие рецензии на свои работы.
Однажды в разговоре с Юрием Валентиновичем я похвалил книгу одного писателя, которого Трифонов хорошо знал. «А вы напишите ему письмо, – сказал Трифонов. – Писатели очень любят получать письма от читателей, конечно, если эти письма содержат похвалу или разумный разбор сюжета». Я вспомнил эти слова, когда летом в Железноводске прочитал роман «Нетерпение». И как благодарный читатель, и как историк я написал Трифонову большое письмо. Трифонов был рад получить его, но осенью при встрече он все же допытывался у меня, так ли точно я думаю о романе, как писал в письме.
Успех трилогии о современной городской жизни и романа «Нетерпение» принесли Ю. Трифонову не только уверенность в писательских способностях, но и материальную обеспеченность, которая позволяла ему теперь спокойно работать. Он нашел свои темы, свой стиль, своих читателей и почитателей.
Не слишком удачно складывалась, однако, его личная жизнь. Второй брак Трифонова оказался непрочным. Раздоры происходили в присутствии гостей и по пустякам, что по моим представлениям о семейной жизни совершенно недопустимо. Я был лишен возможности беседовать с Юрием Валентиновичем наедине. Года через два Трифонов снова остался в одиночестве, но в середине 70-х годов женился в третий раз. Его новая жена Ольга Мирошниченко тоже была писательницей, и это был во многих отношениях гармоничный союз. Многое из того, что я видел в семье Трифонова в эти годы, я встречал потом в сильно измененном виде в его произведениях. Конечно, он переносил события личной жизни в другое время, распределял собственные переживания между героями и даже героинями своих повестей. С этой точки зрения большинство книг Трифонова автобиографичны. Но так делают, видимо, все писатели.
В писательском поселке Пахра дома Трифонова и Твардовского стояли рядом, и еще в конце 60-х годов они могли переговариваться друг с другом, стоя у забора, разделяющего их дачные участки. После отставки Твардовского Юрий Валентинович спросил своего соседа, должен ли он, Трифонов, забрать из редакции свою повесть. «Это уж ваше дело», – не слишком приязненно ответил Твардовский, которому неприятна была эта тема. Добрые отношения Твардовского и Трифонова на этом кончились, а через несколько месяцев Твардовский тяжело заболел, и ему уже не было суждено поправиться.
Однако и после смерти поэта сотрудничество с «Новым миром» тяготило Трифонова. Последней повестью, которую он опубликовал в этом журнале, была повесть «Другая жизнь»; я прочитал ее осенью 1975 года. Авторитет Трифонова в это время был значителен и заметен.
70-е годы для советских писателей были очень трудны. Давление властей вынуждало одних писателей приспосабливаться к конъюнктуре, другие, подобно Анатолию Рыбакову, писали, но только «в стол». Очень многие известные писатели оказались за границей: Василий Аксенов, Виктор Некрасов, Владимир Максимов, Александр Галич, Лев Копелев, – я называю здесь тех, с кем Трифонов был хорошо знаком. Но Ю. Трифонов сумел удержаться на высоте как с нравственной, так и с художественной точки зрения, хотя и работал в подцензурной литературе. Он был мастером подтекста. Его суждения были спокойны, но многозначительны. Любой «толстый» журнал был готов в это время принять Трифонова в свой авторский актив, и он решил уйти из «Нового мира».
Свою самую успешную и глубокую повесть «Дом на набережной» Ю. Трифонов опубликовал в 1976 году в журнале «Дружба народов». Дом на набережной – это большой серый дом на берегу реки Москвы напротив Кремля. Он построен по особому проекту для членов правительства и наиболее ответственных деятелей государства. Комфортабельные квартиры, магазины, кинотеатр, клуб, спортивные площадки, детский сад, школа – все это было включено в один комплекс. Здесь прошли детские годы Юрия Трифонова. Но здесь же в 1936–1938 годах шли повальные аресты, которые постепенно превратили этот дом в дом «врагов народа», хотя на место арестованных наркомов и маршалов и их выселенных семей в этот дом въезжали новые жильцы; многие из них на не очень большой срок.
Повесть Трифонова имела очень большой успех. Умельцы изготовляли фотокопии с журнального текста и продавали на книжном черном рынке за сорок-пятьдесят рублей – в то время это были немалые деньги. Повесть содержала не только ясное и явное осуждение сталинских репрессий, но и смелый по тем временам анализ сталинизма. Но книга обладала и многими чисто художественными достоинствами, которые усиливали ее воздействие на читателя. Само словосочетание «дом на набережной» стало с тех пор нарицательным. Забегая далеко вперед, можно сказать, что уже в конце 80-х годов в этом доме был создан небольшой музей, и его руководителем стала Ольга Мирошниченко-Трифонова, вдова писателя.
В очень многих библиотеках возникали очереди на прочтение номеров «Дружбы народов» с повестью Трифонова. Однако вскоре эти журналы стали исчезать из библиотек. Их перестали выдавать даже в Государственной библиотеке им. Ленина. На вопрос о судьбе журналов библиотекари отвечали, что их украли или повредили поклонники писателя. Более вероятной была, конечно, другая версия: роман Ю. Трифонова изъят из круга библиотечного чтения по какой-то негласной директиве. Такие изъятия случались в 60–70-е годы и с менее критическими произведениями. Узнав обо всем этом, Трифонов лично побывал более чем в десяти московских библиотеках и нигде не обнаружил номера «Дружбы народов» с текстом своего романа. Впрочем, это отчасти компенсировалось распространением фотокопий.
Отдельной книгой эта повесть Трифонова не была тогда издана. Не появилась она и в массовой серии «Роман-газеты». «Дом на набережной» вошел в большой сборник Ю. Трифонова «Повести», выпущенный издательством «Советская Россия» тиражом в 30 тысяч экземпляров. По тем временам это был очень незначительный тираж – спрос на книгу был много большим.
Юрий Любимов решил и эту повесть Трифонова инсценировать в своем театре. Постановка имела невиданный успех, очереди за билетами выстраивались еще с вечера – на всю ночь.
И опять Юрий Трифонов приходил на каждое представление «Дома на набережной», внимательно следил за реакцией зрителей, а потом поднимался на сцену вместе с режиссером и актерами.
Одна из моих книг в середине 70-х годов задумана и написана благодаря общению с Юрием Трифоновым. Имелась одна тема, которая чрезвычайно интересовала Трифонова как писателя еще со времен работы над «Отблеском костра» – это судьба донского казачества и конных армий в годы Гражданской войны. Ю. Трифонов старательно собирал в течение многих лет материал о знаменитом в 1918–1920 годах кавалерийском командире Борисе Думенко – создателе первых кавалерийских полков Красной Армии. Именно Думенко был командиром первой сводной дивизии и всей кавалерии 10-й армии. Семен Буденный был до ранения Думенко его помощником, а позже командовал бригадой в кавалерийской дивизии Думенко. Эта дивизия и была развернута позднее в конный корпус, а затем и в Первую конную армию. Думенко в это время еще оправлялся от ран. После возвращения в строй Б. Думенко получил в свое командование новый Сводный конный корпус, который громил деникинские войска под Новочеркасском и под Ростовом зимой 1920 года. Однако в том же 1920 году Б. Думенко был арестован по ложному обвинению и расстрелян, а реабилитирован только в 1964 году.
Кавалерийские части Думенко формировались главным образом на Дону, но не из казаков, а из иногородних и живших на Дону украинских крестьян. Вождем «красных», или «червонных», казаков на Дону стал офицер-демократ Филипп Миронов, выходец из простых казаков. В 1918 году Ф. Миронов сформировал и возглавил знаменитую тогда 23-ю дивизию. В 1919 году он командовал группой из трех дивизий, а в 1920 году создавал Вторую конную армию, а затем и командовал ею. Эта армия стала главной ударной силой при разгроме войск генерала Врангеля в Таврии и Крыму. Ф. Миронов также стал жертвой клеветы, он арестован в 1921 году и убит в Бутырской тюрьме без суда и следствия. Он, как и Б. Думенко, реабилитирован лишь в 1964 году вопреки протестам и сопротивлению престарелого С. Буденного.
Трифонов был не единственным человеком, который собирал материалы о Думенко и Миронове. Большой архив о судьбе Миронова собрал его сын, живший на Дону. Но особенно много свидетельств о казачестве в Гражданской войне собрал бывший политработник Второй конной армии Сергей Стариков. В начале 20-х годов Стариков работал в Казачьем отделе ВЦИК, в конце 30-х был арестован. После освобождения и реабилитации он отдавал все силы и средства на восстановление доброго имени Ф. К. Миронова. Стариков хотел написать большой роман о Миронове, но к такой работе старый казак не был подготовлен. Он стал искать соавторов и, по рекомендации друзей, обратился к Ю. Трифонову. Трифонов работал в это время над романом «Нетерпение». Он обещал помочь Старикову, но только через два-три года. Однако Старикову было уже больше восьмидесяти лет, и он не мог ждать. Тогда-то Трифонов и познакомил Старикова со мной.
Для меня не составило большого труда понять ценность собранных материалов, большая часть которых пролежала десятки лет в закрытом и опечатанном архиве Казачьего отдела ВЦИК. Но я не умел писать романы. Мы договорились о совместной работе над большим историко-политическим очерком, избегая как беллетристики, так и чисто профессионального военного разбора боевых операций. Работа продолжалась больше года, и результатом ее стала книга «Жизнь и гибель Филиппа Кузьмича Миронова». Под заголовком «Филипп Миронов и гражданская война в России» эта книга издана в 1978 году в США на английском языке. Сергей Стариков получил свою часть не слишком большого гонорара за эту книгу, но умер, не дождавшись ее выхода в свет. На русском языке книга издана только в 1989 году.
Рукопись нашей работы я передал для чтения и хранения Трифонову, который уже начал работать над новым романом «Старик». Роман «Старик» вышел в свет в 1978 году Он имел гораздо меньший читательский успех, чем «Дом на набережной». Тем не менее сам Трифонов считал этот роман наиболее важным из всех написанных им ранее книг. К сожалению, именно этот роман сильно пострадал от многочисленных купюр, сделанных автором и редакцией по требованиям цензуры. В романе «Старик» Трифонов писал не только о трагической судьбе героя Гражданской войны Мигулина, прототипом которого являлся Филипп Миронов, но и о потерянном поколении 70-х годов, для которого были уже безразличны революционные идеалы их дедов и отцов и важны в первую очередь не духовные, а материальные ценности. Новая книга Ю. Трифонова была быстро переведена и издана во многих западных странах, появилось немало рецензий, которые писатель тщательно собирал. Когда «Старик» вышел в Москве отдельной книгой в 1979 году и тиражом всего в тридцать тысяч экземпляров, Юрий Валентинович подарил мне экземпляр с надписью: «Рою Александровичу дружески и с благодарностью за помощь в сочинении этой книги».
Ю. Трифонов был предельно честным, очень щепетильным человеком, он не хитрил, не интриговал, не заискивал перед сильными мира сего. Он не пытался как-то пробивать или пристраивать свои романы и повести, не имел тех качеств лидера, которые имел, например, Твардовский. Внешне Трифонов не казался человеком с сильным характером и с сильными страстями. По темпераменту он был скорее пассивным, чем активным человеком, хотя и обладал огромной работоспособностью. Он очень оберегал свою личную и писательскую независимость и, как мне кажется, никогда не помышлял о вступлении в партию.
Среди близких знакомых Трифонова несколько человек стали диссидентами, публиковались за границей или даже покинули СССР. У Трифонова был двоюродный брат Михаил Демин, который после гибели отца, тюрьмы, бродяжничества и уголовного подполья стал писателем и опубликовал четыре книги стихов и прозы. В конце 70-х годов, использовав связи в уголовном мире, Михаил Демин нелегально перешел советскую границу и объявился в Париже. Трифонов был в добрых отношениях с братом, но не поддерживал с ним постоянной связи. Однако дело оказалось слишком необычным, и писателя несколько раз вызывали на допросы в Следственное управление КГБ в Лефортово. И КГБ, и милиция использовали в то время самые незначительные поводы для подобного рода допросов – это была своеобразная форма давления. Меня, например, вызывали в Лефортово просто потому, что в переписке между тем или иным эмигрантом и его адресатом в Москве упоминалась в контексте моя фамилия. «Что бы это могло означать?» – задавал мне вопрос следователь.
Юрий Трифонов не обманывал своего читателя, он писал то, что думает, писал правду, но не всю правду и не все то, что он думал. Он с интересом расспрашивал меня о разного рода течениях в рядах диссидентов, охотно брал на прочтение материалы Самиздата, но никогда не распространял эти материалы, не давал денег на машинописные рукописи и не подписывал никаких коллективных писем. Он сделал это, кажется, только один раз – в поддержку письма А. И. Солженицына IV Съезду писателей в 1967 году Он боролся со злом, но только с помощью тех средств, которые были ему доступны и соответствовали его характеру и темпераменту.
Приобретя в 70-е годы статус известного и популярного писателя, он начал получать все больше и больше писем с просьбами о помощи. Речь шла о конкретных беззакониях и несправедливостях, от которых страдали как отдельные люди или группы людей, так даже и небольшие нации. Речь шла, например, о судьбе небольшой национальности – лезгин, которые были разделены между Дагестаном и Азербайджаном и подвергались явной дискриминации, особенно в Азербайджане. Много писем шло со 101 километра под Москвой. Здесь жили люди, отбывшие свой срок по разного рода уголовным статьям, но не имевшие теперь возможности вернуться в Москву к родителям или даже к женам и детям. Их столичная прописка была аннулирована.
Трифонов просто не знал, что ему делать с такими письмами. Передавать их в официальные инстанции он не считал возможным, боясь навредить своим корреспондентам. Не хотел, да и не мог он передавать эти письма иностранным корреспондентам в Москве, хотя об этом его просили некоторые из авторов писем. Но Трифонов также не имел возможности втягиваться в борьбу за решение проблем несправедливо обиженных людей, живших в Харькове или Благовещенске. Некоторые из таких писем он передавал мне с просьбой найти им какое-то применение. Только на очень немногие письма Трифонов отвечал сам.
В 70-е годы общая обстановка для всех видов творчества ухудшалась. Сложившаяся в этот период нравственная и политическая атмосфера способствовала выдвижению во всех сферах культуры не только угодливых и посредственных, но и откровенно агрессивных деятелей. В годы «застоя» книги Трифонова, песни Высоцкого, фильмы Шукшина, романы Окуджавы, спектакли Любимова и Товстоногова были очень важным фактором в жизни народа и интеллигенции, сохранившим преемственность и надежду. Все эти и многие другие люди продолжали работать внутри существующей в стране системы, но именно поэтому они могли оказывать влияние на очень многих людей: на рядовых учителей, инженеров, врачей, да и на чиновников.
Некоторые теоретики и деятели эмиграции относились к Юрию Трифонову крайне враждебно. Был даже изобретен термин – «промежуточная литература». При этом имелось в виду что есть русская эмигрантская литература, которая говорит обо всем только правду и во весь голос. Есть также официальная русская советская литература, которая говорит только то, что хочет слышать советская власть. А между ними находится и какая-то «промежуточная литература», которая большой ценности для народа и его культуры иметь не может. В действительности все обстояло гораздо сложнее. Очень часто эмигрантская литература говорила лишь то, что хотели слышать от нее влиятельные западные круги, оказывавшие русским и другим эмигрантским издательствам и журналам немалую финансовую помощь. К сожалению, мало кто из писателей, оказавшихся в эмиграции, сумел сохранить как личную, так и творческую независимость.
Юрий Трифонов был глубоко убежден, что честная книга, которую удается издать в самом СССР, гораздо полезнее для народа и для культуры страны, чем многие хорошие книги, которые издавались тогда только в эмиграции и которых в стране никто не знал. Я не всегда мог с ним согласиться, так как и для меня как историка, и для многих других людей выбора вообще не было. Я не собирался эмигрировать, но мог издавать свои работы только за границей. По-своему были правы и Владимир Высоцкий, который остался, и Александр Галич, который эмигрировал.
Популярность Ю. Трифонова за пределами СССР постепенно росла, и он стал получать много приглашений от разного рода общественных организаций и от издательств западного мира. Раньше он бывал только в социалистических странах Восточной Европы, теперь же смог побывать в Италии, США, ФРГ, Швеции. Он возвращался оттуда полный впечатлений, и эти впечатления и встречи стали темой для нескольких рассказов. Мы встречались с Трифоновым в эти годы много реже, но наши отношения не изменились. Много разговоров было в это время и о Солженицыне, и о Шолохове.
Трифонов был хорошо знаком с писателем Федором Шахмагоновым, который долгое время работал литературным секретарем Михаила Шолохова и жил в Вешенской на Дону. Репутация у Шахмагонова была не слишком хорошей, но Трифонов был с ним в приятельских отношениях еще в годы учебы в Литературном институте. Трифонов передал мне однажды рукописи Шахмагонова – роман о жизни М. Тухачевского и несколько рассказов из жизни бывших тюремщиков и надзирателей. Эти работы показались мне очень слабыми, они не давали никакого повода для встречи, о которой просил автор.
Согласно расхожему мнению, главной темой Трифонова была жизнь советского городского мещанства. Сам писатель соглашался, что в его «городских повестях» не только много неприятных подробностей быта, но и много неудачников, с одной стороны, и приспособленцев – с другой. Однако помимо текста здесь был и подтекст: ведь общество, о котором писал Трифонов, официально считалось обществом «развитого социализма», а Москва даже «образцовым коммунистическим городом». Юрий Трифонов писал главным образом об интеллигенции. Но он показывал не ее подъем, а духовную и нравственную опустошенность, утрату идеалов, погружение в мелочи жизни, дрязги. Автор ставил вопрос о причинах этого массового омещанивания интеллигенции и ответ искал в истории, в том числе и в противоречивой истории революционного движения в России. Рисуя малопривлекательные картины повседневной жизни горожан, Трифонов изображал время застоя, когда очень многие люди не могли реализовать свои таланты, когда их делала неудачниками общественная обстановка и атмосфера пассивности и лжи.
Романы и повести Ю. Трифонова не рассчитаны на легкое чтение. Сам писатель не раз говорил, что пишет не для массового читателя, а для читателя умного. У Трифонова и в сюжете, и в тексте всегда много оттенков, намеков, граней и аллюзий. Надо было уметь читать между строк. Для иностранного читателя здесь было много непонятного, так как большая часть этих аллюзий оказывалась непереводимой. Когда в Германии название повести «Дом на набережной» переводили как «Дом на реке Москва», что-то важное пропадало.
Ю. Трифонов никогда не стремился к острой фабуле, внешней занимательности, он избегал элементов детектива. Как писатель он был популярен в Москве и Ленинграде, но не в провинции. Когда я привозил на Кавказские Минеральные воды книги Ю. Трифонова и дарил их местным врачам и служащим, этим подаркам здесь были не очень рады. Гораздо популярнее были романы Булата Окуджавы или сочинения Валентина Пикуля. Но Трифонова любили и читали в 70-е годы московские студенты. Его читали и ценили и в крупных городах Сибири. Сам Трифонов хорошо знал пределы своей популярности, и в немногих публичных интервью не просто говорил, но настаивал на том, что он ориентируется на читателя «искушенного», даже «талантливого».
Такой же установке он следовал и в публицистике. Иногда его аллюзии очень сложны, но часто до предела прозрачны. Образцом такого ясного для всех читателей подтекста можно считать его статью к 600-летию Куликовской битвы «Тризна через шесть веков». Трифонов писал:
«Жизнь при монголах непредставима. Все было, может быть, не так ужасно, как кажется. И все было, может быть, много ужасней, чем можно себе представить. Есть ученые, полагающие, что монгольское иго при всех его тяготах, поборах, невыносимостях имело некоторые положительные стороны: оно принесло на Русь своего рода порядок. “А все же при них был порядок!” – говорили какие-нибудь дьяки или откупщики в конце пятнадцатого века. Ну да, монголы устроили ямскую службу, чинили и охраняли дороги, ввели перепись населения на Руси, противились самочинным судам и всякого рода бунтам, но все это – для удобства угнетения. Еще приводят такое соображение: иго содействовало объединению русских земель, укреплению Москвы. Но это все равно что говорить: спасибо Гитлеру, если б не он, наша армия не стала бы в короткий срок такой мощной. Монгольское владычество, конечно, сплачивало народ и князей, страдавших от общей беды, но оно же развращало, выдвигало худших, губило лучших, воспитывало доносчиков, изменников. А каким унижениям, глумлениям, а то и пыткам подвергались русские князья, совершавшие многотрудные поездки в Орду чтобы выпросить ярлык или ханскую милость. И все это происходило не бесследно для того необъяснимого, что за неимением лучших слов называется душой народа. Карамзин писал: “Забыв гордость народную, мы выучились хитрым низостям рабства”» («Литературная газета», 3 сентября 1980 года).
Конечно, даже цензор, внимательно читавший «Литературную газету», понимал, что Трифонов ведет речь не только о временах монгольского ига. Но придраться к очерку Трифонова у него не было никаких оснований.
Один итальянский журнал опубликовал в конце 70-х годов большое интервью с Трифоновым, сопроводив его множеством интересных фотографий и заголовком: «Писатель при дворе Брежнева». Это было не только обидное, но и несправедливое определение. Трифонов никогда не был придворным писателем.
Но его были вынуждены терпеть: в 70-е годы он стал писателем, с которым нельзя не считаться.
В 1979–1980 годы Трифонов был полон планов. Он работал над повестью «Сосед» об Александре Твардовском. Он продолжал собирать материал об эволюции народничества. В центре его нового романа должны были стоять фигуры одного из самых авторитетных лидеров народников – Лопатина и провокатора и предателя Азефа. Трифонов начал работу над большим автобиографическим романом, который должен был охватить время от конца 30-х до конца 70-х годов. Только первые главы этого «неоконченного романа» опубликованы в начале 1987 года в журнале «Дружба народов». Критики писали об этой посмертной публикации как о лучшем произведении писателя.
Уже в конце 80-х повести Трифонова читали меньше, чем за десять лет до времен «перестройки». Перед литературой открылись такие возможности, которых раньше не было. Аллюзии могли только помешать чтению.
В последний раз я навестил Трифонова в Пахре в 1981 году, всего за две-три недели до его смерти. Мы долго беседовали о разных делах. Он знал, что болен и что скоро должен лечь на операцию. «Что-то не в порядке с почками». От него скрывали всю серьезность положения: у него был рак почки, но врачи считали, что положение не безнадежно, что операция может спасти больного. Юрий Валентинович не хотел говорить о болезнях, он интересовался новостями, говорил о скорой публикации своего нового романа «Время и место». Он огорчился, когда я сказал, что под таким же почти названием в эмиграции появилась книга ленинградского писателя Михаила Хейфеца – она имела название «Место и время». «Я долго продумывал это название», – сказал Трифонов.
Операция была проведена одним из лучших хирургов-урологов страны, который удалил больную почку вместе с опухолью. Возникла надежда, что все обойдется. Трифонов чувствовал себя после операции хорошо и был спокоен. В свое последнее утро он лежал в больничной палате и читал спортивную газету. Неожиданно он стал задыхаться и потерял сознание. Его не успели довезти до отделения реанимации. Он умер от послеоперационного тромба, прошедшего по кровотоку и закупорившего часть легкого. Писателю было пятьдесят шесть лет.
У меня нет желания писать о его похоронах, официальных похоронах, организованных Союзом писателей по «второму разряду». Извещение о смерти и месте прощания и похорон было опубликовано в печати с намеренным запозданием, и только малая часть любивших его читателей смогла пройти в Центральном доме литераторов мимо гроба с телом покойного. На гражданской панихиде только Анатолий Рыбаков сумел произнести искреннюю и взволнованную речь, сказав хотя бы часть того, что можно и нужно было бы сказать о Юрии Трифонове как о писателе и человеке.
Рой Медведев Встречи и беседы с Александром Твардовским
Трудно переоценить значение А. Т. Твардовского как поэта и как редактора и его влияние на литературную и общественную жизнь нашей страны, особенно в 50—60-е годы. Когда я думаю об этом, сравнение с Некрасовым и его журналами приходит на ум само собой. И ведь тоже 60-е годы, но XIX века… Многие миллионы людей испытали на себе влияние стихов и поэм Твардовского. Огромным было влияние на людей моего поколения журнала «Новый мир». Но мне выпало редкое счастье личного общения с Твардовским: на протяжении пяти лет мы встречались и беседовали довольно часто, и между нами установились если не дружеские, то вполне доверительные отношения.
Конечно, как читатель я давно знал Твардовского и относился к нему с очень большим уважением. В 40-е годы я читал много, но из поэзии в круг моего чтения входила только русская классика. Из советских поэтов я знал только Маяковского, любовь к которому привил нам с братом еще отец. Отрывки из «Василия Теркина» я услышал впервые с эстрады на концерте в Свердловске, и это были первые стихи за много лет, которые затронули мое сознание и сердце. Вскоре я приобрел «Книгу про бойца», сразу прочел ее и потом много раз с волнением перечитывал. До сих пор я считаю эту книгу не только лучшей о войне, но и лучшей в русской поэзии ХХ века. Эта книга стала частью того, что мы называем великой русской культурой.
Помню, как внимательно читал опубликованную в «Правде» главу из новой поэмы Твардовского «За далью даль». В этой главе «Так это было» говорилось о репрессиях 30-х годов не во весь голос, а скорее намеками. Но все это было еще до XXII съезда КПСС и воспринималось нами как важное литературное и политическое событие. В 60-е годы я покупал и читал «Новый мир» почти всегда от первой и до последней страницы. Общественная, политическая и нравственная платформа журнала и его редакции, которую возглавлял А. Т. Твардовский, была мне наиболее близка и понятна. Но мне нравилось качество всех журнальных публикаций. И проза, и публицистика, и поэзия, и литературная критика, и научно-популярные очерки – все это было в «Новом мире» как по литературному, так и по интеллектуальному уровню выше, чем в других журналах.
Начав осенью 1962 года работу над книгой о Сталине и сталинизме, хорошо понимая, что эта работа потребует многих лет и большого труда, я сознавал, что само существование «Нового мира» является для меня важным стимулом и поддержкой, – это сознание, конечно же, очень укрепилось после публикации в журнале «Одного дня Ивана Денисовича». Новые публикации Солженицына, полемика вокруг них, особенно статья Владимира Лакшина «Иван Денисович, его друзья и недруги» – все это было тогда источником многих переживаний, размышлений и бесед. Моя работа не была подпольной, и она шла как бы кругами: закончив второй или третий вариант рукописи, я тут же начинал писать четвертый, а через полгода – пятый, используя новые источники или критику. Первыми читателями моей работы были молодые историки Виктор Данилов, Михаил Гефтер, Норайр Тер-Акопян, Яков Драбкин. Немного позже я познакомился также через обсуждение своей рукописи и с известными писателями: К. Симоновым, В. Дудинцевым, А. Беком, Е. Гинзбург, В. Аксеновым, В. Тендряковым, В. Шаламовым, В. Кавериным, А. Солженицыным. Многие из них были авторами «Нового мира», и, как теперь понимаю, рано или поздно судьба должна была свести меня и с Твардовским. Сам я никогда и ни с кем из известных людей не встречался по своей инициативе.
В прямом контакте с редакцией «Нового мира» оказался еще в середине 1965 года мой брат Жорес. Редакция журнала начала в это время готовить к публикации книгу Жореса «Биологическая наука и культ личности». Это был сокращенный журнальный вариант. При подготовке к публикации, которую, к сожалению, так и не удалось осуществить, Жорес познакомился с некоторыми из ведущих членов редколлегии журнала. Они слышали о существовании моей работы и попросили Жореса дать им ее для чтения. Я не слишком быстро откликнулся на эту просьбу, так как работал над очередным ее вариантом. К тому же я предпочитал иметь прямые контакты с читателями своего «манускрипта», чтобы не допустить его бесконтрольного распространения, а также записать какие-то замечания, пожелания и дополнительные свидетельства. Рукопись была передана в редакцию «Нового мира» лишь к осени 1966 года, и, как я узнал позже, ее читали здесь по очереди все члены редколлегии.
В 1960-е годы я работал в одном из институтов Академии педагогических наук, возглавляя здесь сектор трудового воспитания школьников. Я любил школу, школьное дело, и педагогика трудового обучения и воспитания была моим главным занятием. В этой области я приобрел уже некоторую известность, защитил диссертацию, опубликовал две книги и много статей. Но все больше и больше времени я отдавал работе по советской истории, главным образом по истории сталинизма и «культа личности».
Однажды поздней осенью 1966 года меня позвали к телефону в приемную директора института. «Рой Александрович, – услышал я негромкий, но густой и глубокий голос, – с вами говорит Твардовский. Я прочитал вашу работу и хотел бы повидаться с вами. Когда бы вы могли побывать у нас в редакции?» Я ответил, что если это возможно, то для меня было бы лучше всего приехать в редакцию в тот же день – часов в пять после полудня. Моим правилом было никогда не откладывать важные для меня встречи. «Хорошо, – сказал, немного помолчав, Твардовский, – приезжайте. Мы будем ждать вас».
У меня было три часа на подготовку к этой встрече, и я попросил своего друга из сектора методики физики Василия Разумовского сопровождать меня. Мы вместе уже бывали у Константина Симонова и еще у одного из известных людей. Высокий, сильный, красивый и умный Василий Разумовский придавал мне уверенности в себе. Василий Григорьевич к тому же был главным редактором журнала, хотя это и был журнал «Физика в школе».
Мы приехали в редакцию «Нового мира», расположенную недалеко от Пушкинской площади. Нас сразу же провели на второй этаж в просторный кабинет Твардовского, и он тепло приветствовал меня и моего друга, поднявшись из-за письменного стола. Мы не успели обменяться и несколькими фразами, как в кабинет стали приходить и другие члены редколлегии: Владимир Лакшин, Алексей Кондратович, Александр Дементьев, Игорь Сац, Ефим Дорош, Александр Марьямов. Лишь позднее я узнал, что в редакции «Нового мира» был обычай – на первой встрече с автором интересной рукописи присутствовали почти все члены редакционной коллегии.
Разговор вел сам Твардовский, но по отдельным замечаниям его коллег было видно, что они все прочли мою работу. Я хорошо запомнил все, что говорил Твардовский, но это был разговор обо мне и моей рукописи, и я не вижу необходимости воспроизводить здесь беседу, которая продолжалась не менее двух часов. Моя книга понравилась Твардовскому не только благодаря строгой последовательности изложения и обилию заслуживающих доверия фактов, изложенных в ясной системе, но и благодаря ее спокойному тону и убедительной аргументации. Я рассматривал сталинизм не как порождение, а как извращение социализма, и Твардовский полностью разделял в этом и мою интерпретацию событий сталинских лет, и мои выводы. Я гордился тем, что сумел записать сотни устных свидетельств старых большевиков и других людей, помнивших и переживших события 20–30-х годов. Я использовал множество писем и мемуаров, которые мало кому были известны. Твардовский отметил это.
Но больше всего он был удивлен обилием ссылок на уже опубликованные в 1961–1966 годах книги и статьи, в том числе и на материалы из республиканских и областных газет. «Я и не подозревал, что так много обо всем этом уже напечатано», – сказал Твардовский. Он с удовлетворением отметил, что я не пропустил ничего важного из публикаций «Нового мира». Твардовский согласился с моим замечанием по поводу позиции Ильи Эренбурга («Пострадали люди, а не идея социализма»).
Он согласился и с моими замечаниями в адрес генерала армии А. Горбатова, мемуары которого также были опубликованы в «Новом мире». А. Горбатов был арестован в 1937 году, был подвергнут тяжелым пыткам и затем провел два года в лагерях. Перед самой войной он был реабилитирован и вернулся в армию, потом прошел всю войну. В своих мемуарах он с крайней неприязнью и осуждением отзывался о тех военных и гражданских работниках (а их было большинство), которые, не выдержав многодневных пыток, подписали фальшивые протоколы допросов, признав таким образом свою мнимую вину перед страной и народом. «Эти люди, – писал Горбатов, – заслужили своим малодушием свое наказание». Я оспаривал такое несправедливое и жестокое суждение. Твардовский сожалел, что оно попало на страницы его журнала, что он как-то не подумал об ошибочности такой оценки и такого отношения к жертвам сталинского террора. В машинописном тексте моей рукописи не хватало двух последних глав книги, и я обещал их привезти через семь-десять дней; моя машинистка заканчивала их перепечатку. «Никому не отдавайте, – сказал Твардовский. – Приносите их сразу мне».
Вскоре я выполнил это обещание, захватив заодно и две имевшиеся в моей библиотеке книги самого Твардовского – для автографа. На выразительном лице Твардовского промелькнула тень неудовольствия, – это была слишком заурядная просьба. Но он сразу же заметил и мое смущение. Возвращая мне книги с подписями: «В память о приятном для меня знакомстве» и «С пожеланием доброго пути его книге», он заметил: «Все это старые издания. Скоро выходят новые, и я вам их подарю». Сделав эти короткие надписи, Твардовский поставил дату – 14 декабря 1966 года.
Наша вторая беседа была не столь продолжительна, сколь первая. Твардовского поражали в моей работе два обстоятельства – что эта работа от начала до конца проводилась одним человеком без каких-либо согласований и поручений и что автор работы является членом КПСС, даже парторгом своего института, что он не пытается ниспровергать социалистическую идеологию, не отрицает великих достижений КПСС и СССР, что он остается оптимистом и ведет работу вполне открыто, без какой-либо конспирации. То, что Твардовский говорил мне в декабре 1966 года, он записал и в своих «Рабочих тетрадях». Я прочел эти записи в журнале «Знамя» через двадцать пять с половиной лет.
Первая большая запись сделана в Пахре 30 ноября 1966 года: «С утра стал переписывать (стихи), чтоб отвлечься каким-нибудь делом и не сразу пытаться записать все, что на душе от чтения двух папок Р. Медведева, – читать закончил во втором часу ночи за столом». Вторая – на две страницы – запись – о «густоте впечатления о работе Р. Медведева» – сделана 1 декабря 1966 года.
4 декабря Твардовский сделал еще одну запись: «Последние дни – главное, переполняющее душу впечатление и содержание мыслей и представлений, воспоминаний – все в связи с тремя папками Р. Медведева. Какой поистине подвижнический, огромный, дерзкий и благородный труд предпринял один человек, чтобы собрать все, что доступно, и выстроить в цельном, убедительном и глубоко партийном изложении историю сталинской эпохи. Как нужна эта книга, как непостижимо после нее и без того непостижимое и удручающее стремление верхов спрятать голову в песок от этой темы, – от нее не спрятаться… Голова ломится, сердце замирает, и просто жутко от этого всего, что наплывает, связывается, обступает и не дает жить вне этого. – Какова еще будет судьба книги и автора? Что-то нужно делать».
Еще одна запись сделана 5 декабря. 14 декабря вечером Твардовский записал по памяти: «Рой Медведев с товарищем. Прекрасное впечатление от этих людей. Вечером и утром читал предпоследнюю папку».
Последнюю главу моей книги Твардовский прочел в первые дни января 1967 года, о чем свидетельствует запись от 4 января: «Чтение окончания книги Роя – лучшей, пожалуй, ее части – как-то все еще осветило и уточнило для меня все, что и без того знал как будто и делал кое-что в достойном духе. Мне страшно за него и за наверняка безгласную судьбу этой книги, которая так была бы нужна в “юбилейном” году и значение которой для оздоровления всей нашей “юбилейной” атмосферы невозможно переоценить».
Обычно я забирал свои рукописи у читателей. Но у Твардовского я своих папок решил не забирать, он сказал, что ему надо иногда в них заглядывать. Они хранились и хранятся до сих пор в большой библиотеке Александра Трифоновича в трех переплетенных томах. Я делал тогда всего семь-восемь копий. На «постоянном» хранении они оставались еще у А. Д. Сахарова и у моего брата Жореса. Фотокопии всех своих главных работ и материалов из своего архива я передавал для хранения друзьям из числа бывших зэка – Георгию Меньшикову, который занимал важный пост в одном из министерств, и пенсионерке Доре Зориной. В 1969 году я отправил одну фотокопию друзьям Жореса в США. Книга не осталась безгласной, но до 1989 года издавалась только за границей.
Прощаясь со мной 14 декабря 1966 года, Твардовский просил приезжать в редакцию всегда, когда мне это будет нужно или когда у меня просто возникнет желание встретиться. В первые месяцы 1967 года я несколько раз приходил в редакцию «Нового мира», и темой наших бесед в кабинете Твардовского были, естественно, личность Сталина, природа сталинизма и те настойчивые попытки реабилитации Сталина, которые предпринимались тогда в партийной пропаганде и в литературе.
С радушием относились ко мне и другие члены редакционной коллегии; кто-нибудь из них всегда присутствовал при моих беседах с Твардовским. Иногда мы пили чай и закусывали вместе в небольшом редакционном буфете. Я приезжал обычно не с пустыми руками, а с какой-либо интересной новинкой Самиздата или с редкой книгой из литературной жизни 20–30-х годов, например, с большим стенографическим отчетом Первого съезда советских писателей в 1934 году Такие книги уничтожались в 1937–1938 годах, но что-то сохранилось, и я получал немало их от старых большевиков, вернувшихся из лагерей или ссылки.
А. Твардовский находился в редакции не всегда, а я в то время предпочитал не пользоваться телефоном и не договариваться о своих визитах заблаговременно. В этом случае я беседовал с Алексеем Кондратовичем, но еще чаще с Владимиром Лакшиным, в кабинет которого заходил нередко и Игорь Сац, человек с поразительной эрудицией. Все же приходить в редакцию даже по делу, а тем более для простой беседы о каком-то событии мне казалось неудобным, так как Твардовский и его сотрудники и помощники были всегда чем-то заняты, даже перегружены работой. Постепенно я почти перестал бывать в этой гостеприимной редакции. В последний раз, как я помню, мы обсуждали у Твардовского побег Светланы Аллилуевой из Советского Союза. Это событие, случившееся в марте 1967 года, всех тогда очень взволновало. «Для поклонников Сталина, – заметил Твардовский, – это будет сильным разочарованием».
Александр Трифонович заметил, что я перестал приходить в редакцию. Мне передали предложение – посетить его на даче или, вернее, в загородном доме в Пахре.
В июне 1967 года я в первый раз побывал в гостях у Твардовского в Пахре и с тех пор стал приезжать сюда почти каждый месяц. У Твардовского имелась большая квартира в Москве – в высотном доме на Котельнической набережной. Но он редко оставался ночевать в этой городской квартире и почти весь год – летом и зимой – жил в красивом двухэтажном загородном доме из красного кирпича. Здесь было просторно – вокруг живописное Подмосковье, большой настоящий лес, колхозные поля, свой небольшой огород, деревья, кусты роз.
В отличие от Переделкино, дома у писателей здесь были не государственные, а собственные, их надо было или покупать, или строить. Когда писательский кооператив только создавался, участки для дач нарезались большие – не меньше гектара. Ходила легенда, что этот размер определил сам Сталин, когда подписывал после войны постановление о строительстве нового дачного поселка для писателей. «Писатель должен ходить и думать, ходить и думать, – сказал якобы Сталин. – Дадим каждому писателю гектар». Однако позднее участки помельчали, так как приходилось строить все новые и новые дома. Большие лесные участки сохранились у немногих писателей. Участок при доме Твардовского был, вероятно, в треть или четверть гектара, но и такой участок создавал ощущение простора.
А. Твардовский познакомил меня со своей женой Марией Илларионовной и с дочерью Олей, которая только что кончила школу и училась на первом курсе института – она избрала для себя профессию театрального художника. Позднее я познакомился и со старшей дочерью Александра Трифоновича Валентиной, которая была профессиональным историком, кандидатом, а потом и доктором наук, автором многих статей и книг по истории революционного движения и революционной мысли в России в конце XIX века. Валентина Твардовская жила на прежней даче Твардовского во Внукове и не слишком часто приезжала в Пахру. У нее была семья, двое детей и немало собственных забот. Оля жила по большей части в Москве, но почти каждую субботу и воскресенье проводила у родителей. Когда она года через два вышла замуж, то приезжала с мужем Володей, также театральным художником. Их маленький сын Алеша стал любимым внуком Твардовского.
Обычно я приезжал в Пахру в воскресенье после полудня. Мы беседовали с Твардовским или в гостиной, или в небольшом кабинете на первом этаже. Большой кабинет и основная часть библиотеки находились на втором этаже, но Твардовский редко приглашал туда гостей. Потом беседа продолжалась за обеденным столом, где собирались все члены семьи Александра Трифоновича, которые в этот день находились в доме. Дом и хозяйство вела Мария Илларионовна, здесь не было домработниц, экономок, стенографистки, шофера, как, например, в доме Константина Симонова, который также жил в Пахре. Мария Илларионовна активно участвовала в обсуждении всех дел, и было видно, что она в курсе тех политических и литературных событий, которые тогда волновали всех нас. Гостей в воскресенье обычно не было, лишь иногда заходил кто-либо из соседей или гостящих в Пахре литераторов. Деловые встречи откладывались на другие дни недели, а воскресенье Твардовский проводил в кругу семьи, и, как я понял только позже, для меня делалось исключение.
После обеда я навещал других писателей из числа своих знакомых, а вечером заходил проститься с Твардовским. Если была хорошая погода и не было к тому же попутной машины, Твардовский провожал меня часть пути до шоссе, где ходили автобусы. Иногда я приезжал в Пахру на два дня – с утра в субботу и до позднего вечера в воскресенье. Ночевал обычно в доме Юрия Трифонова или в гостеприимной семье переводчика и критика Владимира Россельса.
В летние месяцы Твардовский приглашал меня просто прогуляться по лесу, он любил эти неторопливые лесные прогулки, да и разговоры в лесу проходили как-то свободнее и откровеннее. Еще на одной из первых таких прогулок Твардовский спросил – верю ли я в прослушивание домашних разговоров или бесед в редакции? Я ответил, что технически это не слишком сложное дело, и я думаю, что как кабинет Твардовского, так и его телефоны, несомненно, подключены к какой-то системе прослушивания. Однако это делается не для того, чтобы слушать все без исключения разговоры, но чтобы иметь возможность слушать и записывать некоторые из них. «Одна мысль, что кто-то слушает мои разговоры, мне противна, – сказал Твардовский. – Я не боюсь говорить все, что думаю. Но я не хочу, чтобы меня еще кто-либо слушал, кроме собеседника».
Как и раньше, я привозил в Пахру какие-либо материалы, которые, как я уже знал, могли вызвать интерес у Твардовского. Одним из первых подобного рода материалов была большая книга воспоминаний бывшего чекиста и крупного работника органов НКВД в Закавказье Сурена Газаряна «Это не должно повториться». Газарян сам был арестован в 1937 году подвергнут пыткам, прошел через много тюрем. Около шести лет он содержался не в лагере, а в одиночной камере, видимо, потому, что слишком много знал. Его освободили по окончании десятилетнего срока, и он тихо жил и работал в провинции. Свою книгу С. Газарян начал писать вскоре после ХХ съезда, но об этом мало кто знал. Я познакомился с Газаряном и его семьей в самом начале 60-х годов, и его рукопись была первой в той серии «тюремно-лагерных» воспоминаний, которых позднее ко мне попадало очень много.
А. Твардовский не только прочел книгу Газаряна, но и счел своим долгом написать большое и теплое письмо автору, которое очень обрадовало последнего и которое он бережно хранил до конца жизни. «Должен сказать, – писал Твардовский, – что я перечитал немало мемуаров, посвященных тому ужасному периоду в жизни нашего общества, который мы обозначаем как “тридцать седьмой год”, но я затрудняюсь сравнить с Вашими записками что-нибудь из прочитанного ранее… Мне незачем, думается, объяснять Вам, что об опубликовании Ваших записок сегодня не может быть и речи. Но я ни на минуту не сомневаюсь, что они, подобно некоторым другим работам, непременно увидят свет и послужат делу коммунизма, т. е. воспитанию людей, особенно молодых, в человеческом смысле. Они, эти записки, несмотря на все тягостное и порой ужасающее, что в них содержится, не приводят к отчаянию, не угнетают безнадежностью, но, наоборот, вооружают силой духа, волей, облагораживают».
Сурен Газарян умер в 1982 году в возрасте восьмидесяти трех лет. Через несколько месяцев, в мае 1983 года, его прах был перевезен в Ереван и захоронен в Пантеоне Армении. Книга С. Газаряна опубликована в Ереване сначала в 1988 году в четырех номерах журнала «Литературная Армения», а позже, в 1990 году, отдельным изданием, тиражом в тридцать тысяч экземпляров. И в том, и в другом случае в предисловии от редакции и издательства приводились не только главные факты из биографии автора, но и полный текст большого письма Сурену Газаряну от А. Т. Твардовского.
В 1967 году я начал работать над новой книгой под условным названием «Социализм и демократия». Следуя своему методу, я написал сначала на 75–80 страницах «Заметки о социалистической демократии», чтобы начать их обсуждение с друзьями и единомышленниками. Одними из первых читателей этих заметок стали Твардовский и Лакшин. Твардовскому была особенно интересна моя классификация различного рода неофициальных и неоформившихся течений как среди диссидентов, так и в самой КПСС. К течению «партийно-демократическому» я отнес условно «Новый мир», партийную организацию Института истории АН СССР, отдельных деятелей интеллигенции, публично обозначивших свою позицию. Именно это течение общественной мысли было мне наиболее близко, и я не скрывал этого.
Осенью 1967 года после одной из наших бесед, когда я сказал, что останусь ночевать в Пахре в доме В. Россельса, Александр Трифонович неожиданно достал из ящика стола и передал мне страниц пятнадцать машинописного текста со стихами. «Я написал дополнительную главу к поэме “За далью даль”, – заметил Твардовский. – Прочтите эти стихи вечером. А утром вернете. Может быть, у вас будут какие-либо замечания».
Перед сном, оставшись один, я прочитал стихи Твардовского, потом перечитал их еще несколько раз. Они меня взволновали. Я знал тогда только официальную и весьма краткую биографию их автора. Мне в то время ничего не было известно о трагической судьбе большой семьи Твардовского, его родителей, братьев, сестер, не ведал я и всего того, что сам А. Твардовский пережил в 30-е годы. Теперь я узнавал часть этого из его новой поэмы. Конечно, я не удержался, чтобы не переписать эти стихи. Но я не делал копий и показывал их позже только самым близким из друзей. Стихи Твардовского клеймили преступления Сталина, в них были слова о лагерях «под небом Магадана», о лицемерии вождя, о выселении целых народов, о поощрении лжесвидетельств и клеветы.
Было видно, что работа над этой главой начата не сейчас и еще не завершена. Какие-то строчки или слова были поставлены на время. Но это был уже не черновик, а близкий к завершению вариант текста. Я испытывал удовлетворение от того, что Твардовский в нем прямо и точно определил свою позицию, сказал обо всем недвусмысленно и сильно. Лично для меня наиболее волнующей частью поэмы были те несколько строк об отце, которые Твардовский написал, вспоминая «лишь руки, какие были у отца»:
В узлах из жил и сухожилий,
В мослах поскрюченных перстов,
Те, что со вздохом, как чужие,
Садясь к столу, он клал на стол.
И точно граблями, бывало,
Цепляя ложки черенок,
Одной рукой, как подобало,
Он ухватить не сразу мог.
Те руки, что своею волей
Не разогнуть, ни сжать в кулак.
Отдельных не было мозолей,
Сплошная – подлинно КУЛАК.
Мой отец погиб на Колыме позже, да он и не был крестьянином, но я всегда вспоминал и его, читая эти строки. Не слишком хорошо помню, что я сказал Твардовскому, когда возвращал ему стихи. Расспрашивать о семейной трагедии я не стал, некоторые из ее подробностей я узнал позже от В. Я. Лакшина. Как поэту я не мог сказать Твардовскому ничего, да и не из-за каких-либо отдельных слов давал он мне читать свои стихи, он просто показывал, что мы в этой позиции единомышленники. У меня в голове вертелось только одно замечание или пожелание: надо было бы более четко осудить не только «перегибы» при раскулачивании, но и всю эту жестокую карательную кампанию. Но я не решился высказывать на этот счет свои замечания.
Твардовский нередко расспрашивал меня о наиболее известных тогда деятелях диссидентского движения, которое становилось предметом повышенного внимания и в кругах интеллигенции, и за границей. К главному редактору «Нового мира» часто обращались с просьбой подписать ту или иную петицию или коллективное «открытое письмо». Он всегда от этого отказывался. Коллективных писем он не любил. «Я не хочу прятаться за чужие подписи», – говорил он. Ему не нравилась и резкость выражений, присущая большинству подобного рода документов.
Твардовский искренне считал себя коммунистом и не относился формально ни к своему членству в партии, ни к тому, что именовалось «партийной дисциплиной». Но это вовсе не означало простое подчинение каким-то партийным чиновникам. Твардовский хорошо знал цену себе и тем людям, которые возглавляли Союз писателей или аппарат отдела культуры в ЦК КПСС. Он смотрел на свою работу редактора «Нового мира» не как на оппозиционную деятельность, а как на важнейшую часть работы по развитию новой советской литературы и культуры страны в целом. Его положение было очень сложным; он не хотел и не мог быть простым исполнителем партийных директив, он опасался повредить своему детищу – «Новому миру».
Журнал двигался вперед как большой корабль, по определенному направлению, раздвигая торосы и избегая надводных и подводных рифов. Критика, а то и самая грубая ругань в адрес «Нового мира» в 1967 году возросла, и Твардовский уже несколько раз обсуждал с друзьями вопрос о своей возможной отставке или даже о смещении с поста. Надо было не только сохранять, но и расширять завоеванные плацдармы, но не зарываться и сохранять разумную осторожность. В такой обстановке Твардовский считал, и не без оснований, что и он, и его журнал смогут лучше выполнить свою общественную и литературную миссию, если не будут напрямую вмешиваться в разного рода политические и диссидентские акции, многие из которых были Твардовскому не только непонятны, но и откровенно чужды.
Для Твардовского важны были порой и чисто эмоциональные мотивы. Ему была неприятна развязность Петра Якира, который раза три наведывался в кабинет главного редактора с разными предложениями. Не получился у Твардовского и разговор с бывшим генералом Петром Григоренко, который приходил в редакцию с просьбой подписать коллективное письмо в защиту А. Гинзбурга и А. Галанскова – те в конце 1967 года должны были предстать перед судом. Твардовский отказался подписать это письмо хотя бы потому, что он не знал ни Гинзбурга, ни Галанскова, ни самого Григоренко. Тот был возмущен. «Трусливые люди всегда были на Руси и всегда, наверное, останутся», – сказал бывший генерал и ушел. Позднее он очень сожалел об этой размолвке с Твардовским и винил в ней себя. «Как ужасающе я был неправ, как бестолково и трагически мы разошлись», – писал Григоренко в 1975 году в письме к А. Солженицыну («Общая газета», 19–25 января 1995 г.).
Кого готов был Твардовский в 1966–1967 годах всячески защищать от разного рода репрессий и грубой критики – это А. Солженицына.
Почти в каждой из наших бесед с Твардовским возникала тема, связанная с судьбой Александра Солженицына. Лучшая пора отношений Твардовского и Солженицына к этому времени уже осталась позади. «Новый мир» еще в 1966 году готов был публиковать роман Солженицына «Раковый корпус», который был только что завершен и отправлен на публичное обсуждение в секцию прозы Союза писателей СССР в форме журнальной верстки. Я также читал этот роман еще до знакомства с Твардовским и был о нем очень высокого мнения. В Самиздате распространялась и подробная стенограмма писательского обсуждения «Ракового корпуса». Однако решительные возражения против публикации новой повести Солженицына возникали у влиятельных членов Правления и Секретариата самого Союза писателей, в том числе у Константина Федина, который был не только формальным главой ССП, но и членом редакционной коллегии «Нового мира».
А. Твардовский переживал эти конфликты гораздо сильнее, чем сам Солженицын. Отношение Твардовского к Солженицыну имело особый характер: это была очень сложная смесь уважения, любви, интереса, признания, обиды, непонимания, неприятия, а временами даже острой неприязни. Твардовский продолжал считать Солженицына великим писателем, самой крупной фигурой в современной русской и советской прозе и гордился тем, что «открыл» его для литературы. Позднее Солженицын пытался доказать и себе, и другим, что он, в сущности, ничем не обязан Твардовскому, что тот даже затягивал без нужды публикацию «Одного дня Ивана Денисовича», что он, Солженицын мог бы двигаться вперед и вверх более стремительно без «туповатой» опеки Твардовского и т. п. Или, напротив, Солженицын говорил и писал, что он ждал долго своего «взлета», мог бы еще подождать не один год.
Это, конечно, не так. Без поддержки Твардовского, без публикаций в «Новом мире» Солженицын занял бы в нашей литературе место среди тех писателей, главные книги которых издавались в 1960–1970-е годы только за границей и не оказывали почти никакого влияния на сознание советских людей. Даже по чисто литературным критериям имя Солженицына шло бы в этом случае после имен Василия Гроссмана («Жизнь и судьба»), Евгении Гинзбург («Крутой маршрут»), Варлама Шаламова («Колымские рассказы»), но где-то впереди таких писателей лагерной темы, как Анатолий Жигулин, Лев Разгон и др. Если бы не был опубликован в конце 1962 года «Один день Ивана Денисовича», то не было бы потом и «Архипелага», материал к которому писатель получил из тысяч писем и свидетельств, пришедших к нему из редакции журнала. Без той славы, которую дал Солженицыну «Новый мир», не было бы у него и той необычной судьбы, которая сама по себе составляет один из ярких эпизодов в истории литературы.
Был возможен и другой путь. Как сложилась бы судьба писателя, если бы он получил в 1963 году Ленинскую премию по литературе, к чему стремился тогда и Твардовский, и сам Солженицын? В этом варианте был бы опубликован в 1965–1966 годах и «Раковый корпус», а позднее и «облегченный» вариант романа «В круге первом». Стал ли бы в таком случае Солженицын писать свой «Архипелаг» и начинать «громоподобный» бой с советской властью? Но все сложилось иначе, и в 1967 году движение происходило уже в ином направлении, а в обществе не было сил, способных что-то серьезно изменить на этом пути в тупик.
А. Твардовский в целом отнесся одобрительно к знаменитому письму А. Солженицына IV съезду советских писателей в мае 1967 года с протестом против цензуры и политических преследований советских писателей, но он был явно обижен тем, что столь важный шаг Солженицын предпринял без какого-то его совета. Почти весь май Твардовский не приезжал в Москву и появился на съезде писателей только в предпоследний день. В этот день только в одном из выступлений – Веры Кетлинской – прозвучало имя Солженицына, вызвав аплодисменты зала. Но в президиуме съезда аплодировал только А. Т. Твардовский, и это было всеми замечено.
В обсуждениях на Секретариате СПП и в ЦК КПСС по поводу «диверсии» Солженицына Твардовский неизменно говорил о том, что единственным разумным ответом на письмо Солженицына была бы немедленная публикация «Ракового корпуса». «Или посадите как Солженицына, так и меня как его крестного отца», – добавлял Александр Трифонович. На некоторые из этих обсуждений приглашали и Солженицына, который выступал и защищался весьма умело и смело. Твардовскому порой казалось, что дни «Нового мира» сочтены или, напротив, что дело можно поправить. Это был «юбилейный год» – все готовились торжественно отметить 50-летие Октября, никто не хотел углублять уже обозначившихся в самых разных сферах советской жизни конфликтных ситуаций. «Дело Солженицына» отошло осенью 1967 года на второй или третий план, но и награждение А. Твардовского орденом Ленина в связи с юбилеем Октябрьской революции прошло почти незамеченным.
В самом начале 1968 года в Самиздате начали распространяться два больших письма Константину Федину: одно от Твардовского, другое от Вениамина Каверина. В обоих письмах речь шла прежде всего о судьбе Солженицына. Но изменить что-либо в литературной и общественной жизни было уже нельзя: консервативный поворот здесь становился все заметнее. Уже весной 1968 года началась публикация на Западе отдельных глав «Ракового корпуса» – в том числе в переводах на английский и французский языки. Соответственно, началась и кампания против Солженицына в советской печати, которая со временем только усиливалась. Твардовский отмалчивался, и в наших беседах в 1968 году тема Солженицына хотя и не исчезла, но звучала все реже и реже.
В это время я в каждый свой визит в Пахру привозил сюда немало новых материалов Самиздата. Твардовскому я давал читать и отдельные выпуски своего журнала «Политический дневник». Особое внимание Твардовского привлекло большое обсуждение в Институте марксизма-ленинизма книги историка Александра Некрича «Июнь 1941-го». Твардовский просил оставить ему большое – на пятьдесят-шестьдесят страниц – письмо генерала Григоренко в защиту А. Некрича. Это письмо производило гораздо большее впечатление на читающую публику, чем книга самого Некрича, оно было написано не историком, а прошедшим войну боевым офицером, профессиональным военным. Интересным для Твардовского было и письмо Михаила Якубовича Генеральному прокурору СССР о том, как готовился в 1931 году судебный процесс по делу «Союзного бюро меньшевиков».
В июне 1968 года я приехал в Пахру с текстом большой статьи, или «меморандума», академика А. Д. Сахарова «Размышления о мире, прогрессе и интеллектуальной свободе». Сахаров не только разрешил, но и просил меня показать «меморандум» как можно большему числу представителей интеллигенции. Я помню, что известный кинорежиссер Михаил Ильич Ромм, живший недалеко от Твардовского, отнесся к этому документу с большим воодушевлением и говорил, что у него после чтения статьи Сахарова впервые за много дней появилось хорошее настроение. Но Александр Трифонович, как мне показалось, прочел эту статью без большого интереса. Только много позднее из «Рабочих тетрадей» А. Твардовского я узнал, что он дважды ее законспектировал. Александр Трифонович много расспрашивал меня о личности Сахарова, с которым я был знаком уже больше года и часто встречался. Каков его образ жизни, круг чтения? Твардовского очень удивлял сам факт сохранения в тайне имен наиболее выдающихся советских ученых. «Они (американцы), наверное, знают все это лучше нас… У нас писали “Главный конструктор”, “Главный теоретик”, и только после смерти мы узнали, что “Главный конструктор” – это Сергей Павлович Королев. Кому это нужно? Я был однажды на заседании Верховного Совета, и рядом со мной сел человек с тремя звездами Героя Социалистического Труда. Что за Герой? Почему я его не знаю? Даже Королев был, кажется, дважды героем». Я заметил, что это был, вероятно, академик Юлий Харитон, который также участвовал в создании советской атомной или водородной бомбы. По моим сведениям, только два человека имели в то время звание трижды Героев Социалистического Труда: Сахаров и Харитон, но Сахаров никогда не избирался в Верховный Совет.
Я не был писателем или автором «Нового мира», и мы редко говорили с Твардовским о чисто литературных делах или о цензурных затруднениях журнала. Гораздо больше – о делах политических, да и о самих политиках. Со Сталиным Твардовский никогда не встречался, если не считать чтения стихов на 70-летии вождя на торжественном заседании в Большом театре. С Хрущевым встречался несколько раз, но рассказывал о нем с некоторой сдержанностью. «Многие думали, – заметил как-то Твардовский, – что я запросто хожу к Хрущеву пить чай и могу звонить ему в любое время». О Брежневе Твардовский избегал говорить вообще. Из партийных деятелей Твардовский больше всего имел встреч с Петром Ниловичем Демичевым, который был в конце 60-х годов секретарем ЦК КПСС и кандидатом в члены Политбюро. Именно Демичев отвечал тогда за «партийное руководство» литературой.
Вопреки утверждениям Солженицына, Твардовский держался весьма независимо и уверенно и с самыми высокими партийными чиновниками. В аппарате ЦК КПСС помнили случай, когда на одном из совещаний – еще в конце 50-х или в начале 60-х годов – в ответ на бестактное замечание заведующего отделом культуры ЦК КПСС Д. А. Поликарпова Твардовский неожиданно закричал на него: «Кто вы такой? Меня в хрестоматиях печатают, а вы кто такой?» Поликарпов замолчал, так и оставшись стоять с отвисшей челюстью, а Твардовский ушел, хлопнув дверью.
В конце 1961 года на XXII съезде КПСС Твардовский был избран кандидатом в члены ЦК КПСС, это было в то время признаком высокого доверия партии. «Не учите меня писать стихи», – резко оборвал Твардовский главного редактора «Правды» Михаила Зимянина, когда тот начал объяснять поэту, какие слова и фразы следует заменить в стихотворении «Памяти Гагарина», – это стихотворение должно было появиться в газете в день похорон первого советского космонавта. Зимянин пытался настаивать, но Твардовский снова оборвал его: «Не говорите мне детские вещи. Не нравится – не затрудняйтесь и снимите стихи. Я старше вас возрастом, а в литературном деле и опытом. Вы меня вовсе не обидели, вы себя обидели». «Не утруждайте себя объяснениями», – перебил Твардовский члена Политбюро Михаила Суслова, когда тот хотел объяснить в телефонном разговоре причину проведенных «сверху» изменений в редакционной коллегии журнала.
Со слов Твардовского я узнал и об одном из его столкновений с Демичевым. В ЦК КПСС было назначено информационно-инструктивное совещание главных редакторов журналов и газет. Главный доклад делал секретарь ЦК П. Демичев. Среди прочего он стал говорить об «ошибках» журнала «Новый мир». Чтобы более наглядно проиллюстрировать свои замечания, Демичев открыл большой сейф и извлек оттуда несколько писем. «Я хочу зачитать здесь, – сказал Демичев, – что пишут Твардовскому и в редакцию журнала некоторые читатели». Неожиданно Твардовский поднялся и громко спросил: «Объясните, пожалуйста, вначале, товарищ Демичев, каким образом письма, адресованные мне, оказались в вашем сейфе?» – «Это не имеет значения, – ответил Демичев. – Я прочту письма, и вы все поймете». – «Нет, это имеет очень большое значение, – настаивал Твардовский. – Вы все же объясните, почему письма, направленные в мой адрес, лежат в вашем сейфе?» Демичев смешался, не зная, что ответить. «Если вы не хотите ответить, то мне здесь нечего делать», – сказал Твардовский и покинул совещание. Такие эпизоды не забывались и в ЦК КПСС. По крайней мере, сам Демичев в дальнейшем в беседах с Твардовским придерживался очень осторожного и очень уважительного тона. Как-то, мимоходом и полушутя, Александр Трифонович сказал: «Обо мне написано уже восемнадцать диссертаций». Его уже в 50-е годы называли классиком русской и советской поэзии, и это ни в какой мере не было преувеличением.
В 1968 году Твардовский замечал по многим признакам, что интерес и внимание к журналу растут не только со стороны читателей и общественности, но и со стороны «компетентных органов». Перлюстрация писем, идущих в адрес редакции, была лишь одним из признаков этого внимания. Во время одной из прогулок по лесу Твардовский затронул в беседе со мной как с «экспертом» и этот вопрос. «Я уверен, – заметил Твардовский, – что и в нашей редакции есть один или даже два осведомителя. Не может КГБ оставить без внимания такой объект, как редакция “Нового мира”. Но я не могу заподозрить в этом ни одного из моих сотрудников».
В то время я уже приобрел на этот счет некоторый опыт и научился определять, по крайней мере, часть осведомителей, которые пытались войти в доверие ко мне, к некоторым из моих друзей или, например, какадемику А. Д. Сахарову. Я ответил Твардовскому, что это можно выяснить только с помощью не слишком сложного эксперимента. С его согласия я мог бы рассказать двум-трем сомнительным людям из своих знакомых правдоподобную, сенсационную, но совершенно ложную историю, например, о том, что Твардовский на своей даче читает тайно переданную ему рукопись «Архипелага ГУЛАГа» – как раз в 1968 году об этой работе Солженицына в Москве появилось множество слухов, которые сам Солженицын решительно опровергал. Я уже знал тогда достоверно из записки самого Солженицына, которую он просил сжечь в присутствии своего же «курьера» (это была Наталья Столярова, которой все мы полностью доверяли), что рукопись «Архипелага» действительно существует, что власти ее не имеют, но активно ищут – ясно, что если через несколько дней после этого кто-либо из окружения Твардовского спросит его об «Архипелаге», то этот человек или прямо связан с КГБ, или выполняет просьбу осведомителя из редакции. Твардовский подумал, но отказался от такого эксперимента. Он произнес фразу, которую я слышал от него иногда: «Не дворянское это дело».
Летом 1968 года главной темой наших бесед стала Чехословакия и все то, что было связано с событиями в Чехословакии и вокруг нее. Излишне говорить о том, насколько болезненно Твардовский воспринял интервенцию в Чехословакию советских войск. Он не участвовал ни в каких собраниях на этот счет, и партийное собрание в редакции «Нового мира», которое было созвано инструктором райкома партии, проходило без участия Твардовского. С середины августа и до конца сентября 1968 года Твардовский не приезжал в Москву и не появлялся в помещениях редакции, даже не отвечал на телефонные звонки. Когда большая группа советских писателей подписала «Открытое письмо» Союзу писателей Чехословакии с попыткой объяснить и оправдать акцию войск Варшавского Договора, инициаторы и составители этого письма даже не стали показывать его Твардовскому.
Иногда мы говорили все же и о чисто литературных делах. Еще до публикации романа Федора Абрамова «Две зимы и три лета» Твардовский с очень большой похвалой отозвался об этом романе и о трудностях его прохождения через цензуру и через «инстанции». «Это будет поважнее многих лагерных повестей, – сказал Твардовский. – Там один колхозник говорит вернувшемуся в деревню из заключения: “Вы хоть пайку каждый день получали”». Напротив, с раздражением говорил о романе Константина Федина «Костер», который из номера в номер печатался в журнале. Отказать в публикации Федину было нельзя и как председателю Правления ССП, и как члену редакционной коллегии «Нового мира». «Читатели Федина просто не замечают, – говорил Твардовский. – Иногда ведь небольшая заметка в журнале вызывает сотни писем в редакцию. Но знаете, сколько мы получили писем о романе “Костер” за все месяцы его публикации? Всего четыре письма».
Твардовский знал о моих дружеских отношениях с писателем Владимиром Тендряковым, автором «Нового мира», жившим в той же Пахре. Когда у них возник конфликт, Твардовский счел нужным объяснить его причины. Тендряков принес в редакцию новую повесть «Кончина», когда «Новый мир» уже начал публикацию большого романа Федора Абрамова. Повесть «Кончина» понравилась Твардовскому, но он не мог печатать одновременно две большие «деревенские» вещи. «Мы опубликуем вашу повесть, но только в конце года», – сказал главный редактор автору. Но и у Тендрякова были свои резоны. Он испытывал материальные затруднения, а повесть могла пойти потом и как отдельная книга, и как пьеса. Да и рискованно было тогда откладывать публикацию острой повести. Возник спор, Тендряков обиделся и передал свою работу в другой журнал. Это означало тогда уход из авторского актива «Нового мира», что в свою очередь обидело Твардовского.
Именно из-за таких ситуаций Твардовский не стремился углублять дружеские связи со многими писателями и поэтами, произведения которых публиковались в «Новом мире» с его же одобрения. Во многих случаях он действительно обозначал или подчеркивал некоторую дистанцию между собой и автором. Он был не просто главным редактором «Нового мира», но и лидером общепризнанного направления, «линии» в литературе и общественной жизни, и опасался, что личные отношения могут помешать ему прямо и нелицеприятно высказывать свое отношение к тем или иным произведениям. Некоторые писатели считали поэтому Твардовского человеком сухим, замкнутым, недоступным.
Неровными были и отношения Твардовского с соседом по поселку Юрием Трифоновым, который очень гордился тем, что стал автором «Нового мира». Трифонов, однако, сильно обиделся, когда Твардовский отказался публиковать его рассказ «Самый маленький город» о Болгарии. В «Записках соседа» Юрия Трифонова, которые опубликованы только в 1990 году можно прочесть о какой-то мифической связи между художественной и политической позицией «Нового мира» и «непереваренной почвеннической фанаберии девятнадцатого века, не привнесшей русскому искусству особых достижений, зато обольстившей наших мыслителей великим множеством приятнейших, душегрейных рассуждений – от гениального Достоевского до полуграмотного Шевцова. Пусть простят меня почитатели великого писателя за то, что соединяю его имя в одной фразе с именем графомана, но делаю так лишь затем, чтобы показать, сколь необъятна эта система и как много в ней всякого рода, всяких масштабов орбит. Есть там и орбита Ефима Яковлевича Дороша, да и весь “Новый мир” – теперь пусть простят почитатели замечательного журнала – тоже крутится где-то в этой вселенной, ядром которой является нечто, называемое “почвой” или, скажем, “родной землей”» («Дружба народов», 1990, № 10, с. 26–27).
Я не могу согласиться с подобного рода суждениями, как и с упреками в «народнических» тенденциях, которые также звучали в адрес «Нового мира». Мне не раз приходилось говорить с Твардовским об общей линии, о позиции или о «политике» «Нового мира», и я могу подтвердить, что проблемы «родной земли», жизни народа, крестьянства и рабочих были очень близки журналу и его главному редактору, но только в ряду других не менее важных для него проблем. Никакой «непереваренной почвеннической фанаберии» в «Новом мире» я не находил, нет ее и в очерках Е. Дороша, которые Твардовский очень ценил. Главный редактор журнала хотел, чтобы в материалах журнала имелся определенный социальный смысл. Юрий Трифонов восхищался В. Набоковым, но для Твардовского романы Набокова были вообще неинтересны, и «Лолиту» он не дочитал даже до середины.
Было у Твардовского и много других соображений. Так, например, обширные и очень интересные мемуары Ильи Эренбурга никак нельзя было бы обозначить терминами «народничество» или «почвенничество». У Твардовского и у Эренбурга были разные литературные и художественные взгляды и вкусы. Твардовский мне прямо говорил, что если бы какой-либо другой литературный журнал согласился печатать мемуары Эренбурга, он бы, Твардовский, не стал об этом сильно сожалеть. Но в том-то и дело, что в 60-е годы только «Новый мир» мог опубликовать мемуары Ильи Эренбурга.
Некоторые знакомые писатели иногда просили меня показать их рассказы или повести непосредственно Твардовскому, однако я всегда отказывался использовать для такой протекции свои добрые отношения с ним. К тому же я всегда был уверен, что подобного рода просьбы ухудшат наши отношения, но не принесут никакого успеха просителю. Только однажды я был вынужден сделать исключение из этого личного правила, хотя и знал, что Твардовский ничего не публикует «по знакомству».
В 60-е годы у меня сложились очень хорошие отношения с кинорежиссером Михаилом Ильичом Роммом, а затем и со всей его семьей. Сам М. И. Ромм сочинял замечательные устные рассказы, которые записывал, чаще всего во время болезни, на магнитофонную ленту. В этих рассказах была очень важна именно интонация, голос самого рассказчика. Они и распространялись позднее главным образом в записи на пластинках и лентах. Но и жена Ромма артистка Елена Кузьмина решила заняться писательством, и ее рассказы из жизни кино, из жизни артистов и режиссеров и из собственной жизни были превосходны.
У Кузьминой проявился несомненный литературный талант, ее рассказы заслуженно хвалили, и она решила их опубликовать. Но она очень хотела печатать свои рассказы именно в «Новом мире» и попросила меня показать ее рассказы Твардовскому. Я не мог отказаться, но для начала дал прочесть рассказы Кузьминой Владимиру Лакшину. Владимир Яковлевич похвалил рассказы, но без обиняков заметил, что они никак не подходят по тематике «Новому миру». «Зачем нам публиковать такие рассказы, которые с большой охотой возьмут и другие журналы, например, “Нева” или “Искусство кино”?»
Только после этого я спросил Твардовского, хотел бы он посмотреть рассказы Е. Кузьминой. «Если их читал Лакшин, то этого вполне достаточно», – ответил Твардовский. Я вернул папку с рассказами Кузьминой, сказав, что рассказы в редакции журнала понравились, но это не их тематика. Кузьмина была одновременно огорчена и ободрена. Вскоре ее произведения стали появляться в газете «Неделя», в журналах «Нева» и «Искусство кино». Позднее они составили две отдельно изданные книги.
Твардовский был очень расположен к Константину Симонову и часто с ним встречался, их дома в Пахре находились недалеко друг от друга. Но самые близкие отношения были у него с сотрудниками журнала Александром Дементьевым, Игорем Сацем и Владимиром Лакшиным. С ними Твардовский был всегда откровенен, весел и непосредственен, эти люди понимали друг друга с полуслова. Несколько раз Твардовский ходил со мной в гости к Дементьеву, который также жил в Пахре и которого я знал еще по ленинградскому университету. Дементьев был там преподавателем и руководителем студенческого научного общества. Однажды Твардовский предложил мне познакомиться с писателем Григорием Баклановым. Мы пришли вместе в дом Бакланова, который стоял на окраине поселка, и провели несколько часов в интересной беседе.
В свою очередь и я решил познакомить Твардовского с Михаилом Роммом. Их дачи стояли недалеко друг от друга, но они не были знакомы. Ромм очень хотел этого знакомства, но Твардовского пришлось уговаривать. Все же он пошел однажды со мной, чтобы провести вечер у Ромма. Однако дача у этого режиссера была окружена высоким забором, калитка крепко заперта, а по участку бегала огромная, очень злая и глупая собака, которой боялись все соседи. Надо было нажать кнопку звонка, после чего кто-то из семьи выходил во двор. Я громко произносил свое имя, и начиналась процедура поимки беснующегося пса и водворения его в отдельную специальную комнату. Я знал все эти особенности приема гостей у Ромма и терпеливо ждал, но Твардовский постоял немного перед запертой калиткой, потом махнул рукой. «Как-нибудь в другой раз», – сказал он и ушел.
В кругу Твардовского я никогда не видел поэтов; разница направлений и вкусов здесь была особенно велика. Твардовский был более чем равнодушен к Маяковскому, которого я люблю еще с детства. Но я был удивлен и не слишком приязненным отношением Твардовского к стихам Сергея Есенина. Во многих стихах Есенина он находил небрежность или даже фальшь, которой я просто не замечал. Твардовский считал это результатом торопливости, которой себе он не разрешал. Твардовский не был поклонником Бориса Пастернака и тем более Осипа Мандельштама, с поэзией которого в ту пору я был вообще не знаком.
Когда я познакомился с Твардовским, он уже не был ни кандидатом в члены ЦК КПСС, ни депутатом Верховного Совета, но это обстоятельство его ничуть не задевало. Он никогда не производил на меня впечатления большого босса или литературного генерала. Его некоторая медлительность или даже величественность были естественными и не подавляли собеседника.
Твардовский отнюдь не казался мне и фигурой противоречивой. Напротив, он производил впечатление крупного самородка, даже богатыря, на котором удары судьбы и время оставили заметные следы, не нарушив, однако, цельности его незаурядной натуры. Он казался человеком большой силы, даже мощи, к нему подходило и слово «глыба». Не случайно его дочери решили не ставить на могиле отца обычного памятника.
Они привезли валун из Карелии, где в 1939–1940 годах на «незаметной войне» Твардовский был военным корреспондентом. Здесь же они посадили дубок из выведенного в ботаническом саду в Днепропетровске вида «плакучих» дубов. Этот дубок подрос, и летом над могилой поэта возникает своеобразный шатер. Однако мало кто из посетителей Новодевичьего кладбища понимает эту символику.
Как секретарь ССП и главный редактор журнала (а все это была тогда номенклатура ЦК КПСС), Твардовский имел, конечно, ряд привилегий, в том числе и в области информации. Он получал некоторые сборники материалов и журналы для специального пользования и узкого круга знакомства. Принимая от меня некоторые материалы Самиздата, Твардовский в 1968 году начал давать мне для чтения и получаемые им сборники полузакрытой информации, в основном аннотации или полные переводы статей из наиболее известных на Западе журналов и крупных газет. Это были пространные анализы международных событий или западные оценки событий в Советском Союзе. Где-нибудь в Лондоне все это можно было бы найти в любой среднего размера библиотеке.
Несколько раз Твардовский предлагал мне материальную помощь. «У вас большие расходы – на бумагу, машинистку, на такси. А я не обеднею». Я, конечно, отказывался. Позднее я узнал, что такую же помощь Твардовский предлагал Анатолию Рыбакову, который оказался в конце 60-х годов в трудном материальном положении. «Новый мир» объявил уже в 1966 году о предстоящей публикации романа «Дети Арбата», но книга не пошла из-за цензурных придирок, не пустил ее Рыбаков и в Самиздат. «Анатолий Наумович, – говорил Твардовский, – я не Крез, но вот вам моя сберкнижка. Как только вам понадобятся деньги, снимайте сколько хотите!» Рыбаков отказался.
Пожалуй, только однажды я решился поспорить с Твардовским на литературные темы. Речь шла о книге Евгении Гинзбург «Крутой маршрут». Еще в 1964 году первая часть этой книги получила широкое распространение в списках, и ее успех у интеллигенции был очень большим. Потом появилась и вторая часть. В 1967 году первая часть «Крутого маршрута» была опубликована в Италии и быстро переведена на многие языки. Очень многие западные газеты и журналы ставили книгу Е. С. Гинзбург выше произведений Солженицына не только по полноте охвата, но и по художественным достоинствам.
Твардовский еще в 1967–1968 годах занимал пост заместителя председателя Европейского писательского союза и часто бывал за границей (это объединение писателей распалось после интервенции в ЧССР). Однажды, вернувшись из Италии, он сказал, что там «гремит» книга Гинзбург. Я выразил сожаление по поводу того, что книга Гинзбург не была в свое время опубликована в «Новом мире». Я знал, что еще в 1963 году когда Е. С. Гинзбург жила во Львове, она присылала первую часть книги в редакции журналов «Новый мир» и «Юность». Но рукопись была отклонена в обеих редакциях, хотя в редакционную коллегию «Юности» входил тогда Василий Аксенов – сын Е. С. Гинзбург. Из «Юности» книга, видимо, ушла и в Самиздат. Только в конце 1964 года Евгения Гинзбург посетила редакцию «Нового мира». Ее принимал Твардовский, но она вспоминала об этой встрече неохотно. Мне казалось, что редакция прошла в данном случае мимо замечательной книги.
Мои слова об ошибке журнала задели Твардовского, и он просил меня зайти через несколько дней в редакцию «Нового мира», он тоже там будет. Когда я пришел, Твардовский попросил свою секретаршу Софью Ханановну принести материалы по рукописи Евгении Гинзбург. «Прочтите все это, Рой Александрович, – сказал Твардовский. – Потом поговорим».
Я прочел краткие отзывы почти всех членов редакционной коллегии. Насколько я помню, все они были положительными, замечаний было немного. Главным в этой небольшой папке являлось обстоятельное письмо самого Твардовского, адресованное членам редколлегии, а не автору рукописи. Было очевидно, что внутри редакции имелись различные мнения по поводу книги Е. Гинзбург, и чтобы положить конец этим спорам, Твардовский счел нужным в письменном виде и как можно подробнее изложить свою точку зрения и свое решение.
Все замечания Твардовского были справедливы и убедительны. Некоторые совпадали с теми замечаниями, которые мне приходилось ранее высказывать Евгении Гинзбург. Но я сам работал еще недавно в большом издательстве и мог считать себя профессиональным редактором. Для меня поэтому было очевидно, что все отмеченные Твардовским недостатки рукописи «Крутой маршрут» было бы нетрудно устранить при совместной работе автора и доброжелательного редактора. У меня поэтому не исчезло сожаление по поводу того, что Твардовский и Гинзбург не поняли друг друга и их встреча прошла более чем холодно.
Евгения Гинзбург любила «Новый мир», всегда читала этот журнал, но к самому Твардовскому относилась сдержанно. Иногда она говорила, что Твардовского, возможно, не устраивала ее еврейская фамилия. Но этот упрек был несправедлив, Твардовского задевало то, что в потоке рукописей о событиях и преступлениях сталинского террора, который шел в 1963–1965 годах в редакцию «Нового мира», почти всегда речь шла о трагедии коммунистов, интеллигенции, хозяйственных и военных руководителей.
Авторы этих работ почти не замечали страшной трагедии самого народа и особенно русского, украинского и казахского крестьянства. В повести Солженицына Твардовского привлекло именно то, что Иван Денисович – это простой русский крестьянин и солдат. Твардовский всегда выделял рассказы и повести, где речь шла о жизни, судьбе и мыслях рабочих, крестьян, служащих, рядовых людей. «Дамский мастер», «Неделя как неделя», «Артист балета», «Юность в Железнодольске», «Вера и Зойка» – это рассказы о парикмахерской, о жизни рядового экспериментатора, простого артиста, рабочих на стройке, о приемщицах в городской прачечной или химчистке.
Книга Е. Гинзбург начинается с драмы казанской городской партийно-советской элиты. Но дальше все меняется, и мы видим страшную трагедию тысяч и тысяч женщин в тюрьмах, в лагерях и на пересылках, на этапах и на тяжелых даже для мужчин работах. Почти во всей «лагерной» литературе мы видели обычно страдания мужчин. Но книга Гинзбург показала нам нечеловеческие страдания, выпадавшие в те годы на долю женщин, которым приходилось порой испытывать большие унижения и издевательства, чем их выпало на долю мужчин. Это обстоятельство не привлекло в редакции «Нового мира» должного внимания. В СССР книга Евгении Гинзбург выходила несколько раз в 1989–1991 годах – уже после ее смерти. Но это была уже совсем другая эпоха, когда влияние таких книг было уже не слишком велико.
В 1969 году главной темой моих бесед с Твардовским были все более настойчивые попытки реабилитации Сталина, исходившие «сверху» и находившие отражение в публикациях главных партийных газет и журналов, а также в материалах таких «толстых» журналов, как «Октябрь», «Молодая гвардия», «Наш современник». Я познакомил Александра Трифоновича с очередным вариантом своей книги «О социалистической демократии», и он прочел эту рукопись с большим вниманием. В апреле 1969 года я передал Твардовскому копию своего «Открытого письма в редакцию журнала “Коммунист”» с протестом против некоторых публикаций этого журнала, обеляющих Сталина. В это время меня уже начали вызывать и в райком партии, и в школьный отдел Московского горкома КПСС, требуя объяснений по поводу моей работы «К суду истории». Я отвечал, что это еще черновик, что это мое частное исследование, которое нигде не опубликовано и которое я никому не навязываю.
Тем не менее было видно, что на меня заведено «персональное дело», результатом которого могло быть в то время только исключение из партии. У меня никогда не было переписки с Твардовским, при частых встречах и при особом характере наших бесед в этом не было нужды. Однако перед праздником 1 Мая я неожиданно получил небольшое письмо из Пахры от Твардовского. Он поздравлял меня с праздником, призывал к стойкости и терпению и писал, что постоянно думает о моей работе и моей судьбе. Письмо было написано от руки и, как я понял, оно предназначалось не только для меня, но и для всех тех, кто, по мнению Твардовского, контролировал мою переписку и мою работу.
Упоминание об этом поздравительном письме я нашел в «Рабочих тетрадях» А. Т. Твардовского, но уже через тридцать пять лет. В записи от 30 апреля 1969 года, сделанной в 5 часов утра, можно прочесть: «Вчера написал десятка два неотложных первомайских приветствий, скучное и пустое дело, за исключением, может быть, таких адресатов, как Солженицын и Рой, – последнего приветствую впервые и с тенденцией» («Знамя», 2004, № 5, с. 150).
В этой же серии апрельских записок А. Твардовского я нашел и упоминание о нашем с Жоресом посещении редакции «Нового мира». Сам я об этом совсем забыл. Вероятно, это был очень короткий и случайный визит. Жорес жил в это время в Обнинске и приезжал в Москву раз в семь или десять дней по делам. Но Твардовский записал 12 апреля: «Вчера – посещение редакции братьями Медведевыми, моя ошибка – впервые видя их вместе, и, кажется, Жореса вообще впервые, поздоровался с последним, приняв его за Роя. Чудесная пара близнецов» (с. 144).
Были в этих «Рабочих тетрадях» и записи о моем «Открытом письме в журнал “Коммунист”» с протестом против опубликованных там статей с восхвалениями Сталина, а также подробности некоторых моих бесед в горкоме партии и в ЦК КПСС, о которых сам я уже забыл – о Сталине, об убийстве Троцкого, о побеге в Англию писателя Анатолия Кузнецова.
Процедура моего исключения из КПСС – от райкома до КПК при ЦК КПСС – заняла много месяцев. Меня активно защищала группа старых большевиков, которые ходили по партийным инстанциям, писали письма и заявления с протестом. Все обвинения в мой адрес выдвигались по стандартной схеме: «Я этой рукописи не читал, но должен сказать…» В «деле» была только одна на двух страницах анонимная справка от Института марксизма-ленинизма, в которой я и моя работа обвинялись в «очернительстве» и во всех других идеологических грехах. Я рассказывал об этом Твардовскому в общих чертах. Он в это время сам подвергался все более сильному давлению и подумывал о возможном уходе с поста главного редактора. В один из таких трудных для него дней Твардовский сказал мне примерно следующее: «Я не могу принять и понять тот факт, что вас исключили из партии, тогда как очень многие из недостойных и плохих людей не только остаются в партии, но и занимают в ней все более видное положение. Если бы это было в моей власти, то я издал бы вашу книгу о Сталине, а потом ушел из журнала. Было бы за что».
Конечно, мы говорили не только о Сталине и наступлении сталинистов. Помню, что долго обменивались всеми известными нам сведениями о неожиданном побеге на Запад популярного тогда писателя из Тулы Анатолия Кузнецова. Он был автором романа-документа о войне и фашизме «Бабий Яр», который опубликован в начале 60-х годов в журнале «Юность», а вскоре вышел, к удивлению многих, и отдельной книгой. Даже после цензурных изъятий этот роман произвел на всех нас сильное впечатление: автор рисовал картину трагедии Киева в годы фашистской оккупации, в том числе и трагедию киевских евреев. В 1964 и 1968 годах А. Кузнецов опубликовал две повести в «Новом мире». Твардовский хвалил эти повести и считал Кузнецова автором «Нового мира», хотя встречался с ним только один раз. Обстоятельства и мотивы этого побега были столь неясны, а объяснения самого Кузнецова, которые передавались по «голосам», столь противоречивы, что это вызвало критические отзывы как среди диссидентов, так и в кругах эмиграции. Кузнецов заявил, что он давно хотел бежать из СССР, но не видел к этому иного способа, как стать на время тайным сотрудником КГБ. Он утверждал однако, что все его донесения на друзей и писателей были простым художественным вымыслом и поэтому не могли никому и ни в чем повредить.
Большое впечатление на Твардовского произвел успех американских космонавтов, сумевших в июле 1969 года достигнуть поверхности Луны. Обсуждая с друзьями значение и масштабы этого события, Твардовский подмечал и такие вещи, на которые многие из нас не обратили внимания. «Прочтите, Рой Александрович, здесь напечатано, что Армстронг много думал о том, что он должен сказать, когда первым из людей Земли вступит на поверхность Луны. Только в последний момент он нашел подходящие слова: “Маленький шаг для человека, великий шаг для всего человечества”. Если бы это был советский космонавт, – продолжал Твардовский, – сколько бы всяких комиссий обсуждали эту историческую фразу! Какие бы инстанции утверждали первые слова, которые надлежит произнести “нашему человеку” на Луне!»
Я рассказал Твардовскому историю, за точность которой, однако, не мог поручиться. При отборе первых женщин на полет в космос готовились сразу две космонавтки. При этом проводились не только занятия по специальной и физической подготовке, но и разного рода идеологические тесты. Физические данные у двух космонавток были практически одинаковыми, но в большой специальной анкете в графе «Ваш любимый поэт» одна из девушек написала: «Булат Окуджава». У Валентины Терешковой по части поэзии оказались более здоровые вкусы.
Крайне тяжелое впечатление на Твардовского произвела гибель одного из первых космических экипажей. Как сообщалось, космонавты погибли перед посадкой на землю, и в спускаемом аппарате их нашли уже «без признаков жизни». Подробности и причины этой трагедии стали известны много позднее; главная вина за гибель космонавтов лежала на совести организаторов полета, которые разрешили проводить спуск с орбиты без защитных скафандров. Но Твардовского глубоко возмутило само сообщение о трагедии. Большая статья о гибели космонавтов, опубликованная в «Правде», имела заголовок «Полет в бессмертие».
Во время одной из наших встреч в начале лета 1969 года А. Твардовский достал из ящика письменного стола небольшую верстку и написал в правом верхнем углу: «Рою Александровичу Медведеву от автора. Твардовский. Пахра. 8 июня 1969 года». Это была уже не дополнительная глава, а отдельная поэма «По праву памяти», значительно расширенная и доработанная по сравнению с тем, что я читал осенью 1967 года. Твардовский сказал, что он включил свою новую поэму в очередной номер журнала «Новый мир», но не уверен, что получит на это разрешение цензуры и директивных инстанций. Но он хотел, чтобы у его друзей имелся экземпляр поэмы. Конечно, я был признателен Александру Трифоновичу. В середине 1969 года прямое включение в верстку «Нового мира» поэмы с резкими и убедительными обвинениями в адрес Сталина было важным общественно-политическим актом со стороны великого поэта и главного редактора журнала.
Поэма «По праву памяти» не была опубликована ни в майской, ни в июньской книжке журнала. Автор передвинул ее в следующие номера, но ее исключили и оттуда. В это же время в советской печати быстро набирала темпы и масштабы публичная кампания против «Нового мира» и лично против Твардовского, которая к концу осени 1969 года приобретала характер травли.
В кампании против «Нового мира» участвовали, казалось бы, не главные советские газеты и журналы. Газета «Социалистическая индустрия» печатала письма простых рабочих, неожиданно решивших взяться за перо и осудить «Новый мир» и его главного редактора. Журнал «Огонек» опубликовал большое письмо группы писателей «Против чего выступает “Новый мир”?» (№ 30, 1969). Это письмо, полное огульных обвинений в адрес Твардовского и его журнала, подписали главным образом литераторы из авторского актива журнала «Молодая гвардия». «Новый мир» отвечал своим недоброжелателям, и отвечал очень убедительно. Но эти ответы публиковались только на страницах самого «Нового мира».
Наибольшей поддержкой властей пользовался в 1969 году журнал «Октябрь», который возглавлял писатель Всеволод Кочетов. Именно осенью 1969 года в «Октябре» был опубликован самый одиозный из всех романов эпохи «застоя» «Чего же ты хочешь?» На самом примитивном художественном уровне В. Кочетов в своем романе восхвалял Сталина и призывал к возвращению сталинских порядков в общественной жизни и в литературе. Казалось, что дальше идти уже некуда.
В ноябре 1969 года литературная общественность была взволнована неожиданным и ничем в сущности не мотивированным исключением А. И. Солженицына из Союза советских писателей. Решение на этот счет было принято сначала на Рязанском собрании писателей, а потом на заседании Правления Союза писателей РСФСР. А. Твардовский был возмущен и как мог протестовал против исключения Солженицына. Ему казалось, что есть возможность изменить принятое решение на Правлении ССП СССР. Однако резкое, даже злое, бескомпромиссное письмо самого Солженицына в адрес СП РСФСР, которое он сразу же распространил через Самиздат, означало полный разрыв этого писателя с советскими писательскими организациями.
А. Твардовский был не просто огорчен, но разгневан. Он виделся с Солженицыным за день до рассылки письма, долго с ним разговаривал, но тот ничего не сказал главному редактору «Нового мира» о своем «Открытом письме», которое уже было готово и которое только на следующий день принес в редакцию один из «курьеров» Солженицына. Это не было полным разрывом отношений между Твардовским и Солженицыным. В декабре 1969 года они встречались несколько раз. Однако разрыв был неизбежен. Солженицын уже закончил «Архипелаг». Рукописи были надежно упрятаны не только в тайниках у знакомых, но и у друзей и адвоката за границей. Но все главные концепции «Архипелага», особенно отношение Солженицына к Отечественной войне, к Красной Армии, к власовцам и к тем, кто в Белоруссии и на Украине перешел на сторону гитлеровцев, не говоря уж об отношении Солженицына к Октябрьской революции, к Ленину, к партии большевиков – все это было для Твардовского совершенно неприемлемо.
Солженицын в это время работал уже над первым томом «Красного колеса». Это был роман «Август Четырнадцатого» – о разгроме армии генерала Самсонова в Восточной Пруссии. Солженицын даже привозил отрывки Твардовскому, но это были только тщательно отобранные главы, рассчитанные на вкус Твардовского. Твардовский рассказывал мне об этих отрывках и говорил, что это «мощная проза». Такие очень хорошо написанные главы действительно были в «Августе Четырнадцатого». Но ничего похожего не было уже в последующих «узлах» «Красного колеса». Разрыв не произошел только потому, что Твардовскому, как оказалось, отмерен был впереди не очень большой срок.
В декабре 1969 года мы все не только с интересом, но и с тревогой ждали, как будет отмечено в стране 90-летие со дня рождения Сталина. Ходили слухи о публикации в «Правде» большой статьи с портретом Сталина и с восхвалениями в его адрес. И такая статья была подготовлена и даже одобрена на одном из заседаний Политбюро. Ее должны были перепечатать все газеты на следующий день, а потом и коммунистические издания во всем мире. Я знал об этом от друзей в аппарате ЦК КПСС. Но окончательное решение принималось едва ли не в последние несколько часов – вечером 20 декабря. Были возражения со стороны некоторых компартий. Были какие-то разногласия в самом Политбюро после декабрьского Пленума ЦК КПСС по экономическим вопросам и по внешней политике. Говорили о спорах между Сусловым и Мазуровым – с одной стороны, и Брежневым – с другой. Говорили и о том, что Брежнев стал все больше прислушиваться к мнению нового помощника Александра Бовина, которого никто не считал сталинистом.
Во всяком случае, утром 21 декабря 1969 года в «Правде» была опубликована небольшая статья «К 90-летию со дня рождения И. В. Сталина», в которой упоминался XX съезд КПСС и содержалась критика Сталина, хотя и довольно умеренная. Но это никак нельзя было считать реабилитацией Сталина, которой одни так горячо желали, а другие так сильно опасались. Твардовский вырезал статью из «Правды», поместил ее в рамку и поставил на свой письменный стол в кабинете редактора «Нового мира». Однако дни журнала и его редакционной коллегии были уже сочтены.
Новый 1970 год все мы встречали без радужных ожиданий. Как стало известно позже, в аппарате ЦК КПСС разрабатывалось несколько сценариев по удалению Твардовского из «Нового мира» и по разгрому сложившейся здесь редакционной коллегии. Твардовский был слишком крупной фигурой, а образы, созданные им, вошли в общественное сознание, в советскую и русскую классику. Он умел отвечать своим оппонентам, а к его словам и к его деятельности внимательно прислушивались и присматривались друзья Советского Союза в странах Запада. Кто-то в аппарате ЦК КПСС придумал все же способ вынудить самого Твардовского подать в отставку. В результате одно из самых важных событий в литературной, культурной и политической жизни страны обрело форму заурядной аппаратной интриги.
И в прошлые годы случалось, что тот или иной член редакционной коллегии литературно-общественного журнала освобождался от своего поста по решению Секретариата ССП. Однако назначение новых членов редакционной коллегии происходило всегда с согласия или даже по инициативе главного редактора журнала. Теперь этот порядок был нарушен. 11 февраля 1970 года в «Литературной газете» в разделе «Хроника» мелким шрифтом было напечатано сообщение о том, что состоялось заседание бюро секретариата правления Союза писателей СССР и что это бюро утвердило первым заместителем главного редактора и членом редколлегии журнала «Новый мир» Д. Г. Большова, заместителем главного редактора и членом редколлегии О. П. Смирнова. Членами редколлегии утверждены также В. А. Косолапов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук. От обязанностей членов редколлегии журнала «Новый мир» освобождены И. И. Виноградов, А. И. Кондратович, В. Я. Лакшин и И. А. Сац. В сообщении ничего не говорилось о судьбе самого Твардовского, и некоторые литераторы, далекие от новомирского круга, могли предположить, что сам Твардовский дал согласие на все эти перемены и что он будет по-прежнему исполнять обязанности главного редактора журнала.
Между тем Твардовский был взбешен, но также и несколько оглушен случившимся. Он не только был возмущен снятием «своих» заместителей и членов редколлегии (А. Дементьев был выведен из состава редколлегии еще в 1969 году), но и тем, что ему в первые заместители назначают какого-то Большова, с которым он раньше не был знаком и не собирался знакомиться. Этот человек вообще не был известен в литературных кругах, и его имени не было в справочных изданиях Союза писателей.
После 11 февраля 1970 года на несколько дней в редакции «Нового мира» сложилось странное положение. Никто из новых членов редколлегии не мог появиться в редакции, пока Твардовский сидел в своем кабинете, а он приезжал каждое утро. Приезжали в редакцию на часть дня и многие уже смещенные члены редколлегии. Твардовский развил в редакции бурную деятельность. Он пересматривал архив журнала, отделяя те материалы, письма и рукописи, которые были переданы авторами лично Твардовскому и должны были теперь храниться в его личном архиве. Твардовский внимательно просмотрел и «портфель» редакции. При этом он поспешно заключил с некоторыми авторами «проблемных» рукописей формальные договора, чтобы обеспечить их хотя бы частью гонорара.
Я побывал в редакции «Нового мира» в середине февраля только один раз, по просьбе Твардовского. Он передал мне три рукописи мемуарного характера, которые не хотел бы оставлять своим преемникам. Одну из этих рукописей – «Полжизни» Д. Витковского – Твардовский особенно хвалил. Мне удалось ее опубликовать только в 1976 году с помощью Жореса – сначала в Лондоне на русском языке и небольшим тиражом. Позднее эта же небольшая повесть была издана и на некоторых других языках. Но ее автора в это время уже не было в живых; не объявились и какие-либо родственники.
Редакция «Нового мира» напоминала в середине февраля потревоженный улей. Многие известные писатели приходили сюда, чтобы узнать о положении дел и выразить солидарность с Твардовским. Ненадолго заходили в редакцию А. Солженицын и Е. Евтушенко. Чаще других здесь был Александр Бек. Всех не перечислить…
Внимательно следили за ходом событий в редакции «Нового мира» и работавшие в Москве западные корреспонденты. Однако никаких коллективных или «открытых» писем или протестов по поводу разгона редакционной коллегии «Нового мира» в эти дни не составлялось. К началу 1970 года как общественная активность интеллигенции, так и движение диссидентов пошли на убыль.
Твардовский в эти дни хотел встретиться с Брежневым. Его назначение на пост главного редактора происходило по решению Секретариата ЦК КПСС, и он, естественно, ждал разъяснения случившегося от высших партийных инстанций. Надо было сначала обратиться к одному из помощников Брежнева, и Твардовскому советовали звонить Евгению Самотейкину который считался среди помощников Генсека наиболее умным, либеральным и порядочным человеком. Однако организовать встречу Твардовского с Брежневым не удалось.
Мои друзья из аппаратных структур ЦК КПСС дали мне некоторые сведения о Большове, которые я передал Владимиру Лакшину. Большов работал заведующим одной из редакций на Центральном телевидении. Телевидение в 1970 году еще не являлось самой влиятельной частью СМИ, и заведующие редакциями здесь были, как правило, людьми малоизвестными. Ничем не отличился и Большов. Напротив, к нему было много претензий и в ЦК КПСС, и в финансовых инстанциях. Мои друзья уверенно говорили мне о том, что Большова назначили в заместители совершенно сознательно, чтобы вынудить Твардовского уйти в отставку.
Реально предполагалось назначить главным редактором «Нового мира» В. А. Косолапова. Это был партийно-литературный чиновник, который пользовался среди писателей репутацией умеренного либерала. В прошлом он работал не только главным редактором «Литературной газеты», но и директором издательства «Художественная литература» Это был достаточно влиятельный по тем временам, но отнюдь не независимый человек.
Собственное литературное имя из новоназначенных членов редколлегии «Нового мира» имел только Александр Рекемчук, прозаик и кинодраматург, автор многих киносценариев и повестей, входивший в правлений не только Союза писателей РСФСР, но и Союза писателей СССР. Он уже поработал в редакциях журналов «Молодая гвардия» и «Знамя», его имя было известно, но его не связывали ни с каким литературным направлением.
А. Т. Твардовский смог встретиться в самом конце февраля только с секретарем ЦК КПСС П. Демичевым. Демичев Твардовского не поддержал, и Александр Трифонович подал в отставку, которая тут же была принята.
В понедельник 2 марта в большом кабинете Твардовского состоялось заседание новой редакционной коллегии журнала. Из прежних членов редколлегии здесь присутствовал только Михаил Хитров, ответственный секретарь редакции. Он остался в редакционной коллегии по личной и настоятельной просьбе самого Твардовского, и мы все об этом знали. Ни в одной из центральных газет не было никаких сообщений об отставке Твардовского. Ничего не написала об этом даже «Литературная газета», хотя судьба «Нового мира» и отставка Твардовского были главной темой разговоров и споров в литературных и окололитературных кругах.
Между тем западная печать в первую декаду марта сообщала об отставке Твардовского во многих статьях и обзорах под крупными заголовками. «До свидания, Твардовский!», «Журнал в руках консерваторов», «Дело Твардовского», «Зовите Сталина!», «Твардовский ушел из “Нового мира”», «“Новый мир” между цензурой и репрессиями”» – вот лишь некоторые из заголовков западных газет. Кто-то подобрал для Твардовского большую часть подобного рода статей и сделал перевод некоторых из них. Твардовский сложил их в отдельную папку и показывал мне при нашей встрече в конце марта 1970 года.
Я привез Твардовскому некоторые материалы Самиздата, но также А. Д. Сахарова, мое и В. Турчина большое письмо на имя Брежнева, Косыгина и Подгорного по проблемам демократизации СССР. Твардовский был уже достаточно спокоен и наблюдал за суетой, которая тогда начиналась в связи с исполнявшимся в конце июня 60-летием поэта. С усмешкой он говорил, что принято решение срочно издать к юбилею двухтомник избранных произведений А. Твардовского. Великому поэту намекали, что готовится указ о присвоении ему звания Героя Социалистического Труда.
В марте 1970 года вышел в свет последний номер журнала, подписанный в печать А. Т. Твардовским. Это № 1 за 1970 год. Как всегда, книжки журнала выходили с большим запозданием. Я бережно храню этот номер журнала в своей библиотеке.
Один из моих добрых знакомых Григорий Водолазов, философ, профессор МГУ и крупный специалист по истории общественной мысли XIX века, написал большую и, на мой взгляд, очень глубокую статью, посвященную судьбе «Нового мира». Он рассматривал это событие в контексте всей русской истории – как важное событие в духовной жизни нации, как переломный этап в развитии советской культуры и как крупную победу консервативно-догматических сил и внутренней реакции.
Я сказал автору, что его статья может и сама по себе стать важным документом времени, как, например, письмо Белинского к Гоголю. Такой отклик был нужен, было больно сознавать, что «Новый мир» уходит без ответа, без протеста, без анализа. Но Г. Водолазов, показав статью еще нескольким друзьям, запер ее в ящик письменного стола, отказавшись даже от моего предложения показать статью Твардовскому. Трудно было осуждать его за это. По тем временам появление столь яркой статьи-отклика неизбежно вело бы к снятию с работы в МГУ, к исключению из партии, к трудной жизни безработного диссидента. Мало кто был способен тогда сделать такой выбор. В свой «Политический дневник» я смог поместить лишь небольшой, очень резкий, но поверхностный очерк – «После умерщвления “Нового мира” (вместо некролога)». Это был анонимный очерк, и под ним стояло лишь слово «Читатель». Поэтому я счел возможным включить в него несколько абзацев от себя. В таком виде этот очерк пошел и в Самиздат.
В апреле и в мае 1970 года я встречался с Твардовским чаще, чем в прежние месяцы. Твардовскому не надо было часто ездить в Москву, и он работал у себя в кабинете или в саду и на небольшом огороде при даче. У Твардовского и его жены была хорошая коллекция разных сортов роз, один раз даже я подарил ему саженец какого-то нового сорта из Казахстана – мне прислали его специальной посылкой друзья из Алма-Аты. В самом конце мая я приехал в Пахру с тревожным известием – моего брата Жореса принудительно поместили в Калужскую психиатрическую больницу. Готовилась очередная расправа с известным диссидентом. Твардовский принял в этом деле очень активное участие, он через несколько дней поехал в Калугу, чтобы навестить Жореса и побеседовать с врачами, вместе с Владимиром Тендряковым. 10 июня в Москве в квартире В. Лакшина Твардовский рассказал мне о своих встречах и беседах в Калуге. Этот эпизод мы с Жоресом описали в нашей книге «Кто сумасшедший?».
Поездка в Калугу произвела на Твардовского угнетающее впечатление. Он на неделю «отключился». То же самое я наблюдал и в конце августа 1968 года после ввода советских войск в Чехословакию. У меня в таких случаях никогда не было даже мысли о возможности в чем-то упрекнуть Твардовского. Это был человек с сильной волей, с огромным интеллектом, ясным умом. Федор Абрамов писал в своих заметках «о крутом, бешеном нраве» Твардовского («Север», 1988, № 3, с. 106). Я этих вспышек не видел, но могу их представить. Но он был также очень ранимым человеком, он был поэт, который очень тонко и остро воспринимал окружающую действительность.
Есть люди, которые способны вообще уходить от сильных эмоций, не вступать в конфликты, абстрагироваться от опасных ситуаций. Есть люди, которые способны держать себя в железной узде. К таким, по-видимому, относится Солженицын. Но такой человек не может стать поэтом. Я знал Твардовского в последние пять лет жизни и видел его в самых разных ситуациях и состояниях. Но у меня никак не могло бы возникнуть желание говорить о пьянстве или алкоголизме. Все это сильно преувеличивалось противниками и недоброжелателями Твардовского, причем совершенно сознательно и злонамеренно. Крайне преувеличил все это в своих мемуарах и Солженицын. Неправ был и Юрий Трифонов, когда писал в «Записках соседа» о горе и злосчастии Твардовского.
У Твардовского не было той неодолимой тяги к алкоголю, которую мне приходилось видеть у некоторых других писателей. Не было у него никаких признаков ослабления личности. Сам Твардовский никогда не мучался на этот счет угрызениями совести. «Эка невидаль у нас на Руси», – говорил или писал он в ответ на некоторые упреки. И у Дементьева, и у Лакшина я несколько раз сидел с Твардовским за одним столом. В отличие от обедов и ужинов в доме самого Твардовского, где никогда не было спиртного, здесь были обычно коньяк или водка. Но я почти никогда на видел Твардовского нетрезвым. Твардовский месяцами с увлечением отдавался работе, не принимая ни капли спиртного. Но было также немало случаев, когда он не видел иного способа уйти от невыносимых негативных эмоций. Оказываясь в сверхтрудных ситуациях в мирное время, маршал Жуков мог в течение двух недель принимать непрерывно большие дозы снотворного. Проснулся, поднялся, поел и снова заснул. Об этом он рассказывал Константину Симонову. Твардовский использовал иной, более традиционный на Руси способ.
Однако в первые месяцы 1970 года, общаясь с Твардовским, я видел более сильного, более опытного и лучше понимающего жизнь и людей человека, чем в первые месяцы 1967 года. Он прошел через трудные испытания этих лет несломленным, и я не могу согласиться с теми литераторами и публицистами, которые утверждали и утверждают, что власти «убили» Твардовского, отстранив его от руководства «Новым миром». Летом 1970 года он вовсе не выглядел ни «убитым», ни сломленным. Среди других дел в мае и июне 1970 года Твардовский приводил в порядок свою переписку, отвечал лично и писал от руки многим своим читателям. Большинство этих писем удалось собрать позже, и они составили обширную и важную часть его творческого наследия.
В конце июня 1970 года я навестил Твардовского в Пахре, чтобы поздравить с 60-летием. Этот юбилей отмечался формально всей советской печатью. Статьи и очерки о Твардовском публиковались почти во всех газетах, в том числе в «Правде», «Известиях», в «Литературной газете», во многих общественно-политических и литературно-общественных журналах. Но многие из этих статей только раздражали юбиляра.
Ни в одной из них не было даже упомянуто, что Твардовский многие годы работал главным редактором «Нового мира», что он помог выдвижению и становлению многих крупнейших писателей и критиков. В статьях не упоминалось о большой общественной работе Твардовского в Верховном Совете, в ЦК КПСС, даже в Секретариате Союза писателей. О нем писали только как о крупном русском советском поэте, литературная деятельность которого завершилась якобы поэмой «За далью даль». Нигде не упоминалась опубликованная еще в 1963 году поэма «Теркин на том свете», а это было лучшее сатирическое произведение 60-х годов. И уж совсем ничего не говорилось о поэме «По праву памяти».
Даже в приветствии к поэту, которое опубликовано в июне на страницах самого «Нового мира», его приветствовали только как поэта, ни словом не отметив его заслуги в качестве редактора этого журнала! Ни одна из известных газет не попросила Твардовского дать что-либо из новых стихов, а они у него были. Не просили Твардовского и об интервью. Журнал «Юность» заказал статью к 60-летию Твардовского Константину Симонову. Симонов согласился, но с условием, что он посвятит хотя бы один абзац о работе Твардовского в «Новом мире». Через день главный редактор «Юности» Борис Полевой позвонил Симонову и сказал: «Извините, Константин Михайлович, но я совсем забыл, что статью о Твардовском нам уже написал Сурков». Твардовский был представлен к званию Героя Социалистического Труда, но награжден «только» орденом Трудового Красного Знамени. На следующий год в ноябре поэту присуждена Государственная премия за книгу «Из лирики этих лет».
Июль и август я провел на юге. Когда я вернулся в Москву в сентябре и позвонил В. Лакшину, чтобы узнать о новостях, то услышал в ответ: «У нас несчастье». У Твардовского неожиданно произошел инсульт, и он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. В ЦКБ несколько недель не могли поставить точный диагноз и начать правильный курс лечения. С большим запозданием у Твардовского был обнаружен рак легкого; вероятнее всего, это было последствие курения самых крепких и простых сигарет; привычка к грубым сигаретам возникла у него с молодых лет. Но была обнаружена также опухоль мозга. Почему-то врачи решили, что это метастазы в мозг, хотя, как выяснилось позже, это была не злокачественная опухоль, и ее можно было бы удалить. Несмотря на неправильное лечение, состояние Твардовского все же улучшилось, и в конце весны 1971 года он вернулся в Пахру, в свой дом. Здесь ему было лучше.
Летом 1971 года я несколько раз навестил Твардовского. Он понимал все, что ему говорили и рассказывали. В доме почти всегда были друзья, среди них он чувствовал себя лучше. Но у него была нарушена речь, и ему приходилось заниматься с логопедом и заново учиться говорить. В октябре 1971 года у меня возникло много сложных проблем: обыск, вызов в прокуратуру, какие-то неясные угрозы. Я связывал это со скорым выходом в свет в США сразу двух книг – моего главного труда «К суду истории», благодаря которому и началось мое знакомство с Твардовским, и нашей с Жоресом своего рода детективной повести «Кто сумасшедший?» – о событиях мая-июня 1970 года. Я решил перейти на время на нелегальное положение и на несколько месяцев уехать из Москвы. Своего маршрута я не намечал заранее и взял с собой только деньги, которых должно было мне хватить на три-четыре месяца.
В ноябре 1971 года из передач Би-би-си я узнал о неожиданной смерти Михаила Ильича Ромма. В декабре в маленькой комнатке в домике моих друзей в небольшом рыбацком поселке на берегу Черного моря я услышал и о смерти Твардовского. Было много сообщений и комментариев, сообщались подробности похорон. Друзья помогли мне послать семье Твардовского телеграмму с соболезнованиями. Однако только весной 1972 года я смог принести цветы на могилу А. Т. Твардовского и посетить в Пахре его вдову Марию Илларионовну.
1990, 2004
Жорес Медведев Из воспоминаний о Солженицыне
Первые встречи в Обнинске
Летом 1964 года многолетний конфликт в биологии и генетике, связанный с псевдонаучными теориями Трофима Лысенко, резко обострился. С одной стороны, это вызывалось усилившейся поддержкой Лысенко Хрущевым, посетившим его экспериментальную базу недалеко от Москвы, с другой стороны – с нежеланием Академии наук СССР избирать сторонников Лысенко в состав членов Академии даже на те новые вакансии, которые специально для этого выделялись решениями Совета Министров СССР. Особенно острая конфронтация возникла в середине июня 1964 года, после того как на общем собрании АН СССР неожиданно выступил тогда мало кому известный академик Андрей Сахаров, объявивший Лысенко и представленных им для выбора в члены Академии кандидатов ответственными «за позорные и тяжелые страницы в развитии советской науки». [1]
В ЦК КПСС была создана комиссия по проверке работы Академии наук, и готовились некоторые смещения. 29 августа ближайший соратник Лысенко, Президент ВАСХНИЛ М. А. Ольшанский опубликовал в газете «Сельская жизнь» большую статью с резкой критикой генетика В. П. Эфроимсона, академика А. Д. Сахарова и Ж. А. Медведева. «Ходит по рукам, – писал Ольшанский, – составленная Ж. Медведевым объемистая “записка”, полная грязных измышлений о нашей биологической науке… Ж. Медведев доходит до чудовищных утверждений, будто бы ученые мичуринского направления повинны в репрессиях, которым подвергались в пору Сталина некоторые работники науки». [2] Ольшанский предлагал привлечь Медведева и других «подобных ему клеветников» к суду за распространение клеветы.
Рукопись, о которой шла речь в статье Ольшанского, называвшаяся в 1964 году «Очерки по истории биолого-агрономической дискуссии», была хорошо известна в научных кругах и среди интеллигенции. За два года «самиздатной» циркуляции ее прочитали тысячи людей. Я поэтому не сомневался, что уже в ближайшие дни получу десятки писем от биологов, генетиков и других ученых с выражением солидарности. Прошла неделя, но ни писем, ни даже телефонных звонков не было. В институте, где я тогда работал, относившемся к системе Академии медицинских наук, была получена инструкция – обсудить мои действия на заседании партийного комитета.
Пятого сентября я обнаружил в домашнем почтовом ящике первое письмо. Адрес был написан мелким, но четким и выразительным почерком. Обратный адрес на конверте не был указан, но, судя по штампу, письмо было отправлено из Рязани 2 сентября. В Рязани у меня не было знакомых. Поднявшись домой и распечатав конверт, я прежде всего взглянул на подпись. Первое, что почувствовал, были удивление и радость: Солженицын. Прочитал письмо, затем прочитал еще раз, а потом снова много раз возвращался к нему.
Рязань 2. 9. 64.
Многоуважаемый Жорес Александрович!
Этим летом я прочел Ваши «Очерки».
За много лет буквально не помню книги, которая так бы меня захватила и взволновала, как эта Ваша. Ее искренность, убедительность, простота, верность построения и верно выбранный тон – выше всяких похвал. О современности ее нечего и говорить.
Я знаю, что и многих читателей она очень волнует, хотя бы они были далеки от биологии. Никто не может остаться безразличным к ее дальнейшей судьбе.
28 августа, накануне подлой статьи Ольшанского, я предполагал проезжать Обнинск и хотел наудачу зайти к Вам. Но пришлось ехать по другой дороге, и в Обнинск я не попал.
В эту ответственную для Вас минуту мне хочется крепко пожать Вашу руку, выразить гордость за Вас, за Вашу любовь к истине и к отечественной науке. Ваша книга состоит из одних неопровержимостей, и тот суд, который приемчиками старого времени накликает Ольшанский, будь он широкий и гласный – на его же голову и обрушится.
Желаю Вам здоровья, бодрости, мужества! Не теряю надежды с Вами познакомиться.
г. Рязань, 23, 1-й Касимовский пер. 12, кв. 3
Солженицын
Я сразу ответил на письмо Солженицына, поблагодарил за поддержку и выразил надежду, что в случае его новой поездки по соседним с Москвой областям мы будем рады принять его у себя дома.
20 сентября я получил еще одно письмо Солженицына, в котором он предлагал встречу в Москве в ноябре в редакции «Нового мира». Я приехал к назначенному часу; в то время я уже знал некоторых сотрудников редакции. Думая о Солженицыне, я ожидал увидеть больного и мрачного человека, а увидел высокого, полного энергии, жизнерадостного, внешне здорового и очень приветливого собеседника. Он не был похож на собственную фотографию в книжном издании «Одного дня». На этой фотографии он выглядел несколько угрюмым, не очень здоровым, в общем, таким, каким и мог быть человек, пробывший много лет в заключении.
Приезд Солженицына в Москву был связан с переговорами в редакции «Нового мира» по поводу возможной публикации романа, название которого, «В круге первом», было уже известно. В июле и августе 1964 года «Новый мир» публиковал объявления о том, какие произведения будут напечатаны в журнале в 1965 году Публикация нового романа Солженицына была анонсирована в списке, и это, безусловно, увеличивало подписку на журнал, которая начиналась в сентябре. Тема романа, заимствованная, как можно было догадаться, из великого произведения Данте «Божественная комедия», была достаточно очевидной. Можно было предположить, что за ним может последовать продолжение, «В круге втором» и т. д. Солженицын уже воспринимался читателями как писатель, использующий для своих произведений собственный жизненный опыт.
Из переписки и беседы в Москве выяснилось, что Солженицын знает моего обнинского коллегу и шефа, знаменитого генетика Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского. Тимофеев-Ресовский с 1926 до 1945 года работал в Германии, и именно в это время его исследования приобрели всемирную известность. Летом1945 года Тимофеев-Ресовский был арестован и доставлен в Москву. В начале 1946 года Тимофеев-Ресовский и Солженицын оказались в общей камере Бутырской тюрьмы, где были вместе около двух месяцев. В этой же камере находились и другие арестованные, доставленные из Германии. Солженицын после собственного освобождения и возвращения из казахстанской ссылки наводил справки о судьбе Тимофеева-Ресовского, но узнать ничего не мог. Это было понятно, так как Тимофеев-Ресовский освобожден лишь в 1956 году, но без реабилитации. До 1964 года он работал в одной из лабораторий Уральского филиала Академии наук. В 1964 году Тимофеева-Ресовского пригласили возглавить отдел генетики и радиобиологии в Обнинске. Моя лаборатория молекулярной радиобиологии вошла в состав этого отдела.
Естественно, что я спросил у Солженицына о его новом романе и о том, когда он будет опубликован. Александр Исаевич сразу помрачнел. По его словам, ситуация после смещения Хрущева в октябре сильно изменилась, и публикация романа, по-видимому, будет отсрочена. Для литераторов смещение Хрущева было плохой новостью. Генетикам же, напротив, стало намного легче работать. Лысенко после смены власти в стране потерял своих партийных покровителей. Солженицын, однако, пообещал в ближайшем будущем показать мне рукопись романа.
В январе 1965 года рукопись «Круга», как его тогда называли, получил от Солженицына наш общий московский знакомый, генетик Владимир Павлович Эфроимсон, который знал Александра Исаевича в связи со своим собственным «лагерным» опытом. Мне разрешалось прочитать роман, но без выноса рукописи из квартиры, где она находилась. Приехав к Эфроимсону к десяти часам утра, я получил от него две папки с аккуратно перепечатанной на машинке рукописью. Поздно вечером я позвонил в Обнинск жене о том, что остаюсь ночевать в Москве. Оторваться от чтения было очень трудно. Роман был довольно большой, и я закончил читать последнюю главу лишь рано утром.
С начала 1965 года, в связи с подготовкой празднования 20-летней годовщины победы над фашистской Германией, попытки хотя бы частичной реабилитации Сталина стали достаточно очевидными. Поэтому изменилась в официальной прессе и оценка знаменитой повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича», принесшей ему мировую известность. Ухудшилось и отношение к писателю в Рязани. Он там жил с женой и тещей в старом сыром деревянном доме, в двухкомнатной квартире без обычных коммунальных удобств. Местные власти, раздраженные опубликованным в «Новом мире» в конце 1963 года рассказом Солженицына «Для пользы дела», основанном на реальном случае самодурства и бюрократизма рязанских чиновников, отказывали писателю и его жене, доценту химии Рязанского сельскохозяйственного института, в получении новой квартиры.
В 1963 году, находясь в зените славы, Солженицын получил предложение переехать в Москву. Тогда он от этой возможности отказался. Теперь ему не хотели улучшать условия для жизни и работы даже в Рязани.
Весной 1965 года А. И. Солженицын решил переехать из Рязани в какой-либо более тихий город, расположенный ближе к Москве. Но при этом нужно было найти работу для жены Солженицына Наталии Алексеевны Решетовской, кандидата химических наук.
Узнав об этом от меня, Н. В. Тимофеев-Ресовский, очень хотевший увидеть своего бывшего «сокамерника» по Бутырской тюрьме, высказал предположение, что Обнинск мог бы оказаться очень удобным местом для Солженицына. И природа вокруг прекрасная, и научных учреждений много, и Москва всего в ста километрах. Я сообщил Александру Исаевичу об этой идее как раз тогда, когда он собирался совершить автомобильную поездку по Московской и соседним областям – Тульской, Ярославской, Владимирской, Калужской – именно для изучения возможностей переезда из Рязани. На гонорары от изданий «Одного дня» Александр Исаевич купил «Москвич», и на этой машине совершалось длинное путешествие.
10 мая я получил от Александра Исаевича письмо, в котором, в частности, говорилось:
«…С тех пор как мы разговаривали с Вами по телефону, наш автомобильный маршрут более прояснился, и стало ясно, что нам будет удобно и приятно заехать в Обнинск. Мы предполагаем сделать это в самых последних числах мая (около 30-го). Надеюсь, что мы Вас застанем? И Николая Владимировича? Сердечный ему привет. Мы с женой тронуты и заинтересованы высказанным им намерением в отношении ее работы» . [3]
Тимофеев-Ресовский, которому я сообщил о возможном визите Солженицына, был очень этим обрадован. Он помнил молодого офицера-артиллериста, который на организованном Николаем Владимировичем научном семинаре в общей камере сделал доклад об успехах в области атомной энергии. После «падения» Лысенко Тимофееву-Ресовскому присвоили звание профессора, и он стал достаточно влиятельной фигурой. Именно его присутствие в обнинском Институте медицинской радиологии придавало этому институту международный статус.
Солженицын приехал в Обнинск с женой Натальей Решетовской. Они приняли приглашение остановиться в нашей квартире на два-три дня. После короткого отдыха мы отправились в гости к Тимофеевым-Ресовским. Жена Тимофеева-Ресовского, Елена Александровна, тоже генетик и тоже знаменитость в этой области знаний, работала вместе с мужем, но на скромной должности младшего научного сотрудника. По возрасту (66 лет) ей полагался выход на пенсию, но для нее сделали исключение. Поскольку большую часть своей исследовательской работы супруги провели в Германии, а затем в тюремной «шарашке» на Урале, то их пенсионный советский стаж как «дипломированных» ученых с научными степенями не превышал одного года. Выход на пенсию обернулся бы для них финансовой катастрофой.
Встреча двух бывших узников Бутырской тюрьмы носила очень трогательный характер. Беседа и воспоминания продолжались до поздней ночи. Солженицын был прекрасным рассказчиком. Однако Тимофеев-Ресовский его в этом отношении все же значительно превосходил. Я не встречал никого, кто бы столь ярко и интересно мог рассказывать эпизоды из своей жизни или даже объяснять научные проблемы. На следующий день мы гуляли по городу, спустились по парку к Протве, небольшой речке, знаменитой, кроме своей истории (наполеоновская армия поила своих коней из Протвы перед отступлением после поражения под Малоярославцем), еще и тем, что ее вода охлаждала реактор первой в мире атомной электростанции, давшей ток в 1954 году Обнинск в 1965 году был небольшим городом с населением около сорока тысяч человек, состоявшим из работников семи научных институтов, в основном связанных с атомной энергией. Въезд иностранцев в Обнинск был запрещен, он был по тем временам «полузакрытым» городом. Здесь было четыре секретных института и производство реакторов небольшой мощности для подводных лодок. Природа вокруг города была очень красивой, и небольшие деревеньки в долине Протвы и по ее притокам увеличивали живописность окрестностей.
Все это, по-видимому повлияло на решение Солженицына о переезде из Рязани в Обнинск. Обсуждалась и возможность работы для Решетовской. Вакансий было очень много, тем более что именно в это время в нашем институте вводился в эксплуатацию новый большой корпус, оборудованный для радиохимических исследований. Тимофеев-Ресовский еще до приезда в Обнинск Солженицына получил согласие на работу Решетовской в своем отделе. Для нее, как и для жены самого Тимофеева-Ресовского, предполагалась должность младшего научного сотрудника. Директор нашего института академик Г. А. Зедгенидзе, генерал медицинской службы, был человеком смелым и принципиальным. Именно благодаря его смелости в институт смогли приехать на работу нереабилитированный Тимофеев-Ресовский и уволенный в Москве «диссидент» Жорес Медведев. Мечтой Зедгенидзе, пользовавшегося тогда поддержкой всесильных атомных ведомств, было превращение института в лучший в Европе центр радиологических и радиобиологических исследований.
Если бы план Тимофеева-Ресовского был одобрен и женой Солженицына, то их переезд в Обнинск мог бы осуществиться уже в июне-июле 1965 года. Неожиданная трудность возникла не со стороны властей, а со стороны Н. А. Решетовской. Оказалось, что она претендовала как доцент на должность старшего, а не младшего научного сотрудника. Эти претензии, выявившиеся уже после отъезда Солженицына, вызвали раздражение Тимофеева-Ресовского, для которого Решетовская даже и как младший научный сотрудник не представляла никакой ценности. Она не имела опыта работы с радиоактивными веществами и не знала генетики. По мнению Николая Владимировича, которое я разделял, переезд в Обнинск организовывался именно для Солженицына, а не для Решетовской. У Тимофеева-Ресовского была в отделе лишь одна вакансия старшего сотрудника, но на нее был более достойный претендент, его ученик, несколько лет проработавший с ним на Урале. Несколько свободных вакансий «старших» сотрудников имелось в отделе радиационной дозиметрии. Я уговорил заведующего этим отделом предоставить одну из этих должностей Решетовской. Он согласился, так как понимал, что это делается для Солженицына, который именно среди ученых пользовался в то время необыкновенной популярностью.
Сложность проблемы состояла однако в том, что должности старших сотрудников уже являлись «номенклатурными». Они замещались только по конкурсу, и результаты конкурса утверждались Президиумом Академии медицинских наук СССР. Это обстоятельство откладывало решение проблемы на два-три месяца. Всех подробностей обсуждать здесь нет необходимости. В начале июля 1965 года, благодаря активному лоббированию с моей стороны, со стороны Николая Владимировича и наших друзей, Решетовская была почти единогласно избрана старшим научным сотрудником отдела радиационной дозиметрии, в которой она, конечно, ничего тогда не понимала. Но мы надеялись, что сумеем ей помочь освоить новую профессию. Директор института Г. А. Зедгенидзе, согласовав проблему во всех инстанциях, включая и Калужский обком КПСС, пригласил к себе в середине июля Решетовскую и Солженицына и сказал, чтобы они готовились к переезду в Обнинск в сентябре. Он также обещал выделить им из фонда института хорошую квартиру в новом доме.
Переезд в Обнинск казался для Солженицына столь реальным, что он и Решетовская поехали по окрестным деревням, чтобы купить или снять небольшую дачку. Солженицын привык писать в деревне, в условиях полной изоляции. В Рязани с ранней весны и до поздней осени он жил и работал в небольшой деревушке Солотча. Кроме двух-трех близких людей никто обычно не знал его деревенских адресов.
Возле живописной деревни Рождество, километрах в двадцати от Обнинска к Москве по Киевскому шоссе, Солженицын и Решетовская случайно нашли даже не деревню, а садовый поселок-кооператив. Состоявший из небольших дачек, имевших земельные наделы по десять-двенадцать соток, этот поселок принадлежал какому-то ведомству в Москве, и сюда летом приезжали отдыхать двадцать-тридцать человек из Москвы. Самый дальний от шоссе домик был расположен на берегу маленькой речки Истье и подлежал продаже. Весенний разлив реки затапливал и участок, и часть дома, и именно поэтому никто не хотел его покупать.
Владелец дома Борзов предлагал дом на продажу всего за две тысячи рублей, и сделка была тут же оформлена. Поскольку домики на садово-огородных участках не регистрировались как жилые, купля-продажа не требовала оформления в местном совете. Нужно было лишь согласие членов кооператива. Солженицын в первый раз в жизни оказался собственником небольшого участка земли и маленького деревянного домика, месторасположение которого пока никто, кроме Жореса Медведева, не знал. Свою летнюю дачку, имевшую две комнаты, Солженицын назвал «Борзовка» по имени прежнего ее владельца.
В конце августа я уехал в Тбилиси на похороны тети. Ее семья была нам с братом очень дорога, так как именно они дали нам приют в 1941 году когда мы с мамой бежали из Ростова-на-Дону в который вступали передовые немецкие отряды. Вернулся я из Тбилиси лишь 13 сентября и сразу поехал попутными машинами в «Борзовку». По лицам Солженицына и Решетовской я понял, что случилось что-то трагическое. Так оно и оказалось. Были сразу две очень плохие новости.
В Москве в начале сентября арестован писатель Андрей Синявский, тесно связанный с «Новым миром». 11 сентября на квартире у одного из друзей Солженицына, неизвестного мне Теуша, КГБ конфискован личный архив Солженицына, включавший рукопись романа «В круге первом». О конфискации архива Солженицын узнал 12 сентября от приезжавшей в «Борзовку» двоюродной сестры Решетовской, Вероники Туркиной. На квартире Туркиной в Москве Солженицын обычно жил, когда приезжал в столицу по делам «Нового мира». Только она в Москве знала к этому времени секрет «Борзовки». Ехать в Москву Солженицын сам пока не решался, боялся возможного ареста. В его личном архиве были какие-то старые, «еще лагерные» произведения, о существовании которых никто не знал.
Уже в институте от Тимофеева-Ресовского я узнал еще одну плохую новость. Президиум Академии медицинских наук СССР отменил по неизвестным причинам результаты июльского конкурса в нашем институте по всем должностям. Повторный конкурс назначен на октябрь. Обнадеживающим было лишь то, что Решетовскую не отстранили от участия в повторном конкурсе. У нее еще был шанс на работу в Обнинске. Это в создавшейся ситуации означало лишь то, что «верхи» в Москве пока не приняли конкретных решений о Солженицыне.
Конфискация архива Солженицына
Андрей Донатович Синявский, талантливый писатель и литературный критик, еще с 1959 года начал публиковать некоторые свои произведения за границей под псевдонимом «Абрам Терц». Первой обратила на себя внимание его книга «О социалистическом реализме», изданная в Париже. В 1960 году был опубликован за границей очерк Абрама Терца «Суд идет», а затем и некоторые другие произведения. В КГБ была создана специальная группа для разгадки реального писателя, скрывавшегося под именем «Абрам Терц», и, судя по слухам, после многих лет работы лингвистический анализ навел экспертов из КГБ на Синявского.
Солженицын в течение всего августа 1965 года в «Борзовке» писал с огромной быстротой некоторые главы третьей книги обширного произведения, известного сейчас как «Архипелаг ГУЛаг». Об аресте Синявского он узнал из русской радиопередачи Би-би-си. К русским программам из Лондона все мы относились тогда с большим доверием, да они не глушились так сильно, как передачи радиостанции «Свобода» из Мюнхена. Неожиданно Солженицын запаниковал и, как известно сейчас, не без оснований. В 1975 году, живя уже в Цюрихе, Солженицын писал:
«Хрущевское же падение подогнало меня спасать мои вещи: ведь все они были здесь, все могли быть задушены. В том же октябре с замиранием сердца (и удачно) я отправил “Круг Первый” на Запад. Стало намного легче. Теперь, хоть расстреливайте!». [4]
Микрофильм романа «В круге первом» увез на Запад литератор Вадим Андреев, сын русского писателя Леонида Андреева, эмигрировавшего из России после революции. Вадим Андреев жил в Женеве и восстановил в 1948 году свое советское гражданство. Это давало ему возможность часто приезжать в СССР. [5] Но в это время Солженицын еще не давал разрешения на публикацию романа за границей, это можно было делать лишь в случае ареста автора. Вскоре Солженицын успокоился:
«Гонений мне как будто не добавилось. Как заткнули мне глотку при Хрущеве, так уж не дотыкали плотней. И я опять распустился, жил как неугрожаемый: затевал переезд в Обнинск, близ него купил чудесную летнюю дачку на р. Истье у села Рождества. Разрывался писать и “Архипелаг” и начинать Р-17». [6]
Под «Р-17» было тогда зашифровано произведение, которое через много лет стало известно как «Красное колесо».
Арест Синявского вывел Солженицына из этого «неугрожаемого» положения. Он боялся конфискации рукописей «Круга», лежавших в редакции «Нового мира». 6 сентября он приехал на дачу Твардовского и уговорил его возвратить рукописи романа: «настаиваю забрать подчистую все четыре экземпляра… 7 сентября из редакции с трудом добиваюсь Твардовского к дачному телефону. Голос его слаб, но осмыслен, не вчерашний. Он ласково просит меня: не берите, не надо! У нас – надежно, не надо! Хорошо, возьмите три экземпляра, оставьте один.
Ему – как матери отпускать сыновей из дому. Хоть одного-то оставьте!..
Забираю все четыре. Отпечатанные с издательским размахом, они распирают большой чемодан, мешают даже замкнуть его.
С чем бы другим, секретным, я сейчас поостерегся, пооглянулся, замотал бы следы. Но ведь это – открытая вещь, подготовленная к печатанию. Я только уношу ее из угрожаемого “Нового мира”. Я несу ее, собственно, даже не прятать.
Правда, я несу ее на опасную важную квартиру, где еще недавно хранился мой главный архив – тот самый, в новогоднюю ночь увезенный из Рязани. Но основную часть похоронок, всё сокровище, я недавно оттуда забрал, осталось же второстепенное, полуоткрытое, и хозяин квартиры В. Л. Теуш, пенсионер, антропософ, уезжая на лето, передал все эти остатки своему прозелиту – антропософу, молодому И. Зильбербергу…
И вот теперь на квартиру Теуша – нашел я надежней новомирского сейфа! – я припер чемодан с четырьмя экземплярами “Круга”. (Когда тащил его, как будто удушенным, загнанным ощущал себя на московских улицах: оттого, наверно, что в спину мне упирались прожектора совиных глаз.)…
Вечером 11 сентября – в щель между арестами Синявского и Даниэля, – гебисты одновременно пришли и к Теушам (взяли “Круг”), и изо всех друзей их – именно к молодому антропософскому прозелиту – за моим архивом.
В мой последний миг, перед тем как начать набирать глубину, в мой последний миг на поверхности – я был подстрелен!» [7]
(Юрий Даниэль, поэт и автор опубликованной под псевдонимом «Николай Аржак» за границей книги «Говорит Москва», арестован 12 сентября 1965 года.)
Солженицын, по-видимому попал под «оперативное наблюдение» КГБ в начале 1964 года, в связи с выдвижением его произведений на Ленинскую премию. Секретные отделы Комитета по Ленинским премиям получают из КГБ «досье» на всех кандидатов, так как «наиболее достойные» отбираются не только на основании качества произведений, но и биографий. Проверке «лояльности» в СССР подвергались все кандидаты на ответственные посты, высокие звания и почетные награды. По свидетельству Вадима Бакатина, возглавлявшего КГБ в последние месяцы 1991 года, все материалы «оперативной разработки» Солженицына в КГБ, составлявшие 105 томов, уничтожены в 1989–1990 годах путем сжигания в специальных печах, предназначенных для ликвидации документов. [8] Эта акция ликвидации «оперативных разработок»
диссидентов производилась по директивам руководства в связи с изменением структуры власти в СССР. «Диссиденты» прошлых лет начинали входить в руководящие органы, и прежде всего в состав «народных депутатов». В сжигавшихся папках были пленки подслушиваний и их частичная печатная расшифровка, копии писем, видеозаписи, доносы секретных информаторов и т. д.
Однако секретные архивы ЦК КПСС не подвергались такой же ликвидации. В этих архивах хранились не «первичные» документы КГБ, а рапорты и меморандумы КГБ в ЦК КПСС, то есть обобщенные материалы. По этим материалам из архива ЦК КПСС редакция журнала «Источник» составила в 1994 году сборник «Кремлевский самосуд. Секретные документы Политбюро о писателе Солженицыне». [9] Первый «Меморандум» КГБ «По оперативным материалам о настроениях писателя Солженицына», который направлен из КГБ в ЦК КПСС 2 октября 1965 года, то есть после обысков, проведенных на квартирах Теуша и Зильберберга, свидетельствует о том, что квартира Теуша прослушивалась КГБ уже с конца 1964 года. «Меморандум» КГБ сообщал в Политбюро ЦК КПСС многие заявления Солженицына, записанные «оперативной техникой», в которых он сообщал Теушу и каким-то еще присутствовавшим в квартире доверенным друзьям о своих планах:
«…Если они возьмут меня по-серьезному или вызовут по-серьезному объяснить, скажут: “Мы с вами то-то сделаем”, я им скажу: “Господа! Вам это обойдется дороже. Предупреждаю вас, что пока что, как видите, я не печатался за границей. Но если только вы меня возьмете, начнут появляться такие вещи, перед которыми „Иван Денисович“ померкнет…”
Ая сейчас пока должен выиграть время, чтобы написать “Архипелаг”. …Я сейчас бешено пишу, запоем, решил сейчас пожертвовать всем остальным… Я обрушу целую лавину… Я ведь назначил время, примерно, от 72 до 75 года. Наступит время, я дам одновременный и страшнущий залп».
На вопрос: «А если события пойдут гораздо быстрей?» Солженицын ответил: «Слава Богу, раньше так раньше. Но я для себя назначил вот этот крайний срок в том смысле, что если даже ничего не произойдет, если события будут неблагоприятные, не позже 75 года, я даю этот страшный залп…
…Я пущу здесь по рукам все и там опубликую (смеется). Что будет, не знаю. Сам, наверное, буду сидеть в Бастилии, но не унываю».
На вопрос об «Архипелаге»: «Это что, художественная вещь?» Солженицын ответил: «Я определяю так: опыт художественного исследования. Значит там, где наше научное исследование не может иметь место, благодаря отсутствию всех данных статей, можно применить метод художественного исследования, т. е. там много логики, там очень ясная схема, очень ясное построение, но во многих недостающих звеньях работает интуиция, языковый образ…
…Первая часть “Фабрика тюрьмы”. Я все написал, 15 печатных листов. Вторая часть “Вечное движение”. Это этапы и пересылки… Я ее закончил. Кроме этого, у меня написана 5-я часть, “Каторга” – 12 глав. Вся написана… Теперь мне надо возвращаться к третьей части… Мне сейчас не хватает дел по раскулачиванию… Я в Тамбов съездил, так хорошо! Я там такого повидал!
…Я использую себя только в самых ударных местах, ярких сценках, в которых я сам был свидетелем. Это я здорово сделал… И историческая, и идеологическая, и экономическая, и психологическая канва. Полная картина «Архипелага»… прямо лава течет, когда я пишу “Архипелаг”, нельзя остановить. Думаю, что к будущему лету я закончу “Архипелаг”». [10]
Из расшифровок магнитофонных записей в КГБ было уже в начале 1965 года известно и о планах Солженицына публиковать свои произведения за границей:
«На высказанную в разговоре мысль о возможности передачи рукописей за границу Солженицын ответил: “Так там оно и есть… Нам надо предусмотреть ряд вещей, кто передает в русское издательство, когда, по чьей команде, каким образом будет обеспечен перевод. Русское издательство не может себя окупить. Очень маленький тираж, и им не выгодно перепечатывать. Я принял такое условие, чтобы за каждый перевод платили 10 процентов, чтоб русскому издательству каждое иностранное платило 10 процентов. Тогда русскому издательству будет очень выгодно, и оно все сделает. Такая простая вещь, но и ее нужно предусмотреть. В каком порядке, какие издательства других стран имеют право это получить. Оказывается, там масса таких вопросов начинает возникать, которые здесь в голову не пришли. Мне вся информация пока не известна, я ее должен получить”.
В части получения гонорара за произведения, опубликованные за рубежом, Солженицын ответил: “Ни черта пока не поступает, но приняты меры по нескольким каналам. Сказали в Италии, во Франции, чтобы не зажимали, чтобы слали деньги”…». [11]
С этим «Меморандумом» из КГБ, судя по наличию подписей, знакомились в Политбюро Суслов, Шелепин, Демичев, Андропов, Косыгин и другие – практически все члены Политбюро, кроме Брежнева.
Отдельной «докладной» КГБ информировал ЦК КПСС о конкретных произведениях Солженицына, изъятых при обыске 11 сентября 1965 года «у близкого знакомого А. Солженицына Теуша В. Л.». Был представлен список этих произведений и даны их аннотации. «Оперативная техника» КГБ зафиксировала и рассказ Солженицына Теушу о «недавнем» посещении Обнинска. Эта запись делалась, таким образом, в июне 1965 года: «…Там сейчас такой стиль – не вступать в партию. Тимофеев-Ресовский (начальник отдела Института медицинской радиологии Академии медицинских наук, бывший “сокамерник” Солженицына, по его словам) сказал: “У нас не было ни одного партийного среди 725 младших сотрудников. Потом вступили двое. Когда они вступили, то они как-то безнадежно оторвались от коллектива – их все презирали, высмеивали: “Один кандидат, один член. Они уже оторвались, отделились от них!”» [12]
Подобного заявления Тимофеева-Ресовского, кстати, не было и быть не могло. Разговор шел о том, что в отделе генетики и радиобиологии, когда он сформировался, не оказалось ни одного члена КПСС, среди примерно тридцати младших и шести старших научных сотрудников. Но отделу, по мнению дирекции, был все же нужен парторг, и нам его прислали из другого института и зачислили старшим научным сотрудником без конкурса. Это был генетик Николай Бочков, которого Тимофеев-Ресовский не только не презирал, но даже помогал писать ему докторскую диссертацию. 725 младших научных сотрудников не было тогда и во всем институте.
Судя по этим «меморандумам» и «докладным», конфискация архива Солженицына 11 сентября «в щель между арестами Синявского и Даниэля» связана именно с этими арестами, а не с чемоданом рукописей «Круга», унесенных из «Нового мира» 7 сентября. В КГБ понимали, что аресты Синявского и Даниэля напугают тех писателей, которые работают для Самиздата и для публикаций за рубежом. Намерения Солженицына были известны. Зная в общих чертах структуру и цель «Архипелага», в КГБ, возможно, рассчитывали найти в архиве и законченные главы этой работы. Но «Архипелаг» был пропущен. Части его находились в июле-августе в «Борзовке», недалеко от Обнинска.
В эти два месяца Александр Исаевич наиболее интенсивно писал именно «Архипелаг ГУЛаг». Первичные тексты Солженицын писал от руки, очень мелким почерком и с исключительной быстротой. Способность к стремительному почерку была выработана в период заключения в «шарашке» в 1946–1949 годах. Перепечатку рукописей в трех-четырех экземплярах осуществляла Решетовская. В сентябре ей помогал и Солженицын. За судьбу именно этих, написанных летом, глав и боялся Солженицын, оставаясь в «Борзовке» до конца сентября.
Ни Александр Твардовский, ни другие сотрудники «Нового мира» не знали о существовании «Архипелага». Не знал об этом и я. Само название книги Солженицын считал тайной, так как оно выдавало и ее цель. Когда я приехал в «Борзовку» в самом конце сентября, Солженицын и Решетовская уже собирались уезжать в Рязань. «Москвич» нагружался яблоками и разными вещами. По военной кольцевой бетонной дороге с Киевского шоссе можно было проехать на Рязанское, не заезжая в Москву. От «Борзовки» до Рязани было по этой трассе около 250 км.
Один в поле не воин
В октябре 1965 года в Президиуме Академии медицинских наук СССР под председательством Президента АМН проф. Н. Н. Блохина было созвано специальное совещание, для участия в котором были вызваны директор обнинского института и я. Присутствовал также начальник Управления кадров Министерства здравоохранения СССР. Все заседание стенографировалось, и, как я выяснил позднее, копия стенограммы была направлена в Идеологическую комиссию ЦК КПСС П. Н. Демичеву Это означало, что заседание Президиума АМН СССР проводилось по директиве из ЦК КПСС. На повестке дня этого авторитетного совещания стоял лишь один тривиальный для столь высоких чинов вопрос: допустить или не допустить Н. А. Решетовскую к участию в повторном конкурсе на вакантную должность старшего научного сотрудника.
Папку с конкурсным «досье» Решетовской брал на просмотр то один, то другой член заседания. Решение Президиума АМН СССР было единодушным– Решетовскую признали не имеющей нужной для должности квалификации. Директор института Г. А. Зедгенидзе, однако, не соглашался с таким выводом. Он выдвигал главным аргументом то, что этот вопрос должен решать Ученый совет института и лишь после этого дело будет передано в Президиум. В связи с отказом директора изъять дело Решетовской из документов конкурса Президиум АМН СССР через несколько дней изменил штатное расписание института и аннулировал «химическую» вакансию, передав ее в клинику института, и сделав «медицинской». Вопрос был, таким образом, закрыт.
К этому времени Солженицын и Решетовская вернулись в Рязань, первоначально убедившись, что в их рязанской квартире не было обыска. Это успокоило Солженицына, так как означало отсутствие угрозы ареста. Солженицын написал формальные протесты по поводу конфискации архива и романа «В круге первом» и требовал их возвращения. Он также попросил меня передать его заявления на имя Брежнева, Андропова и Демичева сразу в Приемную ЦК КПСС, чтобы не прибегать к почтовой отправке.
В 1965 году я встречался с Солженицыным еще один раз, в конце октября. Академик Петр Леонидович Капица, с которым я был знаком с 1964 года, узнав от меня о конфискации архива и романа Солженицына, пригласил Солженицына посетить его в удобное время. Приглашение Капицы было принято, и 28 октября Александр Исаевич и я приехали на Воробьевское шоссе в Институт физических проблем. В спускавшемся к Москва-реке большом саду на территории института находился построенный в английском стиле коттедж, в котором жила семья директора.
Встреча Александра Исаевича и Петра Леонидовича носила очень сердечный характер. Я предпочитал молчать, испытывая большое удовольствие от наблюдения за беседой этих двух необыкновенных людей. То, что Александр Исаевич, имевший высшее физико-математические образование и несколько лет работавший в качестве заключенного научного сотрудника в прикладном физико-техническом институте, проявлял эрудицию в ряде специальных физических и кибернетических проблем, не было для меня неожиданным. Однако оригинальные литературно-критические познания П. Л. Капицы, его информированность о положении в советской литературе, его знание произведений современной зарубежной литературы были действительно неожиданными и для Александра Исаевича, и для меня.
Петр Леонидович прочитал нам текст своей недавно отправленной в «Правду» статьи, обсуждавшей вопрос о взаимоотношениях партии с творческой интеллигенцией, в частности, с писателями. Эта статья была откликом на незадолго до этого опубликованные в «Правде» статьи «Партия и интеллигенция», написанные главным редактором «Правды» Румянцевым. Петр Леонидович интересно и ярко полемизировал с некоторыми положениями, выдвинутыми Румянцевым, и давал высокую оценку опубликованным произведениям А. И. Солженицына. (Эта статья П. Л. Капицы не была опубликована ни в «Правде», ни где-либо в другом издании.) Алексей Румянцев, впрочем, вскоре сам был снят с должности редактора «Правды» за либерализм.
Академик Капица предложил Солженицыну свой собственный сейф для хранения рукописей, Александр Исаевич ответил, что в этом пока нет необходимости. Я хорошо знал методы и стиль «политического влияния» П. Л. Капицы. С его пожеланиями, а иногда и требованиями, считались в прошлом Сталин, Берия, Маленков и другие лидеры, которым он отправлял письма, не предавая их содержание гласности. В период террора Капице удалось добиться освобождения арестованных физиков Льва Ландау и Владимира Фока.
На этот раз П. Л. Капица также не мог остаться в стороне от возникшей проблемы. Он привлек к написанию формального протеста в ЦК КПСС композитора Дмитрия Шостаковича и писателей Корнея Чуковского и Константина Паустовского. Авторы этого протеста требовали разрешения для Солженицына переехать в Москву. С заявлением от такой группы авторитетных людей в ЦК не могли не считаться.
Квартиру в Москве Солженицын не получил, но в Рязанский обком КПСС была отправлена из Москвы столь четкая директива, что писателю предложили на выбор четыре квартиры, две из них в центре города в новых домах. Солженицын выбрал достаточно просторную квартиру в доме в проезде Яблочкова. Во дворе дома имелся гараж, в который можно было поставить машину.
По материалам КГБ о конфискации «антисоветских материалов» было возбуждено дело не против Солженицына, а против Вениамина Теуша. Но и это дело вскоре закрыли, «учитывая преклонный возраст и тяжелое состояние здоровья Теуша». [13]
Для проверки собственного положения Солженицын написал в «Литературную газету» полемическую статью по вопросам языка художественной литературы. Эта статья была напечатана. [14] В декабре 1965 года Солженицын передал в «Новый мир» патриотический рассказ «Захар Калита». Этот рассказ Твардовский сразу отправил в печать, и он появился в журнале уже в январе.
В свою очередь, Солженицын не предавал гласности протесты по поводу конфискации архива. Поэтому в западной прессе сообщений об этом также не было.
В феврале 1966 года в Москве начался позорный и плохо подготовленный суд над писателями А. Синявским и Ю. Даниэлем. Суд вызвал множество протестов, особенно среди писателей. Именно протесты по поводу несправедливого суда над писателями за их художественные произведения считаются истоком правозащитного движения в СССР. Впоследствии сообщалось, что среди подписавших письма в защиту Синявского и Даниэля было более шестидесяти членов Союза писателей. [15]
Солженицын в этих протестах не участвовал. Он в это время жил в деревне недалеко от Рязани… «В укрывище по транзисторному приемнику следил я и за процессом Синявского—Даниэля… Для себя я прикинул, что от этого шума придется жандармам избирать со мною какой-то другой путь. Они колебались… не влезал второй такой же суд вслед за первым». [16] Солженицын успокоился и решил не конфликтовать хотя бы в течение года. «Определив весной 1966-го, что мне дана долгая отсрочка, я еще понял, что нужна открытая, всем доступная вещь, которая пока объявит, что я жив, работаю, которая займет в сознании общества тот объем, куда не прорвались конфискованные вещи. Очень подходил для этой роли „Раковый корпус“, начатый тремя годами раньше. Взялся я его теперь продолжать». [17]
Весной 1966 года Солженицын и Решетовская снова приехали на дачку возле деревни Рождество и расположились здесь на все лето. Я приезжал в «Борзовку» только один раз. Солженицын работал по двенадцать-четырнадцать часов в день, об этом говорила Решетовская, приезжавшая несколько раз в Обнинск. Она тоже освоила вождение машины и получила водительские права. В Обнинск Решетовсая приезжала в основном в магазины за продуктами, – научные города снабжались по «высшей» категории. В июне Солженицын закончил первую часть «Ракового корпуса» и отдал рукопись не только в «Новый мир», но и в секцию прозы Московского отделения Союза писателей для обсуждения.
В 1967 году я встречался с Солженицыным дважды, и оба раза на квартире Тимофеева-Ресовского. При приездах Солженицына Николай Владимирович обычно звонил мне: «Жорес, приходите», – не объясняя, для чего. Солженицын приезжал не по каким-то делам, а просто поговорить, очень много расспрашивал о жизни в разных странах Запада. В первый приезд в начале мая Солженицын привез нам и проект своего ставшего вскоре знаменитым «Письма Четвертому съезду писателей» о цензуре. На съезде писателей, открывшемся в Москве 18 мая, письмо Солженицына о цензуре стало одним из главных событий. Из разговоров с Солженицыным у Тимофеева-Ресовского мне стало очевидно, что Александр Исаевич принял решение о публикации своих двух романов за границей. Такой результат конфронтации я считал неизбежным, так как у меня был и собственный опыт в этом направлении. Публикацию научных статей за границей я начал с 1959 года, а в 1967 году отправил в США друзьям погибшего в 1940 году академика Николая Вавилова микрофильм моей книги о Лысенко. Она была опубликована в США через два года.
В 1967 году Солженицын уже сам разрешил циркуляцию «Ракового корпуса» и «Круга» в Самиздате. Эти романы читали сотни, а может быть, и тысячи людей.
В 1968 году Солженицын приехал в «Борзовку» совсем рано, в конце марта. В своей литературной биографии он пишет, что зимой сильно переутомился; «гнал последние доработки „Архипелага“ и к марту заболел. У него началась гипертония. „Я очень надеялся, что вернутся силы в моем любимом Рождестве-на-Истье – от касания с землей, от солнышка, от зелени… А через месяц, когда совсем потеплеет, озеленеет – тут будем печатать окончательный “Архипелаг” – сделать рывок за май, пока дачников нет, не так заметно“. [18] В Обнинск Солженицын приехал 19 июня. Рассказывал Тимофееву-Ресовскому и мне, что его романы объявлены к публикации в пяти странах. В США выход «Круга» был намечен на сентябрь.
Оккупация советской армией Чехословакии 21–22 августа была поворотным событием для всех нас. Солженицын, по его же воспоминаниям, составил короткий протест. «Подошвы горели – бежать, ехать. И уж машину заводил… Я так думал: разные знаменитости вроде академика Капицы, вроде Шостаковича… – еще Леонтович, а тот с Сахаровым близок… еще Ростроповича, да и к Твардовскому же наконец… вот выбор вашей жизни – подписываете или нет? Зарычал мотор – а я не поехал. Если подписывать такое, то одному..? [19] – Но не решился и сам…» «Я смолчал. С этого мига – добавочный груз на моих плечах». [20]
Однако не совсем смолчал и Солженицын – поехал в Обнинск. Хотел высказать свой протест в обществе Тимофеева-Ресовского, Медведева и еще двух-трех друзей. Солженицын приехал сначала ко мне и звал меня к Николаю Владимировичу, чтобы разговор был общим. Я очень отговаривал Александра Исаевича от посещения моего шефа, так как знал его крайнюю осторожностъ в этом деле. Но Солженицын не слушал.
Открыв дверь и увидев нас вдвоем, Тимофеев-Ресовский сразу, конечно, понял, зачем мы пришли. Других разговоров в те дни не было. После ставших традицией теплых объятий сокамерников, Тимофеев-Рессовекий сам начал разговор, не дав Солженицыну и рта раскрыть… «А ведь здорово наши немцев опередили, – сказал он довольно громко, – чехи им продавались под видом демократии… Знаю я этих чехов, для них немцы и австрийцы ближе русских… не православные они славяне, культура у них германская, не наша… Россия для них страна дикая…» Солженицын как бы окаменел сразу, глаза потемнели. Сел на стул и слова не смог вымолвить.
Николай Владимирович послал жену сделать «чайку». Но Александр Исаевич уже встал, заторопился, дела, мол, какие-то у него есть. Я молча показал ему пальцем на потолок – это был тогда понятный знак о том, что квартира прослушивается. Мы, обнинцы, были в этом уверены, так как горком партии знал, что у Тимофеева-Ресовского собирался раз в неделю молодежный «клуб», послушать его рассказы. На директора давили, чтобы эти собрания перенесли в «Дом ученых». Но Солженицын не обратил на мой жест никакого внимания, вышел, сел в машину и уехал. После этого вечера он к Тимофееву-Ресовскому уже никогда не приходил и даже не спрашивал о нем. Не вспоминал он старого генетика и в последующие годы, хотя в автобиографических заметках всегда причислял его к своим близким друзьям.
Лично я, хотя тоже не был в то время согласен с Тимофеевым-Ресовским, не осуждал его. В Обнинске в те дни уволили несколько физиков и химиков, одного из них, Н. Васильева, заведующего лабораторией, я хорошо знал. Его уволили просто за то, что он не пришел на собрание в институте, на котором нужно было «выразить единодушное одобрение» акции советского правительства. С Тимофеевым-Ресовским могли сделать то же самое – категорические директивы в этом отношении шли сверху.
Последний разворот
Вернувшись из Обнинска в Рождество-на-Истье, Солженицын «…гнал, кончал “Круг-96”. Это, по его словам, была «последняя редакция истинного “Круга”, из 96 глав и сюжет неискаженный, которого никто не знает… В сентябре я закончил и, значит, спас “Круг-96”. И в тех же неделях, подмененный, куцый “Круг-87” стал выходить на европейских языках». [21]
Роман «В круге первом», который я уже прочел в рукописи в 1965 году, был безусловно выдающимся для того времени произведением.
Но это, как оказывалось, был «облегченный» с политической и сюжетной точки зрения «Круг-87». В нем не было девяти глав первоначального варианта, написанного в 1955–1958 годах, и первоначальная «шпионская» линия сюжета заменена на «политическую». Эти изменения романа Солженицын произвел в 1964 году, когда решил передать рукопись в «Новый мир». Такая кастрация производилась для «проходимости». «Круг-96» не мог рассматриваться «Новым миром», он был бы сразу отвергнут. Теперь, после конфискации «Круга-87», Солженицын восстанавливал первоначальный сюжет и возвращал удаленные главы. Одновременно он, конечно, производил новую литературную обработку». «…Восстанавливая, я кое-что и усовершил…» Эта новая версия романа была впервые издана на русском языке в Париже только в 1978 году. Именно эта версия романа, т. е. «Круг-96» издается и продается с 1990 года в России. На другие языки «Круг-96», насколько мне известно, пока не переводился.
23 сентября 1968 года, наверное, это был выходной день, я уже не помню, – Солженицын приехал ко мне утром в Обнинск, как обычно без предупреждения, но с необычной просьбой. Он хотел, чтобы я тут же, в его присутствии, сделал микрофильм «нового варианта» романа, объяснив вкратце, что это и есть истинный «Круг». В рукописи было примерно девятьсот страниц машинописного текста.
Еще во время первого визита к нам в 1965 году, когда Солженицын и Решетовская прожили в нашей квартире в Обнинске два дня, Солженицын усмотрел в моем кабинете наличие хорошей профессиональной установки для микрофильмирования. Она была сделана по моему заказу в мастерских нашего института для фотографирования статей из иностранных журналов. Но я ее применял и для других работ. Я тогда объяснил гостям, что использую исследовательскую пленку с особо мелким зерном, которая в радиационных делах применяется для дозиметрии. Запас этой пленки был у меня на несколько лет. Обширный чулан при кабинете я превратил в фотолабораторию.
Сушка проявленной и промытой дистиллированной водой пленки проводилась в кюветах спиртом, чтобы избежать пыли, оседающей на мокрую пленку при воздушной сушке. В каждый кадр я снимал не одну, а две страницы рукописи или разворот журнала.
Солженицын и раньше делал микрофильмы своих рукописей, редко сам в примитивных условиях, чаще прибегал к помощи доверенного фотографа. Но сейчас он спешил. После оккупации Чехословакии политическая обстановка в СССР резко изменилась к худшему. Солженицын не решался возвращаться в Москву или в Рязань из «Борзовки», не приготовив и не спрятав микрофильм только что законченного «Круга-96».
Без лишних слов, так как и мою квартиру, по его мнению, могли уже «прослушивать», мы молча взялись за работу. Я, проверяя сначала фокус моего «Зенита», очень удобного для микрофильмирования фотоаппарата, делал снимки, Солженицын помогал, меняя страницы.
Когда несколько кассет было отснято, я шел в чулан проявлять, промывать и сушить, пропуская пленку через серию кювет и работая в темно-красном свете. После последней промывки спиртом пленки вывешивались в комнате, и Солженицын проверял с лупой – нет ли брака или пропусков страниц. Я тем временем готовил новую серию кассет, наматывая пленку из большого рулона.
На всю работу потребовалось двадцать семь кассет пленки. Работа продолжалась шесть часов. Не было ни одного случая брака. Свернув все пленки в коробочки и выпив чаю, Солженицын уехал, отказавшись от обеда.
В 1969 году Солженицын начал работу над романом «Август 1914»; это, как я мог видеть, был для него трудный поворот к исторической тематике и новому жанру в литературе. Я встречался с ним чаще в Москве, чем в Обнинске или «Борзовке». Секрет «Борзовки» уже был раскрыт КГБ. Это Солженицын понял, когда к нему приехал объясняться Виктор Луи, московский журналист, известный своими связями с КГБ. На Западе вышли три разных перевода «Ракового корпуса», и сообщалось, что один из них сделан с копии, привезенной Виктором Луи. Луи приехал в «Борзовку» доказывать, что он к этому отношения не имеет. Поскольку Солженицын был теперь под достаточно плотным наблюдением КГБ, то к его «Москвичу» эксперты КГБ легко могли приспособить миниатюрный радиоаппарат, по сигналам которого местонахождение писателя всегда можно было определить. Существование в арсенале КГБ такой техники не могло быть для Солженицына секретом. Читатели «Круга» узнавали и о более совершенных технических достижениях госбезопасности.
Все основные детали моего сотрудничества и встреч с Солженицыным в 1970–1972 годах уже были освещены в моей прежней книге «Десять лет после “Одного дня Ивана Денисовича”», которая как раз и писалась в то время и по ходу событий. [22] Этот период был переломным и в моей жизни, он включал увольнение из обнинского института, арест и помещение в психиатрическую больницу, работу в новом институте в Боровске и три новые книги, которые публиковались уже сразу на Западе. Главными событиями в жизни Солженицына были: окончание и циркуляция в Самиздате «Августа 1914», начало бракоразводного процесса с Решетовской и получение Нобелевской премии. В 1970 году произошел давно ожидавшийся разгон редакции «Нового мира», а в 1971 году умер после тяжелых мучений от рака легких наш общий друг и покровитель Александр Трифонович Твардовский.
Новым спутником жизни Солженицына стала Наталья Светлова (Аля), которая уже с 1968 года была его добровольным литературным помощником. В 1970 году родился и первый сын Солженицына и Али – Ермолай. Мою рукопись «Десять лет после…» Солженицын прочитал осенью 1972 года и одобрил, сделав несколько замечаний, которые были учтены.
В ноябре 1972 года меня вызвал директор Института физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных, в котором я тогда работал, и сообщил, что полученное мною еще весной приглашение на годичную работу в отделе генетики в одном из британских институтов рассмотрено и по нему принято положительное решение. Вскоре моя жена, я и наш сын Дмитрий, ему тогда было пятнадцать лет, получили «выездные» паспорта с годичным сроком действия и могли запрашивать визу. Старший сын, Саша, не мог с нами поехать по простой причине. Он был в заключении в Калужской тюрьме строгого режима, и конец его «срока» приходился на 1977 год. Он оставался, таким образом, как бы заложником. Но мы тогда не собирались находиться в Англии дольше года, и я совершенно не предполагал участвовать во время этой командировки в какой-либо политической деятельности. Приглашение из Англии также не имело никаких политических мотивов и было связано с экспериментальной проверкой одной из теорий старения, которую я начал разрабатывать раньше других, еще в 1961 году.
В продолжении своей литературной биографии, опубликованной в «Новом мире» в 1998 году Солженицын пишет о наших отношениях в 1964–1972 годах в почти положительных тонах:
«Рой остался в Союзе как полулегальный вождь “марксистской оппозиции”, более умелый к атаке на врагов режима, чем сам режим; а Жорес, только недавно столь яркий оппозиционер и преследуемый (и нами всеми защищаемый), – вдруг уехал за границу “в научную командировку” (вскоре за скандальным таким же отъездом Чалидзе, с того же высшего одобрения), вослед лишён советского паспорта – и остался тут как независимое лицо; помогает своему братцу захватывать западное внимание, западный издательский рынок, издавать с ним общий журнал и свободно проводить на Западе акции, которые вполне же угодны и советскому правительству. Да, братья Медведевы действовали естественно коммунистично, в искренней верности идеологии и своему отцу-коммунисту погибшему в НКВД, от социалистической секции советского диссидентства выдвинуть аванпост в Европу, иметь тут свой рупор и искать контактов с подходящими слоями западного коммунизма.
Роя я почти не знал, видел дважды мельком: при поразительном его внешнем сходстве с братом он, однако, был несимпатичен, а Жорес весьма симпатичен, да совсем и не такой фанатик идеологии, она если и гнездилась в нём, то оклубливалась либерализмом. Летом 1964 я прочёл самиздатские его очерки по генетике (история разгула Лысенки) и был восхищён. Тогда напечатали против него грозную газетную статью – я написал письмо ему в поддержку, убеждал и “Новый мир” отважиться печатать его очерки. При знакомстве он произвёл самое приятное впечатление; тут же он помог мне восстановить связь с Тимофеевым-Ресовским, моим бутырским сокамерником; ему – Жорес помогал достойно получить заграничную генетическую медаль; моим рязанским знакомым для их безнадёжно больной девочки – с изощрённой находчивостью добыл новое редкое западное лекарство, чем расположил меня очень; он же любезно пытался помочь мне переехать в Обнинск; он же свёл меня с западными корреспондентами – сперва с норвежцем Хегге, потом с американцами Смитом и Кайзером (одолжая, впрочем, обе стороны сразу). И уже настолько я ему доверял, что давал на пересъёмку чуть ли не “Круг-96”, правда, в моём присутствии. И всё же не настолько доверял, и в момент провала моего архива отклонил его горячие предложения помогать что-нибудь прятать. Ещё больше я его полюбил после того, как он ни за что пострадал в психушке. Защищал и он меня статьёй в “Нью-Йорк таймс” по поводу моего бракоразводного процесса, заторможенного КГБ. А когда, перед отъездом за границу, он показал мне свою новонаписанную книгу «10 лет “Ивана Денисовича”», он вёз её печатать в Европу, – то, хотя книга не была ценна, кроме как ему самому, – я не имел твёрдости запретить ему её». [23]
В этой характеристике «братьев» немало неточностей и произвольных домыслов. Ехал я в Англию, конечно, не для создания «аванпоста» и не вез тогда и книгу «10 лет…». Она не была еще закончена и попала на Запад случайно, независимо от меня.
Первый год в Лондоне
Мы уезжали в Англию 11 января 1973 года. Я решил ехать поездом, а не лететь самолетом, чтобы хоть из окна вагона посмотреть на часть Европы: Польшу, ГДР, ФРГ, Голландию. 9 января мне позвонила в Обнинск Елена Чуковская и передала просьбу Натальи Светловой срочно приехать в Москву. Наталья Светлова жила в центре Москвы с матерью Екатериной Фердинандовной и тремя сыновьями. Старший, Дмитрий, был у нее от первого мужа Тюрина, Ермолай и Игнат были сыновьями Солженицына. Солженицын в это время жил в поселке Жуковка на даче Ростроповича. Наталья Светлова сказала мне, что Александр Исаевич хотел обязательно меня увидеть перед отъездом.
Возможность для такой встречи была только 10 января. Мне следовало приехать на станцию на определенной электричке, Солженицын должен был встретить меня на платформе. Жуковка относилась к категории правительственных дачных поселков. Здесь были дачи нескольких членов Политбюро, министров, академиков. В Жуковке все еще жил В. М. Молотов. Здесь же была и дача академика А. Д. Сахарова. Поселок не был виден со станции, его заслонял лес. Территория Жуковки безусловно охранялась, но не была огорожена. Самым крупным домом здесь был именно дом Ростроповича. Его строили по проекту владельца. Это роскошная вилла с мраморными лестницами и концертным залом на пятьдесят-шестьдесят человек. Солженицын жил в пристройке – это изолированная квартира, предназначенная либо для шофера, либо для сторожа. Мы провели в разговорах около трех часов, длительная прогулка по лесу была для устной беседы, а в доме были сделаны некоторые записи. Солженицын был уверен, что и эта его квартира прослушивается КГБ.
Поводом для столь срочного приглашения в Жуковку была, как оказалось, передача по радио в переводе на русский язык статьи корреспондента АПН Семена Владимирова, опубликованная 8 января в газете «Нью-Йорк Таймс» и касавшаяся семейных дел и финансового положения Солженицына. Эта статья, распространявшаяся через Агентство печати «Новости», была полностью или в изложении опубликована и в других странах. Солженицын просил меня внимательно прочитать эту статью и дать на нее ответ. Суть статьи, по словам Солженицына, сводилась к тому, что писатель живет в роскоши, имеет две квартиры, одну в Москве, другую в Рязани, и большую виллу на берегу живописной реки. В швейцарском банке у Солженицына уже якобы накоплены миллионы долларов. В то же время в бракоразводном процессе Солженицын отказывается представить отчет о своем состоянии и дать достойное финансовое обеспечение своей жене. Из этой статьи было очевидно, что решение вопроса о разводе упирается в проблему, которая не предусмотрена советским законодательством.
Разводы в СССР обязывали мужа, требующего развод, платить алименты на детей и финансово обеспечивать жену лишь в случае ее инвалидности или жену-домохозяйку не имеющую права на служебную пенсию. К Решетовской это не относилось. Она работала доцентом, имела право на пенсию и была бездетной. В этом случае подлежало разделу лишь движимое и недвижимое имущество. Квартира в Рязани отходила Решетовской, дачка «Борзовка» – Солженицыну. У супругов были уже две машины, и их раздел не вызывал споров. Теперь, как было очевидно из статьи Владимирова, к Солженицыну предъявлялись и финансовые претензии, связанные с его гонорарами за границей. Западные читатели могли воспринимать эти требования как справедливые, так как в США, например, при разводе разделу подлежали и финансовые активы.
Вторая просьба Солженицына касалась недавно опубликованной в Англии и США биографии писателя, написанной Давидом Бургом и Джоржем Фейфером. Солженицын считал, что в этой книге содержится множество ошибок и намеренных искажений, и просил меня внимательно ее прочитать и написать подробную рецензию в разных газетах. Бург и Фейфер готовили книгу о Солженицыне давно, и Фейфер несколько раз приезжал в СССР для сбора материала. Часть сведений о личной жизни Солженицына он получил у Вероники Туркиной, двоюродной сестры Решетовской, и ее мужа Юрия Штейна. Весной 1972 года они эмигрировали из СССР и собирались обосноваться в США. Солженицын пытался остановить публикацию этой книги и публично назвал авторов «прохвостами», «собирающими сплетни».
Бург – псевдоним Александра Долберга, «невозвращенца» из СССР, попросившего политическое убежище на Западе во время туристической поездки. Фейфер был несколько лет корреспондентом в Москве от разных газет. Он специализировался на скандалах, судебных делах, тайной проституции в Москве и тому подобных темах. Книга Бурга и Фейфера «Солженицын. Биография» вышла в США и в Англии в конце 1972 года и вызвала обширную дискуссию в прессе.
Кроме этих двух просьб, имевших «срочный» характер, было несколько других. Важной была просьба установить контакт с адвокатом Солженицына Фрицем Хеебом, жившим в Цюрихе, и оказать ему помощь в некоторых делах. Главным из них была попытка Солженицына каким-то образом запретить публикацию на Западе воспоминаний Решетовской, которые она, как было известно Солженицыну, писала с помощью специально прикрепленных двух профессиональных журналистов АПН. У Решетовской оставался обширный архив, сотни писем Солженицына, большая коллекция фотографий. Солженицын считал книгу воспоминаний Решетовской проектом КГБ, задуманным для дискредитации писателя.
Для Солженицына было очень важно закончить бракоразводный процесс, который продолжался уже почти три года. Без регистрации союза с Натальей Светловой он не имел возможности легально жить в Москве. В то же время на даче Ростроповича он также жил «без прописки», и местная милиция уже два раза предупреждала его о необходимости покинуть эту «правительственную зону». Конфронтация писателя с властями обострялась, и уже шли разговоры о возможности его высылки из страны. Появление в Самиздате «Архипелага» или публикация этого произведения за границей не могли бы остаться без ответных действий властей.
Между тем высылка Солженицына за границу, которую он сам считал весьма вероятной, до окончания развода с Решетовской и регистрации брака с матерью его детей создавала множество проблем. В этом случае бракоразводный процесс пришлось бы завершать на основе западного законодательства, то есть с разделом всех финансовых активов Солженицына за границей, размеры которых были известны лишь адвокату Хеебу. Во время заседаний суда в Рязани Решетовская произносила длинные обвинительные речи и обычно требовала отсрочек на шесть месяцев, которые удовлетворялись судом. Но эти речи в Рязани не привлекали никакого внимания. На Западе все было бы иначе. Солженицын мог бы оказаться на длительный срок разделенным с детьми, а Наталья Светлова ждала еще одного ребенка.
Семейные дела явно приобрели приоритет, и Солженицын был крайне обеспокоен переносом дискуссии о них на страницы западной прессы и в передачи зарубежного радио. Он просил меня как можно быстрее дать ответ на статью Владимирова. Солженицын также сказал, что он не отказывается от финансовой помощи Решетовской, и передал мне написанную на бумажке небольшую справку о размере сумм в валюте, которые ей уже переводились его адвокатом через Внешторгбанк СССР.
По дороге на станцию мы условились о конфиденциальной связи. Она устанавливалась через Роберта Кайзера, корреспондента «Вашингтон Пост» в Москве. Я с ним регулярно встречался в 1970–1972 годах, обычно в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина. Кайзер также встречался с Солженицыным и несколько раз брал у него интервью. Американские журналисты в Москве имели привилегию пользоваться дипломатической почтой. Британским и французским журналистам их посольства в Москве такой возможности не предоставляли.
Солженицын прощался со мной по русскому обычаю, с объятиями и поцелуями. Раньше мы обычно расставались более спокойно. «Не стройте иллюзий, Жорес, – сказал он, – не пустят они вас обратно; это уже навсегда».
Непосредственное вмешательство в семейные дела Солженицына не было для меня особенно приятной перспективой, но я был готов ему помочь. Было очевидно, что КГБ действительно использует бракоразводный процесс для того, чтобы держать писателя в постоянном напряжении. И я, и моя жена уже с первой встречи с Солженицыным и Решетовской в 1965 году могли видеть, что теплоты, а тем более нежности в их отношениях не было. Это заметил и Тимофеев-Ресовский.
Приехав в Лондон 14 января 1973 года, я после двух-трех дней адаптации посетил лондонский офис «Нью-Йорк Таймс» и получил там копию статьи Владимирова. Она была очень примитивна и содержала множество ошибок и намеренных искажений. Было также очевидно, что в подготовке текста участвовала Решетовская. Странным казалось вообще появление этой статьи; она занимала почти половину страницы в американской газете. Конфликт Солженицына с женой не мог интересовать американцев в таком объеме. Обычно о таких проблемах в серьезных западных газетах пишут лишь в разделах светской хроники.
Я быстро написал ответ и попросил новых лондонских друзей отредактировать мой не слишком еще идиоматический английский. У меня среди привезенных фотографий было и фото «Борзовки», которая по американским стандартам выглядела как хижина, а не вилла. Не было видно и «живописной реки»: Истья летом пересыхает и превращается в небольшой ручей.
Я написал, что в Москве Солженицыну жить не разрешают органы милиции, так как пребывание в столице приезжих дольше двух дней требует по закону регистрации. Кратко объяснил и особенности бракоразводных дел в советском законодательстве. Солженицын оказывал своей жене достаточную финансовую помощь, но в основном из фонда Нобелевской премии.
Моя статья, озаглавленная «В защиту Солженицына», с фотографией – ответ Владимирову – опубликована в «Нью-Йорк таймс» 26 февраля 1973 года [24] и в этот же день ее перевод на русский транслировался «Голосом Америки» и радиостанцией «Свобода». В Рязани из-за разницы во времени Решетовская услышала изложение моей статьи 27 февраля и была крайне возмущена. В это время у нее уже был контракт с АПН о подготовке книги воспоминаний о Солженицыне, вместе с ней работал над этой книгой редактор АПН К. И. Семенов.
Книга эта, естественно, предназначалась для публикации лишь на Западе.
Агентство печати «Новости», публиковавшее статьи и книги исключительно для зарубежного рынка, функционировало в тесном сотрудничестве с КГБ и Агитпропом ЦК. В одном из писем автору биографии Солженицына Майклу Скаммелу Решетовская впоследствии сообщала: «…Защищая Солженицына, Ж. А. Медведев одновременно задел меня. Поскольку статья его была ответом на статью корреспондента АПН, то, чтобы сказать свое слово, мне не оставалось другого выхода, как обратиться в АПН, куда я позвонила из Рязани, прося соединить меня с “американским” отделом, а там попросила прислать ко мне кор-та из АПН». [25]
К Решетовской прислали сразу двух корреспондентов АПН из Москвы, и она передала им свой ответ, эмоциональный, сумбурный и нелепый именно с точки зрения защиты ее позиции в бракоразводном процессе.
«Никакие миллионы, – писала Решетовская, – не могут компенсировать моей потери веры в этом человеке». Она спорила с его Нобелевской лекцией. Она также сообщала, что еще в 1970 году когда поняла, что предстоит развод, она пыталась покончить жизнь самоубийством. Она обвиняла мужа в преждевременной смерти своей матери и в том, что он не заботится о ее двух тетках, одной из которых было уже девяносто пять лет.
Все эти претензии были необоснованными. Решетовская также сообщала, что она недавно закончила книгу собственных мемуаров о Солженицыне, некоторые главы из которой будут вскоре опубликованы. Это письмо Решетовской, быстро переведенное на английский и с некоторыми политическими добавками уже от АПН, было стремительно опубликовано в газете «Нью-Йорк таймс» 7 марта 1973 года. [26]
Вмешательство АПН (то есть и КГБ) в бракоразводный процесс и в весь спор было из статьи Решетовской слишком очевидно. Решетовская и сама пыталась сразу опровергнуть появившуюся в печати статью, подписанную ее именем. Она боялась, что столь явное ее сотрудничество с КГБ может подвергнуть сомнению объективность ее собственных мемуаров, две главы из которых о событиях 1962 года уже были опубликованы в небольшом самиздатном журнале «Вече» в конце 1972 года. Продолжать в этих условиях сопротивление разводу стало бесполезно. Решетовская согласилась на развод по взаимному согласию, без суда. Этот развод был оформлен 15 марта 1973 года в Рязанском ЗАГСе. Солженицын гарантировал Решетовской и финансовую помощь, размеры которой мне были неизвестны.
Сообщение о разводе опубликовали в западных газетах уже в разделах хроники. Вскоре появилось сообщение о венчании Солженицына и Натальи Светловой в одной из московских церквей. Для оформления второго брака Солженицын решил избрать религиозный обряд, хотя церковный брак не имел законной силы в СССР. Солженицын решил также покинуть гостеприимную дачу Ростроповича в Жуковке и уехал на все лето в «Борзовку», т. е. в Рождество-на-Истье. «Нигде мне так хорошо не писалось, и может быть не будет». [27]
В Лондоне в середине февраля 1973 года я получил первое письмо от швейцарского адвоката Солженицына доктора Фрица Хееба. Хееб стал адвокатом и литературным представителем Солженицына на Западе с 1970 года, когда писатель решил заключать уже открытые формальные контракты на публикацию своего нового романа «Август 1914». По всему чисто историческому содержанию, в связи с большим размером и из-за отсутствия острых сюжетных эпизодов этот роман никак не подходил для Самиздата, его стихийной перепечаткой никто не стал бы заниматься. Процесс «саморазмножения» был характерен лишь для острых политических произведений, стихов и относительно коротких очерков. «Август 1914» нужно было продавать издателям по всем правилам книгоиздательской коммерции.
Выбор адвоката был сделан по рекомендации Елизаветы Маркштейн, австрийской журналистки и сотрудника наиболее серьезного в Европе марксистского еженедельника «Тагебух». Лиза Маркштейн часто приезжала в Москву и была в дружеских отношениях и со мной, и с моим братом. Именно Лиза Маркштейн вывезла в Вену микрофильм рукописи книги моего брата «К суду истории. Генезис и последствия сталинизма». Из Вены в 1969 году этот микрофильм был отправлен в США моему старому другу профессору истории Давиду Журавскому который обеспечил перевод и издание книги в Нью-Йорке и в Лондоне в начале 1972 года. [28]
Фриц Хееб, доктор юриспруденции, был авторитетным адвокатом в Цюрихе. Он был также связан с журналом «Тагебух» и в 1970 году был членом радикального крыла швейцарской социалистической партии. До 1969 года Фриц Хееб состоял в Коммунистической партии Швейцарии, но вышел из нее после чехословацких событий августа 1968 года. Отец Фрица Хееба, известный социал-демократ начала столетия, был знаком с Лениным, Розой Люксембург, Троцким и многими другими социал-демократами.
Лиза Маркштейн вошла в Москве в круг диссидентов благодаря Льву Копелеву, единственному другу Солженицына периода заключения, который и после ГУЛага остался марксистом. Копелев был германист, специалист по немецкой поэзии, и у него были обширные связи с немецкими и австрийскими литераторами. В романе «В круге первом» именно Копелев был прототипом одного из главных героев, Льва Рубина, марксиста, убежденного коммуниста и защитника советского режима, считавшего, что его арестовали по ложному доносу. Копелев свободно владел несколькими языками. Именно он убедил в начале 1962 года Солженицына передать повесть «Один день Ивана Денисовича» в «Новый мир». В связи с этим предварительно повесть была несколько отредактирована и «облегчена» политически. Современные ее публикации немного отличаются от варианта, опубликованного в ноябре 1962 года.
Приезд доктора Хееба в Лондон, специально для встречи со мной, был запланирован на 15 марта. Хотя Хееб мог достаточно хорошо объясняться на английском, он все же просил меня пригласить кого-либо из друзей, кто бы мог в случае необходимости обеспечить и перевод с немецкого. Эту роль согласилась выполнить Вера Марковна Бройдо, наша новая знакомая. Она принадлежала к первой эмиграции и закончила гимназию в Берлине. Наши беседы с Хеебом продолжались почти весь день и охватывали очень большой круг вопросов.
Фриц Хееб до этого никогда не встречался со своим знаменитым клиентом и не знал русского языка. Он не был специалистом по проблемам копирайта и литературного представительства и не знал советского законодательства. Теперь он полностью переключил работу своей адвокатской конторы на дела Солженицына, занимаясь перезаключением договоров по прежним публикациям, продажей прав на «Август 1914» и другими проблемами.
Между издателями возникали конфликты, которые следовало улаживать в судах. Вся эта деятельность Хееба финансировалась, естественно, из гонораров самого Солженицына.
Адвокат, как лицо с более широкими полномочиями, чем простой литературный агент, имеет, кроме того, право на двадцать процентов поступлений по всем договорам. Литературный агент удовлетворяется обычно десятью процентами. Европейские адвокаты кроме части гонорара получают за счет клиентов «почасовую» оплату, крайне высокую. Общеизвестно, что эта дополнительная оплата адвокатского времени стимулирует затягивание в решении всех дел, создание новых дел на пустом месте. Хеебу кроме того, приходилось пока еще только учиться решению именно литературных конфликтов.
Согласно договору, который Солженицын подписал с Хеебом, не вникая в его суть и не советуясь ни с кем, все финансовые поступления от издателей в виде авансовых платежей или гонораров шли на счета адвокатской конторы Хееба, а не на именной счет Солженицына, и поэтому облагались швейцарскими налогами, государственными и кантональными, крайне высокими. Даже более богатые, чем Солженицын, западные писатели, авторы триллеров, детективов и серийных бестселлеров имеют, как правило, литературных агентов, а не адвокатов, и обеспечивают поступление гонораров на собственное имя и на оффшорные счета, с которых не нужно платить налоги.
Забегая вперед, я должен сказать, что адвокатская контора в Швейцарии, которую Солженицын полностью нанял для решения своих проблем, обошлась ему в огромную сумму и лишь усложнила взаимоотношения с издателями, создав несколько судебных дел. В последующие годы уже в США большинство функций Хееба выполняла жена Солженицына Наталья. Ни мой брат Рой, ни я для издания наших книг на английском и многих других языках никогда не прибегали к услугам адвокатов или даже литературных агентов. Все вопросы решались путем прямых контактов с издателями и переводчиками.
Доктор Хееб в течение нашей встречи 15 марта интересовался всем, что касалось Солженицына и его семьи. Он спрашивал о его характере, привычках, стиле работы и многом другом. Он не понимал советской специфики во всех, даже мелких проблемах. Существовало две главные задачи для его адвокатской конторы на 1973 год. Во-первых, нужно было прекратить «пиратские» издания на русском языке, которые печатались издательством «Флегон Пресс» в Лондоне и, во-вторых, запретить угрозами судебных преследований издание на Западе на русском и на европейских языках мемуаров бывшей жены Солженицына Н. А. Решетовской. Обе эти задачи проистекали из категорических требований Солженицына.
«Флегон Пресс» было издательством одного человека – А. Флегона, имевшего собственный магазин русских книг в Лондоне. Настоящее имя Флегона неизвестно, и был он, судя по акценту, евреем из Одессы, попавшим в Англию после войны из Румынии. Он дружил с Виктором Луи и зарабатывал пиратскими изданиями на русском языке популярных книг, таких как «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Двадцать писем другу» Светланы Аллилуевой и других, конкурируя в этом направлении с ИМКА-Пресс и другими издательствами. Флегон продавал эти книги дешевле и мог даже заключать договора на пиратские переводы, так как СССР не был членом международных конвенций по копирайту (до конца 1973 года) и не мог защищать прав своих авторов. Флегон издавал даже Пушкина – успехом пользовался томик эротических произведений Пушкина, никогда не входивший в собрания сочинений великого поэта. К1973 году Флегон издал без всяких договоров романы Солженицына «В круге первом» и «Август 1914» и свободно продавал эти книги через свой магазин в Лондоне и по разным распределителям русских книг. Его издания попадали и в СССР.
Остановить эту деятельность Флегона по отношению к Солженицыну можно было лишь судебным процессом в Верховном суде Великобритании, и Солженицын поручил Хеебу начать это дело. Это было несложно, но очень дорого, так как для этого Хеебу следовало нанимать для дела какую-то еще, уже лондонскую, адвокатскую контору. Судебные расходы могли исчисляться сотнями тысяч долларов.
Мой совет сводился к тому, чтобы полностью игнорировать Флегона и не вести с ним никаких судебных дел. Я с ним познакомился лично еще в феврале 1973 года, так как он таким же пиратским путем издал на русском языке мою книгу «Тайна переписки охраняется законом», изменив ее название на «Махинации нашей почты». Юридических оснований для того, чтобы запретить Флегону эту продажу, у меня не было, так как рукопись уже с 1970 года распространялась в Самиздате и не была защищена копирайтом. Английское издание вышло по моему договору в 1971 году, и деятельность Флегона не приносила мне никакого финансового ущерба. Флегон был явным авантюристом без фиксированного адреса и гражданства. Какими он пользовался документами при переездах в Европе, я не знаю, вероятно, израильскими.
Забегая опять вперед, следует сказать, что Хееб не последовал моему совету и все же начал дело против Флегона. Затратив огромные средства на ведение судебного процесса в Верховном Суде Англии, Хееб это дело выиграл, однако не смог получить с Флегона ни одного пенса. Флегон, державший деньги на секретных счетах, объявил себя банкротом и просто перевел издательскую компанию в Бельгию, продолжая по-прежнему заниматься пиратскими изданиями. В 1974 году он, в свою очередь, подал в суд на Солженицына, обвинив его в разорении своего законного бизнеса, и выиграл дело. Солженицын судился с Флегоном впоследствии несколько раз, обогащая при этом лишь адвокатов, причем из собственных средств.
По отношению к Решетовской запрет на издание ее мемуаров был совершенно нереален. В этом случае Солженицын мыслил еще категориями советской цензуры, не применимой на Западе. Поскольку сам Солженицын был на Западе уже «звездой», привлекавшей внимание, то за право издать книгу его бывшей жены конкурировали несколько крупных издательств, предлагавших Решетовской, через ее агентов в АПН, огромные авансы. Запретить эту книгу можно было бы лишь после ее издания, причем лишь в том случае, если в ней будут найдены элементы клеветы. Но это можно было сделать лишь в Англии, где по таким конфликтам Хееб мог судиться с издателем, а не с автором. В США по печатной клевете можно было судиться лишь с автором.
Суд между Солженицыным и Решетовской о достоверности каких-то эпизодов, происходивших в СССР в 30-е, 40-е или 50-е годы, был в США совершенно нереален. Это Хееб понимал и судиться не стал. Но он все же опубликовал по многим газетам «Заявление», угрожая издателям книги Решетовской судом. Это «заявление» было юридической нелепостью, и его впоследствии игнорировали. Книга Решетовской вышла на русском языке (для Запада) в 1974 году и была также издана в 1974–1975 годах на многих языках. [29]
Для Солженицына были мало приятны лишь разделы книги о взаимоотношениях с его старыми, еще школьными друзьями и их судьбе (некоторые из них были арестованы) и о его следственном деле после ареста. Версия Решетовской расходилась с его собственной и была более подробной. Однако для западных читателей все эти детали судопроизводства в СССР после войны были вообще непонятны. Их больше интересовала романтическая часть книги, эмоциональный портрет молодого писателя, который к 1974 году уже превратился в сурового пророка и обличителя.
В конце марта я, как об этом просил Солженицын, написал подробную критическую рецензию-эссе на книгу-биографию «Солженицын» Давида Бурга и Джорджа Фейфера. Ошибок, преувеличений и искажений в этой книге было действительно много. Солженицын представлялся в ней не просто писателем, а «фельдмаршалом тайной армии бывших заключенных», и именно с его работами авторы связывали весь феномен «Пражской весны» 1967–1968 годов. Авторы предсказывали, что конец XX века в будущем станет известен как «эпоха Солженицына». Солженицына, по мнению авторов, не арестовывали и не высылали из СССР только потому, что власти боялись связанных с такими действиями массовых забастовок на заводах и в учреждениях СССР. Мой очерк-рецензия был опубликован в США в «Нью-йоркском ревью книг» и в Германии в газете «Ди Цайт». [30]
В середине 1973 года на Западе появился и четвертый номер самиздатского журнала «Вече», но уже в издательском печатном варианте. Он содержал две главы из воспоминаний Решетовской, посвященных написанию Александром Исаевичем повести «Один день Ивана Денисовича» в 50-х годах и всем проблемам, связанным с ее изданием в «Новом мире» в 1962 году Решетовская, разумеется, знала эти подробности лучше всех, и ее версии событий были очень информативны и интересны. Эти тексты, безусловно, передавались в русских программах иностранных радиостанций. Основателем и редактором журнала «Вече» был Владимир Осипов, диссидент, участник русского националистического движения, имевший восьмилетний стаж заключения по политическим статьям. Подозревать его в сотрудничестве с КГБ или даже с АПН не было никаких оснований. Совпадая по времени с протестом Хееба, эти главы из «Вече» лишали протест всякой логики. Ни Хееб, ни Солженицын не могли лишать Решетовскую права на литературную деятельность. Публикации Решетовской делали неизбежным и то, что все западные биографы Солженицына, а их уже было несколько, могли пользоваться именно воспоминаниями его жены при изложении событий его жизни в 1936–1965 годах.
В остальных отношениях моя жизнь в Англии в 1973 году проходила спокойно. В институте нужно было работать семь-восемь часов ежедневно, остальное время уходило на переписку по разным делам, в основном издательским. Прежде всего я занимался делами моего брата и собственными, а также выполнял просьбы друзей: Лидии Чуковской, попросившей меня узаконить публикацию на Западе еще в 60-е годы двух ее книг «Софья Петровна» и «Спуск под воду», изданных на русском и в переводах, Владимира Дудинцева, имевшего ряд претензий к издателям еще по роману «Не хлебом единым», печатавшемуся в СССР в 1956 году и ряда других.
Никакой открытой политической деятельностью я не занимался. Тем не менее в начале августа 1973 года меня вызвали в Посольство СССР в Лондоне и зачитали мне Указ о лишении советского гражданства. Никаких конкретных претензий мне не предъявлялось. Причины этой акции были скрыты общей формулировкой об «антисоветской активности». И для меня, и для моей жены эта акция была неожиданной. Подобные «указы» принимались не только в отношении меня, но всегда издавались после того, как тот или иной диссидент или опальный писатель не возвращался на родину после истечения срока действия его заграничного паспорта. Паспорт в то время выдавался строго на срок поездки. Я резко опротестовал в Посольстве незаконное решение Президиума ВС СССР и просил в своем заявлении указать мне, какие именно действия с моей стороны повели к такому решению. Ответа я не получил.
Из СССР по поводу этого «указа» я писем от своих старых друзей не получал. Неожиданно, причем через американскую дипломатическую почту, пришло письмо от Солженицына. Я был очень обрадован, как и в случае его первого письма в 1964 году. Но на этот раз письмо было совсем другим, безо всякого сочувствия. Я бы умолчал об этом эпизоде, списав его на какую-либо ошибку «информационного обмена». Но Солженицын сам, в своей продолженной недавно литературной автобиографии, упомянул повод для своего письма.
«Затем вскоре стали приходить от Жореса новости удивительные, да прямо по русскоязычным передачам, я же сам в Рождестве-на-Истье прямыми ушами и слушал. То по поводу сцены отобрания у него советского паспорта, ответил корреспонденту по-русски, я слышал его голос, на вопрос о режиме, господствующем в СССР: “У нас не режим, а такое же правительство, как в других странах, и оно правит нами при помощи конституции”. Я у себя в Рождестве заёрзал, обомлел: чудовищно! самое прямое и открытое предательство всех нас!!! То он сравнивал Сахарова с танком, ищущим помощи западных правительств. Тогда вскоре, осенью 1973, я имел оказию отправить ему письмо по “левой” в Лондон и отправил, негодующее. (Признаться, я не знал тогда, а надо бы смягчить на то: у Жореса остался в СССР сын, притом в уголовном лагере.)». [31]
Это письмо меня не столько возмутило, сколько удивило. Во время пребывания в Англии, не только в 1973 году, но и в последующие годы, я ни разу не давал каких-либо интервью на русском языке и не имел контактов ни с русской службой Би-би-си, ни с радиостанцией «Свобода». Интервью, в котором я говорил о Конституции СССР, было случайным интервью на английском языке еще весной радиокорреспонденту Канадского радио, сумевшему пройти в институт (обычно по взаимному согласию с дирекцией ко мне журналистов и фотографов туда не пропускали).
Мой разговор, в котором упоминалась Конституция, был связан с тем, что в разнообразном политическом спектре советских диссидентов я принадлежал по взглядам к группе «законников», которые доказывали, что не мы, диссиденты, а правительство нарушало в СССР нормы собственной конституции. Этим определялся и заголовок моей книги о цензуре и перлюстрации писем в СССР «Тайна переписки охраняется законом». Текст заголовка – это короткая цитата одной из статей Конституции СССР. Сравнение Сахарова с танком– это было из лексики самого Солженицына, который оценивал их отношения в 1973 году как «бой двумя колоннами». Это касалось их совместных действий в августе 1973 года: «Вступая в этот бой, ни он, ни я не могли рассчитывать на западную поддержку большего размаха, чем она была все эти годы… А теперь накал западного сочувствия стал разгораться до температуры непредвиденной… сила западной гневной реакции была неожиданной для всех – и для самого Запада…» [32] и далее в том же духе. Солженицын и в оценке собственной борьбы и борьбы Сахарова всегда был склонен к военным терминам и к преувеличениям в реакции Запада, но только до тех пор, пока сам не оказался за пределами СССР.
В это же время в конце августа 1973 года Солженицын заметил и поверил в совершенно не существовавшую смену политики Запада по отношению к СССР от сближения, детанта, к острейшей конфронтации, причем вопреки политике собственных правительств… «Всё это время высказывались наирезче круги левые и либеральные – всё друзья СССР и наиболее влиятельные в западном общественном мнении, создававшие десятилетиями общий левый крен Запада… в затруднении были правительства Никсона и Брандта, кому стоянием нашим срывалась вся игра. Киссинджер уклонялся и так и сяк… Ватикан, парализованный…, прохранил весь месяц молчание… Папа так и не промолвил ни слова…». [33]
В этом угаре воображаемого «великого сражения» написал Солженицын и Медведеву «по левой» свое письмо, не очень задумываясь о его содержании.
Нужно было просто отстранить его от «сражения», в котором он, собственно говоря, не участвовал, да и не видел его. Его, сражения, в действительности, и не было – вся эта «буря», судя по всему, полыхала лишь в русских передачах по радио: «…мы ушам не верили, переходя от одной станции к другой, ежеутренне и ежевечерне…» Именно по этим русским передачам с Запада Солженицын решил, что после его интервью «…Запад разволновался, разколыхался невиданно, так что можно было поддаться иллюзии, что возрождается свободный дух великого старого континента». [34]
Потом все же Солженицын решил выйти из этого боя: «…надо было экономить время работы, силы, резервы – для боя следующего, уже скорого, более жестокого…». [35]
На письмо Солженицына я ответил по той же «левой» линии, объяснив, без особых церемоний, что голоса моего по русским передачам он слышать не мог, так как не было у меня никаких интервью в связи с лишением гражданства. Впоследствии я узнал, что «левая» диппочта диссидентов в Посольстве США обычно читалась и подвергалась копированию. На каждого известного диссидента и в ЦРУ, и в британских службах безопасности существовали «досье», которые изучались экспертами.
Когда в 1977 году решался вопрос о предоставлении мне разрешения на постоянное проживание в Англии (до этого я получал лишь годовые продления визы), то мне пришлось подвергнуться двум семичасовым допросам в здании британского Министерства обороны. Два пожилых английских контрразведчика, владевших русским языком, тщательно проверяли всю мою биографию.
Они, как было видно, знали не только мои опубликованные работы, но и содержание моей «левой» переписки по американской диппочте. Они также имели перед собой вырезки из эмигрантских газет с критикой братьев Медведевых. Они знали и о том, что мой старший сын остался в СССР в заключении. Знал это, конечно, и Солженицын, я говорил ему об этом несколько раз, и в последний раз при прощании в Жуковке.
Письмо вождям Советского союза
Незадолго до мощного «потрясения основ», для которого много лет готовился «Архипелаг ГУЛаг», раздался странный «хлопок» солженицынского «Письма вождям», которое было написано в той же «Борзовке» в конце августа 1973 года. Это письмо удивило не только читателей в СССР или тех, кто слушал зарубежное радио, не только западных журналистов и читателей, но и самих «вождей СССР», – таким образом называл Солженицын всех членов Политбюро. Письмо это было написано в период с 28 по 31 августа 1973 года, датировано 5 сентября 1973 года и в этот же день по приезде писателя в Москву передано на имя Брежнева через окошко Приемной ЦК КПСС на Старой площади. Тогда же, 5 сентября 1973 года, Солженицын по конфиденциальным каналам дал ИМКА-Пресс в Париже и издателям в Нью-Йорке срочную директиву немедленно публиковать «Архипелаг ГУЛаг». По-видимому, эти оба действия были взаимосвязаны и представляли какой-то сложный, заранее продуманньй маневр, замысел которого впоследствии не раскрывался писателем в полном объеме. Результат этого «маневра» оказался противоположным тому, на который рассчитывал Солженицын. Это произошло главным образом потому, что он, по своему обычаю, ни с кем не посоветовался по поводу содержания «Письма» и самой тактики «двойного удара», но в разных и противоположных направлениях.
В начале сентября 1973 года Солженицын поддавался иллюзии своей колоссальной политической силы. Он дал директиву печатать «Архипелаг». «И в тот же день – послал и “Письмо вождям”. И это было – истинное время для посылки такого письма: когда они впервые почувствовали в нас силу. “Письмо вождям” я намерен был делать с первой минуты громогласным, жена остановила: дай им подумать в тиши!». [36] Но через месяц
Солженицын не выдержал – пустил «Письмо» в Самиздат и передал западным корреспондентам.
Был уже октябрь 1973 года, когда «Письмо вождям» достигло ИМКА-Пресс и русских западных радиостанций. Но оно не стало «громогласным». В ИМКА-Пресс и на русской службе Би-Би-Си, откуда я получил тогда текст «Письма» «на экспертизу», сразу подумали, что «Письмо вождям» – это умелая подделка КГБ, явная провокация, организованная для нейтрализации «Архипелага», первый том которого уже печатался в Париже на русском языке большим тиражом в 50 тысяч экземпляров. Содержание «Письма» поражало примитивностью и нелепостью, а обращение к «вождям» – подобострастием. Членов Политбюро уже давно и в СССР никто не называл «вождями», они были партийными чиновниками. Поэтому радиопередачи «Письма», которых ждал Солженицын, были отложены. Адвокат Хееб подтверждал, что «Письмо» принадлежит его клиенту, и требовал его немедленной публикации. Однако сотрудники ИМКА-Пресс командировали надежного человека в Москву для встречи с Солженицыным. Нужно было любыми способами остановить распространение в Самиздате и публикацию за границей «Письма вождям» как документа слабого и недостойного, если не сказать глупого.
«Письмо», оригинальный текст которого опубликован в сборнике архивных документов ЦК КПСС, [37] начиналось с сопроводительного короткого письма лично Брежневу, в котором подобострастно сообщалось:
«Уважаемый Леонид Ильич!
Вопреки написанному мною множественному заголовку… посылаю письмо в единственном экземпляре Вам одному, притом через окошко приемной ЦК.
Я полагаю, что решения будут зависеть больше всего от Вас лично, а Вы уже сами изберете, с кем из Ваших коллег Вы захотите посоветоваться». [38] Солженицын обещал Брежневу, что если предложения писателя будут приняты, то «Россия в своей будущей истории не раз еще вспомнит Вас с благодарностью». [39]
Среди текста самого «Письма» было множество утверждений, которые сильно шокировали руководство ИМКА-Пресс, и редакторы издательства настаивали на их удалении. Солженицын, однако, сопротивлялся. Для Солженицына «Письмо вождям» было частью особого стратегического плана. Он был уверен, что «Архипелаг» покачнет власть «вождей», и они в результате этого будут готовы на переговоры. На 1974 год он составил прогноз о возможных последствиях публикации «Архипелага». Наиболее возможной реакцией властей он считал «высылку за границу». [40] Но не исключал возможность «переговоров и уступок».
«Мой замысел отчасти и был: нанося прямой крушащий удар “Архипелагом” – тут же смутить отвлекающей перспективой “Письма”, поманить их по тропке 9-го пункта, [41] то есть на уступки и переговоры. В декабре я послал своему адвокату и издателям такой график: печатать «Письмо» автоматически через 25 дней после первого тома “Архипелага”. То есть, давши вождям подумать 25 дней… Не могло, чтоб совсем никто наверху не задумался над “письмом”. Но когда ТАСС закричало так гневно и бранно, в этой багровой окраске примирительный тон письма мог восприняться как уступка моя, как будто я напуган… Мой замысел – от “Архипелага” сразу и прямо пытаться толкнуть нашу государственную глыбу оказался слаб, плохо рассчитан… И 10 января со случайной оказией я поспешил остановить печатание “Письма”. Это успело телефонным звонком в последний миг». [42]
Но остановить «Письмо» было уже невозможно. Текст его, хоть и не очень широко, но уже пошел в Самиздат. Сумели получить оригинальный текст и корреспонденты некоторых газет, включая «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост». [43] Но адвокат Хееб распространил по основным газетам запрет на публикацию письма, и поэтому о его существовании почти никто не знал. Между тем советники Солженицына из ИМКА-Пресс сумели убедить его, что письмо в том виде, в каком оно отправлено Брежневу, вызовет глубокое разочарование западных читателей и серьезно повредит распространению «Архипелага». Солженицын внял этим просьбам и начал переделывать то письмо, которое уже прочел и Брежнев, и все члены Политбюро. Как известно сейчас из архивов ЦК КПСС, «Письмо» Солженицына обсуждалось на заседании Политбюро дважды. На оригинале письма Солженицына на первой странице имеется резолюция Брежнева «Ознакомить чл. ПБ (вкруговую) 4/Х. 73 г.», а затем стоят подписи всех членов Политбюро. [44]
Новый вариант «Письма», который готовился для публикации ИМКА-Пресс, кардинально менялся. Он значительно удлинился. Сильно смягчалась критика Запада, но усиливалась критика СССР. Из раздела о наилучшей системе власти для России были удалены следующие парадоксальные, явно антидемократические рекомендации:
«Итак я предлагаю – вам и всем, кому когда-нибудь придется прочесть это письмо, предлагаю согласиться и примириться: Россия авторитарна, и пусть остается такой, и не будем ныне бороться с этим…
Я предлагаю вам ничего не менять в системе и традиции советских выборов, пусть остаются такие, которые гарантируют все посты вам и назначенным вами. Я не предлагаю вам ни вторых кандидатов, ни тем более других партий, никакой избирательной борьбы, что поставило бы вашу власть под угрозу. Я не предлагаю вам ни с кем этой властью делиться… Я не предлагаю Вам допустить другие партии или другие политические движения…» [45] Все эти параграфы были удалены из нового варианта, который поступил от Солженицына в ИМКА-Пресс. В новой версии эти параграфы звучали уже иначе:
«Оставаясь в рамках жестокого реализма, я не предлагаю вам менять удобного для вас размещения руководства. Совокупность всех тех, от верху до низу, кого вы считаете действующим и желательным руководством, переведите, однако, в систему советскую. А впредь от того любой государственный пост пусть не будет прямым следствием партийной принадлежности, как сейчас». [46]
Но и этот новый вариант «Письма» ИМКА-Пресс не хотела публиковать, так как рекомендации Солженицына о путях будущего развития России были слишком ретроградными и утопическими:
«Итак, наш выход один: чем быстрей, тем спасительнее – перенести центр государственного внимания и центр национальной деятельности, центр расселения, центр поисков молодежи с далеких континентов, и даже из Европы, и даже с юга нашей страны – на ее Северо-Восток». [47]
Идея демографических передвижений русских не была новой.
Премьер Петр Столыпин создавал условия для переселения крестьян в Южную Сибирь и к южным границам Китая, вплоть до Приморского края. Сталин заселял Восточную Сибирь, но через ГУЛаг, принудительно. Хрущев программой «целинных земель» перебросил миллионы комсомольцев в Казахстан и в южные края Сибири. Брежнев начал осваивать нефтяные и газовые территории Западной Сибири и Европейского Севера.
Он также выдвинул программу возрождения опустевших коренных российских земель Нечерноземной зоны Европейской части СССР. В каждом из этих демографических перемещений был определенный экономический резон, и вновь осваиваемые территории были в большинстве случаев пригодны для сельскохозяйственного использования. Они могли обеспечивать города продовольствием. Восточная Сибирь, которую теперь предлагал Солженицын в качестве главного жизненного пространства для русского народа, была в основном горной и абсолютно непригодной для земледелия из-за вечной мерзлоты и слишком сурового климата. Лето здесь слишком короткое. Жизнь в таких условиях с минимальным комфортом в пять-десять раз дороже, чем в еще малонаселенной Европейской части России. Весь этот проект был наивным и непродуманным.
К февралю 1974 года, когда и сам Солженицын оказался на Западе, публикация «Письма вождям» потеряла всякий смысл. Никто не смог бы откликнуться на него положительно. Однако неожиданно, уже из Цюриха, Солженицын дал директиву публиковать «Письмо» в его новой, переработанной форме. Но теперь текст «Письма» был уже защищен копирайтом, и оно не предлагалось, а продавалось газетам, причем с условием публикации полностью, без сокращений. Это создавало и принцип «эксклюзивности», газета, покупавшая «Письмо» и публиковавшая его перевод, могла перепродавать права на публикацию в другие газеты.
В то время я был в дружеских отношениях с редактором лондонской газеты «Обсервер» – это была самая старая воскресная газета Великобритании – Дэвидом Астором. Они получили предложение на покупку прав, предложение шло от адвоката Хееба, но через ИМКА-Пресс, готовившее русский текст. Дэвида Астора и его заместителя Эндрю Вилсона смущала цена – 100 тысяч английских фунтов (по тем временам около 250 тысяч долларов США) и требование о публикации текста без сокращений. «Письмо» Солженицына вождям могло занять три газетных страницы. Я уже знал прежний текст, переработанного не видел и даже не подозревал о переработке текста письма, которое уже было в Политбюро с сентября 1973 года. Я настойчиво рекомендовал Астору и Вилсону не покупать «эксклюзивных прав», во-первых, потому, что цена была слишком дорогой (в уровне цен 2002 года это уходило за миллион долларов), и, во-вторых, я очень сомневался, что другие ежедневные газеты будут платить за «сериализацию» права перепечатки отрывков. Я объяснил редакторам, что «Письмо вождям» скорее всего вызовет негативную реакцию западной прессы, а не острый интерес и генерацию платежей. «Обсервер» послушался моего совета.
Воскресные издания других газет также не могли осилить размеры и цену. Право на публикацию «Письма вождям» на английском языке купила большая воскресная газета «Санди Таймс» и после срочного перевода опубликовала полный текст 3 марта 1974 года. Однако сериализация «Письма» провалилась, и газета потерпела убытки. В этот же день, без всяких плат за права и без разрешений, «Письмо вождям» было также опубликовано в США в воскресном издании «Нью-Йорк Таймс». Эта американская газета опубликовала оригинальный текст «Письма», который уже давно был у них из Самиздата. Он поэтому считался «общественным достоянием» и не требовал никаких выплат гонораров или разрешений. В Нью-Йорке «Письмо вождям» вышло с комментариями журналистов Т. Шабада и Н. Робертсона. [48]
«Санди Таймс» печатала весь текст без подзаголовков, «Нью-Йорк Таймс» снабдила свою публикацию сенсационными подзаголовками. Поэтому именно этот «американский» вариант подвергался сериализации. Редакторы в Нью-Йорке вообще пока не знали, что Солженицын серьезно изменил текст письма, смягчив критику Запада и удалив одиозные параграфы о преимуществах авторитарной системы. На русском языке по «Голосу Америки» также передавался первый оригинальный текст, именно тот, который читал и Брежнев. Солженицын был в бешенстве и отправил гневный протест в «Нью-Йорк Таймс». Но этот протест по поводу «неавторизованной» публикации «неверного» текста был уже нелепым. Он лишь обратил внимание на те параграфы, которые Солженицын удалил, и те, которые он изменил, смягчив критику Запада и добавив критику СССР. И в Нью-Йорке, и в Европе в газете «Геральд Трибюн» появились сопоставления измененных параграфов и объяснения о том, что «Письмо вождям», уже отправленное в Политбюро (в письме сохранялась дата – 5 сентября 1973 г.), нельзя ни «продавать», ни менять. [49]
«Письмо вождям» вызвало универсально негативное отношение комментаторов. С острой критической статьей выступил и академик А. Д. Сахаров, который получил только «смягченный» вариант письма. «Письмо вождям», опубликованное повсеместно в первичном или вторичном вариантах до публикации «Архипелага» на английском и других языках, безусловно снизило интерес к этой книге. «Письмо вождям», которое прошло по разным газетам в миллионах экземпляров, показывало Солженицына как противника западной демократии и сторонника авторитарной системы, русского изоляциониста и утописта.
Солженицын-писатель имел, благодаря Нобелевской премии, все еще репутацию «великого» или «выдающегося». Но Солженицын как мыслитель уже не принимался всерьез.
Солженицын в Цюрихе
Высылка Солженицына из СССР не была неожиданностью для него самого, он именно этот исход своей борьбы считал наиболее вероятным. На заседании Политбюро ЦК КПСС 7 января 1974 года Председатель КГБ Ю. Андропов внес предложение «…выдворить Солженицына из страны в административном порядке. Поручить нашим послам сделать соответствующий запрос в ряде стран, которые я называю в записке, с целью принять Солженицына… Жить за рубежом он может безбедно, у него в европейских банках на счетах находится восемь миллионов рублей». [50] По тогдашнему курсу рубля это было около двенадцати миллионов долларов. Эта сумма была близка к той, которую называли и западные корреспонденты.
Однако найти желающих принять Солженицына было не очень легко. Запросы шли в основном в европейские страны. 2 февраля 1974 года канцлер ФРГ Вилли Брандт публично заявил, выступая в Мюнхене, что Солженицын может свободно жить и работать в ФРГ. Повод для такого заявления был тогда не ясен, так как никто еще не знал о конфиденциальных запросах через посольства. Заявление Брандта сразу привело в действие аппарат КГБ. 7 февраля Андропов сообщил в ЦК КПСС о том, что «заявление Брандта дает все основания для выдворения Солженицына в ФРГ, приняв соответствующий Указ Президиума Верховного Совета СССР». [51] Советские дипломаты в Бонне начали переговоры в германском МИД, и операция высылки Солженицына была быстро осуществлена 13 февраля 1974 года – рейсовым самолетом из Москвы во Франкфурт-на-Майне.
14 и 15 февраля по телевидению я видел прибытие Солженицына во Франкфурт, а затем и кратковременный эпизод прогул-
ки Солженицына и Генриха Бёлля, который принял Солженицына в своем доме. После этого Солженицын вместе с прибывшим в Германию адвокатом Хеебом уехал в Цюрих.
У меня в начале марта была лекция в Италии и визит в Милан для встречи с издателем. Я мог поэтому заехать в Цюрих, либо по дороге в Италию, либо обратно. Я тогда ездил по Европе поездами, а не летал самолетами. Я написал письмо Хеебу и вложил в него письмо для Солженицына, сообщив ему о своих планах и о том, что я мог бы заехать в Цюрих «хоть на час-два» и объяснив Александру Исаевичу, что у меня есть несколько надежных каналов для связи с Москвой. Это мое письмо в недавних воспоминаниях самого Солженицына выглядит несколько иначе:
«Переселился я на Запад – Жорес из первых стал навязываться приехать в Цюрих и даже в первые дни, – продолжить внешнюю иллюзию нашей дружбы? Она очень запутывала европейцев, смазывала все грани. Я отклонил. Личные отношения не возобновлялись». [52]
О моем письме Солженицын узнал от Хееба, но, не читая его, написал ответ:
6. 3. 74.
Жорес Александрович!
Лежат тысячи писем не то что не прочтенных, но даже не просмотренных. Возможно, среди них – и Ваше о поездке в Италию, я этого не знал. В чем я сейчас нуждаюсь – это в совершенно замкнутой жизни (впрочем, как и всегда), уходе в свою работу. Не то что встречи, но даже переписка мне крайне тяжела. Прошу Вас поэтому не выполнять своего намерения приехать в Цюрих.
Жму руку. Добрые пожелания Маргарите Николаевне.
Лист бумаги был обрезан точно по размеру письма на десять строчек. Нижняя чистая половина еще могла пригодиться. Эта привычка экономить бумагу сохранилась у Александра Исаевича с лагерных времен, письма Солженицына другим людям, по крайней мере до конца 1974 года, также всегда были обрезаны по числу строк. Моей новой знакомой из американского журнала «Тайм» Патрише Блейк письмо Солженицына уже в июле 1974 уместилось даже не на половинке, а на четвертинке обычного листа бумаги.
Я, естественно, не пытался восстановить какие-либо отношения с Солженицыным или что-либо о нем писать. Но инициативу писать и заявлять о Жоресе Медведеве, или о «братьях» Медведевых, стал проявлять теперь сам Солженицын. В 1974 году это случилось несколько раз.
В начале марта 1974 года я был, пожалуй, даже доволен тем, что мне нет необходимости заезжать в Цюрих. Именно в это время возникла малоприятная для Солженицына ситуация дачи объяснений по поводу существования двух версий «Письма вождям», причем ни первую, ни вторую из них я бы не мог одобрить. Появилось в печати резкое заявление А. Д. Сахарова по поводу «Письма вождям», переданное из Москвы по телефону. Мне было также известно, что Солженицын полностью разорвал отношения со своим старым другом Дмитрием Паниным, который в то время жил уже в Париже и помчался к Солженицыну еще в дом Бёлля. Не смогла приехать к Солженицыну и Вероника Туркина, жившая в то время в Италии.
В сентябре 1974 года я уезжал в Норвегию и Швецию по приглашению Норвежского Пен-клуба. Меня пригласили сделать доклад о политической обстановке в СССР в Пен-клубе, а также прочитать лекцию по проблемам старения в Норвежском институте геронтологии. Вернувшись из Скандинавии 8 сентября, я случайно узнал о каком-то «открытом письме», которое Солженицын направил по поводу моей поездки в Норвегию. Это письмо было направлено в лондонскую газету «Таймс».
Как мне передали, в этом «открытом письме» комментировались мои выступления в Осло. Между лично знакомыми людьми обмен «открытыми письмами» не практикуется, принято сначала выяснить суть разногласий в обычной переписке. Я позвонил в Цюрих по известному мне от Хееба тайному телефонному номеру, по которому отвечали либо жена Солженицына Наталья, либо ее мать Екатерина Фердинандовна. Сам Солженицын к телефону вообще никогда первый не подходил – это было мне известно. Тещу Солженицына и я, и Рой знали давно, еще до того, как Солженицын познакомился с Натальей Светловой. Екатерина Фердинандовна и ее муж Дмитрий Светлов, умерший в 1972 году были членами общества «старых большевиков». Светлов был арестован в 30-е годы, но выжил, был реабилитирован и восстановлен в КПСС. Именно он получил ту элитную четырехкомнатную квартиру на улице Горького, в которой жила и Наталья Светлова. Рой со Светловыми много раз беседовал в конце 60-х годов, когда писал книгу о Сталине.
К телефону подошла Наталья Дмитриевна. В 1970–1972 годах я часто с ней разговаривал по телефону, и она всегда была очень приветлива. Теперь по тону я понял, что и ее отношение ко мне уже изменилось. Я спросил, действительно ли Александр Исаевич написал мне «открытое письмо». Ответ был утвердительный. Я попросил Наталью Дмитриевну прислать мне копию русского текста. Она довольно резко ответила: «Читайте английские газеты, там найдете». Я ответил, что в Англии никакого «открытого письма» не было, его публиковали в норвежской «Афтенпостен», но я норвежского языка не знаю. На другом конце провода возникло какое-то замешательство. «Подождите немного», – ответила Светлова грубым тоном и повесила трубку.
Я позвонил в «Таймс» в отдел писем. Редактор объяснил мне, что им действительно привез из Цюриха письмо Солженицына журналист Флойд, и оно было датировано 11 сентября 1974 года. Но поскольку в этом «письме» были цитаты из моей устной лекции в Осло, то редакция срочно запросила своего корреспондента в Осло уточнить текст моего доклада. В Англии существуют очень строгие правила в отношении публикаций ложной информации, и возникающие конфликты разбираются в судах. Корреспондент «Таймс» в Осло сообщил в газету, что Медведев не произносил той фразы, которую цитировал, причем в гневной форме, Солженицын. Поэтому печатать «Открытое письмо Солженицына» газета «Таймс», естественно, не могла. Тогда я был очень удивлен – откуда к Солженицыну поступила абсолютно ложная информация о моем докладе в Осло, причем столь быстро, через несколько дней. Письмо Солженицына было привезено в Лондон Флойдом уже в переведенном на английский язык варианте, но было им подписано. Тогда он был совершенно уверен, что его письма должны немедленно печататься, с его посланиями из СССР всегда так и было. Обстоятельства, побудившие Солженицына, оторвавшись от срочной работы, направить письмо в «Таймс», стали мне известны лишь недавно из собственной литературной автобиографии Солженицына:
«К осени – всё же потекла у меня работа в Штерненберге. Радость какая, я больше всего и боялся: а вдруг за границей – да не смогу писать?
Не тут-то было! В сентябре 1974 Владимир Максимов звонит мне тревожно в Цюрих. Передатный звонок Али застиг меня в Штерненберге в тихий осенний день, когда так хорошо работается – просит моего заступничества Сахарову: Жорес в Стокгольме назвал Сахарова “едва ли не поджигателем войны” и возражал против Нобелевской премии мира ему. На свой личный бы ответ Максимов не полагается, а, мол, только мой голос может быть услышан и т. д. Как всегда в таких поспешных нервных передачах и нервных просьбах отсутствует прямая достоверность, отсутствует текст, стенограмма – да где и когда их добудешь? – а вот надо протестовать! помогите! ответьте! за смысл – мы ручаемся! (А всё вздул стокгольмский член НТС, и вполне возможно, что с перекосом.)
Ах, как больно отрываться от работы! Но и – кто же защитит Сахарова, правда? Какой низкий укус! После прежних подножек Сахарову от братьев Медведевых – сразу верится, что и эта – произошла, так…
И я – ввергаюсь ещё в одну передрягу: написать газетный ответ Жоресу на не слышанное и не читанное мною выступление – а значит, осторожнее выбирая выражения. Только потому я писал не колеблясь, что знал, в какую сторону Жорес эволюционировал все эти месяцы.
А всё тот же угодник Флойд (ещё не заподозренный, это – до “Шпигеля”) берётся поместить в “Таймс”. Я пишу в Штерненберге, Аля шлёт телефонами в Лондон – проходит день, второй, третий – что-то застряло, новые волнения, новые перезвоны, вдруг заявление появляется в “Дейли телеграф” в ослабленном, искажённом виде, – значит, уже в “Таймсе” не будет, почему? “Таймс” опасается слишком прямых выражений о Ж. Медведеве, которые могут быть опротестованы через суд.
И надо сказать, что “Таймс” почувствовал верно. Жорес и через норвежскую “Афтенпостен” и прямо мне отвечал, что при его выступлении не было ни магнитной, ни стенографической записи, дословно он не говорил так, как ему приписывается, но даже и в приписываемом нет “вклада Сахарова в дело разжигания войны” – как я написал в статье на основе взбалмошной информации от Максимова. Так что, по западным правилам, Жорес вполне мог и судиться. Но правоты-то всё равно за ним не было, и он не решился». [53]
Судиться с Солженицыным за клевету я, конечно, и не собирался. На слово я всегда отвечал словом. Солженицын послал свое «Письмо в “Таймс”» также и в эмигрантскую газету «Русская мысль» в Париже, а также в «Новое Русское Слово» в Нью-Йорке. В этих газетах это письмо было напечатано, так же, как и ранее в «Афтенпостен». Я написал «Ответ на письмо Солженицына», опровергавшее все его утверждения. Мой ответ был опубликован во всех трех газетах, напечатавших ранее письмо Солженицына, а также в газете «Дейли Телеграф», давшей краткое изложение этого письма, уже со ссылкой на «Русскую мысль». Во всех этих четырех газетах мой ответ был полностью опубликован. [54] Тогда я считал конфликт исчерпанным.
Загадкой для меня и по сей день остается лишь тот факт, что, уже зная ложность информации от Максимова, которая еще искажалась по телефонам, – исходный телефонный звонок Максимову был от Гунара Мое, скандинавского представителя «Народно-трудового союза», или НТС, эмигрантской русской организации, возникшей еще в 30-е годы, – и прочитав мой ответ, Солженицын, тем не менее, продолжает публиковать свое «Открытое письмо Медведеву» во всех сборниках своей публицистики и до настоящего времени. Очевидно, это уже не имеет отношения к Медведеву.
Это заявление было единственным после начала диспута с Сахаровым по поводу «Письма вождям», в котором Солженицын защищал Сахарова. В Осло (а не в Стокгольме, как пишет Солженицын) в моем докладе я вообще не обсуждал и не касался вопроса о Нобелевской премии Сахарову. Зная, что я могу затронуть и эту тему, руководитель Норвежского Пен-клуба Иоганн Фогт предупредил меня, что публичное обсуждение достоинств кандидатов на Нобелевские премии в Скандинавии не разрешается, и вся дискуссия по этим проблемам происходит конфиденциально и только в соответствующих комитетах. Списки кандидатов также остаются конфиденциальными.
Из Москвы, от Лидии Чуковской и Льва Копелева, в октябре мне было отправлено еще одно «открытое письмо», которое достигло меня недели через три после того, как оно было зачитано в передачах мюнхенской радиостанции «Свобода». Копелев и Чуковская гневно осуждали меня уже не за то, что я что-то сказал о Сахарове, а за то, что я ничего о нем не сказал, что я не воспользовался случаем поддержать кандидатуру Сахарова на Нобелевскую премию.
Присуждение Нобелевской премии Сахарову ожидалось именно в 1974 году. Оно произошло, но на год позже.
Ростропович в Париже. Солженицын в Цюрихе
В самом конце 1974 года мы с женой оказались в Париже на конференции в институте геронтологии. По обычаю я зашел и в редакцию газеты «Русская мысль», где иногда печатался. Главный редактор газеты, княгиня Зинаида Шаховская, сразу спросила меня, знаю ли я Ростроповича? Я ответил утвердительно. «Поезжайте к нему обязательно, у него большие проблемы с визой в Англию, может быть, можно помочь. Он в гостинице “Кинг Джордж”». Я хотел сначала позвонить, но Шаховская отговорила. «Поезжайте сразу, он не выходит из номера, он все время в гостинице!» Я взял такси, заехал за женой, и мы примчались в гостиницу. Это был пятизвездный отель недалеко от Булонского леса. Мстислав Ростропович, которого почти все после первой встречи называли просто Славой, был необычайно рад, увидев нас. Последовали объятья, поцелуи, и первый вопрос Славы был: «Жорес, что случилось с Саней?» «Саней» Ростропович и многие близкие называли Солженицына.
«А в чем дело?» – спросил я.
«Да вот звоню им в Цюрих. Подходит Аля. Позови Саню, я в Париже… “Он занят, – говорит она, работает, подойти к телефону не может”. Вчера звоню снова, опять он занят, к телефону не подходит.
Сегодня утром то же самое. “Звони, – говорит, – Слава, звони, всегда рада слышать твой голос…”» Я дал ей мой телефон в Париже, думал, позвонят, но пока никаких звонков».
Время было уже вечернее.
«В чем дело? – спросил я. – Солженицын к телефону обычно не подходит, так было и раньше».
«Но мне срочно, у меня большая проблема, а главное – нет денег, я хотел у него занять».
Я, конечно, сразу руку в карман, вынимаю бумажник. Из Лондона я всегда выезжал с некоторым резервом.
«Спасибо Жорес, – остановил меня Ростропович, – мне нужно много, у вас столько нет!»
«Увы, действительно нет», – подтвердил я, услышав названную цифру.
Ростропович немного успокоился, сел на диван, и к нему подошел огромный пес породы сенбернар – это крупные собаки с коричнево-белой длинной шерстью, имя я не помню. Ростропович его очень любил. Номер в гостинице состоял из двух или трех комнат. Постепенно он рассказал свою историю. Ростропович и его жена Галина Вишневская и раньше часто ездили за границу, и иногда надолго. Но после 1970 года, когда Растропович поселил на своей даче в Жуковке Солженицына, его поездки за границу почти прекратились, «не пускали» – контракты на концерты за границей даже музыканты этого калибра должны были заключать через какое-то советское государственное агентство.
Теперь, когда Солженицын жил за границей, Ростропович смог снова заключить несколько контрактов, и первые концерты у него были в Лондоне и в других британских городах, обычно с сопровождением местных оркестров. Ростропович и Вишневская решили на этот раз уехать надолго, по крайней мере на два года. Поэтому Ростропович поехал первый, жена с двумя дочерьми должна была приехать недели через две, после того как Слава нашел бы в Лондоне подходящий дом для семьи. В Англии у Ростроповича было много друзей среди музыкантов и композиторов, и он прилично говорил по-английски. Поэтому своей главной базой он выбрал Лондон. Из Ленинграда он отправил по морю свой микроавтобус «Мерседес», – он и сам часто водил машину при поездках из города в город. В автобус загрузили виолончели, ноты и многое другое, и он прибывал на днях в один из портов в Англии. В Лондоне Ростроповича ждали. Сам же он полетел из Москвы самолетом, вместе с собакой. Ее держали в каком-то особом отсеке, пассажирам первого класса это разрешалось.
В Лондоне, в аэропорту Хитроу Ростроповича пропускают через таможенный контроль, а собаку не пропускают. В Англии, мол, собаки должны пройти сначала карантин, – это Слава рассказывал с возмущением. «Но я Ростропович! У меня на днях концерт в Лондоне», – объяснял Ростропович таможенникам. – «Мы вас не задерживаем, но собаки у нас проходят карантин». – «Как долго?» – спросил Ростропович. – «Шесть месяцев», – был ответ. – Но вы можете посещать вашу собаку», – объяснили ему. – «В клетке?» – «Не обязательно, – опять объяснили музыканту, – условия будут зависеть от оплаты. Содержание собак в карантине оплачивает хозяин». Это правило, вернее, даже закон, распространялся на всех домашних животных и был введен более ста лет назад для предотвращения собачьего бешенства. С тех пор этой болезни в Великобритании не было.
Так и не договорились. Ростропович не захотел расстаться даже временно с собакой и возмущенный улетел в Париж. Теперь он был во Франции с собакой, но без денег и без инструментов. Но особую боль и разочарование у него вызывала прежде всего невозможность поговорить с Солженицыным.
Мы пробыли в гостинице с Ростроповичем около двух часов, объяснив ему некоторые проблемы эмиграции. Выход с финансами был вскоре найден – заключен контракт со студией записи музыки и с выплатой большого аванса, причем наличными. Во Франции тогда кредитные карточки и чеки не были еще популярны, расчеты велись наличными деньгами. В последующем, уже по телефону, я узнал, что «Мерседес» с инструментами был доставлен в Париж. В Лондон Ростропович приехал, наверное, только через год. Свою основную квартиру Вишневская и Растропович купили в Париже. Смогли они, в конце концов, посетить и Солженицыных в Цюрихе. Но близкого общения между «Славой» и «Саней» после Жуковки уже не было, так как Солженицын ни в Цюрихе, ни впоследствии в Вермонте по телефону ни с кем не разговаривал. За двадцать лет ссылки, по его собственным словам, он подходил к телефону только пять раз. Один раз такого разговора удостоился Борис Ельцин во время одного из своих приездов в США.
Заочные встречи с Солженицыным
Заочных «встреч» с Солженицыным, то есть контактов, а иногда и споров в западной прессе, было у меня несколько, некоторые из них растягивались надолго. Эмигрантская жизнь русских богата конфликтами, и почти все они между писателями, обычно на страницах русских эмигрантских газет и журналов. Обо всех писать было бы длинно и скучно. Упомяну только два случая, которые касались лично мне хорошо известных людей, незаурядных, может быть, даже исторических, если говорить о России: Владимира Яковлевича Лакшина и Михаила Петровича Якубовича. В литературные работы Солженицына они попали в разное время и в разном контексте.
Михаил Якубович, до 1918 года крупный деятель меньшевистской фракции РСДРП, арестованный в 1930 году и находившийся в разных лагерях НКВД до 1956 года, является одной из жертв террора, которому посвящено около десяти страниц»
Архипелага». Владимир Лакшин, блестящий литературный критик и фактический заместитель Александра Твардовского в «Новом мире», стал одним из «героев» книги воспоминаний Солженицына «Бодался теленок с дубом», изданной в Париже в 1975 году. Лакшин и Якубович были также друзьями Солженицына. Среди множества добровольных помощников Солженицына, которые помогали ему создавать «Архипелаг ГУЛаг» своими устными и письменными рассказами, воспоминаниями и письмами, большинство из которых не были названы, «не настала та пора, когда я посмею их назвать», – писал Солженицын, начиная книгу, оставив чистое место для перечисления двухсот двадцати семи имен.
Михаил Якубович был назван с его собственного согласия. С ним Солженицын встречался много раз и записывал его рассказы. Уже в 1967 году Якубович передал Солженицыну собственную обширную «Записку» в Прокуратуру СССР о «Процессе Союзного Бюро меньшевиков» в 1931 году. С Якубовичем в то время были знакомы уже и мой брат Рой, и я. Он передал эту же «Записку» и моему брату. Она была поэтому полностью воспроизведена как документ в книге Роя «К суду истории», первое английское издание которой появилось в США в конце 1971 года и в Лондоне в начале 1972 года, почти за два года до «Архипелага», изданного в декабре 1973 года на русском языке. [55]
Эта же «Записка» ходила в Самиздате и стала известной и Солженицыну именно как документ. «…Я имею свежее свидетельство одного из главных подсудимых на том процессе – Михаила Петровича Якубовича, а сейчас его ходатайство о реабилитации, с изложением подтасовок просочилось в наш спаситель – Самиздат, и уже люди читают, как это было». [56]
Дело это формировалось, по документальному свидетельству Якубовича, по готовому сценарию, и показания арестованных добывались пытками. Это называлось «извлечением признаний». Тех, кто сопротивлялся, «вразумляли физическими методами, избивали, били по лицу, по половым органам, топтали ногами, держали без сна на “конвейере”, сажали в карцер…» «Больше всех упорствовали в сопротивлении А. М. Гинзбург и я». [57] Якубович пытался покончить жизнь самоубийством, вскрыв вены. Однако он не умер. После этого его в основном держали без сна. «Я дошел до такого состояния мозгового переутомления, что мне стало все на свете все равно, какой угодно позор, лишь бы уснуть». В этом состоянии Якубович начал давать ложные показания, оговаривая и себя и других, – это неизбежный финал следствия с применением длительных пыток.
Именно такого, сломленного пытками и бессонницей, Якубовича привели в кабинет прокурора Н. В. Крыленко, который стал вводить его в «сценарий» процесса. Крыленко хотел определенных показаний. «Договорились? – спросил Крыленко. Я что-то невнятно пробормотал, но в том смысле, что обещаю ему выполнить свой долг. Кажется, что на глазах у меня были слезы». [58]
В «Архипелаге», изданном в Париже в 1973 году, это же зверское начало процесса меньшевиков изложено несколько иначе:
«Якубович не меньшевиком, а большевиком был всю революцию, самым искренним и вполне бескорыстным… Когда же в 1930 году таких вот именно “пролезших” меньшевиков надо было набирать по плану ГПУ – его и арестовали. И тут его вызвал на допрос Крыленко. И вот что сказал теперь Крыленко:
– Михаил Петрович, скажу вам прямо: я считаю вас коммунистом! (Это очень подбодрило и выпрямило Якубовича.) Я не сомневаюсь в вашей невинности. Но наш с нами партийный долг – провести этот процесс. (Крыленке Сталин приказал, а Якубович трепещет для идеи, как рьяный конь, который сам спешит сунуть голову в хомут.) Прошу вас всячески помогать, идти навстречу следствию. А на суде в случае непредвиденного затруднения, в самую сложную минуту я попрошу председателя дать вам слово.
И Якубович – обещал. С сознанием долга – обещал. Пожалуй, такого ответственного задания еще не давала ему Советская власть!
И можно было на следствии не трогать Якубовича и пальцем! Но это было бы для ГПУ слишком тонко. Как и все, достался Якубович мясникам-следователям, и применили они к нему всю гамму – и морозный карцер, и жаркий закупоренный, и битьё по половым органам. Мучили так, что Якубович и его подельник Абрам Гинзбург в отчаянии вскрыли себе вены. После поправки их уже не пытали и не били, только была двухнедельная бессонница. (Якубович говорит: “Только бы заснуть! Уже ни совести, ни чести…”)». [59]
Меня это грубое искажение документа самого Якубовича сильно поразило. Оно было не просто ошибкой, а издевательством. Я уже знал, что один экземпляр «Архипелага» из тех, которые я отправил по дипломатическим каналам в СССР, будет послан Якубовичу, в Караганду, где он, еще как формально не реабилитированный ссыльный, жил в доме для престарелых в сильной нужде. Рой также заметил это искажение, но не стал говорить о нем в своей рецензии на «Архипелаг», написанной в январе 1974 года – Солженицын находился тогда под угрозой ареста, и мой брат в рецензии стремился прежде всего отметить правдивость книги в целом. Но в 1976 году, когда я в Лондоне начал издавать составляемый моим братом в Москве альманах «XX век», в состав которого были включены некоторые воспоминания Михаила Якубовича, в частности, его очерки о Зиновьеве и Каменеве, [60] то Якубович, которому в то время было уже восемьдесят восемь лет, обратился к Рою и через него ко мне дать в предисловии к его воспоминаниям объяснение того, что его «дело» в изложении Солженицына было существенно искажено.
Я смог выполнить эту просьбу только в 1980 году в предисловии ко второму тому английского издания альманаха, изданного в Англии и США. «Солженицын, к сожалению, не дал правдивой картины “дела меньшевиков” и исказил рассказ Якубовича, написанный как заявление для реабилитации». [61] Я привел отрывок из документа самого Якубовича и цитату из «Архипелага» для сравнения. При подготовке этих изданий альманаха я также написал издателям «Архипелага» в Англии о том, что опубликованный в этой книге рассказ о «деле» Якубовича серьезно исказил реальную действительность и о том, что Якубович, который был тогда еще жив, но уже реабилитирован, требует сделать необходимые поправки.
Солженицын в «Зернышке» сообщает, что его издатели смогли защитить именно его правоту… «И Жорес – пока притих. Суд против “Архипелага” не возник». [62] Суд действительно не возник, так как Якубович умер. Однако Солженицын, несомненно, по совету адвокатов издательства, решил изменить свой текст и удалить неправильное и нелепое по сути утверждение о том, что Якубовича пытали и держали без сна не до дачи им ложных показаний, а после, по инерции, без всякой нужды. В первом издании «Архипелага», осуществленном в СССР в 1989 году в «Новом мире», параграф о «мясниках-следователях», пытавших Якубовича, поставлен сразу за его арестом. Допрос у Крыленко передвинут ниже, в конец следствия. Но издевательские выражения о том, что допрос у Крыленко был «вдохновительным моментом» для Якубовича и что он «как рьяный конь» спешил сунуть голову в хомут, все же сохранены и в этом варианте «Архипелага». Явной клеветы уже не было, остались лишь «художественные» преувеличения. [63]
Следует отметить, что Якубович к 1920 году вышел из партии меньшевиков, но не примкнул к большевикам. Он оставался до ареста беспартийным и находился в основном на хозяйственной работе. Солженицын в первых произведениях своих героев писал «с натуры», по людям, которых он знал. В среде реабилитированных в Москве ходил упорный слух, что «старик высокий Ю-81» из повести «Один день Ивана Денисовича» был срисован Солженицыным с Якубовича. «Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям, да по тюрьмам сидит несчетно, сколько советская власть стоит, и ни одна амнистия его не прикоснулась, а как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали… Теперь рассмотрел его Шухов вблизи. На голове его голой стричь было давно нечего – волоса все вылезли от хорошей жизни. Зубов у него не было ни сверху, ни снизу ни одного: окостеневшие десны жевали хлеб за зубы. Лицо его все вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тесаного, темного. И по рукам, большим в трещинах и черноте видать было, что немного выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А засело-таки в нем, не примириться…». [64] Таких, как Якубович, выживших по разным лагерям двадцать шесть лет и еще пятнадцать лет казахстанской ссылки, были в СССР лишь единицы. Старик с «каменным лицом» «Ю-81» похож на любого из них.
Владимир Яковлевич Лакшин, умерший в 1993 году в возрасте шестидесяти лет, был очень близким другом и моего брата, и моим. Я познакомился с ним в 1964 году не через «Новый мир», где он заведовал отделом литературной критики, а в группе обнинских физиков, центральной фигурой которой был профессор Валентин Турчин. Лакшин стал одним из наиболее горячих поклонников Солженицына и в течение 1963–1967 годов публиковал глубокие и очень яркие критические разборы его произведений.
Большинство западных литературных критиков обычно рассматривало Солженицына как советского писателя и ставило его творчество в ряд с такими выдающимися писателями советского периода, как Платонов, Пильняк, Бабель, Булгаков, Пастернак. Лакшин в своих критических статьях поднимал литературный уровень Солженицына значительно выше и ставил его творчество в ряд великих русских писателей: Гоголя, Достоевского, Тургенева, Толстого.
Некоторое разочарование Лакшина вызвал «Август 1914». «Это не лучшее произведение Солженицына», – обычно говорил он друзьям. Однако следующие «узлы» «Красного колеса» разочаровывали Лакшина все больше и больше.
Публикация в 1975 году в Париже книги литературных воспоминаний Солженицына «Бодался теленок с дубом», в которой Солженицын посвятил очень много страниц «Новому миру», его редактору Александру Твардовскому и другим сотрудникам журнала, причем в искаженном, часто фальшивом, а иногда и враждебном стиле, не могло оставить Лакшина равнодушным. Лакшин написал много очерков и книг, но все они готовились для издания и публикаций в СССР. Для Самиздата Лакшин не писал, да и не было у него в этом необходимости, он не был «диссидентом», как и Твардовский. Сферой его литературной критики была русская классика и лучшие произведения советской литературы. Но «Теленок» не мог оставить Лакшина в покое, и, пожалуй, только он мог дать достойный ответ Солженицыну, защищая Твардовского и других своих коллег.
Поэтому уже в конце 1965 года Лакшин написал большой, исключительно яркий и глубокий очерк «Солженицын, Твардовский и “Новый мир”», который как полемика с «Теленком» Солженицына не мог, конечно, быть опубликован в СССР. Этот очерк имел ограниченное хождение в Самиздате. Рой включил его, с согласия автора, в один из номеров русской версии самиздатного журнала «XX век», кажется, в шестой или седьмой номер. (Всего в Москве вышло одиннадцать номеров этого журнала, а не один, как написал Солженицын в «Зернышке». [65] В 1976 году я получил микрофильмы очередных двух или трех номеров «XX века», и очерк Лакшина был среди них. Я включил его во второй и последний номер лондонского издания альманаха, напечатанного в 1977 году.
Свой ответ на очерк Лакшина Солженицын дает лишь в 1999 году, после смерти автора. Разбирает он именно тот вариант очерка, который был опубликован мною в 1977 году и с моим предисловием.
«Году в 1975 Рой надумал и взаправду выпускать самиздатский журнал “XX век”, но после первого же номера его вызвали в ЦК и запретили. Жалко! Но братцы затеяли новую мистификацию: “XX век” стал выпускать в Лондоне Жорес и утверждать, что этот журнал широко ходит в Самиздате, чего никто из Москвы нам не подтверждал.
И вот в № 2, с выходной пометкой “Лондон 1977”, напечатана была статья близкого братьям Медведевым В. Лакшина против меня – предлинная, как он всегда пишет, семьдесят страниц. “Замечательный очерк», предваряет редакция, «одного из лучших литературных критиков русской литературы, блестящего публициста и историка литературы”. Захвалено высоко, однако по нынешнему безлюдью Лакшин – критик, конечно, заметный, хотя с годами всё более зауряднеет и после “Нового мира” мало чем отличился от казённого приспособленца, стал в фаворе у властей.
Но какая смелость! – до сих пор столь лояльный, Лакшин решился печататься прямо на Западе?» [66]
Надо заметить, запрещение журнала «ХХ век» произошло не в связи с вызовом Роя Медведева в ЦК КПСС, а в КГБ после произведения обыска в квартире и конфискации всех материалов. Заодно были конфискованы все книги Солженицына и многие другие. После исключения Роя из КПСС в 1969 году он в партийные инстанции не вызывался.
Примечание Солженицына о письме Б. Г. Закса, помеченное 1986 годом, является чистой выдумкой. Вторая жена Закса Сара Юрьевна была матерью известного диссидента Андрея Твердохлебова. Вся семья эмигрировала из СССР в конце 70-х годов, однако Б. Г. Закс был вскоре помещен в США в дом для престарелых инвалидов. Поэтому подобного «свидетельства» Закса быть не могло, тем более что не было эпизода и с вызовом Лакшина секретарем СП Верченко. Этот вымысел не мог быть «со слов Лакшина». Несколько экземпляров «Теленка», сразу после выхода этой книги в Париже, выслал в Москву Рою именно я по дипломатической почте, через Роберта Кайзера, корреспондента «Вашингтон Пост». «Теленка» передал Лакшину мой брат, а не секретарь Союза писателей. От Роя я вскоре получил и очерк Лакшина в форме микрофильма, который подвергался превращению в рукопись уже в Лондоне. Лакшин предоставил мне право издавать этот очерк и на других языках.
В 1977 году по договору со мной издательство Альбин Мишель в Париже издало очерк Лакшина на французском языке. [67] В этом же году я заключил договор на издание очерка Лакшина с издательством «Кембридж Юниверсити Пресс» в Кембридже. К книге Лакшина было добавлено еще два очерка британских литературоведов о «Новом мире» и его роли в развитии русской литературы. Вместе с этими очерками получалась уже небольшая книга на 180–200 страниц. Перевод очерка Лакшина сделал по договору с издательством в Кембридже Майкл Гленни, профессор русской литературы и в то время лучший переводчик с русского в Англии. Именно Майкл Гленни переводил на английский «Август 1914». В начале 1978 года перевод был закончен, и вскоре я получил верстку всей книги на прочтение. Финансовые затраты издательства на всю работу были скромными, так как университетские издательства не платят авансов. Но профессор Гленни получил, конечно, гонорар за перевод.
Неожиданно в июле 1978 года издательство сообщило о том, что оно расторгает контракт и не может издавать эту книгу. На мой запрос (по телефону) редактор издательства объяснил, что в случае издания им угрожают судом за клевету. Источник угрозы я не пытался выяснить у издателя, но в данном случае он мог исходить только от адвоката Солженицына.
Я позвонил в Цюрих д-ру Фрицу Хеебу Но он объяснил мне, что уже больше двух лет не является адвокатом Солженицына. Он был отстранен в 1976 году из-за споров по поводу налогов «Русского благотворительного фонда», созданного Солженицыным из гонораров, поступавших в этот фонд от продаж «Архипелага». Эти деньги предполагалось расходовать на помощь семьям политзаключенных в СССР. Судя по разговору, Хееб считал свое увольнение неоправданным и необоснованным. Он прилагал все усилия для избавления «фонда» от налогов, но и он не мог нарушать законов Швейцарии. По этим законам любой фонд мог регистрироваться как благотворительный лишь в том случае, если распорядителем банковских счетов фонда не является член семьи Солженицына. В данном случае распорядителем и директором фонда была жена Солженицына Наталья, и, таким образом, деньги «фонда» не были «отчуждены» от «семьи», и поэтому «фонд» не мог считаться независимым.
Однако Хееб не знал, кто именно в настоящий момент является адвокатом Солженицына. Хееб явно был сильно обижен распространением разных слухов о том, что он в делах Солженицына вел себя нечестно. Он повторил свою фразу, которая уже была произнесена в каком-то его интервью: «Solzhenitsyn is a great man, but not a good man» (Солженицын – великий человек, но не хороший человек).
У меня на руках, однако, оставался готовый перевод книги Лакшина «Солженицын, Твардовский и “Новый мир”» в форме макета книги. Это облегчало поиски издателя, но уже в США, – там законы другие, и по делам «о клевете» нужно судиться с автором, а не с издателем.
Вскоре, не без помощи профессора Гленни, мы нашли университетское издательство в США «The MIT Press» в штате Массачусетс, которое согласилось издать книгу. Это было издательство Массачусетского института технологии, частного университета, но с очень высокой репутацией, сравнимой с Гарвардом. В данном случае был выплачен и небольшой аванс в 500 долларов, разделенный между главным автором и соавторами. Книга Лакшина снова пошла в набор. Предполагалось, что она будет опубликована в конце 1979 года.
Неожиданно это американское издательство сообщило, что договор расторгнут и книга Лакшина издаваться не будет. Это решение было уже непонятно, так как в США у издательства никаких проблем с судом не могло быть. Если бы давление на запрет книги Лакшина исходило от адвоката Солженицына, то судиться он должен был бы с автором книги, а не с издательством. В книге Лакшина не было абсолютно никаких элементов, которые подходили под категорию «клеветы». В дело включился Майкл Гленни, который, как профессор литературы и переводчик, лучше знал издательский мир. 2 мая 1980 года он прислал мне письмо:
Дорогой Жорес!
Хорошие новости! МИТ Пресс отменил свое решение об отказе от публикации Лакшина. Они снова изменили свое мнение и согласились опубликовать книгу. Вся история загадочна и непонятна, и я, откровенно, не могу ее понять. Редактор, Барбара Анкени, женщина, которая отвергла книгу Лакшина, была вынуждена уйти из издательства. Новый редактор, принявший ее отдел, восстановил все исходные планы… Книга Лакшина будет опубликована скоро, лишь немного позже, чем английское издание «Теленка и Дуба»…
Всегда Ваш Михаил.
Новым редактором, который взялся за издание книги Лакшина, был Рене Оливери. В 1980 году я был в США и встретился с ним. Книга Лакшина была издана в конце 1980 года. [68] Но она продавалась только в США, но не в Англии. Книга «Бодался теленок с дубом» была издана в США под более коротким названием «The Oak and the Calf» на несколько месяцев раньше. Можно предполагать, что были приняты какие-то усилия для того, чтобы эти книги не появились одновременно, так как Лакшин слишком сильно подрывал репутацию книги Солженицына, которую издавало большое коммерческое издательство «Коллинз» (Collins). Одновременная публикация неизбежно сдваивала бы рецензии, и мнение Лакшина, безусловно, снизило бы ожидавшийся успех «Теленка» на английском. Однако «Теленок» и без книги Лакшина был принят рецензентами очень плохо и не имел успеха. Наиболее критическую рецензию, что можно было ожидать, опубликовал Джордж Фейфер:
«Солженицын в этой книге похож на Ленина. Он не доверяет никому. Он видит врагов там, где их нет, он обращается с помощниками и союзниками как с потенциальными предателями, он обманывает друзей… “Теленок” наносит главный удар против тех друзей и союзников, которые рисковали собственной судьбой, помогая ему… Его главной жертвой оказался “Новый мир”, который немедленно признал выдающейся его повесть “Один день…” и редакторы которого самоотверженно боролись за ее публикацию. …Если бы эта повесть оказалась в любом другом советском журнале в тот период, то она несомненно не была бы опубликована…. “Теленок” характеризует сотрудников “Нового мира” с таким же негодованием, с каким “ГУЛаг” обрушивается на правителей СССР…» [69]
У Джорджа Фейфера были, конечно, и личные мотивы для того, чтобы дать именно столь критическую оценку не только книге, но и ее автору. Но немалое число других критиков также были разочарованы «Теленком». Книга Лакшина получила меньшее число рецензий, но все они были положительными.
Лондон, 2003
Рой Медведев Из воспоминаний об А. Д. Сахарове
Первые встречи с А. Д. Сахаровым
Имена ученых, принимавших участие в разработке всех видов ядерного оружия, были в СССР засекречены. Эти люди не участвовали в общественно-политической жизни страны. Но они не участвовали и в каких-либо открытых научных дискуссиях. Академик Андрей Дмитриевич Сахаров был одним из этих особо секретных и особо охраняемых ученых. Он возглавлял на «объекте» в одном из секретных научных городов группу замечательных, но также засекреченных ученых. Однако интересы А. Д. Сахарова стали постепенно выходить за рамки одних лишь научных проблем, и он был первым из ученых-атомщиков, кто прорвал возведенную вокруг них информационную и политическую изоляцию. Это произошло неожиданно и для властей, и для самого Сахарова.
Летом 1964 года должны были пройти очередные выборы в Академию Наук СССР. Среди кандидатов на пост академика был и один из ближайших соратников Трофима Денисовича Лысенко член-корреспондент АН СССР Н. И. Нуждин. Его кандидатура была поддержана в ЦК КПСС и уже прошла через Отделение биологических наук Академии. Академики-физики и особенно атомщики относились к концепциям «мичуринской биологии» весьма неприязненно еще с конца 40-х годов. Как при производстве, так и на испытаниях атомного оружия физикам приходилось считаться с таким явлением, как радиация, а это требовало существенного расширения их познаний в биологии и генетике. Именно в научных учреждениях атомной индустрии нашли в 40—50-е годы укрытие и работу многие ученые-генетики, уцелевшие от погромных кампаний в биологии 1948–1949 годов. В атомных научных центрах шло развитие новой научной дисциплины – радиобиологии, которая строилась на принципах не «мичуринской», а классической генетики. Критически относился к концепциям Т. Лысенко и А. Сахаров.
Среди ведущих советских физиков было несколько академиков старшего возраста, которые работали одновременно и над секретными, и над открытыми научными проектами. Эти люди решили выступить против избрания Н. Нуждина на пост академика. Детали этого, по условиям того времени весьма необычного и смелого выступления, обсуждались в канун Общего собрания АН СССР на квартире академика В. А. Энгельгардта. Здесь собрались несколько очень известных ученых, включая И. Е. Тамма, М. А. Леонтовича и других. А. Д. Сахарова на этом конфиденциальном совещании не было, он о нем даже не знал. Но Сахаров присутствовал на Общем собрании и был крайне взволнован выступлением Энгельгардта, который высказался против избрания в академики Н. Нуждина. Последние слова Энгельгардта о том, что кандидатура Нуждина «не отвечает тем требованиям, которые мы предъявляем к этому самому высокому рангу ученых нашей страны», были встречены аплодисментами, и это вызвало растерянность в Президиуме собрания. «Кто еще хочет взять слово?» – спросил Президент АН Мстислав Келдыш. И здесь руку поднял А. Д. Сахаров. Это решение, как свидетельствовал позднее Андрей Дмитриевич, «я принял импульсивно; может быть, в этом проявился рок, судьба».
Выступление академика Энгельгардта было весьма критическим по характеру, но академическим по тону и форме изложения. А. Сахаров, выступивший следом, был очень резок. Он говорил о гонениях в биологии, о преследованиях подлинных ученых, в которых активно участвовал и Нуждин. «Я призываю всех присутствующих академиков, – сказал в заключение своей краткой речи Сахаров, – проголосовать так, чтобы единственными бюллетенями, которые будут поданы „за“, были бюллетени тех лиц, которые вместе с Нуждиным, вместе с Лысенко несут ответственность за те позорные, тяжелые страницы в развитии советской науки, которые в настоящее время, к счастью, кончаются». Эти слова также были встречены аплодисментами.
После А. Сахарова, несмотря на громкие и бурные протесты Т. Д. Лысенко, выступил и академик И. Е. Тамм, которого также слушали с большим вниманием и проводили аплодисментами. Когда вечером 26 июня было проведено голосование, то оказалось, что из ста тридцати семи присутствовавших на Общем собрании академиков только двадцать три человека написали в своих бюллетенях слово «за». Отрывки из стенограммы с текстами выступлений В. Энгельгардта и А. Сахарова и выкриками Т. Лысенко быстро распространились тогда в кругах научной интеллигенции в Москве.
Провал Н. И. Нуждина на выборах в Академию наук вызвал гневную реакцию со стороны Никиты Сергеевича Хрущева, который покровительствовал Т. Д. Лысенко – это было известно и всем академикам. «Если Академия начинает заниматься политикой, а не наукой, – заявил в своем окружении Хрущев, – то такая Академия нам не нужна». В Москве распространились слухи о том, что Хрущев поручил соответствующему отделу ЦК подготовить проект о реорганизации Академии наук СССР в Государственный комитет по науке.
В сентябре 1964 года академик А. Д. Сахаров передал в аппарат ЦК большое письмо с объяснением мотивов своего выступления на Общем собрании АН. Но Сахаров не дождался ответа, так как в октябре Хрущев был смещен со всех своих постов. Среди обвинений, выдвинутых против Хрущева на Октябрьском пленуме ЦК КПСС, было и обвинение в неоправданном конфликте Хрущева с Академией наук, а также в безоговорочной поддержке биологических и сельскохозяйственных концепций Т. Д. Лысенко. Для Лысенко и его группы решения Октябрьского пленума стали концом их монополии и их власти в биологических и сельскохозяйственных науках.
Мой брат Жорес еще в начале 1962 года написал большую, очень острую, но увлекательную и убедительную научно-публицистическую работу против Лысенко и его клики «Биологическая наука и культ личности (Из истории агробиологической дискуссии в СССР)». Эта работа быстро распространилась в списках; ее читали в литературных и в научных кругах, и она, несомненно, повлияла на быстрый рост антилысенковских настроений в образованной части общества. Особенно внимательных читателей эта работа имела в кругу физиков-атомщиков, где работа Жореса стала известна еще до упомянутого выше Общего собрания АН СССР.
Читал работу Жореса и А. Д. Сахаров. Один из его друзей и соратников по работе на «объекте» академик В. Б. Адамский писал позднее в своих воспоминаниях: «В 1963–1964 годах ходило в самиздате исследование Ж. Медведева “История биологической дискуссии в СССР”. Все то, что сейчас известно о действиях Лысенко по разгрому советской биологии, в этом исследовании содержалось. Описывалась там и трагическая судьба академика Вавилова. Прочитав, я дал этот материал Андрею Дмитриевичу.
Нельзя сказать, что все содержание рукописи было для него новостью, но все-таки ее эмоциональное воздействие на Андрея Дмитриевича было очень сильным. Я не помню, чтобы он так резко о ком-нибудь высказывался. Запомнилось мне выражение: “Вегетарианство по отношению к Лысенко недопустимо”. Вскоре представился случай дать бой Лысенко. Как известно, в значительной степени благодаря выступлению А. Д. Сахарова на Общем собрании Академии наук кандидатура ставленника Лысенко была провалена. Возвратившись с сессии Академии наук, он зашел ко мне поделиться радостью победы». [70]
Уже после описанных выше событий в АН СССР Жорес дважды встречался с А. Д. Сахаровым на его квартире в Москве. Первая из этих встреч состоялась еще до Октябрьского пленума ЦК КПСС. Выступление А. Д. Сахарова в АН СССР было его первым публичным выступлением против официальной политики властей. Встреча с Жоресом была первой встречей Сахарова с одним из известных диссидентов – этот термин тогда еще не употреблялся, да и само движение только зарождалось. К сожалению, в своих воспоминаниях Андрей Дмитриевич писал об этой важной для обоих собеседников встрече не слишком точно.
«Через несколько дней после выступления в Академии, – писал Сахаров, – ко мне домой пришел не знакомый мне раньше молодой биолог Жорес Медведев (хотя я раньше слышал его фамилию). Он очень высоко оценил мое выступление и попросил меня подробно повторить, по возможности точней, что именно я говорил, и всю обстановку. Все это он записал в блокнот для включения в его книгу. Ж. Медведев оставил мне для ознакомления рукопись своей будущей книги, которая тогда называлась “История биологической дискуссии в СССР” или как-то похоже. Рукопись действительно была очень интересной». [71]
Но такой встречи летом 1964 года между А. Сахаровым и Ж. Медведевым не было и быть не могло, так как никто из нас ничего не знал об А. Д. Сахарове и о природе его занятий и положении. Жорес не мог знать ни адреса, ни телефона Сахарова, а копию стенограммы Общего собрания АН он получил от своего друга биолога В. П. Эфроимсона, а позднее от академика В. Энгельгардта, с которым был в добрых отношениях еще с середины 50-х годов.
В июле и августе 1964 года Жорес с семьей отдыхал в Никитском ботаническом саду в Крыму. Также в Крыму, но в санатории «Мисхор», отдыхал в это лето и А. Д. Сахаров с семьей. Почти в самый последний день лета в газете «Сельская жизнь», которая была органом ЦК КПСС, была опубликована большая статья Президента ВАСХНИЛ М. А. Ольшанского «Против дезинформации и клеветы», в которой рукопись Жореса «Биологическая наука и культ личности» объявлялась клеветнической. За ее распространение, как писал Ольшанский, Жорес Медведев должен предстать перед судом как клеветник. Здесь же весьма пренебрежительно говорилось и об академике Сахарове, «инженере по специальности, который, начитавшись подметных писем Медведева, допустил на Общем собрании Академии наук СССР клевету в адрес советской биологической науки и видных советских ученых-биологов».
И Жорес, и А. Сахаров, как выяснилось позднее, прочитали статью Ольшанского в один и тот же день, но в разных местах. Еще через десять дней академик Б. Л. Астауров, с которым Жорес был хорошо знаком, передал ему полученную через академика М. А. Леонтовича просьбу А. Д. Сахарова о встрече. Михаил Александрович Леонтович был известным физиком и также работал по атомным проблемам, но он не был засекреченным ученым. Леонтович жил в Москве в том же доме, что и Сахаров. Правда, Сахаров тогда большую часть времени жил с семьей в своем коттедже на «объекте» и в Москве бывал наездами. Жоресу назвали телефон квартиры Сахарова и точный день и час, когда по этому телефону надо позвонить. И действительно, когда в назначенное время Жорес позвонил, Сахаров сам поднял трубку и пригласил Жореса к себе, назвав адрес.
В своих воспоминаниях Жорес позднее писал: «Я приехал к А. Д. Сахарову на такси. Насколько я помню, это был трехэтажный дом “элитной” постройки. Никакой видимой охраны не было, вход в подъезд был обычный, я поднялся по лестнице и позвонил в нужную квартиру. Беседа была только с Сахаровым в его кабинете, членов семьи я в тот раз не встретил. Я привез Сахарову новый вариант моей книги. Эта книга обновлялась каждый год, и с ее первым вариантом Сахаров был знаком. Он рассказал мне, что его выступление вызвало сильное недовольство Хрущева. Иногда он показывал пальцем на потолок – обычный знак того, что разговоры в квартире могут прослушиваться КГБ. Поэтому беседа была сдержанной. Я рассказал ему о своей работе и своем положении в Обнинске. Мы условились встретиться снова через месяц.
Но в следующий мой визит к Сахарову в заранее оговоренный день положение дел было уже иным. Хрущев был освобожден от всех своих должностей, и отношение к генетике сразу изменилось. Наша беседа, помимо этих событий, коснулась и проблем радиобиологии. Сахаров был убежден, что во время испытаний водородной бомбы в 1953 году он переоблучен при осмотре места взрыва. У него был стабильно повышенный уровень лейкоцитов, и он боялся возможности лейкемии. Я тогда еще не знал, что бывший начальник Средмаша В. А. Малышев, вместе с которым Сахаров осматривал эпицентр взрыва, умер через три-четыре года от лейкемии.
Оба раза в 1964 году мои встречи с Сахаровым продолжались часа по полтора. Никаких вопросов, связанных с его собственной работой, я, естественно, не задавал. Беседы ограничивались вопросами биологии и медицины. Мне было тогда неизвестно, где он работает и какие проблемы решает. Во время беседы Сахаров не проявлял никакой эмоциональности и иногда писал на бумаге какие-то формулы. Было очевидно, что его все время беспокоят какие-то свои проблемы».
В 1965 и 1966 годах у Жореса не было встреч с Сахаровым. В самом начале 1966 года в Москве получил широкое распространение небольшой, но важный для всех нас документ – письмо группы весьма влиятельных деятелей советской интеллигенции, адресованное Л. И. Брежневу и А. Н. Косыгину. Это был протест против попыток реабилитации Сталина в преддверии XXIII съезда КПСС. Среди двух десятков подписей здесь стояла и подпись: «А. Д. Сахаров, академик, трижды Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственных премий».
Теперь уже более широкие круги общественности узнали о Сахарове, хотя кроме самого имени, титулов и наград об этом человеке еще никто ничего не знал. Я знал о Сахарове также очень мало – и из рассказов Жореса, и от писателя Эрнста Генри (Семен Николаевич Ростовский), который был организатором и составителем упомянутого выше письма. Э. Генри рассказывал мне, что Сахаров не только сам охотно подписал это письмо, но предложил сделать то же самое и некоторым другим академикам, жившим недалеко. Именно Э. Генри, с которым я в то время часто встречался и беседовал, рассказал А. Сахарову о существовании моей работы «К суду истории».
Это была довольно большая рукопись, посвященная проблемам сталинизма, которую я продолжал обновлять и расширять примерно раз в шесть месяцев. Я начал эту работу еще в конце 1962 года без всякой конспирации, и ее первые варианты читали даже секретари ЦК КПСС Л. Ф. Ильичев и Ю. В. Андропов. Обсуждение рукописи среди друзей, среди писателей и старых большевиков, а также других заинтересованных лиц было для меня важной формой накопления материалов. Однако я препятствовал более широкому и бесконтрольному распространению своей работы. Осенью 1966 года Э. Генри передал мне просьбу А. Сахарова, который хотел прочесть мою рукопись.
Я не сразу откликнулся на эту просьбу. Обстановка в стране изменилась, и мне пришлось внести в свою деятельность некоторые элементы конспирации. Круг знакомых Сахарова мне был неизвестен, и я опасался, что обсуждение моей рукописи среди столь необычных людей может в чем-то осложнить мое положение. Сахаров, однако, повторил свою просьбу, и вскоре я отправил ему через Э. Генри большую папку с текстом очередного варианта книги «К суду истории». В этой папке было уже около восьмисот машинописных страниц. Примерно через месяц Э. Генри передал мне приглашение от академика, а также его адрес и домашний телефон.
Моя первая встреча с А. Д. Сахаровым состоялась после предварительной договоренности в один из зимних дней в самом начале 1967 года. По принятым среди диссидентов правилам, я никогда не вел никаких записей о своих встречах и беседах и вынужден поэтому полагаться на свою память. В своих публикациях 70—80-х годов Андрей Дмитриевич несколько раз упоминал о наших встречах и беседах, но в разное время он это делал с разными акцентами и в разных редакциях. Я не буду полемизировать с этими текстами.
В первой своей автобиографии, опубликованной в 1974 году Сахаров писал о событиях 1964–1967 годов следующее: «Для меня лично эти события имели большое психологическое значение, а также расширили круг лиц, с которыми я общался. В частности, я познакомился в последующие годы с братьями Жоресом и Роем Медведевыми. Ходившая по рукам, минуя цензуру, рукопись биолога Жореса Медведева была первым произведением „самиздата“ (появившееся несколько лет перед этим слово для обозначения нового общественного явления), которое я прочел. Я познакомился также в 1967 году с рукописью книги историка Роя Медведева о преступлениях Сталина. Обе книги, особенно последняя, произвели на меня очень большое впечатление. Как бы ни складывались наши отношения и принципиальные разногласия с Медведевыми в дальнейшем, я не могу умалить их роли в своем развитии». [72] В «Воспоминаниях» А. Д. Сахарова, опубликованных в двух томах в 1996 году, этих слов нет, а имеется странная фраза о том, что «конкретная информация, содержащаяся в книге Медведева, во многом повлияла на убыстрение эволюции моих взглядов в эти критические для меня годы. Но и тогда я не мог согласиться с концепциями книги». [73] Однако никаких замечаний по моей рукописи А. Сахаров в конце 60-х годов не высказывал; у нас не было никаких споров ни по моим, ни по его работам, хотя различия в оценках и взглядах были уже тогда. Но они казались нам совершенно несущественными – по тем временам.
Я посетил А. Д. Сахарова в его московской квартире. В уютном и тихом переулке недалеко от Института атомных исследований им. И. В. Курчатова стояли два четырехэтажных дома, в которых жили, как я узнал позднее, ученые-атомщики. Из небольшой передней мы прошли в круглый большой холл, из которого можно было войти в три или четыре больших комнаты и на кухню. В простенках от пола до потолка стояли книжные шкафы, но книги лежали и стояли на полках в каком-то беспорядке. Некоторый беспорядок был и во всей квартире: старый продавленный диван, старая мебель, простой письменный стол с пачками бумаг. Никаких признаков той ухоженности или даже роскоши, какую я видел в квартирах других академиков, с которыми познакомился в 1966 году.
Жена А. Д. Сахарова Клавдия Алексеевна была не слишком здоровой женщиной, и ей было не под силу следить за порядком в большой квартире. Старшая замужняя дочь Татьяна жила отдельно. Средняя – Люба – заканчивала в этот год школу и готовилась к поступлению в институт, сын Дима учился в четвертом классе.
Никакой прислуги, обычной в домах других академиков или известных писателей, в семье Сахарова не было. Казалось очевидным, что гости в этой квартире бывают редко. Я заметил также, что Сахаров не придавал никакого значения ни обстановке в квартире, ни своей одежде. На локтях его свитера были заметны прорехи, не хватало пуговиц на рубашке. Случайные вещи лежали на стульях и подоконниках.
Я спросил Андрея Дмитриевича – не прослушивается ли его квартира. Он считал это возможным, но не в целях слежки, а в целях охраны. «В нашем доме всегда заперты подвал и чердак, но мы проходим по каким-то другим управлениям, – сказал Сахаров. – Раньше охрана была постоянной и явной. Даже когда я выходил в магазин за хлебом, меня сопровождал телохранитель. Но в 1961 году я и мои друзья потребовали от Суслова убрать от нас эту ненужную опеку. Охраны сейчас нет на виду, но я не могу исключить того, что она просто стала незаметной».
В кабинете Сахарова был еще один человек – академик Виктор Борисович Адамский, которого хозяин представил как своего друга. Но Адамский почти не принимал участия в нашей беседе. На столе в кабинете лежала не только моя рукопись, но и несколько ее машинописных копий, что меня встревожило. Видимо, Андрей Дмитриевич это заметил и тут же сказал, что он попросил перепечатать рукопись только для самого себя, остальные я могу увезти. Я не стал возражать, так как не предупредил заранее Сахарова о нежелательности перепечаток.
Наш разговор, естественно, пошел вокруг только что прочитанной Сахаровым и его знакомым рукописи. Замечаний по работе у Сахарова не было, очень многое из того, что он узнал из моей книги, было для него открытием, и не слишком приятным. Он признавал и сейчас, и потом, что жил слишком долго в каком-то предельно изолированном мире, где мало знали о событиях в стране, о жизни людей из других слоев общества, да и об истории страны, в которой и для которой они работали.
Конечно, Сахаров знал, что в СССР до 1956 года было много лагерей и много политических заключенных. Все крупные атомные объекты, на которых бывал Сахаров, строились заключенными, и он видел из окна своего дома на одном из «объектов» колонны заключенных, идущих на работу, слышал команды охранников. Но все это проходило тогда мимо его сознания. Говорил Сахаров и о Берии, с которым встречался и разговаривал несколько раз. К Берии атомщики обращались в критических ситуациях как к самой последней инстанции, со Сталиным они не общались.
Наша первая встреча продолжалась, вероятно, часа два. Я отметил, что Андрей Дмитриевич был чрезвычайно прост в обращении, даже немного застенчив. Не было попытки играть какую-то роль. Я сказал ему, что среди интеллигенции о нем говорят как об «отце советской водородной бомбы». Так ли это? Сахаров ответил, что он много сделал для успешного завершения этих работ, но проекты такого масштаба не могут не иметь коллективного авторства. Еще по крайней мере три физика могли бы назвать себя с полным на то основанием отцами советской водородной бомбы. В последующие недели и месяцы мы с Сахаровым встречались довольно часто. Некоторые из этих встреч происходили у меня на квартире в районе метро «Речной вокзал». Андрей Дмитриевич сначала звонил, а потом приезжал на такси. Он говорил, что очень редко пользуется служебной автомашиной.
В эти месяцы Сахаров жадно читал имевшиеся у меня материалы Самиздата. Особенно сильное впечатление произвели на него роман-мемуары Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», роман А. Солженицына «В круге первом», рассказы Варлама Шаламова. Некоторые из этих работ он приобретал для себя, оплачивая труд машинистки. Читал он и многие документы, связанные с быстро развивавшимся тогда движением за права человека, например, письма и статьи генерала Петра Григоренко, стенограммы происходивших тогда судебных процессов.
Наши разговоры касались многих проблем, вопросы исходили почти всегда от моего собеседника. Сахарова угнетал, например, эпизод с шофером одной из грузовых машин – это была давняя история начала 50-х годов, когда на одной из узких и плохих дорог близ «объекта», где работал по нескольку месяцев подряд Сахаров, его легковую машину задел и столкнул в кювет встречный грузовик. Сахаров получил травмы и оказался в больнице, а шофера грузовика судили за диверсию и покушение, хотя это был просто несчастный случай. «Он получил большой срок, а я не вмешался, я должен был тогда вмешаться, думал об этом, но ничего не сделал».
Несколько раз Сахаров возвращался к вопросу об испытаниях водородных бомб на Новой Земле. Эти испытания были прекращены в конце 50-х годов, но возобновлены в начале 60-х, против чего Сахаров решительно возражал. По его собственным подсчетам, представленным в закрытых публикациях, число жертв от одной мегатонны взрыва оценивалось цифрой в десять тысяч человек. Речь шла о радиационных и генетических заболеваниях на большой территории и в течение длительных сроков. Но немалое число жертв приходилось на ближние сроки и на ограниченной территории. Чрезвычайный вред наносился здоровью и жизни северных народов и оленеводству. А ведь летом 1962 года было проведено, вопреки самым резким протестам Сахарова, испытание 50-мегатонной бомбы. Последствия его были очень тяжелыми, и это ускорило заключение договора о запрещении всех ядерных испытаний в трех средах.
Говорил Сахаров и о проведении «направленных» взрывов атомных конструкций при строительстве плотин и каналов. Как я понял, Сахаров участвовал в разработке этих проектов, за что получил одну из Государственных премий и третью медаль Героя Социалистического труда. И в данном случае исследования показывали, что каждый такой наземный взрыв, не убивая никого сразу, приводил все-таки к необратимым изменениям в наследственных структурах, заболеваниям лейкемией, раком и другими болезнями у нескольких тысяч человек на протяжении нескольких десятилетий.
Мне казалось недопустимым идти на проведение таких «мирных» взрывов, заранее зная, что от них пострадают многие люди, и не только в Советском Союзе. Но Сахаров пытался тогда еще искать какое-то оправдание такой атомной технологии, говоря, что за любой шаг вперед технического прогресса надо платить. «А разве строительство железных дорог и автомобилизация не приводят впоследствии к тысячам смертей?» «А химическая промышленность, а применение удобрений и пестицидов?» Я возражал, замечая, что при работе железных дорог каждая авария – это сочетание случайностей, которые можно свести к минимуму или предотвратить, тогда как ядерный взрыв с необходимостью ведет к смерти и болезням многих людей на большой территории. К тому же эти люди, в отличие от шофера автомобиля, ничего не знают о грозящих им бедах, и их риск не был делом их собственного выбора. Многие ученые-атомщики в 60-е годы верили в безграничность возможностей мирного использования атомной энергии. Более адекватные представления об опасностях и рисках пришли ко всем нам только после Чернобыля.
А. Д. Сахаров в 1968 году. Первый «Меморандум»
Во многих отношениях 1968 год стал переломным в жизни, в положении и общественной деятельности А. Д. Сахарова. Хорошо помню, что уже с января 1968 года Андрей Дмитриевич стал значительно больше читать материалы Самиздата. С января 1968 года я стал приносить ему материалы своего ежемесячного информационно-аналитического бюллетеня, многие номера которого были изданы позже за границей в 1972 и 1975 годах под названием «Политический дневник». В 60-е годы у моего издания такого названия не было. На первой странице стоял только номер очередного бюллетеня и месяц, в течение которого этот бюллетень готовился. В № 30 этого самиздатского журнала за март 1967 года помещен «Диалог между публицистом Эрнстом Генри и ученым А Д. Сахаровым» на тему «Мировая наука и мировая политика». Это первая, хотя и неофициальная, публикация мыслей А. Д. Сахарова, главным образом по проблемам разоружения. Андрей Дмитриевич узнал об этой публикации только в 1973 году после издания первого тома «Политического дневника» в Амстердаме. В воспоминаниях А. Д. Сахаров подробно пишет о том, как был написан их «Диалог», как он обсуждался в редакции «Литературной газеты», а затем в идеологическом аппарате ЦК КПСС. Э. Генри и А Сахарову передали отзыв Михаила Андреевича Суслова, который нашел статью интересной, но высказался против ее публикации, так как в ней есть положения, «которые могут быть неправильно истолкованы».
Как писал Сахаров, «история на этом не кончилась. Через несколько лет я узнал, что статья все же была напечатана очень небольшим тиражом в сборнике “Политический дневник”. Ходили слухи, что это издание для КГБ или “самиздат для начальства”. Еще через несколько лет Рой Медведев заявил, что составитель сборника – он. Но как к нему попала моя статья – до сих пор не знаю». [74] В большой биографии А. Д. Сахарова, которая вышла в свет в 2000 году, ее автор Геннадий Горелик называет «Политический дневник» «периодическим самоизданием для избранных», в котором Рой Медведев «позволил себе подредактировать статью Сахарова без согласования с автором». [75]
Эти упреки несправедливы и основаны на недоразумении. Сахаров сам писал в воспоминаниях, что после отклонения статьи в ЦК КПСС он лично отвез ее рукопись Эрнсту Генри, впервые посетив его большую холостяцкую квартиру. Но Эрнст Генри сделал с этой рукописи копию и передал мне один экземпляр для ознакомления среди друзей. Никаких других согласований для использования этого текста в моем бюллетене не требовалось. Этот эпизод не заслуживал бы такого внимания, если бы Сахаров не писал позднее, что именно в их совместной статье «Мировая наука и мировая политика» содержались некоторые идеи, которые он позднее более полно изложил в своих «Размышлениях».
С самого начала 1968 года в центре внимания всех диссидентских кружков были события в Чехословакии. А. Д. Сахаров с большим интересом следил за развитием этих событий, явно сочувствуя происходящей там быстрой демократизации. В Москве возникло несколько кружков, в которых быстро делали перевод самых значительных статей и материалов из чехословацкой печати и распространяли эти переводы. К тому же многие из документов и выступлений лидеров «Пражской весны» можно было получить и через посольство ЧССР в Москве.
К моему удивлению, Сахаров начал читать в эти месяцы и некоторые книги по марксизму, однажды я увидел на его письменном столе «Капитал» К. Маркса и еще несколько не слишком популярных книг по марксизму. Я посоветовал Андрею Дмитриевичу начинать с Плеханова, но Сахаров не стал продолжать этот разговор. У него не было желания обсуждать прочитанное или вступать в дискуссию со мной или с кем-либо другим. Впрочем, желание изучать марксизм и теорию социализма по первоисточникам у Сахарова быстро прошло. И стиль, и образ мышления, и общий взгляд на общественные проблемы XX века у Сахарова были чужды марксистской догматике. Он видел проблемы современного общества под каким-то другим углом зрения; оригинальность его мышления проявлялась и здесь, но у него не было ни времени, ни возможностей для систематической работы в этой новой для него области знаний.
Однажды, в самом конце апреля 1968 года А. Сахаров позвонил мне и попросил приехать к нему по возможности в тот же день. Пригласив меня в кабинет, Сахаров протянул мне машинописный текст, на первой странице которого я прочел: «А. Сахаров. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Статья Сахарова, о которой позднее стали говорить как о «манифесте», а чаще как о «меморандуме», была достаточно большой, но я прочел ее сразу – при авторе.
Я не увидел в этом тексте почти никакого влияния прочитанных им книг по марксизму, кроме принятия в общей форме идей гуманного социализма и социалистической демократии. Гораздо большим было влияние взглядов и общественных выступлений таких физиков и философов, как А. Эйнштейн, Н. Бор, Б. Рассел, а также немецкого врача-гуманиста А. Швейцера. Но в большей мере это был оригинальный взгляд на советскую действительность самого Сахарова. Здесь были и глубокие идеи, и наивные, на мой взгляд, рассуждения, но вся работа подкупала свежестью мысли, оригинальностью и искренностью.
Для меня тогда эта работа Сахарова показалась очень важным событием, ибо столь значительный во всех отношениях человек открыто и активно выступал против сталинизма и в защиту демократического социализма. Все же я высказал немало конкретных замечаний. Сахаров сказал мне, что это пока черновик, но он хотел бы, чтобы некоторые из моих друзей – историков и писателей – прочли его статью и высказали свое мнение. Я обещал сделать это, но предупредил Андрея Дмитриевича, что в условиях бурного развития Самиздата его статья может выйти из-под контроля. Но это обстоятельство его не беспокоило.
В последующие несколько недель статью Сахарова прочли многие из моих друзей и знакомых. Первыми ее читателями, насколько я помню, были М. И. Ромм, Е. С. Гинзбург, историк В. П. Данилов, философ Г. С. Батишев, Е. А. Гнедин. Некоторые ограничились небольшими устными замечаниями, другие писали развернутые отзывы и предложения. Сахаров очень внимательно относился к замечаниям, но принимал далеко не все. Он продолжал весьма интенсивно работать над текстом «меморандума», внося в него как мелкие, так и существенные исправления, затрагивая и ряд новых тем.
Вся эта работа не могла оставаться незамеченной «органами» хотя бы потому, что и квартира, и телефон Сахарова прослушивались. К тому же он сам никогда не считал нужным прибегать к конспирации – это была его принципиальная позиция. «Мне нечего скрывать», – не раз повторял он. В один из визитов я встретил у Сахарова академика Юлия Харитона, который занимал очень высокий пост в атомной научной иерархии и был научным руководителем на «объекте». Разговор с Харитоном уже заканчивался, и он вскоре ушел. «Уговаривал меня не давать хода “Размышлениям”, – мимоходом заметил Сахаров. Но убедить Сахарова отказаться от публичного выступления было уже невозможно ни уговорами, ни тем более угрозами.
Все новые варианты «Меморандума» Сахаров просил перепечатывать меня. Я делал это сам, но иногда приглашал для помощи историка и архивиста Леонида Петровского, с которым я уже несколько лет сотрудничал и который с большим энтузиазмом относился к работе Сахарова. В моем архиве остались поэтому разные варианты «Меморандума» с рукописной правкой Сахарова, а также многие отдельные страницы с вставками и поправками. Два раза Сахаров брал такси и привозил мне сразу по семь-восемь страниц «Замечаний и добавлений к статье Сахарова». Оригиналы всех бумаг с рукописными текстами А. Д. Сахарова я передал в конце 90-х годов в архив его имени, созданный Е. Г. Боннэр, оставив себе ксерокопии. Андрей Дмитриевич заменил и эпиграф к «Меморандуму». Вначале это были известные слова Гёте «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». Затем он заменил их словами Шиллера «Только полнота ведет к ясности».
Работа над новыми вариантами еще продолжалась, когда мы узнали, что параллельно стало идти и бесконтрольное размножение текста, подхваченное стихией Самиздата. Следовало ждать, что вскоре статья такого автора, как А. Д. Сахаров, может оказаться и за границей. Много позднее стало известно, что текст «Меморандума» передал в середине июня голландскому корреспонденту Карелу ван хет Реве известный диссидент Андрей Амальрик. У Андрея Амальрика, человека с безупречной репутацией, не входившего ни в какие кружки, но поддерживавшего добрые отношения с другими диссидентами, были открытые и давние связи с иностранными корреспондентами.
Вечером 10 июля Андрей Дмитриевич позвонил мне и спросил, слушаю ли я передачу Би-Би-Си. Это было последнее лето, когда западные радиостанции еще не глушились. Я настроил свой радиоприемник на волны Би-Би-Си и услышал, как диктор читает «Меморандум» Сахарова. Андрей Дмитриевич не скрывал своего удовлетворения, хотя в распространение по миру попал не самый последний вариант его статьи. Я не буду писать здесь о том, какие отклики вызвала работа Сахарова во всем мире и в Советском Союзе. Ее почти полностью опубликовали главные газеты западных стран. Появилось множество комментариев и подробных разборов, были, конечно, и критические отзывы.
С июля 1968 года имя А. Д. Сахарова приобрело не просто всемирную известность, но и популярность. Это стало изменять и весь уклад его жизни, так как все больше и больше людей стремилось встретиться с ним. Я был инициатором только одного нового знакомства Сахарова. Я передал Андрею Дмитриевичу большую рукопись физика Валентина Турчина «Инерция страха». Я был знаком с Турчиным еще с 1965 года; мы познакомились с ним в г. Обнинске, где я часто бывал у своего брата Жореса. Доктор физико-математических наук В. Турчин работал здесь в одном из крупных НИИ. Он был одним из составителей популярной тогда книги «Физики шутят». Талантливый и общительный человек, Турчин живо интересовался общественными и политическими проблемами, а это неизбежно вело его в ряды диссидентов. Книга Турчина понравилась Сахарову, и они стали встречаться в дальнейшем без моего посредничества.
Хотя телефон и адрес Сахарова нельзя было узнать через какое-либо справочное бюро, многие люди из Москвы и других городов каким-то образом узнавали адрес Сахарова и приходили к нему в дом, как правило, без предупреждения. Очень многие приходили с самыми нелепыми и невыполнимыми требованиями, некоторые просто просили денег. У меня создавалось впечатление, что кто-то сознательно направлял этот поток людей к Сахарову, чтобы нарушить его прежнее спокойное существование. Особенно страдала от этого наплыва просителей жена Андрея Дмитриевича Клавдия Алексеевна. Сахаров обычно выслушивал очередного посетителя и что-то обещал. Но иногда и он оказывался в недоумении, не зная что делать.
Помню один типичный в этом отношении случай. В дом Сахарова пришел возбужденный молодой человек в разорванном грязном костюме. Он, оказывается, разработал уместившийся на нескольких страницах план – каким образом всего за два-три года в Советском Союзе можно построить коммунистическое общество, основанное на полном равенстве граждан и скромном благосостоянии. Посетитель сказал при этом, что он бежал из психиатрической больницы, жил больше месяца в лесу в холоде и голоде, и за ним гонятся его враги. Поэтому он просил Сахарова не только прочесть его бумаги, но и укрыть его в своей квартире на несколько недель.
Андрей Дмитриевич сначала растерялся, но затем сказал, что он не коммунист и плохо разбирается в проблемах строительства коммунистического общества. Но у него есть добрый знакомый, который знает все эти вопросы хорошо и сумеет как оценить предлагаемый план, так и помочь просителю. Сахаров вызвал такси и объяснил водителю, как ко мне доехать. Конечно, Сахаров тут же мне позвонил и предупредил о том, что за человек должен ко мне приехать. К счастью, посетитель не задержался у меня долго и не просил укрыть его от преследователей.
Весьма странной была и почта, которую Сахаров начал получать из самых разных стран мира. Письма и бандероли шли по адресу: «Москва. Академия наук СССР. Академику А. Д. Сахарову». Поток писем был очень велик, но он, несомненно, подвергался тщательной селекции. До самого адресата доходили, в основном, письма с резкой критикой меморандума или письма от активистов такой известной в то время антисоветской организации, как НТС, с разными предложениями о сотрудничестве. Были письма от эмигрантов-националистов из русских организаций в Южной Африке. Но Андрей Дмитриевич все это читал с интересом. Несколько писем передал Сахарову я. Например, мне принесли большое письмо к академику Сахарову от генерала Петра Григоренко. Это письмо позднее также попало в Самиздат. Григоренко просил о встрече, но Андрей Дмитриевич до осени 1998 года от встреч с известными диссидентами еще воздерживался.
Оккупация Чехословакии войсками Варшавского Договора вызвала у Сахарова возмущение, но ему не удалось организовать на этот счет какой-то протест. Сахаров рассказывал мне о своих встречах с Игорем Таммом, с Александром Солженицыным и некоторыми другими. В конце августа и в начале сентября 1968 года мы встречались почти ежедневно, в том числе и в загородном доме Андрея Дмитриевича в Жуковке. Хотя во всех разговорах тех недель доминировала чехословацкая тематика, Сахаров продолжал обдумывать и многие другие проблемы, связанные с внешней и внутренней политикой Советского Союза.
Я не удивился поэтому, когда он обратился ко мне с просьбой приобрести для него где-либо хорошую пишущую машинку. Тогда это был дефицит. Через свою машинистку я купил портативную немецкую «Эрику». Только через месяц Андрей Дмитриевич смущенно спросил: «Вы ведь, наверное, заплатили за пишущую машинку свои деньги. Сколько я вам должен?» Он все еще не знал, как покупать нужные ему вещи.
Летом 1968 года Сахаров был отстранен от работы на «объекте», но еще не получил нового назначения. Он не был огорчен. У него было теперь много свободного времени, и он чаще встречался с разными людьми вне пределов своего прежнего окружения.
Неожиданно все изменилось из-за тяжелой болезни жены Сахарова. У нее обнаружили рак желудка, который врачи признали неоперабельным. Болезнь быстро прогрессировала, временами возникали сильные боли, которые не удавалось снять даже инъекциями наркотических веществ. Сахаров тяжело переживал страдания жены и находился все время рядом с ней – в больнице или дома. Он пытался достать какие-то редкие лекарства, обращался к народным целителям, к снадобьям, но безрезультатно. Клавдия Алексеевна умерла в марте 1969 года.
В течение нескольких месяцев после смерти жены Сахаров находился в тяжелом душевном состоянии, почти ни с кем не встречался и, казалось, полностью утратил интерес к общественным проблемам. На протяжении почти всего 1969 года я не разговаривал с Сахаровым даже по телефону.
Как раз во время этой депрессии и, несомненно, не без чьего-то не слишком доброго совета Сахаров решил передать государству все свои сбережения, а они были немалыми. Семья Сахаровых жила очень скромно, и основные ее нужды удовлетворялись за счет атомного ведомства. На сберкнижку шла не только значительная часть его большой зарплаты, но и все премии – Ленинская и Государственные. К началу 1969 года сбережения Сахарова достигали почти ста сорока тысяч рублей: по тем временам это была очень большая сумма, семья научного работника могла вполне прилично жить на триста-четыреста рублей в месяц.
Часть сбережений Сахаров перечислил в Красный Крест, другую часть – на строительство онкологического центра, третью часть – на улучшение питания в московских детских садах. Конечно, это был благородный и широкий жест, или акт благотворительности и милосердия, но даритель не мог никак контролировать расходование своих денег. Только Красный Крест выразил Сахарову благодарность. А между тем в 1969 году в Советском Союзе уже существовали другие фонды: фонд помощи ученым, пострадавшим за убеждения, фонд помощи родственникам политзаключенных и др. Неудивительно, что Сахаров позднее очень сожалел о потере средств, с помощью которых он мог бы поддержать нуждающихся диссидентов, да и свои две семьи.
А. Д. Сахаров в 1970 году. Второй «Меморандум»
Зимой 1969/70 года жизнь Сахарова начала входить в новую колею. Он получил работу в ФИАНе (Физический институт Академии наук СССР), во главе которого стоял тогда 78-летний академик Д. В. Скобельцын, один из основателей советской школы атомной физики. Это был очень авторитетный и известный ученый, но также в высшей степени лояльный к власти человек, не желавший вмешиваться в политику. Его отношение к Сахарову было довольно прохладным. Сам Андрей Дмитриевич был рад возможности заниматься теперь не военными разработками, а теоретической физикой, астрофизикой и космогонией. У него появилось несколько аспирантов. Еще раньше Сахаров говорил мне, что в теоретической физике он знает почти все. Но он вряд ли сделает какое-то новое открытие, так как новые направления в их науке открывают, как правило, молодые люди. «Но я лучше многих других, – замечал он, – могу оценить хорошую идею. Я могу работать с аспирантами». Теперь ему была предоставлена такая возможность.
Мы встречались в ту зиму не очень часто. Неожиданно ко мне на работу в Академию педагогических наук приехал один из знакомых А. Д. Сахарова и от его имени показал мне анонимный машинописный текст с просьбой прочесть его и высказать свое мнение. Это был весьма обширный документ, в котором содержался краткий, но точный анализ экономической и политической ситуации в стране и предложения по демократизации советского строя. Документ мне понравился, и я спросил – как появился на свет и что означает прочитанный мною текст? В ответ я услышал, что это проект письма руководителям КПСС и СССР, что этот текст написан Сахаровым и Турчиным, и авторы просят меня в случае положительного отношения к документу отредактировать его, исправить возможные неточности или сделать добавления и передать обратно Андрею Дмитриевичу.
Я выполнил эту работу в течение недели. Позднее, когда этот документ, или «меморандум» получил широкую известность, некоторые из диссидентов подвергали его критике. При этом некоторые из наших оппонентов заявляли, что автором письма был социалист Рой Медведев, который убедил «для большей весомости» подписать свое сочинение Турчина и Сахарова. Особенно настаивал на такой версии А. И. Солженицын. В своих мемуарах Солженицын в обычной для него стилистике утверждал, что «задержка сахаровского взлета значительно объясняется влиянием Роя Медведева, с кем сотрудничество отпечаталось на совместных документах узостью мысли». Но Сахаров скоро «выбился из марксистских ущербностей».
Этот отзыв задел и даже обидел Сахарова. Поэтому в своих мемуарах Андрей Дмитриевич посчитал необходимым подробно рассказать, с какой целью и каким образом они решили вместе с Турчиным подготовить этот новый документ. Предполагалось, что данное письмо могли бы подписать пятнадцать-двадцать известных ученых и деятелей культуры. Но первые же люди, к которым они обратились, отказались поставить подпись под письмом, хотя и одобрили его содержание.
«Мы с Турчиным, – свидетельствовал Сахаров, – поняли невозможность привлечь кого-либо для подписи и решили выпустить документ под своими подписями. Я был инициатором привлечения в качестве третьего Р. Медведева – мне казалось, что концепция его книги о демократизации (которую Рой тогда кончал) – близка к нашей. Так появился документ за тремя подписями. Но Рой Медведев не несет ответственности за якобы “соглашательский” дух документа, как думает Солженицын (“Теленок…”). Это была концепция “наведения мостов” Турчина, которую я принял. Медведеву принадлежит одна лишь редакционная правка. Подписав “Обращение”, мы пожали друг другу руки, и я сказал полушутя – теперь мы крепко повязаны, в случае чего будем друг друга вытягивать». [76]
Новый «меморандум» имел форму обращения к Л. И. Брежневу, А. Н. Косыгину и Н. В. Подгорному. После того как под окончательным вариантом письма были поставлены подписи, Сахаров написал от руки сопроводительное письмо, в котором говорилось, что мы будем ждать ответа в течение месяца. Если ответа не последует, то мы станем считать свое письмо «открытым» и сделаем его текст достоянием гласности. Ответа мы не получили, и через месяц второй «меморандум», отпечатанный в двадцати пяти – тридцати экземплярах, был передан друзьям и знакомым для чтения и распространения.
Каких-либо попыток удержать Сахарова на этот раз не предпринималось. Напротив, Сахарова несколько позже пригласил к себе Президент АН СССР Мстислав Келдыш, которому было, конечно, дано на этот счет соответствующее поручение. Келдыш был знаком с «письмом трех» и уверял собеседника, что он вполне разделяет его демократические убеждения. Но советский народ, по его словам, просто не готов к демократии. «Вы не представляете, – говорил Келдыш, – насколько плохо живут наши рабочие, крестьяне и служащие. И если завтра мы введем свободу печати и начнем проводить другие демократические реформы, то люди могут нас просто смести. Дать этим людям демократические права сегодня еще нельзя, надо сначала обеспечить им благосостояние». Сахаров возразил: «Вы никогда не сможете дать этим людям благосостояние, так как при той системе, которая у нас существует, вы не сумеете это благосостояние создать».
Несколько позднее Сахарова пригласил к себе и заведующий Отделом ЦК КПСС по науке и образованию Сергей Трапезников. Человек крайне невежественный, явный сталинист, Трапезников был тогда одиозной фигурой среди ученых и творческой интеллигенции. Он был дважды провален на выборах в члены-корреспонденты Академии наук. Но он был добрым знакомым Брежнева по Молдавии, и пост в ЦК КПСС за ним был сохранен. Трапезникову важно было понравиться Сахарову, и он говорил с ним доверительно и почти во всем соглашался, предлагая организовать обсуждение предложений академика в одном из больших гуманитарных институтов. Сахаров ответил, что он согласен на обсуждение, но только при участии в нем Турчина и Медведева. Разумеется, никакого обсуждения нашего документа нигде не проводилось. Сахаров так и не смог понять, для чего его приглашали в кабинеты ЦК КПСС и поили здесь чаем.
Лишь через двадцать лет я узнал, что наше письмо не только дошло до адресатов, но было прочитано ими. Летом 1990 года мне сообщили, что из партийного архива было извлечено это «письмо трех», и его предполагают даже опубликовать. По заметкам на тексте было видно, что с ним познакомились не только Брежнев, Косыгин и Подгорный, но члены Политбюро К. Т. Мазуров, Г. И. Воронов, А. П. Кириленко и А. Н. Шелепин. Оставил автограф на письме и К. У. Черненко. В самом конце 1990 года этот документ был опубликован в новом партийном журнале «Известия ЦК КПСС». [77] В справке об авторах говорилось, что В. Ф. Турчин эмигрировал в середине 70-х годов в США и работает профессором по вычислительной технике в Нью-Йоркском университете.
В 1970 году А. Д. Сахаров значительно расширил свои связи и контакты среди диссидентов разных направлений. Но в это же время некоторые из прежних знакомых Сахарова перестали навещать опального академика и даже звонить по телефону. Из крупных физиков Сахаров сохранил связи, пожалуй, только с Игорем Таммом, который не только заведовал теоретическим отделом ФИАНа, но был также учителем и близким другом Сахарова. По просьбе Андрея Дмитриевича я однажды навестил академика Тамма в его загородном доме, он хотел прочесть один из документов. И. Тамм уже не мог ходить, но живо интересовался общественными делами в стране.
Неожиданных и непрошенных визитеров у Сахарова было немало и в 1970 году В большинстве случаев ему приходилось терпеливо выслушивать малозначительные, а еще чаще вздорные жалобы. Но было немало примеров, когда Андрей Дмитриевич принимал близко к сердцу проблемы того или иного несправедливо пострадавшего человека. В этом случае он или звонил по телефону кому-либо из власть имущих – у Сахарова еще сохранились номера телефонов весьма влиятельных лиц, – или писал письмо на тот или иной адрес. В то время он не оставлял себе копий своих писем и не передавал их в Самиздат, как делал позднее.
В самом начале 1970 года у Сахарова случился сердечный приступ, и ему пришлось лечь в больницу Академии наук. Мы с Турчиным навещали его здесь два или три раза. Андрей Дмитриевич не отличался здоровьем, часто болели и члены его семьи. Врачи считали, что пребывание и работа на «объекте» и участие в испытаниях ядерного оружия ослабили иммунную систему Сахарова. Даже небольшая простуда протекала у него тяжело. Но и в больнице он сохранял бодрость, говорил о себе и врачах с юмором и живо интересовался другими делами.
Борьба за освобождение Жореса
Сахаров провел в больнице больше месяца, но в мае 1970 года он был уже дома и активно включился как в научную работу, так и во все более увлекавшую его общественную деятельность. Однако сравнительно спокойное течение его жизни, а еще в большей степени и моей, было нарушено в самом конце мая, когда моего брата, ученого и публициста, автора научных монографий по биохимии и острых публицистических книг о судьбе советской науки, страдающей от множества ограничений, цензуры и произвола властей, неожиданно и с применением силы поместили в одно из отделений областной психиатрической больницы в г. Калуге. Мой брат жил и работал в г. Обнинске Калужской области, и обо всем происшедшем я узнал из телефонного звонка его жены вечером 29 мая. Я тут же сообщил обо всем многим своим друзьям и знакомым, и одним из первых мое сообщение получил А. Д. Сахаров. Он задал мне несколько вопросов, а потом медленно произнес: «Посмотрим».
История о том, как многие деятели советской интеллигенции боролись в течение трех недель за освобождение Жореса, была описана нами осенью того же года в небольшой книге «Кто сумасшедший?», которая вышла в свет на многих языках в 1971 году. В СССР она была опубликована только в 1989 году в журнале «Искусство кино» в качестве готового киносценария (№ 4 и 5). Но фильм так и не вышел: не так просто было подыскать артистов на роли Сахарова, Солженицына, Твардовского, Гранина, Капицы и других.
Это был первый крупный успех правозащитного движения и первое поражение властей. Сахаров называет в своих воспоминаниях этот случай исключительным. Андрей Дмитриевич не смог поехать в Калужскую больницу, как это делали другие. Он был еще не совсем здоров. Но он не ограничился и отправкой телеграмм протеста ко всем руководителям страны и в Министерство здравоохранения. Узнав, что 31 мая в Институте генетики АН СССР происходит большой международный семинар по биохимии и генетике, он пришел на заседание, поднялся к доске, на которой ученые во время докладов рисовали свои схемы и формулы, и написал объявление: «Я, Сахаров А. Д., собираю подписи под обращением в защиту биолога Жореса Медведева, насильно и беззаконно помещенного в психиатрическую больницу за его публицистические выступления. Обращаться ко мне в перерыве заседания и по моему домашнему адресу». (Далее следовал адрес и телефон.) На самом семинаре подписи под этим обращением поставили немногие, но в ближайшие два-три дня число «подписантов» существенно возросло.
Остановить Сахарова, когда он что-то считал нужным сделать, было невозможно, в этом случае он уже никому не казался ни мягким, ни застенчивым. Узнав о том, что в Риге в конце июня будут проводить международную конференцию по биохимии, он сказал мне, что непременно туда поедет. «На конференцию приедут семь лауреатов Нобелевской премии, – говорил мне Сахаров. – Я академик, и меня обязаны пропускать на любую научную конференцию. Все это просто. На самолете я полечу в Ригу, выступлю и вернусь в Москву».
Вмешательство Л. И. Брежнева в дело Жореса имело вначале лишь негативные последствия. Брежнев позвонил из своего кабинета в КГБ Ю. В. Андропову и министру здравоохранения СССР Б. Петровскому и, не высказывая собственного мнения, просил «выяснить и доложить». Это привело вначале к усилению разных форм давления на защитников Жореса. Писателей и ученых – членов партии начали вызывать в райкомы, даже Твардовскому попытались сделать на этот счет строгое внушение. Специальная комиссия ведущих московских психиатров побывала в Калуге и после беседы с Жоресом ужесточила диагноз, предложив перевести «пациента» для «лечения» в более далекую и строгую Казанскую тюремную психбольницу.
Всех академиков, которые протестовали против принудительной психиатрической акции, пригласили 12 июня 1970 года на специальное совещание в кабинет министра здравоохранения СССР. Здесь в присутствии министра Б. Петровского директор Института судебной психиатрии Г. Морозов и главный психиатр Минздрава А. Снежневский сделали для пяти академиков специальный доклад о состоянии и достижениях советской психиатрии и отдельно – о «болезни» Ж. А. Медведева. Разгорелась жесткая полемика. Сахаров был крайне резок, он с самого начала заявил, что не может считать данное совещание конфиденциальным. Что касается П. Л. Капицы, то он, по своему обыкновению, просто высмеивал и Петровского, и обоих докладчиков. «Всякий великий ученый, – замечал Капица, – должен быть немного ненормальным. Абсолютно нормальный человек никогда не сделает большого открытия в науке». «Разве психиатры так хорошо знают все другие науки, – добавлял Капица, – чтобы судить, что там разумно, а что неразумно. Эйнштейна также многие считали ненормальным» и т. п.
Позднее мне рассказали об этом необычном совещании, которое длилось несколько часов, и Сахаров, и Капица. Ради шутки, Петр Леонидович выставил оценки участникам. Академикам А. Александрову и Н. Семенову он поставил оценку «3», а академикам Б. Астаурову и А. Сахарову – «5». Б. Петровский покинул это совещание с мрачным видом и сдался первым. Продолжение акции означало для него потерю лица в Академии наук. И хотя психиатры отказались изменить диагноз, 17 июня утром Жорес был освобожден.
Вскоре после выхода из больницы Жорес устроил в одном из ресторанов Москвы прием в честь иностранных корреспондентов, подробно освещавших все перипетии этой напряженной правозащитной кампании. Это была одновременно и пресс-конференция. Всех активных участников кампании протеста Жорес навестил персонально, чтобы выразить им благодарность. Сахаров был здесь одним из первых.
Никогда мои отношения с А. Д. Сахаровым не были столь хорошими и доверительными, как в 1970 году Неслучайно поэтому, что в ноябре 1970 года А. Д. Сахаров был одним из почетных гостей на нашем с Жоресом семейном празднике – мы отмечали в кругу друзей свое сорокапятилетие.
Комитет прав человека
Еще в 1969 году я познакомился с Валерием Чалидзе, одним из участников правозащитного движения. Физик по профессии и образованию, В. Чалидзе основательно изучил советское гражданское и уголовное законодательство и вскоре стал неофициальным юридическим советником для многих диссидентов. Еще в 1968 году Чалидзе основал машинописный журнал «Общественные проблемы», в котором публиковались статьи по юридическим проблемам, многие из этих статей и аналитических записок принадлежали перу самого редактора журнала. Новое самиздатское издание было довольно скучным и поэтому не получило широкого распространения. Однако сам Чалидзе оказался крайне привлекательным человеком. Его отличала скрупулезная точность и честность во всех делах и высказываниях, благожелательность, даже душевность – черты характера, не столь уж частые в нашей диссидентской среде. Он был готов выслушать и дать совет любому.
Жил Чалидзе в большой однокомнатной квартире; он еще не был тогда женат, и в его комнате царил художественный беспорядок. Сам Валерий принимал посетителей, сидя на большом диване;
на стене был большой ковер, здесь же висели несколько старинных сабель и кинжалов. Я познакомил А. Д. Сахарова с журналом Чалидзе, а вскоре они познакомились и сами. По характеру и стилю поведения Сахаров и Чалидзе были в чем-то похожи друг на друга, и между ними возникли весьма теплые дружеские отношения. Андрей Дмитриевич часто приезжал на квартиру к Чалидзе, они общались часами, и именно здесь с Сахаровым познакомились многие диссиденты. Сахаров не только расширил во второй половине 1970 года связи с самыми разными людьми и группами, но и свою правозащитную деятельность.
Осенью 1970 года Чалидзе предложил Сахарову образовать Комитет прав человека. Валерий подчеркивал, что речь будет идти не о Комитете защиты, а о комитете, который будет изучать различные юридические аспекты проблемы прав человека в условиях советской действительности. Андрей Дмитриевич сначала сомневался, но вскоре согласился. Лично я отказывался в то время входить в какие-либо диссидентские структуры, полагая, что неформальные и неофициальные связи лучше защищают нас, чем какие-либо формальные организации. Но в Комитет прав согласился войти молодой физик из Института информации АН СССР Андрей Твердохлебов, и 4 ноября 1970 года было объявлено о создании Комитета прав человека. В первую очередь благодаря участию Сахарова об этом событии много писали в западных газетах, были также подробные сообщения о Комитете по различным «радиоголосам».
Я принимал участие только в двух заседаниях Комитета прав в самом конце 1970 года и в начале 1971 года. Одно из этих заседаний было посвящено различным аспектам принудительных психиатрических госпитализаций, и Валерий Чалидзе попросил меня сделать у них специальный доклад, который я напечатал на машинке. Пришлось прочесть несколько книг и учебников по психиатрии и разного рода нормативные материалы, в том числе и для «служебного пользования». Это была полезная работа. Для меня было неожиданным узнать о полемике между разными школами в психиатрии. Было очевидно, что и советская психиатрия прошла через многие из тех испытаний, через которые прошла биология во времена Т. Д. Лысенко, и что многие концепции этой психиатрической лысенковщины здесь еще не были изжиты.
Между различными направлениями в психиатрии продолжались весьма острые дискуссии, но они оставались за пределами
внимания других членов советского научного сообщества. Так, например, ленинградская школа психиатрии не признавала многих концепций и догм московской школы и оспаривала само понятие «вялотекущей шизофрении», которое использовалось как диагноз в борьбе против диссидентов.
Я сделал для Комитета доклад, оговорившись, конечно, что не являюсь специалистом и руководствуюсь лишь некоторыми общими познаниями, логикой и здравым смыслом. В обсуждении приняли участие не только все члены Комитета, но и приглашенные: в данном случае это были Игорь Шафаревич, Владимир Буковский, Александр Есенин-Вольпин и некоторые другие. Очень активен был и А. Сахаров. Никто не думал о регламенте, все говорили столько, сколько считали нужным, и заседание кончилось уже после полуночи.
Для Сахарова работа в Комитете прав становилась все более трудным и хлопотливым делом. Все, кто прослышал об этом Комитете, воспринимали его именно как Комитет по защите прав человека. В результате поток людей, которые хотели изложить свои проблемы не Твердохлебову, а лично Сахарову, увеличился в несколько раз. Но Сахаров ничем помочь этим людям не мог, а с большинством он даже не мог встретиться и поговорить. У людей, которые приезжали в Москву из других городов, это вызывало разочарование и раздражение. Но и Сахарова угнетала необходимость уклоняться от многих встреч. По одному из громких дел конца 1970 года – так называемому «самолетному делу» А. Сахаров хотел попасть на прием к Л. И. Брежневу, но это оказалось невозможным. Сахарова в 1970–1971 годах перестал принимать и Президент АН СССР М. Келдыш.
А. Д. Сахаров в 1971 году
Зимой и весной 1971 года я встречался с А. Д. Сахаровым всего несколько раз, и мне мало что запомнилось из этих встреч. Интерес Сахарова к разного рода теоретическим проблемам демократического социализма, к юридическим проблемам и к проблемам советской истории стал ослабевать. Я же, напротив, углубился в начале 70-х годов в изучение событий 1917 и весны 1918 годов, а затем и истории Гражданской войны. Андрей Дмитриевич прекратил в это время попытки создать какую-то новую концепцию общественного развития, основанную на идеях конвергенции. Он подвел итоги своим размышлениям в специальной «Памятной записке», которая была написана в январе-феврале 1971 года и отправлена Л. И. Брежневу 5 марта 1971 года. Еще через полтора года – в июне 1972 года – Сахаров написал к этой «Памятной записке» пространное «Послесловие» и передал все это как в ЦК КПСС, так и в Самиздат. Новых идей и предложений здесь почти не было, и эти материалы поэтому мало комментировались в диссидентских кругах и в западной печати.
Отныне большую часть своего времени и сил Сахаров стал отдавать участию в разного рода конкретных правозащитных кампаниях. Он объяснял эту свою позицию так: «Я убежден, что в условиях нашей страны нравственная и правовая позиция является самой правильной, соответствующей возможностям и потребностям общества. Нужна планомерная защита человеческих прав и идеалов, а не политическая борьба, неизбежно толкающая на насилие, на сектантство и бесовщину. Убежден, что только при условии возможно широкой гласности Запад сможет увидеть сущность нашего общества, а тогда эта деятельность становится частью общемирового движения за спасение всего человечества. В этом ответ на вопрос, почему я от общемировых проблем естественно обратился к защите конкретных людей». [78]
Сахаров включился в кампанию по возвращению крымских татар из Узбекистана в Крым, в кампанию по защите прав советских немцев, в «дело нарофоминских старушек», требующих открытия храма в своем городе, а также в борьбу за свободу эмиграции евреев.
Генерал Петр Григоренко находился в это время в одной из тюремных психиатрических больниц, и А. Д. Сахаров уже в начале 70-х годов стал фактическим лидером правозащитного движения в Советском Союзе. Много заседаний проводил в это время и Комитет прав человека. Валерий Чалидзе составлял подробный протокол этих заседаний и вместе с решениями комитета публиковал в своем журнале, который я регулярно получал.
Несколько раз ко мне обращались знакомые писатели или физики с просьбой передать Сахарову для отзыва свои неопубликованные работы. Одна из таких работ по физике заинтересовала Андрея Дмитриевича, и он попросил пригласить ее автора, назначив время. Разговор происходил при мне. Смысл сказанного Сахаровым сводился к тому, что задача, которую пытался решить мой знакомый, очень трудна, хотя и интересна. Но на ее решение может уйти десять или пятнадцать лет напряженной работы. При этом может оказаться, что данная задача вообще не имеет решения. «Конечно, – сказал Сахаров, – в науке отрицательный результат – это тоже результат. Но, – добавил он, – если бы я был лет на двадцать моложе, то все равно за такую задачу, пожалуй, не взялся. Вы же человек еще молодой, решайте сами».
Одним из запомнившихся мне событий 1971 года был пятидесятилетний юбилей А. Д. Сахарова. Никаких официальных мероприятий, связанных с пятидесятилетием академика Сахарова, в АН СССР, конечно же, не намечалось. Сам Андрей Дмитриевич был вполне равнодушен даже к столь «круглой» дате. Но Валерий Чалидзе проявил настойчивость, убедил Сахарова отметить день рождения и энергично занялся подготовкой к нему. Был составлен список гостей, он был не слишком велик – около двадцати человек. Но когда гости стали приходить в назначенное время, оказалось, что в доме Сахарова нет даже десяти комплектов посуды. Во всей квартире имелось всего восемь или десять стульев. Пришлось придвигать к столу диван и обращаться за помощью к соседям. Не все гости знали друг друга. Только в этот день многие из нас познакомились с Еленой Георгиевной Боннэр, привлекательной и энергичной женщиной, которая распоряжалась в доме хозяйством и которую, как было очевидно, связывали с Андреем Дмитриевичем самые дружеские отношения. Мне оставалось только порадоваться за Сахарова, который и раньше не занимался семейными и домашними делами, а теперь, после смерти Клавдии Алексеевны часто просто не знал, что ему делать в своем доме.
Уже летом 1971 года я стал ощущать какое-то напряжение вокруг себя. На Западе были изданы две книги Жореса под общим заголовком «Бумаги Медведева». В газетах «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» были опубликованы большие обзоры моего журнала «Политический дневник». На самый конец года планировался выход в свет моей главной книги «К суду истории», а также нашей с Жоресом совместной книги «Кто сумасшедший?». На весну 1992 года планировалось издание в Париже моей книги «О социалистической демократии». Мне приходилось конспирировать, и я, возвратившись из отпуска в сентябре, поехал уже поздно вечером навестить А. Д. Сахарова без обычного телефонного предупреждения. Однако дочь Андрея Дмитриевича Люба сказала мне, что отец с ними теперь не живет, он переехал к Боннэр. Мне дали новый адрес и телефон. Люба была уже студенткой, но Дима Сахаров еще учился в школе, ему было тринадцать или четырнадцать лет. Они остались вдвоем в большой академической квартире и чувствовали себя не лучшим образом. Но я не мог их ни о чем расспрашивать. У Елены Георгиевны Боннэр были двое своих детей и больная мать. Это была житейская проблема, которая, как оказалось, также не имела решения.
А. Д. Сахаров в 1972 году
Осенью 1971 года я смог поговорить с А. Д. Сахаровым только один раз и то лишь по телефону. 13 октября у меня на квартире был устроен большой обыск, который продолжался до вечера. На следующий день утром я был вызван по телефону в районную прокуратуру. Я вышел из дома, чтобы ехать по указанному адресу, но передумал. Быстро вернувшись и собрав все имевшиеся в квартире деньги, я уехал к друзьям на другой конец города, тщательно проверив, нет ли за мной наблюдения. Несколько дней я жил в Москве по разным адресам, но затем уехал поездом на юг России, а потом и на Кавказ, не сообщив никому о своем возможном местопребывании. В Академию педагогических наук РСФСР, где я тогда работал, было отправлено письменное заявление об уходе. В Москву я вернулся только в конце января 1972 года, когда мои главные книги уже вышли в свет. Рецензий и отзывов было много, но газетной шумихи и сенсации не было, и как прокуратура, так и КГБ, казалось, утратили ко мне интерес. Я стал налаживать жизнь и работу в качестве «свободного» ученого.
Постепенно почти все мои прежние связи восстановились, но у Сахарова я смог побывать только весной 1972 года. Конечно, меня поразил контраст между прежней, пусть неухоженной, но очень просторной квартирой академика и новой двухкомнатной квартирой, принадлежавшей матери Елены Боннэр Руфи Григорьевне Алихановой-Боннэр. Она была вдовой Геворка Алиханова, одного из основателей Армянской коммунистической партии, погибшего в годы репрессий. Сама Руфь Григорьевна провела семнадцать лет в лагерях и в ссылке и после реабилитации получила квартиру на улице Чкалова. Через несколько лет к ней после развода со вторым мужем переехала жить и Елена Георгиевна с двумя детьми – сыном Алексеем, который еще учился в школе, и дочерью Татьяной, которая работала и училась заочно и была уже замужем.
Здесь же стал жить и А. Д. Сахаров. Своего угла у него не было, меня он принимал и знакомил с Еленой Георгиевной, сидя на кровати, потом мы перешли в небольшую кухню. Руфь Григорьевна, чрезвычайно умная и спокойная женщина, была больна и почти не вставала с постели, в ее комнате жил и делал уроки ее внук. Для Татьяны и ее мужа Ефима Янкелевича места просто не было и, вернувшись с работы, они проводили время на кухне. На ночь в квартире надо было ставить раскладушки. Андрей Дмитриевич был, однако, счастлив, и внешние неудобства его, видимо, не беспокоили. Он относился к жене с нежностью.
У Елены Георгиевны был широкий круг знакомых, в том числе и в писательской и околодиссидентской среде, и многие из ее знакомых вошли вскоре и в круг знакомых Сахарова. Вечером почти всегда в его квартире было несколько друзей и знакомых, которые пили чай на кухне. Очень часто звонил телефон. О своих детях Сахаров сказал мне кратко: «Отношения не сложились, и я решил переехать сюда, чтобы не создавать проблем». Но проблемы, конечно, остались, их было немало как во второй, так и в первой семье А. Д. Сахарова. Он делал попытки подружить троих своих детей с двумя детьми Е. Г. Боннэр или хотя бы своего сына Дмитрия с сыном Елены Георгиевны Алешей, но из этого ничего не вышло.
О жизни А. Д. Сахарова в квартире на улице Чкалова имеется много воспоминаний людей, которые бывали там гораздо чаще, чем я. Мне приходилось позднее читать восторженные отзывы по поводу скромности и непритязательности Сахарова, которого телефонные звонки будили часто уже в шесть часов утра, который подогревал огурцы и помидоры на крышке чайника. После ухода гостей Сахаров сам мыл всю посуду. Я также видел все это, но у меня подобные картины вызывали лишь сожаление. Сахаров просто нуждался в нормальном горячем ужине и не мог есть из грязных тарелок. Елена Георгиевна Боннэр имела много достоинств как подруга и соратница Сахарова, но ее трудно было назвать спокойной и мягкой женщиной, внимательной женой и хорошей хозяйкой. Даже ее дочь Татьяна иногда при гостях разговаривала с академиком с раздражением, а то и с грубостью.
Е. Г. Боннэр принимала живое участие во всех моих разговорах с Сахаровым, причем была обычно более активна, чем он сам, не останавливаясь и перед весьма резкими выражениями. В этих случаях Сахаров лишь нежно уговаривал жену: «Успокойся, успокойся». Елена Георгиевна крайне неприязненно говорила о Валерии Чалидзе, и здесь присутствовала явная ревность. Комитет прав человека еще работал, а Сахаров был просто очень привязан к Валерию, который в новый дом академика на улице Чкалова не приезжал. Это привело вскоре к публичному конфликту, о котором Андрей Дмитриевич позднее очень сожалел.
В конце 1972 года А. Д. Сахаров вместе с женой дважды приезжал ко мне на квартиру, чтобы познакомить меня с тем или иным документом, например, с обращением к Верховному Совету СССР об отмене в стране смертной казни. Я никогда не отказывался поставить под таким документом и свою подпись. Однако прежних длительных и доверительных бесед с Андреем Дмитриевичем у меня уже не было.
Разногласия
Мои и Сахарова взгляды не совпадали по многим вопросам и в 1968 году но это не мешало нашим добрым отношениям. Однако в 1973 году наши разногласия усилились и обострились. Именно в тот год диссидентское движение стало раскалываться, и этому было несколько причин. Проблема борьбы против реабилитации Сталина отошла в это время на второй план, и даже общая борьба против политических репрессий и за свободу мнений не могла объединить диссидентов. Многих деморализовала капитуляция Петра Якира и Виктора Красина, которые немало лет являлись центром притяжения для большой группы диссидентов. Позорное поведение Якира и Красина на судебном процессе над ними и на специально собранной пресс-конференции привело даже к самоубийству одного из активных правозащитников – Ильи Габая. Много проблем появилось в наших рядах в связи с возросшими возможностями эмиграции. Это было время разрядки, однако некоторые послабления в сфере эмиграции сопровождались усилением давления и репрессий против многих диссидентских групп.
Особенно мощная пропагандистская кампания велась в 1973 году против Сахарова и Солженицына. Эта кампания сопровождалась мелочным, но болезненным давлением на их семьи. В сложившихся условиях высказывания и заявления Сахарова становились все более и более радикальными, и он обращался теперь не к руководителям СССР и КПСС, а к Конгрессу и Президенту США. При этом на первый план Сахаров выдвигал право на эмиграцию, считая право покинуть свою страну самым главным демократическим правом ее граждан. Против такого рода акцентов в борьбе за демократизацию возражал не только Солженицын.
Неожиданный отклик в среде диссидентов получил и военный переворот в Чили, в результате которого часть коммунистов и социалистов в этой стране были физически уничтожены, а к власти пришел Аугусто Пиночет. Некоторые из наиболее радикально настроенных правозащитников-западников говорили между собой, что только так, как в Чили, и надо поступать с коммунистами. А. Сахаров не испытывал симпатий к Пиночету, но после ареста в Чили Нобелевского лауреата поэта и коммуниста Пабло Неруды Сахаров вместе с несколькими другими диссидентами направил Пиночету телеграмму, текст которой я считал ошибочным. В телеграмме была фраза о том, что расправа над Пабло Нерудой неизбежно бросит тень на «объявленную Вами (т. е. Пиночетом) эпоху возрождения и консолидации Чили». Вырванная из контекста, эта фраза создавала впечатление симпатий к пиночетовскому режиму. В советской печати эта телеграмма спровоцировала резкую кампанию против А. Д. Сахарова и других диссидентов.
Разногласия среди диссидентов широко освещались в западной прессе. Осенью 1973 года немецкая социал-демократическая газета «Цайт» обратилась ко мне с просьбой изложить мое мнение на эту полемику. Статья «Демократизация и разрядка» была опубликована, кажется, в октябре в «Цайт», но затем переводилась и перепечатывалась и в других западных странах. В этой статье я критиковал как некоторые высказывания Солженицына, так и некоторые высказывания Сахарова, но очень осторожно и корректно, так как против них велась кампания в советской печати, которую я осуждал. Перед тем как отправить свою статью в немецкую газету, я дал прочитать ее текст А. Д. Сахарову. Никаких возражений моя критика у него не вызвала.
Однако после того как статья была опубликована и стала широко комментироваться, отношение Сахарова и особенно Е. Г. Боннэр к этой статье неожиданно переменилось, о чем я получил уведомление от общих друзей. Валерий Чалидзе в это время уже был в эмиграции, и наиболее активным «советчиком» Андрея Дмитриевича стал писатель Владимир Максимов, взгляды которого несколько раз менялись, но были всегда крайне радикальными. Из кружка Максимова вышло тогда и Открытое письмо «братьям Медведевым», кончавшееся вопросами «на кого вы работаете?» и «с кем вы?» – вполне в духе советской пропаганды. А. Д. Сахарову такой стиль мышления был чужд, но его убедили поставить свою подпись. Ни я, ни Жорес не стали, конечно, отвечать на это письмо, но мои встречи и беседы с А. Д. Сахаровым с ноября 1973 года прекратились. В своих «Воспоминаниях» А. Д. Сахаров также писал об этом, применяя какую-то странную и, на мой взгляд, не совсем мужскую лексику. «Спасая Жореса, я показал верность диссидентской солидарности. Однако позднее и личные, и идейные отношения с братьями Медведевыми стали неприязненными. Они мне определенно разонравились». [79]
В середине и в конце 70-х годов мне приходилось не раз писать о положении в СССР и о полемике среди диссидентов. В 1980 году на Западе была издана моя книга «О советских диссидентах» (диалоги с П. Остелино), она вышла в свет на итальянском, английском, французском и японском языках. В этой книге я воздавал должное А. Д. Сахарову, но не скрывал и своих с ним разногласий. Я встречался с Сахаровым только случайно, дело ограничивалось лишь вежливыми поклонами. В 1980–1986 годах А. Д. Сахаров находился в ссылке в г. Горьком. Его положение, его письма, его голодовки были в эти годы предметом разговоров и споров в сильно поредевших кружках московских диссидентов. Я узнавал о делах и положении Сахарова главным образом от писателя Георгия Владимова, который поддерживал дружеские связи с Е. Г. Боннэр.
Я снова увидел А. Д. Сахарова только в конце мая 1989 года на Первом Съезде Народных депутатов СССР, а также на первых заседаниях Межрегиональной депутатской группы (МДГ), на которые меня приглашал Гавриил Попов. Политические и идеологические процессы в Советском Союзе еще с весны 1989 года начали выходить из-под какого-либо контроля и развивались почти стихийно. Это вызывало тревогу, и предложения и призывы А. Д. Сахарова передать всю власть в стране из рук КПСС в руки Советов казались мне чрезмерно радикальными. Ни Съезд Народных депутатов, ни Верховный Совет СССР не были приспособлены к отправлению высшей власти в стране; даже как органы законодательной власти они еще были крайне несовершенны.
Дискуссии, которые происходили летом и осенью 1989 года на официальных заседаниях Съезда и Верховного Совета, были очень острыми. Не менее острыми были и дискуссии на собраниях МДГ. А. Д. Сахаров фактически возглавил в эти месяцы оппозицию Политбюро ЦК КПСС и М. С. Горбачеву, и нагрузка, которую Андрей Дмитриевич принял на себя, оказалась слишком большой. Сахаров очень беспокоился о диссидентах из своего окружения и о своей второй семье, но о нем самом мало кто заботился. А. Д. Сахаров умер поздно вечером 14 декабря 1989 года от инфаркта после одного из самых утомительных заседаний МДГ. Безусловным лидером как парламентской, так и непарламентской оппозиции стал после смерти Сахарова Борис Николаевич Ельцин.
1990, 2002
Рой Медведев Поиски автора
Из истории диссидентской литературы
Иногда приходилось слышать, что советские диссиденты 60–70-х годов в силу моральных соображений выступали с критикой режима всегда открыто, невзирая на опасность репрессий. Но это было не так. Никто из диссидентов не спешил оказаться в тюрьме или в лагере, а мысль о возможности принудительной психиатрической госпитализации вызывала не только негодование, но и страх. Поэтому многие из нас, выпуская из рук свою работу, должны были принимать различные меры предосторожности. Неудивительно, что и в Самиздате, и при публикациях за границей (в Тамиздате) многие тексты выходили в свет под разного рода псевдонимами или просто анонимно. Если тексты были интересными и поднимали важную тему, они широко распространялись среди заинтересованной публики.
Еще в пятидесятые годы, после ХХ съезда КПСС, стали распространяться весьма острые по тем временам и хорошо написанные стихотворения, но без имени сочинителя. Многие из них посвящены послесъездовским реабилитациям; вероятно, недавние зэка и были их главными авторами.
Без траурных флагов на башнях казенных,
Без поминальных свечей и речей
Россия простила невинно казненных,
Казненных простила и их палачей.
Или другое:
В забое, в торфянике зыбком
Шел месяц за месяцем вслед…
И вот объявили ошибкой
Семнадцать украденных лет.
Он вышел нелепый, безвестный,
Свое получивши сполна.
Узнал он, что в царстве небесном
Свой срок отбывает жена.
Что в этом рассчетливом мире
Холодных лакейских сердец,
Он нужен, как нужен в квартире
Давно позабытый жилец.
По рукам ходила в конце 50-х годов и большая поэма-очерк о Трофиме Денисовиче Лысенко, автор которой так и остался неизвестным. У меня собралась в конце 60-х годов большая коллекция таких анонимных стихотворений и поэм. Многие из этих стихотворений позднее обрели авторов – это были вещи Бориса Слуцкого, Юза Алешковского, Бориса Чичибабина. Но авторы большинства анонимных стихов и поэм так и не объявились. К сожалению, большая часть подобных коллекций была изъята при обысках 70-х годов. Самой полной коллекцией художественных произведений Самиздата, насколько я знаю, была коллекция известного московского литературоведа Леонида Ефимовича Пинского. Люди, явившиеся к нему с ордером на обыск, даже не стали просматривать всю его огромную библиотеку, а сразу же направились к большому закрытому шкафу.
Во второй половине 60-х годов, когда в стране наметился курс на реабилитацию Сталина, но также возросло и движение протеста, стихи и поэмы отошли в литературе Самиздата на третий план, а на первый вышли статьи и очерки, рассказы и повести, многие из которых также распространялись под разного рода псевдонимами, а то и анонимно.
Первой анонимной рукописью, которая попала ко мне в руки в 1965 году было «Письмо к Федору», или «Открытое письмо моему сверстнику и другу», в котором давался анализ ошибок и извращений времен первой пятилетки. Было очевидно, что автор письма – человек, прошедший долгие годы лагерей и ссылок, и что он обращается к своему другу, работавшему все это время в каких-то официальных идеологических структурах. Под большим письмом к премьеру А. Н. Косыгину о недостатках экономической политики 60-х годов стояла подпись «доцент В. К-ов». Анонимно распространялись записи с разного рода идеологических совещаний, заседаний Секретариата Союза писателей, даже заметки с юбилеев, выставок и похорон. Не было подписей под большим «Письмом эстонской интеллигенции академику А. Д. Сахарову» и под многими критическими текстами о советской интервенции в ЧССР.
Иногда я получал рукописи для чтения и хранения, но без титульного листа или под псевдонимом. Большая и интересная рукопись «Сталин (мысли и факты)» была посвящена разбору внутрипартийных дискуссий 20-х годов и содержала яркие портреты участников этих дискуссий. Автор, скрывшийся под псевдонимом «В. Громов», писал о том, что он сам видел и слышал. Однако последние тридцать-сорок страниц рукописи были сумбурны и не совсем понятны, вероятно, автор был уже болен и писал или диктовал что-то наспех и бессвязно. Даже первый вариант знаменитой повести Георгия Владимова «Верный Руслан» распространялся вначале как анонимный рассказ, и многие приписывали авторство А. И. Солженицыну.
У диссидентов не было принято искать авторов анонимных текстов или раскрывать псевдонимы. Мы не знали, кто такой А. Антипов, любопытные заметки которого распространялись в Самиздате. Никто не знал некоего Льва Венцова, автора яркого политического эссе «Думать!». Мы не знали, кто такие «инженер Н. Алексеев и преподаватель С. Зорин», большая аналитическая статья которых о противоречиях во внутренней политике и о пороках внешней политики СССР также ходила по рукам. Только в годы перестройки стало известно, что авторы этого интересного текста – физики Борис Альтшулер и Павел Вашлев. Автор одной из лучших книг о сталинских репрессиях и политических событиях тридцатых-сороковых годов «Тетради для внуков» Михаил Байтальский несколько лет писал под псевдонимом А. Красиков. Только после смерти Байтальского главная его книга и сборник статей и очерков изданы в США и в Израиле под его собственным именем. К английскому изданию «Тетрадей для внуков» я смог написать небольшое предисловие, чтобы сообщить читателям главные сведения об авторе.
Но я так и не узнал подлинного имени М. Богина, который лично передал мне весьма интересную, но очень большую – в восемьсот страниц – теоретическую работу по марксизму, не назвав при этом ни своего имени, ни адреса. «Когда будет нужно, я сам к вам приду», – сказал мой гость. Он хотел, чтобы его книга была опубликована за границей. Издателя для этой книги, однако, не нашлось. Я смог опубликовать только одну главу из рукописи М. Богина – «Компоненты социализма» – в журнале «ХХ век». Этот журнал начал издаваться в Лондоне под моей редакцией и при участии Жореса Медведева и Раисы Лерт. На русском языке вышли в свет только № 1 и 2 «Избранных материалов из самиздатского журнала “ХХ век”» (Лондон, 1976, 1977. T. C. D. Publication). Гораздо больше материалов из этого журнала вышло в переводе на английский, французский и японский языки. Там были интересные «Философские дневники» Владимира Лакшина, который выступал тогда под псевдонимом А. Бехметьев. Завуч одной из московских школ Герман Фейн публиковал свои очерки под псевдонимом Герман Андреев. Под псевдонимами М. Максудов и С. Елагин скрыли имена еще два автора из числа московских литераторов. Я знал этих людей, но у меня нет разрешения раскрыть их псевдонимы.
Но если диссиденты из принципиальных соображений не искали авторов анонимных рукописей и публикаций, то для органов КГБ поиски авторов и раскрытие псевдонимов были частью их профессиональной деятельности. Эта работа велась как при помощи осведомителей, так и путем тщательного анализа анонимных и псевдонимных текстов. Как можно судить по многим признакам, в КГБ был создан еще в шестидесятые годы какой-то специальный сектор, в задачу которого входил поиск авторов анонимных текстов и авторов, скрывших имя под каким-либо псевдонимом. Поскольку число анонимных текстов в семидесятые годы продолжало возрастать, то должна была расти и численность занятых этим работников КГБ.
Как известно, исследование и анализ текстов, автор которых неизвестен, является частью литературоведения и такой отрасли филологии, как текстология. В русской литературе одним из примеров такого поиска может служить изучение текста произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Свои гипотезы об авторе этого эпоса высказывали многие ученые, в том числе академики Дмитрий Лихачев и Борис Рыбаков.
Специальная методика изучения текстов, или контент-анализ, применяется в социологии, психологии, психиатрии, этнографии и некоторых других науках. Эксперты и лаборатории по изучению почерков, подписей, письменных документов, а также текстов, напечатанных на пишущих машинках, существуют и в органах внутренних дел. Подобного рода экспертиза необходима при расследованиях многих криминальных дел.
Однако в КГБ специфика работы была иная, и здесь часто требовалась иная методика. Нередко поиски автора анонимных текстов кончались безрезультатно или занимали несколько лет. Пока еще никто из ветеранов КГБ не раскрыл деталей этой работы, хотя мемуары о работе «органов» насчитывают уже десятки названий. И тем не менее некоторые эпизоды этой охоты за неизвестными авторами получили огласку. Я хотел бы ниже привести на этот счет несколько поучительных примеров. Я опираюсь главным образом на свою память и на доступные мне источники.
Загадка Абрама Терца и Николая Аржака
Еще в 1958 году на Западе опубликован на русском, а затем и на английском языках весьма острый рассказ-пародия «Говорит Москва» – о «дне открытых убийств», объявленном якобы в СССР. Как вели себя в Москве граждане страны и писатели в этот день? Имя автора – Николай Аржак – было явно придумано, но по многим признакам можно было сделать вывод, что это литератор, который живет и работает в Москве. В 1959 году тот же автор опубликовал в Нью-Йорке еще один рассказ, «Руки», также с весьма гротескным сюжетом. В это же время во Франции стали появляться рассказы и повести некоего Абрама Терца. Некоторые из них публиковались и на французском языке. Абрам Терц был более плодовитым автором: в 1959 году опубликован сборник его рассказов и повестей, а также теоретический трактат «Что такое социалистический реализм?». В начале 60-х годов в Париже вышла в свет повесть Абрама Терца «Любимов» и рассказ «Квартиранты». Публикации А. Терца и Н. Аржака вызвали немалый интерес на Западе, но почти не комментировались в СССР. В начале 60-х годов движение диссидентов еще не начиналось. Всеобщее внимание привлекали публикации в журнале «Новый мир», а не в американских или французских изданиях.
Вполне возможно, что и в органах КГБ никто не обратил бы особого внимания на публикации А. Терца и Н. Аржака, в которых не было элемента сенсации. Однако положение дел изменил начавшийся в советской печати скандал, связанный с присуждением Нобелевской премии по литературе за 1958 год Борису Пастернаку за роман «Доктор Живаго». Этот роман издан еще в 1957 году в Италии, но до конца 1958 года советская печать хранила о нем полное молчание. Успех «Доктора Живаго» на Западе привел к тому, что некоторые западные издатели стали искать в Советском Союзе новые и пока еще неизвестные публике литературные шедевры. Напротив, в СССР все литературные и не совсем литературные организации получили строгую директиву – пресечь возможную передачу на Запад «антисоветских материалов». В такой ситуации публикации А. Терца и Н. Аржака не могли не вызвать самого пристального внимания советских спецслужб. Однако усиленные поиски этих таинственных авторов не приносили в течение нескольких лет никакого результата.
Неудача поисков стала понятной много позже. Николай Аржак, или Юрий Маркович Даниэль, был в 1958 году мало кому известным переводчиком и поэтом, и опубликованные на Западе рассказы – его первые прозаические произведения. Даниэль не был и членом Союза писателей. Абрам Терц, или Андрей Донатович Синявский, принят в Союз писателей в 1961 году как литературовед. Его кандидатская диссертация посвящена поэзии первых лет революции, позднее он стал соавтором книги о Пикассо и автором вступительной статьи к сборнику стихов Бориса Пастернака. Опубликованные во Франции повести и рассказы также были его первыми прозаическими произведениями. Так что экспертам из КГБ не с чем было все это сравнивать.
О том, как все же были раскрыты псевдонимы Абрам Терц и Николай Аржак, существует несколько версий. Евгений Евтушенко рассказывал позднее в мемуарах, ссылаясь на покойного Роберта Кеннеди, что это была тайная операция двух спецслужб – американской и советской. Как писал Е. Евтушенко, в ноябре 1966 года в своей штаб-квартире в Нью-Йорке Роберт Кеннеди «повел меня в ванную и, включив душ, конфиденциально сообщил, что псевдонимы Синявского и Даниэля были раскрыты советскому КГБ американской разведкой. Это был, по мнению Кеннеди, весьма выгодный пропагандистский ход, так как у мировой общественности тема американских бомбардировок во Вьетнаме отодвигалась на второй план, а на первый план выходило преследование интеллигенции в Советском Союзе».
Евтушенко передал эти сведения представителю СССР в ООН Николаю Федоренко. Они вместе составили и отправили шифровку в Москву, не упоминая имени Р. Кеннеди. Это стало причиной шантажа со стороны двух агентов КГБ в Нью-Йорке, угрожавших убить поэта, если он не перестанет клеветать на органы и не сообщит источник своей информации. Спасло Евтушенко только хорошее знание русского мата. «Из меня, – писал он, – прорвался шквал великого, могучего русского языка, накопленного мной на сибирских перронах и толкучках, в переулках и забегаловках Марьиной Рощи, да такой шквал, что мои преследователи ошарашено замолчали и, переглянувшись, вышли». [80] Этот рассказ не кажется мне достоверным.
По другой версии, один из экспертов КГБ обратил внимание на явное знакомство Абрама Терца или Николая Аржака с неопубликованными письмами Ленина к Инессе Арманд, которые хранились в секретном фонде Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Знакомиться с подобного рода текстами можно было лишь по особому разрешению, и все, кто мог в недрах «спецхрана» получить для просмотра тот или иной документ, проверялись и регистрировались. Таких читателей за пять лет набралось всего двадцать человек, и все они были тщательно допрошены, а их связи и знакомства изучены. Таким образом удалось выйти на А. Синявского, за которым, как позднее и за Ю. Даниэлем, было установлено самое плотное наблюдение.
И хотя речь шла о художественных произведениях, которые трудно было даже определить как «антисоветские» (Синявский говорил позднее, что у него с советской властью были только «стилистические разногласия»), работа, проведенная КГБ, была столь велика, что и Синявского, и Даниэля было решено арестовать и судить. О дальнейших событиях, превративших скромных советских литераторов во всемирно известных писателей и общественных деятелей, говорить нет необходимости. С протестов по поводу ареста, а потом и суда над Синявским и Даниэлем началось движение диссидентов 60-х годов.
Эпизод из жизни Лена Карпинского
Лен Вячеславович Карпинский, известный советский публицист и общественный деятель – сын одного из старейших деятелей КПСС Вячеслава Карпинского, который был хорошо знаком и с Лениным, и со Сталиным и сумел избежать репрессий 1937–1938 годов. И отец, и сын в разное время работали в редакции газеты «Правда» и считались знатоками как теории, так и истории марксизма и ленинизма. Я познакомился с Леном Карпинским в 1969 году, и меня поразили необъятность его эрудиции и громадные размеры и содержимое семейной библиотеки. Если пользоваться определением Евгения Примакова, можно сказать, что Лен Карпинский был типичным «диссидентом в системе»; он относился явно критически к той советской системе, в которой сам работал на ответственных постах. Он удивлял собеседников неожиданным и оригинальным ходом суждений и способностью почти на всякий вопрос посмотреть с новой и неожиданной стороны. Из всех жанров Лен предпочитал жанр беседы, и это было понятно для 60—70-х годов.
Публиковать свои рассуждения в советской печати Лен не мог, а работать «в стол» не хотел. Поэтому он избегал больших систематических записей, ограничиваясь отдельными рецензиями, эссе, короткими заметками. Однако и это его не уберегло. За одну из заметок в «Правде», которую он написал вместе с Федором Бурлацким («На пути к премьере»), Лен был изгнан из редакции партийной газеты: в заметке критиковались методы и практика театральной цензуры. Некоторое время Л. Карпинский работал в Институте конкретных социологических исследований, но в начале 1969 года ему поручили руководство одной из редакций влиятельного партийно-государственного издательства «Прогресс».
В 1969 году в СССР почти открыто велась подготовка к реабилитации Сталина – в связи с его 90-летием. Это побудило многих, в том числе и Лена Карпинского, к более радикальной критике. В самом начале 1970 года он дал мне не только для чтения, но и для распространения среди друзей большой очерк или эссе «Слово – тоже дело». Все же Лен не хотел слишком рисковать и взял для себя псевдоним Окунев – другую «рыбную» фамилию. Это был блестящий и по изложению, и по содержанию текст, написанный с позиций «социализма с человеческим лицом».
Очерк «Слово – тоже дело» получил распространение в Самиздате и, конечно же, попал в поле зрения Пятого управления КГБ. Для экспертов из этого управления по борьбе с «идеологическими диверсиями» было очевидно, что в ряды критиков сталинизма и текущей партийной политики вступил новый, очень осведомленный и талантливый человек, аргументы которого звучали очень и очень убедительно. Одна из главных идей автора состояла в том, что в новое время, когда не все потоки информации можно держать под контролем, именно слово может изменить обстановку в стране. Умелое, верное и ярко высказанное слово, которое можно будет запустить в каналы массовой информации, – это уже дело, способное повлиять на поведение людей.
Но обнаружить автора этого очерка долго не удавалось. Анализ текста показывал хорошую теоретическую подготовку автора, его ум и способности, оригинальный стиль и язык, но также приверженность марксизму и социализму. Среди известных КГБ диссидентов такого человека не обнаруживалось. Среди разного рода консультантов и советников из аппарата КПСС умных и талантливых людей было много, да и пером владели многие. Но кто из них мог решиться на такой шаг? Работа по анализу текста очерка «Слово – тоже дело» зашла в тупик. Пришлось закидывать на поиски автора с рыбной фамилией самый широкий невод.
В тексте Окунева было много ярких, афористических выражений, интересных и запоминающихся примеров. Как можно судить по дальнейшим событиям, из этого текста была сделана обширная выжимка из наиболее запоминающихся выражений и разослана по всей системе Главлита – под таким «затуманенным» (А. И. Солженицын) названием скрывалась в Союзе огромная и разветвленная система цензуры. Во всех цензорских кабинетах в московских издательствах и в редакциях газет и журналов были образцы литературного и публицистического почерка Окунева. Организаторы этого поиска были уверены, что новый автор Самиздата не новичок в политической публицистике, и что он вряд ли откажется навсегда от работы в советской печати. И Лен Карпинский все-таки попал в расставленные на него сети.
В начале 70-х годов Лен Вячеславович получил предложение, от которого не мог отказаться. Одна из московских литературных редакций предложила ему составить сборник его рецензий, статей и эссе из газет «Правда» и «Комсомольская правда», из журнала «Молодой коммунист» и некоторых других изданий. Редактируя и дополняя некоторые статьи для этого сборника, Лен Карпинский не смог удержаться от того, чтобы не вставить в одну из прежних статей три страницы из очерка «Слово – тоже дело».
Сначала все было хорошо, и сборник пошел в набор. Но перед сдачей в печать любой издаваемый материал шел к цензору. И этот безымянный цензор сличил почерки, обнаружил вероятного автора самиздатского очерка и доложил начальству. Карпинского вызвали в КГБ, где у него было много знакомых – еще по работе в ЦК ВЛКСМ; они пришли сюда вместе с Шелепиным и Семичастным. Еще в 50-е годы Лен Карпинский был активным комсомольским функционером. Однако когда Н. С. Хрущев призвал комсомольских лидеров идти на работу в КГБ, Лен от этого уклонился. Рядовым следователям на Лубянке было трудно разговаривать с таким человеком, как Карпинский, и его пригласил к себе один из заместителей Юрия Андропова, начальник Пятого управления КГБ генерал Филипп Бобков.
В своей книге «КГБ и власть» Ф. Бобков так писал об этой встрече: «В начале семидесятых годов к нам поступила информация о том, что известный публицист, бывший секретарь ЦК ВЛКСМ Л. В. Карпинский задумал создать некоторое подобие нелегальной библиотеки для распространения запрещенной литературы. Я был хорошо знаком с Карпинским, знал о его неординарных оценках событий, происходящих в стране, ценил высокую эрудицию и рассудительность, его широкий взгляд на политические события и свободомыслие. Наши встречи еще в ЦК ВЛКСМ всегда давали почву для размышлений. Политические взгляды Карпинского никакого беспокойства у органов госбезопасности не вызывали. Когда же речь зашла о создании некой нелегальной структуры, это настораживало. Не хотелось видеть Лена Карпинского, ставшего к тому времени руководителем одной из идеологических редакций в издательстве “Прогресс”, среди так называемых диссидентов. После размышлений я пригласил Карпинского к себе, и мы обстоятельно поговорили. Я преследовал только одну цель – уберечь его от нелегальщины. И Лен Вячеславович понял это. Об этой беседе я доложил Андропову. Помню, Юрий Владимирович встал из-за стола и долго ходил взад-вперед по кабинету. Потом остановился и внимательно посмотрел на меня.
– Плохо, что такие, как Карпинский, уходят от нас. Это свидетельствует, что в нашем доме не все ладно. Не знаю, поймут ли его в ЦК…» [81]
Это интересное, но не слишком точное свидетельство. В очерке «Слово – тоже дело» Карпинский не предлагал создавать никакой нелегальной структуры «для распространения нелегальной литературы». Он обращался к творчески мыслящим коллегам с предложением о создании «современной марксистской библиотеки» из десяти-пятнадцати новых исследовательских работ. Да, конечно, Карпинский понял пожелания Ф. Бобкова. Но он уже не мог остановиться в своей теоретической работе. Бросить начатые размышления и планы и обратиться к издательской рутине значило для него потерять лицо и уважение к самому себе. Лен Карпинский начал готовить издание независимого марксистского альманаха и привлек к этой работе несколько человек, в числе которых был и Отто Лацис, автор интересного исследования о природе и истоках сталинизма – эта работа не появлялась в Самиздате.
Карпинский не учел лишь одно обстоятельство – после беседы с Бобковым за ним было установлено плотное наблюдение. Прослушивались не только все его телефонные разговоры из дома, но и из служебного кабинета. И когда уже готовая рукопись альманаха была передана машинистке, у нее провели обыск, и все бумаги вместе с машинкой опять попали на Лубянку. Сам Карпинский доложил об этом в ЦК КПСС, где ему готовили повышение по службе.
Лен Вячеславович не каялся во время партийного следствия. Напротив, он привел множество высказываний Ленина начала двадцатых годов о том, что партия не должна допускать пропаганду и агитацию оппозиционных взглядов в листовках тиражом в 250 тысяч экземпляров, но она должна разрешить для любой оппозиции выпуск «специально изданных сборников». «Есть теоретики и среди оппозиции, – говорил на Х съезде РКП(б) Ленин, – которые всегда дадут партии полезный совет. Это необходимо. Это не надо смешивать с пропагандой, с борьбой платформ». Но в ЦК и в КПК при ЦК КПСС, как и предполагал Ю. Андропов, не поняли Л. В. Карпинского. В результате он потерял и работу, и партийный билет. Новые возможности для Карпинского открылись только в годы перестройки, когда уже не нужно было прибегать ни к каким псевдонимам.
В конце восьмидесятых годов Лен Карпинский стал ведущим политическим обозревателем, а с августа 1991 года – главным редактором газеты «Московские новости». Сохранить независимость суждений в условиях нового демократического режима оказалось тоже нелегко, но Лен Карпинский справился с этой задачей.
О книге «Д» «Стремя “Тихого Дона"»
В сентябре 1974 года эмигрантское русское издательство «ИМКА-Пресс» в Париже опубликовало небольшую книгу «Стремя “Тихого Дона”: Загадки романа» с предисловием Александра Солженицына. Вместо имени автора на обложке и на титульном листе была проставлена всего одна буква «Д». Можно было подумать, что это намек на Дон.
В 1974 году интерес к тому, что говорил и делал Солженицын, недавно лишенный советского гражданства и высланный за границу, был очень велик. Но и интерес к Михаилу Шолохову и его роману «Тихий Дон» в Советском Союзе также был очень велик. Поэтому книга «Д» не могла не вызвать интереса и в нашей стране, и за границей.
Как было видно из предисловия, Солженицын хорошо знал «Д» и ценил его как «литературоведа высокого класса», который между других своих работ взялся и за изучение проблемы авторства «Тихого Дона». Можно было понять, что «Д» начал эту работу по просьбе Солженицына и делал ее не только бескорыстно, но и тайно. Однако автор смог только начать большое исследование, написав несколько разделов, а также много разрозненных заметок, которые и вошли теперь в книгу. Из письма «Д» к Солженицыну, которое приводилось в предисловии, было видно, что «Д» намеревался значительно продвинуться в своем исследовании летом и осенью 1973 года, а в дальнейшем написать еще одну книгу на ту же тему, но уже как детектив. «Однако “Д” был болен, – свидетельствовал Солженицын. – Он не смог выполнить задуманного, а умер среди чужих людей, и нет уверенности, что не пропали его заготовки и труды последних месяцев. Я сожалею, что еще сегодня не смею огласить имя “Д” и тем почтить его память. Однако придет время». [82]
Как известно, сомнения в авторстве Михаила Шолохова высказывались еще в 1928–1929 годах, после выхода в свет первых частей романа «Тихий Дон» в журнале «Октябрь» и в «Роман-газете». Однако то были разного рода слухи и домыслы, а теперь это была попытка исследования. Неудивительно, что книга «Д» быстро распространилась в конце 1974 года в московских литературных кругах. Я хорошо помню, как бурно обсуждали книгу «Д» в разных писательских квартирах. В квартире Владимира Солоухина почти все собравшиеся здесь несколько писателей склонны были принять доводы «Д» и Солженицына. В доме Владимира Тендрякова были решительно против этого. Юрий Трифонов был полон сомнений. Взволнованы были Владимир Лакшин, Юрий Черниченко и Лев Копелев.
Многие стали выписывать и читать в библиотеке дореволюционные повести и рассказы Федора Крюкова, известного в свое время донского писателя и общественного деятеля, которому «Д» и приписывал главную роль в создании романа «Тихий Дон». Литературовед, биограф и земляк Ф. Крюкова Владимир Проскурин, с которым я тогда познакомился, был рад всеобщему вниманию к творчеству Крюкова, но возражал против приписывания Крюкову авторства «Тихого Дона». Естественно, что в писательской среде строилось множество догадок и о том, кто такой сам «Д». Кое-кто высказывал предположение, что за этим псевдонимом скрылся сам Солженицын, но у этой версии оказалось мало сторонников. Опубликованные материалы свидетельствовали о «Д» как о способном литературоведе. Литературное окружение А. Солженицына было невелико, но оно было, как это принято говорить сейчас, не слишком «прозрачно».
Книга «Д» вызвала не только большой интерес сама по себе, но и положила начало многим новым исследованиям и публичным обсуждениям. Были предприняты попытки сравнить словарный запас, стиль и идейную направленность «Донских рассказов», сочиненных и опубликованных в 1924–1926 годах, и первых пяти частей «Тихого Дона», которые создавались в 1927 и в начале 1928 года.
Норвежский исследователь-славист Гейр Хетсо провел компьютерное исследование, в основу которого положено сравнение длины предложений и расположение частей речи в «Донских рассказах, в первых двух частях „Тихого Дона“ и в „Поднятой целине“. Полученные данные сравнивались потом с теми же параметрами в сборниках рассказов и повестей Федора Крюкова, особенно за период 1909–1917 годов. Ряд авторов испробовали еще один путь поиска – создание облика автора „Тихого Дона“ не по его официальной биографии, а по тексту самого романа. Каждый литературовед знает, что автор любого крупного и оригинального произведения рисует в нем не только образы героев, но и свой собственный облик.
Можно было бы выделить несколько десятков наиболее ясных и очевидных признаков, черт и качеств автора «Тихого Дона», без которых создание романа было бы невозможно. Было очевидно, например, что автор замечательно знает и рисует природу Донского края: степь и лес, все травы и всех зверей, птиц и рыб, сам Дон и небо над ним при любой погоде и в любое время года. Он применяет необычно яркие краски, показывая нам не просто пейзажи, а жизнь природы во всех ее проявлениях.
Автор выказывает замечательное знание всего уклада казачьего сословия, быта, службы, поведения и психологии казака – воина и земледельца. Он знает все детали и особенности казачьего хозяйства, военной формы, конного дела, истории казачьего Дона. Он не просто знает, но любит казачество, его старинные песни, пляски, игры, традиции. Он дает нам необычные и сильные образы и казаков-мужчин, и особенно женщин-казачек: Аксиньи, Натальи, Дарьи, Ильиничны.
Поражало не только литературное мастерство автора, но и талант, даже гениальность создателя лучшего русского романа ХХ века. Особенно необычным казался тот факт, что автор романа относился с явной неприязнью к маленьким группам донских большевиков и пришлых комиссаров, которые вольно или невольно разрушали вековые уклады этого богатого и красивого края.
Было просто непонятно, каким образом могло появиться в печати это большое произведение, в котором изображалось первое в нашей истории мощное народное восстание против власти большевиков и против тех новых порядков, которые они хотели установить путем расстрелов и террора на Дону. И главный герой романа Григорий Мелехов становится командиром повстанческой дивизии, успешно воюющей против отрядов Красной Армии. Ни Федор Крюков, ни Михаил Шолохов, каким его изображали тогда все литературоведы и авторы школьных учебников, не подходили под признаки автора столь необычного и сильного романа-трагедии. Тот Шолохов, которого знали и писатели, и диссиденты 60—70-х годов, не вызывал ни у кого не только восхищения, но и простого уважения.
Именно это обстоятельство и привлекло внимание к книге «Д», который пошел в своей работе по иному пути, далекому от простых арифметических подсчетов или сравнения особенностей романа с особенностями биографии писателей. «Д» попытался провести исследование художественных особенностей разных частей и глав «Тихого Дона».
По мнению «Д», стиль и характер самого художества в романе был различен в разных его частях. Разные страницы и главы романа написаны как бы разными руками и в разное время. Неизвестному нам «Д» казалось, что существует большая разница между основной частью романа и более поздними вставленными в него главами и разделами. Ему казалось, что образы Аксиньи и Анны Погудко, даже Мишки Кошевого и Бунчука создавались разными авторами. Таким образом, выдвигалась концепция о существовании у романа «Тихий Дон» как главного автора, так и менее способного и отличного по взглядам соавтора. Доводы и примеры «Д» были интересными, но не убедительными, не исчерпывающими, а порой и явно ошибочными. Это признавал и Солженицын, который писал в предисловии: «В который раз история цепко удержала свою излюбленную тайну». «Клад “Тихого Дона” заколдован», – писал Солженицын и много позже.
Но и тайна самого «Д» держалась еще много лет. Только в конце 1991 года в декабрьской книжке «Нового мира» А. И. Солженицын сообщил читателям драматическую предысторию книги «Стремя “Тихого Дона”». Только теперь мы смогли узнать имя автора этой книги. Это была Ирина Николаевна Медведева-Томашевская, литературовед из Ленинграда. По свидетельству Солженицына, она умерла в Гурзуфе в Крыму, где лечилась осенью 1973 года. Ее сразил инфаркт, когда она узнала из передач западных радиостанций об обысках у друзей Солженицына в Ленинграде и об изъятии «Архипелага». Даже в разговорах с близкими ему людьми, а тем более в переписке А. Солженицын, склонный к тщательной конспирации, всегда называл И. Н. Медведеву-Томашевскую «Дамой». Отсюда и возник столь необычный псевдоним– «Д».
Вполне возможно, что в КГБ узнали о «Д» еще до издания ее книги. Изучение и выявление ленинградских друзей и знакомых Солженицына велось в 1972–1973 годах очень настойчиво. Едва появившись в Москве, книга «Д» сразу же попала в списки запрещенной к распространению литературы. Михаил Шолохов в эти годы был еще жив, и официальная литературная общественность готовилась широко отметить в мае 1975 года 70-летие Нобелевского лауреата из станицы Вешенской. Однако даже Институт мировой литературы в Москве должен был, к удивлению своих сотрудников, провести публичное обсуждение проблемы авторства «Тихого Дона» и заслушать по этому поводу доклад Гейра Хетсо. Это обсуждение было продолжено журналом «Вопросы литературы» в 1989 году Солженицын и Шолохов имели возможность познакомиться друг с другом на большой встрече деятелей культуры с лидерами КПСС в декабре 1962 года. Посредником в этой короткой встрече был А. Т. Твардовский. Два писателя пожали друг другу руки и обменялись обычными в таких случаях комплиментами.
Их взаимная неприязнь сменилась в семидесятые годы нескрываемой ненавистью. Однако под влиянием успеха Солженицына Шолохов попытался поднять в новой редакции романа «Они сражались за Родину» тему сталинских репрессий.
Издание книги «Д» круто изменило положение дел в советском шолоховедении. Существенно расширилось и углубилось изучение истории и источников романа «Тихий Дон», его текста, прототипов, особенностей языка и образов. Появились первые большие биографии Шолохова, которых в шестидесятые годы просто не было. Были изучены многие ранее закрытые архивы. Наконец, были найдены и рукописи первых частей романа, которые сам Шолохов считал навсегда утерянными. Очень много узнали мы и о донском писателе Федоре Крюкове, главные работы которого переизданы в 90-е годы. Книга «Д» стала таким образом частью нашей непростой литературной истории.
Псевдонимы и анонимные издания конца 70-х годов
К концу семидесятых годов многие сотни известных диссидентов, в том числе писателей и ученых, эмигрировали из СССР. Они могли публиковать свои произведения, уже не прибегая к конспирации. За границей, главным образом во Франции и США, стали издаваться новые эмигрантские журналы на русском языке: «Континент», «Время и мы», «22», «Синтаксис», «Обозрение», «Внутренние противоречия», «Проблемы Восточной Европы», «ХХ век», «Архив Самиздата», «Стрелец», «Третий путь», «Форум», «Вольное слово», «Русское возрождение» и некоторые другие. Новые эмигранты пополнили и редакции, а также авторский актив таких прежних эмигрантских изданий, как «Новый журнал», «Вестник РХСД», «Грани».
Однако некоторые журналы составлялись и редактировались все еще в СССР и издавались на Западе анонимно. Это была в первую очередь знаменитая «Хроника текущих событий», в которой излагались подробности почти всех репрессий по политическим, национальным и религиозным мотивам в СССР. У истоков этого издания стояли такие правозащитники, как Павел Литвинов, Наталья Горбаневская, Валерий Павлинчук, Анатолий Якобсон. Из-за арестов редакция «Хроники» менялась почти каждые три года, но журнал продолжал выходить в свет, сохраняя внешнее оформление и стиль изложения. Это было предельно объективное издание, которое сообщало читателям главным образом факты, избегая толкований и оценок. В середине семидесятых годов в редакции «Хроники» работали анонимно Татьяна Ходорович, Татьяна Великанова, Сергей Ковалев и некоторые другие. Об этих редакторах мы узнавали только после их ареста или эмиграции – из новых выпусков той же «Хроники». Анонимно издавался в семидесятых годы интересный журнал «Память», публиковавший статьи и документы по советской истории. Анонимными, хотя и не слишком известными, были и некоторые другие журналы: «Левый поворот», «Варианты», «Хроника Литовской католической Церкви» и другие. Под псевдонимом «Алексей Алексеев» скрылся и редактор небольшого литературного журнала «А– Я». Только много позднее мы узнали, что журнал «Левый поворот» составлял в Москве Борис Кагарлицкий, а журнал «А—Я» Алик Сидоров.
В конце семидесятых годов репрессии среди диссидентов усиливались, и Самиздат стал сходить на нет. Но существенно увеличилось число книг и статей, которые публиковались теперь за границей под псевдонимами и анонимно. Несколько богословских сочинений пришло на Запад и опубликовано под псевдонимом «Ф. \'Уделов». Только в девяностые годы мы узнали, что под этим псевдонимом печатал свои труды Сергей Иосифович Фудель, который большую часть жизни провел в советских тюрьмах и ссылке. Под собственным именем работы С. И. Фуделя стали публиковаться только после его смерти.
В 1977 году я получил из США по своим каналам большую книгу Александра Зимина «Социализм или неосталинизм». Вероятно, только я один в Москве знал, что под именем Зимина скрывался Элькон Георгиевич Лейкин, известный экономист двадцатых годов, примыкавший к левой оппозиции и отсидевший почти двадцать лет в разного рода лагерях и ссылках. Его рукопись я читал раньше, но автор боялся пускать ее в Самиздат. В 1977 году его уже не было в живых.
Однако тема сталинизма уступила в конце семидесятых годов работам на текущие экономические темы. Несколько очерков и большая книга с разбором экономической и политической системы СССР опубликованы под псевдонимом «К. Буржуадемов». Только через много лет мы узнали, что автором этих работ был московский инженер и экономист Виктор Сокирко.
В 1978 году на Западе опубликована весьма интересная работа «Бедность народов», автор которой скрылся под псевдонимом «Адам Кузнецов». Это хорошо написанная, убедительная и содержательная книга, в которой не только остро, но и остроумно критиковалась теория и практика советской экономики. «Почему, – задавал вопрос Адам Кузнецов, – при столь мощной оборонной экономике, которая была создана за шестьдесят лет в СССР, народ страны остается все же поразительно бедным?» Автор призывал использовать механизмы рыночной экономики и частного предпринимательства. Но уже в 1979 году та же книга вышла в свет под другим названием – «Без буржуев» и под собственным именем ее автора – Игоря Ефимова, оказавшегося в эмиграции и не нуждавшегося теперь в псевдонимах. Это московский литератор и публицист, друг Сергея Довлатова. Позднее Игорь Ефимов издал за границей несколько романов: «Седьмая жена», «Суд да дело». Сторонник рыночной экономики, Игорь Ефимов выступал и в российской печати 90-х годов с самой резкой критикой «шоковой терапии» и гайдаровских либеральных реформ, а также чубайсовских ваучеров. Совсем недавно он опубликовал свою переписку с Довлатовым– «Эпистолярный роман». Эта книга издана в Москве издательством Захарова и вызвала большую полемику, в том числе и с родными С. Довлатова.
Дело Льва Тимофеева
Среди многих работ на социальные и экономические темы мало кто обратил внимание на небольшие статьи и очерки о трудном экономическом положении в советской деревне, автором которых был неизвестный нам Лев Тимофеев. В 1982 году я получил из США небольшую книгу «Технология черного рынка, или крестьянское искусство голодать». Она была издана неведомым мне раньше «Товариществом зарубежных писателей». На обложке стояло имя автора – Лев Тимофеев. Здесь были собраны как прежние, так и некоторые новые его статьи и очерки.
В диссидентских кругах о Льве Тимофееве ничего не знали, и все решили, что речь идет об очередном псевдониме. Видимо, так же думали и эксперты из КГБ, которые начали поиск автора, чья близость к деревне была вне сомнений. Однако найти таинственного Тимофеева оказалось непросто, а он почти каждый год выпускал в свет новую книгу. Появился небольшой роман Льва Тимофеева «Ловушка», пьеса «Моление о чаше» и еще одна книга о трудной доле советских граждан «Последняя надежда выжить (Размышления о советской действительности)». Тексты этих работ неоднократно передавались в начале 80-х годов по радиостанциям «Голос Америки» и «Свобода».
Органы КГБ обнаружили автора этих публикаций только в конце 1984 года. К удивлению знатоков оказалось, что автор не использовал псевдонимов и публиковал свои книги и очерки под собственным именем. Это был журналист Лев Михайлович Тимофеев, который начал печататься еще в 60-е годы в журналах «Юность», «Молодой коммунист», «В мире книг», а также в «Литературной газете». В основном это были рецензии: Лев Тимофеев числился в штате редакции журнала «В мире книг». Тимофеев подолгу жил в одной из деревень Рязанской области, и наблюдения за жизнью окрестных колхозов и колхозников использованы в его статьях и книгах.
В диссидентских кругах позднее говорили, что Лев Тимофеев был «найден» не в результате анализа его текстов и литературных особенностей его работ, а по доносу одного из осведомителей. Все же несколько человек из самых близких друзей Л. Тимофеева знали о его публикациях, а когда число и известность его работ достигли какой-то критической массы, эти сведения разошлись более широко. В диссидентской и околодиссидентской среде было не так уж мало людей, которые, не выдержав каких-то трудных испытаний, стали сотрудничать с «органами». Были и добровольцы или профессионалы, специально внедренные в диссидентскую и писательскую среду Поэтому строгая конспирация была в данном случае делом не лишним.
Поиски Л. Тимофеева были слишком долгими, и раздражение в КГБ оказалось очень большим. Поэтому как только авторство было точно установлено, а разного рода связи и знакомства выявлены путем тщательного наблюдения и прослушивания всех телефонных разговоров, Л. Тимофеева арестовали. Это произошло в марте 1985 года – через несколько дней после прихода к власти Михаила Горбачева. Перестройка начиналась тогда не с либерализации, а с борьбы против алкоголизма и «нетрудовых доходов».
И как раз 1985 год стал временем новой, хотя и последней волны репрессий.
В сентябре 1985 года суд приговорил Л. Тимофеева к шести годам лагерей и пяти годам ссылки. Это был очень суровый приговор, но он не вызвал почти никаких откликов в советской общественности и за границей. Со времени судебного процесса по делу Синявского и Даниэля прошло уже двадцать лет, и обстановка в стране мало напоминала обстановку и настроения середины шестидесятых годов. Уже не выходила в свет знаменитая «Хроника текущих событий», которая много лет фиксировала почти все репрессии по политическим и религиозным мотивам. Ядро диссидентского движения было разгромлено, и диссиденты в лагерях и в эмиграции встретили приход Горбачева без всякого воодушевления. Все начало меняться в стране только в самом конце 1986 года, через полгода после Чернобыля, когда свободу смог получить не только А. Д. Сахаров, но и Лев Тимофеев.
Сейчас он эксперт по теневой и криминальной экономике, автор книг о коррупции и экономике наркобизнеса, один из руководителей центра по изучению нелегальной экономической деятельности, редактор журнала об экономике преступлений и наказаний. Несколько лет назад в книжных магазинах Москвы появилось солидное издание – «Теневая Россия», авторами которого являются Игорь Клямкин и Лев Тимофеев. На Международной книжной ярмарке в Москве была представлена новая книга Л. Тимофеева «Кусок истории. Заметки публициста». Это сборник статей, заметок и эссе, которые автор публиковал в 1993–1996 годах в газете «Русская мысль», издаваемой в Париже. В нынешних книгах Льва Тимофеева критики даже больше, чем в его прежних «антисоветских» изданиях. Но кто обращает на нее внимание?
2002
Рой Медведев Дональд Маклэйн, каким я его знал
11 марта 1983 года в советской газете «Известия» был опубликован короткий некролог, в котором говорилось: «После продолжительной болезни на семидесятом году жизни скончался Дональд Дональдович Маклэйн – член КПСС, видный ученый-международник, доктор исторических наук, ведущий исследователь Института мировой экономики и международных отношений АН СССР».
Мало кто в нашей стране обратил внимание на это сообщение, имя Доналда Маклэйна не было известно в СССР. Однако смерть Маклэйна вызвала многочисленные комментарии за границей и обширные статьи во многих газетах, особенно в Англии и США. И в этом нет ничего странного, ибо шотландец Д. Маклэйн, родившийся в богатой аристократической семье, получивший блестящее образование в Кембридже и занимавший ответственные посты в английском министерстве иностранных дел, был советским разведчиком, который с конца тридцатых годов и до конца 1950 или 1951 года передавал в СССР важнейшую информацию.
Когда речь идет о такой области, как разведка, не существует общих моральных критериев. Для Англии Маклэйн был не только шпионом, но и предателем, предателем своей страны и своего класса. Некоторые из статей о его кончине так и были озаглавлены: «Смерть предателя». Но для Советского Союза он был одним из наиболее эффективных разведчиков за всю историю советской разведки. Неудивительно поэтому, что «Известия» писали о Маклэйне как о «человеке высоких моральных качеств, который всю свою сознательную жизнь посвятил служению высоким идеалам социального прогресса и гуманизма, мира и международного сотрудничества».
Я не знал Дональда Маклэйна ни как английского аристократа и высокопоставленного чиновника, ни как разведчика, ни как сотрудника Института мировой экономики. Я знал Маклэйна по небольшому кружку московской интеллигенции, в который входили в середине шестидесятых годов самые разные люди, где Дональд Маклэйн, или, как тогда его называли, Марк Петрович Фрезер, был всегда желанным гостем. У Маклэйна было немного друзей в Москве, но те, кто его знал лучше других, относились к нему с неизменным уважением, считая его искренним человеком, судьба которого сложилась необычно и трагически.
В шестидесятые годы в Москве имелось немало домов, где часто собирались люди, объединенные общими, но еще не дифференцированными оппозиционными настроениями. Здесь обсуждались политические и литературные новости, о которых нельзя было прочесть в газетах. Здесь устраивались вечера, чтобы послушать песни А. Галича и других бардов или стихи молодых и пока еще малоизвестных поэтов. В этих своеобразных салонах можно было встретить А. Солженицына, Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Ю. Любимова, Е. С. Гинзбург, Петра Якира, Эрнста Неизвестного, А. Некрича. На одном из таких вечеров я познакомился и с Дональдом Маклэйном. Помню, что все пришли тогда слушать стихи Натальи Горбаневской. Сейчас она не только известная поэтесса, но и видный деятель новой русской эмиграции.
Более близкому знакомству с Маклэйном я обязан, однако, публицисту С. Н. Ростовскому. В те годы я работал над книгой о Сталине, которой дал название «К суду истории». К1966 году это была уже большая рукопись, которую я давал читать отдельным ученым, писателям, старым большевикам, чтобы выслушать их замечания и советы, а нередко получить важные свидетельства и документы. Одним из таких первых читателей и был С. Н. Ростовский, писавший также под псевдонимом А. Леонидов, но более известный как Эрнст Генри. Это был человек с необычной биографией. В шестнадцать лет он стал международным курьером Коминтерна. Он вступил в Германскую компартию и вел в Германии как легальную, так и нелегальную работу. Стал рано печататься под разными псевдонимами. После прихода Гитлера к власти перебрался в Лондон и работал в советском посольстве. Здесь под псевдонимом Эрнст Генри он опубликовал книгу «Гитлер над Европой», которая только в Англии выдержала за три года пять изданий. Имела успех и его книга «Гитлер против России», которую он издал в 1936 году Даже немецкая разведка не знала подлинное имя и положение автора этих книг.
Работая в Англии, Эрнст Генри не знал Дональда Маклэйна и, видимо, даже не подозревал о существовании столь крупного советского разведчика в английском МИДе. Они познакомились только в СССР в середине пятидесятыхх годов, когда и Генри, и Маклэйн стали сотрудничать в организованном тогда журнале «Международная жизнь». Широкая известность пришла к Эрнсту Генри только в 1965 году когда он написал яркий памфлет против Сталина, где говорил главным образом о внешней политике Сталина. С хорошим знанием дела Генри доказывал, что именно ошибочная политика Сталина и Коминтерна в отношении немецкой социал-демократии помогла Гитлеру прийти к власти в Германии и развязать Вторую мировую войну. Через год Эрнст Генри написал «Открытое письмо ХХIII съезду КПСС» с протестом против попыток реабилитировать Сталина. Под этим письмом поставили подписи около сорока крупнейших советских ученых, писателей, деятелей искусства. Из этого письма мы узнали о существовании А. Д. Сахарова. Тогда он был еще засекреченным ученым, но после встречи с Генри не только подписал письмо к съезду партии, но и убедил подписать его некоторых наиболее выдающихся ученых. Эрнст Генри дал мне немало полезных советов и материалов для книги о Сталине. Однажды он попросил меня дать рукопись о Сталине своему другу Марку Фрезеру – Дональду Маклэйну От Генри я узнал тогда и часть необычной биографии этого человека.
Чтобы понять поведение Д. Маклэйна, надо вспомнить обстановку в Европе и во всем мире в середине тридцатых годов. В эти годы даже в Кембриджском университете, доступном лишь для немногих избранных, бурлили политические страсти. Британия была тогда громадной империей, под властью англичан находилось множество колоний, о независимости которых правящий класс еще не думал. Не была забыта Первая мировая война, а также тяжелая экономическая депрессия и кризис 1929–1933 годов. Общественное сознание Западной Европы также переживало кризис. Многие видели выход в правом радикализме и фашизме. Но немало людей, включая видных представителей интеллигенции и даже аристократии, с надеждой изучали работы Маркса и Ленина. Им казалось, что именно Советская Россия, оправлявшаяся посла жестокой гражданской войны, является «лучом света в темном царстве».
Для Дональда Маклэйна перелом в сознании наступил после начала гражданской войны в Испании. В аристократическом Кембридже было тогда несколько левых организаций и даже ячейка коммунистической партии. Молодой Дональд выразил желание вступить в Коммунистическую партию Великобритании. Его просили подождать. Через некоторое время с ним встретился «некто» из Коминтерна. «Вы сможете принести больше пользы коммунистическому движению и Советскому Союзу, – сказал “некто” Дональду, – если не вступите в партию, а будете служить нам тайно. Вам лучше продолжать делать карьеру именно так, как это принято в вашем кругу». Дональд согласился с этими доводами. В своем обществе он был «инакомыслящим», «диссидентом», даже «отщепенцем», если применять советскую терминологию. Однако английское общество весьма терпимо к инакомыслию. Но теперь Дональд стал шпионом, советским разведчиком, а этого английское общество, как, впрочем, и всякое другое, простить не могло. Правда, он не был подкуплен. Все, что он делал, он делал по убеждению. За работу в разведке он не получил никогда ни одной копейки и ни одного цента. Но это не могло служить оправданием для английского суда.
Вначале карьера Дональда складывалась более чем успешно. Он открыто отошел от коммунистов, «образумился» и стал работать в Министерстве иностранных дел. В годы Второй мировой войны он входил в Англо-американский атомный комитет, и благодаря ему и Киму Филби в СССР знали если не о технических деталях, то о сроках и темпах создания Западом атомного оружия. Именно поэтому, вероятно, сообщение президента США Трумэна о существовании у Америки атомной бомбы не произвело на Сталина во время Потсдамской конференции никакого впечатления, что так удивило Трумэна.
Разумеется, мне было интересно познакомиться с таким человеком и выслушать его мнение о моей рукописи. Вскоре я отвез ее на квартиру Дональда Маклэйна. По советским стандартам это была большая и хорошая квартира недалеко от Киевского вокзала. Через месяц я снова был у него. Моя работа понравилась Дональду и мы довольно долго беседовали. Конечно, Маклэйн узнал из прочитанной им рукописи немало таких фактов, о которых он раньше не имел представления. Но главное состояло в концепции книги. Я критиковал Сталина и анализировал его преступления, но не отрицал ценности социализма и коммунистического движения в целом. Это отвечало взглядам самого Маклэйна.
Когда он, предупрежденный Кимом Филби о грозящей ему опасности, бежал в СССР в 1961 году то убедился, конечно, что реальный советский социализм это совсем не то, что представлялось ему когда-то, в середине тридцатых годов. Маклэйн вначале жил в городе Куйбышеве. Это были последние годы страшной сталинской тирании. За заслуги перед СССР Маклэйн был награжден орденом Красного Знамени. Однако было вполне возможно, если бы советские карательные органы получили приказ о расстреле потерпевшего неудачу разведчика. Еще в тридцатые годы по приказу Сталина были вызваны в Москву и физически уничтожены десятки советских разведчиков, работников Коминтерна и дипломатов. В меньших масштабах эти расправы продолжались и позже. Совсем незадолго перед появлением Маклэйна в СССР был вызван в Москву и арестован Эрнст Генри – С. Н. Ростовский (я не знаю, под каким именем он работал в Германии и в Лондоне). Но, все более и более разочаровываясь в облике советского социализма, Маклэйн не хотел порывать с идеями социализма и коммунизма вообще. Он не хотел принимать идеи и ценности капитализма. Он не жалел о прошлом и не раскаивался в том, что работал на советскую разведку.
С тех пор мы встречались с Маклэйном несколько раз. Он предлагал мне помощь при переводах некоторых английских текстов, показывал книги из своей библиотеки, обещал помогать в изучении английского языка. Ему хотелось прочесть и некоторое другие рукописи, которые в то время ходили по рукам в Москве – это было время расцвета Самиздата. Маклэйн никогда не рассказывал ни о деталях, ни о технике своей работы разведчика. Только иногда он говорил о некоторых исторических событиях, в которых, как я мог понять, ему пришлось участвовать, – разумеется, специфическим образом.
Известно, что летом 1950 года вооруженные силы Северной Кореи, начав наступление на юг, быстро разбили войска Южной Кореи и заняли около 90 % южнокорейской территории, зажав войска Ли Сынмана в районе Пусана. Неожиданно по приказу президента Трумэна в районе Инчхона в глубоком тылу действующих армий высадился пятидесятитысячный американский десант. Уже через день с пусанского плацдарма перешла в наступление 8-я американская армия. Войска Ким Ир-Сена оказались отрезанными от севера Кореи и разбиты, а американо-корейские части вместе с подразделениями некоторых других стран-союзников США двинулись на север к корейско-китайской границе. Казалось, что дни Корейской Народно-демократической республики сочтены. Сталин настаивал на вмешательстве Китая. Но Мао Цзедун колебался.
Он опасался, что США перенесут войну на китайскую территорию, начнут бомбить китайские города и даже, может быть, сбросят на китайские войска и промышленные центры атомные бомбы.
В это время премьер-министр Англии К. Эттли находился в США с официальным государственным визитом. Рядом с ним был и Дональд Маклэйн, который в это время руководил американским отделом МИДа Великобритании. Ему доверяли, и ни у Эттли, ни у американских коллег не было секретов от Маклэйна. Ему удалось получить копию директивы президента генералу Макартуру: «Ни при каких условиях не переносить войну на территорию Китая» и не применять атомного оружия. Эти сведения были немедленно переданы Сталину, а от него к Мао. Колебания китайцев кончились, и 25 октября крупные силы «китайских народных добровольцев» перешли границу Кореи и атаковали американские и южнокорейские войска. Эта война закончилась лишь через три года установлением линии перемирия по 38-й параллели.
Насколько мне известно, Д. Маклэйн не искал встреч с диссидентами, ограничиваясь лишь чтением различных документов Самиздата. Однако он принимал участие в денежных сборах для помощи пострадавшим. В 1970 году были арестованы две молодые девушки. Это были школьницы десятого класса, которые пыталась распространять самодельно изготовленные листовки. Одна из девушек – Ирина Каплун – была вскоре освобождена, другая – Ольга Иоффе – оказалась в психиатрической больнице. Маклэйн знал семью этой девушки. Он не посылал телеграмм Брежневу. Летом 1970 года проводились выборы в Верховный Совет СССР. Маклэйн, как и всякий гражданин СССР, пошел на избирательный участок. Взяв избирательный бюллетень, он зашел в кабину для голосования и написал на бюллетене: «Пока такие девушки, как Ольга Иоффе, будут находиться в психиатрической больнице, я не могу принимать участие в голосовании».
Маклэйн был очень рад, когда его книга «Внешняя политика Англии после Суэцкого кризиса» была издана в Лондоне под его собственным именем. Он объявил своим друзьям и знакомым, что он теперь не Марк Петрович Фрезер, а Дональд Маклэйн. Года через два эта книга была издана и в СССР на русском языке. Автор подарил мне ее с теплой надписью.
Если Маклэйн и не раскаивался в своем прошлом, то он несомненно испытывал ностальгию. Ему нравилось все английское. Он берег старые английские вещи. Он получал иногда валютные переводы из Англии и помогал родственникам – семьям мужа дочери и жены старшего сына. Но просил их покупать в магазинах «Березка» только английские товары.
Я встречался два раза с женой Маклэйна Мелиндой. Мы беседовали о разных делах. Она передала мне однажды большой импортный радиоприемник – подарок моего американского издателя, готовившего книгу о Сталине. Но, конечно, я не был посвящен в детали их семейного разлада. Жена Дональда жила отдельно от него, также в большой и хорошей квартире. Мало знал я и детей Дональда. Становясь студентами, его сыновья вносили новый дух в жизнь Маклэйна. В дом к нему приходила оппозиционно настроенная молодежь. Но это было уже другое поколение, и у него были другие взгляды и ценности.
Переживания прошлых лет не прошли бесследно. Еще в Англии, а позднее во время работы в Египте Маклэйн пристрастился к спиртному. Это пристрастие развилось в настоящий алкоголизм, от которого его несколько раз лечили, но безуспешно. Как я предполагаю, это и было причиной разлада с женой. Маклэйн прервал отношения с Кимом Филби, главным образом по личным причинам. Потом он порвал отношения с Эрнстом Генри. Он объяснял мотивы этого разрыва тем, что Эрнст Генри отказался от всякой оппозиции и снова стал верно служить режиму и даже, как считал Маклэйн, возобновил какие-то связи с КГБ.
Имел ли сам Маклэйн связи с КГБ? Его ближайшие друзья были уверены, что эти связи сохранялись лишь по хозяйственно-бытовой линии. В прошлом Маклэйн имел, видимо, даже какой-то чин в органах разведки, может быть, полковника. Но он был уже полковник в отставке и не хотел вести никакой работы по прежней «специальности». Еще в 1952 году Маклэйн получил должность советника советского Министерства иностранных дел. Но это была синекура, у него не было конкретных обязанностей. Позднее он стал работать в Институте мировой экономики и международных отношений и защитил здесь докторскую диссертацию. Однако только благодаря помощи КГБ и Дональд, и Мелинда могли получить хорошие квартиры в Москве. Без поручительства КГБ он не смог бы совершать туристические путешествия по странам социалистического блока.
Мне он несколько раз рассказывал, как можно «раскрыть» осведомителя или установить, следит ли за тобой тайная полиция и каким образом. Он даже проиллюстрировал на примере одной женщины, по каким признакам он может точно сказать, что она является осведомительницей КГБ. Маклэйн не мог, конечно, стать советским диссидентом, но он не хотел делать в СССР какой-либо тайной карьеры. Он предпочитал быть скромным научным работником. Еще в пятидесятые годы у Маклэйна было много знакомых, главным образом среди актива журнала «Международная жизнь». В центре этого кружка стоял Григорий Беспалов, который занимал в прошлом высокие посты и теперь помогал устроиться в московской жизни многим людям, в том числе и некоторым работникам Коминтерна, вернувшимся после заключения из сталинских лагерей. Маклэйн был в этой среде своим человеком, и ему полностью доверяли.
В шестидесятые годы круг его знакомых значительно сократился. С одними людьми он прерывал отношения, другие уходили в лучший мир. В семидесятые годы число знакомых Маклэйна еще более сократилось. У него была дача в дачном поселке МИДа недалеко от Москвы. С весны и до поздней осени он проводил здесь время, обрабатывая небольшой собственный сад, цветник и огород – любимое занятие англичан. Часто здесь гостила дочь Дональда, ее тоже звали Мелинда. Особенно любил Дональд маленькую внучку, которая оставалась на даче иногда на все лето.
Постепенно, однако, семья Дональда Маклэйна стала распадаться. Сначала уехал в Англию его старший сын Ферчи, получивший в СССР специальность математика. Позднее он приезжал один или два раза, чтобы навестить отца. Уехала к матери жена Дональда. В США вместе со вторым мужем уехала дочь Дональда, и он особенно сильно переживал расставание с внучкой. Последним уехал младший сын, который также стал математиком, – Дональд-младший. Маклэйн остался в полном одиночестве. Когда он узнал о своей тяжелой болезни, то замкнулся в себе и практически перестал встречаться даже с самыми близкими друзьями. В течение нескольких последних лет я не видел его и не беседовал с ним, а о его смерти узнал только из газеты «Известия».
Маклэйн прожил в СССР немногим более тридцати лет, и это был как раз тот срок, который он должен был бы провести в одиночном заключении в какой-нибудь английской тюрьме. Он был одержим в молодости идеями социальной справедливости и не изменил им и в более позднее время, но судьба приготовила ему слишком тяжелые испытания, далеко не все из которых ему удалось выдержать. Но в этом была скорее его беда, чем вина, ибо он жил в слишком сложное время и оказался в чрезвычайно сложных условиях. Вероятно, разные люди могут извлечь из его трагического опыта разные уроки. В своей квартире над дверью Дональд Маклэйн повесил большой плакат, который он сам нарисовал. Крупными буквами здесь было написано: «Оппортунистам, нечестным людям и антисемитам в этой квартире делать нечего». Странная надпись для человека, который был одним из крупнейших советских разведчиков и имел немалый чин в нашей разведке как агент КГБ. Но вполне естественная надпись для того человека, которого мы знали просто как Дональда Маклэйна, советского гражданина шотландского происхождения.
1984
Рой Медведев Советские диссиденты сегодня и тридцать лет назад
Движение диссидентов шестидесятых годов, – а я могу считать себя одним из его участников, – привлекало тридцать лет назад немалое внимание широких кругов советской интеллигенции и еще большее внимание за границей. Из документов, опубликованных в последние годы, я с некоторым удивлением узнал, сколь часто и на сколь высоком уровне обсуждалось судьба, деятельность и материалы диссидентского движения в целом и его отдельных представителей. Не только органы КГБ были включены в решение проблем, связанных с выступлениями А. Сахарова, А. Солженицына, П. Григоренко, А. Амальрика, П. Якира, В. Буковского, А. Гинзбурга, Ж. Медведева, А. Зиновьева, А. Щаранского и многих других. Судьба этих людей многократно обсуждалась на заседаниях Политбюро и Секретариата ЦК КПСС, была предметом дипломатической переписки и переписки между органами власти в Москве и на местах.
Сегодня многие из эпизодов этой нелегкой борьбы за права человека и за истину забыты, многие имена, известные в 60—70-е годы далеко за пределами Советского Союза, ничего не говорят новому поколению политологов, журналистов, общественных деятелей России. Литературно-художественный и общественно-политический журнал «Знамя» провел заочный «круглый стол», посвященный десятилетней годовщине освобождения из лагерей и ссылок сотен политических заключенных, узников совести. Сама дата этого освобождения – 1987-й год – оказалась забытой.
В письме к участникам обсуждения главный редактор «Знамени» С. Чупринин спрашивал: «Не пора ли заново, с современных позиций, осмыслить такой феномен российской истории XX века как диссидентство?.. Побывав на манер декабристов в 50–60 годы прошлого столетия свадебными генералами на пирах перестройки, герои Сопротивления тоталитаризму в большинстве своем довольно скоро то ли добровольно ушли, то ли были вытеснены с исторической сцены. Их заслуги никак не отмечены государством, которое называет себя демократическим. Их опыт востребован обществом лишь в самой малой мере. Их мнения по острым вопросам дня, если и принимаются во внимание, то в лучшем случае с почтительной прохладцей. Их имена, за считаными исключениями, почти ничего не говорят новому поколению… Почему так произошло? Чем было диссидентство в России – романтическим вызовом одиночек или действительно движением, пусть малочисленным, но тем не менее свидетельствовавшим о настоятельной общественной потребности в Сопротивлении? Сыграло ли инакомыслие сколько-нибудь существенную роль в крушении партократии? Что из интеллектуального, этического, литературного и политического наследия диссидентства навсегда осталось в прошлом, и что, напротив, еще будет возвращено к жизни?
Как и кем чувствуют себя сегодня ветераны-правозащитники? Возможно ли в наши дни и в наших условиях появление нового диссидентства как личного выбора и особого социального феномена?»
Не все из этих вопросов поставлены правильно; диссидентство было в нашей стране неоднородно, и судьба его отдельных течений сложилась по-разному. Однако инициатива «Знамени» дает хороший повод для анализа и оценок, вероятно, лишь предварительных и неполных.
«Перестройка» 1985–1990 годов, а также драматические перемены 1991–1992 годов происходили в СССР и в Российской Федерации под воздействием многих экономических, социальных, политических и иных факторов, среди которых влияние инакомыслия 1960—1970-х годов являлось не самым главным. Естественно, что и влияние самих диссидентов на эти события не могло оказаться особенно сильным, хотя сам факт такого влияния признавали самые разные политики последнего десятилетия – от Горбачева до Гайдара. Развитие перестройки привело сначала к освобождению Андрея Сахарова, вернувшегося в Москву из ссылки в декабре 1986 года. В 1987 году из лагерей, тюрем и ссылки были освобождены почти все политзаключенные, а затем и те из диссидентов, которых осудили по уголовным статьям. Часть недавних зека предпочла эмигрировать, однако большая часть включилась в общественную деятельность.
В стране в это время шло быстрое развитие неформальных организаций самого различного направления. Возвращение диссидентов ускорило этот процесс. Александр Подрабинек, определенный на жительство в г. Киржач Владимирской области, начал издавать с августа 1987 года «Экспресс-Хронику». Это издание информировало читателей о судьбе правозащитников, еще находящихся в заключении или в психиатрических лечебницах, о разного рода митингах, манифестациях и собраниях, заявлениях и документах, связанных с защитой прав человека. Лев Тимофеев начал издавать независимый журнал «Референдум». Валерия Новодворская объявила о создании партии «Демократический Союз». При участии Бориса Кагарлицкого и Андрея Исаева образовалась Федерация социалистических общественных клубов и информационный бюллетень «Левый поворот». При участии Г. Померанца, В. Осипова, П. Айрикяна, С. Григорьянца стал выходить в свет общественно-политический журнал «Гласность». Этот перечень инициатив и начинаний диссидентов можно продолжить.
Со второй половины 1988 года многие диссиденты получили возможность публиковать свои материалы во многих газетах и журналах страны. В стране ширилось новое оппозиционное движение в форме разного рода народных фронтов, политических клубов, культурных и экологических ассоциаций. Избирательная кампания по выборам народных депутатов СССР, проводившаяся по новому, более демократическому избирательному закону, создавала в стране новую политическую обстановку. Однако из участников диссидентских групп и движений шестидесятых годов народными депутатами СССР стали только трое: Андрей Сахаров, Юрий Карякин и Рой Медведев.
На следующий год при выборах народных депутатов РСФСР мандаты депутатов получили еще два диссидента-шестидесятника: Глеб Якунин и Сергей Ковалев. Борис Кагарлицкий был избран депутатом Моссовета. Известный украинский правозащитник Вячеслав Черновил, который провел в лагерях два срока, возглавил исполком Львовского горсовета. Мустафа Джемилев, диссидентская судьба которого была, пожалуй, еще более тяжелой, возглавил меджлис крымско-татарского народа, все еще разобщенного между Узбекистаном и Крымом. Наибольшего успеха добился грузинский диссидент и основатель Хельсинкского союза в Грузии Звиад Гамсахурдиа, избранный в 1990 году не только народным депутатом республики, но и Председателем Верховного Совета Грузии. К сожалению, это ускорило раскол Грузии по национальному и клановому признаку и привело к трем кровопролитным национальным и гражданским войнам на ее территории.
В конце 1989 и в течение 1990 года советское гражданство возвращено практически всем диссидентам шестидесятых годов, оказавшимся в эмиграции. Это позволило им более активно участвовать в общественной жизни страны, хотя и на стороне разных политических групп и движений. Мало кто из этих новых граждан СССР переехал в родную страну на постоянное жительство. Но они регулярно выступали в советской и российской печати, приезжали в Москву, Санкт-Петербург для участия в разного рода собраниях и иных мероприятиях.
Мне приходилось читать и видеть в Москве В. Буковского, А. Синявского, М. Розанову, В. Максимова, В. Аксенова, А. Зиновьева, А. Гинзбурга, П. Абовина-Егидеса, Ю. Орлова, В. Белоцерковского, В. Войновича, Г. Владимова. Глеб Павловский, не выезжавший, насколько мне известно, из СССР, возглавил журнал «Век ХХ-й и мир». Кронид Любарский, создавший в эмиграции интересный журнал «Страна и мир», вернулся в Россию и возглавил здесь популярный еженедельник «Новое время». В любом случае влияние диссидентов шестидесятых годов на общественную жизнь и общественное мнение 1990–1991 годов было заметным, хотя и не определяющим. Оно стало уменьшаться как раз после победы демократов в конце 1991 года и практически сошло на нет в 1992–1993 годах. Среди депутатов Государственной Думы, а также в правительственных органах России, даже в разного рода консультативных и аналитических органах России нет ни одного из диссидентов шестидесятых годов. Их влияние заметно лишь в некоторых творческих союзах. Почему это произошло? Я назову лишь несколько причин.
Самая простая причина – время и возраст. В конце 70-х годов погибли в авариях Андрей Амальрик и Александр Галич. В 80-е один за другим уходили Петр Григоренко, Юрий Даниэль, Раиса Лерт, Виктор Некрасов, Раиса Орлова, в декабре 1989 года умер Андрей Сахаров. В последние несколько лет скончались Владимир Максимов, Иосиф Бродский, Андрей Синявский. Где-то в западной жизни затерялись участники демонстрации августа 1968 года Павел Литвинов и Владимир Дремлюга. Многие просто состарились и отошли от общественной деятельности. За последние тридцать лет в нашей стране сменилось два политических поколения. Горбачев привел в политику «молодых» пятидесятилетних людей, включая и Ельцина. Теперь им на смену приходят сорокалетние и даже тридцатилетние политики и общественные деятели. Поддерживать контакт с этими людьми для нас, перешагнувших семидесятилетний рубеж, оказывается делом почти невозможным.
Правозащитная деятельность и инакомыслие в 60—70-е годы определяло себя не как политическое, а как нравственное и идеологическое движение, оно не претендовало на власть в стране. Целью открыто выступавших диссидентских групп, кружков, комитетов, союзов, ассоциаций было влияние на общество, главным образом на интеллигенцию, а через нее и на власть. «Возродить и сберечь моральный и умственный капитал предков», «залечить национальный дух», «возврат к Богу и к своему народу», «максимум духовных изменений при минимуме внешних», «всем должна быть дана свобода мнений», «мир, прогресс и права человека», «прекратить преследования за обмен информацией и идеями» – так формулировали свои цели представители самых разных диссидентских течений.
В стране существовали небольшие радикальные группы, которые ставили своей задачей свержение власти КПСС или даже вооруженную борьбу с властью. Но все такие группы находились в подполье, и их деятельность быстро пресекалась как преступная. Мне приходилось в семидесятые годы только два раза встречаться с участниками таких групп, уже отбывшими семи– или восьмилетнее заключение. К движению диссидентов эти группы не имели отношения. Наша деятельность была легальной, мы настаивали на том, что не нарушаем законов и Конституции. Напротив, мы считали, что нарушением законов и Конституции являются репрессии против диссидентов и инакомыслящих.
Выступая за демократию и гласность, движение диссидентов не ставило своей задачей отстранение КПСС от власти, в 60—70-е годы такая задача для всех нас казалась нереальной. Коллективные заявления в защиту Синявского и Даниэля, Галанскова и Гинзбурга, под которыми стояли нередко сотни подписей, были адресованы ЦК КПСС. Отдельные заявления подобного рода адресовались Верховному Суду СССР, Генеральной прокуратуре СССР, а то и КГБ СССР К «вождям Советского Союза» обратился в сентябре 1973 года с большим письмом А. Солженицын. Еще раньше он направлял свои письма и заявления Союзу писателей СССР, Министру внутренних дел, секретарю ЦК КПСС М. Суслову. К руководству ЦК КПСС или к очередному съезду КПСС обращались группы писателей и ученых, протестуя против попыток реабилитации Сталина. Все главные документы Андрея Сахарова в 1968–1973 годах были прямо или косвенно обращены к руководителям партии и правительства. Письма и телеграммы в Конгресс США или в ООН появились позднее. В форме писем в ЦК КПСС или в Совет Министров СССР заявляли протесты по поводу преследований церкви священники Г. Якунин и Д. Дудко. Генерал Григоренко обращался в более «высокую» инстанцию – к Международному совещанию коммунистических партий.
Никто из известных российских диссидентов 60—70-х годов не считал себя политическим лидером и не стремился играть подобную роль. В этом состояло отличие диссидентов от оппозиционных политических движений конца 80-х – начала 90-х годов. Политическая оппозиция претендовала на власть, она стремилась перехватить из рук ослабевшей КПСС не только влияние, но и власть в стране.
Нельзя не сказать, конечно, что в первое время политическая оппозиция и диссиденты действовали вместе, – для оппозиции было важно использовать в своих целях моральный капитал, накопленный диссидентами. Поэтому в первом крупном оппозиционном блоке МДГ сопредседателями были А. Сахаров и Б. Ельцин. В МДГ Сахаров выступал как нравственный лидер, Ельцин – как политический. Еще один сопредседатель МДГ Гавриил Попов претендовал на роль идеолога, он пытался сформулировать задачи и методы борьбы с режимом («Что делать?»). Политическое и нравственно-идеологическое движения требуют разных качеств, которые редко совмещаются в одном и том же лице. Из диссидентов 60-х годов к концу 80-х выросли прекрасные публицисты – Лен Карпинский, Глеб Павловский, Юрий Карякин, Кронид Любарский и другие. Но у нас в России не было своего Вацлава Гавела.
Оценивая общее влияние диссидентского движения, следует иметь в виду его неоднородность, о которой я уже говорил выше. Конечно, почти все мы знали друг друга, встречались и беседовали. Мы помогали друг другу в распространении Самиздата и информации. Существовали и разные формы материальной помощи, например, «Фонд помощи уволенным ученым» и т. п. Были общие задачи и интересы: борьба против реабилитации Сталина, против политических репрессий, в защиту гласности и демократии.
Тем не менее мотивы и позитивные программы у разных групп были различны. Наиболее заметной группой в конце шестидесятых годов были правозащитники. Я называл их «западниками», так как главной здесь была ориентация на западные демократические и политические ценности, а в конечном счете – и на западные экономические модели. [83] Значительная часть западников отрицала ценности социализма, не верила в демократический социализм, но очень активно защищала западный образ жизни. В идейном отношении именно эти группы диссидентов прямо связаны с «демократами» 1989–1992 годов.
В 70-е годы возникло сильное движение за право на эмиграцию из СССР. Начало этому движению положила борьба за эмиграцию в Израиль. Однако позднее возникли и активные группы, стремившиеся к эмиграции в США и в европейские страны. Это движение не имело продолжения в 90-е годы, так как все существовавшие ранее ограничения на эмиграцию были отменены еще в 1990–1991 годах (кроме ограничений, связанных с проблемами государственных секретов).
Пожалуй, наибольшее число людей участвовало в национально-демократических и националистических движениях. Национальные движения были сильны на Украине и в Прибалтике, в Грузии и Армении. Менее заметными были такие движения в Казахстане и Средней Азии, в Белоруссии и в Азербайджане. Очень активны были крымские татары, добивавшиеся возвращения на свою родину в Крым.
Нередко национальные движения окрашивались в религиозные тона – движение в защиту католической церкви в Прибалтике или за исламские ценности в Средней Азии. Некоторые группы выступали за расширение автономии и прав в рамках СССР, другие ставили своей целью образование самостоятельных государств. Эти цели также не противоречили законам и Конституции СССР, где признавалось право на самоопределение вплоть до отделения. Тем не менее репрессии против «националистов» были очень жестокими. Заметной частью движения диссидентов являлся и русский национализм. Он был представлен Александром Солженицыным и Игорем Шафаревичем, Владимиром Осиповым и другими.
Заметной частью движения диссидентов были группы с социалистической или социал-демократической ориентацией. Социалистами считали себя участники небольших групп Лена Карпинского и сторонники Бориса Кагарлицкого. Леонид Петровский и Юрий Карякин, Петр Абовин-Егидес и Раиса Лерт, Евгения Гинзбург и Сурен Газарян тоже поддерживали концепцию «социализма с человеческим лицом». Я также выступал всегда как социалист и демократ, хотя и не создавал никаких формальных организаций. Однако в издании и распространении журнала «Политический дневник» в 60-е годы и «ХХ-й век» в середине 70-х мне помогали более десяти человек.
Как правозащитник-социалист выступал Петр Григоренко и его группа. Лишь в эмиграции он стал выступать как украинский националист. Эмигрантские организации украинцев оказали генералу поддержку и в лечении, и в издании книг. Такие переходы от одного течения к другому были для многих диссидентов обычным явлением и, как правило, никем не осуждались.
Андрей Сахаров начинал свою деятельность с общедемократических и социалистических позиций, затем возглавил Комитет прав человека, где работал вместе с Валерием Чалидзе. В середине 70-х годов Сахаров начал активно выступать за право свободной эмиграции из СССР.
Михаил Агурский начинал свою деятельность как проповедник и защитник православной Церкви, он помогал Солженицыну в составлении ряда сборников («Из-под глыб»). После эмиграции в Израиль и неудачных попыток сблизить христианство и иудаизм М. Агурский принял сионизм и стал активно защищать его концепции, не теряя при этом связей с другими правозащитными группами в СССР.
Я указал выше наиболее крупные и известные течения среди диссидентов. Но в нем имелись и более «специализированные» группы. В 70-е годы возникло несколько групп, выступающих против злоупотребления психиатрией в политических целях. В защиту своих прав выступали некоторые христианские секты – адвентисты седьмого дня, пятидесятники, баптисты. Появилось движение советских немцев за выезд в ФРГ и движение месхов за возвращение в Грузию. В угольных районах страны появились независимые профсоюзные организации. Здесь сказывалось влияние уже не «Пражской весны», а польской «Солидарности».
В числе диссидентов нередко оказывались известные писатели и ученые, художники и поэты, скульпторы и музыканты, которые выступали за свободу творчества, в частности и своего собственного. Нелепые запрещения в области культуры превращали в диссидентов Мстислава Ростроповича и Юрия Любимова, Эрнста Неизвестного и Михаила Шемякина, Лидию Чуковскую и Льва Копелева, Василия Аксенова и Владимира Войновича, Сергея Довлатова и Владимира Некрасова, Александра Зиновьева и Георгия Владимова, Александра Некрича и Иосифа Бродского.
Не являясь единым движением, движение диссидентов не могло оказать какого-то единого и совокупного влияния на события девяностых годов. Диссиденты 60—70-х годов помогли образованию в СССР того, что принято называть общественным мнением. Ни в 40-е, ни в 50-е годы независимого от КПСС общественного мнения у нас в стране не имелось. Движение диссидентов помогло создать ту почву, те идеологические истоки, на которых выросла нынешняя еще не вполне зрелая многопартийность. Относительный прогресс демократии в СССР и в России развел сохранивших активность диссидентов по разным партиям современной России, не говоря уже обо всем постсоветском пространстве.
Движение диссидентов конца 60-х годов, за малыми исключениями, не было рассчитано и сориентировано на длительную многолетнюю борьбу. Подавляющее большинство участников его думало о сравнительно быстрых переменах и верило в возможность таких перемен. Наиболее яркий период в движении диссидентов продолжался всего два года – от осени 1966 года до осени 1968 года. Это было время наибольшего влияния инакомыслящих на интеллигенцию. В диссидентских группах можно было наблюдать энтузиазм и воодушевление, несмотря на продолжавшиеся репрессии.
В эти два года в рядах диссидентов оказались Сахаров и Солженицын, начала издаваться «Хроника текущих событий». Это было время наибольшего распространения машинописного Самиздата; в тысячных тиражах расходились по стране «крохотные» рассказы Солженицына, памфлеты Григория Померанца, публицистика Эрнста Генри, «меморандум» Сахарова, материалы из Чехословакии, магнитофонные записи Галича и Высоцкого. Диссидентов поддерживала не только интеллигенция, но часть старых большевиков, отдельные люди из партийно-государственного аппарата. Несомненным было влияние в 1967–1968 годах событий в Чехословакии, менее заметным, но также значительным было влияние публикаций и деятельности «Нового мира». Важную роль играл тот факт, что еще с начала шестидесятых годов, по инициативе Хрущева, было прекращено глушение западных радиопередач (кроме «Свободы» и «Свободной Европы»). В 1966–1968 годах миллионы людей, в том числе и среди рабочих и служащих, слушали по вечерам «Голос Америки», «Немецкую волну», «Би-Би-Си». Это, конечно, очень помогало распространению документов и идей диссидентов, делало многих из них известными людьми. О них часто писала и западная пресса, статьи из которой регулярно зачитывались по радио.
Перелом в движении диссидентов стал происходить с осени 1968 года, то есть после вторжения войск Варшавского Договора в Чехословакию и подавления «пражской весны». Эта масштабная насильственная акция за пределами СССР неизбежно привела к усилению давления режима на все группы внутренней оппозиции. Десятки известных диссидентов оказались в конце 60-х – начале 70-х годов в тюрьмах и лагерях. Более широко стала применяться и такая жестокая форма репрессий, как психиатрические госпитализации. Через психиатрические клиники или через психиатрические больницы тюремного типа прошли Петр Григоренко и Владимир Буковский, Леонид Плющ и Жорес Медведев.
Репрессии или даже угроза репрессий привели к отходу большей части интеллигенции от поддержки движения, хотя интерес к нему и сочувствие сохранились. Для большинства деятелей интеллигенции даже исключение из КПСС было серьезной репрессией: люди лишались прежних должностей или работы, их переставали публиковать, лишали всех льгот. С 22 августа 1968 года началось глушение всех западных радиостанций. Но большая часть активистов диссидентского движения продолжала борьбу и в этих более трудных условиях. Они уже находились вне рамок прежней профессиональной деятельности. К тому же ситуация менялась не сразу и не столь однозначно.
Как раз с 1969–1970 годов советское руководство начало втягиваться в процесс «разрядки» или «детанта» в отношениях с Западом. Внимание западной общественности к проблеме прав человека в СССР возросло, как и внимание западных средств массовой информации. Диссиденты не могли пренебречь этим вниманием и помощью. Правозащитники-«западники» вступали в контакт с западными корреспондентами еще в 1967–1968 годах. Первая встреча Солженицына с корреспондентами «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» состоялась в 1970 году. Сахаров встретился с одним из скандинавских корреспондентов в 1972 году.
Мои встречи с западными корреспондентами, а затем и дипломатами начались в 1973 году, однако Жорес встречался с ними еще в 1969 году.
Прогресс разрядки изменил характер репрессий против диссидентов в СССР. В конце 60-х годов власти опасались высылать диссидентов за границу, хотя эта форма репрессий против инакомыслящих была опробована еще Лениным в 1922 году – после окончания гражданской войны и начала НЭПа. Крайне немногочисленной была в 60-е годы и еврейская эмиграция из Союза. Шумные акции начала 70-х годов привели к увеличению еврейской эмиграции, в которую «для опыта» было включено и несколько диссидентов неевреев. Опыт был оценен, по-видимому, как успешный, так как уже в 1972 году несколько десятков диссидентов всех национальностей покинули страну. Одни уезжали добровольно, другие под давлением и угрозами, третьи были лишены советского гражданства во время научных или писательских командировок, даже во время поездок для лечения. В феврале 1974 года из СССР был выслан А. Солженицын. Высылка за границу становилась постепенно главной формой борьбы с диссидентами. Тысячи людей всех национальностей оказались в эмиграции, которую стали называть «третьей эмиграцией».
«Первая эмиграция» возникла после Октябрьской революции и гражданской войны. «Вторая эмиграция» – после окончания Отечественной войны. Теперь возникала «третья». Многие эмигранты предполагали, что они смогут из-за границы оказывать гораздо большее влияние на советское общество, чем это было возможно раньше. Все думали, конечно, об опыте «Колокола» Александра Герцена. К малоизвестным ранее в СССР эмигрантским журналам – «Новому журналу», «Посеву», «Граням», «Часовому», газетам «Русская мысль», «Новое русское слово» и другим – добавилось множество новых изданий. Владимир Максимов создал журнал «Континент». Александр Солженицын начал сотрудничать и постепенно взял под контроль журнал «Вестник Русского Христианского движения». Кронид Любарский создал журнал «Страна и мир», Валерий Чалидзе – журнал «Внутренние противоречия», Андрей Синявский и Мария Розанова – журнал «Синтаксис». Один из бывших сотрудников «Литературной газеты» В. Перельман основал российско-еврейский журнал «Время и мы». Появились журналы «Минувшее», «Стрелец», альманах «Глагол», аналитическое приложение к газете «Русская мысль» – «Обозрение» и другие. За границей регулярно стала издаваться «Хроника текущих событий». Однако «Колокола» среди этих изданий все же не было. К тому же органам КГБ удалось наладить достаточно жесткий контроль за поступлением западных печатных изданий в СССР. «Железный занавес» действовал в 70-е годы достаточно эффективно, и только несколько сот человек в Москве могли регулярно читать эмигрантские журналы и книги. В других городах страны таких людей, видимо, были единицы.
Наступление властей сопровождалось усилением раздробленности и дискуссий среди диссидентов. Немалое влияние на движение оказала капитуляция некоторых диссидентов, согласившихся сотрудничать с властями на «открытых» процессах типа суда над Петром Якиром и Виктором Красиным. Очень разную реакцию среди диссидентов вызвали такие явно противоположные события вне СССР, как военно-фашистский переворот в Чили и свержение военно-фашистской диктатуры в Португалии и Греции. Впрочем, не было единства и сотрудничества среди советских эмигрантов в США, Франции и других странах.
После начала советской военной акции в Афганистане и высылки А. Сахарова в Горький диссиденты как движение были не только разобщены, но и практически разгромлены. В Москве продолжали жить и работать лишь несколько человек, почти не общавшихся друг с другом. Меня, например, оставили на свободе, но под жестким гласным надзором. Пост милиции был поставлен прямо рядом с дверью моей квартиры. Три человека в милицейской форме дежурили здесь круглосуточно, не позволяя приходить ко мне ни иностранным корреспондентам, ни приезжим, ни московским друзьям. Мои передвижения по городу также контролировались. Этот пост был снят только в конце мая 1985 года.
Движение диссидентов, как я уже говорил выше, оказало слабое влияние на характер, общую картину и мотивы перестройки. Конечно, если бы перестройка началась в 1975 году, то влияние диссидентов на идеи и направление перестройки могло оказаться сильнее.
Но через десять-двенадцать лет, в 1985–1987 годах, диссиденты уже не могли находиться в центре событий. Перестройка породила не только надежды, но и большой интеллектуальный и культурный подъем в обществе. Тиражи популярных журналов возросли до одного-трех миллионов экземпляров, тиражи популярных газет исчислялись цифрами от трех до семнадцати, а порой и более двадцати миллионов экземпляров. Публиковалось огромное количество материалов на темы, которые раньше могли затрагивать только диссиденты в эмигрантских журналах или материалах Самиздата. В 1990 году цензура была вообще отменена, и поток очень важных и интересных публикаций еще более возрос.
Однако на первый план в 1987–1989 годах и позднее вышли не диссиденты, а большая плеяда историков, политологов, социологов, экономистов, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей, которые и в начале 80-х годов активно работали в научных учреждениях, в газетах и жуpналаx, в государственных органах, в партийном аппарате, в высших учебных заведениях. Эти люди уже занимали такие посты и такое положение в обществе, которое позволяло им быстрее других использовать открывшиеся для общественной науки и публицистики новые позиции. Они не оттесняли диссидентов, последние еще не были готовы к такой работе, да и власти еще не избавились от своих предубеждений. Гавриил Попов и Александр Ципко, Николай Шмелев и Юрий Афанасьев, Евгений Амбарцумов и Владимир Селюнин, А. Мигранян и А. Яблоков, Алесь Адамович и Михаил Гефтep, Федор Бурлацкий и Юрий Буртин, А. Нуйкин и А. Бутенко, И. Клямкин и Юрий Черниченко, а также десятки других авторов обрели популярность как «прорабы» и идеологи перестройки.
Это был естественный процесс, и в этом нет ничего обидного для диссидентов. Напротив, активисты перестройки устраняли барьеры и догмы, создавали новую общественную атмосферу, которая позволила вскоре вернуться в советскую и российскую общественную жизнь и тем диссидентам, которые стремились снова включиться в общественную и культурную жизнь страны, хотя очень часто уже на вторых и третьих ролях.
Перестройка создавала и в области идеологии и культуры, и в общественных науках определенную конкурентную среду, которой здесь не было в прежние десятилетия. Диссиденты шестидесятых годов обычно превосходили своих коллег по мужеству, по непримиримости ко лжи, по неприятию догм, то есть главным образом в нравственной области. Но они далеко не всегда были лучшими профессионалами или самыми умными и способными людьми в своей науке или в сфере культуры. Солженицын вовсе не являлся самым лучшим русским прозаиком или стилистом. Сахаров вообще не был профессионалом в общественных науках.
Начав работу над книгой о Сталине, а затем и над книгой о социалистической демократии, я встречался в 1964–1967 годах со многими историками из Института истории АН СССР, с работниками Института марксизма-ленинизма, с научными сотрудниками Института мирового рабочего движения. Было нетрудно убедиться, что очень многие из этих людей обладают гораздо большими возможностями и профессиональными способностями для выполнения той работы, которую я начал. Но они не хотели ее делать, хотя многие из них готовы были мне помогать советами и материалами. До 1970–1971 годов мне много помогли такие ученые и даже работники ЦК, как Георгий Шахназаров, Александр Бовин, Юрий Красин, Виктор Данилов, Яков Драбкин, Михаил Гефтер, Владимир Ядов.
После того как мои первые книги вышли в свет за границей и давление на меня значительно увеличилось, я caм должен был прекратить такое сотрудничество с «легальными» учеными. Нo, конечно, я могу и сейчас быть только благодарен этим людям за сотрудничество. Диссидентство – это личный выбор. Оно создает опасности и для самого диссидента, и для его семьи, и для тех людей, которые ему помогают. Оно создает немало трудностей и для друзей. Многие из моих друзей не хотели выделяться в официальной науке, фальшивый характер которой был для них очевиден. Но они не хотели и идти на полный разрыв с этой наукой, что ставило бы их самих и их семьи в трудное положение. Со своими друзьями я сохранил связь и обмен мнениями даже в самое трудное время в 70—80-е годы. Но почему те, кто имел хорошие знания, способности, не могли выступить со своими идеями в новой обстановке? Только иногда эти выступления создавали некоторые сомнения. Специалисты по борьбе с троцкизмом оказались, естественно, и лучшими авторами для нового образа Троцкого. Борцы с «правым уклоном» стали писать апологетические статьи о Бухарине.
Но и в этом случае я воздержался бы от порицания. Возвращение диссидентов или их произведений в общественную и культурную жизнь страны было, несомненно, важным, но все же не определяющим фактором ни в годы перестройки, ни в идейной или идеологической атмосфере девяностых годов. Нельзя не отметить, что диссидентская культура была не единственным «инородным» для прежней советской культуры телом, которое вошло в нашу действительность с конца восьмидесятых годов. Не буду говорить здесь о ценностях мировой культуры, о которых все мы имели часто самое приблизительное представление. Не стану затрагивать и тему сомнительных достижений западной массовой культуры, которая также оказала немалое влияние на российскую действительность 90-х годов. Нельзя не отметить и возвращение в Россию реальных ценностей, созданных всей послереволюционной эмиграцией.
Известно, что массовая эмиграция русских, украинцев и евреев из России началось еще в конце XIX века и продолжалась волнами в 1900–1914 годах. Эта эмиграция шла за счет беднейших слоев населения. Целыми семьями люди уезжали в США и Канаду в поисках лучшей доли. Уезжали насовсем, не думая возвращаться. Еврейские семьи уезжали от начавшихся в России погромов и проводившейся в стране дискриминации («черта оседлости» для иудеев). Уезжали также литовцы, латыши и эстонцы. В Северной Америке эти национальные потоки не сливались в единую «российскую» эмиграцию.
Но эта дореволюционная эмиграция не создала своей культуры. Русские и украинские семьи достаточно быстро ассимилировались в американском обществе. В Америке и сейчас есть несколько городов с русскими названиями – Москва, Санкт-Петербург, несколько русских деревень с православной церковью и русским языком начала века. Но русские общины в США и Канаде менее заметны и влиятельны, чем еврейские, итальянские, немецкие, не говоря уже об ирландских и английских, французских и шотландских. В эти годы в США начали издаваться несколько русских газет, из которых дошла до наших дней, пожалуй, одна сравнительно большая газета «Новое русское слово», появившаяся в 1911 году.
Эмиграция, возникшая после Октябрьской революции и гражданской войны, составляла более двух миллионов человек и состояла в основном из образованного населения. Это были дворяне, вплоть до членов царской семьи, духовенство, купцы и буржуа. Эмигрировало немало казачьих семей и, конечно, офицеров. Почти все оставшиеся в живых генералы российской армии оказались в эмиграции. Уехало и очень много деятелей русской культуры, интеллигенции. Это и была «первая» эмиграция. Значительная часть этой вынужденной эмиграции надеялась или готовилась вернуться в Россию. Они сохранили и продолжали по возможности развивать привычную им культуру, поддерживали друг с другом связи, конфликтовали в соответствии со своей партийной принадлежностью.
«Первая» эмиграция осела вначале в Европе. Крупные эмигрантские центры образовались в Германии (главным образом в Берлине), Югославии, Чехии, Италии и Англии. Но большая часть эмигрантов из России поселилась во Франции. В США уехало сначала не очень много людей. Но после победы фашизма в Германии российские эмигранты стали уезжать из Германии. Затем они стали покидать Чехию и Польшу. Угроза оккупации Прибалтики привела к бегству российских эмигрантов из Эстонии, Латвии и Литвы.
Перед Второй мировой войной и во время войны многие оставшиеся в живых эмигранты стали переезжать в США и Канаду даже в Латинскую Америку и Южную Африку. Не излагая здесь сложную историю «первой» эмиграции, я хотел бы только сказать, что она стала хранительницей многих культурных традиций России, от которых отказались и которые даже преследовали большевики. В первой эмиграции было много крупных писателей, художников, музыкантов, ученых. Издавалось много газет и журналов. Шаляпин и Бунин, Рахманинов и Стравинский, Марина Цветаева и Бальмонт, Северянин и Шагал – этот перечень имен можно продолжить. За границей оказались и такие политики, как П. Милюков и А. Керенский, Ю. Мартов и Ф. Дан, генералы Деникин, Врангель, Краснов – десятки известных имен.
«Вторая» эмиграция образовалась после Второй мировой войны. В основном это были опять-таки русские и украинцы. Однако представителей интеллигенции и деятелей культуры здесь было мало. Основная часть из примерно двух миллионов бывших граждан СССР приходилась на молодых рабочих, которых немцы вербовали или увозили насильно из оккупированных территорий. Они боялись возвращаться в Союз, опасаясь репрессий (и, как оказалось, не напрасно). Здесь было немало бывших российских военнопленных, оставшихся на Западе по той же причине. Но здесь были и сотни тысяч бывших солдат и офицеров созданных немцами российских и украинских военных формирований – казаков или власовцев. Немало было служивших немцам полицаев, старост, вообще людей, которые сотрудничали с оккупантами. Среди украинцев были бендеровцы и мельниковцы. «Вторая» эмиграция создала несколько антисоветских организаций, но ее вклад в русскую культуру за рубежом был невелик.
Так или иначе, но падение коммунистического режима в СССР и в России открыло для всех «волн» российской эмиграции дорогу домой. Конечно, в 90-е годы от первой эмиграции в живых осталось лишь очень немного совсем старых людей. Но было немало детей и внуков, сохранивших привязанность к русской культуре. В России стали издаваться книги деятелей первой эмиграции. В Москву перебрались даже редакции некоторых журналов – «Вестника РХД», «Посева» и «Граней». В Москве образовалась филиалы радиостанции «Свобода», редакций «Русской мысли» и «Нового русского слова». Многие из журналов «третьей» эмиграции также перебрались в Москву. Но в общем потоке эмигрантской культуры всех поколений не всегда заметен голос диссидентов 60-х годов.
Возможно ли появление сегодня нового диссидентства? He только возможно, но и неизбежно. Однако новые диссидентские и правозащитные организации, которые уже возникли в России, не будут иметь прежнего характера. В демократических государствах существует оппозиция всех направлений, и она открыто участвует в общественной, политической, культурной и религиозной жизни своих стран, претендуя на влияние или даже на власть. Такая оппозиция возникает и в России.
Демократическое общество – это не идеальная общественная система, и здесь также неизбежно возникновение различного рода правозащитных организаций. Они уже возникли и в России, где с защитой прав человека и с выполнением норм Конституции дела обстоят далеко не лучшим образом. В России вот уже три года издается журнал «Правозащитник», восстановлено Хельсинкское движение, издаются газеты, книги и журналы, связанные с правозащитной деятельностью. Это нормальная деятельность, которая не подвергается давлению властей. Но и нельзя сказать о каком-то особом внимании к этой деятельности со стороны государства, называющего себя демократическим.
Правозащитная деятельность и инакомыслие в современной России сопряжены с многими трудностями, но не с опасностью государственных репрессий. Правозащитникам и диссидентам не грозят тюрьма или психиатрическая больница, исправительный лагерь или высылка за границу. Новые независимые гражданские инициативы диссидентов не замечают ни власти, ни оппозиционные политические партии. Так, например, группа диссидентов 60-х годов, возглавляемая Людмилой Алексеевой и Львом Пономаревым при участии Комитета солдатских матерей России (Мария Кирбасова), Конфедерации труда России (Виктор Некрасов) и Движения против насилия (Сергей Сорокин), решила недавно положить начало новому гражданскому движению. «Все мы видим, – говорится в Заявлении оргкомитета нового движения, – что в стране закрепляется полицейско-олигархический режим. Не только общественное богатство распределено самым несправедливым образом, но права человека, политические свободы постоянно ущемляются. Свобода слова сегодня гораздо более ограничена, чем в 1990–1992 годах». «Мы не партия и не поддерживаем специально ни одну из партий. Мы не ставим перед собой никаких политических целей. Наше движение будет отстаивать ценности, необходимые любому человеку: защиту от произвола, свободу слова, соблюдение человеческого достоинства». [84]
Несомненно, эта инициатива заслуживает внимания и поддержки. Но ни одна из крупных газет не опубликовала материалов нового движения. Не обратили на него внимания и западные средства массовой информации. Во всяком случае, не больше внимания, чем на создание движения в защиту СССР или общества защиты Мавзолея Ленина. Государство сегодня не преследует граждан за их политические убеждения или эстетические пристрастия. Но оно и не защищает граждан ни от посягательств чиновников, ни от посягательств преступного мира. Оно не заботится ни о бедных, ни о беженцах, оно мало думает о голодных и раздетых, о безработных и о работающих, но не получающих заработную плату. Даже предприниматели и банкиры создают сегодня структуры, которые должны обеспечить их личную и общую безопасность. Необходимо и сегодня бороться за создание подлинно демократического общества в нашей стране. Опыт движения диссидентов 60-х годов может в этом помочь, но он, конечно, недостаточен. Здесь нужны новые формы, новые решения и новые программы, а также сочетание политической и внеполитической деятельности.
1997
Рой Медведев Из диссидентских воспоминаний
Предисловие к ненаписанной автобиографии
Некоторые из знакомых давно спрашивали меня, не намерен ли я написать автобиографию. Но у меня не было такого желания. Всю жизнь я учился и учил других, читал или писал книги. Что здесь интересного?
Недавно я стал склоняться к мысли, что нужно и мне написать что-либо о своей жизни. Ибо я постоянно встречаю в книгах и статьях, опубликованных на Западе, самые невероятные сведения о себе. Не менее странные слухи распространяются обо мне и в нашей стране.
Еще в 1972 году в одной из американских рецензий на книгу «К суду истории» было сказано, что появление этой книги связано с тем, что автор имеет большое влияние в аппарате ЦК КПСС и пользуется поддержкой двух или трех членов Политбюро. Жаль, что рецензент не указал, какие именно члены Политбюро меня поддерживают. Ибо за написание этой книги (тогда еще не изданной) меня исключили в 1969 году из партии. При этом мне было строго указано, что моя рукопись не имеет ничего общего с линией партии, и что ее (рукопись, а не «линию») не может поддержать ни один член КПСС. Может быть, в Политбюро прочли эту книгу уже в английском переводе?
Несколько дней назад мне позвонил один из знакомых.
– С вами ничего не случилось, Рой Александрович?
– Пока ничего. А в чем дело?
– Я сейчас приеду.
Оказывается, в его окружении распространился слух, что я не только арестован, но успел публично отречься от всех своих книг и статей.
Недавно я получил из Франции несколько экземпляров своей новой книги «Октябрьская революция. Факты и размышления».
В краткой справке об авторе на последней странице обложки я с удивлением прочел, что в наказание за свою деятельность диссидента-марксиста я был помещен на два года в психиатрическую больницу. Здесь же можно прочесть, что первую большую книгу «Сталинизм» («К суду истории») я написал, используя какие-то тайные кремлевские архивы. Между тем, меня никогда не помещали ни в тюрьму, ни в психиатрическую клинику. Я также не пользовался никакими государственными архивами, о чем пишу в предисловии к книге о сталинизме.
Эту версию, однако, подхватил и даже развил известный деятель из так называемой «второй» эмиграции Абдурахман Авторханов. 14 декабря 1978 года в парижской газете «Русская мысль» он опубликовал большую статью, целиком посвященную моей скромной персоне.
«Пользуясь архивом КГБ, – заявляет Авторханов, – Медведев написал “К суду истории”, в которой обилие бесспорных фактов расправы Сталина с партией как бы замаскировало истинную цель сочинения: показать гуманизм Ленина и величие ленинской партии, против которых якобы пошел Сталин. Иностранцы, сократив рукопись на две трети за счет ленинской тарабарщины Медведева, издали книгу. Получилась интересная хроника сталинских преступлений, а сам факт, что автор – коммунист из Москвы – создал книге дополнительную рекламу. Хотя истинный замысел сочинения был таким образом сорван из-за коммерческих соображений издателей, но зато родился известный “диссидент”, от имени которого партийно-полицейские фальсификаторы истории КПСС начали дезинформировать не только научную общественность Запада, но и западные правительства…»
Все это, конечно, характерная для Авторханова заведомая ложь. В эмигрантской печати в 1972–1973 годах подробно рассказывалось, как создавалась и переводилась книга «К суду истории». Из этих публикаций и из предисловия профессоров Д. Журавского и Г. Хаупта к английскому и французскому изданиям ясно видно, что моя книга вышла в свет почти без изменений. Что касается второго дополненного издания на русском языке (1974 г.), то в нем полностью сохранен весь авторский текст.
Впрочем, если верить такому старейшему политику и историку, как Борис Суварин, книга «К суду истории» лишь выиграла от того, что западные издатели сохранили в ней все рассуждения о «ленинском гуманизме». Суварин писал в своей рецензии в той же газете «Русская мысль»:
«Рой Медведев объявляет себя ортодоксальным марксистом-ленинцем, он постоянно говорит о своей приверженности к марксизму-ленинизму и вместе с тем обращается к воображаемому суду Истории с самым страшным обвинительным актом против Сталина и его клики. Конечно, его идеологическая позиция придает еще больший вес его работе и собранным в ней свидетельствам… в общем Медведев придерживается языка партии, он верен тезисам партии…, но об его идеологической позиции часто забываешь; настолько важна и значительна его помощь в понимании (сталинского) режима… Его стараниями создана чудовищная документация, он опирался в данном случае на свои моральные принципы, которых не прощает ему нынешняя власть и за которые мы, наоборот, воздадим ему хвалу. Марксистско-ленинские проповеди Медведева абсолютно не интересуют нынешних руководителей КПСС, этого у них хватает. Но с чем они примириться не могут, это с невероятным некрологическим досье, которое их сопровождает… Тут можно было бы продолжить спор до бесконечности. Но лучше перейти к работе Медведева, поистине достойной высшей похвалы, к страшному мартирологу, который он составил для подлинной истории сталинско-советского режима. Это документальное досье затмевает все рассуждения книги; без риска ошибиться, можно сказать, что оно составит эпоху». [85] И все это досье, если верить Авторханову составлялось в архивах КГБ!
Югославский писатель и политик М. Джилас, прочитав книги «К суду истории» и «Кто сумасшедший?», выразил удивление: почему в демократической Югославии его, Джиласа, посадили в тюрьму за критическую книгу, изданную в США, тогда как в тоталитарном Советском Союзе Рой Медведев, также издавший свои книги в Америке, разгуливает на свободе?
Могу сообщить Джиласу что некоторые видные советские деятели давно предлагали упрятать в тюрьму всех диссидентов, включая и меня. Заодно они предлагали ввести несколько танковых дивизий в демократическую Югославию. Эти предложения пока не были приняты, хотя репрессии против диссидентов заметно усилены в последние годы.
У меня много друзей, которые мне помогают. Тем не менее некоторые диссиденты упрекают меня в индивидуализме, так как всю основную работу я выполняю один или с братом Жоресом. Я не вступаю ни в какие организации диссидентов и не создаю организаций. Я не считаю такую форму оппозиции своевременной. А главное, я не хочу ни перед кем отчитываться в своей теоретической и исследовательской работе.
Однако недавно в большой рукописи «На путях десионизации идеологии и истории», сочиненной преподавателем арабского отделения Университета им. Лумумбы кандидатом экономических наук В. Н. Емельяновым, я прочел, что Рой Медведев является одним из руководящих деятелей московской организации масонов (Емельянов пишет – «юдомасонов»). К руководителям этой же организации относится и академик А. Сахаров. И только для маскировки Сахаров и Медведев иногда критикуют друг друга.
Из рукописи Емельянова я узнал, что масоны господствуют во Франции, Англии, Голландии и в большинстве стран Западной Европы, кроме Германии, где масонские ложи уничтожены Гитлером. В США 95 % собственности и прессы принадлежат масонам, а отнюдь не американскому капиталу. Из президентов США только Джон Кеннеди не подчинялся масонам, за что и был убит. Нынешний же президент Картер является масоном 33-й степени, которая является высшей степенью масонских лож для неевреев. Президент Картер подчиняется масону сенатору Джэкобу Джевитсу который имеет 60-ю степень, а вся Америка подчиняется некоему Давиду Меиру Блюмберу масону 70-й степени и руководителю одной из еврейских организаций США. Масоны более высоких степеней живут, конечно, где-то в Израиле. Совсем недавно я узнал, что Б. Емельянов арестован по обвинению в зверском убийстве жены. Может быть, и в ней он заподозрил агента могущественного масонского ордена?
Еще в конце 1973 года неизвестный мне профессор Д. Поспеловский писал в одной из эмигрантских газет, что Рой Медведев скоро получит возможность «влиять на политику руководства ЦК КПСС». [86] А. Авторханов, впрочем, утверждает, что я уже давно влияю на политику ЦК КПСС и состою чуть ли не в дружеских отношениях с самим Брежневым. Последний мог назначить меня секретарем ЦК, но это помешало бы распространению моих произведений на Западе. А между тем эти произведения лишь в более доступной и интересной форме доносят до западного читателя линию ЦК КПСС. Авторханов так и пишет: «Каждый раз, когда мне попадается очередное писание Роя Медведева, я берусь за чтение, мысленно говоря самому себе: “Давай-ка посмотрю, какие сокровенные думы занимают сегодня ЦК КПСС и КГБ?” Признаюсь, что из чтения Медведева я узнаю об этих думах куда больше, чем из передовиц “Правды”». [87]
Весной 1975 года среди журналистов, сопровождавших английского премьера, был Роберт Стефанс от еженедельника «Обсервер». Он пожелал встретиться со мной и получить ответ на ряд вопросов, заранее предупредив, что ничего не будет публиковать. Он, мол, хочет сам лучше разобраться в советских делах. Вместе с В. Турчиным, превосходно знающим английский, я посетил Р. Стефанса. Мы беседовали весь вечер, не обращая внимания на включенный магнитофон. Месяца через два, когда я спокойно отдыхал на юге, английская газета опубликовала огромную статью-интервью под вызывающим заголовком: «Как бы я управлял Советским правительством». Я протестовал против этой публикации, и мне сообщили позднее, что Р. Стефанс был наказан. Кое-кто, однако, всерьез принял эту статью. Нью-йоркская газета «Новое русское слово» писала о «притязаниях Роя Медведева на власть в СССР». После возвращения в Москву я получил записку от видного экономиста. Он просил учесть, что охотно занял бы пост заместителя, когда я стану главой правительства. К тому же у него есть хороший план оздоровления советской экономики. Я ответил, что не жду в ближайшие двадцать лет подобного предложения от Верховного Совета СССР.
Несколько лет назад я беседовал с американским ученым и публицистом Джереми Стоуном, сопредседателем Федерации ученых США. Среди других тем он спросил меня и о материальном положении. Я сказал, что не испытываю нужды, так как получаю часть гонорара из тех стран, где публикуются мои книги. Позднее Джереми Стоун написал статью о своем пребывании в СССР. Прочитав ее, Жорес позвонил из Лондона:
– Что ты наговорил этому американцу?
– А в чем дело?
– Он написал, что Рой Медведев один из самых богатых людей в Москве. Ты представляешь, что значит в США прослыть богатым человеком?
– Но я не говорил ничего особенного. Я просто сказал, что у меня пока нет финансовых проблем.
В том же году ко мне домой приходил для получения интервью итальянский журналист Пьеро Остеллино. Мои ответы он изложил в газете «Коррьера дела сера» довольно точно. Но от себя добавил, что Рой Медведев живет очень бедно в убогом доме без лифта на окраине Москвы. Он работает в крошечном кабинете, похожем на конуру, где на пыльных полках в беспорядке разбросаны книги и бумаги. На маленьком письменном столе стоит старая пишущая машинка. В этой же двухкомнатной квартире живут еще жена и сын Роя и старый облезлый кот. «Но эта бедность, – пояснял Остеллино, – обычная участь всех диссидентов в России еще с конца XIХ века».
Между тем я живу с женой и сыном в сравнительно большой трехкомнатной квартире, а окраины Москвы – это совсем не то, что окраины многих западных городов. У меня большой кабинет и, как я думаю, образцовый порядок в хранении книг и бумаг. Я работаю за очень большим письменным столом и имею три хорошие пишущие машинки. И у нас дома нет старого облезлого кота.
Вообще я высокого мнения об иностранных журналистах в Москве. Но некоторые из них бывают весьма рассеянными. Один из журналистов перед своим отъездом на родину попросил меня откровенно ответить на несколько деликатных вопросов. Он обещал, что включит в свою публикацию только те ответы, которые запишет черными чернилами, и не будет публиковать ответы, записанные красными чернилами. Но у себя дома он все перепутал и опубликовал в основном лишь то, что было записано у него красными чернилами, причем не очень точно. У меня после этого было немало неприятностей, а один из диссидентов напечатал по этому поводу через журнал «Континент» весьма оскорбительное «Открытое письмо Рою Медведеву». Поэтому я заранее прошу своих друзей не верить сразу же во все то, что они прочтут или услышат обо мне по радио.
Кого я представляю в этой стране?
Этот вопрос, то в более вежливой, то в грубой форме задают нередко как иностранные посетители, так и советские диссиденты. «Кто вы, братья Медведевы?» – восклицал еще в 1973 году писатель В. Максимов. «Позволительно спросить, кого представляет д-р Медведев?» – писал недавно в своем «Открытом письме» профессор Н. Мейман.
А. Д. Сахаров отмечал в 1968 году, что его взгляды «формировались в среде научной и научно-технической интеллигенции, которая проявляет озабоченность в вопросах внутренней и внешней политики и в вопросах будущего человечества». [88]
Теперь, через десять лет, Сахаров далеко отошел от этой среды и ее взглядов. Если верить профессору Мейману и Леониду Плющу, то Сахаров «своей жизнью и деятельностью отражает сегодня сознательное и бессознательное недовольство народа режимом». [89] Я глубоко сочувствую Сахарову в его борьбе за права человека, но не могу похвалиться, что хорошо знаю мысли и устремления всего народа. Весьма сомнительно, однако, что эти мысли и устремления знает эмигрант Д. Панин, в прошлом друг, а ныне яростный противник Солженицына, выведенный в романе «В круге первом» под именем Сологдина. Панин-Сологдин утверждает в ряде статей и книг, что ни Сахаров, ни Солженицын, ни тем более «кабинетный ученый Рой Медведев, который провел жизнь, копаясь в книгах, изданных в СССР», не знает жизни простого народа. Этот народ, по утверждению Панина, ведет с «коммунистическим режимом» не только «скрытую экономическую борьбу», но и «глухую борьбу всеми доступными и весьма эффективными средствами». Простой народ готов к революции и жаждет ее, но у него нет «настоящих лидеров», ибо Сахаров, Медведев и Солженицын сообща выступают против новой революции. В порыве негодования Панин-Сологдин называет Солженицына «третьим братом из семьи Медведевых». [90]
Автор одной из анонимных статей Самиздата, определяя по-своему различные политические течения в нашей стране, отмечает большие потенциальные возможности «неомарксизма», наиболее известным представителем которого он считает Роя Медведева. «Не следует игнорировать, – говорится в этой статье, – значительной привлекательности неомарксизма для сотен тысяч партийных активистов и функционеров, для десятков тысяч преподавателей марксизма и общественных наук и для пропагандистов, которые не могут не замечать всех тех безобразий, которые имеются в нашей действительности, но которые не могут или не хотят порывать при этом с идеологией марксизма-ленинизма».
Ново-славянофил Александр Удодов считает, однако, все эти рассуждения совершенно неосновательными. В интервью новому религиозному журналу «Русское возрождение», редакция которого находится в Париже, а издательство в Нью-Йорке, А. Удодов утверждает, что даже у академика Сахарова в настоящее время очень мало последователей. «Я глубоко уважаю Сахарова, – заявляет Удодов. – Но принципы западной демократии, в которые Сахаров верит и за которые борется – это не что иное, как принципы февральской революции 1917 года, которые были вырваны с корнем и уничтожены большевистской диктатурой несколько месяцев спустя»… А уж если корни этой идеологии уничтожены, то и возрождать их будет только пустой тратой сил и времени. «Поэтому, – как говорит Удодов, – представители либеральных убеждений имеют очень слабый голос в современном движении сопротивления в Советской России». Что же касается марксизма, то у него вообще нет никакого голоса и никаких перспектив. Советский народ просто не понимает тех понятий, которыми оперируют марксисты, а представители «среднего класса» или советская бюрократия – «это всего лишь служащие с зарплатой, которые ничуть не интересуются идеологией режима, нанимающего их»… «Поэтому человек вроде Роя Медведева представляет лишь самого себя». [91]
Философ П. М. Егидес, объявивший себя сторонником некоей метафилософии панперсонализма, преодолевающей будто бы все недостатки марксизма, полностью согласен с мнением А. Удодова. В своем заявлении в журнал «Поиски», появившемся, однако, совсем в другом издании, Егидес утверждает: «Зная мнение ряда сторонников демократического социализма (социалистов и коммунистов-демократов), я считаю своим долгом заявить, что за Р. А. Медведевым никто из оппозиционного движения не стоит… он не представляет ничьего мнения, кроме своего личного». [92]
Правда, Егидес расходится с А. Удодовым в одной немаловажной детали. Если Удодов считает, что главной оппозиционной силой в России является православная церковь и православная религия, то Егидес ждет возрождения нашей страны с принятия ее населением и ее интеллигенцией идеологии «панперсонализма», разрабатываемой самим Егидесом.
Не оставил без внимания вопрос, «кого представляет Рой Медведев», и Солженицын. Он несколько раз заявлял, что Р. Медведев является выразителем мнения небольшой группы старых большевиков, которые считают, что при Сталине у нас был «плохой социализм», и защищают какой-то «хороший социализм». В этих словах Солженицына есть немалая доля истины.
Когда я вступал на поприще общественной деятельности, именно старые большевики оказали мне самую большую поддержку и познакомили меня со своими воспоминаниями. Сегодня этих людей совсем мало, но и пятнадцать лет назад они были активной, но небольшой группой, ибо большинство ветеранов партии, включая и моего отца, погибло в сталинских лагерях.
В дальнейшем все более значительную поддержку я получал от многих представителей советской гуманитарной и научной интеллигенции. Эти люди продолжали работать «внутри системы» и считали, что они таким образом принесут гораздо больше пользы прогрессивному развитию нашего общества, чем если окажутся «вне системы». Они тоже были против «плохого» и за «хороший» социализм. Я назову здесь имена лишь нескольких наиболее известных людей этого круга, которых сегодня уже нет среди нас – поэта и редактора А. Т. Твардовского, писателей А. А. Бека, Б. Ямпольского, А. К. Гладкова, академиков Б. Л. Астаурова, И. Е. Тамма, режиссера М. И. Ромма. Мне помогали и некоторые работники партийного и государственного аппарата. Я не буду называть имен, но могу заверить, что, вопреки мнению американского рецензента, среди них не было ни членов Политбюро, ни членов ЦК КПСС. Работая «внутри системы», эти люди должны были идти на некоторые компромиссы. Но между понятиями «компромисс» и «беспринципность» – большая разница.
Наши диссиденты обычно не любят таких людей. Для Солженицына это «образованщина», или «центровая образованщина», которая лишь в «тайных чувствах и узком кругу отделяет свои интересы от государственных», а на деле «верно служит государству», «подчиняясь до раболепства», проявляя «трезвую утилитарность и подлаживание к практической обстановке». [93] Мейман и Плющ называют этих людей «либеральствующей и трусливой технократической интеллигенцией». А. Амальрик огульно зачисляет всю нашу творческую интеллигенцию в прослойку людей, «которые думают одно, говорят другое и делают третье» и потому еще «более неприятны, чем режим, который их породил». Петр Григоренко при первой же встрече с Твардовским назвал последнего трусом, так как Твардовский отказался подписать составленное Григоренко и Якиром очередное «Обращение». Между тем, Твардовский был умным и смелым человеком. Как поэт и главный редактор «Нового мира» он внес в развитие общественного сознания в СССР гораздо больший вклад, чем Григоренко и его группа. Просто Твардовский и подобные ему люди придерживались иных взглядов на положение в стране и пути ее развития, чем Солженицын, Сахаров, Максимов или Григоренко.
С особенной неприязнью пишет о нашей интеллигенции некто П. Тамарин в самиздатском журнале «Поиски». [94] По мнению этого автора, все плохо в нашей стране, и самое плохое – это ее интеллигенция, настоящие «профессиональные кретины».
«И как могут, – пишет Тамарин, – спокойно жить в квартирах с ванной, газом, горячей водой и декоративными собачками люди, если дома с этими квартирами стоят на костях их собратьев?
Вот почему счастья-то и нет: нет демократии, нет человеческих прав, нет социализма. Есть лишь раболепие, нескончаемое терпение народа и, в первую очередь, его интеллигенции, которая позволяет над собой потешаться, глумиться.
Рабы, снизу доверху все рабы! – так еще Чернышевский определил, кто мы такие. Керосиновая лампа сменилась электрической, а человека все нет как нет: он – Раб.
Вот почему так ценю я диссидентов – моих сограждан, рвущих оковы рабства: они и есть та свободная Россия, которая лишь только зарождается».
Я не могу разделить презрения автора ко всей интеллигенции, как не могу разделить и восторженной апологии диссидентов. Всякие у нас есть диссиденты и всякие мотивы для участия в этом движении. В конце концов советские диссиденты – это в какой-то мере сколок со всего общества, что лишний раз показывает их поведение и деятельность в эмиграции. Отнюдь не все, кто не принадлежит к небольшому кругу диссидентов, являются Рабами, да и не понимаю я, почему даже раба нельзя назвать человеком и отнестись к нему не с презрением, а с сочувствием. Это вовсе не означает, что у нашей интеллигенции нет серьезных недостатков, связанных с ее положением («бытием») и воспитанием. И тем не менее только лучшие представители этого слоя (их вовсе не так уж мало) могут вывести нашу страну из ее нынешнего общественно-политического застоя.Это также не означает, что я осуждаю деятельность диссидентов, не желающих больше работать «внутри системы». Они продолжают оставаться важным катализатором тех изменений, которые происходят в сознании советского общества, хотя и не так быстро, как этого хочется диссидентам.
Я давно оказался «вне системы», но продолжаю сохранять прежние дружеские и деловые связи. К сожалению, мои взгляды менялись в последние пятнадцать лет не так быстро, как взгляды Сахарова. В 1970 году я с удовлетворением подписал составленное Сахаровым и В. Турчиным письмо, адресованное советским руководителям. Сегодня это письмо не подписали бы сами его составители. Тем более я неспособен к такой стремительной идейной эволюции, которую пережил, например, писатель В. Максимов. Еще десять лет назад он был членом редколлегии наиболее консервативного журнала «Октябрь» и другом убежденного сталиниста Вс. Кочетова. Максимов выступал тогда по советскому телевидению с критикой А. Твардовского. Сегодня В. Максимов – верующий христианин и воинствующий антикоммунист. Он – главный редактор эмигрантского религиозного и антисоциалистического журнала «Континент». Как соратник немецких консервативных деятелей Ф. Штрауса и А. Шпрингера, В. Максимов выступает с приятными своим новым друзьям демагогическими речами на съездах ХДС и ХСС в Западном Берлине и в Мюнхене.
Философ П. М. Егидес, который написал в прошлом несколько статей под разными псевдонимами, и только достигнув пенсионного возраста, начал выступать под собственным именем, очень недоволен слишком медленной, по его мнению, эволюцией Роя Медведева. Он, правда, прощает мне «иллюзии» 60-х годов. Однако в 70-е годы недостаточное продвижение вперед означает, по мнению Егидеса, «эволюцию назад» и в политическом, и в теоретическом, и в нравственном отношениях. Особенно не нравится Егидесу моя с Жоресом совместная книга о Хрущеве «Н. С. Хрущев. Годы у власти».
«Зададимся вопросом, – заявляет П. Егидес в “Открытом письме Рою Медведеву”, – зачем она? (т. е. книга о Хрущеве). С какой целью написана? Может быть, это беспристрастное исследование историков? Непохоже. Книга построена так, что неизбежно подводит читателя к выводу: дворцовый переворот, устранивший в октябре 1964 года Хрущева, был явлением положительным, оправданным, прогрессивным. Хрущева сменило рассудительное, реалистичное, современное руководство. Нет, такими словами это нигде не говорится. Эффект достигается простым способом: крупным планом показаны все хрущевские несуразности и нелепости (которые, конечно же, были): и кукурузная эпопея, и “кузькина мать”, и разделение государственных и партийных органов на сельские и городские, и прочие “волюнтаризмы и субъективизмы”… И намекается, что все это прекратилось в 1964 году.
Формально Вы имеете право на это: ведь книга-то о Хрущеве. Поэтому Вы в книге о Хрущеве, естественно, не пишете, скажем, о провале экономических реформ 1965 года, об усилении и ужесточении цензуры, о нарастании репрессий (в частности, психиатрических), об ускоренной ресталинизации, происходящей после 1964 года. А умалчивая об этом, Вы подводите читателя к Вашей основополагающей мысли, что все постепенно идет к лучшему “в этом лучшем из миров”».
П. Егидес хорошо знает, что проблеме психиатрических госпитализаций была посвящена наша с Жоресом книга «Кто сумасшедший?», изданная еще в 1971 году. Он прекрасно знает, что критическому анализу послехрущевского периода посвящены два толстых тома «Политического дневника», составленного мной с помощью Жореса и изданного в Амстердаме Фондом им. Герцена. И там есть и разбор неудач экономической реформы, и критика цензуры, и протест против попыток реабилитации Сталина, и критика нарастающих репрессий. Умалчивая обо всем этом, Егидес подводит читателя своих писем к своей основополагающей мысли: для советских властей не только удобно, но даже выгодно существование такого «умеренного диссидента», как Рой Медведев.
Любопытно, насколько субъективно мнение тех или иных читателей или рецензентов о той или иной книге. По какой-то странной логике Егидес пытается доказать, что наша книга о Хрущеве является не очень тщательно замаскированной апологетикой современного руководства и советского режима вообще, где всякого рода «волюнтаризмы и субъективизмы» неизбежно обречены на провал.
Рецензент парижской газеты «Русская мысль» М. Сергеев взглянул, однако, на ту же самую книгу иным образом. Он пишет: «Из-за бытующей в эмиграции (да и не только в эмиграции) предвзятости по отношению к братьям Медведевым – не очень-то тянуло на близкое знакомство с их совместной книгой: “Н. Хрущев. Годы у власти”. Но статья Дм. Безруких об этой книге, как всегда свободная от потертых трафаретов, устыдила и заставила взяться за чтение книги Медведевых.
И надо сказать, что пожалеть не пришлось: едва ли можно найти более убедительную антикоммунистическую вещь. Конечно, “Архипелаг ГУЛАГ” – это “Архипелаг ГУЛАГ”. Но именно из-за резко задевающей нормальное европейское сознание изображенной в ней чудовищности “осуществленного социализма” в ставшей базой мировой революции стране – он на Западе представляется неправдоподобным». [95]
И далее Сергеев пытается доказать, что книга о Хрущеве – это книга о незаурядном, «небесталанном и безусловно доброй воли не лишенном человеке, вожде, лидере», который, проявляя громадную энергию, пытается поставить на ноги разрушенную при Сталине и даже при Ленине советскую экономику. Но Хрущеву не удается это сделать якобы из-за пороков, присущих самой системе социалистического хозяйствования. И потому книга о Хрущеве в более доступной форме разоблачает коммунистический режим сильнее, чем «Архипелаг ГУЛаг» А. И. Солженицына.
Я бы не стал подробно останавливаться на претензиях Егидеса, если бы они не повторялись другими людьми. Один знакомый заявил мне (правда, не в «Открытом письме»): «Как мог ты писать целую книгу по поводу давно забытого “дела Бухарина”, в то время как в СССР готовились судебные процессы по делам Гинзбурга, Орлова, Щаранского и Подрабинека?» Между прочим, мой критик сам ничего не сказал публично ни по поводу судебных процессов 1978 года, ни по поводу процессов 1937–1938 годов, тогда как я посвятил немало страниц осуждению репрессий последних лет в СССР и в статьях, и в книге «Диалоги о диссидентах в СССР», изданной на Западе.
Мои книги не являются академическими произведениями, но не рассчитаны и на политический эффект. Я не удивлен поэтому крайним различием в оценке этих книг рецензентами. Приведу лишь несколько примеров.
Вот что пишет о книге «К суду истории» профессор Вустерского колледжа из штата Огайо Даниель Колхуэн: «Когда при Хрущеве Сталин был призван к ответу, принципы, связанные с ним, также были призваны к ответу. Право партии монополизировать принятие решений в своей стране пошатнулось. Что-то нужно было сделать. К 1966 году был положен конец десталинизации. Сталина потребовалось не замечать так, словно он никогда не имел значения… Итак, крышка снова захлопнулась, но в течение примерно 5 лет она была открыта, и Медведев воспользовался этой возможностью, чтобы создать первую за 40 лет абсолютно необходимую работу по современной истории, появившуюся в СССР. Это колоссальный труд. Теперь никто ни на Западе, ни на Востоке не может претендовать на то, чтобы сказать что-нибудь серьезное о сталинизме или вообще о Советском Союзе, пока не прочтет и не изучит эту потрясающую книгу». [96]
Более осторожный и взвешенный, но также положительный отзыв на ту же книгу можно прочесть в итальянской коммунистической газете «Унита». Автор рецензии Дж. Боффа, отметив ряд достоинств книги, как с точки зрения ее содержания и источниковедческой базы, так и в выяснении многих темных обстоятельств истории сталинской эпохи, называет «хотя и неполной, но серьезной попыткой, предпринятой в изучении феномена сталинизма». [97]
Член ЦК Французской компартии Ж. Элленштейн еще более скептичен в своих оценках. Он писал: «Если бы даже Медведев хотел исходить в своей работе с позиций ленинизма, он не удержался бы на них, так как в его труде объемом в 610 страниц по меньшей мере на 560 излагаются отрицательные, хотя и верные, но в основном уже известные факты. Отрицательные факты реальны, но они в настоящее время являются прошлым или пережитком прошлого. В этих различных пунктах книга Медведева почти не приносит новых познаний. Она остается широкой компиляцией, не заслуживающей, несомненно, ни слишком больших порицаний, ни больших похвал». [98]
Резко критически оценил мою книгу А. И. Солженицын. Он заявил: «Рой Медведев написал огромнейший толстый том “К суду истории”, исследующий сталинские времена… В этом томе чего только нет. О нем в западной печати, по принципу симпатии, говорят как о научном труде. Я не вижу там никаких признаков научности. Это публицистическая, политическая и узкопартийная книга… По принципу симпатии, западная левая печать называет Роя Медведева не иначе как ученым-историком. Но его книга – не работа ученого…». [99]
Но наиболее критически оценили мою книгу маоистские организации. Так, орган маоистов – газета «Нуово Унита» (Рим) писала: «Книга Медведева содержит от первой до последней страницы скопление грубой клеветы и явной лжи. Сталин покрыт такими оскорбительными эпитетами и обвинен в таких противоречащих разуму вещах, что практически ничего не остается от его дела. Подобное стремление прибегнуть к самым низким поношениям может быть объяснено только той степенью вырождения, которое присуще ревизионистским интеллектуалам. Они разочарованы, и их поражает, что марксистско-ленинские принципы, которые они считают похороненными атакой против Сталина на ХХ съезде, в действительности более живы, чем когда-либо, и эти идеи все более распространяются… Утверждение Медведева насчет существования так называемого “сталинского террора” разоблачают самого автора. Вопреки своему желанию, Медведев показывает, что дело шло о терроре против контрреволюционных элементов, вступивших на капиталистический путь. И эта борьба Сталина против провокаторов и тайных агентов велась при помощи масс во всей стране». [100]
Столь же различными были отзывы и о других моих книгах. Американский историк и советолог Ст. Коэн писал о книге «Социализм и демократия»: «Каждый человек, интересующий положением в Советском Союзе и во всем мире, должен прочесть книгу “О социалистической демократии”. Написанная ясным языком, свободная от риторики и напыщенности, она дает возможность западному читателю более правильно понять особый марксизм-ленинизм Медведева и пересмотреть вопрос о потенциале советского коммунизма… Эта книга является одним из важнейших политических документов, когда-либо пришедших к нам из Советского Союза». [101]
В то же время рецензент из коммунистической газеты «Юманите» назвал книгу «Социализм и демократия» «пасквилем против социалистической демократии». По мнению рецензента, все утверждения Роя Медведева о недостатке демократии в СССР рассыпаются в прах, как только западные люди начинают регулярно читать московские газеты «Правду» и «Известия». Ибо именно на страницах этих газет трудящиеся СССР систематически подвергают критике недостатки в своей стране.
Лично я не спешу соглашаться ни с крайне похвальными, ни с крайне отрицательными рецензиями, ибо большинство рецензентов видят в той или иной книге обычно то, что им хочется видеть. Как историк я полностью согласен с Солженицыным – в любом виде литературы лучшим рецензентом является нетленное время. Могу лишь надеяться, что приговор этого беспристрастного рецензента в отношении моих и Жореса книг не будет слишком суров.Некоторые партийные руководители, занимающиеся у нас проблемами идеологии, давно требуют как-то пресечь мою деятельность, будто бы разрушающую тот облик «развитого», или «зрелого», социализма, который создает официальная пропаганда. Я считаю все же, что в СССР еще не создана вполне совершенная модель социализма и что наш далеко не идеальный советский социализм все еще основательно перемешан с лжесоциализмом.
Философ П. Егидес, горячо приветствуя мои социалистические убеждения, крайне недоволен, однако, что я нахожу в современном советском обществе какие-то элементы социализма. Как утверждает Егидес, взгляды Роя Медведева окончательно разоружают и расслабляют движение либеральных интеллектуалов. Ибо если в СССР «налицо социализм, и дело лишь в том, чтобы развивать социалистическую демократию, и раз налицо беспрерывные “улучшения”…, то к чему сейчас бороться, конфликтовать с властями, дразнить их, рисковать вызывать их гнев, к чему вызывать огонь на себя? Не лучше ли вернуться в лоно привычного раболепия, где более или менее спокойно и уютно?» Егидес обвиняет, правда, не только меня, но и Солженицына, ибо как только обнаружился его антисоциализм и антидемократизм, трусливые либеральные интеллигенты «стали уходить от демократического движения вообще». [102]
Что касается Солженицына, то он негодует по поводу того, что Рой Медведев вообще защищает идею социализма, у которого, как полагает Солженицын и его друг И. Шафаревич, ни при каких условиях не может быть приемлемой «модели» или «человеческого лица». Выступая в 1974 году в Стокгольме, Солженицын сказал: «У нас в СССР принят термин “инакомыслящий” или “диссидент”. Так вот надо быть осторожным в употреблении этого термина, более точно употреблять его. Рой Медведев в точном смысле слова не относится к инакомыслящим, в СССР ему ничего не угрожает лично, потому что он в общем наилучшим образом защищает режим – более умно и более гибко, чем это может сделать официальная печать». [103]
Примерно то же самое заявлял недавно и А. Авторханов: «Надо разбить, – пишет он, – миф, который гуляет на Западе – “Медведев принадлежит к группе марксистов-диссидентов в СССР”. Ни о чем не говорит то, что Медведев иногда ругает иные издержки “зрелого социализма”… – за это его на допросы не таскают. Ни о чем не говорит и то, что Медведев издает свои книги и статьи в антикоммунистических буржуазных издательствах на Западе. Но обо всем говорит то, что он единственный “диссидент” в СССР, которому за это тюрьмой не угрожают». [104]
Подобного рода позиция характерна не только для Солженицына или Авторханова – относиться к понятию «диссидент» как к званию Народного артиста СССР или Героя Социалистического труда. Один из известных критиков режима, основав и возглавив небольшую организацию диссидентов, не удержался, чтобы не воскликнуть в кругу своих друзей: «Теперь я диссидент № 4 в СССР!» Диссидентами № 1 и № 2 он считал Солженицына и Сахарова, под № 3 у него шел П. Григоренко, а Рою и Жоресу Медведевым он отводил все же соответственно шестое и седьмое места в своей «иерархии».
Поэт Наум Коржавин не вполне согласен с Солженицыным. «Безусловно, – пишет Коржавин, – деятельность Роя Медведева высоко полезна Советскому руководству. Тем не менее она должна и раздражать это руководство гораздо больше, чем деятельность любых других диссидентов. Прежде всего, для принесения данной пользы у руководства есть специальные штаты, а всякая самодеятельность его раздражает. И потом человек, который считает себя более правильным коммунистом, чем руководство, тем самым как бы претендует на его место. То, что Медведев находится на свободе, и нам, несмотря на различие взглядов, не приходится устраивать митингов в его защиту, говорит о том, что Брежнев все-таки не вовсе лишен чувства реальности… Но эти чувства у наших властителей очень робки». [105]
До конца 1975 года мне много раз угрожали различными репрессиями, дважды во время обысков изымали большую часть моего научного архива, неоднократно вызывали на допросы и в Лефортово, и на Лубянку, и в Московскую прокуратуру. В 1970–1971 годах обсуждался вопрос о моем аресте, так что однажды, после предупреждения друзей, я должен был скрыться из Москвы и несколько месяцев жить в небольшом домике на Кавказе. Я вернулся в Москву лишь через два месяца после издания в США книг «К суду истории» и «Кто сумасшедший?». Излагая этот эпизод в своей интересной книге «Русские» (Нью-Йорк, 1976), бывший американской корреспондент в Москве Хедрик Смит допускает все же одну неточность: скрываясь от наблюдения перед своим отъездом на юг, я не надевал на себя женской одежды, но лишь парик старика. В 1976–1977 годах давление на меня несколько ослабло и вновь усилилось в 1978 году. Так что я не знаю, кому больше верить: Солженицыну, Авторханову или Коржавину Впрочем, сам Солженицын в последние три-четыре года перестал задевать в своих речах меня и моего брата и переключился на критику западного образа жизни, западных «беспредельных» свобод и особенно западной «сенсационной и коммерческой» прессы и телевидения. И он делает это куда более умно, гибко и агрессивно, чем официальная советская пропаганда. Так что теперь он диссидент вдвойне – и русский, и американский.Некоторые диссиденты считают меня плохим и безнравственным человеком или, как научно объясняет Егидес: «Ваша тактика сильно отдает нарушением нижней черты морали». Дело в том, что в 60-е годы я не раз критиковал историка Петра Якира и бывшего генерала П. Г. Григоренко. В начале 70-х годов я публично высказал свое несогласие с рядом заявлений и статей А. Д. Сахарова и А. И. Солженицына. Лишь недавно я сделал ряд открытых критических замечаний в адрес распорядителя «Фонда Солженицына» А. Гинзбурга, писателя Г. Владимова и А. Твердохлебова.
Советские власти также считают меня плохим и безнравственным человеком потому, что я критиковал не только Сталина и Хрущева, но порой высказывал критические замечания в адрес Ленина и Брежнева.
Вообще диссиденты считают, что их нельзя критиковать потому, что они диссиденты и находятся под давлением властей. Но и власть имущие также считают, что их нельзя критиковать потому, что они власть имущие и ведут борьбу с империализмом.
Поэтому всякий, кто критикует диссидентов, зачисляется сразу же в невольного или сознательного пособника властей. А всякий, кто критикует власть имущих, сразу же зачисляется в невольного или сознательного пособника империализма.
Ясно, что людям трудно сохранить в этих условиях самостоятельность в своих суждениях и оценках.
Трагически умерший в эмиграции писатель, поэт и певец Александр Галич оставил много мудрых советов. Я плохо запоминаю тексты и рифмы, но хорошо помню смысл большинства песен Галича. В одной из них он говорит примерно следующее:Не надо бояться ни бед, ни страданий,
Не надо бояться ни мора, ни глада.
Единственно надо чего бояться:
Людей, которые знают – «как надо»,
Людей, которые знают – «что надо».
В этих строчках Галича я не вижу отрицания любых позитивных предложений и программ. Но здесь имеется решительное неприятие ограниченности и нетерпимости, которой были охвачены не только многие революционеры и реформаторы прошлого, но и многие советские реформаторы-диссиденты. Галич как бы говорит: сегодня не время пророков, а время исканий и дискуссий, поисков и размышлений. Эта же мысль была заложена и в названии созданного в Москве самиздатского журнала «Поиски», недавно подвергнутого несправедливому и грубому полицейскому разгрому.
Каждый из нас должен открыто и ясно излагать свои мысли, искать и распространять информацию и идеи. Будем рады, если у нас появятся единомышленники, но будем максимально терпимы к своим оппонентам, если они ведут честный спор. Ибо только из такого спора может родиться истина.
К сожалению, требования «морально-политического единства», нетерпимости к любому «плюрализму» и инакомыслию исходят сегодня не от одних лишь официальных пропагандистов «развитого» социализма. Эти требования мы слышим не только с трибун Кремлевского дворца съездов или со страниц «Правды». И в среде диссидентов то и дело появляются «непререкаемые авторитеты» или даже «пророки», рукой которых, если верить критику Ф. Светову, водит сам Господь. [106] Именно честный спор никак не могут научиться вести советские диссиденты. В. И. Ленин как-то заявил: «То, что недопустимо между членами единой партии, то допустимо и обязательно между частями расколовшейся партии. Нельзя писать про товарищей по партии таким языком, который систематически сеет в рабочих массах ненависть, отвращение, презрение и т. п. к несогласномыслящим. Можно и должно писать именно таким языком про отколовшуюся организацию». [107]
Этот ошибочный политический совет, сознательно взятый на вооружение советской пропагандой, бессознательно продолжают применять и почти все советские диссиденты. Ибо именно таким языком пишут о своих оппонентах и Солженицын, и Максимов, и Григоренко, и Е. Г. Боннэр-Сахарова. Даже журнал «Поиски» в ответ на мою критику А. Гинзбурга и его методов руководства «Фондом Солженицына» подготовил серию «открытых писем» и «заявлений», написанных в полном соответствии с приведенной выше рекомендацией Ленина. И хотя ни одна из статей в пяти номерах журнала «Поиски» еще не была опубликована за границей, все письма и материалы против меня были немедленно отделены и опубликованы в виде отдельной брошюры радиостанцией «Свобода».
Оказавшись на Западе, многие советские диссиденты продолжают мыслить вполне по-советски и возмущаются в первую очередь плюрализмом западного общества и разнообразием мнений западной печати. Они привыкли к дружным поношениям в свой адрес со стороны советской прессы, но не слышат на Западе в свой адрес столь же дружных аплодисментов.
Корреспондент западногерманского радио Христиан Шмидт встретил не так давно в своей стране семью Владимира Буковского. Среди вопросов, на которые отвечали советские эмигранты, был и такой:
– Что вам больше всего не нравится на Западе?
– У вас нет единства, – ответил, не задумываясь, Буковский.
Неудивительно, что бельгийский социалист Ван хет Реве, один из основателей фонда им. Герцена, воскликнул два года назад, что он не видел еще эмиграции хуже русской. [108]
Впрочем, среди моих друзей сохранилось все же немало таких, которые всегда считали и продолжают считать меня вполне добродетельным человеком. Я заметил, однако, что чем более добродетельным хочет быть тот или иной человек, тем подозрительнее относятся к нему окружающие.
Лет тридцать назад я стал работать учителем в рабочем поселке, возникшем возле одного из уральских приисков, где добывали золото, платину и алмазы. Для того времени это был богатый поселок. Заработки рабочих и служащих были очень высокими, и местный магазин не испытывал недостатка в товарах. И все же наиболее популярным товаром оставалась водка. Я уже не говорю о самодельной «браге», которую делали в каждом доме и выставляли на стол в огромных десятилитровых бутылях на разного рода праздниках и поминках.
Я не употребляю водки и самогона, хотя и не считаю себя трезвенником. Просто моя молодость прошла в Грузии, я привык пить иногда сухое вино, которого на Урале вообще не было. Никто не хотел поверить, однако, что молодой и еще холостой мужчина каким-то образом может обходиться без крепких напитков.
Месяца через четыре меня вызвал «для серьезной беседы» директор школы. Я был озадачен, так как работа у меня шла хорошо.
«Все говорят, – заявил мне директор, – что вы, запершись в своей комнатке, пьете в одиночку много водки. Это нехорошо, это бросает тень на вас как на учителя».
(В нашей школе было еще только двое мужчин-учителей, которые почти ежедневно напивались в поселковом буфете, и порой даже ученикам приходилось отводить их домой, так как уральские зимы очень суровы.)
«Да, это верно, – ответил я директору. – Каждый вечер я выпиваю около литра водки. Я никак не могу избавиться от этой вредной привычки. Но ведь к утру я прихожу на уроки совершенно трезвым, и все это не отражается на качестве моих уроков».
«Нет, Рой Александрович, – сказал директор, – все это как-то плохо, и об этом много говорят уже ваши ученики, а не только их родители. Уж лучше вы пейте водку в рабочей столовой, как это делают другие. Или приходите к нам в гости – попробуете нашей крепкой браги».
Я обещал подумать над этим предложением и с тех пор несколько раз был в гостях у своих коллег. Но разговоры о моем предосудительном поведении не прекратились, так как никто по-прежнему не видел меня пьяным.Никто, конечно, не застрахован от ошибок. Вполне возможно, что я был несправедлив в критике А. Гинзбурга. Однако полученные мной на этот счет несколько гневных писем так и не рассеяли моих сомнений или заблуждений. К тому же я получил в это же время ряд важных свидетельств, отнюдь не красящих деятельность «Фонда Солженицына», руководимого в прошлом А. Гинзбургом.
Вполне возможно, что я был не прав в оценке творческих возможностей философа и моралиста П. Егидеса, который, как говорят, написал важную теоретическую работу, содержащую полное переосмысление марксизма. Но я не слишком хорошо понял содержание полученных мною тезисов этой работы; ни «логики философии в ее отношении к философии логики», ни «социологии философии в ее отношении к философии социологии», ни «психологии философии в ее отношении к философии психологии». Я не вполне понял и «основной стержень» новой метафилософской системы Егидеса – его «сечение действительности в плоскости либертальность—транслибертальность». Хотя я и окончил в прошлом с отличием философский факультет Ленинградского университета, мне оказалось не по силам понять сущность той более высокой, чем диалектическая – «полилектической» логики, которая позволит, по мнению Егидеса, «ускорить интегративный процесс формирования единой культуры и предотвратит ее имплицитное вытекание из своего другого, уже потенциально заложенного в некоей изначальной данности». Не вполне понял я и то, чем может «метафилософия» П. Егидеса помочь нашему демократическому движению. Охотно готов признать, что все это происходит из-за моей малограмотности.
Не исключено, что я неправильно оценивал в прошлом политическую позицию Петра Григоренко. Но я руководствовался его же собственными многочисленными письмами и заявлениями 60-х годов. Тогда он называл себя «истинным коммунистом», призывал не только к укреплению «единства мирового коммунистического движения», но даже выдвигал лозунг: «Переговоры о единстве – в руки рядовой массы коммунистов». Требуя быстрейшего отмирания государства, Григоренко доказывал, что государственные чиновники во всех случаях являются угнетателями и эксплуататорами, и что даже армию надо передать под общественное управление. Эти заявления широко публиковались тогда ультралевыми группами Запада, включая и троцкистов. Кто же мог предположить, что в конце 70-х годов Григоренко будет выступать как антимарксист и верующий христианин!
И все же я должен оспорить некоторые из нынешних обвинений Григоренко в мой адрес. В журнале «Континент» этот бывший генерал, в частности, сказал: «Когда я находился в Черняховской спецпсихбольнице, было выпущено очередное словоизвержение Роя Медведева “Социализм и демократия”. В этом обычном для Роя Медведева многословном и пустословном опусе были, между прочим, и строки, посвященные мне. У Григоренко (писал Медведев) путаные анархистские взгляды. Он и его группа распространяют антисоветский (!) труд Авторханова “Технология власти”. Это был донос. Иначе не назовешь. Когда мне запись этих строк показал черняховский врач-психиатр, я ему не поверил. Счел за КГБ-истскую провокацию, так как это было почти дословным пересказом инкриминировавшихся мне “преступлений”. Когда же, выйдя на свободу, я убедился, что это так и было написано, я понял – кого мы имеем в лице Медведева. Стало понятно, почему этот “соратник” за более чем 5 лет моего заключения не только не зашел, но и не позвонил моей жене. Вообще он вполне по своему моральному облику относится к коммунистам брежневского толка. Удивительно, что он так гостеприимно принят в западных коммунистических партиях». [109]
Признаюсь, эти строки меня озадачили. В «Книге о социалистической демократии» я действительно уделил несколько страниц разбору взглядов Григоренко и его группы. При этом я сделал оговорку, что «критикуя взгляды П. Г. Григоренко, мы должны отметить его достойные уважения личное мужество и честность. Письма и статьи Григоренко при всех их преувеличениях и ошибках, представляют определенную систему взглядов и убеждений, характерных не только для Григоренко. Поэтому помещение его в психиатрическую больницу мы считаем проявлением беззакония и произвола». [110]
Ни одного слова об Авторханове в моей книге не было и нет. Как я теперь понимаю, Григоренко перепутал книгу «Социализм и демократия» с другой книгой, также изданной в 1972 году Фондом им. Герцена. Я имею в виду публикацию в одном томе одиннадцати избранных номеров журнала «Политический дневник». Хотя я был редактором этого самиздатского журнала, имевшего ограниченное распространение, но в издании Фонда им. Герцена моя фамилия нигде не упоминается. В № 55 «Политического дневника» за апрель 1969 года действительно имеется анонимная заметка с критическим разбором книги Авторханова «Технология власти». Автор заметки указывает на многие недостатки и прямые выдумки, содержащиеся в этой книге. В начале заметки есть фраза: «Большую рекламу этой книги проводит группа Григоренко и П. Литвинова. В одном из своих писем П. Григоренко называет книгу Авторханова “классическим трудом по истории сталинизма”». [111]
Книгу Авторханова Григоренко действительно рекламировал в своих «Открытых письмах» в 1968–1969 годах. Однако почти все материалы Самиздата у меня были изъяты во время обыска 1971 года, и было бы затруднительным привести точную справку, не обращаясь снова к «тайным архивам КГБ». Тут-то мне и помог сам Авторханов. В предисловии к новому изданию своей «Технологии власти» он приводит почти полностью текст «Заявления Прокурору РСФСР» от 22 января 1969 года, подписанного Григоренко, Якиром, Красиным и другими. Это был протест против ареста Юрия Гендлера.
В «Заявлении» есть и такие строки: «Можно только поражаться, как мог советский суд дойти до того, чтобы признать антисоветскими историко-социологические исследования А. Авторханова “Технология власти”… Ее автор, случайно вырвавшийся из застенков сталинской госбезопасности, ушел в эмиграцию и там, по материалам съездов КПСС, исследовал условия и способы установления единоличной диктатуры Сталина и причины ужасающего сталинского террора… Труд Авторханова является пока единственным в этой области. С некоторыми положениями его можно спорить, но пока еще не нашлось никого, кто решился бы на это. Настолько этот труд аргументирован, и настоятельно проанализированы приводимые автором факты…»С удовлетворением процитировав этот документ, который широко распространялся в Самиздате, Авторханов замечает: «Интерпретация книги коммунистом Григоренко и его единомышленниками, вполне лояльными советскими гражданами, …означает ее легализацию и даже рекомендацию». [112]
Естественно, что очень трудно обвинить составителя «Политического дневника» в «доносе» на Григоренко, если в этом журнале было просто процитировано «Открытое письмо» самого Григоренко… Прокурору РСФСР!
Конечно, каждый даже на склоне лет может менять свои взгляды и убеждения. Но все же события недавнего прошлого следует воспроизводить такими, какими они были в действительности, а не пытаться искажать их в соответствии с новыми обстоятельствами.
Я, конечно, не в претензии, что Григоренко называет мою книгу о социалистической демократии «многословным и пустословным опусом». Могу отметить только, что эта книга, переведенная на восемь языков, была гостеприимно встречена не только в западных коммунистических партиях, но и в европейских религиозных кругах. Поэтому для Григоренко, объявившего себя христианином, я приведу цитату из «Вестника Русского христианского движения».
Автор рецензии Н. Зернов писал: «Эта книга – голос правды, раздавшийся из недр коммунистической партии в России. Ее автор – честный, хорошо осведомленный и очень смелый человек. Он продолжает верить в истину ленинизма, но также признает необходимость “правдивого слова”… Его основное убеждение заключается в том, что систематическое подавление свободы не только пагубно для научной мысли и искусства, но оно также неблагоприятно отражается на всех других сторонах жизни страны, включая ее индустриальное и экономическое развитие. Автор идет дальше и утверждает, что отсутствие гласности… вредит коммунизму и компрометирует авторитет марксизма-ленинизма… Только одно христианство способно вести людей путем служения ближнему без прибегания к насилию… Путь, возвещенный Христом, закрыт в настоящее время большинству людей их гордостью, своеволием, нежеланием покаяться в грехах… Уроки проходят даром. Страшный лик тоталитаризма никого не вразумляет. Книга Медведева – голос оттуда, из-за железного занавеса. Это голос предупреждения, обращенный в первую очередь к властителям современной России, но к нему следует прислушаться и людям, живущим в западном мире…» [113]
К сожалению, интервью, которое П. Григоренко дал журналу «Континент», как и многие другие материалы этого «религиозного» журнала, показывают, что многие из русских эмигрантов лишь объявили себя христианами. Однако все их поведение и их высказывания проникнуты нетерпимостью, столь характерной для худших образцов фанатического лжесоциализма.
В моем военном билете записано, что я старший лейтенант запаса. Однако некоторые диссиденты и полудиссиденты почему-то считают, что я по крайней мере полковник КГБ и занимаю в этой организации более высокое положение, чем советский поэт Е. Евтушенко, который имеет будто бы звание не выше майора. Леонид Плющ пишет осторожно: «У меня нет на этот счет никаких фактов». [114] Наум Коржавин более категоричен: «Я ни в коем случае не считаю Роя Медведева правительственным агентом». [115]
Одна из американских троцкистских газет посвятила большую статью разбору взглядов советских диссидентов. Газета резко и решительно осуждает «реакционные и фанатичные взгляды Солженицына», а также с бранью обрушивается на таких людей, как В. Чалидзе, П. Литвинов и А. Д. Сахаров, которые якобы «открыто присоединились к проимпериалистическому лагерю». Наибольшие симпатии у газеты вызывают высказывания П. Григоренко – «неолевиста и революционера». Мои взгляды газета характеризует обычно или как современный «меньшевизм», или как «умеренный реформизм». Автор статьи замечает все же, что «Рой Медведев, похоже, свободен от подозрений в сотрудничестве с империализмом и репрессивными органами советской бюрократии». Поэтому газета даже рекомендует не обходить вниманием и мои книги. «С тех пор, – говорится в статье, – как мы чувствуем больше симпатии и родства к диким и примитивным революционерам, чем к спокойному и трезвому Медведеву, здравомыслие ценно. Поэтому всем серьезным троцкистам следует прочесть не только Исаака Дейчера, чтобы понять ошибки и недочеты советской левой оппозиции. Им нужно изучить и взгляды Медведева, чтобы сформулировать собственную программу подлинного троцкизма». [116]
П. Егидес также называет «грязными вымыслами» разговоры о том, что Рой Медведев «чуть ли не агент КГБ». Однако он тут же пускается в длинные и путаные рассуждения о том, почему все же КГБ оставляет Роя Медведева на свободе. И тут же находит неожиданный ответ: Рой Медведев не защищает, как полагает Солженицын, демократический социализм, но лишь отпугивает «иных молодых людей от демократического социализма, от социалистических идей и от борьбы за подлинный социализм».
Ибо «подлинный социализм» – это не тот, о котором пишет Медведев, и, конечно, не тот, о котором писали Хрущев или Ленин, а тот, о котором нам скоро поведает П. Егидес. Некоторые из моих оппонентов заявляют, что, и не будучи старшим офицером КГБ, я приношу «демократическому движению больше вреда, чем все КГБ». Эти люди привыкли считать «демократическим движением» только тот узкий кружок, к которому принадлежат они сами.
На дне рождения у писательницы Н. меня отвела в тихую комнату группа ленинградских писателей и ученых. Они просили, чтобы я добился у министра Ю. Андропова улучшения условий заключения для их друзей В. Марамзина и М. Хейфеца. В ответ они обещали не поднимать вокруг этого дела большого шума. Я ответил, что никогда не видел Ю. Андропова, и у меня нет возможности обращаться к нему с какой-нибудь просьбой, но собеседники явно мне не поверили. Вскоре после этого разговора М. Хейфец был осужден на длительный срок лагерей, а В. Марамзин получил условное наказание и уехал во Францию, где издает новый эмигрантский журнал «Эхо». Думаю, Марамзин хорошо знает, что моего заступничества ему не понадобилось.
Журналистка Р. Б. Лерт нередко называла мое существование в СССР «феноменом». П. Егидес вторит ей и, обсуждая «экстерриториальность Роя Медведева», также вопрошает: «Откуда этот феномен?» П. Егидес, правда, оговаривается: «Надеюсь, вы понимаете, что этот вопрос вызван не желанием видеть, как на вас обрушиваются репрессии». Однако в действительности все его письмо, на мой взгляд, проникнуто именно этим желанием. Да и как не желать репрессий для человека, который приносит столько вреда демократическому движению. Пожалуй, скоро и я стану верить в свою «феноменальность». На самом деле, что это за человек, который за пределами СССР делает больше для пропаганды демократического социализма, чем весь штатный аппарат ЦК КПСС, а внутри страны приносит больше вреда демократии и социализму, чем весь штатный аппарат КГБ! Вероятно, иностранные туристы скоро станут просить показать им в Москве не только Большой театр или Царь-пушку в Кремле, но и тот «убогий дом без лифта на окраине Москвы», где проживает моя небольшая семья.
Тот же вопрос – об отношении Роя Медведева с КГБ – лишает покоя и А. Авторханова. Почему именно Рою Медведеву КГБ открыло свои тайные архивы? Почему не только ЦК КПСС, но и КГБ доверяет Рою Медведеву свои «самые сокровенные мысли»? Ясно, что на Лубянке Рой Медведев свой человек, от которого здесь нет секретов. Но всех этих измышлений Авторханову кажется мало. Неожиданно он признается, что у него «порой возникает мысль» – не является ли Рой Медведев штатным работником КГБ и не его ли «агентурные доносы» дали повод в 1969 году к аресту П. Григоренко и в 1977 году А. И. Гинзбурга? Авторханов жалеет, что нет среди нас знаменитого Владимира Бурцева, который прославился в начале века разоблачением царских провокаторов.
Но вряд ли современный Бурцев стал бы заниматься моей биографией. Для начала он обязательно спросил бы: а кто, собственно, такой сам Авторханов?
На Западе издается немало как сравнительно небольших, так и крупных биографических справочников типа «Кто есть кто» или «Современные авторы». Здесь можно найти краткие сведения о большинстве деятелей как советского истэблишмента, так и советской оппозиции или эмиграции. Однако Авторханов, который сам называет себя едва ли не классиком, категорически отказывается давать в такие справочники какие-либо биографические сведения.
Из его книги «Технология власти» можно сделать вывод, что еще совсем молодым человеком Авторханов попал в Москве в «штаб» правой оппозиции, где обсуждалась тактика и стратегия борьбы «правых» против Сталина. Однако до сих пор никто из историков ничего не знает о существовании подобного «штаба», членам которого Авторханов намеренно дает или вымышленные клички («Нарком», «Генерал»), или выдуманные фамилии (Резников, Сорокин), а заодно и выдуманные биографии. Потом Авторханов работал якобы в номенклатуре ЦК ВКП(б), но он почему-то нигде не сообщает о должности, которую занимал в начале 30-х годов. Институт Красной профессуры Авторханов закончил, по его словам, в 1937 году Между прочим, этот институт был ликвидирован еще в феврале 1936 года.
На пять лет Авторханов попал в заключение, но был реабилитирован. Хотя в годы войны все реабилитации были прекращены, и даже тех арестантов, у которых кончился срок, задержали в лагерях «до особого распоряжения», для Авторханова якобы сделали исключение, и для пересмотра его дела будто был даже собран Верховный Суд РСФСР.
Авторханов утверждает, что он был подвергнут в подвалах НКВД всем видам физических пыток: ему не только вводили под ногти раскаленные иглы, ломали ребра, выбивали зубы, но даже кастрировали при «ассистентах»-сержантах НКВД. Он устоял и перед этой страшной для молодого мужчины «операцией», – вот и пришлось чекистскому суду отпустить его на все четыре стороны.
Но странное дело: описывая все эти пытки, Авторханов дает совершенно неправильное определение такому простому и хорошо известному всем зека следственному методу, как «конвейер» (сравни: Авторханов А. Технология власти, 1976, с. 11 и Медведев Р. К суду истории, 1974, с. 517 русского издания). Может быть, дело обошлось все же без кастрации? В 1943 году Авторханов «эмигрировал» на Запад. Тогда это можно было сделать только одним путем – перейти на сторону немецких оккупантов, что и сделал Авторханов. Чем занимался Авторханов в 1943–1945 годах на службе у гитлеровцев, и чем он заслужил доверие гестапо? – об этом он совсем ничего не говорит.
В газете «Советская Россия» от 13 июня 1970 года и в журнале «Огонек» (№ 35 за 1971 г.) были сообщения о том, что по «агентурным доносам» Авторханова на Кавказе подверглись аресту десятки людей. У меня нет основания особенно доверять этим сведениям, но порой и у меня «возникают мысли», что вряд ли гестапо пренебрегло теми важными сведениями, которые мог сообщить немцам бывший номенклатурный работник ЦК ВКП(б). Из сказанного видно, что даже Владимиру Бурцеву было бы нелегко разобраться с вопросом– кто же такой Абдурахман Авторханов? Жаль, что, «работая много лет в “секретных архивах КГБ”», я не разыскал там и досье на Авторханова.Я получаю много обычных писем, а также немало разного рода «открытых писем». Вообще, написание «открытых писем», как мне и Жоресу, так и обоим «братьям Медведевым» превратилось в кругу диссидентов и в эмиграции в своеобразный жанр литературы. В специальной папке, которую я завел для этих писем, у меня хранятся «открытые письма» и «заявления» А. И. Солженицына, А. Д. Сахарова, Вл. Максимова, Л. Плюща, Н. Коржавина, Л. Чуковской, Л. Копелева, Н. Неймана, В. Турчина, П. Егидеса, Г. Владимова и некоторых других, менее известных людей. После получения каждого такого письма у меня возникало естественное желание написать ответ, но я обычно воздерживался от этого, и вскоре подобное желание пропадало. Между прочим, такой именно совет давал одному из своих корреспондентов крупнейший русский писатель и публицист В. Короленко.
«Знаю, – писал Короленко, – что нет настроения мучительнее и, пожалуй, бесплоднее, как настроение полемическое, в особенности еще с личной окраской. Много уже лет я вращаюсь среди острых вопросов нашей жизни, часто мне приходилось принимать участие в борьбе, где, помимо интересов общих, – замешивались и интересы личностей. Понятно, что и меня не щадили, и не раз пытались облить грязью. И я считаю, что важнейшая моя победа в этой области была победа над собой, над непосредственным побуждением поднять перчатку и заплатить око за око. Постепенно, однако, я отрешился от этого. Сначала я писал жестокие ответы и оставлял их в своем столе; проходило два-три дня – и ответы оставались в столе навсегда, а я продолжал писать о “предмете”, оставляя в стороне личные вопросы… Это ужасно много сохраняет настроения, освобождает ум и душу. Проходит некоторое время – все эти дрянные личные уколы забываются, и истина выступает тем ярче. В противном же случае – накопляется целая гора сторонних ощущений и, что всего хуже, начинал себя чувствовать как бы связанным с тем или другим человеком, какою-то отрицательной, враждебной, но все же очень крепкой связью, заставляющей искать не то, что нужно по существу, а что поможет сразить другого лично». [117]
Это весьма мудрый совет, и я обычно всегда ему следовал. Только недавно я нарушил свое правило и позволил себе ответить П. Егидесу и Р. Лерт, а затем и писателю Г. Владимову И тут же убедился в ошибочности своего шага. В мой адрес посыпался целый поток «открытых писем» и «заявлений» как от многих знакомых, так и вовсе мне незнакомых людей. И почти каждый из авторов этих писем, мало считаясь с истиной, стремился сделать, по выражению Короленко, как можно больше «дрянных личных уколов». Я решил поэтому на будущее снова воздерживаться от ответа на всякого рода «открытые письма» и «заявления», но завести при необходимости для таких документов еще одну специальную папку.
Особый вид моей корреспонденции составляют анонимные письма. В прошлые годы в таких письмах преобладали или угрозы, или тема моих «отношений» с Лубянкой. Теперь главной темой таких писем стал секс, и эти письма получаю не только я, копии их получают мой сын, моя жена и мои друзья. В письмах, которые мы получаем теперь в стихах и прозе (с использованием лагерно-блатного жаргона), утверждается, что я состою в предосудительной связи со всеми знакомыми и незнакомыми женщинами. А ведь еще недавно мои друзья считали, что я, в основном, равнодушен к прекрасному полу и делаю исключение только для жены.
Иностранные корреспонденты знают, что я бываю у них на редких приемах только в обществе своего портфеля. Неизвестный благожелатель регулярно пишет, тем не менее, моей жене, что я бываю «в свете» в обществе «очаровательных синичек, складно щебечущих о путях развития русской поэзии и достоинствах различных музыкальных форм». «Ваш муж, – пишет этот доброжелатель, – не только государственный деятель, но и прекрасный во всех отношениях человек. У него любвеобильное сердце, и ему нравятся красивые женщины. Но по большому счету вы-то должны только радоваться этому… К тому же для выходов в свет Р. А. нужен и соответствующий фон, как дорогому бриллианту – достойная оправа… Ему это приятно, окружающим тоже. Так, радуйтесь этому, если вы действительно любите Р. А.»
Моя жена меня любит, но она не очень любит этого благожелателя…
Любопытно и другое. Кроме домашнего адреса я получаю письма еще по двум адресам. Один: 121019, Москва Г-19, абонементный ящик № 45. Другой: 125475, Москва А-475, абонементный ящик № 258. Почта № 475 находится возле моего дома, почта № 19 – в центре города. По разным причинам мне это удобно. Но странное дело, было немало случаев, когда я находил письма, адресованные на почтовый ящик № 45, в почтовом ящике № 258, и наоборот. Удивительно, насколько точно Московский почтамт знает своих постоянных клиентов.
Почти каждый день я получаю письма как из различных городов нашей страны, так и из-за границы. Но многие письма ко мне не приходят, даже если они отправлены заказными и с уведомлением. Я часто не получаю писем от зарубежных коллег и от знакомых, покинувших СССР. Но зато за последние два года я получил из США два письма от Иисуса Христа и одно письмо от Иоанна Крестителя. Я получил также письмо от человека, который называл себя одновременно и Сталиным и, Гитлером.
Обычно я передаю эти пространные письма одному писателю, который вместе со своим другом-психиатром коллекционирует рукописи и письма наиболее великих людей ХХ века и всех прошлых веков. Они всегда очень рады, когда я пополняю их своеобразную коллекцию.
Хотя я работаю с утра до вечера, а иногда и ночью, местное отделение милиции считает меня безработным. Поэтому время от времени меня посещают участковые милиционеры с вопросом– когда же я поступлю на государственную службу? Правда, и на них производит впечатление полка с моими книгами, тем более что часть из них издана на русском языке или с изображением революционных плакатов на обложке. Один из работников милиции не только попросил дать ему почитать какую-либо из моих книг, но, узнав, что я расследую преступления (Сталина и сталинизма) и написал один литературный детектив («Загадки творческой биографии М. Шолохова»), пригласил меня работать в милицию, где теперь очень много вакансий.Моя фамилия является весьма распространенной русской фамилией. Но у меня необычное для русских имя Рой. И если в печати появляется статья Николая или Владимира Медведева, то никто не приписывает их мне или моему брату Жоресу. Но иногда в комментариях упоминается только фамилия. Мне передали недавно, что польские диссиденты были возмущены, услышав по радиостанции «Свободная Европа», что где-то за границей Медведев опубликовал статью, одобряющую вступление в ЧССР войск Варшавского пакта. Конечно, я не писал такой статьи. Ее написал, как выяснилось, обозреватель Агентства «Новости» по фамилии Медведев.
Сложнее бывает, когда кроме фамилии ставятся мои инициалы. В журнале «Посев» (Франкфурт-на-Майне), который в нашей стране считается антисоветским изданием, было напечатано мое «Открытое письмо» в журнал «Коммунист» с протестом против попыток реабилитации Сталина. Мое письмо распространялось тогда в Самиздате и было издано отдельной брошюрой на французском языке в том же 1969 году На обложке брошюры было указано мое полное имя: «Рой Медведев», в журнале «Посев» только инициалы «Р. Медведев». Через полгода за той же подписью «Р. Медведев» журнал «Посев» опубликовал крикливо-вздорную и намеренно-клеветническую статью «Правда о современности», сочиненную явно западным автором. В этой статье, например, говорилось, что «кремлевские лидеры прокучивают свои громадные состояния в сверхдорогих ночных ресторанах Москвы». Но даже все иностранные корреспонденты знают, что в Москве нет ни «сверхдорогих», ни «ночных» ресторанов, да и понятие «кремлевские лидеры» употребляют лишь западные авторы.
Тем не менее на Западе и новую статью приняли за мою публикацию. Я направил протест в «Посев», в Агентство печати «Новости» и в западные газеты. Мое опровержение было быстро опубликовано в «Нью-Йорк таймс» под ясным заголовком – «Московский историк дезавуирует антисоветскую статью, приписанную ему на Западе». Я очень благодарен корреспонденту Т. Шабаду ибо когда меня пригласили в «компетентные органы», я смог предъявить фотокопию своего опровержения. Заведующий редакцией в агентстве «Новости» отказался печатать мое заявление, потребовав дополнительных доказательств. Что касается «Посева», то лишь через два месяца обычной почтой я получил письмо ответственного секретаря журнала г-на Кандаурова. Он любезно сообщал мне, что даже в московском телефонном справочнике имеется семь «Р. Медведевых», и среди них могут быть и Рюрики, и Родионы, и Романы. Поэтому журнал не будет печатать никаких опровержений, хотя и не знает подлинного автора поступившей к ним статьи.
Сейчас телефонов в Москве стало гораздо больше и издан новый телефонный справочник. Однако публикации в «Посеве» от имени таинственного «Р. Медведева» все же прекратились. Сам я не читаю этого журнала. Некоторые советологи говорили, что почти в каждом номере «Посева» упоминается или Рой, или Жорес Медведевы, но обязательно с отрицательными эпитетами. Однако и советологи редко просматривают этот журнал.С другими эмигрантскими изданиями у меня более сложные отношения. В 1972–1977 годах в «Русской мысли», «Новом русском слове», «Новом журнале» и даже в «Вестнике русского христианского движения» было опубликовано несколько моих статей или положительных рецензий на мои и Жореса книги. Редактор «Русской мысли» княгиня Зинаида Шаховская, поясняя позицию своей газеты, как-то писала: «И дрянной человек может иметь полезную мысль, а самый честный человек сказать глупость. Даже у мудрецов происходит затмение ума… Истина никому не дана, вся ее полнота только у Бога, а нам на земле открыты только ее крупицы. Каждый, согласно своему уму, своему темпераменту, своим знаниям, своей интуиции, а, главное, своей совести, судит о проблемах нравственности и государственности». [118]
Это разумная и благородная позиция.
Однако, с увеличением новой – «третьей» эмиграции отношение эмигрантской печати ко мне и моему брату заметно изменилось. Отчасти это объясняется политической позицией большинства «третьей» эмиграции. Вопреки прежним взглядам, высказываемым на русской земле, эти люди, оказавшись на Западе, обнаруживают не только свою религиозность и ненависть ко всем «моделям» социализма, но и неприязнь к западному либерализму вообще. Поэтому они примыкают обычно к крайним антикоммунистическим течениям Запада. Неудивительно, что в журнале «Континент» – главном журнале «третьей» эмиграции – я нахожу почти всегда какое-то ругательство в свой адрес.
Справедливости ради должен отметить два обстоятельства: во-первых, среди многих тенденциозных и сомнительных публикаций «Континент» опубликовал за пять лет своего существования немало интересных и важных материалов. Во-вторых, немало пинков получают от «Континента» и сами эмигранты, независимо от своей политической позиции. Даже главный редактор этого журнала Владимир Максимов после множества столкновений и споров с эмигрантами публично заявил, что небольшое число достойных представителей советских диссидентов в эмиграции порой неразличимы «среди легиона злобствующих неудачников, бросившихся за рубеж в поисках положения, которого им здесь никто не приготовил, и в жажде славы, которой им здесь никто не припас». [119]
Поясняя распространенную в эмиграции неприязнь к «братьям Медведевым», Леонид Плющ (примкнувший во Франции не к правым, а к троцкистам, т. е. к крайне левым) писал в газете «Русская мысль»: «Все реалисты Запада – Ватикан, Социалистический Интернационал, Ж. Марше, Г. Шмидт, швейцарское и прочие правительства – стоят на позициях медведевского марксизма – не срывать торговлю, не срывать большую игру в спасение мира, не дразнить белого медведя». [120] Президент Никсон и его Госсекретарь Киссинджер, а также президент Форд также стояли в прошлом на позициях «медведевского марксизма». Только новый американский президент Дж. Картер, по свидетельству Плюща, неожиданно сошел с этих позиций и «портит всю обедню» странам Запада.
Я и не подозревал о такой популярности своих взглядов на Западе и о своем участии в такой большой «игре» в спасение мира. Теперь-то я понимаю – почему американский сенатор Генри Джексон, объявляя о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США, обрушился с грубой критикой на Роя Медведева (см. «Нью-Йорк таймс от 28 января 1975 года). А может быть, слова Л. Плюща являются иллюстрацией того, что и „самый честный человек может сказать глупость“?
Невозможно перечислить все то, что пишется в эмигрантской печати по поводу моей персоны. Приведу лишь один пример.
Несколько лет назад из СССР эмигрировал популярный поэт Наум Коржавин. Мы любили его стихи, большинство из которых ходило в списках. Еще в родной стране Коржавин пережил сложную эволюцию. По его признанию, было время, когда он ходил советоваться в НКВД. Потом, еще при жизни Сталина, Коржавин написал антисталинское стихотворение и был сослан. После реабилитации Коржавин не только поддержал решения XX и ХХП съездов КПСС, но пытался глубже разобраться в прошлом и своем, и всей страны. В единственном опубликованном в Москве сборнике его стихов было стихотворение «Комиссары 20-х годов», которое я уже цитировал. Это стихотворение романтизировало образ комиссаров, «сошедших в тень» в 30-е годы.
Это слабое стихотворение, написанное в 1960-м году, было мне особенно дорого, так как мой отец был одним из таких комиссаров.
Теперь Коржавин не романтизирует, но ненавидит именно комиссаров 20-х годов. В статье «Плюрализм Роя Медведева»
Коржавин издевается над «комиссарским происхождением» Роя Медведева, родители которого, а также их товарищи, «развеселившись, столкнули Россию в пропасть» в 1917 году. [121]
Хочу дать небольшую справку. Мой отец в 1917 году был не комиссаром, а голодным сиротой в г. Астрахани. И в Красную Армию он пошел через год не за «жирным комиссарским пайком», а из стремления к справедливости и сочувствия к бедным людям. Моя мать происходит из многодетной еврейской семьи, проживавшей в Грузии. Думаю, Коржавин и сам знает, что у евреев было мало оснований любить царское самодержавие.
Конечно, история знает всякие превращения. Бывало и так, что командиры и комиссары, выходцы из бедных крестьян, возглавляли заградотряды, не дававшие голодающим крестьянам в 1932–1933 годах добраться до ближайшей станции. Что знал и что думал мой отец о событиях тех тяжелых лет – об этом я не успел его расспросить.
Можно по-разному относиться и к событиям 1917, и к событиям 1937 года. Но ни один историк или политик Запада не может игнорировать сложную историю русской революции. Однако этот русский опыт нужно понять, а не просто отвергнуть, если мы хотим добра Западу. Между тем, Коржавин утверждает, что печется именно о Западе, стараясь охранить западную цивилизацию от русского варварства.
Достается моим бедным родителям и от некоего Льва Наврозова, о котором здесь в СССР никто и не слышал и который, эмигрировав в 1972 году в США, опубликовал семитомную книгу о самом себе «Воспитание Левы Наврозова: жизнь в закрытом мире, некогда называемом Россией». Читатели Запада не любят многотомных литературных биографий, и книга Наврозова не имела успеха, хотя какие-то газеты или журналы писали, что после появления Наврозова Солженицына можно считать уже писателем второго разряда.
Теперь Наврозов переключился на статьи, и в одной из них я смог прочитать следующие рассуждения: «В России с 1918 по 1921 гг. Троцкий, или Бухарин, или родители Роя и Жореса Медведевых принадлежали к касте, которая расстреливала, и поэтому, с их точки зрения, их безграмотная утопия осуществлялась в России в лучшем научно-философском виде. Но затем, наоборот, их начали расстреливать, и конечно, многие из них открыли перед смертью, что созданное ими общество их научно-философским взглядам никак не соответствует». [122]
Не знаю, к какому лагерю принадлежали в 1918–1921 годах родители Левы Наврозова, но расстреливали тогда не только красные белых, но и белые красных. Были также и такие «зеленые» или «черные», которые расстреливали одновременно и белых, и красных.
В этой же статье Лев Наврозов успокаивает советских руководителей, заявляя, что большинство творцов иностранной политики США и других западных стран «находятся в своей области на умственном уровне детей до пяти лет». Самые мудрые из них, и в качестве примера Наврозов приводит Уинстона Черчилля и Голду Меир, достигают все же умственного уровня детей пятилетнего возраста – не то что полный младенец Генри Киссинджер. Все современные, да и прежние философско-политические учения от Платона до Маркса, от Робеспьера до Солженицына или Хомейни – все одинаково безграмотны и не видят, по мнению Наврозова, что «существует задача защиты человека от власти человека», подробности учений и опыта перечисленных выше философов и государственных деятелей – это, как пишет Наврозов, «подробности личной жизни безграмотных утопистов, а не общественной истории». Существенны лишь подробности жизни Левы Наврозова, который, отчаявшись в способности Запада защитить себя или создать какую-то подобную научной медицине научную доктрину по сохранению и спасению западной цивилизации, основал недавно, по его свидетельству, «при участии многих умных и талантливых людей разных стран, Центр по спасению гражданских обществ, нечто вроде Интернационала ума и таланта всех народов» [123] (см. с. 89).
Любопытно, что в конце своей же статьи Наврозов весьма здраво замечает: «В 20-м веке считается неудобным восхвалять себя лично. Но безудержное восхваление самого себя через групповое самовосхваление (мы рабочие, ленинцы, писатели, христиане, немцы, русские, выпускники Гарварда, негры, полководцы, китайцы) воспринимается чуть ли как жертвенное самоотречение. Оценивая себя лично, человек 20-го века научился сдерживать выражение своей страстной веры в собственное превосходство. Но как только он выступает как член некоторой группы, все его сдерживающие центры выходят из строя». [124]
Не для этой ли цели будет существовать теперь и наврозовский Пятый Интернационал?В советских газетах и журналах можно прочесть, что именно СССР идет в авангарде прогрессивного человечества. Точно так же и многие советские диссиденты, оказавшись на Западе, претендуют только на авангардную роль. Они хотят учить несмышленых людей Запада, но не учиться у них.
Они хотят, подобно Наврозову выступать лишь в качестве наставников западной общественности, ибо только они знают «что надо» и «как надо».
Уже из Америки писал своим поредевшим сторонникам Солженицын: «Я думаю: именно Россия, распахнувшая в мир врата адовы, именно она только и способна их закрыть. За полтора года изгнания я еще больше убедился, что таких мощных рук и такого умудренного сердца на Западе нет: все здесь так расслаблены благополучием и в таком увлеченьи за увеличением его, что: или мир погибнет скоро, или противоадовы руки найдутся только на порабощенном Востоке. Для мировой истории ХХ-го века Россия – ключевая страна… Оттого приверженность русским проблемам получается не такая уж узкая, а даже и всемирная. И это вовсе не национализм». [125]
Действительно, это уже не национализм– пытаться переделывать весь мир, и Запад в том числе, при помощи мощных русских рук и умудренных русских сердец.С Солженицыным полностью согласен и проживающий в СССР видный математик И. Шафаревич. Он утверждает: «Мы (т. е. Россия) первыми пришли к этой точке, откуда видна единственность этого пути, от нас зависит вступить на него и показать его другим. Прошедшие полвека обогатили нас опытом, которого нет ни у одной страны мира… Таково сейчас положение России: она прошла через смерть и может услышать голос Бога». [126]
Не слишком ли шаткое основание подводят Солженицын и Шафаревич под свои пророчества? А что если скоро появятся на Западе сотни и тысячи изгнанников из Китая? Разве эта страна не накопила за пять тысяч лет своей истории еще большего опыта страданий и смерти, чем Россия? И, может быть, у китайцев окажутся еще более мощные руки и менее расслабленные благополучием сердца?
Шафаревич все же уверен, что Бог испытывает предпочтение именно к России. Имея в виду русских, Шафаревич высказывает надежду: «Бог творит историю руками людей, и это мы, каждый из нас может услышать Его голос». [127]
Но тут же и Солженицын, и Шафаревич твердо заявляют, что ни при каких условиях голос Бога не смогут услышать такие социалисты и атеисты, как Жорес и Рой Медведевы. На специальной пресс-конференции, одновременно созванной в Москве и Цюрихе по случаю выхода в свет сборника «Из-под глыб», его составители обрушились с грубой критикой в адрес «допотопных коммунистов» Роя и Жореса Медведевых. По свидетельству Солженицына, у братьев Медведевых в СССР почти нет сторонников – ну, может быть, несколько человек из числа таких же «допотопных коммунистов». Это те люди, которые, по словам Солженицына, «ничему не научились от всей истории нашей страны, которые считают величайшим преступлением Сталина только то, что он опорочил социализм и разгромил свою партию, больше ничего… Они искусственно создают видимость какой-то массовости коммунистического движения у нас. Я могу сказать, что нигде в мире коммунистическая идеология не потерпела такого страшного поражения в глазах людей, как у нас в стране». [128]
Совершенно иной вывод из чтения моих и Жореса книг сделал рецензент «Нового журнала» Ю. Среченский. Он писал: «Некоторые почему-то, вопреки очевидности, хотят верить, что коммунизм, как идея, как учение, как система человеческого общежития, после бесчисленных и бессмысленных жертв, после полного духовного и материального краха, себя изжил и больше никого не вдохновляет в Советском Союзе, где идейных коммунистов уже нет и быть не может. На этом строится теория “эволюции” или, вернее, перерождения режима, то есть постепенного ослабления партии, эрозии коммунистических идей и перехода к какому-то нормальному строю.
Но книги братьев Медведевых, по-моему, разбивают эту иллюзию. Они свидетельствуют о том, что стоящее сейчас у власти поколение сталинских выдвиженцев, которое мы считали обанкротившимся и последним, имеет смену – умную, убежденную, напористую, готовую не только защищать коммунизм и советский строй в СССР, но и длить его бесконечно». [129]
Вот и разберись во всем этом! Можно лишь заключить, что власти в СССР глубоко заблуждаются, отказываясь публиковать мои и Жореса книги. Если прав Солженицын, то у этих книг совсем не будет читателей в Советском Союзе. И весь этот «допотопный»
или, напротив, «модернизированный» марксизм лишний раз покажет свою полную беспомощность. Если же прав Ю. Среченский, то публикация наших книг лишь укрепит и упрочит навечно коммунистический режим в СССР.
Раз уж зашел разговор о религии, могу повторить то, что говорил не раз. Я отношусь с уважением к русской православной Церкви и уверен – она может принести немало добра нашему народу. Но не религия определит будущее современной России. Недалеко от меня, в таком же «убогом доме без лифта» живет известный священник отец Дмитрий Дудко. Мы часто беседуем. Добрый и мудрый человек, Дм. Дудко не раз говорил, что ему приятнее побеседовать с честным марксистом, чем с нечестным христианином. Но и я могу сказать то же самое. Для меня были поучительны и полезны беседы с Дм. Дудко, Глебом Якуниным, с католическим теологом Иоганном М. – людьми, обладающими подлинно христианской терпимостью. Но у меня нет никаких контактов ни с воинствующими неофитами христианства, ни с агрессивными «либералами» типа Е. Г. Боннэр, ни с крайними националистами любого толка. Мне бывает трудно найти общий язык даже с такими «демократическими коммунистами», как П. Егидес, ибо все эти люди заранее уверены в своей правоте и не желают прислушиваться к каким либо возражениям.
Общаясь с людьми самых различных взглядов, религий и национальностей, я вынес твердое убеждение, что доброта и злобность, терпимость и нетерпимость, скромность и претенциозность, завистливость и благожелательность, правдивость и лживость, искренность и лицемерие, отзывчивость и жадность, простота и тщеславие – все это зависит не от идеологии или мировоззрения, а от природных качеств и воспитания человека.
Свои книги и статьи я пишу главным образом для советских людей, но, за редким исключением, они не читают моих работ. В лучшем случае, можно слышать краткое их изложение в передачах западных радиостанций. Поэтому я отказываюсь отвечать на вопросы западных корреспондентов или ученых о том, как советские люди (или молодые люди в СССР) относятся к моим взглядам. Разумеется, я лишен возможности выступать на рабочих или студенческих собраниях. Приглашения такого рода я перестал получать с 1966–1967 годов. (Тогда даже Солженицын сумел выступить на вечерах в двух научно-исследовательских институтах.)
Почти все мои книги и статьи опубликованы в последние десять лет в Западной Европе, США и Японии. Как я могу судить, у этих книг было немало читателей. Естественно возникает вопрос: какие люди по преимуществу являются покупателями и читателями моих книг за границей?
Оказывается, все та же «образованщина», т. е. гуманитарная интеллигенция и часть студенчества. Мои книги популярны и среди части коммунистов и социалистов Запада, и среди советологов.
Но почему я называю западную интеллигенцию «образованщиной»? Что общего между западной интеллигенцией, на которую многие идеологи Запада (например, Гэлбрайт) возлагают столь большие надежды, и советской интеллигенцией? Оказывается, многие советские эмигранты не только сравнивают западную интеллигенцию с советской, но полагают даже, что западная интеллигенция гораздо хуже советской. Ибо советская интеллигенция живет в условиях всеобъемлющего тоталитарного давления, а западная интеллигенция пользуется всеми благами интеллектуальной свободы. И тем не менее – «западная интеллигенция в своем большинстве – испуганное стадо». [130]
Известно, что интеллигенция и молодежь почти любой западной страны отнюдь не склонна, в своем большинстве, служить интересам консервативного истэблишмента. Эти люди настроены обычно оппозиционно, хотя спектр их оппозиционности довольно широк – от традиционного западного либерализма к поддержке социализма и коммунизма, и далее – к некоторым крайне левым анархиствующим группировкам. Эта оппозиционность и делает западную интеллигенцию таким слоем общества, который вызывает неприязнь к «яйцеголовым интеллектуалам» как правых кругов Запада, так и большинства советской эмиграции.
Но почему советские эмигранты столь враждебно относятся к западной интеллигенции? Ведь именно эта интеллигенция создавала «Комитеты защиты» Григоренко, Буковского, Амальрика, Юрия Орлова и многих других. Ведь именно эти комитеты собирали обращения в защиту советских диссидентов с сотнями и тысячами подписей, организовывали митинги и манифестации. Ведь именно эта интеллигенция так горячо приветствовала первых советских диссидентов, вырвавшихся наконец на «свободу».
Ведь именно у Генриха Бёлля, социалиста и демократа, нашел первый приют на Западе Александр Солженицын. Отчего же возникла такая враждебность между западными интеллектуалами и большинством советских эмигрантов? Почему при посещении США А. И. Солженицын не только не выразил солидарность американскому диссиденту № 1 Даниилу Эллсбергу но, напротив, высказал удивление: как это человек, обнародовавший во время американо-вьетнамской войны секретные документы Пентагона, продолжает жить на свободе, а не сидит на электрическом стуле?
Все дело здесь именно в левых настроениях западных интеллигентов, которые защищают человеческие и политические права советских диссидентов, но отнюдь не хотят принимать все их призывы и пророчества. Имея в виду «мудрецов и либеральных мыслителей Запада, забывших значение слова “Свобода”», Солженицын вопрошал: «Почему люди, беспрепятственно реющие на вершинах свободы, вдруг теряют вкус ее, волю ее защищать и в роковой потерянности начинают почти жаждать рабства? Почему общества, коим открыты все виды информации, вдруг впадают в летаргическое массовое ослепление, в добровольный самообман?.. Откуда происходит боязливость профессоров оказаться не в модном течении века, безответственность журналистов за метаемые слова, всеобщая симпатия к революционерам; немота людей, имеющих веские возражения, пассивная обреченность большинства?». [131]
Особую ненависть к западной либеральной интеллигенции высказывает постоянно Владимир Максимов, которого приветствовали на Западе как человека, способного отвратить западную молодежь и интеллигенцию от «модных» левых идей. Эта задача оказалась не под силу максимовскому «Континенту», и Максимов теперь негодует против «полчищ полуобразованной духовной саранчи с услужливыми перьями наперевес», которые расчищают будто бы восточному тоталитаризму путь для агрессии.
Имея в виду именно западную интеллигенцию и западную либеральную печать, Максимов пишет: «При помощи самых модных средств массовой информации, многотиражной печати, радио, телевидения – они, эти мелкие бесы бездуховности, с наглым цинизмом выдают белое за черное, убийц за потерпевших, грабителей за ограбленных. В надежде на свои тридцать сребреников они готовы с пеной у рта доказывать, что ГУЛАГ – только досадная издержка на пути к социальной гармонии, что иноземные танки на улицах суверенных государств – это естественный акт предосторожности в собственной „сфере влияния“, и что трупы беглецов у Берлинской стены и в водах Гонконга – всего лишь ничтожный моральный взнос демократии в счет „всеобщей разрядки напряженности“. [132]
Не намного же изменился и стиль, и пафос, и даже направление этих гневных филиппик Максимова с тех лет, когда он работал одним из редакторов советского журнала «Октябрь»!
Разумеется, Максимов совершенно не прав, когда обвиняет западную интеллигенцию в цинизме, бездуховности и продажности. Основная часть этой интеллигенции поддержала разоблачение сталинских преступлений, осудила оккупацию Чехословакии, эксцессы «культурной революции» в Китае, репрессии против советских диссидентов в 60–70-е годы. Одновременно эта же интеллигенция выступает против беззаконий и злоупотреблений властью в самом западном мире, да и в странах «третьего мира», проявляя при этом немалое мужество и энергию. Но надо иметь в виду, что возможности этих людей ограничены, и они никак не могут (а часто и не желают) делать многое из того, что требуют от них советские диссиденты. Ибо западная интеллигенция действительно располагает большей информацией не только о том, что происходит сейчас в СССР, но и о том, что происходит в других странах нашей многострадальной планеты.
Но тут в сознании некоторых советских эмигрантов опять начинает действовать порочная (а порой и просто аморальная) логика мессианства. Раз уж «Россия – ключевая страна ХХ-го века», которая «может спасти весь мир и услышать голос Бога», то в первую очередь и любыми средствами надо «спасти» Россию. Пусть в Индонезии томятся в лагерях без суда и следствия сотни тысяч заключенных, пусть льется кровь в Чили, Аргентине и Никарагуа, пусть свирепствует тайная полиция иранского шаха, пусть даже в Китае невинно страдают миллионы человек – все это печально, но все это не должно отвлекать внимания от преследований диссидентов в России, ибо то, что происходит в России, важнее для судеб человечества, чем все то, что происходит в других странах мира. И если Запад не будет «спасать» Россию, а будет продолжать сотрудничать с современным режимом СССР, то скоро все либеральные политики Запада будут сидеть как «военные преступники» на скамье подсудимых в Нюрнберге.
Об этом не раз говорил Вл. Максимов еще до отъезда на Запад. Он продолжает кликушествовать об этом же в Париже и Лондоне: «Нас, многих прибывших на Запад интеллигентов России и Восточной Европы, часто называют прямолинейными идеалистами. Может быть, это действительно так. Может быть, мы и вправду выглядим здесь этакими мастодонтами морального романтизма. Но, наверное, именно в силу этого, мы твердо верим в торжество второго Нюрнберга. Мы верим, что все эти вольные или невольные помощники наших палачей будут сидеть с ними на одной скамье. Мы не забывали и никогда не забудем каждого из них поименно. Как говорится, человечество должно знать своих негодяев!» [133]
Не думаю, что, читая подобные речи Максимова или Солженицына, западные интеллектуалы называли бы их «прямолинейными идеалистами» или «моральными романтиками». В одной из статей, которая распространяется в русских кругах на Западе (но написана, возможно, в России) можно прочесть: «…За познание добра и зла человек заплатил изгнанием из рая. Плата за него и поныне остается непомерно высока. Многие поэтому отворачиваются, многие закрывают глаза, не желают слышать, видеть и тем более говорить. К чести Максимова должно сказать: он не отвернулся, он постарался увидеть и сказать. Однако страдания, видимо, столь ожесточили его, что он перестал отличать Добро от Зла, не знает, где Добро и в чем Зло. Это самая безысходная и безнадежная потеря для человека, тем более – писателя. Самый мучительный итог и бесплодность горького поражения» (из эссе Серг. Елагина «Кровожадное христианство Владимира Максимова», рукопись).
Разумеется, я не разделяю взглядов Солженицына и Максимова на западную интеллигенцию, со многими из представителей которой я познакомился в последние годы лично во время их поездок в СССР. Мне приходилось много раз беседовать в Москве с учеными-советологами, весьма далекими от идей социализма и коммунизма. Это новое поколение советологов вызывает уважение объективностью и независимостью своих суждений. Они могут вносить и уже вносят большой вклад в изучение советской истории, ибо для них не существует «запретных тем». Я с большим уважением отношусь к усилиям западных левых интеллектуалов, а также социалистов и коммунистов, хотя и не разделяю всех их концепций. Я стараюсь рассказать им, как умею, о трагическом опыте нашей страны, о злодеяниях и преступлениях прошлого. Но я делаю это не для того, чтобы они перестали верить в социализм, а чтобы они не повторяли наших трагических, но отнюдь не фатальных ошибок.
Конечно, я не одобряю всех аспектов советской внешней политики, но у меня вызывают протест и многие аспекты внешней политики западных стран. И если я, в отличие от некоторых советских диссидентов и эмигрантов, неизменно выступал за развитие разрядки и сотрудничества между Востоком и Западом, – то следовательно, я уверен – такая разрядка уменьшит масштабы возможных ошибок с обеих сторон и, таким образом, увеличит шансы человечества выжить в этом мире, который действительно начинает, порой, катиться в пропасть.
В свете сказанного можно понять, какое негодование вызывает у людей вроде Максимова и Солженицына моя позиция. Ведь многие западные деятели смогут подумать, что Солженицына и Максимова поддерживают отнюдь не все и даже не большинство советских диссидентов. Вот, например, западногерманский журналист Матиас Шрайбер так и написал, что хотя по своему нравственно-религиозному пафосу Солженицын чем-то похож на Льва Толстого, однако «не следует забывать, что в Советском Союзе меньше радикальных и больше приемлющих систему коммунизма диссидентов, как Рой Медведев. Солженицын говорит от своего, а не от их имени». [134]
Еще более определенно поддержал мою позицию известный английский общественный деятель Кен Коут: «В то время, как Россия Солженицына, как и весь его мир, заполнены темными, безрассудными фигурами, жестокими и алчными людьми, бессмысленными институтами, Россия Медведева составляет часть его собственного мира, где признают доводы разума, где прислушиваются, хотя бы и с трудом, к свидетельствам мира – мира, доступного для анализа и объяснения и, что важнее всего, мира изменяющегося. Солженицын предлагает своим соотечественникам давно изъеденные червями предписания воздержания, покорности и благочестия. Медведев же призывает их спорить, думать и содействовать реформам. Опираясь на рационализм Маркса, он беспощадно применяет его к социальной действительности собственной страны». [135]
Ясно, что после подобного рода отзывов западных интеллигентов и меня ждет в будущем только скамья Второго Нюрнберга. Однако я буду находиться там не в столь уж плохом обществе, если список подсудимых будут составлять Солженицын, Максимов или Григоренко.
И все же есть надежда, что ни мне, ни близким мне западным интеллигентам, ученым и журналистам не придется сидеть за решеткой по приговору «Второго Нюрнберга». По свидетельству Солженицына, у нас объявился весьма могущественный союзник, который также выступает за прекращение холодной войны с СССР. Это крупная американская, да и большая часть японской и западноевропейской буржуазии. Выступая 30 июня 1975 года по приглашению Американской федерации труда на большом собрании в Вашингтоне, Солженицын сказал: «Но подобно тому, как мы ощущаем себя с вами союзниками, существует и другой союз… На первый взгляд странный, удивительный, а если вдуматься, то очень обоснованный и понятный. Это союз наших коммунистических вождей и ваших капиталистов… Это союз не новый…». [136]
Яростный противник всех видов и форм сотрудничества и торговли между Западом и Востоком, Солженицын почти дословно повторил в этой своей речи слова Маркса, когда с негодованием говорил о «той сжигающей капиталистов жажде наживы, которая теряет всякие границы, всякие самоограничения, всякую совесть, только бы получить деньги». [137]
В порыве возмущения Солженицын призвал своих слушателей вспомнить лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Аудитория в Вашингтоне, состоявшая из тех же капиталистов, политиков и профсоюзных боссов-миллионеров, аплодировала оратору, который вместо традиционного обращения «Дамы и господа» начал свою речь словами «Братья по труду!» Но ведь и американские рабочие, которые не были представлены на этом приеме, также хотят, чтобы их товары имели надежный сбыт, и чтобы США выбрались наконец из трясины перманентного кризиса. Кто же будет создавать и охранять те концлагеря и иные застенки, которые планирует создать для западных либералов Владимир Максимов?Советская печать, к счастью, полностью игнорирует мое существование и мои книги. За последние десять лет я лишь дважды видел упоминание о себе в печати. В первый раз это было в 1971 году в газете «Вечерняя Москва». В статье о краже книг в Ленинской библиотеке содержался намек, что Рой Медведев если и не крадет сам книги из библиотек, то охотно принимает их в подарок. По этому случаю у меня был даже устроен тщательный обыск. Правда, во всей моей библиотеке была обнаружена только одна книга с каким-то библиотечным штампом, стоимостью в 90 копеек. Заодно с этой книгой был «изъят» и увезен весь мой научный архив.
Второй раз совсем недавно я обнаружил свое имя в книге чехословацкого журналиста Томаша Ржезача «Спираль измен Солженицына». В этой книге, полной всякого рода сознательных искажений и ошибок, автор называет меня «ближайшим другом Солженицына», хотя я виделся и беседовал с Солженицыным всего три раза в жизни. К тому же мне приписывается такой отзыв об одном из произведений Солженицына, который я никогда не высказывал ни устно, ни письменно.
Иное дело устная пропаганда. Здесь, как я могу судить, мне и моему брату уделяется немало внимания. Еще в 1970 году на семинаре в Черемушкинском райкоме партии лектор Г. Н. Чистяков утверждал, что я размножал рукопись «К суду истории» в десятках экземпляров в машинописном бюро своего института. Эта рукопись готовится к печати издательством «Посев» в ФРГ с антисоветским предисловием. Мне будто бы показали это предисловие, но я ответил, что не передавал «Посеву» свою рукопись, но буду рад, если ее там опубликуют. Среди слушателей Чистякова была и моя жена, но он этого не знал.
Между тем ложь, преподносимая Чистяковым, была весьма знаменательна. Конечно, я не размножал своей рукописи, да в моем институте не было вообще машинописного бюро. Еще осенью 1969 года я переслал рукопись в США и заключил через друзей формальный договор с издательством «Кнопф». Возможно, что издательство «Посев», не зная об этом, готовило к изданию какой-то первоначальный вариант книги. Именно так было с книгой моего брата «Подъем и падение Лысенко». За несколько месяцев до одобренного им американского издания книги, ее ранняя версия была опубликована «Посевом». Однако в моем случае издательство «Кнопф» опередило непрошеных конкурентов.
Позднее на семинаре международников в Москве некто Власов призывал вести решительную борьбу с такими авторами, как Солженицын и Медведев, которые явно «не в своем уме». На вопрос, почему нас не арестуют, Власов с сожалением ответил, что для этого нет еще веских юридических оснований.
Совсем недавно в одном из установочных идеологических докладов было сказано, что за границей часто выступает в печати «некий советский историк Медведев, которого западная пропаганда цитирует так же охотно, как и Солженицына, Амальрика и Буковского». Докладчик пояснил, что этот московский историк является на самом деле бывшим белорусским полицаем, еще в 1944 году бежавшим на Запад и лишенный затем советского гражданства. Его подлинное имя Роман Медведев, хотя он переделал свое имя на английский лад. Докладчик все же не сказал, какое английское имя присвоил себе этот бывший немецко-белорусский полицай.
Я привожу здесь лишь отдельные известные мне примеры. Чаще всего говорят, что я эмигрировал в Израиль или в Англию. В последнем случае меня путают с братом, который, впрочем, также не эмигрировал, а был лишен советского гражданства во время годичной научной командировки. Некоторые из лекторов говорят, что я был уволен из Академии педагогических наук за злоупотребления. Кое-где вновь выплывает вопрос о «воровстве книг». Между тем я ушел с работы по собственному желанию и с наилучшей характеристикой. Возможно, докладчики путают меня с вице-президентом Академии педагогических наук А. Маркушевичем, который, действительно, был наказан и отправлен на пенсию за скупку краденых книг и архивных документов.
В издательстве «Просвещение», где я работал несколько лет в главной редакции, один из докладчиков сказал, что Рой Медведев является членом московского сионистского комитета и нигде не работает, так как получил миллион долларов наследства. К сожалению, я не получал никакого наследства. Но я теперь очень внимательно просматриваю все сообщения «Инюрколлегии» о беспризорных наследствах и поиске наследников.Решение посвятить жизнь общественным наукам и политике я принял еще в шестнадцать лет и никогда не менял. Я получил философское образование, но много лет работал учителем истории и директором школы. Эта работа дала мне многое для понимания людей и мотивов их поведения. Конечно, тридцать лет назад я не был диссидентом. Но и тогда я видел, что действительность вокруг меня содержит немало доброго и хорошего, но также много зла и неправды. Теперь я вижу мир в основном таким же. Я убедился лишь в том, что в мире оказалось больше неправды и зла, чем я видел в молодости. Но в нем оказалось также больше добра и правды, чем это я видел в юности. И это делает меня оптимистом.
В книге «Бодался теленок с дубом» А. Солженицын писал: «Жизнь научила меня плохому. Плохому я верю больше». У меня другой опыт. Конечно, и я видел в жизни немало плохого, хотя и не провел, как Солженицын, многие годы в сталинских лагерях. Но я старался все же учиться у жизни не плохому, а хорошему. И хорошему в жизни и в людях я продолжаю верить больше, чем плохому.
Среди диссидентов есть люди, которые относятся ко мне и Жоресу с раздражением, порой даже с озлоблением. Многие из них, никогда не встречаясь со мной, видят во мне чуть ли не личного врага. Но у меня самого нет в нашем движении личных врагов. Есть, конечно, немало людей, с мнением которых я не согласен и методы которых вызывают у меня возражения. Однако нет в любом из направлений нашего демократического движения людей, несчастью которых я бы радовался и неудачи которых доставляли бы мне удовлетворение. Я не согласен с известным евангельским изречением насчет правой и левой щеки. Но мне глубоко чужда и библейская заповедь: «око за око».
Я пишу и печатаю только то, что думаю. Но не всегда все, что думаю. Надо ведь оставить кое-что и на будущее.
Чаще всего меня называют «социалистом», «марксистом», «еврокоммунистом» или «евромарксистом», реже «ленинцем» или большевиком. Иногда пишут обо мне как о каком-то «джефферсоновском ленинисте» или «сталинисте с человеческим лицом». Меня называли также «хрущевистом», «коммунистом брежневского толка». Без существенных оговорок я соглашаюсь лишь с первым определением. Я считаю, что персонификация идейных, научных и этических течений, вполне естественная на первых порах как признание заслуг основателя того или иного учения, не может продолжаться вечно. Учения, которые сохраняют имя своего создателя, постепенно превращаются в религию или в догматизированный свод моральных правил (конфуцианство, магометанство, христианство, гандизм). Научные направления или учения (дарвинизм, менделизм, марксизм, коперникианство) должны сливаться с соответствующими науками (биология, социология, астрономия, политэкономия, философия), и им незачем присваивать те или иные имена. Поэтому сам я называю себя социалистом, т. е. сторонником социализма, а не приверженцем социал-демократической партии. Я не буду вдаваться здесь в рассуждения о том, каким я представляю социализм.
Свою первую статью я опубликовал в 1957 году, хотя писал на разные темы и до этого. С тех пор сделано немало, хотя и меньше, чем я хотел бы сделать. Но мой брат геронтолог, а жена – врач, и потому я надеюсь поработать в исторической и политической науках еще пятнадцать-двадцать лет.
Некоторые из вновь объявившихся диссидентов странным образом выражают по этому поводу свое недовольство. Так, например, известный историк М. Гефтер, проработавший много лет в Институте истории АН СССР и только теперь, выйдя на пенсию, решивший попробовать свои силы на трудной стезе диссидентства, писал недавно, имея ввиду содружество диссидентов: «А в этом доме братья Медведевы не последние. Напротив. Они из первых, и не только по времени. Нет, это уже давно не двое молодых людей, смело и деятельно вступивших на тернистую почву инакомыслия. Теперь это без малого учреждение, причем весьма заметное и как будто влиятельное. Оно пишет и свидетельствует. Оно на страницах прессы, на приемах в посольствах, оно раздает интервью и политические прогнозы. Из него систематически выходят реестры направлений с точным определением кто, где… С учреждения и спрос другой, чем с неоперившихся новичков. Тут уже мерка иная». [138]
Имея в виду меня и Жореса, М. Гефтер пишет даже о «сплоченном семейном Олимпе» и даже о якобы «наивной и бесстыжей демонстрации самодельных эполет». Оставим на совести М. Гефтера эту весьма неожиданную для маститого историка демонстрацию столь ожесточенной озлобленности, которая сочетается у него с призывом сплотить воедино все демократические силы в нашей стране. Что собственно не нравится ему в деятельности нашего с Жоресом «семейного учреждения»? А прежде всего то, что наши политические прогнозы никак не совпадают с политическими прогнозами самого Гефтера и его единомышленников. Мы с Жоресом все же смотрим на будущее нашей страны с некоторым оптимизмом.
Мой постоянный оптимизм раздражает и многих других диссидентов. «Откуда ваш сегодняшний оптимизм?» – вопрошает П. Егидес. Он называет мой оптимизм «неискренним», «вымученным» и даже намекает, что это, видимо, только тактический прием для обмана властей. Американский журналист Р. Кайзер более доверчив. «Медведев, – пишет Кайзер, – со всей решимостью хочет быть оптимистом, а поскольку русские могут быть отчаянно решительными людьми, это ему удается». [139] К сожалению, это удается далеко не всем. По мнению многих диссидентов, советский режим уже не способен ни к какой эволюции в сторону демократии, но будет становиться все более жестким. Поэтому после нескольких лет (или даже месяцев) «конфронтации» с режимом они торопятся покинуть Советский Союз. Я не осуждаю этих людей, хотя и считаю, что далеко не у всех из них имелись веские основания для эмиграции.
Уже давно кто-то высказал печальный афоризм о различии между оптимистом и пессимистом в СССР. «Пессимист – это тот, кто утверждает, что будет еще хуже. Оптимист это тот, кто говорит, что хуже быть уже не может». Но я не подхожу под эти афористические определения. Я считаю, что политическое и экономическое положение в нашей стране может как ухудшаться, так и улучшаться, и это зависит во многом не только от обстоятельств, но и от поведения людей, в том числе и диссидентов.
В конце 1977 года итальянская газета «Коррьера дела сера» устроила диспут между профессором А. Зиновьевым, автором книги «Зияющие высоты», и мной. А. Зиновьев сразу же назвал себя пессимистом. Он признал, правда, что сложившийся при Сталине «классический» коммунизм был несколько «размыт и смягчен» под влиянием Запада. Однако на будущее Зиновьев предсказывал лишь изменения к худшему. «Для нормального существования советского общества, – сказал Зиновьев, – такие явления западной цивилизации, как демократия и либерализм, вовсе не нужны. Большинство населения страны совсем в этом не нуждается, а привилегированные слои воспринимают его как покушение на их благополучие. Наше общество совсем иного типа, чем западное. Оно производит и совсем иной тип человека, который удовлетворяется совсем иными ценностями… Со временем люди здесь вообще перестанут понимать, что значит свобода личности в западном смысле… Для большей части общества эта реальность, т. е. современный “реальный” социализм, желанна. Поэтому они ее тщательно берегут и превозносят». [140]Я не мог согласиться с Зиновьевым. Конечно, наша общественная система производит во многом иной тип человека, чем общественные системы Запада. В чем-то этот тип человека лучше, а в чем-то хуже. Советские люди никогда не жили в условиях подлинной демократии и потому не всегда понимают ее ценности. Однако и советские люди стремятся не только к увеличению своих материальных благ или (если говорить об «элите») к росту привилегий и власти. Не так уж трудно доказать, что и советские люди не вполне безразличны к расширению своих демократических прав и свобод. Можно доказать также, что и в привилегированных слоях далеко не все люди погрязли в погоне за привилегиями и властью. При экономической и политической эволюции такой страны, как СССР, могут возникать периоды экономического и политического застоя, даже регресса, но не может долго сохраняться ситуация социально-политического тупика. Изменения в нашей стране не только возможны, но и необходимы, хотя это могут быть изменения и к лучшему, и к худшему.
Между диссидентами существует немало точек зрения на характер, сущность и методы тех изменений, которые желательны в нашем общественно-политическом строе. Было бы слишком обременительным излагать здесь все эти споры. Могу сказать только, что я поддерживаю ту точку зрения, согласно которой изменения к лучшему в общественном, политическом и экономическом строе нашей страны возможны не только благодаря давлению народа (отчасти и диссидентов) или давлению Запада. Эти изменения возможны и по инициативе «сверху». В истории всех крупных стран, включая США, Германию, Японию, Англию, Россию, многие важнейшие реформы, а иногда и ненасильственные революции происходили при сочетании давления «снизу» и инициативы (или уступок) «сверху».
Насильственные революции происходят в разных странах мира только тогда, когда правящие классы этих стран оказываются слишком консервативными и не замечают ни растущего недовольства народа, ни своей возрастающей слабости. Португалия, Иран, Афганистан, Абиссиния не смогли избежать в 70-е годы насильственных революций, а также отдельных вспышек гражданской войны. Еще более длительная и кровопролитная гражданская война сопутствовала политическим переменам в Южном Вьетнаме, Камбодже, Анголе, а недавно и в Никарагуа. Более предпочтительными были формы, в которые вылились демократические революции в Испании и Греции. Александр II, Бисмарк, Франклин Рузвельт, Никита Хрущев, де Голль – разве эти люди, прославившиеся своими крупными реформами, не были одновременно главами своих государств? Эти примеры можно продолжить.
Мои взгляды на этот счет часто намеренно искажаются для удобства полемики. Считается почему-то, что я жду демократизации как милости, которую правящие круги СССР даруют своему народу безо всякой борьбы с его стороны. Это неверно, и сам я вот уже семнадцать лет веду такую борьбу доступными мне средствами, используя при этом и возможности самой системы, которые отнюдь не так малы.
Мои надежды на возможность разумных инициатив «сверху» разделяли, в сущности, почти все диссиденты. Этим объяснялась, в частности, та массовая «петиционная кампания», которая началась в 1965 году и продолжалась почти до середины 70-х годов. Письма и призывы, обращенные к руководителям СССР, писали сотни людей, как диссидентов, так и многих видных ученых, писателей, артистов, хозяйственных деятелей, отнюдь не являющихся диссидентами. Даже Солженицын при всей своей неистовости написал известное «Письмо вождям СССР», где выражал «хотя и слабую, но не нулевую» надежду на то, что его предложения будут рассмотрены с вниманием на заседании Политбюро. Я не считаю, что эти письма были бесполезными. Отчасти именно они помешали частичной реабилитации Сталина, улучшили положение отдельных политзаключенных. Но было бы наивным ждать от всех этих петиций слишком большого эффекта, ибо все это еще отнюдь не настоящее давление «снизу». Болезни нашего режима и сегодня остаются очень серьезными и трудно поддаются лечению. Но эти болезни, во-первых, не смертельны, а во-вторых, я никак не могу назвать их практически неизлечимыми.
Наиболее существенными, вероятно, являются разногласия между диссидентами по вопросу о том, улучшается или ухудшается положение в СССР в политическом, экономическом и культурном отношениях. Значительная часть диссидентов упорно доказывает, что положение в стране становится все хуже и хуже во всех отношениях. Они ссылаются, например, на усиление репрессий против диссидентов и явное желание властей прекратить деятельность небольших организаций диссидентов, возникших в начале 70-х годов. Их оппоненты говорят, что во второй половине 60-х годов подобного рода репрессии были еще более суровыми, особенно усилившись в 1968–1969 годах.
В 70-е годы репрессии не прекратились, но общие масштабы их заметно сократились. Стала возможной сравнительно массовая эмиграция из СССР, сначала евреев, а затем и многих людей других национальностей. 70-е годы были временем определенной разрядки международной напряженности, что отразилось и на внутреннем положении в стране. Ослабление движения диссидентов внутри страны и падение роли Самиздата компенсировалось быстрым увеличением различных русских изданий за рубежом и усилением давления общественного мнения Запада.
В результате недостатки режима ощущаются сегодня более остро, чем в 60-е годы, а пороки системы кажутся более нетерпимыми. Но эти вполне понятные чувства не должны мешать нам трезво оценивать всю историческую перспективу. Так, например, специалист по истории философии и социально-политическим течениям Нафтали Прат писал в журнале «Время и мы», что существует огромная разница между режимом сталинского террора, убивавшего в зародыше всякую общественную инициативу, и ограниченным по масштабу, но все же весьма реальным смягчением политического режима в СССР, который был осуществлен во времена Хрущева и который продолжал приносить плоды в 70-е годы. [141]
Примерно то же самое можно сказать и о материальном положении в стране. Я вовсе не собираюсь приводить здесь растущие цифры жилищного строительства, производства телевизоров и холодильников, продажи легковых автомобилей, кожаной обуви или мебельных гарнитуров и ковров. Но я не буду говорить и о явном ухудшении продовольственного положения как в столице, так и особенно в провинции. Все это крайне сложные проблемы, ибо вместе с ростом производства товаров народного потребления вырастают потери от безхозяйственности, ухудшаются экономические показатели. Вместе с увеличением производительности труда возрастают алкоголизм и наркомания, увеличивается количество профессиональных заболеваний и производственных травм. Крайне важно отметить другую сторону этой проблемы: из-за инфляции и неравномерного роста заработной платы наряду с улучшением материального положения многих слоев населения (колхозники и рабочие совхозов, особенно в пригородных районах, работники обслуживающего труда и торговли, рабочие многих отраслей производства и неквалифицированные рабочие и др.) в последние двадцать – двадцать пять лет происходило явное ухудшение материального положения других слоев населения (научные работники младшего и среднего уровня, медицинский персонал, рабочие угольной промышленности, почтовые работники, рядовые работники театров, редакторы, а также большинство пенсионеров).
Если говорить о международном положении СССР, то при всей сложной и быстро меняющейся обстановке в мире нельзя не отметить позитивных результатов прекращения «холодной войны» и некоторой разрядки в отношениях между Востоком и Западом. Я считаю поэтому, что при подведении общего баланса прошедшего десятилетия более правильно говорить об улучшении, чем об ухудшении политического и экономического положения в СССР к концу 70-х годов, в сравнении с тем, что мы имели к концу 60-х годов.
Моя молодость прошла в сталинские времена. Тогда был арестован и погиб на Колыме мой отец. Зимой 1938 года наша семья была выброшена на улицу и лишена московской прописки. И еще очень долго мы с братом подвергались дискриминации как «дети врага народа».
Потом, во времена Хрущева, положение дел в стране стало меняться к лучшему. Еще в конце 50-х годов был весьма популярен анекдот о кладбищенском стороже: «По кладбищу ходит сторож и, постукивая по крестам, говорит: “Вы реабилитированы, вы реабилитированы, вы реабилитированы…” Через шесть-семь лет тот же постаревший сторож, постукивая по новым крестам, говорит: “Ваша очередь на комнату подошла. Ваша очередь подошла. Ваша очередь на комнату подошла…“ Еще через пятнадцать-двадцать лет по сильно увеличившемуся кладбищу ходит тот же совсем состарившийся сторож и, постукивая по новым крестам, говорит: “Ваша облигация выиграла, ваша облигация выиграла, ваша облигация выиграла…”»
Вероятно, этот анекдот был сочинен вскоре после того, как Хрущев отложил на двадцать лет «по просьбе трудящихся» погашение облигаций всех государственных займов.
Жизнь моей семьи в последние тридцать лет похожа на этот рассказ. Мой отец был реабилитирован в 1956 году, через пятнадцать лет после смерти в концлагере. Мама умерла в 1961 году в Тбилиси, а через год на адрес ее сестры пришло извещение из горисполкома, в котором было написано: «Гражданка Медведева. Ваша очередь на комнату подошла». И только в последние три-четыре года я начал получать деньги за облигации, которые тридцать-сорок лет назад приобретали мои родители.
Хотя у меня и Жореса было немало недоразумений с властями, наша жизнь оказалась все же не столь тяжелой, как жизнь родителей. Я продолжаю жить в кругу семьи, мой брат тоже, хотя он и оказался в вынужденной эмиграции. Мы получили квартиру в Москве, когда мне было около сорока лет, и я сам получаю деньги за приобретенные мной двадцать – двадцать пять лет назад облигации государственных займов.
Наши дети начинают жизнь в несравненно лучших условиях, чем начинали ее мы сами. К тому же наши дети больше знают и понимают в свои годы, чем знали и понимали мы в таком же возрасте. И я надеюсь, что жизнь наших детей сложится лучше, чем наша жизнь и жизнь наших родителей.
Это вовсе не означает, что «все идет к лучшему в этом лучшем из миров», как иронизирует в мой адрес Егидес. Наш мир далеко не лучший, но и не худший. И если что-то идет у нас к лучшему, то только в результате многих усилий и жертв. Прогресс остается, однако, все еще слишком медленным и неполным. И его ускорение не придет само собой…В оживленную, а временами и ожесточенную дискуссию о путях и методах возможных изменений в СССР (а стало быть, и о позиции «братьев Медведевых») включился недавно и популярный русско-еврейский эмигрантский журнал «Время и мы». На его страницах уже цитировавшийся нами Нафтали Прат утверждает, что положение в СССР не столь уж безнадежно, хотя пробуждение скрытых в народе способностей к самодеятельности произойдет, по всей видимости, лишь в результате соперничества различных группировок в верхах, что ограничит или даже парализует нынешний всевластный репрессивный аппарат.
«История восточно-европейских стран, – пишет Н. Прат, – свидетельствует о том, что такое развитие событий по крайней мере мыслимо. Конечно, в России ему препятствует несравненно большая мощь режима и почти абсолютная пассивность и деполитизация народных масс. Все же, если демократизация советского режима вообще возможна, она пойдет, вероятнее всего, этим путем. Всякой большой революции в истории, как правило, предшествует довольно длительный период “просвещения”. Философы-просветители, подготавливающие во Франции ХVIII века почву для великой революции, сами не были, в большинстве своем, революционерами. Они были сторонниками “просвещенного абсолютизма” и возлагали все свои надежды на реформы сверху… Иллюзии просветителей были необходимым моментом в предреволюционном интеллектуальном развитии Европы. Быть может, иллюзии Роя Медведева также предвещают возникновение мощного общественного мнения в СССР, которое будет способно оказать давление на политическое руководство и подтолкнуть его в сторону демократизации». [142]
Часть этих моих «иллюзий» (о сочетании социализма и демократии) разделяет и защищает, собственно, и сам Нафтали Прат. Разбирая некоторые из моих работ, автор статьи пишет, в частности, следующее: «В осторожной и слегка завуалированной форме Рой Медведев атакует самый священный принцип коммунистической диктатуры – принцип неограниченной монополии партии. Одного этого достаточно, чтобы признать его публицистику в высшей степени ценным проявлением демократического духа, глубоко враждебного тоталитаризму. Рой Медведев является ведущим представителем конструктивной оппозиции в Советском Союзе. Позднее, в одной из своих статей, он еще более заостряет этот свой тезис, утверждая целесообразность и желательность создания в СССР новой социалистической партии. Для тех русских эмигрантов, которые страдают идиосинкразией ко всему, что ассоциируется со словом „социализм“, предложение Роя Медведева, естественно, не обладает никакой привлекательностью. Однако его следует рассматривать в контексте современной советской действительности, чтобы понять, какой огромный политический, социальный и психологический переворот подразумевается реформой, предлагаемой Роем Медведевым. И реформы, о которых он мечтает, включают гарантии подлинной свободы слова, печати, право публикации газет и журналов, выражающих взгляды различных политических направлений, а также внесения в советскую политическую систему того принципа разделения властей, который вызывал в свое время осуждение Ленина…
Конкретные предложения Роя Медведева по усовершенствованию управления экономикой и по внесению в экономику элементов демократии заслуживают серьезного внимания со стороны тех, кто реально озабочен будущим России. Эти предложения так же внешне скромны и осторожны, как и другие его рекомендации, однако в них таится огромная взрывчатая сила. Принятие этих рекомендаций могло бы стать отправным пунктом для развития Советского Союза к подлинному демократическому социализму… Я подозреваю, – замечает Н. Прат, – что победа демократического социализма в СССР лишь огорчила бы многих критиков Роя Медведева, ибо она показала бы наглядно возможность существования такого общественного устройства, которое представляется им нереализуемой утопией. Но я не принадлежу к их числу». [143]
К числу таких именно критиков принадлежит, однако, Дора Штурман, которая в том же номере журнала в крайне путаной, полной противоречий статье, озаглавленной «Оппозиция ее величества», пытается доказать, что демократия совместима только с рыночным капитализмом, но ни в коем случае не с социализмом. «Я не принадлежу к числу тех, – заявляет Д. Штурман, – кого победа демократического социализма в СССР лишь огорчила бы, так как доказала бы не мою правоту. Но к великому своему огорчению, не найдя никаких доказательств обратного, я пришла к точке зрения тех, кого Прат упрекает в пристрастии и злорадстве. Строй, не являющейся современной западной конкурентно-рыночной демократией и тем не менее демократический, есть “нереализуемая утопия”. Для нашей эпохи – во всяком случае. Вперед на века заглядывать не берусь, так же как и ориентироваться на каменный век». [144]
Неудивительно, что для Доры Штурман полностью неприемлемы и те идеи, которые я высказываю в своих книгах и статьях. Ибо «Рой Медведев надеется без потрясений и взрывов добиться самопреобразования тоталитарного социализма в социализм демократический… Рой Медведев хочет постепенно внести в советский строй черты или несовместимые с фундаментальными свойствами этого строя, или вообще неосуществимые». [145]
Впрочем, Дора Штурман также утверждает, что она ни в коем случае не стоит за потрясения и взрывы в России. Пусть уж лучше все остается так, как есть, а тот, кому это не нравится, может ведь и уехать из СССР.Еще в 1962–1963 годах, начиная свою книгу о Сталине, я понимал, что эта работа заведет меня очень далеко. Но уже тогда я придерживался правила – не спешить. Я должен был вести работу и как историк, вскрывая постепенно слой за слоем историческую почву. Я должен был вести работу и как политик, постепенно продвигаясь от прошлого к настоящему. Только первый этап этой работы (до издания книг «К суду истории» и «Социализм и демократия») занял около десяти лет.
Выступая за демократизацию советского общества, я никогда не верил в быстрые изменения. Слишком уж велика у нас инерция прошлого и слишком велик запас прочности той системы, которую предстоит реформировать. Даже более простые с политической точки зрения реформы Н. С. Хрущева нередко терпели неудачу именно из-за ненужной и неумной спешки. И дело не просто в том, что я сторонник не революции, а эволюции. Я считаю, что в данном случае выбирать просто не приходится, так как в стране нет условий для революции, а есть лишь некоторый минимум условий для эволюции режима. Конечно, мы не должны пассивно ждать каких-то прогрессивных изменений, но по возможности необходимо ускорить этот процесс. Однако диссиденты должны выбирать себе задачи по силам, ибо в противном случае наступает быстрое разочарование.
Этот подход к решению проблем, стоящих перед страной, крайне раздражает многих диссидентов. Они не хотят и не умеют ждать и согласны принимать участие в движении только в расчете на быстрый успех.
Незадолго до высылки Солженицын написал свое знаменитое эссе «Жить не по лжи». Солженицыну казалось тогда, что жизнь нашей страны можно изменить в считаные месяцы. На одной из пресс-конференций в конце 1974 года корреспондент «Ассошиэйтед пресс» спросил Солженицына: «Вы как бы призываете к пассивному сопротивлению, моральному подходу и к возрождению моральному. Как вы думаете, сколько лет для этого понадобится? Сколько поколений?»
Солженицын ответил: «Главное, что мешает нам всем жить, это именно идеология. И именно от идеологии мы должны отклониться, отстраниться. Спрашивают меня: сколько понадобится на это поколений?.. И когда братья Медведевы или Рой Медведев предлагает, в общем, ждать смягчения, которое наверно наступит при следующем поколении руководителей – вот там идет действительно счет на поколения. В том пути, который предлагаю я, счета на поколения нет, и тысячелетиями это тоже не измеряется, ни даже столетиями. Тут так вопрос: или начнется это нравственное движение, или не начнется. Если оно в ближайшие годы не начнется, я признаю, что предложил неосуществимый путь, и тогда нечего его и ждать. А если оно начнется, хотя бы в десятках тысяч, то оно преобразит нашу страну в месяцы, а не в годы. Оно произведет лавинное движение и будет не эволюцией, а революцией». [146]
В том же 1974 году пресловутый А. Авторханов писал в журнале «Посев»: «Призрак бродит по СССР – призрак революции… Как бы гуманисты не проклинали революции, и как бы социологи не спорили о ее правомерности, революции и войны такие же закономерные явления в обществе нового времени, как землетрясения в природе и инфаркт сердца у людей. Образно говоря, революция и есть инфаркт сердца у дряхлого социального организма».
Пожалуй, только для успокоения многих противников новых революций Авторханов далее писал, что «революции бывают не только кровавые и насильственные, но и бескровные, мирные». Но сам-то Авторханов явно склоняется к насильственной революции, ибо ведь в СССР слишком много людей, которые будут защищать свои привилегии. [147]
Иное ощущение у Андрея Синявского. На вопрос о том, что могут сделать советские эмигранты для изменения режима в СССР, Синявский ответил: «Советское общество до того непроницаемо и прочно, что мы можем молотить кулаками и кричать во весь голос, и ничего не изменится». [148]
Я решительно не согласен в этом вопросе ни с Солженицыным, ни с Синявским.
Политическую действительность послесталинской эпохи в нашей стране я склонен сравнивать не с шатким зданием, которое может рухнуть в течение нескольких месяцев или даже лет от одних лишь книг и обращений, как это думает (или думал недавно) Солженицын. Но я не могу сравнить нашу действительность и с небывало прочной и непроницаемой стеной, как это делает Синявский. Наша жизнь рождает у меня образ трясины, оставшейся после недавнего разрушительного и грозного разлива вышедшей из берегов стремительной и могучей реки. Это наводнение принесло тяжелые разрушения и привело к большим жертвам. Но бушующие потоки воды уже возвращаются в свое естественное русло. Некоторые из районов страны уже почти полностью очистились от воды, и жизнь там идет более или менее нормально. Но большие пространства занимает еще опасное болото со следами разрушенных зданий и вырванных с корнем деревьев. Это болото нужно осушить не только для того, чтобы расчистить для жизни людей новые территории, но и для того, чтобы предупредить возможность новых разрушительных катастроф. Однако люди в нашей стране по-разному относятся к этой задаче. Одни из них уже неплохо устроились и мало вспоминают о постигшем страну бедствии. Другие даже не знают о нем и принимают действительность такой, какова она есть. Третьи боятся трясины и стараются держаться подальше от нее. Они надеются, что время и солнце когда-либо высушат эту трясину, и они смогут вернуться в свои разрушенные дома. Находятся смельчаки, которые мужественно идут вперед к реке, не разбирая дороги. Многие из них, однако, гибнут в трясине или, с трудом выбравшись из нее, с ужасом возвращаются назад.
Я не принадлежу к этим смельчакам. Да, я осторожен, но я не склонен ждать, пока все устроится само собой. Я стараюсь постепенно и осторожно продвигаться вперед, выискивая более твердые участки земли, и везде, где возможно, прорыть хотя бы небольшие канавы для спуска воды.
Я не одинок в этой трудной работе. Ее делают многие, кто в больших, кто в меньших размерах. Но это дело добровольцев, ибо наша работа продолжает оставаться все еще очень опасной и требует не только осторожности, но и умений, приобретаемых лишь длительным опытом. Но это необходимая работа, и было бы хорошо, чтобы в нее включалось все больше и больше честных людей. Конечно, время и солнце делают свое дело, но этот процесс идет все еще очень медленно, а между тем никто не может исключить возможности новых разрушительных наводнений. Поэтому надо как можно быстрее осушить и освоить затопленные недавно земли и потом сообща воздвигнуть на берегах бурной реки прочные дамбы, чтобы предохранить нашу страну от новых катастроф. Эту работу, конечно, могут сделать уже не одиночки или отдельные группы смелых граждан, но весь народ. Я твердо надеюсь, что эта работа будет в конечном счете проделана.Недавно я потерпел поражение при выборах в Верховный Совет СССР в Свердловском избирательном округе г. Москвы, получив всего несколько сот голосов против 150 тысяч голосов, полученных балериной Бессмертновой. Несмотря на это, ко мне и сегодня приходит много людей, как знакомых, так и вовсе незнакомых. Я рад, если могу дать полезный совет или оказать посильную помощь. Однако у многих людей имеется странное представление о моих возможностях. Один инженер из Одессы просил помочь в восстановлении авторства его изобретений в судостроении. С такой же просьбой обратился ко мне и один геолог. Но я мало что понимаю в судостроении и геологии. Мне приносили книги с изложением новой теории шизофрении с посрамлением всех шизофренических теорий главного психиатра СССР академика Снежневского. Но и психиатрия – не моя специальность.
Молодая учительница из Вологды приходила ко мне с просьбой познакомить ее с иностранцем. Она хочет выйти замуж и уехать за границу, но она не желает выходить замуж за еврея, как сделала ее сестра. Но все иностранцы, которых я знаю, женаты, и я не хочу разбивать их семьи.
Пожилая дама, получившая вызов из США, обратилась с просьбой помочь ей в покупке меховых изделий и драгоценностей. У нее много денег, но советские деньги, оказывается, не нужны в США. Но я не занимаюсь коммерцией.
Шестидесятилетний писатель из провинции просил издать за границей два его романа и несколько повестей. Он обещал мне половину гонорара. Но мне не понравился его первый роман, и я не стал читать остальное. Уходя, писатель спросил: «Не мучит ли вас совесть? Возможно, вы отказали в помощи будущему Пушкину».
Другой сорокалетний писатель из Москвы также просил напечатать на Западе его роман. Он не обещал поделиться гонораром, но, напротив, попросил дать ему десять тысяч рублей.
«Опубликовать мой роман, – сказал он, – это то же самое, что взорвать на себе атомную бомбу. Но я должен сначала обеспечить жену и сына…» Я не возражал против материальной помощи, хотя и в меньших размерах. Но я хотел сначала сам прочитать опасный роман. Писатель отказался его показать и, естественно, не получил денег. И его атомная бомба пока не взорвалась.
Группа старых большевиков ознакомила меня в 1975 году с проектом телеграммы, которую они собирались послать в Португалию Алвару Куньялу. В этой телеграмме содержалось требование немедленно разогнать Учредительное собрание Португалии, где коммунисты получили меньшинство голосов, и таким образом установить диктатуру пролетариата. Я с трудом смог убедить своих посетителей, что обстановка к Португалии все же не та, что была в России в самом начале 1918 года. Впрочем, некоторые из них ушли уверенные в том, что я являюсь оппортунистом меньшевистско-эсеровского толка.
Пенсионер из Чернигова принес ко мне три тома новой натурфилософии, в которой объяснялись все основные законы природы, а заодно давалась краткая история человечества. Советские издательства отвергли эту рукопись, и посетитель просил переслать ее А. М. Гольдбергу ведущему комментатору русской редакции «Би-Би-Си». Я отказался быть посредником в столь деликатном деле. Энергичный черниговец сумел вручить свою громадную рукопись корреспонденту «Би-Би-Си» Филиппу Шорту. Однако и английские издательства что-то не спешат издавать это сочинение.
Один пожилой человек из Москвы прислал мне письмо, в котором требовал в самой категорической форме, чтобы я как марксист решительно выступил против увлечения молодежи западной музыкой («битлусовщиной») и в защиту марксистко-ленинской музыкальной культуры. Этот пенсионер утверждал, что слово «шлягер» было популярно еще в середине 20-х годов среди бандитов и грабителей квартир. Одновременно он утверждал, что главные пропагандисты западной музыки сидят сейчас на советском телевидении и радиовещании и что Комитет по радиовещанию и телевидению превратился в «главный очаг сионисто-расистов в СССР». Я не ответил на это письмо.
Вот уже несколько лет я получаю письма или разговариваю по телефону с жителем небольшого города Куркино, который просит помочь ему провести у него дома пресс-конференцию всех иностранных корреспондентов. Он написал, по его словам, великое произведение, «которое создается раз в столетие или даже в тысячелетие». Это произведение основано на восемнадцати главных принципах, опубликование которых приведет к немедленной и бескровной победе справедливости в мире на всей планете. Но он согласен обнародовать свои принципы только в присутствии всех московских корреспондентов. Однако иностранные корреспонденты не торопятся ехать в городок Куркино.
Еще до смерти Мао Цзэдуна ко мне пришел молодой рабочий из Харькова. Он регулярно слушал китайское радио, и ему очень нравилось все то, что происходило в Китае. «Там действительно выгоняют всех бюрократов, которые начинают идти по капиталистическому пути». Этот рабочий просил помочь ему эмигрировать в Китай. Он уже дважды перелезал через ограду в китайское посольство, но работники посольства ему не верили и выдворяли на улицу – прямо в руки московской милиции. Но я ничем не мог помочь этому харьковчанину, так как у меня нет никаких знакомств в китайском посольстве.
Видный ученый предложил мне создать подпольную типографию. Оборудование для нее уже имелось в его институте. Но нужны были подходящие рукописи. Я не поддержал этого начинания.
Три пенсионера из органов НКВД сталинских времен, не скрывая своего прошлого, предложили мне написать листовку. «Вы работаете по старинке, не учитывая технических возможностей века. Мы можем сделать так, что после взрыва нескольких чемоданов на крышах вся Москва будет усеяна вашими листовками». Но я не поддержал и этого начинания.
Я не поддержал и двух людей, предложивших мне план похищения секретаря обкома с целью освобождения нескольких диссидентов.
Однажды в четыре часа ночи меня разбудил телефонный звонок из Нью-Йорка. Американец литовского происхождения просил защитить его от преследований ЦРУ, которое грозит уволить его из Колумбийского университета и следит за каждым его шагом. Я посоветовал ему обратиться в комиссию сената по расследованию деятельности ЦРУ. «И потом, не надо звонить мне ночью». «Какая ночь, – удивился мой собеседник, – у нас тут ярко светит солнце».
Полемизируя с Солженицыным по поводу его известного «Письма вождям…», я написал в одной из статей, что нашей стране, помимо всего прочего, нужна оппозиционная социалистическая партия, которая сохранит все выдержавшие испытание временем элементы социалистической и коммунистической идеологий, но которая будет свободна от догматизма нынешней коммунистической партии. Это будет партия, не обремененная ни грузом преступлений и ошибок прошлого, ни страхом перед демократией.
После публикации этой статьи ко мне пришла группа совершенно не знакомых мне людей. Они сообщили, что согласны составить оргкомитет будущей социал-демократической партии. Но для начала они требовали, чтобы Второй Интернационал перевел на их счет крупные суммы валюты и как зарплату, и как необходимое обеспечение их семей на случай ареста. «Большевики получали деньги от Саввы Морозова, – сказали они мне. – Почему же мы не можем получить их от Вилли Брандта. Пусть только платят деньги. А уж мы найдем способ переправить их в СССР». Я выразил сомнение, чтобы экономный Вилли Брандт перевел требуемую сумму не знакомым никому людям, и не переслал ему всученное мне «Обращение». Видимо, поэтому в нашей стране до сих пор нет оппозиционной социалистической партии.
Один из визитеров заявил, что может вернуть меня к жизни через сто или двести лет точно в том виде, в каком я пребываю на этой земле сегодня. Я сказал, что был бы рад вернуться снова на свет Божий, но уже в каком-нибудь другом обличье. Например, я не против был бы родиться женщиной. «Странно слышать это от интеллигентного человека», – ответил мой посетитель и не открыл своего секрета.Из сказанного видно, что многие недоразумения и претензии связаны с тем, что даже знакомые люди не всегда хорошо понимают мои взгляды и возможности. Это и заставило меня задуматься о написании автобиографии. Как ни скучна порой жизнь независимого ученого, однако и его воспоминания и размышления могут представить интерес для некоторых читателей.
Я написал большую часть своего «Предисловия» в конце 1978 года и сделал к нему небольшие добавления в 1979 и в 1980 годах. Сейчас приближается конец 1982 года, и я решил сделать в этом тексте еще некоторые добавления. Я работал в эти два года относительно спокойно, но продолжаю и сегодня слышать вопросы о причинах какой-то особой «экстерриториальности Роя Медведева».
Не так давно меня навестил американский советолог, профессор истории. Он пришел без предупреждения уже вечером. Мы долго беседовали, и в полночь я вышел, чтобы проводить гостя к стоянке такси. Он очень часто оглядывался, осматривая кусты и деревья, которых так много в нашем квартале. Наконец он воскликнул: «О, господин Медведев, я вижу, что вы не такой большой диссидент. За вами никто здесь не наблюдает!»
Я думаю, что это не совсем так и что моя работа и мои связи являются предметом внимательного наблюдения. Но это не мелочное наблюдение из-за соседнего куста.
Ливио Дзанутти, корреспондент итальянской газеты «Стампа», вместе с которым мы написали книгу «СССР перед 2000 годом» (Милан, 1980), как-то писал: «Рой Медведев – человек уравновешенного темперамента, спокойный человек; и все-таки он, как немногие другие, способен вызвать противоречивые суждения. На протяжении более чем десяти лет он активно борется в стане советских диссидентов, будучи также очень известным историком. Но вот и среди диссидентов он оказался субъектом и объектом многочисленных споров, становящихся иногда непримиримыми. Однажды вечером я слышал, что говорила Раиса Лерт, убежденная марксистка, более пятидесяти лет состоящая в партии Ленина и в тот момент из нее еще не исключенная, хотя и она тоже – откровенная диссидентка. Так вот она сказала про него: “У Роя Александровича светлый ум, но он ведет себя вроде как кот перед кипящим супом”».
Вероятно, Р. Лерт казалось, что она сказала обо мне что-то особенно обидное. Но все это меня нисколько не задевает. Я очень долго поддерживал с Р. Б. Лерт деловые и дружеские связи и думаю, что это сотрудничество было полезно для нас обоих. Однако в последние годы я стал замечать, что ей очень хочется, выражаясь ее же словами, запустить руки в кипящий суп в надежде выудить оттуда что-либо более привлекательное. Постепенно вокруг нее образовался кружок столь же нетерпеливых людей. Они сумели выудить из кипящего супа журнал «Поиски», оказавшийся одним из наименее интересных альманахов в нашей неофициальной литературе. Но сколько людей обварило при этом руки? Сколько людей было арестовано, подвергнуто допросам, обыскам и угрозам? Сколько покинуло страну? Сколько отказалось вообще от дальнейшей борьбы или занято теперь сведением счетов внутри редакции? И что делает сегодня сама Р. Б. Лерт? Вместо блестящих политических и литературно-критических статей она пишет теперь протесты против проведенного у нее обыска и филиппики в адрес райкома, исключившего ее из партии.Репрессии последних лет не вызвали особого волнения внутри советского общества, большая часть протестов по этому поводу раздавалась из-за границы. К тому же на место десятков ушедших или уехавших приходят сегодня лишь единицы. В одном из анонимных документов «демократического движения» можно прочесть: «В действительности именно репрессии последних лет сопровождались небывалым откликом протестов и взлетом авторитета демократического движения, продемонстрировавшего нравственную стойкость своих членов, лидеры ДД известны всему миру…» Желаемое в этом документе выдается за действительное, а многочисленные протесты эмигрантской и западной печати лишь оттеняют пассивность внутри страны.
Такое положение рождает в поредевшей среде диссидентов различные настроения. Вместо недавних заявлений о мессианской роли России и об особом призвании ее народа, который лишь один может услышать голос Бога (Шафаревич) и закрыть при помощи своих «мощных рук» и «умудренного сердца» «врата адовы» (Солженицын), мы начинаем все чаще и чаще слышать порицания в адрес России и ее народа, повторяющие в разных вариантах слова Чернышевского: «Рабы, снизу доверху все рабы!» или слова Лермонтова о «немытой России».
И если раздаются все чаще требования о том, что «Карфаген должен быть разрушен», то их авторы обращаются чаще всего лишь к странам Запада. Вот что писал недавно в газете «Русская мысль» А. Федосеев, в недавнем прошлом крупнейший советский ученый и директор Института радиоэлектроники, оставшийся «невозвращенцем» во время одной из командировок во Францию: «Нужно переходить в наступление уже сейчас. Прежде всего нужно и можно ликвидировать военный плацдарм социализма в западном полушарии – Кубу. Это уже резко нарушит равновесие в пользу свободы. Сейчас СССР, безусловно, не решится из-за Кубы развязать войну. Затем, нарастив идеологический и военный потенциал и решимость, нужно поддержать борьбу рабов социализма в Польше и ГДР, как наиболее слабые „звенья“, оторвав их от социалистической системы. При достаточной решимости Запада (вплоть до войны) СССР и в этом случае не рискнет начать воину с Западом… А правители социализма, конечно, будут цепляться за каждый лишний день своего царствования: „Умри ты сегодня, а я уж лучше умру завтра“. Отрыв Польши и ГДР приведет в действие упомянутые потенциальные силы освобождения от рабства социализма внутри СССР. Начнется отрыв и других сателлитов и крушение социализма в СССР, а затем в Китае и во всем мире…» [149]
Люди, сочиняющие подобные планы, и газеты, их публикующие, никак не могут относиться с симпатией к человеку, который, находясь в СССР, выступает по-прежнему за хороший социализм, и которому гораздо ближе пацифистские движения Запада, чем зловещие планы всеобщей милитаризации.
Я публично осудил высылку в г. Горький академика А. Д. Сахарова и еще более жестокие репрессии, которым подверглись в 1980–1981 годах более сотни советских диссидентов. Но я не могу солидаризоваться ни с большинством последних заявлений Сахарова, ни с многими другими аналогичными заявлениями, продиктованными главным образом чувством разочарования и отчаяния.
Итальянский журнал «Экспрессо» посвятил одну из статей судьбе советских диссидентов. Здесь имеется большая фотография А. Д. Сахарова, прощающегося с женой перед отъездом в Горький. И рядом фотография Р. Медведева, спокойно работающего в своем московском кабинете. Эти фотографии снабжены следующим текстом: «Какое заключение можно вывести? Может быть, вот какое. Медведев, который проницательно и смело изучал корни сталинизма, понял, что для европейского Востока подготавливается долгий путь репрессий и процессов. Единственный выход: самому “нормализоваться”, чтобы сохранить хрупкую надежду на возможную, хотя и в высшей степени отдаленную, демократическую эволюцию советской системы». [150]
Автор статьи в итальянском журнале К. Корби, видимо, также считает, что он сказал что-то особенно для меня обидное.
Но меня все эти заключения нисколько не задевают. И я не собираюсь «нормализовываться», но и не собираюсь выступать с какими-то отчаянными призывами к Западу; демократическая эволюция советской системы – это действительно не самое ближайшее будущее. Приблизить и ускорить эволюцию советской системы могут не вздорные планы А. Федосеева и не «хрупкие надежды», а продолжение систематической, настойчивой и непрерывной работы, в которой каждому желающему найдется место, если он будет заботиться о долговременном результате, а не о кратковременном и шумном «паблисити».Из-за нерегулярной работы почты некоторые из материалов доходят до меня с большим запозданием. Так, например, я лишь недавно узнал о заявлении Л. Плюща о том, что все друзья будто бы покинули Роя Медведева. Когда А. Галича спросили незадолго до его гибели о «левом фланге» в движении диссидентов, он воскликнул: «Откровенно говоря, кроме братьев Медведевых я вообще уже не знаю, во всяком случае в Советском Союзе, никого, кто бы искренне считал себя марксистом… Во всяком случае среди моих знакомых они не попадались… Позиция братьев Медведевых вообще вызывает изумление… Никто до конца им не верит. Трудно сейчас верить разумным людям, обладающим той полнотой информации, которой обладают они, а между тем продолжающим упорно закрывать глаза на вещи совершенно самоочевидные. Стало быть, каждый в меру своей испорченности предполагает какие-то тайные замыслы, которые они ставят перед собой. Знаете, я человек не слишком испорченный и не предполагаю никаких зловредных умыслов… Но создается странное впечатление: вот идет человек, идет совершенно нормально, а на каком-то этапе по непонятной причине начинает спотыкаться. Прямо какая-то черная магия».
Я встречался с Галичем несколько раз перед его отъездом на Запад, и он читал некоторые мои книги и рукописи. Я уже не помню деталей наших продолжительных бесед, но хорошо помню, что тема «черной магии» тогда еще не возникала. В эмиграции взгляды людей нередко меняются очень быстро.
Мне уже приходилось говорить и писать, что среди советских диссидентов постепенно распространилась совершенно ложная система ценностей. О человеке начинают судить не по тому, что он сделал для движения, а по тому, сколько раз его подвергали допросам, обыскам, сколько лет он провел в лагере, ссылке или психиатрической больнице. Показательно, что в полемике с моим братом Л. Плющ не нашел ничего лучшего, как заявить, что если Жорес провел в «санатории» (речь идет о Калужской психбольнице) только семнадцать дней, то он, Плющ, провел около двух лет в тюремной психбольнице. Можно подумать, что длительное пребывание в тюремной больнице делает аргументы Плюща более убедительными!
Я признаю мужество людей, которые были подвергнуты за свои убеждения суровым репрессиям и, несмотря на это, сохранили эти убеждения. Сам я не попадал еще ни в тюрьму, ни в лагерь, ни в психиатрическую больницу. Моя судьба в СССР не является ни типичной, ни такой уж легкой, как это пытаются представить некоторые из оппонентов; жизнь и работа независимого ученого в СССР встречает множество трудностей со стороны властей, которые убеждены, что только люди, состоящие на государственной службе, могут писать и печатать свои книги, подчиняясь при этом всем требованиям цензуры.
Я игнорирую цензуру и издаю свои книги и статьи за рубежом, не испрашивая ни у кого разрешения. Я всегда мечтал работать и писать совершенно свободно, излагая в своих произведениях лишь то, что я действительно думаю и что хочу сказать своим соотечественникам.
К сожалению, я один из немногих, кому удается это делать в Советском Союзе. Почти любой независимый автор в области науки и искусства, если он отходит от официальной «линии», попадает сразу же под сильное давление идеологических и государственных органов, которые используют различные средства, начиная от поношений в официальной печати, и до увольнения с работы, высылки за границу, а порой и ареста. Далеко не всем удается выдержать это давление. Я говорю это не в порядке упрека. Ученые в любой стране вовсе не обязательно должны быть одновременно и умелыми политическими борцами. Когда великого европейского гуманиста ХVI века Эразма Роттердамского упрекнули однажды в недостатке борцовского мужества, он с усмешкой ответил: «Это был бы тяжелый упрек, если бы я был швейцарским наемным солдатом. Но я ученый, а для моих занятий нужен покой». Пока еще ученые в СССР, и в первую очередь независимые ученые, не знают покоя. Остается надеяться, что времена и условия изменятся к лучшему.Насколько мне известно, Солженицын в последние годы не высказывался публично ни о моей, ни о Жореса публицистической деятельности. Но он приступил к переизданию своих работ, при этом один том Собрания сочинений будет специально посвящен солженицынской публицистике. Не лишне поэтому отметить, что Солженицын в полемике со мной очень часто грубо искажал мои мысли и высказывания. Впрочем, он искажает и более известные тексты.
Я приведу, чтобы не утомлять читателей, только один пример. Так, критикуя мою книгу «К суду истории», Солженицын пишет или говорит: «К чему же, оказывается, не был готов так называемый научный социализм или научный марксизм? Оказывается, они только не могли предвидеть, что возникнет опасность для деятелей и членов коммунистической партии! Пока они уничтожали беспартийных, все шло закономерно. И эсеров и меньшевиков… Но вот коммунисты не знали опасностей с неожиданной стороны для самих себя, от руководства своей же партии!»
На 961 странице: «У нашей партии… не было еще в те годы необходимого опыта диктатуры пролетариата. Поэтому партия была застигнута врасплох. Удар по партии (а по народу не в счет. А. С.) пришел совсем не с той стороны…» Партия «не могла знать всех опасностей, которые подстерегали советских людей» на пути к светлому обществу. И в чем же тогда научность марксизма? [151]
Здесь Солженицын разбирает и цитирует мою книгу почти совсем так же, как ее разбирали и цитировали в райкоме и в горкоме КПСС при моем исключении из партии. Только там ставили иные задачи. Но метод был одинаков – прочитать и даже процитировать из книги не то, что там написано, а то, что нужно, чтобы в глазах читателей рецензии (или это читатели «Русской мысли», или члены бюро райкома или горкома) представить книгу в как можно более невыгодном свете.
Да где же это написано в моей книге, что «пока они (т. е. коммунисты) уничтожали беспартийных, все шло закономерно»? Что «народ не в счет»?
Перечисляя волны сталинского террора, я только на странице 377 русского издания начинаю раздел об ударе сталинских карательных органов по основным кадрам партии и государства. Уже в самых первых разделах я осуждаю неоправданный террор Сталина в 1918 году против военных специалистов. Я осуждаю фальсификацию процесса против правых эсеров в 1922 году И пишу о ничем не оправданном терроре 1929–1933 годах в сельских районах, осуждаю террор и раскулачивание. Специальная глава книги (с. 233–280) посвящена незаконным репрессиям против технических и иных «буржуазных» специалистов. Здесь подробно разоблачается фальшь судебных процессов 1928–1931 годов («Шахтинский», «Промпартии», «СМ», «Союзного бюро»). Да и в разделе о репрессиях против коммунистов я везде пишу, что еще больше гибло беспартийных, прежде всего, рядовых рабочих, служащих и колхозников. Примеры этих незаконных репрессий против всего народа, против беспартийных разбросаны во всей книге (например, в разделе «Цель и средство…» о незаконном выселении целых станиц на Кубани, в разделе о репрессиях во время войны и после войны – о незаконных выселениях целых народов и о репрессиях против военнопленных и т. д.). Я во многих местах как раз иронизирую над теми догматически настроенными коммунистами, которые увидели произвол и беззакония только в 1937–1938 годах. Да ведь и в том месте, откуда Солженицын цитирует, пишу не только о партии, но обо всем народе, обо всех советских людях. Но там, где говорится обо «всех советских людях», Солженицын предусмотрительно ставит многоточие.
У меня написано:
«Следует учесть, что у нашей партии и у всех советских людей не было еще в те годы необходимого исторического опыта, опыта диктатуры пролетариата. Они не знали и не могли знать путей и средств борьбы против произвола и беззаконий со стороны своего же советского государства и партии. Первыми встав на путь строительства социализма… советские люди не знали и не могли знать всех тех опасностей, которые подстерегали их на этом пути» (с. 811–812 русского издания).
А вот как цитирует этот абзац Солженицын:
«У нашей партии… не было еще в те годы необходимого опыта диктатуры пролетариата». Партия «не могла знать всех опасностей, которые подстерегали советских людей» на пути к светлому обществу.
Искажения, казалось бы, не очень большие – пропустить в одном случае слова «у всех советских людей», а в другом случае вместо слов «советские люди» поставить слово «партия», правда, вне кавычек. Но эти «малые» искажения решительно меняют концепцию автора книги и позволяют Солженицыну высказывать свои «критические» замечания. Для человека, который призывает всех «жить не по лжи», который написал как-то, что одно слово правды весь мир перевернет, как-то зазорно в полемике со своими оппонентами прибегать к столь мелкому и нечестному искажению истины.Мои отношения с эмигрантской русской печатью в последние годы продолжали ухудшаться. Если и довелось мне прочесть в прошлом году положительный отзыв о моей и Жореса работе в области публицистики и истории, то лишь в статье польского эмигранта Андрея Дравича. Публикуя эту статью, журнал «Континент», естественно, сделал примечание, что он не может согласиться с каждым из положений А. Дравича. Польского исследователя удивляет в первую очередь та резкость и нетерпимость, которой отличается каждая из русских группировок за границей, и те «неистовые свары, которые раздирают русскую эмиграцию». Он деликатно замечает: «Первое слуховое впечатление каждого, кто склонит ухо в эту сторону, – гам перекрикивающих друг друга голосов. Как правило, сильно нажаты эмоциональные педали, нет недостатка в пророческом пафосе, и легче столкнуться с инвективами и требованиями, чем с обдуманными аргументами… Не нужно доказывать, что само эмигрантское положение, с его – так или иначе, всегда присутствующим– привкусом проигрыша, настраивают драчливо, а разреженный иностранный воздух облегчает резкие и не всегда координированные движения. Об этом знают все эмиграции мира, и как это знакомо польской эмиграции! Согласимся же, что русские оказались в особой ситуации, способной многое объяснить. В стране, которую они покинули, на их памяти не существовало общественное мнение и его организмы. Все, что личности, группы, круги, коллективы могли бы высказать по самым важным вопросам, закисало в стране как в бочке, забитой затычкой официальной линии. Ничего странного, что оно вырвалось с шумом. Идет коллективное обучение политической речи, поиск себя самих, настраивание голосов… Эмиграции приходится платить цену этого разрыва, причем, пожалуй, не слишком высокую, даже тогда, когда борцы на ристалище дискуссий считают дозволенными любые приемы. Нормы и формы явятся со временем – имейте терпение». [152]
Разумеется, размежевание среди диссидентов и внутри СССР, и за границей было неизбежно; это процесс, который начался давно и еще далеко не закончился. Одни авторы-диссиденты не приемлют самого понятия социализма, ненавидят его и не считают переход к социалистическим формам прогрессом ни в каких отношениях. Самые уродливые модели социализма XX века эти люди называют вполне адекватным воплощением мыслей и идей Маркса и Ленина. Они вполне соглашаются с тезисами официальной пропаганды, что в СССР уже построен «развитый» и «зрелый» социализм.
Другие авторы называют себя социалистами и выступают за справедливый социальный строй, но они не находят многих признаков социализма и социальной справедливости в современных социалистических странах и делают отсюда вывод, что никакого социализма ни в СССР, ни в ГДР, ни в Польше, ни в Румынии еще не было построено.
Я не придерживаюсь ни первой, ни второй точек зрения. Моя концепция, если ее изложить в двух словах, состоит в том, что в СССР причудливо перемешаны элементы подлинного и псевдо-социализма, и положение можно исправить разумными реформами, опирающимися на поддержку снизу и сверху. Может быть, я не прав, и я охотно приемлю любую дискуссию. Меня удивляет лишь крайняя резкость и нетерпимость, с которой и в кругу диссидентов ведется эта дискуссия. Меня удивляет, что и среди диссидентов то и дело появляются свои «вожди» и свои «боссы», свои «фюреры» и свои «аятоллы». Объявляя себя, как правило, сторонниками христианского мироучения, эти люди нередко проникнуты ненавистью ко всей инакомыслящим и не останавливаются в своей полемике перед грубыми выпадами, злобными нападками и прямой клеветой. Выступая во Франкфурте-на-Майне при вручении ему премии Международной книжной ярмарки 1977 года, польский философ-эмигрант Лешек Колаковский сказал:
«…я повторяю принципы, которые мы можем считать воплощением не только самого лучшего, но и самого неотъемлемого и неизменного в моральных учениях великих религиозных пророков и многих крупных философов:
Нет права на ненависть – ни при каких обстоятельствах. Абсурдно утверждать, что кто-то заслуживает ненависти. Мы способны жить без ненависти.
Отказ от ненависти ни в коем случае не означает отказа от борьбы.
Любая справедливость превращается в несправедливость, если пытаться утвердить ее с помощью ненависти, или, что то же, использование ненависти для утверждения правого дела ведет к его самоуничтожению.
Все эти мысли известны с древнейших времен, часть из них – явно моральные оценки, другие порождены опытом…
…Зло не может не существовать в мире, но горе тому, через кого оно приходит, – и это предостережение тоже один из наиболее прочных камней в здании нашей христианской культуры. Без него, то есть без уверенности, что распространенность зла не оправдывает существующее во мне зло, – понятие ответственности будет пустым и ненужным…»
Я могу лишь согласиться с большинством из этих высказываний Колаковского, хотя не являюсь приверженцем ни христианской, ни иезуитской философии.1978, 1980, 1982
Примечания
1
Медведев Ж. А. Взлет и падение Лысенко. История биологической дискуссии в СССР (1929–1966). М.: Книга, 1993, с. 314.
2
Там же, с. 317.
3
Медведев Ж. А. Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича». Лондон: Macmillan, 1973, с. 51.
4
Солженицын А. Бодался теленок с дубом: Очерки литературной жизни. Париж: YMCA-press, 1975, с. 102–103.
5
Carlisle Olga. Solzhenitsyn and the Secret Circle. New York, Holt. Rinehart and Winston, 1978.
6
Солженицын А. Бодался теленок с дубом, с. 103.
7
Там же, с. 114–116.
8
Бакатин В. Избавление от КГБ. М., 1992, с. 33.
9
Кремлевский самосуд. Секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне / Сост. А. В. Коротков, С. А. Мельчин, А. С. Степанов. М.: Родина, 1994.
10
Там же, с. 12.
11
Там же, с. 14.
12
Там же, с. 10.
13
Там же, с. 27.
14
Литературная газета, 4 ноября 1965 г.
15
Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период. Вермонт, США, Chalidze Publ., 1984, с. 253.
16
Солженицын А. Бодался теленок…, с. 145.
17
Там же, с. 147.
18
Там же, с. 223
19
Там же, с. 242.
20
Там же, с. 243.
21
Там же, с. 243.
22
Медведев Ж. А. Десять лет…
23
Солженицын А. Угодило зернышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания // Новый мир, № 9, 1998, с. 84–85.
24
Medvedev Zhores. In Defence of Solzhenitsyn / The New York Times, February, 26, 1973.
25
Письмо Н. Решетовской Майклу Скаммелу от 19.05.1982. Копия в моем архиве.
26
The New York Times, March 7, 1973.
27
Солженицын А. Бодался теленок…, с. 370.
28
Medvedev Roy. Let History Judge. A. A. Knopf and Macmillan, New York and London, 1972.
29
Решетовская Н. В споре со временем. М.: АПН, 1974. Reshetovskaya Natalya. Sanya. My Life with Alexander Solzhenitsyn. The Bobbs-Merrill Company Inc. New York, 1975.
30
Medvedev Zhores. Getting Solzhenitsyn Stright. The New York Times Book Reviews. Vol. XX, No. 8, 32–34, 1973.
31
Солженицын А. Угодило зернышко…, с. 85–86.
32
Солженицын А. Бодался теленок…, с. 379–381.
33
Там же, с. 386–387.
34
Там же, с. 384.
35
Там же, с. 386.
36
Солженицын А. Бодался теленок…, с. 377.
37
Кремлевский самосуд…, с. 255–287.
38
Там же, с. 255.
39
Там же, с. 255.
40
Солженицын А. Бодался теленок…, с. 414.
41
Там же, с. 414.
42
Там же, с. 414–415.
43
Личное сообщение от Роберта Кайзера, который советовался со мной по поводу этого письма.
44
Кремлевский самосуд…, с. 282.
45
Там же, с. 285.
46
Солженицын А. Публицистика, т. I. Статьи и речи. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1995, с. 182.
47
Кремлевский самосуд…, с. 271.
48
The New York Times, March 3, 1974.
49
Robertson Nan. Solzhenitsyn Gut Parts of Published Text // The Intern. Herald Tribune, March 6, 1974; The New York Times, March 6, 1974.
50
Кремлевский самосуд…, с. 354.
51
Там же, с. 436.
52
Солженицын А. Угодило зернышко… // Новый мир, с. 85–86.
53
Там же, с. 84–86.
54
Медведев Ж. А. Ответ Солженицыну // Афтенпостен, 26 сентября 1974; Дейли Телеграф, 3 октября 1974; Русская мысль, 10 октября 1974; Новое Русское Слово, 12 октября 1974 года.
55
Medvedev Roy. Let History Judge. New York and London, A. A. Knopf and Macmillan, 1971, 1972, pp. 125–131. На русском языке это заявление Якубовича Генеральному Прокурору СССР было впервые опубликовано в книге Роя Медведева «О Сталине и сталинизме», М.: Прогресс, 1990, с. 243–249.
56
Солженицын А. Архипелаг ГУЛаг. В 2 ч. Париж: ИМКА-Пресс, 1973, с. 402.
57
Из Заявления Якубовича Генеральному Прокурору СССР. См.: Медведев Р. А., 1990, с. 244.
58
Там же, с. 244–245.
59
Солженицын А. Архипелаг ГУЛаг, с. 404–405.
60
Двадцатый век. Общественно-политический и литературный альманах / Редактор Рой А. Медведев, вып. I и вып. 2. Лондон: ТСД Пабл., 1976 и 1977. Однако очерки Якубовича вошли только в английское, более позднее издание этого альманаха: Yakubovich M. P. L. B. Kamenev and G. Zinoviev. Samizdat Register. Vol. 2 / Edited by Roy Medvedev. Merlin Press, London, W. W. Norton, New York, 1981, pp. 51–96.
61
Samizdat Register. Vol. 2, pp. X–XI.
62
Солженицын А. Угодило зернышко меж двух жерновов. Ч. 1. гл. 4 // Новый Мир, № 2, 1999, с. 93.
63
Солженицын А. Архипелаг ГУЛаг. Ч. 1 // Новый мир, № 9, 1989, с. 124–125.
64
Солженицын А. Один день Ивана Денисовича. Париж: ИМКА-Пресс, 1968, с. 104.
65
Солженицын А. Угодило зернышко…, с. 93.
66
Выехавший на Запад Б. Г. Закс, бывший ответственный секретарь «Нового мира», в письме ко мне от 30.7.84 передаёт историю этой публикации «со слов Лакшина»: вскоре после выхода «Телёнка» его дважды вызывал секретарь Союза писателей Верченко, дал ему книгу надолго и требовал написать публичный на Западе ответ, а «мы ведь не только в коммунистической печати поместить можем, но и в буржуазной».
67
Lakshin Vladimir. Reponse a Soljenitsyne. Albin Michel. Paris, 1977.
68
Lakshin Vladimir. Solzhenitsyn, Tvardovsky and «Novy Mir». The MIT Press, Cambridge, Mass. USA, 1980.
69
Feifer George. Writer as government in exile. New Society, 1980, July 3, 1980, pp. 28–29.
70
Он между нами жил: Воспоминания о Сахарове. М., 1996, c. 41.
71
Сахаров А. Д. Воспоминания. Т. 1. М., 1996. С 330.
72
Сахаров А. О стране и мире. Нью-Йорк, 1976, с. IX.
73
Сахаров А. Воспоминания. М., 1996, т. 1, с. 376.
74
Сахаров А. Воспоминания. Т. 1, с. 882.
75
Горелик Г. Андрей Сахаров. Наука и свобода. М., 2000, с. 407.
76
Сахаров А. Воспоминания. Т. 1, с. 421–422.
77
Известия ЦК КПСС, 1990, № 11, с. 150–159
78
Сахаров А. О стране и мире. Нью-Йорк, 1976, с. ХV—ХVI.
79
Сахаров А. Воспоминания. М., 1996, т. 1, с. 422.
80
Евтушенко Е. «Волчий паспорт». М., 1998, с. 377–378.
81
Бобков Ф. КГБ и власть. М., 1995, с. 268–269.
82
Книга «Д» переиздана в России в 1996 году в Самаре в общем большом сборнике «Загадки и тайны “Тихого Дона”». Издание Самарского фонда независимых исследований в области литературы.
83
Медведев Р. Книга о социалистической демократии. Париж, Амстердам: Фонд им. Герцена, 1972, с. 75–80.
84
См.: «Новая газета», 1997, № 21.
85
«Русская мысль», 15 ноября 1973 г.
86
«Новое русское слово», Нью-Йорк, 6 декабря 1973 г.
87
«Русская мысль», 14 декабря 1978 г.
88
Сахаров А. Д. О стране и мире. Нью-Йорк, 1976, с. 141.
89
«Русская мысль», Париж, 8 сентября 1977 г.
90
См. «Новое русское слово», 15–18 мая 1974 г. и книгу «Солженицын и действительность».
91
«Русское возрождение» (независимый русский православный национальный орган), 1978, № 2, Париж, Москва, Нью-Йорк, с. 157–162.
92
Архив Самиздата Радио «Свобода». «Материалы Самиздата», вып. 42/78, 11 декабря 1978 г., с. АС № 3408.
93
«Из-под глыб», Париж, 1974, ст. 218.
94
«Поиски», № 1/2, с. 56.
95
«Русская мысль», 29 апреля 1976 г.
96
«Чикаго санди таймс», 28 декабря 1971 г
97
«Унита», 31 января 1973 г.
98
«Монд», 3 ноября 1972 г.
99
«Русская мысль», 16 января 1975 г.
100
«Нуово Унита», 3 апреля 1973 г.
101
«Нью-Йорк таймс бук ревью», 13 июля 1975 г.
102
См. журнал «Поиски», № 3, статью П. Абовина-Егидеса и П. Подрабинека.
103
«Русская мысль», 16 января 1975 г.
104
«Русская мысль», 14 декабря 1978 г.
105
«Новое русское слово», 11 апреля 1976 г.
106
См. статью «Разделение» в «Вестнике РХД», № 121.
107
ПСС, т. 15, с. 297.
108
«Культура», апрель 1977 г.
109
«Континент», № 17, с. 408.
110
Книга о соц. демократии, 1972. Амстердам—Париж, Фонд им. Герцена, с. 95
111
«Политический дневник», с. 510.
112
«Технология власти», 1976, с. 15–16.
113
«Вестник русского христианского движения», № 107, Париж—Нью-Йорк.
114
«Русская мысль», 8 сентября 1977 г.
115
«Новое русское слово», 11 апреля 1976 г.
116
«Воркерс Ванквард», 24 октября 1975 г.
117
Короленко В. Г. Избранные письма, т. 2, с. 143–144. М., 1932. Письмо к Ф. А. Патенко от 20 июня 1896 г.
118
«Русская мысль», 8 августа 1974 г.
119
«Русская мысль», 30 сентября 1976 г.
120
«Русская мысль», 21 июля 1977 г.
121
«Новое русское слово», 11 апреля 1976 г.
122
«Время и мы», 1980, № 49, с. 96–97.
123
Там же, с. 89.
124
«Время и мы», 1980, № 50, с. 112–113.
125
Письма из Америки // «Вестник РХД», Париж—Нью-Йорк-Москва, № 116, с. 128.
126
«Из-под глыб», Париж: ИМКА-Пресс, 1974, с. 275–276.
127
Там же.
128
Брошюра «Две пресс-конференции». Париж: ИМКА-Пресс, 1974, с. 67.
129
«Новый журнал», № 109.
130
Вейдле В. // «Вестник РХД», № 114, с. 241.
131
Из выступления по британскому радио. Опубликовано в журнале «Листер» 25 марта 1976 г.
132
«Русская мысль», 25 мая 1975 г.
133
«Русская мысль», 25 мая 1975 г.
134
«Русская мысль», 14 августа 1975 г.
135
«Геральд Трибюн»,7 сентября 1976 г.
136
«Новости свободных профсоюзов», 1975, № 7–8, с. 30, Нью-Йорк. Спец. вып. на рус. яз.
137
Там же.
138
«Поиски», № 5.
139
«Вашингтон пост», 16 января 1975 г.
140
См. литературное приложение к газете № 1 от 5 ноября 1977 г.
141
«Время и мы», № 31, 1978, Тель-Авив, с. 122.
142
«Время и мы», № 38, с. 139.
143
Там же,с. 138.
144
Там же,с. 143.
145
Там же, с. 142.
146
«Две пресс-конференции», Париж, 1975, с. 81.
147
«Посев», № 8, 1974. См. также «Новое русское слово» от 12 января 1975 г.
148
«Ньюсуик», 8 января 1979 года.
149
«Русская мысль», 1980, № 7, статья «Свобода или рабство?»
150
«Экспрессо», 5 февраля 1980 г., с. 28.
151
«Русская мысль», 16 января 1975 г.
152
«Континент», № 25, 1980, с. 212–213.