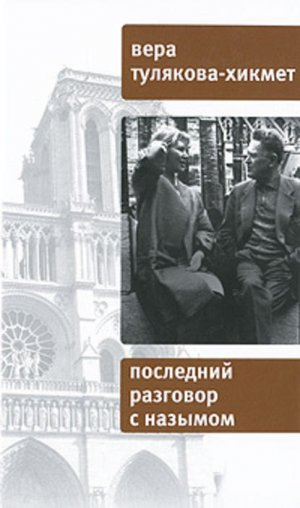
Вера Тулякова-Хикмет
Последний разговор с Назымом
ПРЕДИСЛОВИЕ
Весной 1977 года я решился на авантюру. Ушел с филфака МГУ и подал заявление на сценарное отделение ВГИКа. Представители деканата изматывали меня наводящими вопросами, пытаясь выяснить, не маячит ли за моим уходом из МГУ какая-нибудь скандальная история. Педагог курса Вера Тулякова, о которой я до того дня не знал ровным счетом ничего и потому опасался ее особенно, выспрашивала меня странно. Ее вопросы подсказывали мне ответы на вопросы начальства. Да и сами были такими ответами. «Правда, что вы ушли из МГУ, потому что любовь к кино оказалась сильнее?» «Правда», – испуганно мямлил я. И Вера оглядывалась на деканшу с победительно-ласковой улыбкой. Так она боролась за меня, и меня приняли.
И все пять лет она боролась за нас, своих учеников, в какие бы передряги мы ни вляпывались. И все пять лет не сходила с ее лица победительная улыбка. На нас стучали – она, улыбаясь, шла в ректорат и там глушила стук. Мы поочередно впадали во мрак хандры – она, улыбаясь, выводила нас на солнечный свет. Кого-то из нас то и дело собирались отчислить за хроническую неуспеваемость, – Вера недоуменно улыбалась, и начальство отвязывалось от нас. И после окончания нами ВГИКа Вера то и дело приходила на помощь своим ученикам – помогала она и мне в труднейшие мгновения жизни.
О том, что Вера была замужем за Назымом Хикметом, я узнал довольно быстро. К тому времени я ничего не читал из Хикмета. Прилипшее к его имени словосочетание «поэт-коммунист» заставляло меня вздрагивать. Больше скажу: я начал читать – и с радостным изумлением! – Хикмета много позже, уже после ВГИКа. Сейчас я с удивлением вспоминаю: Вера ни разу ни у кого из нас не спросила, читали ли мы Хикмета? И никогда не настаивала на том, что мы обязательно должны его прочесть. Вера вообще о нем почти не говорила, а как только о Хикмете все же заходила речь (у нее на квартире, в присутствии его фотографий, молчать о нем было бы странно) – речь была лишена пафоса, даже грусти: Вера вспоминала только веселое и даже жутковатые вещи вспоминала весело. Так, историю о том, как румынское судно отказывалось до согласования со Сталиным поднимать на борт Хикмета, бежавшего из Турции, что вообще-то могло закончиться для него гибелью, Вера преподносила нам как анекдот, со своей всегдашней улыбкой. В Вере не было ничего от вдовы. И только сейчас я прочел в ее книге о том, как она отказывается считать себя вдовой и вести себя как вдова, продолжая оставаться женой…
Я никогда не встречал человека, которому так завидовали, как завидовали Вере. Казалось, идя по жизни, она шагает по волнам зависти. Завистливые реплики в ее адрес – даже из уст юных студенток – были нам привычны, как скрип дверей на сквозняке. Объяснить эту зависть было трудно. Хикмет давно умер, поездки с ним по Европе, дружеские встречи с мировыми знаменитостями – все было в прошлом… Сейчас я думаю, что зависть вызывал сам ее облик и, прежде всего, ее демонстративно приязненное отношение к жизни. В стране, где на вопрос: «Как дела?» принято отвечать: «Спасибо, хреново» – нельзя безнаказанно излучать радость.
Вера была и в поздние свои годы хороша собой, исключительно жизнелюбива и жизнерадостна. Помню, как она с дочерью приехала в Ивантеевку, где мы с Ольгой снимали дачу. Вера только что вышла из больницы. Она была смертельно больна и знала это. И мы знали. На вопрос о самочувствии она ответила с удивлением: «Мне никогда не было так радостно жить, как сейчас. Я купаюсь в каждом дарованном мне мгновении». И на лице ее не было напряжения. И улыбка ее не была вымученной. Я был убежден и убежден по сей день – она говорила правду…
И вот, прочтя ее книгу, услышав ее разговор с Хикметом, я в который раз сказал себе: ничего мы не знаем о людях, даже о тех, кого знаем. О цене радости, цене жизнелюбия Веры я никогда не задумывался, полагая их врожденными свойствами характера.
Вера стала такой, какой мы ее узнали, благодаря этой книге, благодаря этому долгому разговору с Хикметом. Прежде всего она стала бесстрашной – и это стало залогом радости.
…Книга, предлагаемая вниманию читателей, – не мемуары. И разговор с умершим Хикметом – не литературный прием, как это может показаться в начале чтения. Это и впрямь разговор, которым Вера поначалу спасалась от горя и который, по мере его продолжения и усугубления, стал потаенным делом жизни. Вера не вспоминает – Вера напоминает Хикмету о том, что было, о том, что вместе видели и пережили, о том, что и при каких обстоятельствах он ей рассказывал. И есть у этого разговора одна особенность. Не всегда сходясь с мужем в отношении к тем или иным событиям и явлениям, Вера пытается повлиять на его позицию, как если бы он оставался живым. Причем делает это не впрямую, а деликатно, словно опасаясь ранить любимого человека. Не риторически, а спрягая эпизоды… Вера сильно моложе Хикмета. Опыт у них несоизмеримо разный. Но в чем-то она его умудреннее.
И здесь, говоря о жизненном опыте, уместно вернуться к словосочетанию «поэт-коммунист» применительно к Хикмету. Хикмет был коммунист-романтик. Он жил и учился в Советской России уже после Гражданской войны, в двадцатые годы, во времена нэпа, плодотворно общаясь с самыми яркими художниками эпохи. Вернувшись в Турцию, подвергся преследованиям и семнадцать лет сидел в тюрьме. На эти семнадцать лет пришлись все самые страшные события двадцатого века. Вне пределов СССР даже свободные люди не слишком были осведомлены о том, что на самом деле происходит в нашей стране (о тех, кто делал вид, что ничего не знает, говорить не будем). В тюрьме у Хикмета не то что газет – книг почти не было. Даже о том, что происходит в Турции, он знал плохо. О том, что творится в Советском Союзе, Хикмет не знал вообще ничего. Он мог только мечтать – и мечтал. Сейчас даже трудно представить себе, что Хикмет, выйдя из тюрьмы и будучи приглашенным в советское посольство на показ фильма «Кубанские казаки», принял фильм за чистую монету и решил, что его мечты сбылись. И грустно и смешно воспринимается его рассказ о том, как, прилетев в СССР и едучи из аэропорта в город, он принял убогие избы по краям шоссе за музей дореволюционного быта под открытым небом… Или его пожелание встретиться со старым другом Мейерхольдом, на что ему ответили, что Мейерхольд (почти двадцать лет как расстрелянный) находится на лечении в горах… История о том, как простодушный романтик Хикмет постигал советскую реальность, достойна Вольтера. Но – постигал. Его активное столкновение с этой реальностью, его противостояние мерзости, его бесстрашие и обреченность – достойны Шекспира.
Книга Веры Туляковой достойна по меньшей мере благодарного прочтения.
Андрей Дмитриев
ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР С НАЗЫМОМ
Перед вами не книга литературных воспоминаний, а наш разговор с Назымом. Он начался через две-три недели после его ухода, потому что, верьте мне, общению двух близких людей ничто не в силах помешать.
Два года, с 1963 по 1965, из ночи в ночь – так легче почему-то – продолжался этот разговор. Остались тысяча страниц и Назым, каким я его знала. Теперь это самое главное.
Конечно, здесь не тысяча страниц, а половина, иначе было бы слишком много. Я оставила историю наших отношений и многие дорогие моменты жизни. Сюда не вошел рассказ о работе Назыма над стихами, пьесами, сценариями, романом, свидетелем которой я была.
Я опустила кое-что из гуманных соображений по отношению к людям, еще живущим и, наверное, раскаявшимся в причиненных Назыму огорчениях.
Вера
Москва, 1977 В прошлый раз, когда мы сидели с тобой на голубой скамейке у твоей могилы и молча шептались, мимо величественно шла старуха. Несколько высокомерно посмотрела на меня, проследовала дальше. Вдруг я услышала ее сильный голос:
– Жила на свете женщина. Потом на эту женщину надели корону. Теперь корону сняли. Осталась просто женщина.
Правда, она к слову «женщина» прибавила «красивая». Поэтично сказала старуха. Жаль, что ты не слышал. Тебе бы понравилось. Я знаю. А ты сидел со мною рядом, так близко, что наши колени соприкасались, и, как всегда, спрашивал: «О чем ты думаешь, Веруся? О чем ты думаешь?»
У твоей могилы голова моя становится ясной, легкой. Мы снова вместе. Я не одна. И нет для меня в эти минуты никаких проблем, никаких вопросов, все просто и светло, как в детстве. Мир стоит и плывет в обе стороны, как мысли. Смешиваются времена, сходятся дороги, сжимаются расстояния, и сквозь этот наплыв видений и образов пробивается эхо наших голосов – в час, когда мы молча шепчемся на голубой скамейке у твоей могилы.
Раньше я навещала тебя часто, почти каждый день. Потом мы условились, что я буду приходить по субботам. Ты согласился. Не с радостью, а так: «Ничего, мол, не поделаешь, маленькая Веруся, ходи хоть по субботам». Знаю. Все знаю, но что поделаешь, мне надо выжить, Назым. Помоги.
Утром я обычно еду на базар и покупаю тебе цветы. Я выбираю их так тщательно, как будто от их красоты и свежести что-то зависит, что-то переменится к лучшему у нас с тобой. Первое время я приезжала к тебе в такси. Твой шофер не оставлял мне ключей от гаража, боялся, что сяду за руль – разобьюсь. Не нарочно, конечно, по рассеянности. Хороший человек, все-таки жалел. Потом однажды дал повести машину. С тех пор я приезжаю к тебе на нашей «Красной шапочке». Вхожу в кладбищенские ворота как к себе домой. Сначала каждый шаг давался с трудом. Теперь – как к себе домой. Еще лейку прихватываю у смотрительницы возле ворот, метлу – полить розы, убрать вокруг. Иду и знаю, ты сидишь и ждешь на краю скамейки. На самом краю. И хоть пять человек на скамейку садись – не помешаешь. Сидишь и ждешь, как усталые больные в больницах в приемные часы. И каждый раз тебе кажется, что я не приду, что-нибудь у меня случится, помешает прийти… точь-в-точь как больные в больницах, сомневаешься. А я иду и вовсе сначала на нашу скамейку не смотрю, словно ее и нет. Цветы складываю на землю. Проверяю могилу, все ли в порядке. Смотрю: вот цветы – не мои. Кто-то приходил. Иногда нахожу сласти, например, пакет миндаля в сахаре. Без сомнения, они с твоей родины.
Иногда – и все чаще – под цветами желтенькие турецкие лиры. Я рассматриваю монеты твоей страны. Странно, Назым, путешествуя с тобой по свету, я никогда не видела турецких денег… А теперь их все больше в траве. Я зарываю эти монеты в землю, пусть будут при тебе запоздалые гонорары от турецких читателей.
Словом, все у нас как обычно, даже мистика. А я в первые минуты у твоей могилы всегда суечусь. Достаю банки, горшки с цветами, старые выбрасываю, новые – ставлю. Иду за водой, поливаю розы. Они так разрастаются! Сделаю все дела, все поставлю на свое место, подмету, уберу, тогда сажусь. Вот тут и начинается наш разговор. Время летит быстро, когда посмотришь на часы. Время летит…
Это наш последний разговор, Назым. Он последний, потому что мы уже никогда не сможем его остановить. Наши голоса, переплетенные, перепутанные, веселые и грустные, бодрые и трагические, смешавшись c деревьями и дорогами, городами и небом, страхом и радостями, отзовутся в сердцах людей. Господи, я не знаю молитв. Но прошу только об одном – не отними памяти. Пока я помню все слова, все улыбки, все краски до последней каемки на твоем носовом платке, я – человек.
Я не могу поверить в разлуку с тобой, Назым. Как ты поторопился! В этом мире, где столько людей голодает, где столько людей живет без крова, где так много отчаявшихся, мы с тобой были счастливы. Не удивительно ли это?Мы встретились морозным декабрем 1955 года. Я только что окончила ВГИК и пришла работать редактором на киностудию «Союзмультфильм». Вот тут-то и покатилось колесо моей судьбы в путешествие, из которого нет возврата…
Назым, ты жил в Москве уже несколько лет и был неслыханно знаменит. Твое имя то и дело мелькало на страницах газет, на театральных афишах, расклееных по улицам нашего города. Твои поэтические сборники постоянно появлялись на книжных прилавках. Ты часто выступал по радио, по телевидению. Ты был человеком из легенды. Но с тех пор как ты приехал в Москву – я не думала о тебе. Ты был от меня так же далеко, как, например, те, кто работал тогда в Кремле. В то время люди, овеянные славой, не разгуливали по улицам, их жизнь шла отдельно от нас и была полна суровой таинственности. Тем глубже врезался в память день, когда я впервые тебя увидела.
Первым же моим заданием был фильм по албанской сказке. Мы готовили его в пожарном порядке к какой-то политической дате. Все шло хорошо. Я нашла чудесную народную сказку, мы сделали сценарий. Но вот за дело взялись главные люди, художники, и – о, ужас! – работа встала. Оказалось, что ни один человек на киностудии понятия не имел, какая она, эта Албания. Никто там не бывал и не может нарисовать ни пейзаж, ни одежду, ни убранство жилища – ни-че-го, что создает на экране неповторимую атмосферу национальной жизни. Нужно было найти консультанта, который бы понял поэтический строй фильма и подсказывал в его ключе. Мы сбились с ног. План горел, начальство ругалось. Вместе со мной консультанта искали все мои коллеги. И вконец отчаявшись, один режиссер скорее как бы в порядке бреда предложил позвать Назыма Хикмета – сказал, что «турки триста лет сидели на голове у Албании. Он все про это знает».
– Чем черт не шутит, – философски рассудил мой начальник. – Либо Назым Хикмет пошлет вас, Вера, куда Макар телят не гонял, либо поможет. Но как вы добудете его телефон? Наверняка он засекречен…
Была середина дня. Я позвонила в Союз писателей и безо всякого труда получила два номера твоего телефона – дачи в Переделкино и московской квартиры.Помнишь, Назым, спустя годы, когда мы отдыхали с тобой на юге Грузии, к нам подошла на пляже румяная женщина и, смеясь, сказала: «Это я тогда, Вера, дала вам телефон Назыма. Я узнала ваш голос…» Но в тот момент, когда я записывала твой телефон, мне почему-то стало не по себе, и я с нарастающим беспокойством начала просить всех вокруг позвонить вместо меня. Больше всех мечтала увидеть Назыма Хикмета моя режиссерша – Валентина Брумберг. Маленькая, кругленькая, с лицом, раскрашенным как пасхальное яичко, и взбитым пушком на голове, она сама была похожа на обаятельный персонаж из веселого мультика. Родившаяся задолго до советской власти, Валентина сохранила легкий общительный характер и была знакома со всеми известными артистами, художниками, писателями Москвы. Узнав, что у меня в кулаке зажат телефон Назыма Хикмета, пронеслась по всем закоулкам студии и объявила как о деле решенном, что теперь с нами будет работать сам Назым Хик-мет!
Потрясенный новостью, студийный люд стал стекаться в мой сценарный отдел за подтверждением. Ажиотаж вокруг имени Назыма Хикмета нарастал. Народ требовал от меня поступка. Я, чуть не плача, умоляла позвонить закаленную в светском общении Валентину Брумберг. Но она вдруг наотрез отказалась под предлогом своей «сквер-р-р-ной дикции»:
– Тур-р-рок ничего не поймет, бр-р-росит тр-р-р-убку, и все пр-р-ропало! Вы – молоденькая! Тур-р-рки любят молоденьких! Как только он услышит ваш тоненький ангельский голосок… – и она в неподражаемой пародийной манере, по-московски акая и растягивая слова, произнесла: «Ал-л-лё, это Назым Хикмет? С вами говор-р-рит р-р-ре-дактор такой – Вер-р-ра Тулякова-а… Вер-ра Тулякова-а, р-р-редактор-р-р та-акой…» – он сейчас же сдастся! Это ясно, ясно, как Божий день!
Показала меня смешно, похоже. Все веселились.
– Да на кой черт Назыму это нужно?! Что, ему делать нечего? Звони лучше министру иностранных дел Громыке! – советовал циник и весельчак мой коллега Аркашка Снесарев.
– Неэтично напоминать коммунисту товарищу Хикмету, что его народ был колонизатором! – кто-то предостерегал в толпе… И тут в дело вступил мой начальник. Растолкав всех, он высокомерно выдернул у меня из рук бумажку с телефоном и решительно набрал твой номер. А когда на другом конце провода ответили, бросил говорящую трубку мне, как кусок раскаленного железа. Все замерли. Образ Назыма Хикмета приобретал космические очертания.
– Ал-лё, – прошептала я, – Это Назым Хикмет? С вами говорит реда-а-актор та-акой, Вера Тулякова… Вера… Тулякова-а…Вот так, Назым, восемь лет назад я впервые позвонила тебе в московскую квартиру, в ту самую квартиру, где потом мы с тобой жили, где сейчас ночью я стучу на машинке.
Ты, выслушав мою просьбу, буднично сказал:
– Милая, приходите.
– Когда? – не поверила я своим ушам.
– Если у вас дело, приходите сейчас.
Я оглянулась. За моей спиной происходила немая сцена, как в «Ревизоре» у Гоголя. Постоянно работая с писателями, на студии все знали, что даже самые плохонькие из них были нам недоступны. Они подолгу заставляли вымаливать у них встречу, упрашивать, как тогда говорили, нас «принять» (словечко, которое ты, Назым, ненавидел). А уж про знаменитых, про богатых, про классиков и говорить нечего… Да, справедливости ради нужно признать, что студия наша в то время была маленькая, мультфильмы на экране показывали неохотно, авторам платили копейки. Так что работали с нами в пятидесятые годы энтузиасты вроде Николая Эрдмана, Михаила Вольпина, Юрия Олеши, Михаила Светлова, Александра Галича, Владимира Сутеева и им подобные хорошие люди.
Мы начали сборы к Назыму Хикмету. Пока художники заворачивали эскизы, коллеги наперебой просвещали нас по поводу политического климата Турции, американской экспансии и минаретов, а Аркадий, вызывая всеобщее возмущение, наставлял Валентину Брумберг – велел не спускать с меня глаз и ни в коем случае не оставлять наедине с «роскошным турком»:
– Его же полжизни в тюрьме продержали! – не унимался он. – Набросится на блондинку и – привет! – растерзает, аки тигр. Турки – они такие… Хотя, надо думать, его кругом обложили стукачами. Там небось целый взвод кормится…
Мы пришли – я и Валентина Брумберг. Ты распахнул дверь – в нос ударил запах крепкого кофе. Я подняла на тебя глаза и увидела копну рыжих кудрей. Ты помог нам раздеться, чуть не уронив на пол мою пудовую шубу из овчины. Проводил в большую полупустую гостиную, уютное диковинное логово, созданное как бы шутя и временно. Посередине комнаты за большим круглым столом, заваленным рукописями, сосредоточенно работал угрюмый человек лет сорока, едва кивнувший нам головой. Это был переводчик Акпер Бабаев. В черном костюме, в черной рубашке, с черным чубчиком вьющихся волос, он был мрачным и походил на гробовщика или детектива из наших мультфильмов. И мы с Валентиной, не сговариваясь, сразу решили про себя, что он, конечно, и есть агент КГБ, приставленный к Назыму Хикмету.Теперь-то я знаю, что это не так, что это совсем не так… Удивительные отношения сложились у вас с Акпером Бабаевым – уютные, дружеские. Вы дня не могли прожить, не повидавшись. Взыскательность, интеллигентность, я бы сказала, изысканность вашего диалога подчеркивалась обращением друг к другу на вы. Дружба людей с такими полярными характерами на первый взгляд могла показаться необъяснимой. Но чем чаще мне приходилось наблюдать вас рядом, тем понятнее становилась эта умная мужская привязанность. Ты, вспыльчивый, экспансивный человек-динамит, работающий, как завод, – и спокойный, неторопливый Акпер, способный разрядить грозовую обстановку мягким юмором, вы были необходимы друг другу.
Я больше смотрела на Акпера, может быть, потому, что стеснялась смотреть на на тебя. Твой голос грохотал вокруг и мешал сосредоточиться. Я с удивлением понимала, что этот странный человек заставляет меня думать над каждой произнесенной им фразой, точно впечатывая ее в мой мозг. Отныне так будет всегда.
По-русски ты легко находил нужное слово, говорил горячо, образно, но неправильно, с сильным восточным акцентом. Грамматику русского языка знал плохо, говорил интуитивно, и речь твоя была удивительно точной, свободной, по-своему красноречивой, легко запоминалась, и потому многие собеседники до сих пор точно воспроизводят даже пространные разговоры с тобой.
Оказалось, что по телефону ты толком не понял, чего от тебя хотят, и долго смеялся, что турка приглашают консультантом по албанской культуре. Но когда узнал, что мы хотим подарить нашу картину албанским детям, у которых нет своего кино, серьезно согласился помочь.
С нескрываемым любопытством ты ходил вокруг нас, пока мы распаковывали эскизы и раскладывали свои картинки на полу. Ты склонился над ними. Мы замерли. Внимательно смотришь… И вдруг ярость:
– Я ненавижу в искусстве натурализм!
Мы помертвели. От ужаса Валентина Брумберг попыталась волевым усилием увести разговор в русло теории:
– Назым, дорогой, вы не любите натурализм? А что это такое, по-вашему?
И ты без паузы:
– Вот если бы сейчас сюда вошел человек без рубашки – это был бы реализм. Ну, а если бы вошел без штанов – тогда натурализм.
И первый рассмеялся.
Но сбить тебя с мысли непросто. С сожалением ты говорил о том, что пока не встретил в ЦК ни одного мыслящего философа, ни интеллигента вроде Луначарского и других полемистов, лекции которых слушал в своем университете в Москве в двадцатые годы. При упоминании ЦК Валентина взмолилась о пощаде и попросила с нами о политике не говорить.
– Почему, миленькая? – искренне удивился ты. – Двери тюрем открылись. У меня на даче живет друг молодости ваш знаменитый кинорежиссер Николай Экк. Пришел прямо из лагеря, в лохмотьях… Сталин умер.
– Какая разница, если Сталин лежит в Мавзолее рядом с Лениным…
– Этого не могу понять. Не понимаю, как трудящиеся передовой страны могут поклоняться трупам?
– Назым, я умираю от страха! Видите, – она тронула твои руки похолодевшими пальчиками, – как у мертвеца.
– Простите, миленькая, – вздохнул ты. – И все-таки он умер. Многие люди здесь перестали бояться. На днях мы с Акпером ужинали в Доме актера. Там артисты с замечательным энтузиазмом соревновались в анекдотах про него. И про Хрущева. Ими сейчас полна Москва.В то время, в 1955 году, у Хрущева не было авторитета. Ты сказал тогда, что Хрущеву необходимо совершить поступок, чтобы люди поняли, кто он есть на самом деле. До главного поступка Хрущева, до ХХ съезда КПСС оставалось меньше трех месяцев.
Ты попросил Акпера повторить нам какой-то анекдот. Бедная Валентина все пыталась сменить тему, но тщетно. И она на всякий случай взбудоражено приговаривала:
– А нам нравится, нравится Хрущев! Все цари в русских сказках похожи на него! Шутят, дурака валяют, а если надо – кулаком по столу и голову с плеч! Никто лучше нас, мультипликаторов, не знает психологии царей. Ведь для каждого движения их брови мы делаем сотни рисунков!
Ты смеялся над ее сравнениями, потом взял карандаш и стал быстро, почти одной линией рисовать сюжет нашей сказки. Показал, как может быть одет бедный мальчик, какие у него шаровары, как завязывается кушак, как он носит пастушескую сумку через плечо, показал форму кувшина, орнамент ковра на стене… В конце концов ты пообещал приехать на студию и встретиться с художниками, когда раскадровка фильма будет готова.
Наша миссия была выполнена, но ты не отпускал нас. Ты подвел меня к картине, она резко выделялась на оранжевой стене. Это была странная картина. Казалось, что в узкую деревянную раму заключили кусок обезображенной взрывами, в упор расстрелянной земли. Ее запекшаяся буграми масляной краски поверхность была сплошь усеяна кусками рваного железа.
– Мне подарил эту картину Константин Симонов. Ее сделал один русский солдат из осколков снарядов Сталинградской битвы.Жаль, Назым, что мы не сохранили ее. Она года два висела у нас в гостиной, вызывая щемящее чувство. Как-то к нам пришел один бывший фронтовик. Долго смотрел на эту картину.
Уходил, снова возвращался и стоял перед ней. Тогда ты снял эту картину со стены.
– Возьми, брат, – сказал ты ему. – Мне очень нравится эта картина. Очень. Бери, бери.В тот день ты показывал и показывал нам каргопольские, дымковские, украинские и какие-то еще игрушки. Глиняные павлины, единороги, старики, бабы, толстые и самодовольно-глупые, лукавые и кокетливые, стояли по всей длине грубо сколоченных полок, висевших низко вдоль стен над турецкими диванами с множеством разноцветных подушек.
Ты дал мне подержать двухголовую лошадку. Предлагал посмотреть на нее сбоку, и прямо, и как-то еще, и сам не мог на нее нарадоваться. Я с удивлением видела взрослого человека не из среды мультипликаторов – профессионалов игры, который с такой детской радостью играл в деревенские самоделки. В те часы рядом с тобой я впервые ощутила, до чегo же мы, русские, зажаты и однообразны.
– А знаете, ко мне недавно приходил один московский писатель и, увидев все это, спросил, из какой страны я их привез. Я очень рассердился на него и ругал по матери, черт пoдepи! Да, да! Если писатель не интересуется, как жили его предки, значит, все ушедшие из жизни поколения для него просто навоз!
Мне стало неприятно, обидно даже.
Тогда я не возразила тебе, но и не поверила в существование столь невежественного литератора. Воспитанная бабушками на поэзии XIX века, я наивно верила, что все писатели – люди глубоко просвещенные. Позже я несколько раз слышала упоминания об этом возмутившем тебя писателе, но так и не спросила, кто же им был.Меня заинтересовало название пьесы, над которой вы с Бабаевым тогда работали – «А был ли Иван Иванович?» И я робко спросила – о чем она? Ты сказал, что если я захочу, то смогу прочесть ее, когда Бабаев закончит перевод на русский язык. Но Бабаев так выразительно на меня посмотрел, дал понять, что маэстро, конечно, шутит…
– Опаснее всего искушение властью. Особенно политической властью. Сталин тому пример. Вот об этом я думал, когда писал свою пьесу. В общем, миленькая, – улыбнулся ты мне, – бюрократы на нас обидятся, конечно, но ничего не поделаешь. Пусть обидятся! – и, шутя, спросил: – Надеюсь, вы еще не бюрократ?
Все рассмеялись, даже Бабаев.
– Сколько вам лет? – поинтересовался Назым.
– Двадцать три.
– Двадцать три… – покачал головой Назым. – Значит, когда я впервые приезжал в Москву, а это был двадцать первый год, вас даже в проекте не существовало… Вы, конечно, русская девушка, блондиночка?
– Русская.
– Вообще, миленькая, я сомневаюсь. Сколько лет над вашей страной сидел татарский хан? Вот и у вас, если хорошенько посмотреть, скулы немножко восточные и глаза как турецкий миндаль, не типичные для русских… Неужели вам никто не говорил, что у вас лицо восточной девушки? А? Бабаев, правильно я говорю? – улыбнулся ты. – Извините, миленькая, я не хотел вас обидеть.
Потом ты спрашивал меня дипломатично, слыхала ли я что-нибудь о твоих пьесах, и, когда узнал, что я смотрела «Рассказ о Турции» в театре имени Моссовета и «Лeгендy о любви» по телевизору, искренне вздохнул:
– Ругались, конечно. Я знаю, постановки не получились. Но если бы вы согласились прочесть мою «Легенду», я не кaзался бы вам таким безнадежным драматургом.
– Я читала вашу «Легенду», – сказала я, но по твоим глазам поняла, что ты не поверил.
Тогда я рассказала, как у нас в институте литературный кружок выбрал темой одного из семинаров именно «Легенду о любви», как ребята готовили доклады и даже ездили к тебе домой.
– А вы почему тогда не приехали?
– Но я все-таки приехала, – рассмеялась я.
И вдруг вспомнила, как они говорили о тебе: «интеллигент с большой буквы», «неподдельный коммунист», «смертельно больной человек»… Кто-то из них рассказывал про твои безжизненные руки, которые во все время беседы лежали на подлокотниках кресла как бы отдельно от тебя… Я посмотрела на твои руки. Ладони их были упругими, крепкие недлинные пальцы нервно двигались, не успокаиваясь ни на секунду.Помнишь, Назым, мы как-то зашли в мастерскую художника Юры Васильева. Ты любил к нему приходить. «Пойдем, посмотрим, как парень живет. Что-то в прошлый раз у него дело не клеилось совсем…» И добродушный, похожий на большого медведя Юра всегда радовался твоему приходу, как-то отрешался от всего домашнего, и тогда его маленькая дочка с беленькой косичкой – Василиса, видно, не узнавала отца и, тихо приоткрывая дверь мастерской, с удивлением следила за ним глазами в щель… Так вот, помнишь, в один из таких приходов Юра сделал гипсовые слепки твоих рук и одной моей, той, на которой было бирюзовое кольцо с каирского базара… Потом эти наши три руки висели у него на веревочке вместе с руками Святослава Рихтера и еще каких-то знаменитостей. И приходя к нему, мы иногда снимали их с гвоздика и разглядывали. А потом, потом… Когда тебя не стало, когда тебя увезли на специальной машине в белых простынях, Юра пришел в морг и сделал посмертную маску с твоего лица… Она хранится у него дома. И я все время, все время, все время про это помню и не могу к нему войти в дом… У него есть неопровержимое вещественное доказательство твоей смерти, Назым!
Внезапно – у меня так бывает – я почувствовала страшную усталость. Сказалось всё сразу: напряжение дня, обилие впечатлений, напор твоей мысли с непредсказуемыми поворотами. Мы стали прощаться. И вдруг ты по-турецки сказал Бабаеву фразу, которую я к своему изумлению поняла. Ты сказал нечто вроде:
– Ничего девушка, интересная, только грудь плоская. Я невольно посмотрела на свою грудь, на вас с Бабаевым, и лицо мое стала заливать краска.
– Вы поняли, что я сказал?! – после некоторого замешательства спросил ты.
– Поняла… – призналась я.
Глаза твои в мгновение сделались жесткими, подозрительными, враждебными.Бедный Назым, всю жизнь ты кому-то внушал страх, всю жизнь за тобой подсматривали, подслушивали. Ты знал об этом и предпочитал честную игру, но я-то была от всего этого так далека…
– Вы что, изучали турецкий язык в своей киношколе? – с нескрываемой иронией спросил ты.
Кровь ударила мне в виски, лицо горело. От растерянности я не могла сообразить, каким образом поняла смысл твоих турецких слов. Я тупо молчала. Твое лицо угрожающе багровело. Валентина с испугом смотрела на всех, не понимая, что я натворила… Я с отвращением взглянула на подошедшего ко мне Акпера и вдруг увидала его ласковые глаза.
– Не волнуйтесь. Я знаю всех, кто учился в последние годы турецкому языку в университете. Вас среди них не было. Вспомните, где вы могли услышать наш язык.
И тут меня осенило.
– Но ведь вы же сказали свой «комплимент» по-татарски?
– А вы что, говорите по-татарски? – удивился ты.
– Наверное, во мне проснулась та самая капля татарской крови, – грустно пошутила я. Жить не хотелось.
Ты пресек мою жалкую улыбку:
– Ну а если серьезно?
– Ну, если серьезно…
И я увидела себя девятилетнюю в выцветшем на солнце военного 1942 года платье, босую, ноги по щиколотку в пыли… Я сбивчиво рассказала, как в годы войны мы с мамой оказались в эвакуации в глухой татарской деревне. Я приехала туда со столичным образованием в один класс и два года совершенствовала его чтением полного собрания сочинений Мопассана – единственных книг на русском языке, оказавшихся в татарской школе. Месяца за два я научилась бойко говорить по-татарски и, вместо того чтобы сесть за парту с татарскими сверстниками, все два года проторчала на местном базаре, «работая» переводчиком. Я помогала людям менять последние городские вещи на последнюю картошку и хлеб. Но прошло много лет, и я забыла язык благословенной моей деревни Салоуши… Что пробудило его вдруг?Ты всегда помнил о моей привязанности к татарам и постоянно подшучивал надо мной:
– Ну, Веруся, а какой еще вклад в мировую культуру внесли наши татарские братья?
А я всерьез рассказывала тебе про татарские корни Аксакова, Кутузова, Карамзина, Пушкина, Лермонтова, всех Толстых, про татарское происхождение слов «Ура!» и «товарищ», рассказывала, рассказывала…– Вот у вас какая дружба народов получается. Вы, русская девушка, понимаете по-татарски, а это значит, мужчины Азии, и конечно турки, должны выражать свои мысли при вас очень осторожно. Наш кинорежиссер товарищ Валентина говорит на языке мультипликации, а это значит, она может общаться без переводчика с детьми всего мира. Наконец, мой друг, которого я очень люблю, Акпер Бабаев – азербайджанец. Он переводит все, что я пишу, с турецкого на русский. Это замечательно здесь, в Советском Союзе, – несколько театрально подытожил Назым.
А мне тяжело. Ушлa радость.
Ты очень суетился тогда, Назым. Я тебе потом сказала об этом, и ты ответил: «А как же? Что я, дурак, что ли?»Ты бегал по комнате, приносил какие-то вышивки, чем-то угощал нас и в конце концов я тебя рассмотрела. Волосы твои в то время были еще со светлыми прядями, и бежевая вязаная куртка, отделанная замшей, делала твою фигуру чуть спортивной. И глаза твои синие были совсем молодыми. Пожалуй, они у тебя были моложе всего, моложе вьющихся рыжих волос, моложе античного носа, усов, плеч и рук твоих. И только то, что было скрыто за глазами – мысли твои, надежды твои, идеалы твои – были еще моложе глаз. Но лицо твое часто покрывалось испариной, какая-то тяжелая усталость наваливалась на тебя, и, как безжалостная мать наказывает при чужих своего ребенка, так и она опускала твои плечи и хватала тебя твоей рукой за сердце. И в эти мгновенья молодость глаз твоих казалась почти героической. Когда мы уходили, ты спросил:
– Почему вы не предлагаете мне написать сценарий? Я очень люблю сказки и знаю такие турецкие сказки, ай-я-яй!
Мы отшутились, понимая, что разговор утопический. Пока мы были у тебя, беспрерывно звонил телефон, из разных учреждений наперебой просили стихи, пьесу, статью, выступление, встречу… Наше богоугодное заведение и думать не могло тягаться с колоссами столичной культуры…
Я стояла в узкой прихожей, прислонившись спиной к двери и безучастно ждала, когда оживленная, раскрасневшаяся Валентина Брумберг наконец распрощается с тобой. Паршивое настроение не проходило, горечь расползалась и расползалась внутри. «Вот, – думала я, – неплохие уроки беспощадности дают нам великие поэты-гуманисты… Запросто могут припереть тебя к стенке и допрашивать с упорством инквизиторов. И зачем, зачем я согласилась делать этот злосчастный фильм, в котором ничего не понимаю…» Но в это время тексты Валентины Брумберг вывели меня из задумчивости:
– Вы такой красивый, Назым! – и как комплимент: – Вы совершенно не похожи на турка! Почему вы живете один? Вы не должны так жить! Женщины наверняка вас безумно, безумно, безумно любят! Почему вы не женитесь?
И ты со своей обезоруживающей улыбкой ответил ей:
– Да потому, миленькая, что я против семьи, частной сoбственности и государства!
Мне опять сделалось весело, легко. Я тихо смеялась, уткнувшись в воротник. И вдруг ты подошел ко мне близко-близко, оперся рукой поверх моей головы о косяк двери и сказал:
– Не сердитесь на меня, Вера. Вы еще очень молодая девушка. Слишком молодая… Знайте: самая страшная ложь на свете – это ложь с красивым лицом. Ей верит сердце. Я рад, что вы пришли.Дверь за нами захлопнулась, и ты спросил у Акпера:
– Ну как?
И он ответил:
– Ничего.
Оказывается, ты досадовал тогда, что волосы мои, показавшиеся тебе такими красивыми, были «завиты, как у барашка». И сколько мы потом не спорили по этому поводу – ты стоял на своем. Конечно, волосы были завиты, но совсем не беспощадно. А тебе они показались такими просто потому, что были тогда чужими, вот и всё. Мы со временем расчесали мои волосы, и ты был счастлив. Тебе нравилось, когда я носила их без единой заколки и была похожа на лохматую Марину Влади из французского фильма «Колдунья».На следующее утро после нашего знакомства с тобой я пришла на студию и сказала:
– Мне кажется, будто я поговорила с Лениным. А старшие замахали на меня руками, зашикали:
– Бедная Вера, что ты говоришь!
Тогда я просто не знала, как передать масштаб твоей личности, – такого человека повстречала впервые. Потом зазвонил телефон, и ты сказал мне:
– Я хочу с вами встpeтиться. Я кое-что придумал. По-моему, моя сказка вам понравится.
Честно говоря, мы и не мечтали получить от тебя когда-нибудь сценарий. Деньги авторам у нас платили небольшие, а работа была трудоемкая и требовала от писателей, как мы говорили, сумасшедшей головы. Мультипликация – искусство условное, там, как нигде, нужна выдумка, гротеск, фантасмагория, юмор. В твоем звонке была пионерская верность слову. Нам стало весело.
Ты приехал на студию. Об этом мы узнали от глухого вахтера, бывшего вояки, который позвонил снизу, из проходной, и с присущей нашей вооруженной охране деликатностью заорал:
– Тут писатель к вам какой-то нерусский просится, Насын Хинкет называется, пропускать его или нет?
Ты поднимался по лестнице очень медленно. Отдыхал на каждой ступени. Ты поднимался так осторожно, как будто боялся разбить в себе какой-то тончайший сосуд.Потом, спустя какое-то время ты рассказал мне, что после инфаркта твою болезнь в «кремлевке» обсуждал консилиум врачей. Тебе удалось подслушать часть их разговора. Латынь ты понимал легко, вот тогда ты и услышал роковое слово «аневризма», не очень ясно, в каком контексте, но услышал. – Понимаете, – объяснял ты мне, – аневризма – это маленький кусочек на сердце, тоньше папиросной бумаги. Иногда достаточно пустякового движения, чтобы эта папиросная бумага лопнула – и все, конец. Потом я прочел о своей болезни все книги. С моим инфарктом люди живут максимум одиннадцать лет…
Сценарий твой по-русски был записан ужасно. Видно, ты торопился, продиктовал его кому-то из домашних и в таком виде принес на студию. Но едва я начала вчитываться, как стали открываться мне романтические герои маленькой очаровательной поэмы о самоотверженной любви Облака к бедной одинокой девушке Айше. И непривычная для мультфильма трагическая нота финала сказки показалась горькой, но единственно возможной: влюбленное Облако гибло, проливалось дождем над умирающим под натиском суховея садом Айше. Дождь кончился, зазеленели ветви деревьев, вновь распустились цветы. Девушка плачет, а ты ее успокаиваешь ее немного наивными, простенькими стихами.
Взгляни – уж зеленеют ветви,
Не плачь, Айше, смотри на них.
Не умирает тот навеки,
Кто умирает за других.
И не нужна героям жалость,
Они живут
во всем,
везде,
Как это облако осталось,
Став отражением в воде.
Ты назвал свою сказку – «Влюбленное Облако». Так я начала слушать твои сказки, Назым.
Прошло много дней, много недель, много месяцев. Мы виделись с тобой все чаще и чаще то в Москве, то в Переделкино. На дачу к тебе всегда приезжали с Валентиной Брумберг. Оказывается, во время первой встречи ты спросил ее, замужем ли я. И она ответила:
– Нет! Что вы!
Когда мы возвращались домой, Валентина шутливо призналась мне в этой лжи и с присущим ей легкомыслием объяснила свой обман тем, что все турки страшно ревнивы, что с девушкой тебе приятнее будет работать – так ты скорее напишешь нам сценарий. Ведь ей нужен был сценарий…
Чудачка, ей и в голову не могло прийти, как это все осложнит потом. Но странно: ее милый обман помог нам с тобой надолго сохранить добрые безмятежные отношения, которые постепенно переросли в любовь. Валентина, я благодарю вас.
Шли месяцы со времени нашего знакомства. Ты стал у нас на студии своим. К тебе привыкли. Тебе у нас хорошо. Нам казалось, что ты среди нас отдыхаешь. В то время мультфильмы создавали веселые, до озорства насмешливые, чистые люди. Наш сценарный отдел на втором этаже пристройки к бывшей церкви, длинный, как пенал, был любимым перекрестком всех студийных дорог. Сюда забегали отвести душу, сообщить или узнать интересную новость, проверить на юмор трюк, реплику или послушать, о чем говорят наши обожаемые авторы. Ты часто звонил, приходил на студию, и все видели, что приходишь ты к нам не только по делу.
Я знала, что после звонка с вахты пройдет еще десять, а то и пятнадцать минут, прежде чем постучат в дверь и ты войдешь. Сценарный отдел – проходной двор студии – наполнялся нужным, а чаще всего любопытствующим народом. Все, кто обгонял тебя на лестнице, уже никуда не сворачивали. Они прямиком шли к нам.
Ты всегда входил в нашу узкую комнату как праздник. Тебя встречали с восторгом. Ты здоровался с каждым по очереди: женщинам целовал руки, что всех нас ужасно трогало и смущало. Наши мужчины, с которыми мы работали, не целовали нам рук. Мы все были товарищи. А ты слетал, словно из другого мира. Все при тебе приободрялись, подтягивались, прихорашивались; мелькали зеркальца, пудреницы, расчески. Мои коллеги трогательно подставляли тебе стул к моему столу, ты садился и говорил о каких-то делах, хотя все они были давно решены. К тебе очень хорошо относились, Назым, и мужчины, и женщины. У тебя для всех находилось доброе слово, совет, участие. И никто над тобой не подсмеивался и не злословил. Через пять минут в комнате уже разгоралась оживленная дискуссия. Споры были шумные, но какие-то честные, гуманные, даже веселые. Ты, Назым, был большой мастер втягивать людей в острый разговор, где скрещивались разные точки зрения.
Однажды ты пришел к нам и с улыбкой сообщил, что на днях встречался с колхозниками Украины и от них услышал злой анекдот про коммунизм.
– Смысл его в том, что коммунизм наступит, если в каждом колхозе появится вертолет, чтобы крестьяне в любой момент могли слетать в Москву за пшеном.
Тогда бесчисленные анекдоты множилось пропорционально государственному истреблению сатиры. Анекдотами люди отзывались на любые проявления лжи, глупости, демагогии, социальной несправедливости и административного головотяпства. Их рассказывали везде и всюду, но никто из нас почему-то не задумывался, откуда они берутся.
– Я спросил их, – продолжал ты, – а знают ли они, кто в Советском Союзе сочиняет анекдоты? Они очень серьезно отвечали: «Политические – Илья Эренбург, а про пшено – Зощенко!» Я их не стал разубеждать. Я очень за товарища Зощенко обрадовался. Какой замечательный у него народный авторитет, несмотря на весь позор, который здесь сделали! И я очень хочу, чтобы товарищ Зощенко знал об этой прекрасной любви советских людей.
Ты видел, как вместе с Никитой Хрущевым жиреет верхушка, расслаивается население СССР на «мы» и «они». К безликой кликухе «они» низы приговорили власть предержащих, тех, кто командует и анонимно повелевает нами. Говоря о «них», мы редко поминаем слова «партократия», «администрация», «чиновники». Коротко бросаем «они», и каждому все ясно – речь идет об отчужденных и опасных.
Как-то ты приехал из Союза писателей озадаченным: только что в разговоре с тобой один поэт почему-то все грехи нашей жизни приписывал козням какой-то Софьи Власьевны. Ты спросил, не знаю ли я, кем она работает и где. Я тебе со смехом объяснила, что «Софьей Власьевной» наша интеллигенция для конспирации нарекла советскую власть. Ты тоже смеялся, но как-то невесело.
Мне нравилось твое внимание, твое удивительно нежное отношение ко мне. Долго, очень долго я ничего не понимала. Я видела в тебе необыкновенно хорошего, умного, доброго человека, несмотря на болезнь и возраст, заразительно молодого, с обостренным чувством романтики. Твоя жизнь была освещена более обширной идеей, чем у официозных глашатаев моего времени. Ты говорил о моей стране с такой неслыханной искренностью, что я впервые стала задумываться о ее трагической судьбе и любить еще больше. Это было важно. Важно было и другое – тебе я поверила сразу. Но мне не приходило в голову, что твои чувства – любовь.
И вот однажды ты позвонил и попросил показать тебе старый французский фильм «Дети райка». Это было сложно, сложно по тем временам. Мы специально для тебя привезли эту картину из хранилища Госфильмофонда, и 3 ноября 1956 года ты приехал смотреть ее с Бабаевым и друзьями.
Стояли ранние морозы, на студии еще не включили отопление, было холодно, и мы работали в пальто. В полупустом холодном зале мы все так и сидели, не раздеваясь, а грустный, трагический в своей неразделенной любви Арлекин – Луи Барро – удивлял нас совершенством и силой своих чувств. Ты был очень взволнован тогда. Ты попросил меня сесть рядом, и я заметила в тебе какое-то беспокойство. Мне показалось, что ты замерз, я принесла тебе из буфета стакан горячего чая. Ты выпил чай, но не выпускал стакана из рук. Ты не хотел, чтобы я отнесла его. Ты не хотел, чтобы я уходила. Кончалась первая серия. Фильм потряс меня.Я тогда впервые увидела знаменитого актера Луи Барро, которого я уже никогда не забуду, потому что с ним связаны дорогие минуты моей жизни, минуты громадного удивления и открытия.
Ты поднялся со своего места, Назым. Поднялся вдруг и сказал, что должен уйти. Я очень удивилась, ведь ты сам просил показать тебе фильм и почему-то, не досмотрев, уходишь…
– Вам не понравилась картина?
– К сожалению, милая, у меня нет времени. Нет времени… Вы можете меня проводить?
Мы вышли из зала. Ты шел непривычно быстро, почти бежал, и первым делом я подумала, что разболелось твое сердце. Ты был гордый человек, не любил жаловаться, перекладывать на плечи других свою боль. На лестничной площадке между вторым и первым этажами ты остановился и молча стал смотреть на меня, сжав мои руки выше локтей. Так мы стояли и не говорили ни слова. Твои глаза метались по моему лицу.
– Я люблю вас. Понимаете ли вы это? Я люблю вас, – тихо-тихо сказал ты и заплакал.
Я никогда не видела, как плачут мужчины. Свет закачался под моими ногами от твоих слов, от твоих слез… Мы стояли на лестничной площадке, я смотрела на твое мокрое лицо, не отрываясь. Было время обеденного перерыва, и люди сновали мимо нас – вверх-вниз, вверх-вниз. Но мы их не замечали.
– Вам, наверное, все это кажется смешным? Вы сейчас думаете, что я гожусь вам в деды. Я и сам бы так думал на вашем месте… Но поймите, мне очень больно. Кровь идет из моего сердца, так я вас люблю.
– Не плачьте, – тихо просила я. – Не плачьте.
– Через два часа я уезжаю за границу. Я понимаю, вы не можете мне оставить никакой надежды, я обещаю вам никогда об этом больше не говорить, не вспоминать. Я вернусь в Москву, только когда избавлюсь от вас.
Ты не уходил. А я все молчала и во все глаза смотрела на тебя. Впервые не как на революционера, и не как на героя, и не как на великого поэта, а как на милого слабого волшебника, совершавшего свое последнее чудо. Мое сердце качнулось к тебе навстречу, я еще не понимала, отчего оно качнулось, и твои руки, сжавшие мои плечи, унесли меня куда-то, не знаю куда. Ты робко, едва прикасаясь к щекам и лбу, целовал меня на лестничной площадке в час обеденного перерыва и говорил мне:
– Прощайте!Интересно, помнит ли нашу встречу в Париже уважаемый мастер Луи Барро?
Однажды весной мы пришли в его театр, чтобы посмотреть спектакль юных мимов. Их на произвол судьбы бросил тогда Марсель Марсо, а Барро предоставил им свою сцену. Оказалось, что он в театре и просит нас зайти в антракте. Это было невероятно. Его кабинет находился высоко, под самой крышей. Мы увидели Луи Барро в пролете лестницы издалека: он стоял на площадке верхнего этажа и махал нам рукой. Потом вы с ним сидели близко-близко и говорили о театре, обнаружив родство вкусов и привязанностей. Ты не скрыл, что он невольно оказался посредником между нами…
Мы зашли к Барро и после спектакля. Удивительный он человек! Время отступило перед ним, оставив таким же, каким мы увидели его в «Детях райка». Вероятно, он был в пиджаке и, быть может, даже в галстуке. Не знаю. Почему-то теперь вижу его легкое стройное тело в черном трико. А длинные белые пальцы самого изысканного рисунка, на какой только способна человеческая природа, кружатся перед моими глазами, как ночные бабочки, подправляя его речь, закругляя слова запятыми и обрамляя точками фразы.
Мы покидали театр, когда в нем никого уже не было. Мы заглянули в пустынный зал – он спал, укутанный чехлами. И только выйдя на маленькую площадь, мы узнали, что полчаса назад здесь, у театрального подъезда, оасовцы бросили бомбу.
Мы никогда больше не встречали Луи Барро, но образ его уже вошел в нашу жизнь.Ты уехал. В тот же день. Через несколько часов. Я осталась. Осталась еще та лестничная площадка и легкое чувство утраты. Тогда я не любила тебя, Назым. Но после тех минут… Я стала думать, немножко грустить и, не признаваясь себе, чуть-чуть о тебе тосковать.
И вот тогда я убедилась, что все встречи с тобой прилежно сохранила моя память. Я кручу прошедшее, как фильм, туда-сюда. Потрясающе… Смотрю наше кино, смотрю, все больше убеждаясь, что ничего ни о тебе, ни о твоей жизни не знаю. Десяток-полтора стихов, две пьесы да отлакированная нашей пропагандой биография «классового борца» и «борца за мир». Этот набор больше мне не кажется достаточным. На помощь приходят твои книги, я начинаю читать тебя, Назым. Трудную работу изучения твоей личности исполняю с тщательностью исследователя-фаната.
Как мне легко воспринимать твою идейность, я сама патриотка, каких свет не видывал. Ведь всю мою жизнь определяет одно слово – счастье. Я не подвергала его сомнению. Ни разу. Я родилась в самой счастливой стране в единственной стране повальной справедливости. Я с детства усвоила, что у меня, как и у всех моих сверстников, было самое счастливое детство. Мой отец отдал жизнь на войне за победу над фашизмом, то есть по высшему счету за мое счастливое будущее. Как я ненавидела своего дядьку, маминого брата, у которого после возвращения из эвакуации мы года два жили под Москвой. Когда радио в конце войны оглашало очередной приказ Сталина об освобождении от фашистов нашего или чужого города, он кривлялся перед репродуктором, плевался и кричал: «Ге-не-ра-лис-си-мус! Гришка Отрепьев! Самозванец!» Мы считали его немножко сумасшедшим, в эти моменты боялись и выглядывали во двор – не услышал бы кто… Но в семье, как говорят, не без урода.
Зато моя мама настоящая патриотка. Педагог по призванию, с нежностью прививала она мне и своим воспитанникам-детдомовцам любовь к нашей советской Родине. Всю жизнь она хранила величайшую обиду на своего старшего брата, все того же дядю Колю за то, что когда она в 1923 году вернулась из школы и с гордостью сказала, что ее приняли в комсомол, он подошел и молча дал ей пощечину. Иногда в трудные минуты строгая мама плакала и, как маленькая девочка, причитала:
– Господи, господи, Веруся, ну почему я так люблю Советскую власть?! Ведь она в семь лет сделала меня сиротой… Моего отца расстрелял отряд красных конников, примчавшийся из Саратова жечь барскую усадьбу. Папа там много лет прослужил управляющим… Не говори только никогда никому… Господи, ну зачем он вышел на крыльцо и крикнул им: «Не дам!» А наутро меня с Марией Максимовной (маминой мачехой. – В. Т .) отвезли в саратовскую тюрьму… Господи, Веруша, что ты меня не остановишь?! Я тебе уже двадцать раз об этом рассказывала… А у меня нет зла на душе. Нет! – продолжала мама. – А твоего отца? Близорукого инженера убили на войне как пушечное мясо…Мама, мама, всю жизнь ты работала с какой-то страстной честностью, ты согрела много маленьких сирот, и люди тебя уважают. А мне отчего-то всегда жалко тебя и твою горькую жизнь. Очень. Знаешь, Назым, когда ты умер, мама во славу и память о тебе решила вступить в партию. Восполнить выбывшее звено. Ну, как тысячи наших людей вступали в партию после смерти Ленина. Под лозунгом «Ленин умер, но дело его живет!» Вот и она на этот манер одна, правда, написала заявление. А ее не приняли. «Вам, – сказали, – пятьдесят три года, мамаша. Вам, наверное, пенсию персональную хочется? А партии нужны молодые бойцы».
Итак, я читаю твои книги. Ты много раз говорил, что вся твоя поэзия автобиографична, а все свои пьесы ты рано или поздно прожил.
Раньше я особо не задумывалась о твоей жизни, все принимала как есть, но какие-то вопросы возникали. Вопросы о значении некоторых людей в твоей жизни. Вот, например, на даче в верхней гостиной к стеклам окна ты прислонил две укрупненные фотографии – прелестного мальчика с твоим лицом и красивой женщины, упорно смотрящей в сторону. Два лица из прошлого, экспонированные в оконной витрине, символы былого – воспринимаются как дизайн. И что это за новая формула родства, которую я услышала от тебя: «мать моего сына»?
Вопросы, вопросы… С нетерпением молодости я пытаюсь разгадать твое нынешнее житие, не имея внятного представления о твоем прошлом. Мне было недоступно понять, как на твоей даче, где царила крамольная бескомпромиссность взглядов на всю нашу запутанную жизнь, политику, где бескорыстно предлагалась всяческая помощь порой и вовсе чужой душе, хозяйничали две мещанки, две сибирские бабы – молодайка и старая, вечно попрекавшие тебя при посторонних нехваткой денег.
Я видела, как ты угнетен своей болезнью, как унижен. Ты делал несколько шагов по дорожке сада и замирал, прислушиваясь к биению своего сердца. Ты больше любил сидеть, полеживать. Тебе постоянно делали уколы, а за едой перед твоей тарелкой неизменно выставлялся громадный больничный поднос с лекарствами, и ты глотал, глотал порошки и пилюли, пугая всех нас повиновением.
Никто из нас – частых свидетелей твоего быта, воспитанных литературой и жизнью почти в религиозном уважении к эскулапам, не воспринимал всерьез твою докторшу. Этому немало способствовал и ты сам: как бы предвосхищая реакцию на нее, шутливо объяснял всякому вновь прибывшему гостю, что являешься единственным человеком в Советском Союзе, у кого есть персональный врач на договоре и зарплате… На манер писательских шоферов и домработниц. И персональный врач отрабатывала: «Не ешь, а то умрешь!», «Не разговаривай, а то умрешь!», «Иди медленнее, а то умрешь!» И странное дело, ты в страхе останавливался, отодвигал тарелку, умолкал. В жару при гостях за столом она могла раздеть тебя до пояса и натянуть шерстяное белье, а через час тут же, когда с тебя ручьями уже тек пот, в присутствии интеллигентнейших друзей и смущенных дам – стаскивать и менять мокрое. Все это поначалу выглядело просто дико.
Ты боялся есть, пить, дышать свежим воздухом. Ты боялся ветра, снега, солнца, дождя, но больше всего ты боялся сумерек. Я заметила это очень скоро. Когда солнце уходило за горизонт, мне казалось, ты поднимаешься на цыпочки, чтобы подольше не отпускать его край. Ты менялся в несколько секунд. Из веселого, общительного, жадного до самых горячих споров человека ты превращался в настороженное ожидание. Ты боялся одиночества в сумерки. И если целый день люди черпали в тебе силы, то вечером ты молча просил их о поддержке.
Вопросы, вопросы…Подожди, Назым, подожди. Я сейчас. Выпью темного чая, чтобы согреться. Знаешь, я теперь приладилась чай в термосе заваривать. На всю ночь хватает. До самого утра. До утра… Спаси меня, Назым, спаси. Мне одной не выйти из круга…
Изредка звонит Акпер, справляется о твоем фильме. И ни одного слова о тебе. Я тоже ни о чем не спрашиваю. И вдруг слух: Назым Хикмет женился?! В Польше! На какой-то старой богатой графине. Разговоры, разговоры… В те годы полнейшего отсутствия информации мы питались слухами. Несметное множество их ходило по Москве. Все плохое обычно подтверждалось… «Ну, что же, Назым. Пусть будет старая графиня. Богатая ваша полька. Поздравляю с выздоровлением! Как говорят у нас, что′ Бог ни делает – все к лучшему», – безрадостно думаю я. На душе муторно… Но у Акпера ни за что спрашивать не стану! Почему-то постоянно вертелась в голове сказанная тобой заповедь заключенных: «Не верь, не бойся, не проси».
Передо мной вереница лиц. Дамский интернационал зачарованных тобой интеллигенток. По составу трогательной массовки можно без труда определить географию всех твоих передвижений по планете. Теперь, откручивая события назад, вижу, как с переменным успехом дамы боролись за счастье быть с тобой, становясь – как все влюбленные на белом свете – то вдохновенно прекрасными, то потерявшими надежду дурнушками. А вы, великий миротворец Назым Хикмет, как управлялись с этим пылким хороводом? Я, кажется, слышала от вас ответ.
Однажды после премьеры «Чудака» в Минске, ты, Назым, как водится, пришел за кулисы поблагодарить исполнителей и, прежде всего, известную актрису, игравшую главную героиню Нихаль. В ответ многоопытная прима кокетливо упрекнула тебя:
– Ах, Назым, спасибо, но вы, наверное, хвалили всех актрис, не только меня…
Ты сказал со своей неизменной улыбкой:
– Ах, миленькая, мы, турецкие мужики, такие, ничего не поделаешь! Знаете, у одного нашего султана был гарем, и вот в этот гарем вошла однажды молодая жена. После брачной ночи довольный султан надел ей на шею голубые бирюзовые бусы: «Это знак моей любви. Никому не говори о моем подарке и никому его не показывай, потому что ту, которой принадлежат голубые бусы, я больше всех и люблю!» Новая жена гордо вошла в гарем и с порога заявила другим женщинам, что теперь султан больше всех любит ее. Те обиделись и потребовали доказательств. Тогда молодая жена, отвернув ворот, показала им свои голубые бусы. Каково же было ее изумление, когда все жены султана продемонстрировали ей точно такие же… Моя голова, как сундук, набита всякой всячиной, услышанной от тебя…Прошло почти девять месяцев. 27 июля 1957 года ты приехал, позвонил и сказал:
– Милая, это я.
– Здравствуйте, Назым, – сказала я и засмеялась от радости.
Оказывается, все эти девять месяцев не переставая я думала об этой минуте, о том дне, когда ты ве4нешься, когда позвонишь. Но убедилась в этом несколько секунд назад. Стало вдруг хорошо и страшно…
– Ну как наши дела?
– Да все в порядке. Ваш сценарий запущен в производство. Но ставит его другой режиссер – Анатолий Георгиевич Каранович.
– Но вы уже что-нибудь сделали? Есть что посмотреть?
– Да, Назым. Написан режиссерский сценарий, и готова раскадровка.
– Когда я могу все это увидеть?
– Когда захотите.
– А можно завтра?
– Можно.
Пауза.
– Можно?
– Можно.
Пауза.
– Я немножко устал от дороги, милая. Вы не могли бы приехать ко мне на дачу? Я завтра пришлю за вами машину. Часов в двенадцать, а?
– Хорошо. Мы приедем, – стараясь не выдавать волнения, сказала я.
– Спасибо, милая. Целую вашу ручку.
Попрощавшись, я положила трубку. На ней блеснул влажный след ладони. О чем думала тогда – не помню. Так постояв несколько минут, я перевела дух и сломя голову помчалась в режиссерскую группу сказать, что ты приехал!
Ночью я не сомкнула глаз и все утро не находила себе места. Я перебирала в памяти вчерашний разговор, пытаясь понять, значил ли он то, что значил, или нечто большее, даже не большее, а другое?У тебя была красивая дача в Переделкино…
По дороге почему-то представила тебя, поджидающего нас наверху, на просторной светлой террасе, превращенной в зимнюю комнату. И пол, и стены там светло-желтые. Непривычно. Вспомнила, как впервые вошла туда и оказалась в окружении книг, картин, диковинных вещиц, привезенных и присланных со всего мира. Запомнились небольшие скульптуры из Китая, Индии, Африки, книги по искусству, монографии о художниках, изданные в «Skira» (итальянское издательство. – А. С .). Ничего этого мы тогда не видели. Все было новым, вызывающим жгучий интерес.
Вспомнила акварель театрального режиссера и художника Николая Павловича Акимова, стоявшую на длинном столе. Не знаю, как она называлась. На ней были нарисованы две головы: старика и молодой очень красивой женщины. Вспомнила, как ты всегда, пересаживаясь с места на место, поворачивал к себе эту картину, чтобы не терять два этих лица из виду.
Вспомнила, что стена против двери была сверху наполовину застеклена, а внизу, прямо на полу, окантованная в раму, стояла репродукция с картины Ван Гога «Кафе в Арле ночью». Над дверью отличная репродукция с картины Пикассо «Плачущая женщина». В комнате висело и стояло прислоненными к стене еще много картин, а среди них большой холст Абрамова «Назым Хикмет в тюрьме» – на черном фоне серая решетка и в глубине красный цветок.Потом, когда мы уже жили вместе с тобой в Москве, этот художник время от времени являлся с криком: «Назым, купи мою новую работу!» И всякий раз в его руках была копия все той же картины с решеткой и цветком. Только назывались они иначе: «Белоянис в тюрьме», «Манолис Глезос в тюрьме», «Патрис Лумумба в тюрьме»… Ты купил у него четыре картины. Все они стояли в доме лицом к стене, пока как-то Абрамов не ворвался к нам и не потребовал их назад.
Однажды на рассвете, несколько месяцев спустя после твоей смерти, он опять появился у двери нашего дома. «Назым, открой, Назым, открой!» – истошно взывал он.
Но это было потом. Господи, как в голове моей все скачет, одно набегает на другое, но ты-то меня понимаешь. Ты понимаешь, Назым…В машине по дороге на дачу, мысленно блуждая по комнате, где ты, как мне казалось, чаще всего любил разговаривать с гостями, я настойчиво вызывала в памяти образы ее предметов. И эта странная погоня за ними отвлекала, успокаивала. Стена справа от двери была скрыта большими книжными полками, они поднимались почти до потолка. Рядом с книгами стояли и русские матрешки, и вятские игрушки, и даже старая русская икона. Но в убранстве твоей дачи ощущалась музейная холодность и грусть.
Знаешь, когда наш друг, Михаил Давидович Вольпин побывал у тебя впервые, он сказал мне: – Какая должна быть тоска у этого человека, если он поселил себя среди игрушек. Я сам люблю игрушки, но мне жаль Назыма, он пытается заполнить ими ту часть своего сердца, которую игрушки заполнить не в силах.
А в тот теплый июльский день 1957 года по пути в Переделкино я вдруг отчетливо представила, как мы сейчас подойдем к твоему дому, позвоним в дверь. Услышим лай собаки, твои шаги, спускающиеся по лестнице вниз, твой голос, успокаивающий Шайтана. Потом увидим тебя самого, непременно радушного, радостного. Поднимемся вслед за тобой по деревянной лестнице наверх. Окажемся внутри солнечной желтизны стен. Снова возникнет чудесное ощущение твоего мира… О старой польской графине не думала. Видимо, как все женщины твоей орбиты, я не могла представить тебя ни с одной из них. Сейчас ты гостеприимно усадишь нас в плетеные кресла, определишь каждому свое место, угостишь легким вином, орешками и крепчайшим кофе. Завяжется интересный разговор… Сейчас мы узнаем, как живет закрытый для нас мир. Что там смотрят в кино, что ставят в театрах, что рисуют, чем дышат… И вот тут я споткнулась. Машина затормозила и завернула к воротам.
Вот она, знакомая дача. Улица Тренева, № 1. Жара. Солнце играет на стеклах двух этажей. Направо – гараж и сторожка, налево – собачья будка. Дворовый пес громыхает цепью – единственное угнетаемое существо на этом полугектаре земли, воздуха и света. Впрочем, рыбы в твоем аквариуме вряд ли забыли море… И птицы летают – в клетках. И бог знает, кто еще в этом доме, распахнутом тобой настежь перед людьми, хочет свободы…
Мы вошли. Тихо. На стенах прихожей нас встретили польские киноплакаты, лучше которых нет пока у мирового кино. Налево дверь, открытая в кухню. Заглянули: посередине длинный стол, выкрашенный по твоей просьбе синей масляной краской, стоит на желтых ногах – модерн Хикмета. На стенах гирлянды желтых кукурузных початков, красного перца, лука, чеснока. Вдоль стен бордюр деревянных полок с расписными глиняными тарелками. Холодильники, шкафы, а тебя нет. Тихо… Безлюдно…
Мы с Карановичем вышли из кухни и остановились в растерянности. Наверх вела узкая деревянная лестница с перилами. Но подниматься на второй этаж мы не стали. Пошли в нижнюю гостиную. Длинный дубовый стол-гигант захватил тут лучшую часть пространства. А на нем выставка, музей ремесел: игрушки, и безделушки, и праздничные свечи – чего тут только нет. На стенах картины, уже знакомые, уже полюбившиеся, смотрят, как старые друзья. Гордость Назыма – детища турка Абидина Дино. Картины Пикассо, его друга испанца Альберто, Юры Васильева, Володи Вайсберга. Выделяется эта. Измученная жизнью женщина в полосатом платье смотрит на вас устало и прямо, тяжело опершись рукой на газовую плиту. Трудно выдержать этот взгляд, устремленный в вашу совесть.
– Когда я смотрю на эту женщину, – признался ты однажды, – мне становится страшно стыдно, что живу один в этой семикомнатной даче. Чувствую, что я просто сволочь. Тогда постараюсь работать побольше, что-то сделать полезное, но не всегда удается…
Ты не выносил пустых стен, я убедилась в этом, когда мы создавали наш общий дом. Потом расскажу, почему твоя квартира оказалась вдруг пустой, но мы весело поклялись, что в нашем доме будут жить вместе с нами только красивые вещи. Это, конечно, не означало дорогие, потому что с деньгами иногда бывало туго. И однажды я возмутилась, увидев, как ты прибиваешь гвоздями к стене картинку, вырезанную из журнала «Огонек». Ты посмотрел на меня с грустью, с сожалением и сказал:
– Тебе трудно понять меня. Но, Веруся, я больше четверти своей жизни провел среди пустых тюремных стен. Их украшала только грязь. Извини, что теперь хочу радовать мои глаза.
Прости и ты меня, Назым. Так трудно было представить тебя узником. Поначалу я многого не знала.На потолке – соломенный поросенок, подарок Пабло Неруды. На оконных стеклах искусно подвешенные тобой на леску персонажи турецкого театра теней «Карагез», сделанные из буйволиной кожи. Всё на месте. И плакат Пикассо «Девушка в голубом» – вот он, а тебя нет.
А ты рядом. Примостился на крошечной открытой террасе в плетеном кресле. Сидишь, пальцами шерсть Шайтана перебираешь, а сам далеко-далеко отсюда – то ли в будущее забрался, то ли в прошлом кого-то повстречал… Боже мой, какая дума в эти мгновенья сокрушала тебя… И было в тебе так много усталости, словно все пережитое обступило тебя со всех сторон. Навалилась всей тяжестью жизнь, измяла синий вельветовый пиджак и состарила тебя. И был ты в эту минуту, может быть, самым-разсамым самим собой.
Большой, одинокий, старый человек с высоким лбом и копной пепельных кудрей да громадная собака с ласковой желтой шерстью и людскими глазами сидели, прижавшись задумчивые, отрешенные, согревая друг друга в этот жаркий июльский день теплом своим. И никто, никто им сейчас не был нужен…
Мы стояли, боясь пошевелиться, боясь потревожить, вспугнуть то, что приходит к человеку мучительно, а исчезает в миг. Увидела я тебя таким, и исчезло мое ожидание праздника, и все иллюзии, в которых не признавалась себе сама. И стало мне легко.
Шайтан – большой лохматый тонконогий колли бросился нам навстречу и стал лизать мои голые колени.
– О-о, наш Шайтанчик весь пошел в своего хозяина! – грубовато пошутил ты и превратился в обычного: непоседливого, гостеприимного, оживленного.
В эти дни в Москве проходил Первый международный фестиваль молодежи и студентов. Ты стал подробно расспрашивать нас о фестивале.
– Как относятся советские люди к приехавшим? Нравятся ли негры русским девушкам? Как реагирует Москва на такое количество молодых иностранцев? Не скучно ли гостям «у нас»?
С детским любопытством – ведь тебе не приходилось до этого сталкиваться с производством кукольных картин – ты разглядывал раскадровку будущего фильма, был изумлен и обрадован. Ты великолепно знал живопись, был тонким, умным и требовательным ее ценителем. Поэтому не все из того, что увидел, тебе одинаково понравилось.Знаю, ты мог иногда слукавить и похвалить из вежливости спектакль, книгу, стихи, музыку, но художнику и архитектору не врал никогда, понимал, что они лишены возможности видеть мир, что профессионально задыхаются в наглухо закупоренной кастрюле соцреализма без музеев, выставок современного искусства, без возможности увидеть даже репродукции нового.
У тебя было необычайно развито чувство композиции и цвета. Это относилось не только к живописи, а ко всему, что окружало тебя в жизни. Но живопись была для тебя отдушиной. Когда ты, Назым, смотрел на чистые, сочные, глубокие краски – были ли они черными, желтыми или синими, – казалось, словно вдыхаешь краски с тканей, с картин, с неба, с автомобилей. И все для тебя окрашивалось в цвет: и дождь, и асфальт, и музыка, и слова любви, и разлука, и будущее, и стихи…
Когда ты начинал объяснять художнику свое отношение, то размахивал руками, вскакивал, садился, говорил громко, почти кричал. Опрокидывал вещи, стоящие под рукой, разливал и крошил то, что находилось на столе, но сохранял при этом сногсшибательную элегантность…И все-таки в тот день тебе не доставало твоей подкупающей естественности. Точно невидимые бури лихорадили тебя. Я была сама не своя. Но и ты допускал фальшивые ноты. А все, что произошло девять месяцев назад на лестнице, казалось невероятным наваждением. «Ну что он суетится, – злилась я. – Боится, что обрел свободу, а глупая барышня пребывает во власти неосторожно брошенных слов? Да ничего подобного. Было и прошло. Не стоит беспокоиться. Никого он с пути истинного не свел. Но почему на сердце так больно кошки скребут?»
А ты мне потом говорил: – Я впервые увидел тебя такой суровой и закрытой, точно индийская гробница. Не смеешься, не улыбаешься и постоянно видишь меня насквозь, как рентген. Я тогда почувствовал чуть-чуть твою внутреннюю силу и вдруг стал нервничать…
Во двор въехала серая «Победа». Шоферская дверца распахнулась и…
– Вот наша Музочка, – сказал ты.
Вслед за Музой из машины вышел Акпер. И они вместе, улыбающиеся, летние, направились к террасе. Муза, одетая во все зеленое, выглядела очень экстравагантно, несколько роскошно для шофера, но зато мимо не пройдешь. Ха, едет, должно быть, по Москве, рулем покручивает, зелеными глазами светофорам подмигивает, и они ей зеленым отвечают. Здорово!
– Ну, Музочка, приехала? – ласково приветствовал ты ее. – Ну, расскажи, посмотрим!
Любил ты это «ну» к словам прикладывать. Так тебе легче было разговор заводить и дело делать. «Ну!» – да еще в ладоши хлопнешь, да подмигнешь, да головой покачаешь – попробуй устоять при таком обхождении.
Ты поцеловал Музе руку, а с Акпером расцеловался, да еще приговаривал:
– Ой, Экперим, эфендим, устадым, ой, паша! Познакомься, Музочка, вот наша Вера Тулякова, редакторша из мультфильма, а вот наш режиссер… – и ты запнулся.У тебя была никудышная память на имена, фамилии, числа, дни недели… Список велик. Но в главном память была надежная: не забывал обманутой дружбы, хотя и объясняться на этот счет не любил, всегда помнил человечные поступки людей, неважно, относились они к тебе самому или к другим, всегда возвращал долги. Недавно мне показали твое письмо, написанное, когда ты в 1960-м году покупал автомобиль «Волга»: «Прошу троих моих братьев: Сулеймана Рустама, Мехти Гусейна и Расула Рза одолжить мне деньги на машину. Обещаю вам не умереть, пока не верну долг. Ваш Назым».
Ты оставил нас слушать свои последние стихи, переведенные Музой Павловой и Акпером за время твоего отсутствия. Что и говорить – слушать стихи мы остались с удовольствием. Стихи твои уже жили во мне.
Ты слушал переводы напряженно, просил повторить строки, которые не понял или не принял. Ничего не существовало для тебя в этот момент, только стихи. Слушая их, ты в такт покачивал головой. Лоб твой взмок, покрылся капельками пота, пальцы пришли в движение, что-то беспорядочно перебирали, трогали, мяли, словом – нервничали.
Муза читала ровно, спокойно, донося каждое слово:Родина, родина,
не осталось на мне
даже шапки работы твоей,
ни ботинок,
носивших дороги твои.
Твой последний пиджак из бурской материи
износился давно на спине…
В том варианте перевода строка о ботинках сначала была иной: привычной, правильной – «ни дорог, носивших ботинки твои». Ты сразу прервал чтение, стал объяснять, что у тебя написано наоборот. Очень волновался. Тебе все казалось, что ты недостаточно внятно говоришь, поэтому ты постоянно обращался за поддержкой к Акперу. Быстро скороговоркой объяснял ему свою мысль по-турецки, чтобы Акпер помог растолковать заложенный в строку смысл.
Акпер был счастливым человеком. Все, кто любил тебя, Назым, завидовали ему – он читал твои стихи в подлиннике. Ты утверждал, что Акпер говорит по-турецки, как урожденный стамбулец. Ты доверял его литературному вкусу и всегда волновался, показывая ему только что законченные стихи. В моменты домашних поэтических премьер Бабаев был для тебя Турцией.
Акпер тебе никогда не поддакивал, а бывало, и не соглашался с тобой в литературных спорах. Ты кипел, старался переубедить его. Акпер упорствовал. Ты злился, просил, умолял и смеялся, в конце концов восклицал:
– С ума вы меня сведете, Бабаев! Упрямый, как черт!
Ты не случайно называл Акпера своим сыном. Много сил твоих вложено в азербайджанского паренька, приехавшего в Москву из провинциального Кировабада. Акпер боготворил тебя. Свой выбор он сделал заочно, начав писать диссертацию о творчестве Назыма Хикмета – тогда ты еще сидел в тюрьме. Вот так вы и дружили. Назло врагам. А враги у вас были. Близость Акпера к тебе вызывала в первые годы подозрительность у функционеров из разных ведомств. С другой стороны, совместная литературная работа поэта и переводчика рождала острую зависть, желание убрать Акпера с дороги и у некоторых туркологов.
И писались клеветнические заявления и подметные письма, они принесли Акперу в сталинское время, да и позже, много горя. Рикошетом грязь летела в тебя. Когда ты получил советский паспорт, тебе показали несколько подлейших образчиков доносительства.
Акпер иногда подтрунивал над тобой. Научил говорить «спасибо» по телефону, когда ты набирал «100» и механический голос называл точное время. Конечно, это он сказал тебе, что московские милиционеры любят обращение «товарищ мильтон». Да и много чего еще… А ты в долгу не оставался. Привез однажды Акперу из-за границы как самый дорогой подарок консервы с питьевой водой! Вы очень непосредственно и по-доброму воспринимали друг друга и не переставали удивляться неожиданным поступкам, на которые были горазды оба.
И еще: ты очень любил рассказывать, вспоминать, а Акпера медом не корми, дай тебя послушать. Правда, ты никогда не повторял историю буквально. Всякий раз в ней появлялись какие-нибудь новые подробности. Акпер мог слушать тебя бесконечно, хотя большинство историй знал наизусть.
Муза читала стихи.Странная стала погода —
то снег, то солнце,
то дождь.
Говорят,
после атомных испытаний
оседает стронций
на траву,
на мясо,
на рожь.
На надежду,
и на свободу,
и на великую мечту,
у чьих ворот
стучимся…
Ты слушал придирчиво. Просил заменить не «свое» слово более точным. Обращался ко всем за помощью. Все хором искали синонимы, думали, предлагали. Ты мастерски улавливал самое подходящее слово. Ты был так прост, так непосредственен, такая жажда творчества исходила от тебя, что передавалась и всем нам.
Я еще не знала, насколько важным для тебя было мнение самых разных людей о твоей работе. Ты не гнушался, как некоторые, показывать только что написанное знакомым и незнакомым людям.
Но выслушивать любое, самое толковое замечание для тебя было сущей мукой. Ты нервничал, спорил, обижался, говорил, что ничего не умеешь. Поневоле приходилось тебя ласкать и утешать. Были люди, к мнению которых ты прислушивался. Хотя механически предложения не использовал. Никогда. Сбить тебя критикой было невозможно. Все это я поняла хорошенько потом, а в тот день…Муза читала отчетливо и спокойно, донося каждое слово:
Начался листопад моего поколения.
Не все мы дождемся
этой зимы.
– Извини, милая, как ты сказала? – прервал ты Музу.
– Начался листопад…
– Листопад – это когда осенью деревья становятся голыми? Дождь из листьев? У вас так?
– Да, Назым.
– Какое красивое слово «листопад». Никогда не слышал. Читай, пожалуйста.
Что ты хотел сказать, Назым, в этих стихах? Что смерть заставляет задуматься о жизни? О жизни того, кто умер, и о жизни собственной? Я много раз слышала от тебя фразу из Корана: «Человек должен жить так, словно он вечен, и так, словно проживет всего один день».
«Товарищ Нина» – так уважительно называл ты хозяйку кухни и чистоты, а попросту повариху и домработницу – ударила в гонг. Наступало время обеда. Ты хлопнул в ладоши и позвал всех за стол. Гости особенно не сопротивлялись. Мы встали, зашумели. На не покрытом скатертью столе небольшие болгарские пиалы, рядом русские деревянные ложки, неудобные, больше пригодные, чтобы щи хлебать из общей миски. Я не любительница показухи, тут же попросила дать мне нормальную ложку и получила ее под твоим остреньким, все с ходу понимающим взглядом.
Еды немного, трапеза больше символическая: фасоль, брынза, зеленый лук. Поэтому гости нажимают на хлеб. Мне есть не хочется. Зазвонил телефон – говорят, это Аркадий Райкин. Ты вышел из-за стола, взял трубку, бурно обмениваешься с ним приветствиями, шутишь, и с ходу:
– Прежде всего, я должен тебе рассказать. Про меня здесь пустили слух, будто я женился в Варшаве. На богатой – это ладно, то, что она графиня – нормально, но вот что она старая – это мог придумать только враг!
Ты вернулся за стол, на меня не смотришь, будто меня и нет. Это трудно – сижу я прямо напротив тебя. Зато Акпер пристально наблюдает за нами обоими.
За столом оживление. Гости возбужденно говорят о стихах. Многое из прочитаного в тот день позже вошло в сборники «60 стихотворений» и «Новые стихи». Грусть их надолго повисла в воздухе. Это была грусть листопада.
– Ничего! – ударил ты ладонями по столу, откинулся назад и взглянул на меня в упор. – Все-таки вы можете мне сказать, Вера, что с вами произошло? Вы так похорошели!
Тогда все посмотрели на меня. Муза посмотрела, и Акпер посмотрел, и Анатолий Георгиевич посмотрел. А я, как со мной бывает, краснею до ушей. Такая уж у меня способность дурацкая – краснеть в самое неподходящее время. И по сравнению с правдой стихов этот вопрос показался мне мелковатым. Стало досадно, что убрала Муза в папочку вместе с рукописью большого Назыма и оставила на обед Назыма маленького.
– Я хочу узнать, есть ли в моих стихах что-нибудь, что не нравится моей редакторше? – неожиданно весело спросил ты.
– Ваша печаль, – в тон ответила я.
– Вам, наверное, как большинству, кажется, что я самый счастливый человек мира? – ты усмехнулся.
– Если бы меня все любили так, как вас, я бы ни за какие деньги не писала грустных стихов, – попыталась я обратить разговор в шутку.
– Поэзия вообще дело невеселое, – вздохнул ты.
Помнишь, Назым, однажды Вольпин рассказал нам, как они с Эрдманом во время войны рыли окопы под Москвой. Немецкие летчики летали низко-низко над ними, даже их ухмыляющиеся морды были видны. Вольпин устал и пожаловался:
– Какая это тяжелая работа – копать землю. А Эрдман и говорит:
– Но все-таки легче, чем писать стихи.
– Да, – согласился с ним Вольпин, – несравненно легче.Значит, что-то со мной все-таки произошло… Какая-то тревога навалилась на меня. Стало холодно, беспокойно. А ты оживленно общаешься со всеми, много шутишь. Вот попросил ключи и вытащил из шкафчика бутылку ракы, наливаешь в рюмки, учишь нас пить турецкую анисовую водку, доливая водой. Мне показалось, что поглядываешь ты на меня как-то воровато, и веселье твое напускное, и говоришь что-то не свое, а слабенькое такое, ерундовое. Поймала я себя на мысли, что ты мне не нравишься. Захотелось мне поскорее уехать из этого дома.
Вышла я в прихожую, встала перед зеркалом и поглядела на себя. Ничего нового. Разве что волосы отросли, распрямились, выгорели на солнце… И вдруг увидела я тебя как наваждение в зеркале позади себя. Наше зеркальное отражение точь-в-точь походило на на неудачную фотографию акварели Акимова с лицами старика и молодой женщины. Только тут я с потухшими глазами, а ты с виноватыми. Не понравилась тебе эта фотография. Ты посмотрел мне в глаза строго, проницательно, властно. Потом схватил мои волосы в горсть так, что стало больно затылку, притянул мою голову к своему плечу, вдруг разжал ладонь, провел ею по своему лицу и, не оглядываясь, ушел.
Я привыкла видеть тебя разным – озабоченным, радостным, взволнованным, естественным. Сейчас же… Что-то развеялось, и на душе тускло, нехорошо. Домой, домой. Скорее домой…Всплыло в памяти зачем-то первое наше лето 1956 года. Помнишь, по твоему зову, Назым, мы с Валентиной Брумберг приехали к тебе на дачу?
Ты уже несколько недель тяжело болел, и по Москве ходили разговоры, будто умираешь от антибиотиков. Ты прислал на студию шофера с запиской и попросил его не приезжать без нас. Стояло лето. На дворе пекло солнце. Ты лежал в маленькой спальне. Едва мы вошли – с ног сбила невыносимая духота: окна и форточки наглухо закупорены. Почему здесь всегда было так душно?
Ты лежал на высоких подушках потный, в шерстяном белье. Печальные глаза смертника.Не могу смотреть в глаза умирающему —
стыжусь.
Жить мне кажется чем-то преступным,
если кто-нибудь рядом со мною прощается с жизнью, —
напишешь ты позже в стихотворении «Новогодняя елка».
Вот примерно эти же чувства охватили нас тогда. Твои тонкие руки вытянулись поверх теплого одеяла. Знаешь, я заметила, что руки всегда выдавали состояние твоего духа.
Кожа сплошь покрыта язвами. Некомпетентность домашнего врача чуть не обернулась трагедией – она переколола тебя пенициллином и спровоцировала болезнь крови, которую у нас лечить не могли. Мы слышали, что многие пытались достать для тебя за границей необходимое лекарство. Друзей хватало, да в ту пору даже у самых именитых из них практически не было контактов с иностранными коллегами.
Господи, как ты был плох, как измучен!
Ты тяжело и редко дышал. А за окнами буйствовало лето. Ели, сосны, березы раскачивались за твоими двойными стеклами. Зелень леса была нестерпимо яркой, а небо синее-синее, как на американской кинопленке. Рядом с летней благодатью ты выглядел большой умирающей рыбой, пленником потных подушек и жаркого одеяла, своей слабости, своей грусти, своей обреченности.
Мы стояли, склонившись над тобой. Никто из снующих за спинами «нянек» не предложил нам стула. Ты пригласил нас сесть на край кровати. Мы сели.
– Ну, миленькие, расскажите, что нового у вас?
Мы болтали о том о сем, пытались шутить и веселить тебя, притворялись как могли, но от этого притворства нам самим было жутко, и, казалось, ты это понимал. Врачиха упредила нас – не засиживаться. Демонстративно забралась с ногами на соседнюю кровать, подняла юбки, заголила ноги и принялась – в метре от нас – ковыряться в пальцах, стричь на ногах ногти…
Старая московская интеллигентка Валентина Брумберг, сраженная абсурдом происходящего, начала от возмущения по-настоящему задыхаться. Ты перехватил ее взгляд и так же, глазами попросил не обращать внимания. Тут, мол, ничего не поделаешь.
Мы все время порывались уйти. Но ты не отпускал нас, как маленький хватал за руки и тянул сесть. Улучив момент, когда надзор был ослаблен, вдруг быстро вытащил из-под подушки что-то вроде футляра от очков, высыпал из него мне в руку горсть таблеток и попросил выбросить их по дороге.
Позже ты рассказал мне историю своей болезни. Ее спровоцировали политические драмы 1956 года – правда о сталинщине, открывшаяся на XХ съезде, и советские танки, раздавившие венгерское восстание. Террор, кровь и ложь. Удары пришлись по самому сокровенному – по идеалам. На фоне жестокой депрессии началась пенициллиновая болезнь, и ты стал собирать таблетки сильнодействующего снотворного. В то лето ты умирал четыре раза.
А тогда, увидев мое замешательство, ты неожиданно улыбнулся, как в былые времена и рассказал чудесную притчу:
– Однажды Ходжа Насреддин заболел и пригласил врача. Когда врач уходил, Ходжа велел слуге дать ему денег. Потом он дал слуге деньги для аптекаря на лекарство, прописанное врачом. А когда слуга его принес – Ходжа приказал ему выкинуть лекарство в окно. «Как же так? – удивился слуга. – Вы дали деньги врачу, дали деньги аптекарю, а теперь хотите выбросить лекарство?» – «Я дал деньги врачу потому, что ему надо жить. И аптекарю надо жить. И мне тоже надо жить», – ответил слуге Ходжа Насреддин.
Вот сейчас подумала – не слишком ли сурово я обхожусь со временем твоей жизни до меня? Обещаю тебе, что расскажу о нас честно. Мы ведь так и говорили с тобой обо всем, Назым.Вечером того же дня, когда мы после длинной разлуки встретились в Переделкино, ты позвонил мне домой.
– Что с вами случилось? Вы можете сказать мне правду?
– О чем вы? – не поняла я.
– Тогда отвечайте: вы любите кого-то? Кто этот человек, вы можете сказать? Я его знаю?
– Я никого не люблю, – рассмеялась я. – Почему вам пришло это в голову?
– Ни-ко-го?!
– Ни-ко-го.
– Странно.
– Почему же?
– Так, милая. Не стоит меня жалеть, честное слово. Не стоит.
– Я и не собираюсь вас жалеть. Разве вы нуждаетесь в жалости?
– Я же не дурак. Вы так изменились. Вы совсем другая.
– Просто я стала красить губы. Это единственная перемена.
– Видел. Это тоже для кого-то, милая. Я прожил жизнь, миленькая. Женщины ничего не делают просто так. Я имею в виду ваше желание нравиться. Может быть, вы еще сами не знаете, что любите. Может быть, в вас пока действует подсознание… Я очень постарел, да?
– Да что вы, Назым, в самом деле? Откуда такой пессимизм? Наверное, очень устали с дороги. Вот подождите, пройдет дня два…
– Я болен вами, милая. Больше ничего. И положил трубку.
Господи, что он сказал?! Уж не приснилось ли мне? Оборвал разговор? Почему?
Я представила, как Назым сейчас ляжет в свое узкое деревянное ложе. В доме погасят свет. Станет тихо-тихо. А он лежит и думает… думает обо мне. Я тоже лежала и думала. Про него думала, про его печаль, про его слова, про то, что увидела его не таким, как мечталось. А каким? И сама не знала. Как прежде – ясным, искренним, красивым, без суеты, без трусливых взглядов.Прости, Назым. Я была дура дурой. В то время я не знала тебя и не могла почувствовать того, что потом испытаю с лихвой – твоей ревности. Увидев меня, как тебе показалось, похорошевшей, ты по-своему истолковал перемену, и ревность обуяла тебя.
На следующее утро, едва я пришла на работу, зазвонил телефон. Я услышала, как моя любимая подруга-коллега Раечка Фричинская, вся просияв, воскликнула:
– Назым! Ну как вы? Когда приедете?
И смеялась, и говорила тебе какие-то милые забавные слова, и по ее лицу было видно, что и ты вторишь ей такими же нежными ласковыми словами, какими только ты умел говорить с женщинами. Я ждала, когда спросишь, пришла ли я, и тут Раиса сказала:
– Пришла, пришла, сейчас! – и помахала мне в воздухе трубкой с гримасой, которая в переводе на слова звучала бы так: «Ну иди скорее, чего сидишь, будто не знаешь, что тебя!»
Я подошла.
– Здравствуйте, Назым!
– Доброе утро, Верушка. Я хотел узнать, могу ли я быть у вас сегодня? Я хотел поговорить с товарищами-художниками. Я хотел им кое-что объяснить…
– Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Пауза.
– Вы слышите меня? Алло?
– Да, милая, я приеду. Будьте здоровы, хорошенькая моя. Мне стало интересно жить. Начинался какой-то театр.Тогда в этом театре действовали только добрые положительные герои (злые силы появятся значительно позже) и лишь один зритель – я. Судьба постепенно превратит меня тоже в действующее лицо, но все это будет потом, а пока – только добрые положительные герои.
Ты стал звонить мне на студию все чаще. Все настойчивее. Хочешь слышать мой голосок. Что же? Я рада, счастлива. Мне интересно, приятно, лестно говорить с тобой. Ты приезжаешь к нам, расказываешь об искусстве, делишься новостями, на которые в Москве страшный голод, а у тебя все из первых рук. Ведь в числе твоих постоянных гостей самые известные интеллигенты Москвы и мира. Мои коллеги с удовольствием прислушиваются к нашим диалогам, ловят каждое слово, подсказывают вопросы. Ты прекрасно чувствуешь атмосферу вокруг меня, перекидываешься с ними через меня приветами, комплиментами и… все подробнее рассказываешь о себе. О литературном деле, о планах, о друзьях, о всякой всячине. В эти разговоры пока по крупицам входит твой особенный мир с пульсом планеты. Каждый день ты как бы чуть-чуть подтягиваешь меня ввысь. Я замечаю, что на многое начинаю смотреть твоими глазами, Назым.
Сегодня я целый вечер гостила у Блеймана. Он только что вернулся из Ленинграда и все говорил о своем визите к вдове Зощенко. Оказывается, ее тоже зовут Вера Владимировна и у нее, как и у меня, тонкий голосок. Вспомнилось другое, Назым. Кому только ты не рассказывал историю, соединившую тебя и опального Михаила Михайловича Зощенко, как часто ты возвращался к ней, хотел записать. Теперь я попробую отдать этот твой долг. Может, и там легче без долгов?
Да, Назым, ты был превосходным рассказчиком и сам любил людей, умеющих смеяться в самых горьких ситуациях. А мы на студии любили тебя слушать. Скопрометированное Постановлением ЦК имя Зощенко, произнесенное тобой однажды вслед за Мольером и Гоголем, равноправным возникло в списке твоих любимых классиков для всех нас внезапно. Мы Зощенко чтили, конечно, но великим его даже в нашей среде никто в то время не считал.
В летний день 22 июля 1958 года ты приехал на студию усталый и застал у нас в отделе одного известного преуспевающего композитора – большого мастера жестоких розыгрышей Никиту Богословского. Тот самозабвенно живописал изумленным слушателям о своих проделках над любимым публикой комическим артистом Владимиром Хенкиным.
Ты попал на очередной сюжет, когда удачливый композитор, посверкивая бриллиантовыми пуговками белоснежной рубашки, рассказывал, как однажды изрядно выпивший Хенкин не без труда добрался поздним вечером к себе домой под невидимой охраной своих ресторанных собутыльников. Хорошо зная привычку актера мгновенно засыпать, приятели вслед за ним вошли в подъезд его дома. Там был основательный ремонт. Они прихватили ведро с краской для пола цвета жидкого шоколада, стремянку и, отперев хенкинскую дверь имеющимся у одного из них ключом, тихонько вошли к безмятежно спящему артисту. Они макнули подошвы его башмаков в краску и, сообразно ритму хенкинского шага, пустили цепочку следов от кровати по полу к светлой стене, затем по потолку и через противоположную стену довели следы до кровати, возле которой, замкнув круг, поставили ботинки рядышком. А потом, забрав ведро со стремянкой, тихо удалились. Дальше шел замечательный хичкоковский финал – пробуждение артиста, «случайные» звонки приятелей – жадный контроль нарастающего помешательства Хенкина, и, наконец, веселое признание шалунов с фужером коньяка для несчастной жертвы.
Вслед за этой новеллой, каскадом, в нескольких обкатанных репризах Богословский без передышки рассказал другую. Опять все про того же доверчивого и одинокого артиста, которому все та же милая компания устроила заимствованный на Лубянке трюк. И на этот раз любимец публики Хенкин, только что с триумфом отыгравший спектакль, кажется, в Театре Сатиры и по обыкновению пропустивший рюмочку-другую перед сном, с трудом взошел на свой этаж. А дело происходило в конце сороковых, когда кругом вновь шли аресты. И тут бедняга с ужасом увидел на своей двери под сургучом с гербовой печатью белую бумажную полоску с крупной надписью красным карандашом – «опечатано». Ну, где тут потрясенному человеку заметить, что сургуч бутылочный, а печать поставлена медной монетой? Он всему поверил. А спрятавшиеся под лестницей весельчаки за животы хватались. Им было очень смешно наблюдать, как бедняга умолял в подъезде по телефону поочередно всех своих друзей приютить его на ночь. А те, уже предупрежденные честной компанией, что бывшего лицедея пускать к себе не надо, что по его следу Лубянка идет, в страхе отказывали Хенкину.
Богословский был так доволен сам собой, что не заметил – никто не смеется. И вдруг ты с огорчением, брезгливо спросил его в упор:
– Разве можно так с человеком обращаться? И с таким милым беззащитным человеком! Вы же его медленно убивали. Жалко. Значит, даже великая литература не дает никаких уроков… Черт побери! Бедный Гоголь! Бедный Зощенко!
И тут непрошибаемый композитор, чисто механически не сдержавшись от каламбура, выпалил:
– Зощенко действительно бедный. Он сегодня умер.
– Х-х-ха?! – невольно выдохнул ты.
Мы потом допоздна сидели с тобой, Назым, в каком-то старом московском дворе. Дети играли в песке у наших ног. Под их милое чирикание и вопли я слушала тебя, запоминая каждое слово.
Оказалось, что книжку рассказов сразу покорившего тебя Зощенко ты получил в начале двадцатых годов от старшего друга и первого московского переводчика твоих стихов Эдуарда Багрицкого. А когда в 1937 году тебя посадили в тюрьму в Турции на огромный срок, ты вспомнил о писателе, который в трудную минуту поможет улыбнуться, а значит – выстоять. Друзья раздобыли тебе русский сборник Зощенко, и ты с усердием заключенного много лет вчитывался в его сюжеты. Вся турецкая тюрьма чуть ли не наизусть знала большинство этих историй и по-доброму смеялась над их не очень-то удачливыми героями. Ты переводил в тюрьме этот сборник наряду с двумя томами «Войны и мира». А в 1951 году в Москве, отвечая на вопрос, с кем ты хочешь увидеться, сразу после имени Мейерхольда назвал Зощенко. Но сказали, что Зощенко опасно болен, живет в Ленинграде, и врачи к нему никого не пускают. Только спустя три года Николай Павлович Акимов открыл тебе правду.Ты рассказывал, как в ноябре 1954 года по приглашению Владислава Станиславовича Андрюшкевича, главного режиссера Драматического театра, позже получившего имя Комиссаржевской, приехал в Ленинград вместе с Акпером на премьеру своей пьесы «Первый день праздника». Тогда ты еще не написал «А был ли Иван Иванович?» и оставался в большой чести у госаппаратчиков. Тебя торжественно встретили, поселили в «Европейскую». А как только чужие ушли, ты попросил Акпера позвонить Зощенко и пригласить его вечером на премьеру. Сам звонить не решился. К телефону подошел Зощенко, страшно разволновался и стал всеми силами отказываться. Конечно, он подумал, что знаменитый турок Постановления ЦК по его персональному делу не читал и не понимает, что приглашает литературного изгоя. Тогда ты взял трубку и сказал:
– Товарищ Зощенко, я все знаю. Вы не думайте. Но вы один из моих самых любимых писателей. Я приехал ради встречи с вами. И я прошу вас пойти сегодня со мной в театр. Это очень для меня важно.
И Зощенко согласился. В назначенное время он ждал вас с Акпером у подъезда своего дома. Встретились, обнялись, так и вошли в театр, где тебя в дверях поджидало с букетами все партийное руководство города Ленина.
Горько ты, Назым, вспоминал сцену, разыгравшуюся в дверях Драматического театра, и смешно показывал, как опрокинулись лица культпартработников, как все встречающие разом вспотели от напряжения и испуга, как великий жар повалил от них, как, овладев собой, они все-таки попытались оттеснить и увести Михаила Михайловича. Но ты крепко ухватил его за плечо. После третьего звонка вы прошли по опустевшему фойе к дверям переполненного зала. Ты распахнул перед Зощенко дверь и подтолкнул его вперед к зрителям, а сам задержал шаг и остался стоять за порогом. Ты увидел, как премьерная ленинградская публика вдруг напряженно замерла, оставшись как бы наедине с Зощенко, а потом взорвалась искренними восторженными аплодисментами, решив по извечной российской наивности, что он прощен и легализован. Зощенко стоял тихий, сосредоточенный, несуетный… Потом вошел ты, и овация повторилась. «Но это была рядовая овация, – говорил ты, – а аплодисменты Зощенко – это совсем другое дело!»
Ты и потом любил вспоминать эти минуты, считал их одними из самых дорогих и очень счастливых мгновений жизни.
Все на редкость хорошо складывалось в тот вечер. Спектакль удался, пьеса понравилась зрителям, артисты замечательно играли, зал часто им аплодировал и, главное, Зощенко – ты почему-то произносил его фамилию, всегда сильно напирая на оба «о» – был здесь, рядом с тобой. В антракте вы прохаживались, обнявшись, среди публики, и ты говорил Михаилу Михайловичу, как он помог своими рассказами выжить тебе в тюрьме, потому что узник, улыбающийся в лицо своим врагам, это самый непобедимый узник. Вдруг вы услышали, как мужской голос с нарочитой издевкой громко произнес:
– А это что за маленький, черненький носатый прицепился к Назыму Хикмету?!.
Закрыв глаза от волнения, ты сбивчиво говорил, как хотелось тебе крикнуть на весь театр: «Сволочи!» – и бить, бить этих хамов, когда ты обернулся и увидел двух молодых мужиков с комсомольскими значками, явно подосланных. Но ты лишь ответил провокаторам (так и сказал – «провокаторам»):
– Это мой большой друг товарищ Зощенко. Русский писатель, которого уважает и любит весь цивилизованный мир.
Когда премьерный ритуал был соблюден, ты физически ощутил, что не готов, не можешь расстаться с Зощенко. Видел, как тот от волнения еле держится на ногах, и все-таки решился:
– Товарищ Зощенко, завтра вечером я возвращаюсь в Москву. Давайте, едем сейчас ко мне в гостиницу. Если бы вы могли читать один ваш новый рассказ, я был бы самым счастливым человеком!
Зощенко сразу согласился, попросил только по дороге в «Европейскую» завернуть к его дому за рукописью. В номере было людно. Приехал режиссер Андрюшкевич с женой, актеры, переводчики. Сюда же был подан ужин. В ту ночь ты торопил всех:
– Товарищи, умоляю, ешьте скорей! У нас дело есть!
Наконец посуду вынесли. Михаила Михайловича посадили в центре в кресло, он поднял старый портфель, стоявший у ног, и вынул из него увесистую рукопись.
– Здесь неопубликованная книга рассказов. Я назову ее «Сто рассказов». Все написано после приговора. – Он так и сказал: «после приговора». – Я хочу одного, пусть мой читатель знает: я не прекращал работать. Другое дело, что обстоятельства для писателя моего профиля сложились неподходящие. Ну, так не мы их, они нас выбрали…
И он начал премьеру книги «Сто рассказов», книги, которая в задуманном виде никогда не осуществится. И тут ты, Назым, впервые толком рассмотрел Михаила Михайловича. Поразили глаза, худоба, прозрачность, подавляемая нервность рук, истощение, явный предел физических сил… Ты говорил, какую боль испытал за этого гордого человека. Ведь тебе Акпер только что сказал, как Зощенко, доведенный преследователями от литературы и власти до полной нищеты, недавно ходил наниматься лаборантом мыть пробирки в какой-то научный институт.Много лет спустя Акпер покажет мне пачку почтовых квитанций денежных переводов, которые он по твоему поручению анонимно посылал несколько лет в Ленинград…
Поначалу Зощенко после каждого прочитанного рассказа порывался уйти, ссылаясь на ночь. Потом забыл о времени, скинул напряжение, читал артистично, вдохновенно, на глазах становился красивым, привлекательным человеком. Зощенко читал всю ночь. В тонких пальцах хрустальный бокал. Время от времени он подносил бокал к лицу, вдыхал запах хорошего вина и опускал бокал, так и не отхлебнув. Он был очень серьезен.
В полном восхищении от прочитанного ты вскричал:
– Товарищ Зощенко, брат! Дайте мне вашу книгу, я ее сейчас же напечатаю!
И взял рукопись.
Зощенко помолчал, потом негромко спросил:
– А каким образом вы, Назым, собираетесь это сделать?
– О, не беспокойтесь, брат! У меня есть друг в Москве. Он сейчас же ее напечатает!
– Кто он? – настаивал Зощенко.
– Симонов! У него замечательный журнал, вы знаете…
– Симонов? Ну уж нет, – твердо сказал Зощенко и вернул рукопись назад. – Ваш друг приезжал в Ленинград принародно стыдить меня за мои книги. А вскоре встретил меня в окружении молодых столичных литераторов и как ни в чем не бывало: «О! Михал Михалыч! Что вы тут? Идемте ко мне!» – и руку мне на спину. Я руку стряхнул. Тяжелая рука.
И без паузы попросил тебя почитать стихи на турецком языке.
Ты говорил, что начал читать и вдруг совершенно внезапно рассказал Зощенко одну историю, которую тогда обдумывал. Ее действие происходит в маленьком провинциальном городишке, где жил один простой хороший человек. Его все знали с пеленок, уважали все старушки, всем им он помогал, дрова, воду подносил – и вдруг его выдвинули на повышение. Однажды к нему в кабинет на прием пришел человек и сказал, что он здесь работает завхозом и пора, мол, сменить обстановку. Молодой начальник не возразил. Но после перемены мебели озадачился: «Хорошо ты сделал, друг, но зачем такие шикарные вещи? Мне они вовсе ни к чему». А тот ему уж бронзовый письменный прибор с царскими гербами тащит. А вскоре говорит, что настоящему начальнику полагается повесить над столом его собственный портрет. «Нет, этого не хочу!» – отбрыкивается бывший рабочий. А уж портрет нарисован, и на стене! Потом завхоз говорит: «Слушай, невозможно! Твоя жена в очереди стоит со всеми и покупает то, что берут все. Теперь тебе это не годится, это работает против твоего авторитета. Надо сделать ей отдельный вход в магазин». И как-то само собой получилось, что жена бывшего рабочего привыкла ходить с другого хода за покупками, и жить эти люди стали не как все в городе. А завхоз все не унимается: «Нехорошо, – говорит, – ты здороваешься со всеми подряд. С дворником вот сегодня за руку поздоровался. Зачем? Это неуважение к себе». Так у героя пляж отдельный появился, чтобы народ его голым не видел. И постепенно это все ему начинает нравиться. Он привыкает к своей исключительности. Уже на машине с ветерком ездит. Уже доступ к нему закрыт… И в конце концов, когда он понял однажды, куда его занесло, то спросил себя: как он дошел до жизни такой? Да и был ли этот чертов завхоз на самом деле? Был ли Иван Иванович? Так впервые ты рассказал замысел своей будущей знаменитой пьесы-сатиры «А был ли Иван Иванович?»
Вы с Зощенко расстались под утро. Прощаясь, ты попросил Михаила Михайловича о встрече днем наедине. Договорились в два часа отобедать здесь же, в ресторане «Европейской». Сначала говорили о новых рассказах, честно, как писатели. «А потом, – вспоминал ты, – я его спросил:
– Брат Зощенко, вы для меня один из самых любимых писателей, большой гуманист, как Гоголь, например, или Достоевский. Зачем вы участвовали в этой позорной книге «Канал имени Сталина»? У нее даже обложка напоминает мне сталь от наручников.
– Как? – сильно удивился он. – Меня о сотрудничестве попросил сам Алексей Максимович! А Горькому я добром обязан. И писал я рассказ искренне, честно. А вы полагаете, что “История одной перековки” не вышла?»
Но ты считал, что рассказ, опубликованный в лживой книге, не мог выйти, и удивлялся, как Михаил Михайлович всю эту эпопею с каторжным Беломорканалом не проклял. Зощенко не согласился, пытался объяснить тебе, какое доверие в то время вызывало стремление перековать старую жизнь. Какая сладкая была та вера… Он рассказал, как Горький, вернувшийся с Соловков, отобрал четыре десятка известных писателей для коллективной поездки на строительство Беломорканала. Каждый должен был написать очерк или рассказ о пользе трудового перевоспитания. А Горький осуществит общую редакцию. Под это правительство снарядило огромный пароход, который должен был уходить в плавание из Ленинграда. Зощенко говорил, как в назначенное утро все писатели съехались на поездах в Ленинград, где им была на день отдана вот эта самая «Европейская»; как тут, в ресторане, столы ломились от дармовых закусок, обедов и питья, и все собравшиеся пировали перед отъездом к зэкам с большим вкусом… Он рассказал Назыму, как ему было невыносимо на пароходе, потому что всюду на лесистых берегах их ждали сотни, тысячи подконвойных зэков в новеньких спецовках, и все они страшно, раскатисто, призывно кричали: «Зощенко! Зощенко! Зощенко!» Известность обернулась наказанием. Он говорил, как боялся этих одинаково воспаленных глаз, но еще больше боялся взглядов своих братьев-писателей…
– Товарищ Зощенко, – спросил ты, – вы так любите Горького, я тоже его уважаю. Но скажите мне, бывшему заключенному турецкой тюрьмы, как могло получиться, что такой мудрый писатель из пролетариев приехал в одну из самых страшных тюрем и ничего не понял, стал восхвалять советский тюремный рай?
– Да он решительно все понял. Все знал и, уверен, ужаснулся. Я прежде тоже верил, что его надули, а несколько недель назад встретил бывшего узника Соловков, он при Горьком там находился. Вот он много чего помнит, но одна история с участием Горького очень тяжелая… На Соловках наряду со взрослыми находились дети, дети каэров – контрреволюционеров. Для них была организована специальная колония. Однажды нескольких заключенных с острова послали на соловецком баркасе в близлежащий город Кемь за мукой. Среди взрослых был и один паренек. Послали их голыми, чтобы не сбежали. В Кеми, где они должны были грузить на судно муку, им выдали по пустому мучному мешку с тремя дырками для головы и рук. Из разговоров охраны мальчишка понял, что на их судне на Соловки поплывет сам Максим Горький. Значит, все теперь переменится! Горький их защитит!.. Но их загнали в трюм и предупредили: если кто пикнет – головой в воду, а там, они знали, больше трех минут не продержаться. На Соловках Горького окружили двумя-тремя десятками интеллигентных стукачей, других научили, что говорить, и пошла грубая показуха с цветочками на столах… А когда он уезжал, соловецкая власть устроила торжественные проводы. Горький тоже сказал речь, сказал, что живут заключенные здесь хорошо. Тогда мальчик, тот самый мальчик, что сидел в трюме голый, прорвался к нему и крикнул: «Алексей Максимович! Не верьте. Вам всё врут!» Горький потребовал комнату и попросил оставить их вдвоем. Два часа мальчишка рассказывал ему о соловецких пытках, о двадцатичасовом рабочем дне, о том, как заставляют людей трудиться в ледяной воде… Горький плакал, ужасался и, взяв обещание с соловецкого начальства мальчика не трогать, весь в слезах уехал. Недалеко отплыл старый баркас с пролетарским писателем, когда мальчишку расстреляли перед строем. Горький узнал об этом, но сделать ничего не мог. Он уже был сломлен.
На сем и закончился ваш обед с Зощенко.Помнишь, как спустя много лет, в начале шестидесятых мы с тобой, Назым, пили чай в богатом доме вдовы Алексея Толстого Людмилы Ильиничны. Приглашена кроме нас была лишь единственная гостья, Екатерина Павловна Пешкова, первая жена Алексея Максимовича. Эта тихая, сдержанная старушка в разговоре особого участия не принимала, да и разговора-то не выходило. Ситуация становилась критической. Напор светских фраз Людмилы Ильиничны только усугублял пустоту, и вдруг ты ни с того ни с сего, словно в продолжение давно идущего внутри спора, спросил Екатерину Павловну:
– А как мог ваш муж бросить этого ребенка?
– Какой муж? Какой ребенок?! – опешила старая женщина. Ты, волнуясь и путая русские слова, пересказал услышанную от Зощенко историю о расстрелянном мальчике. Екатерина Павловна долго не отвечала. А потом глухо так сказала:
– Не судите, да не судимы будете. Уже все было нельзя. – И после паузы: – Нашего сына мы потеряли на той же дороге… – Вдруг вся собравшись в пружину, Назыму в упор: – А вам не приходилось видеть глаза Алексея Максимовича на последних фотографиях? Вы посмотрите, посмотрите, а еще лучше хроникальные кадры, где он на московском вокзале провожает Ромена Роллана. Нет, он ничего не мог изменить…Вечером, едва я пришла домой после этого долгого разговора с тобой, ты позвонил и безо всякой подготовки попросил послушать несколько фраз. Ты читал медленно, как завещание:
– Я хочу жить в такой стране, где двери не будут закрываться на замки и где будут позабыты печальные слова: грабеж, вор, убийство.
Я ничего не поняла. Ты повторил фразу.
– Ну как же? – ты стал нервничать. – Этими принципиальными словами закончил Зощенко свой рассказ «История одной перековки», написанный по заказу Горького. Как я мог их пропустить?! А они заметили. И долго помнили! До самого сорок шестого года! Помнят и сейчас…Я умру, ты прости меня, умру,
и, разбив красный шарик, ты выйдешь оттуда
и опустишься на морозную площадь…
<… >
с новогодней сверкающей елки…
Ты прав, Назым, тысячу раз прав. Который месяц я сижу, заключенная тобой в нашу одиночку? Я слабею. Это все, что могу тебе сказать. В мое одиночество то и дело врываются люди. Но все они как чужестранцы. Говорят на незнакомом мне языке. Слова летают между нами, как шарики пинг-понга: скок-скок-скок…
В нашем доме собираются часто наши друзья. Никто не ушел. Знаю, что приходят коротать со мной вечера, говорить о тебе. Только все они немножко другие, словно горят вполнакала.
Вчера Володя Бурич рассказал анекдот. Все смеялись. Я тоже слышала свой смех. Потом он сказал:
– Жаль, что Назым не слышал. Ему бы понравилось. А было это на кладбище у твоей могилы.
Я уже вошла в этот мир отвлеченных понятий и обманчивой тишины. Иногда вы все так кричите, так воете, что поднимается ветер, ломает ветки деревьев, и перепуганные птицы начинают кружить с открытыми клювами.
Понимаешь, я такая несильная, что ничто мне не страшно, не боязно. Ничто не ранит: ни угроза, ни чье-то нетерпеливое желание, ни сплетня. Я неуязвима, Назым, потому что я отсутствую.Да, душа моя растет, летает. Я увлечена тобой, Назым. Между нами пролегла прямая линия, «воздушные пути», как сказал бы твой дачный сосед Пастернак. Но… вижу, тебе все труднее существовать в пространстве без моего голоса. И я вдруг с тревогой задумываюсь о последствиях. Потому что мой социум – муж, ребенок, семья – определен и незыблем. Я наслаждаюсь общением с тобой по телефону, встречаюсь на студии, приезжаю с деловым визитом в Переделкино, но… Слово «нельзя» мною усвоено с детства. Я – продукт регламентированной жизни без свободы маневрировать в ней. Ведь существует «НЕЛЬЗЯ» – и все! Хоть умри! А ты, вольный орел, наверняка забыл, что свобода у нас всегда оборачивается бедой.
Помнишь, ты все удивлялся, Назым, как русские слова «беда» и «победа» похожи…
Короче говоря, однажды я с ужасом понимаю: все таинственное, что происходит между нами, – неправильно. Неправильно, Назым! Видимо, в этот момент я и перестала быть молодой.
Мне недавно твои славные девчонки, твои просвещенные поклонницы признались, что я никогда не была молодая рядом с тобой. Говорят, «у вас, Вера, глаза были на веселом лице напряженные, трагические».
Я решила, Назым, наконец исправить ложь Валентины Брумберг, которой искренне подыгрывала столько времени моя студия, и сказать тебе, что я замужем. Дождалась твоего возвращения из очередной заграничной поездки, позвонила и попросила разрешения приехать к тебе в гости с мужем.
Господи, как долго ты молчал. Как долго…
– Вы вышли замуж?
– Да, Назым.
– Вы счастливы?
– Конечно.
– Сколько ему лет?
– На год старше меня.
– Чем он занимается?
– Тем же, чем и я, только на другой киностудии.
– У вас теперь другая фамилия?
– Нет. Фамилия девичья.
– Девичья…У меня нет памяти на числа, на даты, каждый раз с трудом соображаю, сколько мне лет. Но, кажется, мы все-таки приехали к тебе осенью 1957 года. Или весной… Я сейчас вспомнила, в чем была одета. Я приехала, наивно полагая, что ситуация еще управляема. Что ты все поймешь и, конечно, одолеешь свою болезнь. Ведь ты такой сильный, такой мужественный, всю жизнь борешься, борешься…
Прости меня, Назым, я не могла предположить – откуда мне? – что чувства сильнее обстоятельств, разума, всего на свете, особенно – твои. Горе нам, горе. Я и думать не могла, какую страшную боль причиняю тебе запоздалым признанием, а факт моей биографии не только ничего не остановит, а, напротив, подхлестнет. Он вызовет в тебе отчаянное желание доказать, что ты молод, что имеешь право на любовь, на счастье, на полное равенство со мной. Ничего этого я знать не знала, когда ехала к тебе на дачу в Переделкино с мужем. Мы поженились в институте после 2-го курса, пять лет назад, у нас была хорошая семья. И все вообще великолепно. Но ложь милой Валентины Брумберг, показавшаяся мне поначалу невинной шуткой, стала в конце концов отвратительной, а признание постыдным.
Злясь на себя, я думала, а почему «Ему» в голову не приходило спросить меня о моей жизни?! Не помню, как я объяснила мужу эту нелепость. Я видела, что вся эта история ему показалась идиотской и восторга не вызвала, но он, не углубляясь в детали, очевидно, не придавая особого значения происходящему, сделал для меня то, что я просила.
Мы приехали. Ты хорошо нас встретил. Был излишне возбужденным и, против обычного, быстрым, как ртуть, беспрерывно что-то рассказывал, шутил, смеялся, никому не давал вставить слово. Ты говорил один, перескакивая с темы на тему. Мы слушали тебя, как всегда, открыв рот. Ты пытливо на меня посматривал, спрашивал одними глазами: «Ну, довольна?» – и как-то лукаво при этом улыбался.
Врачиха ахала:
– Ой, Назым, как она изменилась! Была такая девочка, а сейчас просто дама.
Среди обывателей существует мнение, будто девушка, выйдя замуж, тотчас меняется. Мне было смешно и противно слушать эти бредни, но я молча получала по заслугам. Мы сидели наверху, в твоей диваннной комнате, где по стенам стояли разноцветные диваны: красные, желтые, зеленые, сиреневые. Над моей головой болтаются узорчатые варежки и носки ручной работы, замечаю новые вышивки. Всё пестрое, нарядное. На твоем громадном некрашеном столе появилась голова негра из черного дерева. Удивительная голова. Потом ты очень жалел, что не взял ее с дачи. Ты стоял и гладил полированную голову негра. Я заметила, как дрожали твои руки. На какое-то мгновенье ты забыл, что мы все здесь. Ты стоял и гладил голову негра. Мне стало невыносимо больно, оттого что мучаю тебя. Захотелось прекратить все это, но я не знала как. Я подошла к тебе и сказала, что нам пора ехать. Ты посмотрел на меня внимательно-внимательно, и в твоих глазах я прочла не упрек, нет, а скорее горечь, разочарование…
Лицо твое, обычно бледное, стало красным, и глаза потемнели. И все-таки, даже видя твои муки, я не чувствовала себя преступницей.
Вот, сейчас рассказала тебе, как все было, словно гору свалила с плеч.
Что же во мне такое было, а, Назым? Почему люди всю жизнь относятся ко мне по-человечески, с добром, нежно даже? Знаю, что у меня рука «легкая»: толкну человека, когда у него что-то в судьбе решается, пожелаю удачи – обязательно сбудется. Да и сама я, как у нас говорят, везучая… Вот и тебя встретила… Я ищу ответы в твоих стихах, но по-русски они звучат иногда маловразумительно:Никто не может сделать твой портрет.
То, что от горизонта веет,
то, что от берега уходит…
Пускай тебя не ищут в карусели красок.
На солнечных террасах виноградников
у деревянного забора
климаты стоят.
Грусть самой дальней из планет.
И пусть тебя не ищут в рифмах
тени-света.
Ты вне игры объемов и плоскостей.
Однажды чья-то радость
где-то
фонтаном вдруг забьет.
Никто не может сделать твой портрет.
То, что от горизонта веет,
то, что от берега уходит.
Серебряная рыба в море
на миг мелькнет.
Напрасно к зеркалу протягиваешь руки,
стараешься войти в его глубины…
Ночами в женские бараки
приходят без вести пропавшие мужчины.
Дверь сердца твоего то открывается,
то закрывается.
Серебряная рыба в море
вдруг появляется,
и снова нет.
Я нарисую твой портрет.
Знаешь, как бы ни было тяжело и больно, я всегда искала в жизни счастливые глаза, умную книгу, красивую вещь, доброе слово, просто радовалась солнцу. И я частенько находила опору, то, что вселяло в меня надежду, давало мне силы улыбаться, помогало смеяться днем, а плакать по ночам. И вот теперь пришло горе.
Я не узнаю′ своего лица. Сколько месяцев прошло, как мы расстались? Не один и не два, а я все не могу найти свою улыбку, живу стиснув зубы. Жалко будет, если ожесточится мой характер. Я без улыбки – будто не я. Мне и не выжить без нее. Лицо мое, как мокрый осенний день, – разве это хорошо? Неужели ты хочешь, чтобы оно стало похоже на старую деревянную ложку, Назым?
Но я не теряю надежды: моя улыбка ко мне еще вернется. Вместе с письмами и газетами я вытащу ее однажды из нашего почтового ящика и, улыбаясь, прочту эти письма и эти газеты… Моя улыбка нужна и тебе. Как иначе я расскажу о нас? Разве получится правдивый рассказ? Ты сам – моя половина, путешествовавшая ко мне с другого края света целых пятьдесят лет, ты сам не существуешь без моей улыбки, так верни мне ее, Назым!Перед уходом ты затащил нас на кухню.
– Давайте пьем немножко за молодых. Ведь так у вас полагается?
В женских руках сверкнули ключи, дверцы буфета открылись, и в маленьких рюмках появился коньяк. Я помню и сейчас выражение твоего лица: ты говорил, смеялся и отсутствовал в одно и то же время.
Я сижу как на иголках. По рукам твоим разливаются муаровые красные круги. Не отхлебнув, ставишь на стол наперсток коньяку. А я замечаю не это, я распыляюсь на мелкое. Все в доме твоем меня начинает раздражать. В моих ушах не хрустальный звон рюмок, а лязганье ключей: тут все на замках…Однажды я спросила твою врачиху, почему она так не доверяет людям? Почему все запирает? И она ответила:
– Ты знаешь, во время войны меня обокрали. Я приехала из армии в Москву, я служила солдатом, и у меня утащили вещи. С тех пор я всех боюсь.
В войну, когда каждая семья теряла близких, единственных, любимых, когда страна истекала кровью, когда рушились города и надвигался фашизм, – ее на всю жизнь сразила кража… Мы ехали в машине и слушали заключительный аккорд исповеди. Все говорилось подчеркнуто громко. Ты, Назым, сидел рядом с шофером и, безусловно, все слышал, но не повернулся, не произнес ни слова. Твой затылок ничего не выражал. Почему? Потом я много раз видела, как молчание ты выбираешь своей тактикой по отношению к непробиваемым, ничтожным людям, патологически неспособным что-либо понять. А мне хотелось выскочить из машины и подержать ладони на снегу. Снег был белый. Он лежал повсюду. И мне было приятно, что он чистый, что его много.
Почему ты тогда молчал? Почему? Разве ты не знал, что такое война? В своей турецкой тюрьме, очень страшной, как все тюрьмы на свете, ты слушал о войне по радио. Как выяснилось теперь, твоя жизнь тоже зависела от нашей победы. И все-таки, может быть, ты не знал, что такое война? Ты не пережил той длинной, как километры, секунды, когда слова матери больно врезаются в уши колокольным гулом: «Твой отец погиб смертью храбрых…» Погиб… смертью… храбрых… Нечеловеческие эти слова вонзаются в тебя горячими, длинными иглами и прошивают тебя, простегивают, запечатывают бессильную, маленькую. И почему-то слово «храбрых» становится самым тяжелым, оно вытесняет из сознания на время весь остальной смысл, полощется перед твоими глазами, как кровавое знамя, застилая все вокруг. Твой отец герой, и он погиб – это несовместимо, этого нельзя понять, особенно если тебе одиннадцать лет, если за окном спокойно опускается снег, если ты никогда не смотрела в лицо мертвецу.
Снег был белый. Он лежал повсюду. «Белый снег пушистый в воздухе кружится и на землю тихо падает, ложится…» – смиряла я себя стихами из довоенного букваря, когда мы возвращались из Переделкино в Москву в двухцветной вишневой «Волге» Назыма Хикмета.
Обидное говорю тебе, Назым. Знаю. Но ведь было и обидное, правда? Мы – люди, и ты был человеком. И, слава Богу. Я не хочу отдать забвению ничего, даже того, что меня мучило в тебе, злило. «Я тот, кто есть», – повторял ты вслед за Бетховеном его любимое изречение Брута. Вот и мне нужен ты, а не идеальный вдовий вариант. Да и в слове «вдова» есть что-то кликушеское, жалостливое. Пожалуй, я останусь твоей женой, Назым.
Со следующего дня ты перешел в атаку, тобой овладело чувство соперничества. Ты решил доказать мне, что молод, и стал создавать вокруг меня свое подконтрольное поле, не давая возможности мне не то чтобы забыть, а хотя бы на минуту отключиться от мысли о тебе.
Ты звонил десятки раз в день, находил меня везде и всюду. Ты ничего не хотел принимать во внимание – ни мою работу, ни мою семью, ни неловкость, которую я испытывала от твоего непомерного внимания. Ты думал только о себе, а мне звонил, звонил не переставая. Я не могла отлучиться ни на минуту из сценарного отдела – тотчас объявлялся розыск по всем четырем этажам студии, ведь «на проводе» был Назым Хикмет!
Ты привозил или присылал с шофером громадные торты и наборы шоколадных конфет, цветы, духи, и бог знает что еще ты выдумывал, чтобы окончательно покорить меня, влюбить, свести с ума. Теперь ты знал, что я женщина, и твои ухаживания сильно напоминали натиск предприимчивых героев из романов Дюма.
Ты требовал подробного отчета о каждом моем шаге, ты хотел знать, во что я одета, как причесана, кто сидит рядом, что собираюсь делать через час. Ты звонил мне после работы домой ровно через двадцать пять минут после ухода со студии, подсчитав с точностью секундомера время, затрачиваемое на дорогу. А если меня не оказывалось дома, ты начинал бесцеремонно обсуждать с соседями причины моего опоздания.
Однажды я вошла после работы в свою коммуналку с тяжеленными сумками, и молодая соседка сказала мне, смеясь от удовольствия:
– Только что звонил Назым и просил передать тебе, что ты шлюха.
Это было слишком! Я догадалась, что ты не знал бранного смысла этого слова, которое произвел самостоятельно от безобидного глагола «шляться».
Пожалуй, это была твоя единственная грубость за все наши годы.Ты так страдал, так волновался, когда я задерживалась, что мои соседи искренне тебя жалели, и, стоило мне переступить порог квартиры, как все наперебой набрасывались на меня с упреками и заставляли тебе звонить. Ты был таким незащищенным в своей любви, что поневоле все тебе сочувствовали и помогали.
Моих соседей ты тоже окружал непривычным для них вниманием. Очень скоро они стали твоими добрыми друзьями и союзниками. И дело вовсе не в обаянии и славе. Многим казалось, что дни Назыма сочтены. В нашем дворе не было ни одного старика, который бы ходил с такой опаской: четыре коротеньких шага и пять минут передышки… «Не ходи, а то умрешь!» – долго стояло в ушах не только у него, но и у всех, кто бывал на даче. А ведь тебе было в то лето всего пятьдесят пять! Да, ты перенес пять лет назад инфаркт, но вокруг нас было трудно найти режиссера или писателя без инфаркта, а то и без двух. Все они жили как нормальные люди. Правда, у них не было врачей на зарплате, и никто им не внушал страшных мыслей. Ведь здоровому человеку врач не нужен. Но ты боролся и, шаг за шагом, становился сильнее.
Вскоре ты уже не мог прожить и двух дней, не заглянув на студию. Ты преображался и молодел на глазах у всех. Приходил красивый, веселый, сильный, элегантно и тщательно одетый. Ты больше ничего не скрывал, а весь светился и был распахнут настежь, как огромный обжитой дом. Ты излучал кипучую энергию, тебя переполняли замыслы, желания, ты заражал всех своими пристрастиями, интересами, и постепенно все вокруг стали твоими братьями, все – кому было двадцать и кому шестьдесят. Я, как все, быстро привыкла к твоей доброте и вниманию. Если ты не звонил с утра, у меня все валилось из рук. Мне не хватало твоего голоса, становилось тревожно, тоскливо. Постепенно ты стал мне необходим.
И все-таки, во всех этих тортах и шоколаде, покупавшихся с расчетом на большой коллектив, было что-то досадное, что-то барское. Ну кто мог себе позволить в то время нечто подобное? В пятидесятые годы люди жили скромно, чтобы не сказать бедно. И однажды я тебя попросила:
– Пожалуйста, не надо. Вы ведете себя, как купчишка. Ты огорчился:
– Но, милая, почему вы лишаете меня радости сделать что-то приятное для себя?
– Для себя? – переспросила я, думая, что ты оговорился.
– Как вы не понимаете, все, что вас коробит, я делаю для себя. ДЛЯ СЕБЯ! МНЕ приятно вам дарить. И когда я ищу для вас цветы, я получаю удовольствие. А вы можете их выбросить – это не важно. Но разве так страшно или позорно, если один человек хочет для другого что-то очень маленькое сделать?
Добрая, славная Раиса, присутствовавшая при этом разговоре, как всегда, пожалела тебя:– Да не слушайте вы ее, Назым! Все дело в том, что она не любит ни шоколад, ни пирожные.
– Ай-ай-ай, – огорчился ты. – Вот я дурак, совсем этого не мог думать.
А потом расхохотался.
– Ну конечно, – шутливо уговаривала его Раиса, – если вы уж хотите ей угодить, купите за углом соленых огурцов или воблу, тогда увидите, как она будет вас любить!
Этот совет ты воспринял со всей серьезностью и с тех пор, входя в сценарный отдел, аккуратно ставил на пол у моего стола банку соленых огурцов, грибов, оливок. Иногда это были поллитровые банки, иногда литровые, иногда трехлитровые – какие находил в магазине, такие и приносил.
– Вот, оказывается, как надо ухаживать за русскими девушками! – довольный нашей радостью восклицал ты. – Ай, Раечка, ты у нас молодец! Умеешь дать хороший совет! – и целовал ей руку.
Ты частенько приезжал к концу моего рабочего дня и, подождав, пока я закончу работу, просил пойти с ним куда-нибудь посидеть на полчаса. Обычно мы ехали, хотя это было совсем близко от студии, в кафе «Театральное», напротив МХАТа. Там мы садились за маленький столик, покрытый, как правило, несвежей скатертью, заказывали почему-то кофе с молоком, который подавали как русский чай – в больших тонких стаканах с подстаканниками, и разговаривали. Ты полюбил это странное кафе. Там тебе было спокойно. Там не было ни уюта, ни еды. Эта забегаловка почти всегда пустовала, поэтому официанты, не привыкшие к посетителям, сонно и безразлично обслуживали редких клиентов, равнодушные к тому, сколько времени они просидят за столом. Ты каждый раз удивлялся, как это кафе выполняет план. Как-то ты не удержался, спросил об этом официанта, и тот ответил:
– Уметь надо, дорогой товарищ, уметь! Администрация этого заведения явно экономила на всем, поэтому освещение в маленьком зале было минимальным, и мы могли разговаривать, не опасаясь, что кто-то сейчас узнает тебя и нарушит наше уединение. А узнавали тебя постоянно везде и всюду, ведь жил ты на виду. Правда, и этот тайник был нашей иллюзией.
Недавно твой друг ленинградский режиссер Андрюшкевич припомнил то время. Рассказал, как вы ехали с дачи в машине, и ты сказал ему, что влюблен, а потом позвал в «Театральное» кафе, где тебя почему-то все знали и где ты чувствовал себя как дома…
Оставаясь со мной наедине, ты менялся, становился мягче, нежнее. Любил молча, с неизменной грустью смотреть на меня и слушать все, о чем я рассказывала. Теперь ты хотел знать всё, мельчайшие подробности моей жизни, историю моей семьи, судьбу родителей, их взаимоотношения, характеры. Все без исключения интересовало тебя. Ты сидел, откинувшись на спинку стула, положив ногу на ногу, немного наклонив голову набок, и слушал.
– С каких лет вы себя помните?
– Наверное, с пяти.
– И вы помните какие-то вещи с пяти лет и можете себе представить лица людей? И вам никогда не кажется, что это было гораздо позже?
Услыхав мой утвердительный ответ, ты очень удивился.
– А я ни черта не помню. Детство свое совсем не могу рассказать.
– Но вы же рассказываете, я сама много раз слышала!
– Да, приходится рассказывать. Ведь люди не понимают, что у меня такая глупая турецкая башка. Может быть, я и не вру, потому что моя мама или сестра, или тетя вспоминали часто при мне разные случаи из моего детства. Но мне уж не отделить, что их, а что мое. Может быть, я запомнил их рассказы, и сам теперь думаю, что всё происходило именно так, и даже вижу все эти события, слышу разговоры… Но иногда вдруг ясно понимаю, что сам ничего не помню, ничего не могу рассказать, и даже то, что про себя слышал от родственников, кажется мне выдумкой. Может быть, они все говорили о детстве моего деда или отца или о своем, а я перепутал и думаю, что это все про меня. Я впадаю в настоящую панику. Хочу бежать к сестре, к Самийе моей, спрашивать, говорить с ней. Вот так, милая. Ничего не помню.
– Но все-таки с какого времени вы говорите о том, что действительно происходило?
– Так точно не могу сказать. Некоторые эпизоды помню очень ясно. Вот очень хорошо помню, как дед водил меня на собрания своей секты вертящихся дервишей. Много людей, может быть, тридцать или пятьдесят человек собирались и в темноте с маленькими огоньками в руках начинали своеобразно молиться. Еще помню, что все они казались мне высокими, как тополя… Они все пели и кричали. Я, конечно, ничего не понимал, но зато я ловко двигался, подражая им, даже быстрее, потому что был маленький мальчик. Дед руководил этой сектой и всегда меня толкал в середину круга, я должен был вращаться и трястись в ритме молитвы. От их странных фанатических, уходящих ввысь голосов я постепенно, даже очень скоро, приходил в экстаз и двигался на своих тоненьких ногах, как волчок. Очень долго так вертелся, пока не сваливался от усталости. Тогда, может быть, я впервые познакомился со своим сердцем. Я не уставал – уставало оно. Я, возможно совсем бы с ума сошел с этими стариками. Меня увлекала их самоотверженная молитва, их экстаз мне передавался. Я был очень чувствительный мальчик. И потом, все это происходило ночью, прямо под открытым небом. Какая-то тайна ощущалась. На душе становилось страшно и интересно. Я увлекался звездами в эти мгновенья. Медные звезды качались прямо над моей головой и становились громадными по мере того, как усиливались голоса людей вокруг меня. Помню, как мне нравилось находиться рядом с дедом, с таким большим, строгим человеком. Ведь его все уважали и побаивались немножко. Нравилось, потому что я его совсем не боялся. Он любил меня, и я ловко пользовался его любовью. Я был достаточно хитрый парень, хотя и маленький. У деда была большая белая борода… Он очень любил читать стихи и читал часто, когда я оказывался возле него. Но я не помню, как именно он читал. Я знаю об этом, но не помню. Смог вам объяснить? Да? Ну так вот, я не помню его. То есть в моей голове не возникает ни голоса, ни фотографии, когда я говорю о своем деде. Но образ его жив. Я помню ощущения, связанные с ним, с его прикосновением ко мне. Понимаете, я вот сейчас чувствую тяжесть его руки на своей голове или его колени, когда я на них сидел. У него были острые колени, и я помню, как неудобно было на них сидеть. Однажды, как всегда, в гостиной у деда собрались дервиши с белыми бородами. Сидели и степенно ждали, когда он появится. Ритуал у них такой был. Когда же дед к ним вышел, они обрушились на него с упреками за то, что он скрыл от них такие чудесные стихи. И старики наперебой начали их читать. Услышав первые строчки, дед стал отказываться, тогда дервиши развернули свежие газеты и стали размахивать ими перед носом моего деда. Может быть, вы не знаете, Вера, что у нас все дервиши писали стихи, но печатать их не полагалось, это считалось большим прегрешением. Дед закричал на них:– Никаких стихов я не печатал!
– Как же? – спросили дервиши. – Вот, смотрите, они подписаны вашим именем!
В это время я играл под окном в футбол. Я услышал крики и препирательства в доме и вбежал туда из любопытства, конечно. Понял, в чем дело, сказал:
– Это я написал! – и прочел свои стихи.
Дервиши обалдели! Они воззрились на меня с благоговением. И мой дед растерялся не меньше других. Старики решили, что в меня переселился дух шейха Руми, и были готовы целовать края моих коротких штанишек.
Конечно, я ни черта не понимал ни в их религии, ни в их стихах. Я просто, наверное, слышал их стихи и подражал им.
– Это вы, молодой господин, написали такие прекрасные стихи? – спросили они меня, когда пришли в себя.
– Да, я написал! И еще напишу! И вообще буду большим поэтом! – крикнул я им и помчался к своему футболу.
Вот так, миленькая, видите, я немного зазнался в детстве. Потом дед любил повторять разным людям мою выходку. Он меня, в самом деле, очень любил. Вот это тепло его любви тоже сохранилось во мне, его гордость своим внуком, то есть мной. Это тепло тоже всегда ощущаю. Жаль, но в моей голове не осталось фотографии деда. Я прекрасно помню молоденькую маму. Она была первой женщиной, в которую я был влюблен. Вы не читали Фрейда? Я не его поклонник. Как материалист я во многом с ним не согласен, но кое в чем его наблюдения верны. Я был влюблен в свою маму. Она, знаете, была удивительно красива! Но у-ди-ви-тель-но! У нас в Турции существует обычай. Сейчас, конечно, остался только в деревне, а раньше его выполняли все. Когда моя мама выходила замуж, то перед свадьбой ее по нашему обычаю усадили в комнате. Конечно, она уже была одета как невеста и лицо ее прикрывала тонкая материя. С самого утра все гости, и вообще кто хотел, приходили посмотреть на невесту моего отца. Она воспитывалась в Париже, и даже турецкой крови у нее было мало, но она следовала всем обычаям Стамбула и, бедняжка, выдержала мучение до конца. Но я хочу сказать не об этом. У вас, у русских, тоже устраивают смотрины – сейчас, конечно, нет, но раньше было, я знаю из литературы. Люди, которые видели маму, не могли оторваться от ее красоты! Многие даже не выдерживали и поднимали вуаль с ее лица, им не верилось, что человек может быть так бешено красив. Люди трогали ее щеки, чтобы убедиться, не кукла ли перед ними в одеянии невесты. У мамы были синие глаза и такая свежая кожа, будто она из света утреннего солнца. По всему городу тут же пролетел слух, что мой отец женится на кукле. Так ее и звали. Люди целый день толпились возле нее, а она сидела неподвижно, молча и ничего не ела, потому что нельзя. Раз невеста – терпи. Вот, милая, я ненавижу всякие обычаи, всякие! Они нас держат. Я стал революционером, чтобы бороться против бессмысленности обычаев тоже. Обычаи держат людей в рабстве, а я против всякого рабства. Они оружие в руках обывателя, а я ненавижу обывателей. Обычаи – это страшно, даже свадебные, даже похоронные.Тайна, тайна, тайна… Еще не ложь, но уже тайна. Она во мне, и поэтому от нее не уйти, не спрятаться. Я в твоем окружении, Назым. В колдовском, в желанном окружении. Хочется замереть, чтобы задержать время, как дыхание, и все в нас остановить. Но так не бывает. Кольцо, в котором мы оказались оба, сужалось. Было страшно заглянуть в его середину – там пропасть, там ничего нас не ждало.
Ты спросил меня однажды:
– Скажи, если бы перед тобой явилась гадалка, но не просто цыганка с вокзала, а научная гадалка, ты захотела бы узнать свое будущее? Свою судьбу?
– Нет, ни за что!
– Даже если это счастье?
– Все равно нет.
– Молодец. Я узнал бы! Даже если бы эта колдунья не хотела сказать, я умолял бы ее, чтобы узнать все. Ненавижу свою неизвестность.Ты знаешь, наступает зима. Меня колотит озноб. Холод бежит по спине. Ты уже далеко. Сегодня смотрела на твои фотографии. Они не имеют никакого отношения к тебе – не увидела ни одной похожей. Они имеют отношение к твоим костюмам, которые висят в шкафу, и я могу сейчас встать, погладить их рукой, прислониться лицом и почувствовать твой родной запах. Но я не встану. Буду сидеть здесь, на кухне, за машинкой и чувствовать твой взгляд. Ты стоишь на пороге кухни, опершись плечом о дверной косяк, засунув руки в карманы брюк, смотришь. Я знаю, ты счастлив, особенно теперь, когда я говорю с тобой, когда ты видишь, что я ничего не забыла, что я одна. У тебя теперь много времени. Ты сделал все, что должен был сделать, и можешь стоять, засунув руки в карманы. Ты продолжаешь жить в нашем доме, но теперь не как хозяин, а как гость.
Иногда ты исчезаешь, и я ищу тебя во всех домах, куда ты мог зайти. Я звоню в двери, молча хожу по чужим квартирам, не смея спросить о тебе. Я заглядываю в кондитерские, в кафе, в кинотеатры, я возвращаюсь в наш пустой дом и подолгу держу в руках телефонную трубку, не набирая номера. У тебя его больше нет. Гудок гудит мне в ухо длинно и протяжно, словно зов. И чтобы отвлечься от сумасшедшего поиска, я заставляю себя войти в кухню, сесть за машинку и спокойно попросить тебя вернуться. Ты приходишь, когда я этого хочу. И я знаю – до тех пор пока я буду печатать на кухне, ты всегда будешь стоять на ее пороге, даже когда я состарюсь. Я знаю, что, обернувшись невзначай, я всегда найду твой ободряющий взгляд и любовь, которую никто не отнимет. Но, мой милый, наступает зима, и я ее боюсь. Выпадет снег, мороз спаяет землю; наши свидания – во что они превратятся? Твое фешенебельное кладбище станет похоже на погорелую деревню с памятниками – печными трубами; из-под снега то там, то сям будут торчать каменные плечи, руки, черные головы. Завоет ветер, заскрипят деревья… Зябко. Страшно. Я боюсь. Я не приду к тебе зимой, Назым.
Я ухожу, оглядываясь на зеленые еловые ветки с красными шишками на твоем холме. Я не протягиваю тебе руки, потому что рукопожатие не состоится из-за расстояния в… июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь… в полгода. Ты-то знаешь, как бывает, когда рукопожатие не получается. Помнишь, ты искал меня по всей Москве, ко всем приставал, всех спрашивал, когда я была у тебя под боком.Часы Страстного монастыря пробили полночь,
хотя монастырь давно снесен
и самый большой кинотеатр в Москве
строится в тех местах.
Здесь я встретил себя девятнадцати лет.
Мы сразу узнали друг друга.
У меня не осталось его фотографии,
у него не могло быть моей фотографии,
но мы все же сразу узнали друг друга.
Не удивились, —
протянули друг другу руки,
и рукопожатие не состоялось
из-за расстояния в сорок лет.
Оно замерзло, как безбрежное северное море.
И на Пушкинскую площадь,
для него еще Страстную, начал падать снег.
Я замерз, особенно – руки и ноги,
несмотря на меховые перчатки, шерстяные носки
и ботинки,
а он стоял с голыми руками.
Рот его ощущал вкус мира,
словно вкус зеленого яблока,
в ладонях его была упругость девичьей груди.
Ему казалось, что рост песни – километр,
а рост смерти – вершок.
Он не знал ни о чем из того, что с ним будет потом.
Это знал только я,
потому что
всему, во что верил он, я поверил, —
всех женщин, которых он полюбит, я полюбил,
все стихи, что он напишет, я написал,
во всех тюрьмах, где он будет сидеть, я сидел,
все страны, где он побывает, я прошел,
всем, чем он заболеет, я переболел,
все сны, что ему приснятся, я досмотрел,
все то, что он потеряет, я потерял…
Я спросил, не встречались ему
солома волос, ресниц синева,
черное пальто, белый воротник,
огромные перламутровые пуговицы?
«Нет, не видел».
Черное пальто, белый воротник рвет на мне ветер. Пойду попрощаюсь с Феней. Здесь, на кладбище, она над вами командир. Смех с ней и грех. «Вы, говорит, – Вера, не беспокойтесь, уж у вашего Назымхикмета здесь всё лучше всех. Я, татарка, своего мусульманина разве обижу? Утром, – говорит, – вхожу в ворота, а они все, мои голубчики, меня дожидаются. “С добрым утречком, вам, ребята”, – говорю. Поздоровкаемся, поболтаем маленько. Я им расскажу, чего радио передавало или телевизор сказал, после за шланг или за метлу берусь. Я с ними культурно обращаюсь, потому что знаю: помру, на том свете у самых ворот как родную они меня встречать будут. Это уж факт! А к вашему Назымхикмету у меня особая симпатия – мы с ним вроде одних кровей, я – татарка, он – турок, так что не беспокойтесь, Назымхикмет у меня здесь живет как здоровенький…» Я сегодня от самого обувного магазина к тебе пешком шла. Мороз. Хотела сапоги теплые купить, а там одни босоножки. Шла и думала. Новый год вспомнила. Давно это было. Помнишь, ты с меня слово взял, что приеду я к тебе на дачу его встречать?
Сказал:
– Возьмите мужа, всех своих друзей, чтобы было не скучно. Возьмите Вольпина с его женой синеглазой, Раису с Левой, еще кого хочешь, и приезжайте. Я буду готовить ужин для вас по-турецки. Не приедешь – умру от тоски.
Какое было изобилие на столе! Угощений было такое множество, что есть даже не хотелось. Казалось, что на столе на фарфоровых блюдах лежали жареные коровы с ногами, торчащими во все стороны. За столом кроме нас были какие-то странные восточные женщины. Они весь вечер молчали скорбно, без улыбок, и мы тоже умолкли. Когда кто-нибудь из нас пробовал сказать смешное, странные темные женщины поворачивали к этому человеку молчаливые головы, и шутка умирала, не родившись. А еще я заметила, что за весь вечер и за всю эту веселую московскую ночь телефон зазвонил один раз: тебя поздравила дочь Фатьмы-турчанки, работавшей на радио. Это было, пожалуй, страшнее всего. Чужие люди и молчащий телефон. Ты бегал, говорил громко, как глухим, заводил музыку и все просил подать новые угощения, а от этого усилия растормошить всех становилось еще тоскливее. Мы с трудом дождались утра и уехали из Переделкина первым поездом.
Когда мы по дороге на станцию вошли в лес, Лева Фричинский вытащил из-за пазухи бутылку водки, которую он украл на кухне. Железную кружку он тоже прихватил и вывернул из кармана соленые огурцы вместе с носовым платком и спичками. Нам вдруг стало истерически весело. Холодная кружка пошла по рукам, все сразу оживились, заговорили, засмеялись. Оказывается, все обратили внимание, что телефон не звонил, и все увидели, как подошла старуха Манефа, и, подняв салфетку с блюда, пересчитала яблоки, когда мы сидели на теплой террасе, и все слышали, как внизу приживалки твои громко ругались, что ты пять (старых) тысяч на нас профукал.
Мы ехали домой. Мы знали, что у всех у нас телефоны разрывались всю ночь, и было грустно. А еще нас мучила совесть, что не смогли принести в твой дом радость и остаться самими собой.А потом, уже входя в кладбищенские ворота Новодевичьего, я вспомнила, как тебя пригласили Вольпины с ответным визитом в гости на встречу Старого Нового года.
Строгая чопорная Ира – жена Вольпина долго готовилась к званому ужину и решила устроить татарские беляши. Конечно, твой новогодний стол перещеголять никто и не собирался, но все-таки Вольпины беспокоились, угодят ли тебе, хотелось им, чтобы было тебе в их доме легко, приятно и по-московски вкусно. Все-таки Назым Хикмет приходил к ним в гости впервые.
Вольпишка, как мы его в шутку зовем, мудрый, простой, веселый человек, интеллигент старинной закалки – наш любимец. Наш пророк. Мы с Райкой влюблены в него немножко, как в драгоценную культурную эпоху, готовы слушать его рассказы о литературной жизни 20—30-х годов без конца, открыв рот. Он такой легкий в общении, что никакая натужность и выспренность при нем невозможны. И вдруг – на′ тебе! Ты пришел, Назым, с тобой он давным-давно знаком – и в доме смолкли разговоры, все друзья разошлись по углам, уныние… Стол под белоснежной скатертью сверкает хрусталем, красиво, вкусно. А сели – тишина, разговор не клеится и опять, как в прошлый раз, тягостно, напряженно. Прелестные милые люди собрались, водку пьют, а слово живое не идет, висит над всеми убийственная вежливость, вроде «пожалуйста – спасибо».
И вот подчеркнуто торжественно поднялся Михаил Давидович Вольпин, налил всем водки и посмотрел на часы, подождал, пока секундная стрелка достигнет нужной цифры, а затем очень интеллигентным голосом сообщил:
– У нас в доме в десять часов вечера всегда произносят одно слово – «жопа»…
Оцепенение – а потом все разом засмеялись, зашумели, захлопали в ладоши. Бедная Ирочка, закрыв лицо руками, бросилась в безумном смущении из гостиной: «Боже! что теперь о нас подумает Назым!» – и просила тебя не верить безобразнику-мужу, ведь никогда у них в доме ничего подобного не было… От этого всем становилось еще смешнее. Ты был в восторге:
– Брат, как ты это мог придумать?! – и вытирал мокрые от слез глаза.Помнишь, как Вольпин рассказал нам такую историю: «В лагере я работал при клубе художником-оформителем. И вот однажды вечером я бросил в печку совершенно засиженный мухами портрет Ягоды. Когда портрет запылал огнем, стоящий рядом зэк страшно испугался и закричал:
– Теперь тебе конец! Сумасшедший, ты сжег портрет Ягоды!
– Я же завтра нарисую новый!
– Я получил десять лет строгого режима только за то, что подтер задницу газетой с портретом Сталина. Завтра они тебя расстреляют!
И я понял, что этот растертый в порошок страхом человек прав. Утром он и донесет, а за Ягоду я получу вышку. Краски были заперты начальником – моя судьба предопределена. Я не спал всю ночь. Я не сомкнул глаз. Это случилось 26 сентября 1936 года. А утром нам объявили, что нарком НКВД арестован как враг народа».
Кто-то заговорил о Маяковском, допустил неточность, и, поскольку Вольпин очень любил и знал поэта, он начал поправлять рассказанную историю, делал это деликатно, не книжно. Ты сразу оживился. Вскоре всем стало интересно слушать, о чем говорят люди, знавшие Маяковского. Эти неожиданные воспоминания объединили нас всех, сблизили. Мы и не заметили, как ночь прошла. Дома я кое-что записала.
– Сколько раз я слышал, как он говорил: «К сорока застрелюсь! К сорока застрелюсь!» – хлопал в ладоши и повторял, – рассказывал Вольпин.
– Я этого не знал… А в стихах? Он что-нибудь писал об этом? – спрашивал ты.
– Я тоже, как и вы, Назым, привык верить стихам. У Маяковского нет ни одной лирической поэмы, где не было бы темы самоубийства. В «Облаке в штанах» – есть, во «Флейте-позвоночнике» – есть: «Все чаще думаю – не поставить ли лучше точку пули в своем конце…», в «Про это» – есть: «Прощайте… Кончаю… Прошу не винить…», в «Человеке» есть: «Глазами взвило в высь стрелу. / Улыбку убери твою! / А сердце рвется к выстрелу, / а горло бредит бритвою». Конечно, в «Ленине» нет, и в «Хорошо» нет.
– Как вы это объясняете, брат?
– Он очень боялся смерти. От всего. От болезни, от заразы. Ведь его отец умер от заражения крови. Это подействовало, очевидно. Была мания чистоты. Постоянно носил мыло в кармане, все время мыл руки…
– Но были рядом люди, которые его защищали от этой идеи смерти?
– Ну, еще бы! Вот однажды я Брика спрашиваю…
– Лилю Брик?
– Нет, ее мужа первого, Осипа Брика. Они были очень дружны с Владимиром Владимировичем. Так вот, я его спрашиваю: «Как вам не стыдно, вы взяли и уговорили Маяковского вычеркнуть прекрасные строки:
Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят – что ж по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь.А Брик сказал, что, если им позволить сочинять такие стихи, то они все перестреляются.
– Почему? – не понял ты.
– Это стихотворение публиковалось вскоре после смерти Есенина. И Брик очень хорошо понимал Маяковского. Он был земной, умный. Так проявлялась его человеческая забота о Маяковском, больше даже чем о поэте.
– А когда вы познакомились с Маяковским?
– В конце 20-го года. Еще очень голодное время в Москве. Я студент ВХУТЕМАСа, первого курса, пришел в «Окна РОСТа» в поисках заработка.
– Что такое эти «окна»?
– Российское телеграфное агентство, при котором был отдел наглядной агитации. Он выпускал агитационные плакаты со стихотворными текстами, которые в основном писал Маяковский.
– Это я знаю. Не знаю, каково назначение их, как их изготавливали, тираж…
– Они расклеивались на вокзалах и выставлялись в витринах тогда ничем не торгующих магазинов. Все газетные новости, политические злобы дня обычно освещались таким способом. Изготавливась они в основном кустарным способом. Михаил Черемных, Маяковский, Иван Малютин делали оригиналы, а другие художники, их было много, по этим оригиналам резали трафареты и трафаретили клеевыми красками до тысячи экземпляров, а, может быть, и больше. Рассылали в разные города: в Ленинград, в Киев… В общем, это дело пошло широко. Заведовал в Москве «Окнами РОСТа» хороший художник Черемных. Но душой был Маяковский. Оба очень много рисовали. Очень много хороших рисунков было у Черемныха и своеобразных у Маяковского.
– А Лиля Брик тоже там была?
– Лиля Брик и сестры Маяковского – Людмила и Оля раскрашивали рисунки. Мастерские находились в районе Лубянки. Эта работа давала тогда основное пропитание и Маяковскому, и многим художникам. И вот однажды туда пришел я и принес дробные рисунки с какими-то самодельными стишками. Был я очень нищий и вид имел голодный… Добрый Черемных увидел мои лиловые брюки из портьеры и против своей художественной совести пробу мою одобрил, предложил зайти в ближайшее время, чтобы дать мне реальный заказ. Когда я пришел в назначенный день, то около стола, на котором лежали мои рисунки, стоял Маяковский и ругался: «Кто притащил эту дрянь?..» И я с вызовом – петушился немножко – сказал, что это моя дрянь и что Черемных ее в основном одобрил! Маяковский, увидев такого разнесчастного автора, сразу подобрел и шутливо спросил: «А вы знаете, с кем вы разговариваете?» Я ответил: «Знаю. Вы уже Маяковский, а я еще Вольпин». Маяковскому, видимо, понравилась моя наглость, хотя она была вымученная – я его очень любил. Он сразу переменил тон на заботливый и стал расспрашивать, как я живу, какую стипендию получаю, хотя все это он прекрасно знал – во ВХУТЕМАСе Маяковский бывал часто. И сказал, что около РОСТа кормится много хороших, опытных и голодноватых художников, а подписи к рисункам, по существу, пишет он один, иногда еще Рита Райт, иногда кое-кто еще. «Так вот, попробуйте лучше писать стихи. Вот вы же подписали свои рисунки какими-то стишками. А уж к своим стишкам можете иногда и плакат нарисовать…» Ну конечно, в основе всего этого было сочувствие. Он хорошо понял, что попытка вести себя вызывающе, сострить тоже была подражанием ему, и он сразу превратился даже не в старшего брата, а в отца. И в дальнейшем очень либерально относился к моим рисункам и снисходительно к стихам, которые я делал изо всех сил под него, под Маяковского. Нет, к стихам он относился все-таки строго. Плохую рифму ему не подсунешь.
– А как он относился к поэтам того времени, кого ценил?
– Однажды я пришел в помещение РОСТа. Маяковский был уже там и рассматривал свои рисунки, раскрашенные сестрами. Они лежали на стареньком, совсем хлипком столике. В это время кто-то пришел с трагической новостью: в Петрограде умер Блок. Маяковский выпрямился, приподнял столик этот, резко, с силой опустил его так, что подломились ножки и посыпались все рисунки. Со страшным огорчением, прямо-таки страданием на лице – я редко видел его таким – произнес: «Единственного не халтурщика голодом заморили». И здесь, в этой фразе, может быть, сказалось его подлинное отношение к своей работе, к «Окнам РОСТа», которые ему давали возможность жить… Много лет спустя, вспоминая РОСТовские времена, я умиленно даже как-то сказал Маяковскому: «А помните, Владимир Владимирович, как с вашими только что раскрашенными рисунками в эту огромную комнату приходила Лиля на своих тонких ножках?» Господи, что с ним было! Я думал, он меня поколотит за эти «тонкие ножки»: «Не смейте говорить о ней так!» – а была уже в его жизни Татьяна Яковлева… И он собирался ехать в Париж на ней жениться… Гнев его мне удалось потушить только его же стихами, написанными сестре Лили – Эльзе (позже Триоле):Там дом в проулке весь в окошках,
От Пятницкой направо от.
И гадость там на курьих ножках
Живет и писем мне не шлет.
«Мне можно, – сказал Маяковский, – а вам – нет».
Ты спросил у Вольпина:
– Ну что, Маяковский все-таки любил Лилю?
– Ну конечно! Она была его баба! Понимаешь, его баба…Помнишь, ты говорил: «Как наш Вольпин любит Маяковского. Как он тихо, нежно иногда произносит его имя… Мне почему-то плакать хочется. И я не понимаю, почему критики устроили скандал, что Лиля Брик опубликовала ласковые, шутливые письма Маяковского. Лично я ей очень благодарен. Я хочу знать про Маяковского все, даже как он ходил в уборную!» С Маяковским тебя роднила близость стиха и жизни. И то, что Маяковский оставлял за собой право самому определить срок своей жизни, ты понимал как нормальное проявление человека, а не психическую болезнь, хотя во всех других случаях самоубийство осуждал.
– Маяковский считал, что самоубийство – один из правильных выходов для него, – говорил ты. – Он жизнь включал в ставку. Рассуждал как игрок. Полюбил женщину – ставка. Поедет со мной – буду жить. Не поедет – пуля. В этом его характер. Но глубинные причины самоубийства, конечно, сложнее.
Некоторые ты знал. И продолжал у друзей и знакомых Маяковского искать черты его характера и ответы на мучившие тебя самого вопросы. Так тебе легче было входить в его поэзию. Когда Пастернак рассказал тебе о смерти Маяковского, рассказал, что пришел и увидел толпу у него в передней: «Как выстрел выстроил бы их…» – ты мгновенно через строку ощутил это великое бедствие.Сколько раз ты говорил:
– Веруся, напиши про меня. Ведь теперь никто не знает меня, как ты, никто не предполагает даже, что самое интересное – я человек, то есть основа всего, моих стихов и судьбы.
Если бы я могла, Назым, выполнить твое поручение, если бы сумела. Но эта ноша не по моим плечам. И я все думаю, почему не выключила телефон, не заперла дверь на замок, не усадила тебя к магнитофону, чтобы ты сам рассказал о себе все-все, что хотел. Впрочем, однажды мы сделали такую попытку, и ты специально для будущего не смог сказать ничего интересного.
Муза говорит: «Вспоминать тоже нужно не все». Если бы знать, что нужно и что не нужно вспоминать…Не знаю, думал ли в это время ты о том, что нас ждет. Мы никогда с тобой об этом не говорили. Мы не бунтовали, мы еще ничего не требовали, мы еще могли не кричать, как это случится позже, через год. Да, мы еще могли не кричать. Приходили дни, уходили дни. Они были наполнены чем-то особенным, что выделяло их из будней. Как я почувствовала, узнала свою любовь? Какой она явилась мне впервые? В каких одеждах предстала предо мной – рассказать не смогу. Наверное, все началось с тоски.
Да, да, все началось с тоски по тебе. Сердце разрывалось от разлуки, но ни единой душе я не могла в этом признаться. «День ли, ночь летят в нетерпении. Жду тебя, сгораю от времени…» – написала я первые и последние шестнадцать рифмованных строчек в жизни. Тебе в этом не призналась никогда.
Ты уехал в Ташкент. На международную конференцию писателей Азии и Африки. Обещал вернуться через десять дней. Но после окончания конференции тебя увезли в Таджикистан на юбилей Рудаки. Звонил. Десять, двадцать раз в день. На студию, домой, Акперу, Тосе. В голосе твоем слышалась грусть и желание все скорее про меня узнать. И каждый раз с восторгом повторял: «Знаешь, какой красивый народ эти таджики! Особенно мужчины. Древний народ, с тысячелетней культурой и великой поэзией!..»
Как ты был далеко от меня! Казалось, нас разделяют не километры, а тысячелетия. Ты где-то там, среди древних персиян, их старины и библиотек беседуешь о касыдах, наслаждаешься благозвучием фарси. А мне хочется увидеть тебя, оказаться рядом.
Почему я всегда скрывала себя от тебя, Назым? Из последних сил старалась быть с тобой ровной, одинаково приветливой, веселой. Но вот ты сказал, что опаздываешь с возвращением, и я умираю. Не знаю, как жить в эти несколько дней вдали от тебя. Казалось, не вынести…А может быть, моя любовь пришла осенью 1957 года? Помнишь серый осенний день? Московский парк имени Горького после дождя.
Мы подъезжаем на такси. Ты – в светлом плаще на клетчатой шерстяной подкладке – он одиноко висит теперь в шкафу. Я – в голубой суконной курточке иду с тобой рядом, держась за руку. Мы входим в пустынный парк через давящие своей тяжестью громадные ворота. Мы минуем их, и ты останавливаешься, смотришь на них с ненавистью, запрокинув голову, и зло усмехаешься – вот, мол, в парке соорудили какое безобразие. Ты качаешь головой из стороны в сторону.
– Вы, конечно, изучали религиозную архитектуру и знаете, что, например, католики строили свои готические соборы вытянутыми до неба, чтобы человек, входя в них, чувствовал себя каплей. Каплей, которая в любой момент может испариться. Туда. – И ты показал на небо.
Ты говорил, что католические священники были куда добрее к людям, чем сталинские архитекторы. Ты не понимал, как можно было соорудить в парке для отдыха эти огромные ворота, тяжелые, как обрубленные ноги громадного слона.
– Это памятник крепостничеству эпохи сталинизма. Самоуверенные дураки хвастливо написали наверху: «1955 год». Удивительно, ворота старого парка построили, когда Сталина не существовало уже почти два года… К сожалению, дух кровавого гипнотизера не уйдет с одной шестой земного шара без драки… И, может быть, без крови.
Мы минуем ненавистное Назыму сооружение, спускаемся по широченным ступеням, рассчитанным, видимо, на чеканный шаг миллионов. Перед нами гигантские, как и всё здесь, полусферы или полусерпы клумб с цветами по пояс, реющими в сером воздухе красными языками, словно пионерские галстуки. Мы одни. Идем по соцреалистическому великолепию, как и подобает, бодрым шагом, и вдруг я замечаю, что ты действительно идешь бодрым шагом, как нормальный человек. Ты гладишь кончики моих пальцев. Молчишь. Нам вовсе не скучно молчать. Я уже чуть-чуть научилась слушать твое молчание. Нам хорошо. Мы рядом, и больше ничего.Сейчас, когда тебя нет, я осваиваю другие значения молчания. Я подыгрываю подосланным стукачам – ничего не знаю, не помню, о политике не говорили, записей нет, не вела – вот такая вот молодая, глупенькая у Назыма Хикмета была жена.
Ты постелил свежую газету. Мы сели на край здоровенной, как ладья, скамьи. Ветер тряхнул на нас мокрой кроной дерева, ты встал и пошел к кондитерскому киоску, а я провожала тебя взглядом. Мне стало казаться, что киоск вместе с твоими шагами удаляется от меня, удаляется, и ты больше никогда не вернешься. Ты догнал его. Вижу, согнулся перед окном, говоришь с продавщицей, но ни слова, ни голос не долетают ко мне.
Вот обернулся, смотришь, и она выглянула из окошка, тоже глядит на меня. Разговариваете. Наконец, протягивает тебе пакет. Ты возвращаешься. Я считаю твои шаги. Твои характерные матросские шаги. Идешь ровно, словно по канату, но без колебаний. Подходишь на моем счете пятьдесят семь и высыпаешь мне на колени гору трюфелей. Я не ем – ешь ты. Вижу, хочешь что-то сказать, но не уверен – надо ли…
– Эта женщина сказала мне, как ей было приятно смотреть на нас, когда мы шли. Говорит, ведете свою дочку за руку, как маленькую. Говорит, вы на меня очень похожи. Разве вы на меня похожи?
– Не знаю, – смеюсь я. – Может быть, и похожа.
– Эта женщина подумала, что я ваш отец. Огорчается, что ее муж не находит времени для детей. По воскресеньям с утра и до вечера играет в домино с соседями. Я должен был сказать ей, что я не ваш отец, но я не хотел ее разочаровывать. Вот видите, милая, я гожусь вам в отцы. Сколько лет сейчас было бы вашему отцу?
– Он на шесть лет моложе вас. Но на довоенных фотографиях выглядит гораздо старше своих тридцати трех, как и все его поколение.
– Да… Вот так, милая, ничего не поделаешь. Поздно… Мы сидели на скамье и смотрели каждый в свою даль.
Я знала, о чем ты думаешь, Назым. Ты тоже знал, что думаю я. И от наших нерадостных мыслей были мы особенно близки и дороги друг другу в эти минуты.Вот тогда я впервые подумала о своей молодости с ненавистью, с проклятием. Потом чудо как бы само собой свершилось – ты стал молодым-молодым. И ты удивлялся: «Вера, что со мной? Я совсем не чувствую возраста. Тебе не кажется это ненормальным?!» Да, мы поравнялись.
Я вновь задумалась о возрасте, когда ты умер, Назым, а передо мной, как черный клубок, продолжала разматываться жизнь. Жизнь без тебя. Страшно не то, что ты умер, а то, что я продолжаю жить. Это несправедливо, и только мы оба знаем цену этой несправедливости: ты уже заплатил, я – продолжаю.
«Новогодняя елка». Помнишь, мы уехали встречать 1962 год в Эстонию, в Таллин? Помнишь, как было чудесно? Когда-нибудь поговорим и о наших праздниках. Были они в нашей жизни, были, и спасибо им всем.На земле живет одна вещь, бесподобная вещь.
и никто ее не замечает, кроме меня,
может это растение,
может животное, или слово,
может, это металл, или свет, или счастье,
может, это упало с какой-то звезды,
на земле живет одна вещь, живет для тебя,
но ты ее не замечаешь…
Я умру, ты прости меня, умру,
и, разбив красный шарик, ты выйдешь оттуда
и опустишься на морозную площадь…
Это будет в Москве, или в Таллине,
может быть, в Ленинграде.
Ты опустишься на морозную снежную площадь
с новогодней сверкающей елки,
только я унесу уже то, что жило на этой земле
для тебя…
Ты вполне мог бы и не писать двух последних строчек, муженек… Стихи вышли бы хуже, да жить мне было бы легче. Глаза слипаются, ложусь. Погладь по голове, когда усну, как вчера.
Боже, как же это тяжело! Временами, почти религиозное чувство греха доводит до отчаяния, хочется наложить на себя руки или перед всем миром встать на колени, покаяться… Мне кажется, что все вокруг знают, что я погрязла в пороке, что я лгу, лгу, лгу. Я и сама думаю, что я – дрянь.
А ты и теперь все спрашиваешь без устали: «Как ты могла это сделать? Как ты могла это сделать?» Целых полдня сегодня меня спрашивал, немую, казнил.
– Как ты могла это сделать? Как ты могла это сделать! Ты, которую я знаю. Ты как это могла?! Ты ведь не любила меня тогда. Увлеклась немножко, но не любила. Ты не имела желания даже, даже любопытства… Ты ведь не дура, чтобы поверить, что человек сию минуту может скончаться, даже если такая, как ты, ему откажет. Неужели только из жалости ко мне, из страха? Если бы ты мне могла это объяснить! Если бы я мог понять! Что было в твоем мозгу в те минуты – я бы успокоился. Выходит, каждый дурак может играть перед тобой комедию, нехитрый фокус со смертью, и ты пожалеешь, уступишь. Да, правильно, я этого добивался, страшно хотел, но как ты допустила?! Верно, мне это было необходимо. Я все решил заранее. Что же? Я думал как сволочь, хотел спасти себя. Любил тебя, правильно, но так я любил многих раньше, а потом все кончалось. С тобой выходило как-то иначе. Я мучился, начал ревновать как сумасшедший, целыми днями искал тебя по Москве, чтобы встретить где-то. Что ты хочешь?! Не мог работать! Несколько раз бежал за границу, но там так начинал тосковать, что не мог ни о чем другом думать. В Москве хотел каждую минуту знать, где ты, попадал в смешное положение… Нет, я поступил для себя очень логически. Я тоже живой человек, и кто, в конце концов, будет думать обо мне, если не я сам. Эта хирургическая операция была мне нужна до горла! Я знал, если я сплю с женщиной, то потом очень скоро мало-помалу все кончается. Так было всегда. Но обычно женщины тоже этого хотели. Ты не хотела, даже не думала об этом. Я видел это. Злился: считает стариком… А моложе я никогда не был… Ты была уже женщина, даже мама, правда, очень детская женщина, мало похожая на других, но все-таки мне казалось, что для тебя это не будет очень страшно или обидно… Потом, когда это случилось, я растерялся. Был смущен, что я тебе все время в течение часа врал, а ты говорила правду. А я не верил, думал – хочет таким образом вырваться. Потом меня страшно озадачило, что ты стала вдруг другой. Это была ты и не ты. Ты говорила со мной вежливо, тихо, словно ничего не произошло. Но я видел, что потерял тебя. Я сломал в тебе что-то, о чем даже не догадывался. Ты ушла в себя, оставаясь со мной. Мне было странно видеть тебя такую. Ничего подобного со мной никогда не происходило. Но я был рад, что все наконец случилось. Назавтра я целый день пел, превосходно себя чувствовал. Тебе позвонил, не застал – никакой паники. О, Аллах! Да здравствует свобода! Вечером сказал Акперу:
– Скоро это дело кончается! Скоро я опять сделаюсь свободным Назымчиком.
Он недоверчиво посмотрел на меня и тоже очень обрадовался, увидев меня веселым. Потом спросил:
– А как же Вера?
Я сказал, что хватит мучить девушку. Она будет рада избавиться от меня. Я ей страшно надоел. Второй день тоже был ничего, только к вечеру я почувствовал тоску по тебе. Два дня я не слышал твоего голоса, и это понял вдруг, сразу, как человек просыпается от колокола. Я подумал, что все нормально. Хотел себя успокоить тем, что около двух лет я был влюблен в девушку. Так всегда я называл тебя. Как-то в моем представлении ты была такой. Только когда на тебе женился, бросил так говорить. Хотел сделать себе впечатление, что все в порядке, а сам уже набирал твой номер. Ответили: «Вера спит». Было на самом деле уже поздно. Я ходил по даче, держал себя, чтобы не набирать твой телефон – было жалко твоих соседей. Лег в постель и постарался спать, но сон не шел. Тогда в первый раз вспомнил все, что случилось два дня назад. Почему-то вспомнил, как ты потом была без красок. Все без красок: голос, волосы, походка. Ты все время слышала на себе мой запах, и я вспомнил, как тебе это было противно. Мы вышли из дома. В сквере никого не было. Шел маленький осенний дождь. Ты очень торопилась и я все время просил тебя идти медленнее. В этом было что-то унизительное для меня. Тебе хотелось поскорее от меня избавиться. Это не обижало меня, нет. Я был очень собой доволен. Даже немножко бравировал перед тобой. Хотелось тебя растормошить, не отпускать такой замкнутой. Но, в общем, я испытывал удовлетворение. И только через два дня вспомнил, как ты смотрела на меня у ворот своего дома. В твоем строгом взгляде были грусть и сожаление. Ты как будто сняла меня с высокого пьедестала на землю, и теперь я не мог понять: хорошо это или плохо, что ты сняла меня с пьедестала… Я не спал всю ночь, то есть очень плохо спал. Утром неважно выглядел, а хотел казаться лучше, чем всегда. Звонил на твою работу, ответили, что ты занята. Я прямо поехал в студию и был очень взволнован, очень. Хотел что-то поправить и боялся опоздать. У меня было такое состояние, как будто ты исчезла и тебя больше не существует. Я испытал настоящую панику. Когда я вошел в твою рабочую комнату, я увидел тебя. Ты сидела за чужим столом, спиной ко мне, вокруг тебя – незнакомые мужики. Вы все что-то серьезно обсуждали. Ты меня не видела, в комнате кроме вас никого не было, и я мог несколько минут смотреть на тебя. Но мне почему-то было страшно сделать несколько шагов, страшно попасть тебе на глаза. Тогда я впервые испытал перед тобой робость. С тех пор это повторялось много раз. Потом меня кто-то обнаружил, и ты оглянулась. От неожиданности ты смутилась, покраснела. Ты вообще часто краснеешь, как маленькая девушка. Я увидел, как ты сделалась худенькой, а может быть, мне так показалось. С этого дня я пропал. Вот так было все. Все женщины потеряли для меня свои женские черты. Больше я их не видел. Ты единственная женщина, которой я не изменял и никогда не смогу изменить, даже если ты меня будешь бросить. Черт побери, такая вещь может случиться! Ты молодая женщина, я старый человек. Знаешь, жизнь, миленькая моя, такую вещь иногда сделает…Сколько раз ты меня терял, Назым. Сколько раз находил. Сколько раз будешь терять и снова находить….
Как я люблю тебя, как люблю! И каждую ночь клянусь себе, что завтра я скажу тебе «нет», и каждый следующий день я сломя голову несусь после работы за угол и со слезами счастья кидаюсь к тебе. У нас всегда мало времени. Мы учимся им дорожить! Чаще всего ты просто везешь меня на такси домой, заходя со мной по дороге в магазины за продуктами. Теперь ты с уважением относишься к моим домашним заботам, понимаешь, что дома меня ждет дочка. Сколько раз ты подолгу стоял у забора и смотрел, как Анюта играет с няней во дворе.
Иногда, если случались лишние полчаса, мы сидели в нашем кафе. Но всё изобретательнее и успешнее мы ищем возможность побыть наедине. Ты говоришь:
– Почему мы должны расставаться? Посмотри на свои сияющие глаза, ты не должна казнить себя за любовь. Мы не виноваты, что так случилось.
Все так. Но когда я оставалась одна – совесть выедала душу. Желание и долг трагически не совпадали. Надо было как-то помочь себе.
Ты написал сценарий. Его ставили. Долго. Но не бесконечно. А новый замысел фильма «Мир дому твоему» еще не оформился. Нам все труднее и труднее становилось находить поводы для встреч. Я всеми силами охраняла наши отношения, не хотелось, чтобы о нас сплетничали. Но ты не мог и не хотел не видеть меня. Ты звонил и просил:
– Я приеду?
– Неудобно. Не нужно. Потом. Когда-нибудь, – говорила я.
– Когда? – кричал ты и умолял. – Когда? Наконец ты нашел выход:
– Мы будем писать с тобой пьесу.
Я долго упиралась, но ты был еще упорнее.
– Ты же пишешь с другими писателями, которых ты редактируешь, почему отказываешься работать со мной? В конце концов, я не самый лучший драматург на свете, но все-таки могу научить профессии. Любой человек с твоим образованием и способностями воспользовался бы моим предложением. Кроме того, мне давно хочется написать пьесу о жизни советских людей. Пусть ее герои будут разными – и интеллигенция, и рабочие. Ты хорошо знаешь московский быт. У тебя есть литературный вкус. Это так важно! Если бы ты знала как. Давай попробуем. Не получится – черт побери! Чтобы экономить твое время, писать будем в моей московской квартире.
И вот твой маленький кабинет с громадным письменным столом. Мы с тобой сидим по разные его стороны. Я на высоком дубовом стуле. Ты в низком кресле. Над нами неярко горит лампочка. Я устала после работы, хочется отдохнуть, а ты строг, не даешь расслабиться ни на секунду, требуешь полной сосредоточенности. Незадолго до начала нашей работы ты прочел во французской газете о двух драматургах, написавших недавно прекрасную пьесу. Оказалось, они говорили от лица героев при включенном магнитофоне. В результате получилась острая пьеса с живой речью и ритмами самой жизни. Ты предложил:
– Давай попробуем этот метод – наговаривать диалог. Все сцены с молодыми героями будешь писать ты, стариков – я, а все сцены Алексея Петровича и Даши будем писать вместе. Я буду говорить за Алексея, ты – за Дашу. Магнитофон нам не нужен. Записывать будешь ты.
Как-то само собой получилось, что пятидесятилетний ученый только что перенес инфаркт и полюбил молодую медсестру Дашу. Им было трудно, но наши герои были мужественнее нас, лучше нас. Им не нужно было врать, они были свободные люди. Это мы пожалели их. Наши герои были счастливы. Недолго. Пока он не умер. Но он умер.
Финал написал ты, Назым. Протянул мне листок:
– Вот ты узнала об этом, что ты сделаешь? Что скажешь? Может быть, ничего?
Об этом повороте мы не договаривались. Ты смотрел на меня с напряженным ожиданием. Я взяла карандаш и написала: «Даша выходит к зрителям:
– Вы думаете, что он умер? А я думаю, что нет».
Я протянула тебе страницу. Ты прочитал, похлопал меня по руке и сказал:
– Не бойся, я постараюсь жить подольше. И нацарапал: «Конец».Многое случилось в этой жизни, но с другим человеком, про которого ты мне сам все рассказал: «Вера, ты должна все услышать от меня. Я не хочу, чтобы потом когда меня не будет, разные сволочи мучили тебя сплетнями обо мне».
Ты мне рассказал про всех женщин, с которыми был долго или коротко. Про всех. Рассказал сухо, как в информационном бюллетене. И я не ревновала. Даже встречалась кое с кем. Ты удивлялся, говорил: «Я бы не смог, может быть, потому, что я турок?»
А я могла – и не от самоуверенности. Просто на моих глазах ты забывал, забывал чужие женские краски и голоса и однажды забыл совсем. А сегодня некоторым из этих женщин я благодарна. Верь мне, Назым, не вздыхай.– Веру вызывает Варшава! Варшава! Варшава! Ответьте Берлину! Лейпцигу! Праге! Будете говорить с Парижем. Не кладите трубку, девушка!
Меня вызывает Прага. Прага! Прага! Двадцать раз Прага и двадцать раз Лейпциг, и два раза в вечер Прага, Прага… Я уже не сопротивляюсь. Я не стесняюсь уже. Телефон нетерпеливо звонит на коммунальной стене коридора. Против него на кухне соседи не спеша доедают свой ужин. Лампочка Ильича освещает их лица, внимательные, спокойные. И я делаю вид и голос, словно это нормально, что меня вызывает из-за границы (это же запредельнее Луны!) Назым Хикмет. Я хитрю, изворачиваюсь, изъясняясь односложно.
– Да. Да… Да… Конечно… Очень… Да.
Мы ни разу не подумали, что наши разговоры о любви слушают десятки людей, что их записывают на магнитофонную ленту и потом, наверное, разгадывают как шифровку серьезные дяди в компетентных учреждениях… Ослепленные тоской, мы не думаем об этом. Мы не думаем…
Простите нас все. И те, кто был подключен к нашей горячей линии по воле службы, и те, кто ел на коммунальной кухне под наш вздох. Мы любим! Пожалейте нас, помогите! Дайте еще минуту! Десять секунд… Одну!
– Соскучилась?
– Да.
– Был трудный день?
– Да.
– Хочешь, – чтобы я поскорее приехал?
– Да. Да. Да…
У меня уже нет воли, нет сил сказать – «нет», поэтому иногда говорю «не знаю», и это звучит определеннее, чем «да».Когда жизнь подбрасывает плохие вести, я думаю: хорошо, что тебя нет. Но если вдруг радость, если солнце в окно – острее чувствую пропасть разлуки, слышу свои холостые шаги. Никто на всем белом свете не испытает такой отчаянной тоски по тебе, как я и Акпер. Мы твои сироты, Назым.
Образумьте меня, люди, научите, что делать. Надо, надо, надо подумать о нас. Один раз взять голову в руки да поразмыслить трезво, как про чужое, о последних месяцах моей жизни. Но нет, этого не сделаю! Я лечу в тартарары. И от этой скорости мне сладко, больно, тревожно. Сколько веревочке ни виться, кончику быть. А мне уже поздно об этом печалиться. Некогда мне. Дни летят. Каждую секунду я живу! На студию приходят от тебя открытки с видами незнакомых городов. На моей ладони лежит Ленинград. Отсюда ты начал путь в Швецию, на заседание Бюро Всемирного Совета мира.
Целую всех красивых женщин, они у нас все красивые,
и всех мудрых мужчин, они у нас все мудрые. Целую Раю
и тебя.
НазымЧерез два дня утром под нехорошим взглядом начальника отдела кадров получаю из рук курьера заморский конверт. Из Стокгольма. В нем стихи от тебя. По-турецки.
Я рассматриваю твои ровные строчки, я рассматриваю твои буквы и твою подпись, но не могу прочитать. Начальник отдела кадров тоже рассматривает и тоже не может прочитать. Я звоню Акперу. Он приезжает и очень серьезно, немного смущаясь и покашливая переводит мне, как правительственный бюллетень, крик о твой тоске.
Вечером того же дня (о, бедный мой кадровик!) на мою ладонь опускается город Стокгольм, легкий и маленький, как почтовая открытка.Привет. Целую тебя, Раю и всех друзей. Ужасно скучаю. Скорее, скорее хочется домой! Вот и всё. Назым
«Вот и всё», говоришь? Я читаю, перечитываю эти три строчки текста. Я рассматриваю почтовые печати и штампы, типографский номер открытки и стерильные улицы Стокгольма. И наконец я понимаю, как много ты сказал мне. Как много! Как хорошо. И опять гоню время. Еще по наивности считаю его именем существительным. Время пусть катится скорее, но оно наказывает меня, останавливается нарочно. Я и все вокруг движемся, а время замерло, как волны моря, на которые смотришь с самолета. Из Стокгольма снова летит ко мне весть горячая, как твое дыхание.
Все время думаю о тебе. Все время думаю о тебе! Все время думаю о тебе!! Все время думаю о тебе!!!!!!!! Назым Хикмет
И в слове «Назым» вместо буквы «а» нарисован твой грустный глаз, над буквой «и» в фамилии повисло твое сердце, а вместо «т» – распустившийся цветок.
Какое счастье жить в унисон. Нет, не жгите меня на костре, не бейте камнями, лучше помогите пережить разлуку, прибавьте сил.
А ты уже написал новое письмо и уже опустил его в ящик. На него поставили печать и отправили в дорогу.
Оно приземлилось самолетом на московский аэродром, ехало машиной, шло ко мне ногами почтальона, и вот оно – моя награда.Черт побери, какая замечательная штука тебя любить! Ты моя любовь, ты моя дочка, ты мой товарищ, ты моя маленькая мама.
Как аккуратно ты переписал монолог Алексея из нашей пьесы! Ни единой ошибки. Но Алексей остановился на этом, ты же, бросив русский текст пьесы, переходишь на турецкий: Милая, единственная моя. Оказывается, до того, как тебя полюбить, я не умел любить мир. Если этот город красив, – благодаря тебе, если молоко вкусное – благодаря тебе, если этот человек умен – благодаря тебе, если у этой женщины доброе сердце – благодаря тебе. Вот так, Эфендим.
Вера! Вера! Вера! Слышишь, как я кричу, милая ты моя, родная ты моя, получил я твое письмо. Вот оно. Я читал его уже 15 раз. И карточки – я беспрерывно смотрю на них. Ужасно пишу, извини, постарайся понимать. Я не живу, раз не могу видеть тебя, не могу трогать тебя, не слышу твой голос. Чтобы быть сейчас где-нибудь с тобой, я хочу сказать на самом красивом берегу моря, под звездами, с тобой рядом, быть с тобой так два часа и потом ничего не хочу, могу умереть. Я полон словами, тоской и не могу выразить. Ты понимаешь мое мучение. Радость моя. Вера! Вера! Вера! Дай мне твои руки, только твои руки и разреши мне смотреть прямо в твои глаза и ласкать твои волосы. Черт побери! Черт побери! Вот так. Не забывай, что я люблю тебя. Очень, очень, очень… Привет всем. Привет Раисе, целую ее. Целую тебя, единственная моя. Назым
Господи, да у нас же роман, Назым! Классический. Любим, страдаем, обстоятельства загоняют в тупик… Ужас… По классике все романы о любви кончаются плохо. Какая судьба меня поджидает… Анны Карениной, Жизели или этой, которая с горя спилась и доживает в ночлежке… Только не задумываться, уговариваю себя. Поздно задумываться. Пройду через все. Не оставляй меня, Назым, подольше. Не оставляй никогда.
А сейчас – что только человеку на ум ни приходит ночью – всплыл в памяти один эпизод.
Помню, прибежала я к тебе на свидание, ног под собой не чуя. Ты вышел из машины, радостный, великолепный, как киногерой, дверь мне открываешь – и вдруг на лице ужас, шок, глаза с нескрываемым страданием глядят мне на ноги. Проследив твой взгляд, тотчас догадываюсь, что всему виной мои туфли. Верно у нас говорят: «бедность не порок, но большое свинство». От смущения начинаю истерически хохотать. Да, на ногах моих новые туфельки из зеленой клеенки в стиле советских галош цвета «вырви глаз». Как сейчас помню, купила их за восемьдесят рублей, то бишь за восемь по-нынешнему! Жуткие, идиотские буцациры, да еще на черной резине. Но выхода не было. Те славненькие, единственные после многоразовой починки окончательно развалились, а в магазинах на зеркальных полках – ничего. Исколесив полгорода, нашла-таки эти и была униженно счастлива.
Ты привык видеть меня прилично одетой. Из-за этих нарядов меня долго грызла совесть. Ведь одевала меня в нашей нищей Москве сестра моего мужа из магазинов Осло и Копенгагена, где она жила со своим мужем-дипломатом. Родная Клара, спасибо тебе, и ты внесла посильный вклад в мою грешную судьбу. Прости.
Прошло недели три. Я уже без комплексов, как все, ходила в презренных баретках, а ты укатил в Стокгольм. Появился внезапно, раньше срока, позвал вечером пойти в Театр Сатиры. Там мы встретились в компании Тоси и Акпера. После спектакля ты вытащил из машины Акпера большой сверток и предложил мне пройтись по Тверскому бульвару. Как только дошли до первой скамейки, ты усадил меня и вынул из свертка красные туфельки, словно слетевшие с ног шведской принцессы. Туфельки, купленные наобум, были столь малы, что не стоило и пытаться в них влезть. Но у тебя сделалось такое расстроенное лицо, что я сбросила свои «модельные» и попробовала всунуть ногу… Ты сокрушенно покачал головой и достал другие. Эти были черные лаковые на высочайших каблуках и хоть чуть больше, но тоже схватили ногу, словно в деревянные колодки.
Безо всякой надежды ты достал, слава Богу, последнюю пару – элегантные замшевые лодочки, отделанные кожей – размера на два-полтора меньше моих ног. Посмотрев на твое удрученное лицо, я поняла, что должна сейчас же надеть заморские туфельки, хоть умри! Не знаю, как мне удалось поджать пальцы. Изделие «гнилого Запада» почему-то не треснуло, но ноги зажглись внутри адским огнем, а под языком побежала сладковатая слюна – признак начинающейся дурноты. Я с благодарностью улыбнулась тебе, прошлась перед тобой и поцеловала твое просиявшее лицо. В ту же секунду ты, хлопнув в ладоши, спустил зеленые баретки в урну.
От боли кружилась голова.
– Идем, погуляем по бульвару моей молодости, – предложил ты. Я собрала всю свою волю, и мы пошли к Пушкинской площади. Мы гуляли, гуляли. «Только – бы не сесть», – молила я Бога, понимая, что встать не смогу и под расстрелом. Ноги мои немели, при каждом шаге колючие мурашки горячими стрелами неслись вверх по икрам.
А у тебя было благодушное настроение. Ты шутил, смеялся. Рассказал, как только что в Стокгольме захотел за обедом поесть телятины. Но тупой официант ни черта не понимал ни по-турецки, ни по-русски, ни по-французски. Тогда ты приставил к вискам пальцы как рожки и замычал: «Му-у-у? Му-у-у?»
– Немножко громко получилось, не рассчитал, – говорил ты с улыбкой. – Но парень закивал головой и через минуту принес стакан молока.
Наконец мы вошли в мой темный двор на Русаковке. Сухой ранний мороз прикрыл землю инеем, как марлей. От боли появилось ощущение слепоты, видно, так сыплются искры из глаз. Я торопливо рассталась с тобой, и, едва ты отошел, потеряла сознание, рухнула на землю. Очнувшись, открыла глаза и увидела перед собой твое испуганное расплывающееся лицо. Только тут я призналась, в чем дело. Ты был потрясен. Сорвал туфли и зашвырнул их подальше. Стал натягивать мне на ноги свои перчатки, но величайшим счастьем было держать ступни на подмерзшей земле.
Я шла по двору босая, кошмар пытки отступал. Ты понуро брел сзади. Я обернулась к тебе у двери и весело сказала «Му-у-у! Му-у-у!»
– Да, миленькая, – грустно ответил ты, – пока мы здесь можем только мычать, черт побери! А капиталисты там эксплуатируют конечно, но при этом делают для людей хорошую обувь и, ей-богу, сносную жизнь.Ночью потолки опускаются прямо на глаза, и изо всех углов выползает темень, тяжелая, как повидло. Улица умолкает. Засыпают соседи в своих нескучных постелях, а со мной коротает ночь испорченный звонок над дверью. Он свербит с такой садистской неотступностью, которая, как свист в ушах, как раскаты головной боли, как детский плач, не уходит, не умолкает, проникает в мой сон и в мое пробуждение. Можно пойти и перерезать провода. Но зачем? Можно же все выдержать. Всё!
Однажды летним вечером раздался звонок: «Ответьте Берлину!» – приказала телефонистка. И ты мне сказал:
– Гюзелим, кызым, гюлюм, бертанем, Веруся моя! Как поживаешь, милая, хорошенькая моя, москвичка моя, редакторша?!
– Уезжаю, – сказала я, – в отпуск. К морю.
– Вот как, значит, уезжаешь…
– Да, Назым.
– Очень устала?
– Устала. Хочется отдохнуть.
– Остаюсь без твоего голоса. Это тюрьма…
– Ничего, время летит быстро, не успеете оглянуться, как месяц пройдет, и я вернусь. А вы собираетесь в Москву?
– Я торопился, уже билет заказал, а теперь, что я там буду делать без тебя… Ты не забудешь меня?
– Нет.
– Ты уверена?
– Уверена, Назым.
– Спасибо. Хорошо, миленькая, отдыхай, но очень хорошо отдыхай! Очень, понимаешь?
– Постараюсь, но почему вы так настаиваете?
– Надо, милая. Увидишь. Я привезу тебе белое платье.
– Что я буду с ним делать? – рассмеялась я очередной выдумке Назыма.
– Послушай, ты не маленькая. Что делают все невесты в белых платьях? Выходят замуж.
– Все это со мной однажды уже произошло. Правда, платье было голубое.
– Ничего, ничего, готовься…
Я поняла, что тоска довела тебя до отчаяния. Ты говорил о невозможном. У меня была семья – дочь, муж, близкий добрый человек. В нашей киношной среде все любили его за бурный открытый характер, за благородство и ироничный ум. Я бесконечно уважала его, восхищалась глубоким знанием литературы, профессионализмом в кино, хотя с тех самых пор, как между нами поселилась ложь, мы перестали быть товарищами. Среди нас троих он один жил честно и потому был лучше. Мне становилось неловко за тебя, Назым, когда ты приходил к нам в дом и шел к нему с распростертыми объятиями, называл братом. Я видела, как ты прячешь глаза от открытого взгляда моего мужа, как искусственно стараешься быть самим собой, и фальшь тебе плохо удается.Мне жутковато было наблюдать вас рядом тогда – двух хороших людей, которые все друг про друга знали. Один хотел украсть, а другой глазами иногда спрашивал меня: разве ты не видишь, что твой герой нечестный человек? Неужели тебя это не останавливает? А я? Я все видела, все понимала – и любила вора. Я его соучастница. Я – его.
Я бегу от тебя, я спасаюсь. В южную деревню Архипо-Осиповку к старой Татьяне в дом. Как хорошо там, как тихо. Мы с Раисой кормим хозяйкиных кроликов травой, ходим к морю вчетвером. Мы отдыхаем с мужьями. Мужчины идут впереди, мы сзади. Мы идем. Тихо говорим, почти не о тебе. О тебе невозможно, всё, предел.
Скоро к нам приедет Вольпин с женой, соберется большая киношная компания московских друзей. И никто, ни один человек не знает, как я живу на самом деле, с какой скоростью я лечу в тартарары… Я падаю, я задыхаюсь, я гибну. Двадцать четыре рабочих дня и четыре выходных нас будет объединять праздная лень, наш отпуск. И за это время я соберусь с силой, я обязательно соберусь и, наконец, скажу: «Нет! Нет! Нет!»
Идут дни. Мы с Раисой лежим на пляже, уткнувшись в песок лицами. Почти у пяток плещется теплое море. Вокруг нас такие же, как мы. Мы лежим и молчим. Я вполуха слышу, как рядом со мной мужской голос восторгается:
– Смотри, какая шикарная машина!
Я не поднимаю головы. Мне безразлично, вся моя жизнь бьется внутри. Шум нарастает. Вокруг нас все начинают обсуждать какую-то двухцветную машину. И вдруг Раиса то ли испуганно, то ли изумленно вскрикивает:
– Веруська, смотри, Назым приехал!Я поднимаю голову и вижу: в пятидесяти шагах прямо против меня стоишь ты, облокотясь на открытую дверцу своей двухцветной «Волги», и пытаешься кого-то отыскать среди сотен тел. Я не верю своим глазам, я не радуюсь. «Какой ужас! – думаю я. – Какой ужас!»
Помнишь, Назым, как ты испортил всем отпуск?
Наша бездумная босая жизнь кончилась. Твои транзисторы, кинокамеры, какие-то штуки-дрюки и само твое присутствие все осложнило, все до крайности напрягло. Вокруг тебя суета. Дамы меняют туалеты, мужчины сооружают тенты над твоей головой и пятками. Конкурсы красоты и состязания интеллектов. На пляже твоей врачихой брошен лозунг: «Ни один сантиметр кожи Назыма не должен подвергаться солнечному облучению!» Солнце палит. А ты весь замурован. Лежишь в бежевых плисовых брюках, рубашке пижонской, в носках, в мокасинах. И такой ты нелепый на этом голом деревенском пляже, такой хворый, несмотря на всю свою веселость и бодрость. Ты мучаешься. Не можешь привыкнуть к моим голым рукам, ногам и спине. Даже несколько лет спустя, когда мы стали жить вместе, ты, увидев фотографию пляжа в Архипо-Осиповке, где я в купальнике, а ты рядом под тентом, взял ножницы и отрезал нижнюю часть, чтобы никто не увидел меня такой. Тебе кажется, что все смотрят только на меня. Ты хотел бы всем завязать глаза, всех подозреваешь в чем-то недозволенном, неназванном. Тебе плохо, Назым, я это вижу. Но что я могу для тебя сделать? Мне и самой не лучше. Я хочу быть от тебя подальше, чтобы никто ничего не заметил, мне так от всего этого неловко. Мне так худо! А ты мне не помощник. Каждую минуту зовешь меня, бросаешь и бросаешь в меня камешками. Ты выходишь из своего укрытия, если я иду в море, и уже все кругом понимают, что подходить ко мне не надо…
Помнишь, ты развлекал женщин, гадая им по руке. С этим гаданьем ты устроил настоящий переполох. Я-то знала, что ты все выдумываешь, читаешь больше по лицам, чем по ладоням, но женщины так верили тебе! Одна расплакалась. Ты «нагадал» ей второго ребенка, а бедняжка боялась родов. После этого ты уже никому не обещал детей, ты сулил им самые прекрасные и невинные свершения. Ты гадал про счастье и своим – Райке и красавице Ирочке Вольпиной, ты гадал несколько часов подряд, привлекая всеобщее внимание. Ты предложил погадать и мне, но я отказалась. Мое прошлое было тебе известно, а будущее… Что про него говорить.
Мы лениво гуляем по деревенской улице вчетвером – ты и три женщины. Ты останавливаешься.
– Если бы сейчас появился джинн и захотел бы исполнить ваше самое большое желание, о чем бы вы его попросили? Знаете, джинны весьма серьезные парни, если уж обещают, то будьте уверены, не подведут.
Мы начали тупо соображать. Ты хитро посматриваешь на меня. А докторша вдруг назидательно произнесла:
– Я хочу, чтобы вы прожили еще пятьдесят лет. Ты вежливо улыбнулся и взглянул на нас с Раисой.
– А вы, девушки?
Что нам оставалось делать? Мы присоединились. Игра не получилась. Ты почувствовал фальшь:
– Вы настаиваете на такой скучной вещи. Джинн страшно разочарован и в конце концов жалеет меня тоже. Еще пятьдесят!
Валяясь на раскаленном песке Архипо-Осиповки, я получаю от тебя первый подарок. Мои первые стихи.Пчелы,
как крупные капли меда,
пчелы
носят к солнцу гроздья,
они прилетели
из моей молодости,
эти яблоки тоже оттуда,
эти яблоки тяжелые —
эта дорога с золотой пылью,
эти камешки белые
на берегу реки
моя вера в песни,
моя независтливость
и этот безоблачный день тоже оттуда,
этот день голубой,
и море, лежащее на спине,
теплое,
голое…
И эту тоску,
и белые зубы этого рта
толстогубого,
и эту кавказскую деревню
пчелы принесли на лапках,
как крупные капли меда
из молодости моей,
из молодости моей,
где-то мною забытой,
меня не насытившей…
Я вижу, как временами взгляд твой затуманивает иная тоска. Ты смотришь через море, туда, где оно смыкается с небом, смотришь в этот шов, как в щель, напряженно, без устали, и чудо свершается: ты на том берегу. Я не знаю, что ты там делаешь, бросаешь ли камешки в воду, механически, как сейчас, или, пройдя набережную, устремляешься в самую гущу Стамбула, смешавшись с толпой. Может быть, держишь на руках своего маленького сына или ешь пахлаву. На могилу матери не пойдешь, не потому, что избегаешь ходить на могилы, а просто не знаешь о ее смерти. Я теряю тебя в Стамбуле, Назым. И тогда я подхожу и сажусь с тобой рядом. Ты этого даже не замечаешь. Как далеко ты ушел, как далеко… Я тихо жду, когда ты вернешься.
– Вот так, милая, – говоришь ты мне, – всего несколько десятков километров…
На твоем внезапно посеревшем лице красные веки и глубокие красные морщины проступили, как границы на политической карте мира. И мне страшно. Ты похож на серые портреты Буффе, прорисованные красной краской. Как тяжело тебе жить. Как тяжело…
Если бы сейчас явился передо мной джинн, я бы попросила его за тебя. Не пятьдесят, а столько, сколько ты хочешь сам, но посвободнее, посчастливее.
Я снимаю с головы резиновую шапку, зачерпываю в нее воду из твоего моря и приношу тебе, Назым.
Ты берешь ее пригоршнями и опускаешь в это микроморе свое лицо. Вода проливается между пальцев. Ты наполняешь пригоршни снова и снова, и теперь никто не догадается, что ты плакал.
– Вы раскаиваетесь, что оставили Турцию? – спрашиваю тебя.
– Вопрос не в этом. Иногда со мной случается такая страшная тоска, хасрет, – произносишь ты по-турецки, – что не знаю, что лучше: жить вот так сейчас или тогда получить пулю в затылок. Не дай Бог испытать тебе эту тоску. Ты не можешь себе представить, что это такое, стать эмигрантом. Даже таким, как я. Даже здесь, в Советском Союзе.Несчастный Назым… Несчастная я.
Я привыкаю к морю, милая,
и к солнцу,
и к яблоку, и к звездам, и к песку,
все больше привыкаю.
Смешавшись с морем,
с солнцем,
с яблоком,
со звездами,
с песком,
я должен уходить.
Не знаю, когда ты писал свои стихи: вечерами или рано утром, но ты приносил на пляж белые листочки, исписанные твоим немного детским почерком, и переводил их сам, коряво, но выразительно. Это уже потом в Москве Муза сделает из твоих турецких стихов русские, а пока ты сам день за днем переводишь их нам на пляже:
Как холщовая рубаха,
выстиранная на обветренной палубе
железной щеткой
в морской воде,
на моих плечах
печаль.
И в этой южной деревне
солнце
краснеет
и наливается
в девушках и персиках.
И я чувствую, как прощаю тебя. Видимся – значит, жива, Назым. Чувствую, как опять мои качели несут меня навстречу тебе. И на твой вопрос:
– Прости меня, я не должен был приезжать. Но я не мог. Я так хотел тебя видеть. Ты простишь меня?
Я отвечаю:
– Ничего, Назым. Я рада.Подожди, Назым, не говори со мной. Во мне расщепляется время. Моя память достигла небывалой ясности. Я не могу отвлечься, я боюсь пропустить главное среди всех наших дней, часов и минут, а главным оказывается все… Но так не может продолжаться долго. Я не выдержу. Сойду с ума и, чтобы не рухнуть, должна вернуться назад и смиренно, шаг за шагом пройти наш путь. Я беру большую пачку твоих писем. Они столько раз мне помогали. Пусть поговорят со мной еще разок. Выдергиваю наугад.
Вот письмецо. Ты послал его Акперу из следующей поездки, чтобы он сразу по телефону перевел мне стихи. Как ты верил в силу своих стихов, Назым!
Москва, 1-я Черемушкинская. Тов. Бабаеву Акперу
Я не встретил чаек
и в погоне за мной
рыбьи стаи не мчались
в волне за кормой,
и три дня и три ночи,
как тяжелое горе,
все текло через тучи
Балтийское море…
Я боюсь потерять тебя,
словно чую беду,
что вернусь – и ни города,
ни тебя не найду…
Переведи это девушке, сынок. Тоскую. Целуй ее за меня. Назым
Я еще не пришла к тебе тогда, а ты уже боялся меня потерять. И все больше, все острее, все мучительнее. Хорошо. Бойся и не отпускай. Незачем нам расставаться. Мы вместе, как всегда, муж мой.
Вот и я. Вчера слушал твой голос и был самый счастливый человек в мире. Все время думаю о нас: о тебе и обо мне. Я вернусь и обязательно научусь хорошо, по падежам писать по-русски. Любить тебя так и не писать об этом по-человечески, с ума можно сойти! Ты, милая, понимаешь, что я пишу? Я если совсем не заболею – 15-го уезжаю отсюда, т. е. в понедельник, в понедельник! И вот. Пиши, меня не забывай. Иногда, т. е. каждую минуту думай обо мне. Целую, радость моя.
НазымА вот – открытка на студию, очередная добыча моего кадровика. Всего несколько слов.
Привет всем. Хороший город Варшава, но Москва лучше всех.
НазымА в этом конверте шуршат стихи. Они называются турецким словом «хасрет» – тоска. Первое слово, которое я запомнила на твоем языке. Так приятно, что в этом слове я и твоя далекая родина однажды соединились.
Сто лет не видел твоего лица,
не обнимал тебя,
в глазах твоих не отражался,
не задавал вопросов белизне ума,
к теплу твоих колен не прикасался…
Сто лет меня ждет женщина одна,
мы с нею как два яблока теснились
на яблоневой ветке,
а потом
упали с дерева
и раскати лись…
И между нами
время —
во сто лет,
дорога —
во сто лет,
и в полутьме я
той женщины
ищу повсюду след,
сто лет ищу,
сто лет бегу за нею…
Назым
Ко мне на студию несколько дней подряд летят открытки от тебя из Праги:
Привет из Праги. Она так будет выглядеть, когда ты приедешь, чтобы смотреть нашу пьесу. Тауфер уже начинал перевести. Привет Рае и всем друзьям в студии. Целую всех и тебя. Назым
Вера! Вера, Вера! Привет. Вот еще раз Прага. Здесь вчера смотрел интересное зрелище. «Латерна магика». Может быть, они поставят нашу пьесу. Привет друзьям. Целую.
Прага
Все благополучно. Уже тоскую, т. е. все время. Скоро
вернусь. Привет всем. Целую всех и тебя.
НазымЛейпциг
Вера, любимая моя. Получил от тебя еще одно солнце, т. е. (нарисовано солнце), и у меня в сердце, т. е. (нарисовано сердце) сделалась, как весенняя ветка, т. е. (нарисована ветка в цветках). Как я люблю тебя, этого ты не можешь представить себе. Хорошая, умница моя. Я обязательно учусь по-русски писать. Я даже в Москве каждый день буду писать тебе письма. Без тебя мир для меня (нарисован земной шар в огне) вот так. Читал тысячу умноженную на тысячу раз твои старые письма. Вчера ночью твой голос был очень грустный. Я до утра (нарисован открытый глаз) не спал, не закрыл глаз. Ты очень устала, и я не могу помогать тебе. Радость моя, хочу тебе сказать самое Важное, то, что не сказал во всю свою жизнь: я люблю тебя.
НазымИ твоим мелким почерком аккуратные строчки стихов:
В объятиях моих вы голые —
город, вечер и ты.
Ваш свет бьет в лицо мое,
это волосы
пахнут так
или цветы?
Чье-то сердце стучит
над голосами,
над нашим дыханьем —
тук-тук.
Это чье?
Города,
вечера
или твое?
А может быть, мое?
Где кончается вечер,
где начинается город?
Где кончается город,
где начинаешься ты?
Ощущаю
под кожей своей
ваше тепло,
тепло наготы.
Ваша кровь в моих жилах
смешалас ь
с кровью моей…
Вы во мне —
город, вечер и ты.
Тогда я еще не знала, что стихи пишутся трудно, а особенно выношенные, выстраданные. А ты посылал их мне много, по нескольку в одном письме.
В эти знойные дни
думаю о тебе.
О твоей наготе,
о шее твоей,
кистях рук,
о ноге твоей,
спящей на темной тахте,
точно белая птица,
о словах, которые ты говорила.
В эти знойные дни
думаю о тебе.
Я не знаю, что в памяти больше осталось
из того, что встает перед глазами:
твоя шея, руки,
нога твоя голая
или слова,
которые ты говорила,
отдаваясь любви моей…
В эти знойные дни
думаю о тебе.
Я раздеваю свое одиночество,
свое одиночество,
немного похожее
на смерть.
Назым И перешагнув границу в Бресте, по дороге в Москву, торопишься обрадовать меня, шлешь телеграмму:
Привет из Бреста. Назым
Ты приехал. Позвонил, сказал, что будешь ждать за углом через девять минут после окончания моей работы. Мы встретились, ты назвал шоферу адрес Акпера. Ты повернул ко мне свое лицо и молча смотрел. На лице твоем впервые я не увидела радости, а одно страданье. Господи, как ты измучен разлукой, как тебя сокрушила тоска. Мы вошли в дом Акпера. В прихожей стояла огромная коробка. Ты волоком протащил ее в комнату, открыл и стал вынимать множество каких-то забавных игрушек, украшений, красивой одежды – все, что в твоем представлении могло обрадовать меня. Ты сел на пол у моих ног. Больше всего меня растрогали мелочи, какие-то заколочки, булавочки, разные штучки-дрючки, о которых ты подумал. Я играла этими вещицами, я им действительно радовалась, а потом сложила все в кучу и сказала, что ни надеть, ни взять ничего не могу. Не могу принести эти вещи в свой дом, как краденые, сказала, что так мы, в конце концов, и до денег дойдем, погубив все…
– Мы должны жить вместе – ты и я, понимаешь? – взмолился ты. – У нас не флирт, не роман, неужели ты не понимаешь, что это судьба? Я хочу заботиться о тебе, жить как нормальный мужик со своей любимой бабой, семьей. Не мучай меня.
– Не надо об этом, – попросила я. – Вы же знаете, это невозможно.
– Но почему, милая, – вскрикиваешь ты. – Мы же любим друг друга, и если у нас есть друзья – они поймут нас! Только обрадуются нашему счастью. Говори с Вольпиным, он твой друг.
– Я говорила с ним.
– Что он? Ты все ему рассказала?
– Да. Ему объяснять ничего не нужно. Он-то все давно понимает.
– Что он советует?! Ты же доверяешь ему?
– Он говорит, что если я приду к вам – то это вроде бы будет неверный шаг. Разница в возрасте, в душевном опыте и во всем прочем огромная. «Но, – говорит, – ты для своего мужа (к которому он, кстати сказать, замечательно относится) любимая жена, но не чудо. Все заземлено. А для Назыма – ты весь мир, и он откроет в тебе для себя, да и для тебя самой что-то такое, о чем вы оба, может быть, и не догадываетесь сегодня. Для тебя он необыкновенный человек. Как и для всех нас. Но для тебя особенно, потому что ты его лучше всех знаешь. Вот я и думаю, – сказал Вольпин, – что надо вам быть вместе. Вот здесь-то и может возникнуть чудо. Иди к Назыму. Трудно, наверное, будет с турком, да еще с таким! Но стоит».
– Вот видишь! Мы не должны больше терять дни. Ты тоже будешь жалеть потом когда-нибудь об этом. Верь мне, Веруся.
– Не могу я, Назым. Не могу, не могу даже подумать об этом.
– Но разве так лучше?
– Я больше не знаю, что лучше, что хуже, но я не могу уйти.
– Значит, его ты любишь больше? Прости. Я не знал. Нет! Ты просто жалеешь! Но пойми, хуже этого ничего не может быть! Ты жалеешь и обманываешь в одно и то же время! И ты считаешь, так лучше?! Расскажи ему все! И пусть он решает! Увидишь: он не захочет быть с тобой…
– Этого тоже не сделаю. Если хотите, скажите вы ему.
– Но, Веруся, жалей меня тоже. Я тоже человек. И к тому же восточный. Я схожу с ума оттого, что моя любимая женщина, из-за которой я умереть могу, – не со мной. Веруся, миленькая, ты боишься скандала, но честное слово, не стоит. Думай обо мне, жалей меня! Ты пойми, для меня это тоже непросто, но я давно готов на всё. На всё!
– Не могу, Назым. Что хотите со мной делайте… Не верю в счастье на чужих костях…
Он долго молча смотрел на меня.
– Хорошо, Веруся, сделаем, как ты хочешь. Только так нельзя.
– Тогда расстанемся.
– И ты это говоришь мне?! Сейчас, когда я дышать без тебя не могу! Я сказал тебе все по телефону. Я думал, ты все решишь до моего возвращения и наша разлука прекратится! А ты смотришь на меня, как будто я предлагаю тебе что-то страшное. Как будто я зверь какой-то. Но единственное, чего я хочу, чтобы тебе было хорошо. И я знаю, что мог бы сделать твою жизнь счастливой. Мы с тобой во всех вопросах сходимся. Эх, знала бы, как это редко в мире… Мы можем интересно, по-настоящему работать, создать что-то новое. Я помогу тебе открыть твой талант. Верь мне! Ведь твоя работа редакторши не даст тебе никогда заняться интересным делом, на которое ты способна. Хватит тебе исправлять чужие сценарии. Ты умеешь писать сама! Уж в этом деле я понимаю. Вот и Твардовский со мной полностью согласен. Он-то авторитет для тебя, я знаю.
– При чем здесь Твардовский? – похолодела я.
– Я отнес ему «Два упрямца» перед отъездом. Хотел спросить, как пьеса написана с точки зрения русского языка. Сегодня был у него в журнале. Он хвалил. Говорит, сделал всего два стилистических замечания в ремарках. Так что верь мне, милая! Я бы открыл тебе много городов, много стран. Ты бы узнала свою страну получше, замечательные люди приходили бы к нам в дом. Тебе бы самой захотелось о них рассказать. Подумай, миленькая. Сто′ит! Честное слово, стоит!
Давай, Назым, вернемся назад, к той последней осени, когда мы еще жили врозь… Итак, я не согласилась, я не послушалась, не смогла прийти к тебе.Ты сказал: – Мы не выдержим. Мы умрем.
Теперь смешно, но первой заболела я.
Вдруг появилась температура, дикая слабость, бессонница, апатия. Врачи услышали шумы в сердце и увидели очаги в левом легком. «Что с вами? Полгода назад вы были абсолютно здоровы!»
Ни тогда, ни потом я так и не смогла сказать тебе, мой замечательный Назым, что меня выгнали с работы сразу после 17 октября. Выгнали из-за тебя.
17 октября – черное число. Едва я переступила порог студии, позвонила мама и, страшно волнуясь, сбивчиво стала говорить, что сегодня в газете «Известия» напечатана статья против Назыма Хикмета:
– Говорят, что он плохой и выступает против Советского Союза!
Она перепугалась насмерть, что у меня могут быть неприятности из-за дружбы с опасным человеком.
С похолодевшим сердцем я бросилась в библиотеку и действительно в «Известиях» легко обнаружила статью «Тень на плетень», в которой тебя, Назым, защищавшего на страницах французской газеты «La Lettre Fr a n çaise» светлое имя Мейерхольда, обвиняли в клевете на его гонителей. Советские идеологи, давно раздраженные твоими шумными попытками заставить их с помощью общественного мнения реабилитировать Мейерхольда и вернуть это имя из небытия, взбесились оттого, что ты обратился к западной прессе. Тон статьи враждебный, хамский. Факты, как потом я узнала, фальсифицированы.В то время, в отличие от моей мамы, я не понимала, что означает подобное выступление правительственной газеты, где главным редактором служит зять Хрущева – Аджубей.
Через два дня меня вызвали к директору студии. В его кабинете находился тот самый скользкий тип – начальник отдела кадров, который всегда так обнюхивал открытки, приходящие от тебя из разных стран. Без объяснений они потребовали, чтобы я тут же, не выходя из кабинета, написала заявление об уходе. В противном случае у них будут крупные неприятности, и они все равно будут вынуждены уволить меня таким приказом, после которого меня вообще никто уже не сможет взять на работу.
– Причина? Вы протаскиваете в производство идеологически вредные сценарии Назыма Хикмета. А он пацифист и клевещет на нашу страну!
– Это неправда! – сказала я. – И вы это знаете!
Я написала нужное заявление на заранее приготовленном листе, сказала об увольнении коллегам и, пока они пребывали в оцепенении, быстро покинула пределы самой гуманной студии страны, учившей малюток доброте.Я не сказала тебе о том, что случилось со мной. Тогда я впервые подумала о коварстве людей власти, не терпящих инакомыслия и, возможно, желающих моей ситуацией спровоцировать тебя на скандал, принудить уехать из страны, где даже полуправду тогда говорили на ухо. С этого момента я поняла, что не меня, а тебя надо защищать и хранить от бед. Вот почему я скрыла от тебя причину болезни – подвела не душа, а здоровье. Все-таки это был первый удар в моей взрослой судьбе. Спасибо тебе, что ты был со мной.
Когда ты узнал, что со мной творится что-то неладное, то испугался. Предлагал мне консультации знаменитых врачей и чудо-лекарства, но я от всего отказывалась. Я знала, в чем дело, но врачам ведь об этом не скажешь.
Я болею месяц, второй, третий… Ты приезжаешь почти каждый день, подолгу просиживаешь у моей постели, развлекаешь меня, работаешь. С болезненным напряжением ждешь публикации своего ответа в «Известиях» на их статью, но его так и не будет.
В нашей коммунальной квартире днем никого нет, все на работе. Тихо. Тогда я впервые увидела, как ты пишешь стихи. А я помогала тебе переводить статьи. Не любил ты работать в одиночестве, а люди тебе никогда не мешали. Часто вы приезжали ко мне с Акпером, смешили меня какими-то дурацкими историями – тебе хотелось во что бы то ни стало вывести меня из депрессии. Ты укутывал меня и тащил в какие-то поликлиники, где меня исследовали так тщательно, как будто посылали на Луну, а результаты сообщали тебе.Наверное, я полюбила тебя по-настоящему тогда. Мы поменялись местами. Я стала слабее тебя, и в глубине души ты был этому рад.
Однажды ты пришел под вечер, вернее, сначала позвонил, в прихожей тебе открыла дверь моя соседка, потом я услышала твои непривычно тяжелые шаги, и потом ты елееле протиснулся в мою дверь. Ты внес огромную корзину розовых хризантем, поставил ее на пол и рухнул в кресло. Я помню, как мы долго молчали, даже «здравствуй» не сказали друг другу.
Потом я хотела поднять гигантскую корзину, чтобы переставить ее на подоконник, и не смогла. Она оказалась неподъемной. Я с испугом посмотрела на тебя, подумала: «Как же он мог ее дотащить?» В нашем доме не было лифта.
Ты смотрел на меня глазами едва живого победителя и героя.
– Я принес ее прямо снизу, по всем лестницам досюда, сам, – сказал, улыбаясь.
– Почему? У вас нет сегодня шофера?
– Я хотел для тебя что-то сделать сам, понимаешь, радость моя? У таких глупых мужиков, как я, бывают такие дураческие настроения. Я хочу, чтобы ты поверила, что ты для меня не флирт, а что-то новое, поверила, что я мог бы для тебя умереть. Пойми это хорошенько. Я – очень серьезный влюбленный.
Ты помолчал. Я встала, включила свет, отодвинула корзину к окну.
– Ты знаешь, этот главный врач, который тебя вчера смотрел, сказал мне потом: «Вы любите ее. Но не надо так волноваться. Мы ее поправим, и она, Бог даст, доживет до правнуков». Я сказал, что я ему верю, раз он так точно угадывает диагноз. Он так хотел о тебе спросить…
– А вы, конечно, сказали: «Знаете, профессор, она – моя редакторша, она – моя соавторша, и я хочу ее вылечить, чтобы с ее помощью написать еще одну пьесу о советских людях и заработать…»
– Правильно, я сказал, что хочу на ней жениться, и я сказал, что мы, турки, не любим пускать в свои гаремы, во-первых, худеньких; во-вторых, дохленьких жен. По нашим понятиям, жена должна хорошенько уметь работать, чтобы муж мог спокойно отдыхать и думать о приятном. Пить кофе, немножко ракы для веселья, курить наргиле и лежать на мягких коврах среди длинных шелковых подушек.
– И о чем же он думает, лежа среди длинных шелковых подушек?
– Во-первых, как руководить своей женой так, чтобы она никогда не осмелилась его спросить, о чем он думает; а во-вторых, как лучше провести вечер с друзьями где-нибудь в кофейне и, придя поздно ночью домой, встретить улыбку жены.
– Как хорошо…
– Только так. Иначе как можно содержать целый гарем, если от одной ворчливой, капризной жены можно себя повесить. У нас, миленькая, старые традиции и молоденькие жены.Больше ты не пришел. Ни завтра, ни послезавтра.
Дня через два кто-то позвонил и казенным голосом сказал, что Назым Хикмет в больнице с тяжелым воспалением легких.
Пустые, нехорошие больные дни. Редкие звонки:
– Больной, товарищ Назым Хикмет просил вам передать, что чувствует себя хорошо. Просил не волноваться.
– У него высокая температура?
– Порядка тридцати восьми. Больной трудно поддается лечению. Ему противопоказаны антибиотики.
– Он спит?
– Очень плохо, почти нет.
– А настроение?
– Нервное, беспокойное. Свидания запрещены. Ухудшения не предвидится. Что передать больному?
– Передайте, передайте…
– Хорошо, я вас поняла. До свидания.
Ту… ту… ту… – подвывает гудок.
– До свидания…
Я остаюсь наедине с твоими стихами. Если бы я могла, я написала бы тебе точно такие же:Ты мое опьянение,
Никак не могу протрезветь
И не хочу протрезветь!
В голове моей тяжесть похмелья,
Колени разодраны – все в синяках.
Падая и поднимаясь,
Я весь извалялся в грязи.
Падая и поднимаясь, я упорно
Иду к твоему свету, А он
То гаснет впереди,
то зажигается.
Плохо тебе без меня, Назым? Плохо, я знаю.
На сцене Ермоловского театра на репетициях нашей пьесы «Два упрямца» каждый день умирает ученый Алексей Петрович. Его играет актер Всеволод Якут, и так много я в нем узнаю твоих примет, так много… Еще не поздно переписать финал, еще не поздно отменить смерть, найти другой выход. Какой?
Я сижу одна в темном зале, сжав зубами карандаш. На сцене больничная палата. Сейчас пойдет последний монолог Алексея. И я уже не понимаю, где пьеса, а где жизнь, где ты и где актер, потому что я слышу твои, твои и ничьи больше слова и интонации.
Алексей просит Дашу дать ему руку. Она протягивает, и он, открыв глаза, целует ее. И мне кажется, что это я сама на сцене и не на сцене, а в другой, никому не ведомой, кроме нас с тобой, жизни. И это ты сейчас поцеловал мне руку, а Якут просто повторил вслед за тобой движение твоего сердца.
Я закрываю глаза. Уже четыре дня от тебя никаких вестей. Может быть, сейчас, в эту минуту…
А ты бушевал в больнице. Ты требовал в палату телефон, ссылаясь на партийные дела, на деятельность борца за мир, на всё что угодно, требовал, требовал, требовал!
В конце концов больничное начальство сдалось, и телефон поставили. Ты стал звонить мне через каждые полчаса, но говорил то полуофициально, то иносказательно. Оказалось, что в палате ты лежал вдвоем с пожилым мужчиной, которого стеснялся. И вот новая идея – освободиться от соседа. Как? И ты говоришь врачам, что не можешь спать, потому что сосед твой храпит. Соседа немедленно убрали.
– Свобода! – ты кричишь в телефонную трубку все, что накопилось в душе за последние недели. Ты задаешь сотни вопросов и отвечаешь на них сам, ты говоришь, говоришь, говоришь и никак не может наговориться. Теперь тебе хочется удрать из больницы, и я уже боюсь, что ты действительно убежишь.Ты проболел тогда два месяца, два бесконечных месяца тревоги и отчаяния.
И вот мы наконец встретились после разлуки в театре имени Ермоловой, переполненном зрителями, в час сдачи нашего спектакля «Два упрямца». Это название пьесе дал ты, и оно тебе очень нравилось.
В моей памяти не осталось многих подробностей той встречи. Странно. Что же творилось со мной, если я не помню, как увидела тебя, как ты подошел ко мне, что сказал… Помню коричневый костюм, рубашку из мягкой зеленой материи, бежевый галстук, словно связанный из крученых шелковых ниток, совсем синие глаза… Помню запах твоего одеколона, а слов почти нет. Может быть, мы онемели, а?
Вокруг тебя в фойе постоянно образовывались ручейки людей и быстро превращались в плотное кольцо. На сдачу спектаклей обычно приходит театральная публика, знакомая между собой. Ты целовал женщинам руки, обнимался с мужчинами, отшучивался, отсмеивался. А за всей твоей непринужденностью и радушием угадывалось волнение и слабость. Мне казалось, что ты еле-еле стоишь на ногах.
Потом я узнала, с каким трудом ты вырвался в театр, леченый-недолеченый Назым. Я только помню, как ты сел со мной рядом после третьего звонка во втором ряду и, сжав мою руку, тихо заговорил:
– Вера, Вера, Вера, Вера, Вера! Как я мечтал об этой минуте, а ты не верила, что она наступит. Как жаль, что ты мне не веришь, милая.
Билетерша принесла и положила нам на колени программки – первый сюрприз режиссера. Мы открыли их и увидели два своих портрета на загнутых внутрь боковых страничках: с одной стороны ты, с другой на тебя смотрю я. Ты был счастлив:
– Вот видишь, как хорошо они придумали! Вот занавес открывается…
– Гражданин, вы перестанете, наконец, бормотать! – гневно произнес за спиной Назыма старческий женский голос.
– Извините, миленькая, – обернулся Назым, – извините.
Начался спектакль. Больше мы ничего не видели и не слышали вокруг. Актеры волновались не меньше нас, играли с какими-то сияющими лицами. В зале была напряженная тишина, от этого наше волнение усиливалось еще больше. Потом доброжелательные, щедрые аплодисменты. Потом бесконечное обсуждение спектакля на художественном совете. Изысканные, витиеватые речи и слова, слова, слов а…Я помню, что нас не ругали, но каждое слово сожаления или критики тебя ранило смертельно. Ты ни с чем не соглашался, лез в драку. И, конечно, никто не мог догадаться, что больше всего тебя раздражали не замечания профессионалов, а слова: «В пьесе Назыма Хикмета…» Ты взрывался:
– Почему Хикмета? Мы писали пьесу вдвоем с Верой Туляковой!
Но большинство членов худсовета услышали мою фамилию в тот вечер впервые, и, естественно, они говорили «В пьесе Назыма Хикмета…»
А ты страдал. Ты устроил мне дебют и хотел, чтобы все его поддержали, чтобы создавали мне праздник, ведь ты уже придумал увлекательную оптимистическую программу наших совместных дел на будущее, а мое посвящение в драматурги, как тебе казалось, срывали. Ты раздражался, а вокруг недоумевали, почему же ты сердишься, когда твою работу хвалят.
– Не убегай после заседания. Я должен с тобой говорить. Сидеть где-то и спокойно говорить. Хорошо? – шепнул ты мне.
И вот наконец спектакль принят. Ты почти вытаскиваешь меня за руку из театра, почти бежишь по улице к соседней двери кафе «Националь», почти вламываешься в нее, потому что мест давно нет, и какими-то одному тебе ведомыми способами получаешь отдельный столик в переполненном, дышащем жаром зале.
– Вера, ты должна прекратить этот ад, – говоришь ты, не давая мне опомниться. – Ты мне не веришь? Ты чего-то боишься? Всё! К черту! Хватит! Я умру без тебя. Я уже умираю. Разве я виноват, что так случилось! Ты жалеешь нас обоих. Я знаю. Но пойми, радость моя, единственная моя Веруся. Из нас обоих…
– Назым! Дорогой! Какая встреча! – и основательно подвыпивший здоровенный мужик, невесть откуда возникший, обхватил тебя, поднявшегося ему навстречу, как обнимают столб, чтобы не рухнуть на землю. Он отстранялся было и в восторге снова прижимал тебя к своей монументальной груди, падал в твои испуганные объятья, хлопал по спине свободной рукой, а другой, в которой расплескивалась рюмка коньяку, крепко обнимал твою шею. Ты пытался вырваться, но гость был сильнее и выше, а главное, он ни за что не хотел отпускать тебя, гладил по щеке и все приговаривал:
– Ты меня помнишь, Назым? Ну, конечно, помнишь… Давай выпьем за встречу, за интернационал и полную победу коммунизма! Давай!
– С радостью. Только сейчас я немножко занят. Давай выпьем в другой раз.
– Ну хорошо. Хорошо. Я понял… Ты тут… Ну, словом, понимаю… Я ретируюсь, ухожу… – и он пошел между столиками в глубину зала.
– Ты не знаешь, кто этот человек, Веруся? – спросил ты, в ужасе оглядываясь на уходящего.
– Нет.
– Ты придешь ко мне? Да? – заговорил ты, продолжая оглядываться. – Ты придешь? Скажи!Я молчала.
– Ты ведь сама не можешь так жить дальше. Ты меня любишь. Я вижу. Ты ведь не можешь больше выносить этих страданий!
– Не могу…
– Я знаю. Если бы ты сейчас видела свое лицо! Веруся моя, по-моему, ты боишься один раз до конца говорить правду? Но надо, миленькая. Ты должна решиться. Он молодой. Ему будет трудно, но он выдержит все-таки, а я нет. Умру. Не шантажирую, говорю тебе то что есть. Я умру, и тогда ты поймешь все. Это будет страшно для тебя. Поймешь: то, что тебя сейчас удерживает, кажется таким важным – всего лишь одна из сложностей жизни. Не больше! И ты не простишь себя, радость моя. Потому что один человек умер из-за нехватки воздуха. А воздух – это ты.
– Как же мне уйти? Я не умею, не знаю, как уйти, понимаете…
– По-хорошему… Иначе я исстрадаюсь, счастья не получится…
– Назым, дорогой, давай выпьем на брудершафт! – вскричал все тот же «приятель», вновь возникнув перед нами. Он стоял, как канатоходец на проволоке, раскачиваясь и с трудом удерживая равновесие. В его руках вместе с ним покачивались две рюмки, полные коньяка.
– Но, товарищ, вы знаете!.. – разозлился ты.
– Ну чего ты, – обиделся пьяный, – ты же свой хороший мужик, давай выпьем по одной, Назым!
Ты с ума сходил от досады, но незнакомец был настырен, и ты выпил коньяк, и опять вы обнимались, братались, говорили каждый свое.
– Вера, когда ты можешь ко мне прийти? – быстро спросил ты, как только вырвался из объятий пьяного. – Сколько тебе нужно дней, чтобы все кончить дома?
– Десять, – наобум выпалила я.
– Десять! – взревел ты и оглянулся на своего «друга». – Почему так много? – продолжал почти скороговоркой, с опаской посматривая по сторонам.
Мы говорили как по телефону, когда телефонистка уже предупредила, что время разговора истекло.
– Ну, хорошо. Хорошо! Десять. Мы сразу уедем из Москвы. Куда-нибудь, где сейчас тепло. Потом все успокоится. Мы вернемся, будем жить. Будем много работать. И ты знаешь, нам придется много работать. Мы во всех отношениях начнем жизнь сначала, с нуля. Понимаешь? Я все послал к черту! Дачу возвращаю писателям, машину отдал! Беру только картины, рукописи, книги… Ты согласна взять в мужья бедного Назымчика?
– Спасибо, Назым, – я действительно обрадовалась твоему решению. Для меня оно многое упрощало.
– Тогда мы больше не встретимся. Ровно через десять дней я возьму тебя прямо в поезд, и мы начнем наше путешествие… Мы будем очень счастливы, вот увидишь… Я это сделаю. Идем. Я отвезу тебя последний раз в такси в твой дом. Я так ненавижу эту дорогу! Слава Богу, что это последний раз, иначе мое сердце однажды лопнуло бы на этой дороге к твоему дому. Десять дней… Десять дней без твоего голоса… Ты ведь не откажешься завтра? Ты мне обещала. Клянись, что не откажешься. Это отвратительно, стыдно, знаю, но я прошу, клянись! Мамой, дочерью, умоляю! Я должен отпустить свой страх.
– Я обещаю, Назым.
– Вера!
– Клянусь… Все во мне поделилось надвое, все во мне враждует, все живет в несогласии. Прожитые годы выстроились китайской стеной, сомкнулись перед теми, что ждут своей очереди, не давая им ходу. Воспоминания так сгустились и повисли перед глазами, что ничего, кроме них, не могу увидеть. Я ем, не ощущая вкуса. Я сплю, никогда не высыпаясь. Я ухожу из дома, всегда оставаясь в нем. Все мои мысли спотыкаются на полпути, все мои желания утолены только наполовину, все мои надежды оглядываются назад.
Когда мною овладевает отчаяние и нет сил жить, я вспоминаю самые трудные моменты нашей жизни, я ищу силы там, где мы их проявляли. Я иду по нашим следам…
В тот зимний вечер я стояла у края тротуара с маленьким чемоданом, ждала тебя и все думала: «Что же я не прибрала старый свой дом, не вытерла пыль, не подмела пол… Надо бы вернуться…» А сама все стояла, не в силах сдвинуться с места. Ждала тебя. А ты не ехал. Десять, пятнадцать, двадцать минут.
– О чем ты думала, когда я опаздывал? – спросил ты меня в поезде.
– Я говорила себе: господи, хоть бы что-нибудь случилось, чтобы ты не приехал.
– Например, что? Что-нибудь с машиной, авария, да?
– Может быть…
– Хорошая у меня невеста, ничего не скажешь!
– Я умирала там, на улице, и десять дней до этого. Первый раз в жизни я предавала…
– Да, понимаю. А ты не думала, что первый раз спасаешь человека, правда?
– Не думала.Чем кончили мы нашу жизнь… С чего начали ее? Я помню, что ты говорил мне на перроне в тот январский вечер, вечер нашего бегства из Москвы, перед тем как сесть в поезд.
– Открой ладонь, Вера. Я хочу сделать тебе свадебный подарок.
И ты поставил на мою ладонь тринадцать крошечных деревянных черных кошек с поднятыми хвостами. Ты сказал:
– Нам не будет легко начинать нашу жизнь. Многие постараются испортить наше счастье разными сплетнями, разговорами, мелкими гадостями. Ты должна приготовиться ко всему. Это будет недолго, но это будет. Я хочу, чтобы ты была сильной и спокойной. Пусть в этих кошках соберется все зло, отпущенное на твою жизнь.Да, Назым, я помню, никогда не забуду, как мы убежали из Москвы. Сели в поезд, остались вдвоем в купе… Как долго мы молчали. Каждому казалось, что наяву он видит сон.
Наш билет оплачен до конечной точки пути – до города Кисловодска. Там нас никто не ждал, кроме будущего. Я зажала в руке твой подарок и от волнения не могла говорить. Ты молча держал мои руки в своих, потом разжал мои пальцы, вынул чертову дюжину хвостатых злюк, выстроил их у окна, и пригрозил им пальцем. Потом плюхнул на стол большой рыжий портфель. Это был единственный твой багаж. Когда ты откинул крышку – я испугалась, увидев уложенные рядами пачки денег!
– Здесь сорок пять тысяч.
Для меня эта сумма выглядела гигантской. На бывшей работе я должна была за такие деньги работать сорок пять месяцев! Почти четыре года…
Ты сказал:
– Вот. Это все, что у нас сегодня есть. Ровно столько же денег я оставил на переезд и обустройство в личном доме докторше. Я думаю, она будет довольна. Еще раньше я дал ей сто тысяч, чтобы не платить зарплату каждый месяц. В первые годы я и сам не знал, что был здесь богатым человеком. Мы с тобой будем путешествовать до тех пор, пока не кончатся деньги. Мне нужно сразу купить несколько рубашек, несколько пар носков и носовые платки. Весь мой гардероб на мне, моя женушка! Моя женушка! Привыкай, я – твой муж, черт побери!
И приоткрыв дверь купе, ты громко крикнул на весь вагон:
– Пожалуйста, жена моя просит чаю! Стук-стук-стук, – гнал вперед наш поезд. Стук-стук-стук – стучало сердце.
– Мы будем жить в Кисловодске, там много солнца зимой. В гостинице, думаю, найдем место. Потом повезу тебя в Баку. Это не Турция, конечно, но там многое ее напоминает. В Турцию, ты знаешь, нам нельзя. Месяца через три, когда все привыкнут, что ты навечно пришла жить ко мне, вернемся. Поселимся в московской квартире. Там не очень красивая мебель, но все необходимое есть. Со временем заработаем деньги, купим другую.Свадебное путешествие. Кисловодск. Мы – беглецы. Но не отпускало ощущение, что за нами гонятся. Меня, во всяком случае. А тебя, Назым?
В старинном двухэтажном доме, единственной городской гостинице нам почему-то дали два соседних номера. У каждого по комнате. Удобства в коридоре. Нам казалось, что здесь, где никто нас не знает, мы поживем в тишине. Хотелось больше всего, чтобы никто-никто нам не мешал, мы же должны привыкнуть жить вместе.
Утром нас разбудил горн под балконом. Трубач трубил что есть духу, а детские голоса скандировали какие-то бодрые слова. Ты недоумевал и удивлялся такому шуму. А дети все кричали, и трубач трубил оглушительно. Ты не выдержал, возмущенно открыл дверь на балкон и на улице увидел во главе с учительницей большой пионерский отряд, который с ликованием приветствовал именно тебя. Оказалось, местная газета уже опубликовала информацию о том, что Назым Хикмет накануне остановился в здешней гостинице. Вот пионеры и пришли пригласить тебя в свою школу. Через минуту все они заполнили твою комнату, и ты, в конце концов, не сумел отказать детям.
С этого дня все так и пошло. Ты оказался в роли заезжего гастролера. Курортники народ праздный. Все хотели увидеть тебя, просили встреч. Начался самый настоящий ажиотаж, и мы не могли остаться вдвоем ни на минуту. Ты уже выступил в трех школах, в Нарзанной галерее, в каком-то женском коллективе, перед читателями соседнего города Пятигорска, а заявки все прибавлялись, и люди смертельно обижались, если ты отказывался. Мы не выдержали нашествий и паломничества, нашли комнату на окраине города у двух славных старичков, мужа и жены. Там в тишине мы прожили несколько недель. Мы были в раю. Там ты написал чудесные стихи: «Утро», «Твое пробуждение» и другие.
Как-то мы пошли гулять и увидели на улице, как люди, столпившись, что-то разглядывали. Оказалось, в Кисловодск впервые привезли бананы. Никто не знал, что это такое, и бананы не хотели покупать. На них падал снег.
Продавщица объясняла:
– Ну, они похожи на картошку, только на сладкую картошку.
Ты бананам страшно обрадовался. Купил несколько килограммов и стал всех угощать. Через пять минут у тебя в руках ничего не осталось.
А очередь, раскусив заморский фрукт, кинулась за бананами в драку.
Ты спохватился:
– Товарищи, извините, я сам не попробовал, разрешите мне купить еще раз.
Очередь была великодушна:
– Не надо, мы сейчас купим и вам вернем. Но ты решил:
– Сегодня я вас угостил, а завтра вы меня, – и купил нам бананы.
Потом наше убежище раскрыли снова. Старички стали страдать и даже испугались, что′ это за человек у них такой невиданный поселился. Мы опять переехали в гостиницу. В Москву ты не хотел, решил непременно три месяца прожить в Кисловодске – боялся, что в Москве прежняя семья вернет меня…Да, Назым, да, все шло, как ты задумал. Через три месяца ранним весенним утром мы вернулись в Москву без рубля в кармане.
На вокзале нас встретил радостный Акпер и повез на твою 2-ю Песчаную улицу, в дом, куда я столько лет входила робкой гостьей.
Мы стояли на площадке перед дверью твоей квартиры, и ты, отыскивая ключи в карманах, с шутливо приподнятой интонацией приговаривал, как бы посвящая меня в хозяйки дома:
– Сейчас, сейчас, Веруся… Твой новый дом ждет тебя. Он очень рад. Ах как он мечтает увидеть тебя здесь счастливой…
Наконец замок щелкнул, и дверь открылась. Ты взял меня за руку и, нарочито высоко подняв ногу, перешагнул порог, как символическую границу в прекрасный мир…
Оказавшись в темной прихожей, мы невольно обернулись на свет, идущий из распахнутого настежь кабинета и… Мощная волна злобы ударила в грудь. «БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ!» – вопил гигантский багровый плакат, наклеенный на стену. «БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ!» – бухало в ушах… Рука Назыма вздрогнула в моей. Мы стояли молча, не в силах отвести глаза от добела раскаленных букв. Первым опомнился Акпер и, видно, от растерянности обратился за помощью к классику.
– «Нас пугают, а нам не страшно!» – сказал Лев Толстой про один плохой рассказ. Советские люди уже давно научились читать лозунги исключительно наоборот.
Он оторвал клочок бумаги и, размашисто написал на нем «Будьте счастливы!!!!!!!» С семью восклицательными знаками.
Я увидела, как ты срываешь плакат со стены, хватая побелевшими губами воздух. Видела твои глаза. В них презрение, брезгливость. Потом ты обнял меня за плечи, и мы обошли разоренную полупустую квартиру. Не вывезенной осталась только мебель с железными бирками хозяйственного управления делами ЦК КПСС, когда-то обставлявшего на свой вкус твое жилье. Ни занавесок на окнах, ни чашки, ни единой книги, ни кастрюль, ни ложек…
– Это, оказывается, очень интересное состояние, когда тебя обворовали, – с удивлением сказал Назым.
Да, ты вырвался из-под надзора. Все это мы поняли позже. У нас такого не любят. Не таким обламывали ноги. Немножко поучат, возьмут в кольцо испытанными политэкономическими методами воздействия. Здесь издавна наказывали непокорных писателей рублем, да не все вставали на колени. Отныне ты навсегда будешь получать не гонорары, а сдачу с твоих книг.
Помнишь, с каким волнением ты ждал выхода поэмы «Человеческая панорама»? Ты писал ее в тюрьме много лет – шестьдесят тысяч строк! Ее тайно выносили из тюрьмы друзья, хранили под страхом смерти, пересылали в Москву… И вот книга всей жизни в твоих руках, правда, не турецкая, а переведенная на русский язык. Счастье! А потом гонорар в пять раз меньше, чем у переводчицы… Удар. Крушение планов. Обида. Я помню. Я все помню, Назым.
И решение – не выяснять, не просить! Я горжусь тобой, Назым. Я учусь у тебя. Хотя нет у меня твоей силы, а жить становится все труднее и труднее…
А Чувиков, ну, да, тот самый коротышка в вечно измятом сером пиджачке, директор издательства «Иностранная литература», который напечатал поэму и вместо гонорара выдал тебе какое-то пособие на бедность, всегда лез на публике с объятиями, распинался, друг молодости, приятель твой… После похорон приехал к нам домой на поминки. Здесь в дыму и шуме просил у меня прощения прилюдно за поминальным столом, что обсчитал тебя по-крупному за уникальную книгу. Плохие люди, говорит, посоветовали не платить, Назым и так, мол, миллионер. Узнал, говорит, от Акпера сейчас, что на счету у Назыма осталось тридцать семь рублей, и совесть взыграла, хоть руки на себя накладывай… Потный, маленький, жалкий чиновник-властелин с рыбьим лицом. А уходя, прощаясь в дверях, так впился в мои губы, что искры из глаз посыпались от его поцелуя. Я смотрю на него с ужасом, а он бормочет, что надо жить.
Через три дня позвонил. Дело, говорит, есть. Пришел. Сел в мое кресло, спросил чаю. Я подала. Тут он мне и выложил свое «дело». Сказал, что у него несколько тысяч накоплено, хочет их мне отдать, чтобы вину перед тобой искупить. А потом попросил меня стать его женой. Давно, говорит, ты мне понравилась, люблю, говорит, таких женщин! Сколько, говорит, в тебе килограммов будет? Наверное, говорит, шестьдесят пять, а то и все семьдесят? Тут словно бес в меня вселился, напал смех. Хохочу, остановиться не могу! До слез! Бегаю по гостиной как сумасшедшая и чувствую, что с хохотом истерика начинается. Что же, кричу ему, так торопитесь? Ведь я мужа три дня назад схоронила! А сама хохочу, и внутри холод какой-то поднимается, убить его могу сейчас… А он мне по-хозяйски так монотонно отвечает: чего дожидаться-то, когда другие шакалы прибегут? Надо ковать железо, пока горячо! Ну, тут я твоего старого знакомого аккуратно, вместе с чашкой и спустила с лестницы. Правда, прогноз его насчет «шакалов» сбылся…Глаза твои потемнели от ярости. Ты открыл все окна, все двери, словно пытаясь изгнать злобный дух. На сквозняке скомканный плакат зашевелился и стал как живой распрямляться и выползать из кухни в коридор. Ты схватил его, бросил в раковину под горячую струю, мял, кромсал бумажное месиво, пока с него не пошла красная краска, а потом выкинул в мусоропровод.
Мы с Акпером молча смотрели на это сражение. Ты обернулся ко мне:
– Веруся моя, ничто не вызывает в черных сердцах большей зависти, чем счастье мужчины и женщины, потому что они смогли решить два великих вопроса – вопрос любви и вопрос верности.
Вы с Акпером сели в машину и поехали в гостиницу «Москва», в сберкассу, куда приходили твои гонорары. На обратном пути хотели поискать хоть какие-нибудь чашки, ложки, еду в весьма скудных наших магазинах.
Я осталась одна перед запертой тобою дверью. Сколько времени я простояла, упершись в нее лбом? Перед этой дверью, как перед алтарем, я присягнула тебе, Назым, в преданности на всю любую жизнь. Я уже знала, что наш удел отныне – не покой, не богатство и благоденствие, а нескончаемые испытания в напряжении всех сил и борьбе за все, может быть, даже за хлеб. Спиной я ощущала холод необжитого жилья и дала себе слово навсегда разлюбить наряжаться, а все свои помыслы и стремление к красоте употребить на то, чтобы создать дом, похожий на тебя, милый твоему сердцу.
Пока никто не видит, нужно было сделать первое волевое усилие и заставить себя войти в твой кабинет. Я подошла к стене, пропитавшейся ненавистью, к той стене, где висел плакат с проклятием. Я гладила ее до тех пор, пока она не стала отдавать тепло.Спасибо, дом, сколько счастливых минут он подарил нам потом. Эту квартиру в 1952 году, через полгода после приезда в Москву ты выбрал сам из шести предложенных. Дом был только что построен, и построен добротно – с широкими лестницами, с балконами, уютным двором. Да и сама трехкомнатная квартира с большой по тогдашним московским меркам гостиной располагала к жизни открытой, а без нее ты не существовал и дня. Против дома, на месте нашего сквера в то время текла речка Таракановка. Уже при тебе ее забрали в трубы и разбили перед домом сквер. Садовник узнал, что тут поселился великий турок, и посадил в твою честь аллею каштанов – чтобы напоминали Назыму родину. Ты любил улицу, свой дом и написал о них много стихов.
Я села возле письменного стола, туда, где обычно сидела, когда мы писали нашу пьесу. С той поры прошло полтора года. Целая эпоха. И стала ждать. Вернулись вы быстро. С пустым кошельком. Оказалось, что врачиха, без сомнения, прекрасно осведомленная о наших передвижениях, накануне сняла с твоей сберкнижки две тысячи, набежавшие за последние месяцы гонорары от спектаклей. Предъявила очередную бумагу с твоей подписью и оставила бывшего пациента, бывшего поднадзорного, бывшего работодателя без копейки.
Грабеж, начатый при жизни, будет продолжен с помощью этих подписей и после твоей смерти, Назым. А я все равно буду долго благодарить Бога, что легко отделалась от этой тьмы.
И тут ты схватился за голову, вспомнив под сколькими пустыми бланками, юридическими бумагами и просто чистыми листами поставил свою подпись для неведомых хозяйственных нужд. Насторожило вероломство, матерая хватка, о которой и не подозревал. Ты впервые забеспокоился, что подпись твоя может быть использована против нас с тобой. Так оно, в конце концов, и случилось.
Когда он позвонил утром рано и разбудил меня стоном, когда он начал звать меня хрипло, задыхаясь: «Вера, Вера!..» – я вдруг испытала почти такой же приступ отчаяния, как в час твоего исчезновения.
– Вера, Вера, Вера! – неслось мне в уши.
– Пабло! Пабло! – мучилась я. – Пабло…
– Вера, Вера… – он быстро и непонятно рокотал по-испански…
– Пабло…
– Вера! Пабло – «Националь». Пабло – Москва! – медленно выговаривал он по-русски.
– Нет, Пабло!
– Вера, – он перешел на французский. Я не понимала ни слова из того, что он быстро говорил, но я знала, чего он хочет.
– Нет, Пабло, нет, нет, нет! Я не могу с тобой увидеться. Я не могу к тебе прийти без Назыма! Пабло, родной, нет! Нет! Никогда!
– Вера!
– Нет.
Я бросила трубку и, натянув на себя что попало, выскочила из дома, боясь, что вот сейчас наткнусь на Пабло на лестнице, во дворе. Я никак не могла вставить ключ в дверь машины. Мимо проходил милиционер, тот, что живет в соседнем подъезде. Подозрительно посмотрел на меня, проворчал:
– Какие у вас губы синие… И свет по ночам во всех окнах… Господи, на кого я похожа! Что думают обо мне люди, что думают… Я приехала к маме на дачу. Анюта еще спала и, глядя на нее – тихую, беленькую, единственную, я стала уговаривать себя: правильно, что я еще живу, правильно…А помнишь, как тогда Пабло Неруда позвонил к нам поздно вечером? Позвонил из Москвы, из гостиницы «Националь». Вы долго говорили по-французски.
Потом ты сказал:
– Пабло требует, понимаешь, требует, чтобы завтра в 10 утра я показал ему Веру. Я еще уговорил его дать тебе поспать и перенести встречу на час позже. Говорит, в Париже он только что был у Арагонов, и Эльза Триоле ему целый вечер рассказывала о тебе.
– Эльза Триоле? – удивилась я. – Но я ее никогда не видела.
– Это неважно, Веруся моя, ты уже попала на язык литературных салонов Европы. Так что привыкай, миленькая моя, – и ты рассмеялся.
Утром мы увиделись с Пабло. Он был очень ласковым со мной. Раньше, чем ты сказал мне об этом, я почувствовала, что пришлась ему по душе. И в тот приезд, когда он впервые оказался в Москве один – брак с Матильдой еще был не оформлен, – он каждый вечер приходил к нам, засиживался допоздна, учил меня готовить ему по-чилийски крепчайший напиток из кубинского рома, лимона и тертого на терке льда. Лучший кубинский ром продавался в те годы на всех прилавках.
Вы оба говорили обо всем, кроме Матильды, но никогда не спорили, громко заразительно хохотали, подначивали друг друга. Любили вспомнить что-нибудь смешное, перебивая один другого, как дети, рассказывали мне забавные истории, которые с вами случались за долгие годы дружбы.
Помнишь, как Пабло, входя в нашу гостиную, надевал на голову скульптуру из медной проволоки и, неуклюже порхая по комнате на своих смешных тяжелых ногах, кричал:
– Я Лунник! Я Лунник!
Это он подсмеивался над тобой – зачем скупаешь у художников всякую ерунду. А ты в ответ:
– Кстати, Пабло, у тебя есть деньги? Тогда поедем завтра к этому художнику, купи у него что-нибудь. У парня сейчас плохой период, ничего не получается. Надо помочь.
И на следующий день мы все ехали в мастерскую, и вы серьезно разговаривали с художником о том, что происходит в мире. Книг по новой западной живописи в то время у нас не было, а те, что удавалось достать, держали под полой, как крамолу. Мало кто знал Модильяни, Ван Гога, Пикассо. Вы с Пабло приносили с собой и оставляли художникам хорошие книги, стараясь дать им хоть какое-то представление о современном западноевропейском искусстве. Пабло, как и ты, обычно тоже выбирал самую неудачную работу, которую, конечно, никто никогда бы не купил. Так, может быть, наивно, но практически вы помогали молодым художникам.Впрочем, и молодые художники жили по-разному. Помнишь, как в 1962 году поэт Сергей Михалков позвонил тебе с просьбой поддержать молодого Илью Глазунова?
Уже на следующий день в десять утра мы вошли в мастерскую, которая находилась тогда в конце Кутузовского проспекта в сером доме слева от Триумфальной арки. Дверь нам открыла жена художника Нина, молодая женщина с печальным лицом. Мастерская состояла из двух небольших комнат. Меньшая была увешана иконами необыкновенной красоты. А большая – сплошь заставлена картинами, повернутыми лицом к стене.
– Я должна угостить вас кофе, – сказала Нина, – но мы уже два дня не ели. У нас нет денег.
При этих словах Илья вышел из комнаты.
– Как я могу помочь вам? – с готовностью спросил ты.
– Закажите портрет Веры.
Вернулся в комнату Илья и тут же согласился сделать мой портрет.
На твой вопрос:
– Когда можно будет начать работу? Илья сразу ответил:
– Сейчас.
Я совершенно не была готова к такому повороту событий, но с уважением отнеслась к своей миссии. Села на стул и в течение часа ни разу не пошевелилась. Через час портрет был закончен, тебе он очень понравился. Илья оставил его на сутки в мастерской, чтобы внести маленькие коррективы и попросил 150 рублей за эту работу. На следующий день мы забрали портрет. Ты повесил его в нашей гостиной на самое видное место. Сам вбил гвоздь в стену.Так на этом гвозде портрет до сих пор и висит. Мы рассказывали о Глазунове всем знакомым, ты уговаривал их помочь бедному талантливому художнику. Первым на твой призыв поддался наш большой друг, известный театральный режиссер Виктор Комиссаржевский. Следующей твоей жертвой стал Пабло Неруда. Но когда я привозила к Глазуновым Соню Сайтан-Комиссаржевскую и Матильду Урути, жену Пабло, в мастерской каждый раз разыгрывалась одна и та же сцена. Сразу после знакомства Илья выскальзывал из комнаты, а печальная Нина в неизменном черненьком платице аккуратно повторяла реплики про отсутствие кофе и денег, про два голодных дня.
Помнишь, как ты рассердился, когда после третьего сыгранного передо мною семейством Глазуновых спектакля, я рассказала тебе о нем? Но портрета моего со стены не снял. Тогда мы еще не знали, что только этому «бедному и талантливому» было разрешено известным ведомством учить рисованию жен послов капиталистических стран.
Вы с Пабло в те годы ощущали потребность в учениках, пытались кому-то передать свой духовный опыт, свои эстетические пристрастия. И каждый из вас обязательно хотел влюбить другого в «своего» поэта или художника.
Однажды ужин у нас затянулся. Мы сидели за столом втроем, и ты рассказывал Пабло о Балабане, о том, как оказался в одной камере с этим талантливейшим крестьянским парнем, как почувствовал в нем художника, как давал ему первые уроки живописи в тюрьме…
Пабло слушал, слушал, а потом сказал:
– Вот и у Альберто талант рвался наружу точно так же. Он ведь начинал пекарем – булки пек.
– У какого Альберто? – не понял ты.
– Ты что?! Не знаешь Альберто?! – вскричал Пабло. – Ты это серьезно говоришь?
– А кто он такой? – ты недоумевал.
Пабло от твоего вопроса чуть ума не лишился. Двумя руками он резко отодвинул на середину стола свою тарелку, все, что стояло рядом, выпрямился и очень серьезно сказал:
– Пошли!
– Куда пошли? – спросил ты. – Посмотри на часы, скоро одиннадцать!
– Пошли, говорю, – посуровел Пабло, продолжая про себя пыхтеть и возмущаться, как это Назым не знает Альберто!
И пока ты бегал за ним по комнатам, уговаривая продолжить ужин и пытаясь хоть что-то понять, Пабло надел куртку и, обняв меня за плечи, повел к двери.
За углом мы нашли такси, сели, и тут выяснилось, что Пабло не знает, как называется улица, на которой живет Альберто.
– Ничего, – сказал он тебе, а тебя вся эта история уже начинала развлекать, – не беспокойся, мы найдем его дом.
– Но, брат, ты с ума сошел, уже поздно! Люди давно спят.
Пабло вдруг немного поостыл и попросил шофера отвезти нас в какой-нибудь магазин, где можно купить шампанское. Шофер привез нас к Елисеевскому, но он уже был закрыт. Вы с Пабло заглянули в его громадные окна и увидели, что в зале магазина еще горят люстры, а две или три женщины убирают свои прилавки. Вы начали стучать в окно. Но стекла елисеевских витрин толстые, и женщины ничего не слышали. Тогда Пабло забрался то ли на подоконник, то ли на ящик и распластался на стекле, как громадная черепаха. В конце концов его заметили. Женщины сначала насторожились, потом подошли, с опаской приоткрыли дверь. Вы с Пабло, перебивая друг друга, заискивая и смущаясь, стали просить две бутылки шампанского. Продавщицы сначала обозлились, решив, что перед ними обычные пьяницы, но когда узнали, кто просит, принесли-таки черные бутылки с золотыми пробками.
Потом начались мучительные поиски улицы Альберто. Мы объехали много кварталов, прежде чем поняли, что ехать нужно на Ленинский проспект. Пабло действительно нашел дом Альберто. Естественно, когда мы вошли во двор, там была кромешная тьма.
Вдоль одной стены была насыпана гора тары – деревянные ящики из продовольственного магазина. Ты сел на ящик еще раз посмотрел на часы. Шел второй час ночи. Сдвинув кепку на затылок, ты озорно глянул на Пабло, в последний раз попробовал его образумить, но Пабло уже скрылся в подъезде. Мы последовали за ним. На лифте поднялись на третий или четвертый этаж нового дома. Пабло позвонил. Через некоторое время дверь открылась, и мы увидели на пороге худую невысокую женщину, сонно кутающуюся в черную шаль, накинутую поверх ночной рубашки.
– Пабло!.. – изумленно и радостно воскликнула она. – Пабло…
Жена Альберто Клара пригласила нас войти, прикрыла дверь в комнату, где спал их сын и, не зажигая в прихожей свет, провела в другую.
Мы вошли. Узкая, вытянутая комната была ярко освещена. Навстречу нам с серо-зеленого дивана поднялся просто, но тщательно одетый высокий пожилой человек, похожий на добрую птицу. Видно было, что ложиться спать он и не собирался. Его лицо не выказывало удивления. Он словно давно поджидал нас. Спокойно и неторопливо он пожимал наши руки, по-доброму улыбаясь, негромко бросал ответные реплики Пабло.
Ты заговорил с Альберто, но тот ответил по-испански.
– Вы не говорите по-русски? – удивился ты.
– Нет, Альберто говорит только по-испански, – быстро катая во рту букву «р», объяснила Клара.
– Вы недавно в СССР?
– Нет, что вы, – возразила Клара, – мы здесь с 1938 года, приехали сразу после Гражданской войны.
Ты обомлел, посмотрел на Пабло и тихо спросил:
– Он что, сумасшедший?
– Нет, – рассмеялся Пабло. – Он – гениальный. Сейчас увидишь! Слышишь, Альберто, Назым спрашивает – не сумасшедший ли ты?
– Нет, – улыбаясь, отвечает Альберто. – Просто я продолжаю жить в Испании.
– Видишь, он не поехал жить в Париж, как это сделали Миро, Сальватор Дали и Пикассо. А ведь он – основоположник современной испанской скульптуры – гордость своего народа. Между прочим, ты знаешь, Пикассо немножко скупой. Но он даже посылал Альберто половину праздничного пирога в знак особой близости и родства. Хотел все с ним разделить! Для него слово Альберто было главным. Потому он отправлял ему все репродукции новых картин, все свои книги и волновался, что скажет Альберто, – шепотом рассказывал Пабло, пока Клара вытирала салфеткой фужеры для шампанского, а сам Альберто готовил постамент для ночного вернисажа.
Неторопливо, с нарастающим восхищением мы смотрели на удивительные скульптуры Альберто, которые все появлялись откуда-то и появлялись. Образы Испании, Революции и России входили в маленькую узкую комнату. На разных уровнях стояли иберийские быки и кастильские женщины, русская красавица с петухом на ладони и…
Помню, как тебя, Назым, потрясла женская фигура с флагом в поднятой руке. Она была небольшая – меньше метра, а заключала в себе огромный мир будущего.
– Где бы вы хотели поставить эту скульптуру? – живо спросил ты.
– На любой большой площади любого города, где нет фашизма. Конечно, в Мадриде, конечно, в Москве хотел бы увидеть ее. Например, возле Манежа есть замечательная площадь… Я очень люблю Москву.
– Она должна быть достаточно высокой, ведь правда?
– Метров двадцать, – ответил Альберто. – Я хотел раскрыть идею нашего флага, Назым, – сказал он, улыбаясь.
– Вы замечательно это придумали. Ее обязательно поставят, вот увидите, в разных городах, в разных странах… Вы верите, что вернетесь в Испанию при жизни? – спросил ты после некоторой паузы.
– Да, – убежденно ответил Альберто. – Но я не могу вернуться на родину с пустыми руками. Мне нужно много работать, чтобы она видела, что я все время работал, что я продолжал быть испанским скульптором. Понимаете?
– Да, брат. И как хорошо я вас понимаю! Ах, как жаль, что мы не познакомились раньше…
Назым, прости. Я не смогла тебе сказать, что Альберто умер в Москве за полгода до твоего ухода… Он вернулся домой, на родину раньше тебя. Не печалься, с ним уже не случится плохого. Испанцы построили ему музей. Народ всегда воздает любовью за любовь.Мы уходили под утро. Пабло с гордостью держал в руках только что подаренную ему Альберто скульптуру. Ты смотрел на него с нескрываемой завистью и, не выдержав, спросил у Альберто, не продаст ли он ему одну из своих работ. Пабло не стал переводить ответ Альберто, но, когда мы вышли на улицу, он с удивлением спросил у тебя, неужели ты забыл, как в год приезда в СССР был у Альберто дома.
– Нет, я не помню, – ответил Назым.
– Вот Альберто мне сейчас напомнил, как я тогда позвонил ему и сказал, что приеду с Назымом и Арагоном. Было это поздним вечером. Мы сидели тогда у них до трех или четырех часов ночи. Нас еще сын Альберто всех четверых вместе сфотографировал. Ты еще купил у него тогда две картины! Пейзаж «Башкирская деревня зимой» и натюрморт. У него было тогда два натюрморта, и мы все: и ты, и я, и Арагон – хотели их купить. Но Альберто отдал один мне, другой – тебе!
– Что ты говоришь! Это его картины! Я совсем забыл лицо человека, у которого их купил. Извини, брат, тогда я только приехал. Вокруг было столько новых лиц… Все смешалось в моей турецкой башке. Его картины замечательные!
Я вспомнила так отчетливо картины Альберто, как будто их сейчас держали перед моими глазами. Натюрморт был необыкновенный, весь солнечный, светлый. На фоне золотого башкирского ковра лежали луковицы, картошка. Пейзаж другой. Зимний совхоз. На переднем плане коричневый бревенчатый коровник под большой шапкой снега, кругом сугробы, а вдалеке высокая мачта с маленьким красным флагом.Потом я спросила Клару, что означала эта мачта на картине Альберто. И она рассказала, как во время последней войны они с Альберто и сыном были эвакуированы в Башкирию, жили в деревне. Зимой там все было покрыто снегом. Люди уходили работать, часов ни у кого не было, и когда наступало время обеда или окончания работы, на мачте поднимался красный флаг. Так все, кто работал далеко, видели, что можно отдохнуть. Клара сказала, что Альберто написал эту картину по памяти уже в Москве, в 1945 году.
– Вы знаете, Вера, что ответил Альберто, когда Пабло передал ему просьбу Назыма продать скульптуру? – спросила меня недавно Клара.
– Что?
– «А может быть, Назым продаст мне те две картины, что купил по приезде в Москву? Я мечтаю их вернуть…»
Но твои картины, Назым, пропали, а работы Альберто, принадлежащие Пабло, он передал в Национальный музей Чили.– Никогда себе не прощу, что работы Альберто и другие замечательные картины я так глупо потерял, – сокрушался ты, когда мы вышли от скульптора. – Я в который раз здесь, в Москве, попал в дурацкое положение, потому что, с одной стороны, привык верить людям, а с другой – совсем не знаю советских законов. Скверная история случилась у меня, брат… Друзья уговаривают идти в суд, то есть начать отвратительный скандал. Все дело мог бы в пять минут поправить мой партийный лидер Билен через аппарат ЦК КПСС. Эта женщина – член партии, и им достаточно было бы одного звонка ей. Но Билен радуется, ухмыляется: «Что, большой славы хочешь? Зачем тебе всякая дребедень… Кхе-кхе-кхе… Музей тебе нужен после смерти?» – и читает мне лекции о скромности Ленина, у которого, между прочим, на каждом шагу в социалистическом лагере или музей, или памятник…
Но Пабло бушевал. Хотел сам идти отнимать или выкупать картины Альберто. Кричал, что они могут принадлежать только испанскому или турецкому народам, а не какой-то наглой бабе, умело подсунутой Назыму после инфаркта.
– Поймите все, я хочу, наконец, жить спокойно. Мне до сюда, – и ты провел рукой по горлу, – надоели все эти дурацкие сплетни обо мне, вся сознательная ложь. Ты можешь меня понять, Пабло?
– Ты не имел права поступать так опрометчиво со своей дачей в Переделкино, – возмущался Пабло. – Что, ты не видел, кто тебя окружал, Назым? Для мира ты стал эмблемой турецкой культуры и свободы! И все мы, твои друзья, дарили тебе разные книги, картины, конечно, чтобы обрадовать тебя, скрасить эмиграцию, но в этом выражалась наша любовь к турецкому народу тоже. Я, например, знаю, что для большинства людей я – Чили. Как бы ни безумствовала реакция, мой дом всегда будет гордостью моего народа. У тебя та же судьба. Вера, прошу тебя, помни мои слова.
Ты, Назым, оправдывался.
– Я написал юридическую бумагу моему врачу на бытовые вещи. На дачную мебель, на посуду, на подушки. Я бросал казенную дачу, не хотел тащить старые кастрюли в свою новую жизнь. Темное дело, каким образом в список попали картины, книги, даже мои бумаги и рукописи! Дача оказалась голой! Даже ручки на дверях, замки были вырублены, сорваны провода! И эта женщина жила в моем доме… Недавно один из моих прежних шоферов признался, что раз в неделю возил ее на Лубянку, и она всегда выходила оттуда с красными щеками…
– Ты спал с ней, Назым? – как-то печально спросил Пабло.
– Да, брат, – сказал ты, – пусть Вера знает.
– Я понимаю тебя, Назым, – серьезно поддержал друга Пабло. – Кстати, а откуда у тебя этот новый шофер появился?
– Не знаю, брат, говорит, услышал от товарищей, что мне нужен шофер и пришел.
– Да… – только и сказал Пабло.
– Нельзя же, черт побери, всех подозревать? – вскипел ты.
– Вера, ты не знаешь, как у вашего шофера с французским, а то я тут в машине обругал одного старого быка, – и он показал пальцем наверх.
Я пожала плечами. Всем стало грустно.С тех пор мы начали встречаться с Альберто. Помнишь, как однажды мы обедали в ресторане «Националь», где за столом собрались Пабло с Матильдой, Альберто с Кларой, посол Мексики с женой, Вера Кутейщикова и мы с тобой, Назым.
Недавно мне передала Клара, как «лохматая Верита» – так называл Пабло Неруда испанистку Веру Кутейщикову – смешно рассказывала об этом обеде. В течение всей трапезы вы с Пабло были на редкость красноречивы: «Ах, как я люблю Матильду!» – вздыхал Пабло. «Ах, как я люблю Веру!» – подхватывал ты…
Я часто теперь вспоминаю, как Пабло самозабвенно слушал песни своей Матильды. С каким волнением подносил ей гитару, с какой гордостью смотрел на нее, желал, чтобы пела она до утра… Все вокруг изнывали от тоски, а кое-кто просто подсмеивался над ним, ведь голос у Матильды был милый, но такой слабенький, невыразительный, что песни ее могли восхищать лишь безнадежно влюбленного, ее Пабло. Да, Назым, кто-кто, а я теперь знаю, что поэты склонны преувеличивать красоту и таланты своих Лаур…
А помнишь огненные волосы Матильды? Рыжее пламя, завернутое в тугие шелковые кольца. Вот он безумно любил ее волосы. Помнишь, как однажды бросился на меня, когда мы вошли к нему в номер московского «Националя»?Пабло схватил мою голову и стал, как сумасшедший, с криками «никoгда так не делай!» выдергивать из пучка шпильки и бросать их на пол. Потом собрал мои волосы в кулак, встряхнул, рассыпал на спине, провел по ним пальцами, как граблями так, что я вскрикнула от боли, довольный рухнул на диван и замер, как оливковый Будда.
Ты смеялся и говорил:
– Я полностью согласен с тобой, брат. Полностью!
А Пабло гладил шаль Матильды, ушедшей смотреть Третьяковку, и жаловался, что у него страшно болят ноги. Он чуть-чуть приподнял штанины брюк, и мы увидели его распухшие щиколотки. Oн горевал, что не может сопровождать свою жену на выставки, не может сам показать ей Москву.
– Она из бедной рабочей семьи – говорил он. – Что могла видеть в своей жизни? Зарабатывала гроши песнями под гитару в дрянном кафе…
Матильда только что ушла, а Пабло с ума сходил от тоски.
– Ты-то меня понимаешь, Назым. Ты понимаешь…
– Да, брат, – раздумчиво проговорил ты. – Так, брат, случилось с нами. Совсем мы теперь пропащие. Лично я страшно доволен.
Пабло в знак солидарности прикрыл глаза и позвал обедать.Почему, Назым, я говорю с тобой об Альберто и как будто оплакиваю Пабло? Ведь он жив, если так невыносимо страдает без тебя. Время от времени ко мне приходят приветы от него и стихи, как кровоточащие раны.
Что я потерял, что мы потеряли,
когда Назым рухнул, как башня,
раскололся, как голубая башня?
Мне кажется иногда, что солнце ушло вместе с ним,
потому что он был – день.
Был Назым золотым днем
и выполнил свой долг на рассвете,
несмотря на цепи и наказания.
Прощай, мой сверкающий товарищ! [1]
Держись, Пабло, береги себя. Поэты, как деревья, должны жить долго, чтобы людям было легче дышать.
Когда мы стали жить вместе, я увидела, что ты бешено ревнив. Ты не успокоился, а, наоборот, стал постоянно бояться, что однажды я уйду за хлебом и исчезну, что вдруг я вернусь к первому мужу, что со мной что-то случится на улице – задавит автомобиль, или я свалюсь с моста, или что-то еще, еще, еще… Ты боялся отпустить меня на пять минут. Ты говорил:
– Нужен хлеб, идем вместе или останемся без хлеба.
Тогда я не понимала толком, чем для тебя стала, не понимала твоего страха потерять меня, да даже и масштабов твоей любви. Меня напугала эта боязнь, твое желание запереть меня, изолировать, не показывать никому. Это было так неожиданно, так странно и обидно. А ты твердил:
– Почему я не кенгуру? Я хотел бы быть мамой-кенгуру и носить тебя всегда в кармане своего живота. Какая эта кенгуру счастливая!
Если кто и был противоречив, так это ты, Назым. С одной стороны, ты утверждал, что загсы-магсы – ерунда. Люди должны доверять друг другу без печатей, росписей, подписей и прочей ерунды. Люди должны быть свободны в любви, иначе закон толкает их к проституции. Ты считал, что после революции была найдена самая лучшая форма гражданского брака, поскольку она была основана на свободном и сознательном отношении мужчины и женщины, а следовательно, на любви. Часто можно было услышать твои рассуждения по поводу семьи будущего, которая коренным образом по форме и по содержанию будет отличаться от буржуазной. Но со мной ты хотел быть традиционалистом.
Я жила с тобой, но тебя раздражала, выводила из себя печать с другой фамилией в моем паспорте. Ты просил, умолял, требовал развода. Говорил, что не можешь толком объяснить, почему это так получается, но если я разведусь – ты сейчас же успокоишься и страх твой исчезнет. Мне не хотелось торопиться с разводом и резать еще по живому горю человека, который, я знала, страдает. Было невозможно представить себя в судах, где чужие люди будут решать вопрос моей личной жизни. Что они про нее знают, да и зачем им знать? Бракоразводный суд – самый плохой театр, который я видела в своей жизни.
Я развелась. Ты смущенно ликовал несколько дней. Потом страх потерять меня усилился.Ты ревновал меня даже к самому себе. Ревновал к молчанию, к моим подругам. – О чем вы можете так долго разговаривать между собой? Не отнимай у меня времени. У тебя его будет полно потом. У меня его нет.
Ты ревновал к телефонным звонкам, ко всем, кто приходил к нам в дом, к чужой кошке, притихшей на моих коленях, к книгам.
– Читаешь Хемингуэя, будто он твоя библия. Мои книги ты не читаешь, как его, часами, поджав ноги. Ничего особенного. Средний писатель.
Потом, когда Хемигуэй умер, ты в отчаянии метался по дому.
Когда мы приходили в театр или в ЦДЛ, я замечала, что вызываю любопытство окружающих. Естественно, интерес вызывала не я сама по себе, а жена Назыма Хикмета. Мне это было непереносимо, но понятно, а тебе нет. Через десять минут ты начинал нервничать, возмущался бестактностью людей. Тебе казалось, что все «мужики» бессовестно пялят на меня глаза, что все они готовы вырвать меня из твоих рук. Все тебе переставало нравиться, и мы нередко уходили домой раньше времени. Обычные слова, произносимые людьми из вежливости, оборачивались в твоем воображении самой неожиданной стороной.
Однажды ты приехал домой очень сердитый, взбешенный. Вскоре я узнала причину: какой-то человек подошел к тебе в Доме литераторов, говорил о том о сем, а потом спросил:
– А как Вера? Почему она не приехала?
– Ты понимаешь! – кричал ты. – Он поставил меня в смешное положение! Так может спрашивать только человек, который очень близко знаком с тобой или очень заинтересован в тебе! Какое ему дело, почему тебя нет! И как ты себя чувствуешь?! Кто он такой, чтобы интересоваться! И что это за фамильярность – Вера! У вас принято называть людей по имени и отчеству. Почему ты всем позволяешь называть себя «Вера»?! И каждый может так со мной говорить, и я не могу его ругать по матери, потому что ты формально не моя жена!
Короче говоря, твой покой может гарантировать только женитьба. Но я уже не верила тебе. Мне казалось, что тогда ты окончательно превратишься в такого ревнивца, какие встречаются у вас в деревнях. Ты сам мне рассказал несколько историй о мужьях, сидевших с тобой в тюрьмах за убийство собственных жен. Мне казалось, что ты тоже будешь вести себя как неграмотный турецкий крестьянин – закроешь мое лицо платком, запрешь меня, замуруешь. И я воспротивилась:
– Нет. Будем жить как после революции.
Ты меня уговаривал, мучился, сердился. Поехал к моей маме, просил ее на меня повлиять. Говорил, что моя дочка вырастет и осудит меня. Договорился до того, что сказал:
– Ты даешь, в конце концов, людям повод неуважительно говорить о тебе.
Я держалась. Я действительно боялась, что ты замотаешь мою голову платком, и наша жизнь от твоей безмерной любви и безумного страха потерять меня превратится в ад. Тогда ты прибегнул к испытанному средству: позвонил Вольпину и попросил его прийти.
Мы сидели за столом, когда ты объяснил Вольпину, причем объяснил очень разумно, почему мы должны пожениться. Ты перечислил все причины: то, что вынужден часто разъезжать по свету и не можешь брать меня с собой, это тебя страшно нервирует и огорчает. Ты не можешь нормально работать. И то, что я живу у тебя без прописки (тогда ты думал, что для этого достаточно официальной регистрации); и то, что мы даже в Ленинград поехать не можем, потому что нас не пускают вместе жить в гостиницу. И самое главное, если ты умрешь, я останусь «никем» и буду «голым жопчиком» сидеть на асфальте, а тебя сводит с ума мое будущее. И ты знаешь, что по советским законам 30 лет после смерти сможешь продолжать кормить жену – узнавал у юриста в Союзе писателей. Ты говорил, говорил, говорил, и все в твоих словах было разумно, против доводов трудно было возражать. И все-таки ты не называл Вольпину главную причину моего сопротивления.
– Вольпин, брат, говори о ней, она тебя слушает!
– А почему Вера отказывается? – спросил Михаил Давидович.
– Не знаю. Спрашивайте ее, – соврал ты.
– Ты чего же это? Ну, говори.
– Потому, что он черный человек. Ты даже вскрикнул:
– Вот-вот, послушайте, что она вам сейчас скажет.
– Почему же он «черный человек»? – очень серьезно спросил Вольпин.
– Потому что он меня так ревнует ко всему и ко всем, что вы все равно не сможете себе представить, сколько бы я вам об этом ни говорила. Это нужно видеть, чувствовать каждый день, каждую минуту. Это так мучительно, так трудно, я даже не знаю, как мне быть. А если я стану его женой…
Мы долго говорили о наших делах, по-моему, до рассвета. Вольпишка стал спрашивать тебя, к кому ты меня ревнуешь, что ты чувствуешь, доверяешь ли мне. И тогда я впервые услышала то, что было в твоей душе. Ты объяснил свой страх:
– Вы знаете, я написал одну пьесу «Легенда о любви». Я писал ее в тюрьме, тогда я молодой был и сам никогда так не любил, как мои герои. То есть я написал эту пьесу, по-моему, она самая лучшая из всех моих пьес, чисто теоретически, понимаете? Теперь со мной случилась такая же вещь. Я влюбился, как черт! Здесь у вас это называют лебединой песней. Не знаю, лебединая это песня или песня буйвола, но это так. Это последнее, что может сделать мое сердце. Сейчас, чтобы ты мог меня понимать, брат, я объясню: для этого должны были случиться разные вещи: я должен быть в моем возрасте, потому что если бы мне сейчас было сорок, например, я так же любил бы ее, но я не мучился бы как сейчас. Моя любовь была бы спокойнее. Почему? Потому что у нас была бы впереди большая жизнь. Дети и прочее, как у всех нормальных людей. Но мало того что мне не сорок, я еще болен. Инфаркт, и это еще усиливает то, что мне осталось жить и любить страшно мало, понимаете? Поэтому я каждую секунду хочу видеть ее лицо, и мне жалко, просто жалко отпускать ее к другим людям, книгам, магазинам, если я не могу участвовать в этом деле. Я, как вы знаете, немножко долго сидел в тюрьме. Семнадцать лет я придумывал один женский образ. Так просто развлекался в мыслях, что еще делать в тюрьме? Единственное развлечение – мечтать. Хорошо. Я мечтал, мечтал, рисовал перед глазами одну женщину, и вот она вдруг встретилась. Так поздно. Наверное, такая женщина, как она, не единственная в мире – существовала и двадцать, и десять лет назад, не может быть, чтобы не существовала. Но встретилась из них вот она, Вера. И вы знаете, она очень похожа на женщин моей семьи. Потому что все мои тети, Сара, например, и мама были блондиночки, и она очень на них похожа. Но удивительно! У нас в Турции есть такой довольно редкий тип белых женщин, точь-в-точь как она. Поэтому она для меня не только русская, она как будто с моей земли вышла. И она молодая, здоровая, вот видите, с таким лицом, независимая, у нее впереди целая жизнь… Что вы хотите, чтобы я не волновался? Моя ревность – не вопрос другого мужчины, хотя всех других мужиков рядом с ней я ненавижу. Могу бить даже. Но нет, что-то высшее. Но когда я вижу, что какой-то мужик… даже глупый, даже некрасивый, даже с толстым животом, даже… смотрит на нее – я волнуюсь. Потому что не хочу потерять ее. И еще я знаю, что иногда любовь безрассудна. Открывается дверь дома, входит ничтожный человек маленького роста, пошляк с лицом дохлого моржа, а вспышка получается – и всё! И всё… Любовь-то не всегда, как у меня, умная. Она ведь чаще всего бывает дура, и еще какая дура! Вот так, брат Вольпин, вот так… Поэтому мучаюсь, поэтому хочу немножко от нее поддержки… Может быть, не поможет ЗАГС, а может быть… Надо попробовать…Когда Вольпишка стоял в пальто перед дверью, он обнял меня и мягко сказал:
– Назым прав, выходи за него. Им движет естественное чувство любящего мужика. Это хорошо. А ты, Назым, тоже потише немножко будь. А то ведь тяжело ей, наверное, твои турецкие страсти-то выносить. Так что уж полегше немножко старайся. А так все правильно. Хорошо будет. Я уверен.
Помню, как мы поехали в ЗАГС. На такси. С нами – наша подруга Тося. Мы с ней вышли, а ты задержался расплатиться с шофером. Потом входишь в вестибюль и смеешься:
– У меня сейчас такой интересный разговор был с водителем такси, ай-я-яй! Он меня спрашивает: «Извините, товарищ, вы не Назым Хикмет?» Я говорю: «Да, я Назым Хикмет…» «Извините, – говорит он. – Вы что, жениться приехали?» Я отвечаю: «Да, брат, жениться». А он так грустно-грустно на меня посмотрел и сказал: «Эх, товарищ Хикмет, товарищ Хикмет! Вы столько лет сидели в тюрьме. Неужели не надоело?» А я ему отвечаю: «Я привык, брат, ничего не поделаешь… Привычка!» Как ни смешно, но ЗАГС принес тебе успокоение, мы получили возможность вместе ездить, не разлучаться, и ты радовался.Не помню, Назым, говорила тебе или нет, только со мной творилось нечто невообразимое. Куда ни пойду, везде в толпе встречаю одни и те же лица. Вижу, как прячась, украдкой смотрят на меня внимательные незнакомые девичьи глаза. К ручке нашей двери кто-то привязывает букетики полевых цветов, в почтовом ящике нахожу пакет со снотворным… А я действительно почти не сплю все эти месяцы, но кому же это известно? Под могильной скамьей на кладбище кто-то прячет лопатки из столового серебра… Кто не может рыхлить землю над твоей головой ржавой кладбищенской лопатой?!
И вот, однажды у могилы я увидела девушку, подстригающую траву. Ее лицо мне тоже показалось знакомым. Она хотела удрать, но я упросила ее остаться. Оказалось, что любовь к твоей поэзии передала ей мать, совсем не знакомая с тобою. В их доме собраны все твои книги, стихи и статьи. Ты жил среди них как близкий человек.
– Если медицина бессильна спасать таких людей, как Назым, бессмысленно становиться врачом, – сказала Мила маме после твоей смерти и бросила медицинский институт, где блестяще проучилась три года…
Мила говорит, что и ее подруги серьезно увлечены твоей поэзией, многие учат турецкий язык… Я пригласила их к нам в гости и однажды, в день моих именин, они пришли. Девушки оказались на редкость славными, интеллигентными, почти все – студентки разных московских институтов. Робея и смущаясь, ходили они по твоему дому, Назым, а потом мы пили чай с моим пирогом, и девушки просили рассказать, как ты жил.
Сколько раз ты спрашивал: «Вера, когда приходишь к людям без меня, рассказываешь обо мне? Как бы я хотел послушать! Очень прошу, рассказывай при мне хоть раз, чтобы я мог представить, как ты будешь делать это потом…»
Теперь ты знаешь. Тебе рассказываю по ночам.Ты никогда не молодился. Твоим украшением были хорошо подстриженные волосы, всегда до гладкости выбритое лицо, чистые руки, чистая обувь и две белоснежные рубашки в день. А мне говорил:
– Вера, возьми сигарету! Ты должна научиться получать удовольствие от жизни… Вера, проколи уши!.. Вера, надень кольцо! Все женщины моей семьи носили украшения. Женщина без них для меня все равно что голая… Почему ты целый месяц ходишь в одной кожаной юбке? Как будто тебе нечего больше надеть!.. Если я увижу тебя в ней завтра, то разрежу ее на куски и выброшу в мусоропровод. Сегодня мы идем в театр, надень что-нибудь нарядное для меня. Я очень тебя прошу, Веруся.
– Назым, не надо. Ну что я выряжусь, как кукла… Но ты ничего не хотел слушать:
– Вера, почему ты стесняешься надевать красивые вещи? Что же! Мы их не воруем. Мы всё покупаем на деньги, заработанные честным трудом! И нелегким, ты знаешь. Я тебя не понимаю.
– Но в театре будут все, кто тоже зарабатывает деньги честным трудом. Разве они виноваты, что у них нет того, что есть у меня? Еще недавно у меня тоже ничего не было, я этого не забыла, – пыталась я убеждать тебя, но тщетно.
– Назым, Назым, Назым, я тебя умоляю, миленький! Не смотри на меня, пожалуйста, смотри на сцену, – шепотом прошу я. Мы сидим в партере, в самой середине у всех на виду. Люди поглядывают на Назыма, а он, повернувшись к сцене плечом, смотрит на меня, как на пейзаж или цветок.
– На сцене страшно скучно, чего я там не видел? Декорации ужасные, играют отвратительно. Мне на тебя смотреть приятнее.
– Тогда давай уйдем, – тихо предлагаю я.
– Неудобно, режиссер обидится. В конце концов, я ведь тебе не мешаю, Вера, тем, что смотрю на тебя? – начинаешь ты злиться.
А бывали случаи более впечатляющие. Помню, как однажды летом мы вошли в троллейбус на нашей улице. Пока я брала билеты, ты сел в середине салона, развернулся спиной к окну, всех оглядел, довольный, немного прикрыл глаза и, покачивая головой от плеча к плечу, со вздохом удовольствия громко признался:
– О-хо-хо, товарищи, вы не можете себе представить, как я серьезно люблю этот баба…
Воцарилась такая гробовая тишина, что продолжать путешествие в этом троллейбусе мы уже не могли.
– Что же, Вера, что я такого сделал! Я ведь не по матери ругался. Сказал о своей любви…
А помню, Назым, как один раз я хотела быть красивой и пошла в парикмахерскую. Там мои волосы накрутили на десять тысяч здоровенных бигуди и сунули голову под горячий колпак. Эта женская парикмахерская находилась возле Большого театра, и в одном ряду со мной сушили головы десять или двадцать балерин. Вдруг кто-то пришел и сказал:
– Вы знаете, по всей парикмахерской ходит Назым Хикмет и кого-то ищет. Интересно, кого?
И в этот момент в дверном проеме показался ты. Я почему-то страшно смутилась, закрыла лицо руками, и ты, чуть ли не дергая за носы всех женщин, высунувшиеся из-под сушительных колпаков, прошел мимо меня. Не узнал!
Когда я через полчаса вышла из парикмахерской, ты накинулся на меня с вопросом, где я была. Я простодушно во всем созналась. Вот тогда ты рассвирепел.
– Ах, какой позор! Ее ищет Назым Хикмет! Да каждая из этих баб умерла бы от зависти к тебе!
– Да, Назым, – сказала я, – я сама была бы в их числе.Хорошо, что ты не мог долго сердиться из-за пустяков. Все-таки у тебя был необыкновенно добрый характер, муженек. Прощай, радость, жизнь моя.
Помнишь, ты все меня спрашивал:
– Что ты видела во сне? Расскажи, милая.
Сны мне раньше снились редко, и прости, родной, я редко высыпалась, живя с тобой! Ты засыпал поздно, часа в два-три ночи, засыпал, держа меня за руку, засыпал под мой голос. Ты извинялся, говорил:
– Прости, милая, я тебя мучаю. Знаю, что ты спать хочешь, но вдруг я тебя завтра не увижу. Потерпи, хорошенькая моя, посиди со мной.
Ты всегда боялся ночи. Только когда ты засыпал, я выключала свет. Сон твой был беспокойный. Мы так и не узнали, почему ты часто страшно кричал во сне: «А-а-а! Вера! Вера! Вера!» Я вскакивала и, со сна натыкаясь на вещи, бежала к тебе, чтобы пальцами открыть твои глаза, гладила твой лоб. Тогда кошмары покидали тебя, ты поворачивался на бок и тут же засыпал. Мы так и не спросили у врачей, отчего это случалось. Ты ведь сказал, что все началось в тюрьме. Но я заметила, что кошмары не давали тебе спать после волнений, обид, переживаний. В последние полгода это случалось каждую ночь, иногда по несколько раз. Ты говорил мне, что постоянно, уже много лет видишь один и тот же сон: на тебя набрасываются бешеные собаки. Когда их зубы вонзаются в твое горло, ты начинаешь задыхаться, тогда кричишь.Как странно, недавно я прочла, что нашего знаменитого актера Михоэлса тоже много лет преследовали во сне злые собаки.
В «Романтике» ты строишь интригу на том, что героя, коммуниста-подпольщика, кусает собака, и бедняга, боясь полиции, не может обратиться к врачу. В течение сорока дней он едва не сходит с ума от неизвестности – собака здоровая или нет. К сожалению, этот роман не избавил тебя от кошмаров. Я знаю, что его история навеяна проклятыми снами. Я так и не привыкла к твоим отчаянным крикам по ночам. Каждый раз, когда ты снова засыпал, я еще долго лежала с бьющимся сердцем, вновь и вновь слыша: «А-а! Вера! Вера!»
Утром ты меня виновато спрашивал:
– Я опять кричал как сумасшедший? Опять не дал тебе спать?
– Нет, – лгала я пять раз из десяти, – тебе показалось. Ты любил встать, как тебе казалось, тихонько, пройти бесшумно – задевая и опрокидывая стулья – но на цыпочках в ванную и очень тщательно выбрить лицо, хорошенько умыться, надеть белоснежную рубашку, конечно, накуриться до отвала и сесть за газеты. Через каждые пять минут ты заглядывал ко мне, вставал на колени и, близко-близко придвинув лицо, смотрел на меня. Конечно, я давно проснулась, но не признавалась, чтобы не огорчать тебя. Иначе ты бы сокрушался весь день, что опять разбудил меня, не дал поспать.
Мы любили утро, просыпались всегда с радостным чувством.
У нас была утренняя игра, мы любили в нее играть, и не хотелось нарушать ее правил. Я знала, что я должна была «спать» до тех пор, пока ты не появишься с подносом. Милый, милый Назым, севгилим, шекерим, как ты умел творить маленькие и такие милые чудеса. Ты любил сварить для меня большую чашку турецкого кофе в медной джезве по своему рецепту: на сковородке с песком, подсластив, присолив. Ты варил этот кофе так же серьезно, как писал свои стихи. При этом кофе у тебя мог убегать несколько раз, и ты принимался варить его снова и снова, но ведь и стихи не всегда получались с первого раза. Потом ты брал наш жостовский поднос, ронял и гремел им на весь дом, протирал его рукавом рубашки и, подув на чашку, опрокидывал в нее кофе. Потом, открыв холодильник, ты опускался на корточки и внимательно высматривал там что-нибудь вкусненькое. Ты отрезал ломтик сыра или брынзы, или копченой колбасы, прихватывал несколько печенин… Потом подпихивал под тарелку несколько шоколадных конфет для себя и шел ко мне. Ты очень шумно распахивал плечом дверь, очень торжественно входил и замирал возле моей подушки. Ты считал, что вот сейчас запах кофе разбудит меня. Я втягивала носом воздух, открывала глаза и улыбалась тебе – ты был счастлив. Ставил поднос возле подушки на мой крошечный столик и садился на коврик по-турецки, поджав ноги. Ты любил смотреть на меня сонную, с растрепанными волосами. В эти утренние минуты я казалась тебе беззащитной, особенно родной. В эти утренние минуты ты смотрел на меня так же, как мама в далеком детстве. В эти утренние минуты ты покачивал головой в такт бегущим мыслям, удивленно повторял:
– Что я наделал, что я наделал…
В эти утренние минуты ты частенько спрашивал меня:
– Как бы ты, наверное, хотела, чтобы я был твоим отцом? Вот это для тебя было бы в самый раз!Я с трудом опять проживаю наши встречи, и уже не могу, не хочу этому противостоять. Нет, мы с тобой рядом. Я раззнакомилась с целым миром. Сегодня долго не могла вспомнить, что играют по радио. А был это «Пятый танец» Брамса…
Уже когда мы были вместе, я спросила однажды, как тебе удалось бежать из Турции.
– Мне помог товарищ Павлов. Ваш русский ученый. Его книга мне попалась в тюрьме. Я внимательно изучил его науку об условных рефлексах – просто меня заинтересовал его эксперимент. Потом, когда я вышел из тюрьмы, я забыл об этой книге.
В девятом письме из Танганьики ты написал мне про это время.Вспоминаю дни, когда я вышел из тюрьмы.
Не «выпустили», а «вышел сам» Под нажимом
Друзей – извне,
Моим – изнутри,
И под нажимом времени распахнулась тюремная
дверь.
Радость,
Ликование, восторг,
Немного гордый,
немного удивленный восторг.
Блеск мечты.
Надежды, висящие на ветвях мечты, —
Еще не плоды.
Только мечты.
Желание громко рассказать о тюрьме —
всем и себе самому.
Просыпаешься, вздрагиваешь – это тюрьма
до сих пор входит в мой сон.
Привычки тюремных лет,
Запреты тюремных лет,
нелегко расстаются со мной.
Не заклеиваю письмо, словно жду,
что будут его проверять.
По вечерам механически жду,
когда дверь запрут на засов,
а лампочки вспыхнут сами собой.
Радость, ликование,
восторг.
Однако праздничным дням приходит конец,
как и всяким другим дням.
Смотришь – крыша течет.
Окнам нужен ремонт.
Нужно свет провести.
Нужно газ подключить,
Нужно уголь на зиму купить,
Нужно простыни, книги и даже тарелки купить.
Руки готовы к труду. Они трудились в тюрьме,
но тюрьма
Усыпила знанья мои.
Денег нет.
Опасно влезать в долги.
Как, с чего я начну
постройку дома свободы моей? Что хочу я всем этим сказать?
Ты умна, моя женушка. Ты
Догадаешься и поймешь.
Не любил ты говорить про тюрьму. Если и рассказывал, то какие-нибудь забавные случаи. А если истории были жестокие, то старался рассказать их без драматизма. Не хотел, чтобы тебя жалели. Но многие тюремные привычки забывал с трудом. Всякий раз удивлялся, зачем шведы в гостиницах каждое утро меняют постельное белье. Любил, чтобы везде в комнатах горел свет, и самый яркий. Ненавидел темноту, заборы, замки, всевозможные пропуска, визы. Любил хорошо освещенные дома, нарядные улицы, демократичные города.
И вот я держу в руках книгу, пришедшую из Турции. Книга о тебе. В ней твоя фотография, сделанная в тюрьме. Мое сердце сжимается от боли: стоишь одиноко у стены каземата, согнувшись от ветра и холода в длинном изношенном пальто, в худых башмаках без шнурков, костлявый печальный узник. Прижал к груди тощую грязную кошку, ушел в себя, потерял самого себя в себе, впал в задумчивость. И, глядя на эту фотографию, я проклинаю себя, Назым, что недожалела, недолюбила, недоберегла тебя. А кошки в твоей жизни когда-то играли не последнюю роль. Все-таки первые настоящие стихи ты когда-то тоже написал о кошке. Помнишь, как одна дама, пианистка и жена известного руководителя известного театра, умоляла, требовала, чтобы ты написал статью в защиту кошек, чтобы вместе с ней боролся за их права?
Дама просила:
– Одно ваше слово, и мальчишки не будут откручивать им хвосты.
Кажется, она возглавляла секцию кошек в Обществе охраны животных. Ты пытался отделаться от нее, говорил, что уже написал «Элегию Шайтану».
– Но это же про собаку! – возмущалась дама. – А у нас кошки!
Ты боялся ее голоса, шутил, выкручивался, и все повторялось. В конце концов ты смалодушничал и пообещал статью написать. Ситуация осложнилась. Звонки пошли сплошным потоком. Теперь, как только телефон начинал звонить, ты бежал в другую комнату с криками:
– Меня нет! В Москве нет! В Европе нет!
И вот однажды меня врасплох вопросом о твоей обещанной статье застал звонок другой женщины с незнакомым голосом. Гнусно было выкручиваться, и я сказала ей:
– А Назым написал замечательные стихи про кошку!
– Что вы говорите! – воскликнула она растроганно. – А как мне их получить?
– Откройте его последнюю книгу и найдите. Стихи называются «Сказка сказок».
– Прочтите мне хоть несколько строк.
CКАЗКА СКАЗОКСтоим над водой —
чинара и я.
Отражаемся в тихой воде —
чинара и я.
Блеск воды бьет нам в лица —
чинаре и мне.
Стоим над водой —
кошка, чинара и я.
Отражаемся в тихой воде —
кошка, чинара и я.
Блеск воды бьет нам в лица —
кошке, чинаре и мне.
Стоим над водой —
солнце, кошка, чинара и я.
Отражаемся в тихой воде —
солнце, кошка, чинара и я.
Блеск воды бьет нам в лица —
солнцу, кошке, чинаре и мне.
Стоим над водой —
солнце, кошка, чинара, я и наша судьба.
Отражаемся в тихой воде —
солнце, кошка, чинара, я и наша судьба.
Блеск воды бьет нам в лица —
солнцу, кошке, чинаре, мне и нашей судьбе.
Стоим над водой.
Первой кошка уйдет,
и ее отраженье исчезнет.
Потом уйду я,
и мое отраженье исчезнет.
Потом – чинара,
и ее отраженье исчезнет.
Потом уйдет вода.
Останется солнце.
Потом уйдет и оно.
Стоим над водой —
солнце, кошка, чинара, я и наша судьба.
Вода прохладная,
чинара высокая,
я стихи сочиняю,
кошка дремлет,
солнце греет.
Слава богу, живем!
Блеск воды бьет нам в лица —
солнцу, кошке, чинаре, мне и нашей судьбе.
Больше из общества охраны кошек звонков, слава Богу, не было.
И все-таки зря мы не защитили кошек, Назым… Мне недавно один человек с большой радостью рассказывал, что был в Средней Азии, где увидел озеро, чинару и кошку, о которых ты написал в «Сказке сказок». Хотя это чистый вымысел, но тот божественный, единственный, про который Пушкин сказал «над вымыслом слезами обольюсь…»
А ты всегда посмеивался, читая измышления о себе: – Вот дураки, ну откуда они это взяли? Ничего этого не было.
Знаешь, недавно Борис Полевой написал о том, как несколько раз бывал с тобой в поездках. Написал, что ты такой хозяйственный, даже щетку сапожную и нитки всех цветов с иголками возил в чемодане. Так что, если у кого-нибудь что-то отрывалось – рукав или пуговица, – сразу бежали к тебе. Я всё думаю, зачем он так написал? Может, спутал тебя с кем-то, – не знаю. Эти мемуары мне показал возмущенный Бабаев, а потом мы вспомнили твою «аккуратность», твою «хозяйственность», твою рассеянность, твою забывчивость и, честное слово, долго смеялись.
Помнишь, ты рассказывал, как вскоре после приезда в Советский Союз поехал с нашей делегацией в Стокгольм. Ты мало кого тогда еще знал и еще хуже ориентировался в житейских вопросах, особенно за границей. Тебя успокоили, сказали, что для этой цели с делегацией едет специальный человек – администратор. Но кто этот человек, сказать забыли. Вы прилетели в Стокгольм. Тебе понадобилось деньги обменять, какие-то мелочи нужно было сделать. Среди членов делегации ты сам вычислил администратора, худенького, стеснительного человека в больших круглых очках, с тонкими нервными руками, явно привыкшими к счетам.
Ты подошел к нему и очень вежливо попросил что-то сделать. Он безропотно согласился, тут же ушел по твоим делам и тихо выполнил твое поручение. Ты снова и снова обращался к нему всю неделю, пока вы были в Стокгольме. Вернувшись в Москву, вы обнялись на прощанье, ты благодарил его за помощь – он был тебе очень симпатичен – и предложил ему свой телефон. А он протянул тебе визитную карточку с надписью: «Композитор Дмитрий Шостакович».
Вернемся, Назым, в тот день, о котором я говорила. В тот солнечный день. Почему так много солнца было в те годы, какой день ни придет на ум, все солнечный…– Ты хочешь, Веруся, знать, как мне помог товарищ Павлов? Да, это на самом деле удивительно. После тюрьмы на меня сделали два покушения. Один раз хотели убить автомобилем. Очень типичный полицейский случай, но я все-таки думал, это случайность. Какое-то маленькое сомнение оставалось. Но люди стали меня предупреждать. И вот однажды жена одного большого купца – она была у нас в партии – узнала, что меня хотят призвать в армию под тем предлогом, что я, сидя в тюрьме, не отбыл воинскую повинность. После этого решили послать меня в пограничные войска и там убить, якобы при попытке перейти границу. Другой вариант: призвать в армию рядовым и послать служить в Анатолию. А там мороз, тяжело, после тюрьмы я бы там долго не выдержал, сам бы умер. Это уже было серьезно, и я начал искать выход.
Уважаемая жена купца, я кланяюсь вам до земли. Вы предупредили Назыма об опасности.
Решили, что я должен бежать. Но как? За мной по пятам ходило семь полицейских. Они дежурили круглосуточно, на джипе то и дело подъезжали к дому… Сначала я не мог ничего придумать. Вот когда совсем отчаялся, вспомнил про товарища Ивана Павлова и его рефлексы. Я стал жить по часам, но так точно, что ты не можешь себе представить. Я просыпался в один и тот же час, ровно, минута в минуту, каждый день открывал форточку, затем точно через пятнадцать минут выходил из дома и попадал точно в один и тот же трамвай. Я входил в дверь киностудии, где я работал после тюрьмы как режиссер, дублирующий фильмы на турецкий язык, ровно в положенный час и ровно в мой час выходил обедать в одно и то же кафе. И так весь мой день строился по часам с утра и до ночи. Я не допускал никакого нарушения этого режима в течение пяти или шести месяцев, и «охрана» очень скоро усвоила мой распорядок. Поэтому, когда мои два товарища назначили побег, я встал не в семь часов, как обычно, а в четыре. Я спокойно прошел мимо спящих полицейских, ни один из них даже не шевельнулся, так уверенно они спали. Но когда я вышел на улицу, то полицейская машина выскочила в другом конце, и они меня заметили. Я уже заранее разработал маршрут. Добрался до Бейоглу – там у нас старинный магазин «Пассаж», такой же, как и в Москве, у него выходы на две улицы. Вот через Бейоглу я оторвался от слежки и пришел к гостинице «Тарабья». Перед ней находился причал. Когда я вышел, мой молодой родственник Рефик уже подъехал на моторной лодке и делал круги, чтобы не привлекать внимания. Он все рассчитал, запас бензина до Варны, скорость и прочее. У него даже сиденье было пробковое, чтобы могло служить «спасательным кругом», если перевернемся. Мы ждали, когда в проливе начнется движение судов в Черное море, чтобы незаметно между ними проскочить. В конце концов так мы и сделали – прикрывшись одним большим пароходом, вышли незаметно в Черное море. Конечно, напряжение было страшное. Все время боялись, что нас увидят военные турецкие суда или еще что-нибудь произойдет непредвиденное. Но все-таки быстро плыли вперед и вскоре, минут через тридцать наконец увидели громадный корабль. Сначала я испугался, думал, черт знает, вдруг это наш или американский! Приблизились, и я прочел «Плеханов», но написано латинскими буквами. Я самого Плеханова не очень-то любил, но все-таки, думаю, «Плеханов» не может быть буржуазным. Взяли на него курс, и вскоре они увидели нас тоже. Мы подошли к ним почти вплотную. Мы стали их просить сбавить скорость, а они продолжали идти полным ходом. Нам стало трудно идти вровень. Я кричу им, что я Назым Хикмет. «Коммунист, турок! Поэт! Я – Назым Хикмет!» Сначала они крикнули, что не надо к ним подходить. Но потом они поняли, приветствуют меня, машут руками, а брать не берут! Оказалось, что корабль румынский. Я говорю им: «Я – Назым Хикмет!» – думаю, может быть, они не знают все-таки: не могу понять, почему не берут человека, который на их глазах каждую минуту может на этой утлой лодке погибнуть. Они мне все время говорят: «Товарищ Назым Хикмет, ждите немножко. Мы запросили. Ждем ответа! Сейчас мы вас возьмем, то есть скоро. Немножко терпите еще. Сейчас!» Мы с Рефиком чуть с ума не сошли. Не знаем, что они решат. Если не возьмут – мы уже до Варны не дойдем, бензина не хватит. Время-то идет! Час уже около них крутимся, второй пошел… Самое страшное – это вернуться! Это конец! Рефик мне говорит: «Давай деньги им предложим». Ая сказал: «Нельзя. Это же социалистические моряки, они взятки не берут!» Лодку несет. А они нам дают разные советы, волнуются, все столпились, кричат, но не берут! Ты представляешь наше положение?! Так продолжалось полтора часа! Не меньше. Потом они очень торжественно подняли нас на корабль, провели в кают-компанию, и там на стене я увидел стенгазету, посвященную мне. «Свободу Назыму Хикмету!» Мои фотографии. Они меня так радостно поздравляли, все жали мою руку и так далее, а я говорю: «Черт возьми, объясните мне наконец, почему вы меня так долго мучили!» Оказывается, они звонили в свой порт, в Констанцию, оттуда начальники звонили в Бухарест, оттуда другие начальники звонили в Москву, и, когда Сталин разрешил взять, они нас подняли. На это как раз ушло полтора часа. Я им сказал: «Вы же моряки! Вы видите: человек гибнет, так возьмите его, потом, если окажется, что он сволочь или почему-то нельзя его оставить живым – бросьте его назад, но нельзя же так». Они мялись, конечно, что могут говорить? Вот так я прибыл в Констанцу, оттуда в Бухарест, оттуда в Москву. А Рефик походил со мной, а потом мы обнялись, простились. Он вернулся в Стамбул. Так этот смелый молодой парень спас мне жизнь. Он рисковал своей жизнью тогда и много лет потом. Меня люди постоянно спрашивают, кто этот человек, как его имя, а я не могу им сказать. Даже в «Автобиографии» имя его не написал: «вдвоем с молодым товарищем мы шли на смерть…», но он, я думаю, прочел и понял, что я его помню и благодарен ему за жизнь. И ты его имя храни, но никому не называй ни друзьям, ни врагам, пока он сам не откроется.
Мне привезли турецкую газету «Джумхуриет», где 18 декабря 1964 года журналист Ильхан Сельджук написал: «…Что же касается истории с побегом Назыма Хикмета в Россию… Любителей его стихов это очень огорчает. Одни говорят, что если бы Назым Хикмет не убежал, его бы убили. И даже есть те, кто считает: “Пусть бы лучше убили”». Ты не нуждаешься в оправдании своего побега, Назым. Мне, обыкновенной русской женщине, трудно понять эти разговоры об измене родине поэта, которого посадили в тюрьму за поэзию и приговорили к пятидесяти пяти годам заключения, а когда под нажимом честных людей многих стран помиловали, возникла угроза убийства. Ты говорил мне об этом, я верю тебе. Да, тебе была дорога жизнь, но для чего? Для того, чтобы на твоей родине больше не сажали поэзию в тюрьмы, чтобы Турция всегда была матерью самым верным своим сыновьям, чтобы Ильхан Сельджук сегодня мог напечатать эту, так взволновавшую меня статью. Ты был самым сознательным, самым оптимистичным и самым нежным патриотом своей отчизны. И может быть, даже не дети, а внуки детей Ильхана Сельджука еще оценят силу и красоту твоей любви к обожаемой Турции. Время все ставит на свое место.
Никогда не забуду тот футбольный матч между командами Турции и Советского Союза. Мне кажется, что турецкие футболисты тогда приехали к нам впервые. Международные матчи в те времена случались не часто, и стадион был битком набит. Ты заранее купил четыре билета: мы пригласили Акпера с Тосей. Вчетвером сели на скамью, помню, как нас вжали с двух сторон, словно прессом – людей было гораздо больше, чем мест. Ты радовался, что турки вызывают такой громадный интерес у москвичей. Вокруг нас спорили разные люди о предстоящем поединке, и некоторые болельщики даже в сердцах говорили:
– Дали бы турки нашим прикурить как следует, чтобы не зазнавались. Супермены! Считают себя неотразимыми, а разве раньше так играли!
Тебя эти реплики изумляли. Ты редко ходил на стадион и не знал, что московские болельщики самые требовательные, самые незлобливые, и потому справедливо считаются самыми доброжелательными в мире.
Мы с Акпером решили болеть за турков.
– Ну а за кого ты будешь болеть? – я шутливо спросила тебя, хотя, конечно, у меня не было никаких сомнений.
– Как за кого? За наших, конечно.
– За турков? – уточнила я.
– Нет, Вера, – очень серьезно пояснил ты. – Я буду на стороне советской команды.
– Как?.. – изумилась я. – Сейчас твои бедные турки встретятся с нашими асами. Представляешь, как им достанется! Сам говоришь, что футбол у вас только начинается… – огорчалась я все больше и больше. Твое решение мне казалось противоестественным. И вдруг ты повернулся ко мне и к Акперу. Повернулся и с гневной грустью сказал:
– Для вас этот футбол – только развлечение. Вы не понимаете, что сейчас на поле выйдут и начнут соревноваться две системы: буржуазная и социалистическая. Я буду на стороне социализма.
Игра началась. Когда гостям забили три первых мяча, я посмотрела на тебя. Твое лицо выражало отчаяние:
– Понимаю, но не могу ничего с собой поделать… Все-таки очень жаль моих турецких сыновей.
Турецкая команда проиграла с большим счетом. Ты возвращался домой понурый:
– Бедные парни, – повторял ты, – бедная, отсталая страна. Что они могли сделать… Больно, очень больно!Помнишь, в Коктебеле мы познакомились и подружились с последним секретарем Льва Толстого – Н. Н. Гусевым. Ему уже было под восемьдесят, а он был бодрым, всегда в ровном благожелательном настроении, всегда отзывчив к общению. Ты полюбил с ним говорить, и вы редкий день не проводили несколько часов вместе. Когда Гусев узнал, что ты перевел в тюрьме два тома «Войны и мира» – разволновался, ваши и без того теплые отношения упрочились. Однажды он, желая сделать тебе приятное, рассказал, как Лев Толстой в молодости выучил турецкий язык, восхищался его красотой и даже на строжайшем экзамене в Казанском университете сумел получить по турецкому пятерку. Как же ты, Назым, был рад, весь светился! Всем вокруг об этом рассказывал, а Гусев все дополнял историю новыми подробностями, и оказалось, что на тех же экзаменах Толстой получил двойку по русскому и единицу за отечественную историю. С тех пор Толстой заново завладел твоей душой. Помнишь, как Гусев рассказывал значительным тоном о философии вегетарианства Толстого, а писатели вокруг посмеивались над причудами великого старца. Так слушай, Назым. Сейчас посмешу тебя. Недавно мы с Анютой гостили в усадьбе Поленово у дочери художника – Ольги Васильевны Поленовой. У них в Поленово теперь музей-заповедник, и потомки знаменитой семьи летом съезжаются в большой флигель. Утром, пока не приехали автобусы с экскурсантами, Ольга Васильевна сама провела нас по пустому дому-музею, мы даже уютно посидели в их былой гостиной, и там она вспоминала удивительные дружбы своей семьи со многими знаменитыми художниками, с Чеховым, Буниным, Толстым… А потом неожиданно меня спросила: «Правда ли, что турки первые изобрели носовой платок?» Я говорю: «Откуда вы знаете?» – «От Назыма Хикмета! Был у нас в театре и рассказывал. Нам всем очень понравилось». А уж потом, когда повела нас в лес за земляникой, начала шутить и веселить всех разными историями. Попался ей на язык Толстой. «Знаете, – говорит, – Вера, одна помещица, подруга моей матери, рассказывала нам, как у нее целый месяц в деревне гостил Лев Николаевич. Прежде чем отправить его к ней, Софья Андреевна долго ее наставляла в письмах, как с ним обходиться, что он любит, чего нельзя, и, конечно, о вегетарианском приготовлении блюд. Приехал Толстой, помещица старается, готовит ему постные разносолы по лучшей поваренной книге, а угодить никак не может. И каша не вкусная, и щи не идут… Помещица в отчаянии посылает нарочного с письмом к Софье Андреевне: так, мол, и так. Плохо. Не ест ничего граф. А та ей отвечает: «А вы кашу на сливочках, надеюсь, варили? А щи на курином бульоне?!» Помещица все поняла, Толстой стал доволен и прожил дольше обещанного».
Вот так, Назым, жизнь писателей будоражит воображение людей, обрастает мифами, легендами, анекдотами. Хорошо, когда памятники иногда подмигивают прохожим. Ты ведь всегда радовался, когда видел в Риме, Неаполе, Флоренции детей, играющих в легендарных фонтанах, сидящих на плечах у мраморных героев и скачущих на их лошадях… Как давно тебя нет, Назым. Как тяжело становится жить.
Из всех изобретений ХХ века ты больше всего любил телефон за несравнимую ни с чем возможность быстрого контакта с человеком в любой точке земли. Как-то мне попалась пачка телефонных счетов. Боже мой! Астрономические суммы вынимал из твоего кошелька этот маленький аппаратик!
И телефон у нас в доме звонил не переставая с утра до позднего вечера. Ты бежал к нему как сумасшедший. Ты жил в предчувствии доброй вести. Я ни разу не слышала от тебя обычного для всех комментария дурной новости: «Я как чувствовал, у меня на душе кошки скребли». Ты постоянно ждал известий, звонка из Турции. Не буквально, конечно, а вот вдруг какой-то турок в Москву приедет, позвонит и попросит тебя для Турции сделать важное дело. С этим вечным твоим ожиданием случались курьезы.
Однажды после обеда мы с друзьями разговаривали в гостиной. Зазвонил телефон. Я сняла трубку – женский взволнованный голос попросил Назыма. Ты стал спрашивать, кто говорит, но женщина не хотела называть себя. Ты приглашал ее домой, но она наотрез отказалась и просила тебя немедленно приехать к метро «Новослободская». По важному делу. Но ты пользовался только машиной, метро не знал, а незнакомка требовала тебя для важного разговора. В конце концов ты упросил ее приехать к фонтану нашего сквера, пообещал выйти через сорок минут. Волнуясь, ты решил, что странный настойчивый звонок связан с Турцией. Наверное, девушку попросил позвонить какой-то турок, который сообщит ему важную, секретную информацию. Поэтому такая конспирация.
– Я чувствовал, что этот звонок вот-вот прозвонит, – говорил ты нам.
Летний день клонился к вечеру, ты накинул пиджак и ушел. Тебя не было долго – минут тридцать или сорок. Мы начали беспокоиться. Потом ты вернулся с лицом раздосадованного человека, попавшего в глупое положение.
– Ну что? – спросили мы. – Кто же это был?
– Такая худенькая женщина, немножко бедно одетая. Бледное лицо… Сказала, что она представительница одной московской швейной фабрики. У них работает большинство женщин. И вот они узнали, что Назым Хикмет собирается жениться. Они очень много спорили об этом и решили, что жениться я не имею права. «Но почему я не имею права жениться?» – «Потому что такой поэт, как вы, не может принадлежать одной женщине. Вы принадлежите всем!»
Мы спросили, что ты ей ответил.
– Я сказал, что, во-первых, миленькая, я уже женился. Во-вторых, поэты тоже люди, а не боги, черт побери! Им тоже хочется человеческого счастья, семьи, чтобы дом был у них, жена была. Какой же дом без жены? Вот все это у меня сегодня есть. Потому я сегодня поэт очень счастливый. Но она ничего не поняла. Ушла страшно разочарованая.
Телефон постоянно трезвонил в будни, а по воскресеньям наступала тишина. И ты обижался, ворчал, что тебе звонят только потому, что всем от тебя что-нибудь нужно. Нет, конечно. Хотя среди множества людей попадались и те, кто стремился использовать громкое имя Назыма Хикмета. Приносили напечатанные на машинке от твоего имени рецензии на свои бездарные стихи и пьесы, ходатайствовали о квартирах, иногда пытались подсунуть какие-то жалобы, даже кляузы… При этом ты с ходу распознавал дурного человека. Тот еще ничего не сказал, а ты замолкаешь, мрачнеешь – уверен, стоит только «гостю» рот открыть, как повалятся из него змеи и жабы. Но в житейских вопросах старался помогать всем без исключения.
– Сволочь – тоже человек, у него дети есть, жена. Говорил, что просить людям очень тяжело. Если человек просит, значит дошел до крайней точки безысходности.
Но особенно мучили и раздражали тебя звонки, когда в трубке молчали. Это случалось у нас очень часто. После таких звонков у тебя бывало подавленное настроение.
– Почему молчат! Может быть, хотели услышать твой голос, а, Вера?
Ты все воспринимал чрезвычайно остро, все глубоко переживал. Приходил в ярость, если тебе говорили «начальник» или «ну, хозяин, куда поедем?»; если называли иностранцем или, того хуже, «нацменом». Совершенно не мог выносить хамства, грубости – а у нас без хамства в магазине и бутылку молока не дадут! Мы, обыкновенные советские люди, в подобных ситуациях если и обижаемся, то за униженного человека, хотим удовлетворения ему, а ты требовал сатисфакции за себя – ведь в лице другого человека обругали тебя самого.
У тебя всегда было много дел. Ты работал одновременно над несколькими вещами в кабинете, вот за этим огромным столом. Надевал на нос свои громадные очки, открывал футляр турецкой машинки и писал четыре-пять часов в день. При этом испытывал такое волнение и напряжение, что твое лицо покрывалось капельками пота, и ты обязательно засучивал рукава рубашки. В это время был похож на грузчика или пахаря, так много затрачивал энергии и сил. Однажды в журнале «Театр» написал, что работаешь только на кухне. Наврал… Это я всегда готовлю и сижу за русской машинкой на кухне. А ты мне почему-то страшно завидовал, но в кухне работать не мог – там духота. Когда уставал от машинки, то опрокидывался спиной на зеленый диван в гостиной и лежал, как большая рыба на морском берегу. Но голова твоя продолжала работать, ты не умел ничего не делать. Или читал «полицейские романы». Ты таскал их с собой повсюду и всюду терял.Думаю, что где-нибудь в аэропортах Парижа, Рима, Брюсселя, Каира до сих пор лежат забытые тобой детективы…
Ты поразительно чувствовал каждого человека. Как-то мы ехали в трамвае, это было в конце рабочего дня. Было очень холодно. Ты обратил внимание на пожилую кондукторшу, на ее утомленное лицо и замерзшие руки. Люди проходили мимо, не обращая на нее никакого внимания. И ты поцеловал ей руку. А она заплакала.
– Разве я вас обидел?
– Нет, просто мне поцеловали руку первый раз в жизни. Ты жил как бы без кожи. С одной стороны, постоянно боролся за более гуманный совершенный мир, а с другой… тебе было трудно. Ты был не добряком, а деятельно добрым. Я даже думаю, что магическая сила поэта заключалась не столько в твоем поразительном таланте, а в необыкновенной доброте. Я видела почти всех выдающихся поэтов мира середины ХХ века рядом с тобой. Среди них были замечательные люди, но в них не было того, что всех, да и тех же поэтов, так притягивало к тебе. Ты был всеобщим любимцем. Когда тебе было тяжко, ты хотел, чтобы у других было все хорошо, и способствовал этому максимально. Ты мог в ущерб себе неделями заниматься делами чужого человека. А если дома заводились деньги, ты их с радостью предлагал нуждающимся художникам, поэтам, студентам. Причем делал это деликатно, и твоя помощь не жгла руки принимающим ее. Но авантюристов, вымогателей, наглецов на дух не выносил.
Один раз без звонка пришел высокий немолодой человек. Его шея была небрежно обмотана длинным шарфом, и концы его свисали до колен. Пришел, что называется, в образе этакого разночинца прошлого века.
– Вы читали Достоевского? – с ходу спросил тебя он.
– Еще бы!
– Федор Достоевский! – протянул руку незнакомец.
– Очень рад.
– Сейчас я работаю над продолжением моего бессмертного романа «Преступление и наказание», но материальные затруднения мешают закончить книгу. Нужны деньги.
– Я понимаю, – сказал ты и достал из бумажника двадцатипятирублевую ассигнацию.
Тот взял купюру, презрительно помахал ею в воздухе и, иронически поглядывая на тебя, сказал:
– Федору Достоевскому, гению человечества, двадцать пять рублей…
– Извините, но вы пришли к рядовому писателю, – серьезно возразил ты и открыл дверь на лестницу.
Тебя постоянно преследовали странные люди, тихие блаженные, с благоговением взирающие на тебя, как на Иисуса, и наглые, подчас агрессивные сумасшедшие, которые звонили днем и ночью, врывались в дверь. Одна якутка стоила столько нервов!
Ты мучился, но не мог позволить себе пожаловаться на них властям. Знал, что просьба иностранца пройдет через КГБ, а эту организацию ты ненавидел и не хотел иметь с ней ничего общего, даже сумасшедших. Однажды мы были в гостях у Светланы Аллилуевой – дочери Сталина, и она вдруг рассказала, как у нее жизни нет из-за преследования сумасшедших. Ей казалось, что в каждой психушке сидят люди, вообразившие себя ее сестрами, любовниками, мужьями, и все они рвутся к ней, караулят у подъезда, звонят, требуют встречи, свиданий. И ты ей признался, что сам иногда просто бежишь из Москвы от этого кошмара.Теперь наиболее устойчивые особи преследуют меня. Сегодня я ходила в Союз писателей к юристу просить защиты против домогательств «зятя мультимиллионера Лысенко». Однажды он пришел к тебе проситься в секретари. Я в кабинет не вошла, когда вы разговаривали, но знаю, ты сказал ему, что не хочешь никакой наемной силы, никаких чужих людей в доме. После этого «зять мультимиллионера Лысенко» – так этот молодой мужчина тебе и отрекомендовался, стал назойливо звонить мне, предлагал себя в качестве сопроводителя на вернисажи и премьеры якобы из гуманных соображений – чтобы Назым Хикмет не отвлекался от творчества. Ты страшно нервничал, кричал по телефону, посылал его к черту, но он звонил снова и снова. Теперь он меня доводит исступленными звонками, требует свидания, задним числом пугая рассказами, как всегда находился рядом с нами в театрах, на выставках, поэтических вечерах… Теперь он угрожает мне смертью, говорит, что меня убьют «в квадрате…» – и называет номер нашей квартиры, если не приду к нему на свидание. Как ты, Назым, терпел эту кодлу столько лет – не знаю! Сыграла свою печальную роль и сплетня про твою роль в аресте Ярослава Смелякова. Сейчас я расскажу, как было дело с Ярославом Васильевичем. Помоги мне ничего не упустить в важной для тебя истории.
Каким теплом лучились ваши глаза, когда вы со Смеляковым вспоминали свое знакомство! Помню, о чем вы говорили, сидя у нас дома… К тому времени Ярослав Смеляков, известный поэт, любимец молодежи, был уже дважды судим и годы отсидел в лагерях.
– Ярослав, брат, ты можешь мне сказать, почему тебя так назвали? – как-то спросил его ты.
– Имя мое хорошее. Я доволен. Но героической судьбы, как хотелось родителям, не получилось. Видно, подводила фамилия.
Вы познакомились на второй или третий день после твоего приезда в Советский Союз летом 1951 года в гостинице «Москва», куда тебя поначалу поселили. Смеляков все вспоминал два обстоятельства вашей встречи. Первое – как он торопился к назначенному часу, как попал под проливной дождь и вошел в номер, когда с него текло в три ручья. Это бы, может, и забылось, но вот как ты стянул с себя рубашку и надел на него – считал важным. Воспринял этот порыв как некий поэтический знак. А второе обстоятельство уже относилось к его книге «Кремлевские ели», которую Смеляков тогда подарил тебе. Его удивило, что ты взял ее, пролистал все страницы, но не читал, только рассматривал строчки. А потом, довольный, признался:
– Твое лицо похоже на лицо Маяковского, и я боялся, брат, что ты и пишешь, как он, лестницами. (Ты произносил «лестнисами». Звук «ц» в турецком языке отсутствует.) Но второй Маяковский, как второй Шекспир или второй Толстой, литературе не нужен. Нам всем надо стараться идти своей дорогой. А это самое тяжелое дело.
Смеляков рассказывал, что испытал к тебе безоглядное доверие, какое бывает только в раннем детстве. Разговаривать с тобой хотелось так сильно, что он, стеснительный и замкнутый по натуре, стал ходить в гостиницу чуть ли не каждый день. В те первые недели он написал стихи. Они так и назывались «Назым Хикмет в Москве». Ему хотелось, чтобы ты их без усилий понял, и он выбирал нарочно самые простые слова.Не год один,
а десять с лишним лет
хотел увидеть я тебя, Хикмет…
И вот в Москве,
в гостинице «Москва»,
я слушаю спокойные слова.
Передо мною – строен и плечист, —
из стен тюремных выйдя наконец,
стоит планеты нашей коммунист,
ее рабочий и ее певец.
Но прочесть тебе свои стихи Ярослав Васильевич не сумел. Он исчез столь же внезапно, как и появился. Напрасно ты пытался разыскать Смелякова – все вокруг недоуменно пожимали плечами. И только года через полтора Регина Янушкевич, твоя давняя подруга, под большим секретом сказала тебе, что Смеляков арестован, и ходят слухи, будто его посадили из-за Хикмета. Говорили, что однажды подвыпивший Смеляков пришел к тебе в гостиницу, где было много народу, и стал выяснять, как с тобой обращались турецкие тюремщики. А когда узнал, что они тебя пальцем не тронули, то опасно пошутил: «Считай, Назым, что ты и тюрьмы не нюхал. Подумаешь, одиночка! Да у нас за год следствия ты бы такое крещение прошел, что и ад показался бы раем». Говорили, что после этого ты будто бы попросил Союз писателей «оградить себя от дружбы» со Смеляковым, и тогда его арестовали.
Слух этот, как всякая сплетня, оказался живучим и нет-нет да и всплывает кое-где и сегодня.
Ты понял, что кто-то придумал это сознательно и толково, что кто-то хочет посеять вокруг тебя страх, отпугнуть от тебя людей. И ты решил бороться. Начал публично, везде, где только представлялась возможность, хвалить Смелякова, чтобы спасти его. Неоднократно обращался за помощью к Фадееву, просил его передать письмо в защиту честного коммуниста и поэта «наверх», но Фадеев письма отверг и прямо сказал, что помочь Ярославу Смелякову невозможно – он приговорен к 25 годам. А по поводу «слуха» выразил сомнение, но обещал выяснить, и действительно вскоре сообщил, что имя Назыма в деле Смелякова не упоминается. Потом, после 1955 года оказавшись на свободе, Ярослав Васильевич подтвердил правоту его слов. Надо ли говорить, что ты все последующие годы был особенно нежен со Смеляковым.
Но случались у вас и шумные споры, разногласия в оценках творчества некоторых поэтов, неприятие отдельных стихов – этого всего бывало в избытке.
Однажды в Колонном зале ты услышал, как под аплодисменты Ярослав Васильевич прочел стихотворение «Натали» – о жене Пушкина.
Уйдя с испугу в тихость быта,
живя спокойно и тепло,
ты думала, что все забыто
и все травою поросло.
Детей задумчиво лаская,
старела как жена и мать…
Напрасный труд, мадам Ланская,
тебе от нас не убежать!
То племя, честное и злое,
тот русский нынешний народ
и под могильною землею
тебя отыщет и найдет…
Ты страшно разозлился: если Смеляков думает, что таким образом защищает Пушкина – он ошибается! Он грубо оскорбляет его память!
– А ты представь, что Пушкин сейчас сидит в зале и слушает, как ты угрожаешь его жене.
Но Ярослав Васильевич яростно защищался и единственное, что обещал – никогда не читать этих стихов в твоем присутствии.
– Надо было еще хлеще, хлеще, – настаивал он, когда спор уже кончился.
А через несколько лет, когда тебя, Назым, уже не стало среди нас, я вдруг увидела стихи Смелякова «Извинение перед Натали»:
Теперь уже не помню даты —
ослабла память, мозг устал, —
но дело было: я когда-то
про Вас бестактно написали.
<… >
Его величие и слава,
уж коль по чести говорить,
мне не давали вовсе права
Вас и намеком оскорбить.
Я Вас теперь прошу покорно
ничуть злопамятной не быть
и тот стишок, как отблеск черный,
средь развлечений позабыть.
Нет, не могу читать последние строчки без улыбки, в них весь неколебимый характер Ярослава Васильевича.
Ах, Вам совсем не трудно это:
ведь и при жизни Вы смогли
забыть великого поэта —
любовь и горе всей земли.
Ранней весной 1961 года Смелякова, Светлова и Назыма пригласили на встречу с молодыми передовиками страны в только что построенную гостиницу «Юность». Встреча была назначена на 5 часов, и ты предложил всем собраться у нас пообедать, «повидаться немножко», а потом вместе ехать к ребятам. После обеда, когда все три поэта дружно задымили, Михаил Аркадьевич спросил тебя, знаешь ли ты другие, неопубликованные стихи Ярослава? И услыхав, что нет, настойчиво советовал уговорить Смелякова их прочесть. Ярослав Васильевич сначала наотрез отказался читать что-либо из лагерного цикла. Все знали, что о тюрьме говорить он не любил. Но в тот день, ветреный, серый, что-то в нем, видно, оттаяло, и он прочел:
Когда метет за окнами метель,
сияньем снега озаряя мир,
мне в камеру бросает конвоир
солдатскую ушанку и шинель…
Он читал сначала тихо, каким-то пересохшим ртом, а потом поднялся, ушел к окну, стоял спиной и читал двору нашему, улице, России через закрытые рамы, не очень напрягая голос, но было полное ощущение, что его слышат в эти минуты все! Он не читал даже, а говорил с теми, кого всегда помнил. Говорил, какой-то особой интонацией выделяя строки:
…и если царство вверят одному
другой придет его поцеловать.
<… >
и если будут вешать одного,
другой придет его поцеловать.
Теперь это стихотворение «Шинель» многие знают, потому что оно было опубликовано в «Новом мире».
Часа через два вы втроем, бросив в зале плащи и кепки, поднялись на сцену «Юности», и был праздник. Ребята наперебой просили читать и читать стихи: «Гренаду», «Постелите мне степь!», «Великан с голубыми глазами», «Хорошую девочку Лиду»…
– Какими бы вы хотели нас видеть? – кто-то закричал из зала.
Светлов: – Нежными!
Хикмет: – Бесстрашными!
Смеляков: – Интеллигентными!
И вы читали, отвечали на вопросы, спрашивали сами. В конце вечера в зале поднялась девушка и сказала, что она с дальнего севера, у них даже телевидения еще нет и она никогда в жизни не видела поэтов. Но ей казалось, что они должны быть обязательно молодыми. А когда вместо поэтов вошли деды (она сделала ударение на последний слог), она хотела даже уйти. А теперь она поняла, что поэты действительно самые молодые и самые красивые люди на нашей планете, и она сейчас при всех порывает со своим новым другом Сашей, потому что он не любит и не понимает стихов. Все развеселились, стали просить помиловать друга Сашу. Настроение было замечательное. Вечер кончился. Мы вышли на улицу. Светлов предложил ехать в ЦДЛ, слушать Новеллу Матвееву.
Незаметно дошли до Комсомольского проспекта и стали ловить такси. И тут Ярослав Васильевич похвалился, что считался большим специалистом по части игры в «балду». Ты не знал этой игры. Смеляков быстро поставил тебя рядом со Светловым, сам встал перед вами спиной, прикрыл глаза правой рукой, согнул левую, засунул ее подмышку, прижал внешней стороной кисти к правому плечу и попросил ударить по открытой ладони… И пошла игра! Вы со Смеляковым угадывали того, кто бил, почти безошибочно, а Михаил Аркадьевич «мазал» под общий смех и беспрерывно «водил».
– У него совершенно нет чувства опасности! – сокрушался Смеляков.
Вдруг перед нами как из-под земли вырос милиционер. Подозрительно оглядев «компанию», он стал требовать, чтобы все немедленно разошлись.
– Вы что, не понимаете, что здесь трасса! – гремел он. – Трасса! Понимаете?!
– Мы стоим на Комсомольском проспекте и не будем его переименовывать, – сказал Смеляков.
Но в ЦДЛ ехать уже не хотелось. Подоспевшее такси всех развезло по домам.
А было ли нам хорошо, Назым? Да. Было. И еще как!
Ты говорил:
– Если я буду так счастлив еще десять дней – я напишу гениальные стихи! Вот увидите. Тогда узнаете, на что я способен! Я еще не написал главных стихов. Все зависит от нее, – показывал он на меня. – Дай мне десять дней.
И никогда ни строчки не писал ни в эти, ни в последующие дни полного согласия с жизнью. Но хорошее настроение высвобождало иную энергию.
Однажды ты целый день проспорил с замечательным поэтом Колей Глазковым, какими должны быть стихи: с рифмой или без. Ты утверждал, что рифмованные стихи тебе надоели хуже горькой редьки и сегодня тебя интересуют стихи с более сложным построением, так называемые белые. А Глазков отстаивал рифму. Спорили вы, спорили, ни до чего не договорились. Разошлись поздно каждый при своем мнении.
Полночи ты ворчал, что в Москве люди ни черта не знают о современной поэзии Запада и новаторские стихи читают в допотопных переводах.
Коля Глазков, видимо, тоже всю ночь думал о тупиковом споре и под утро нашел-таки потрясающий аргумент. Он приехал к нам с первым поездом метро на рассвете, ворвался огромный, опухший от бессонницы, в своих немыслимых сатиновых шароварах и прямо с порога, предвкушая победу, заорал на весь дом:
– Стихи без рифмы – все равно что женщина без волос! Ты, как лев, одним прыжком выскочил из постели и в пандан ему крикнул:
– А ты представляешь женщину, сплошь покрытую волосами?!Помнишь, в июле 1962 года у нас в Москве десять дней проходил Конгресс за всеобщее разоружение и мир.
Ты был на открытии, целый день просидел в президиуме, встретился с кучей друзей и знакомых. Я работала тогда корреспондентом в Агентстве печати «Новости» – АПН – и должна была ежедневно привозить в редакцию репортажи и интервью с зарубежными деятелями культуры. Конгресс проходил в только что построенном Дворце съездов, туда съехались люди из разных стран, и в этом многотысячном море мне было нелегко ориентироваться.
Вскоре тебе надоело, что я каждый день ухожу из дома, и ты взял ситуацию в свои руки. Ты приехал на Конгресс и пригласил к нам домой на ужин человек тридцать своих друзей. Ты сказал:
– Мы все сделаем за один вечер, и ты освободишься.Господи, как мы все успевали, Назым? Ведь у нас не было никаких домработниц. Только лифтерша Шура стирала тебе рубашки до ослепительной белизны. Две белоснежных рубашки в день каждое утро ждали тебя, а в остальном мы крутились сами и постоянно кормили людей в таком количестве, что сейчас мне даже страшно вспомнить о нашем «ресторане».
Вот и на этот раз я сварила ведро турецкого плова, напекла русских пирогов – стол был простой, но душистый, вкусный. Наш славный стол, если бы он мог однажды заговорить! А потом, когда плов и пироги были съедены, ты сказал:
– Друзья мои, мы все ели, пили, а теперь давайте помечтаем немножко вместе.
И, поглядывая на меня – вот, мол, учись журналистике – начал блиц-интервью:
– Я только что узнал на нашем Конгрессе, что все государства мира сегодня тратят на оружие более 120 миллиардов долларов в год. Если бы каждому из вас дали эти деньги в руки, на что бы вы их потратили?
Математик из Афганистана Абдул Гаффар Какар, поляк Длусский, молодой иракский поэт Аль Баяти, Андрей Николаевич Туполев, знаменитый ливанский архитектор Антуан Табет, французский писатель Пьер Куртад, Пабло Неруда да и почти все остальные наши гости решили на эти военные деньги строить дома, больницы и университеты, финансировать жизнь экономически отсталых и голодных народов – Ну а ты, Мигуэль? – спрашивал Назым. – Это мой большой друг, а, кроме того, знаменитый писатель Гватемалы Астуриас.
– Я пошел бы к самым крупным страховым компаниям, – отвечал Мигуэль Астуриас, улыбаясь, – и застраховал бы на эти деньги мир во всем мире.
– Ну, Карло, – обернулся Назым к итальянскому художнику и писателю Карло Леви, – у тебя в кармане 120 миллиардов!
Карло неуклюже зашевелился – наше кресло ему тесно, и со своей добродушной улыбкой проговорил:
– Я очень плохой администратор, Назым, и в экономике не разбираюсь. Но даже если бы я просто разбросал эти деньги по миру, это было бы в сто раз лучше!
Наш гость из Мозамбика оказался в самом трудном положении. Он говорил только на своем языке, и все-таки мы, наперебой помогая ему понять смысл вопроса, получили от него точный ответ. Он вынул из кармана деньги и приклеил их скотчем к рисунку Пикассо «Голубка», висевшему на стене. А потом он угощал всех кофе по-мозамбикски.
Тут Карло Леви сказал, что лучше всего варят кофе, конечно, в Италии и извел несметное его количество, но даже сам не смог пить то, что приготовил. Тогда ученый американец пошел на кухню варить кофе по рецепту своей жены. Вот это был напиток! Но бразилец сказал, что все они ничего не понимают. Бразилец, чтобы никого потом не обделить самым вкусным кофе на свете, варил его в кастрюле, колдовал долго. Все время подсыпал сахар до тех пор, пока не образовался сироп. Он внес кастрюлю как драгоценность и разливал свой кофе в маленькие чашки по глотку. Но и тут Карло Леви не упустил повода, чтобы обругать «черный джем». Он вновь рванулся было варить итальянский кофе, но все смеялись и держали толстяка в кресле. Тогда он сказал:
– Ничего у вас не получится! В Москве вода не годится для кофе! Она создана только для водки! Поэтому московская водка самая лучшая в мире!
Акпер за полночь партиями развозил наших гостей. Несмотря на позднее время, расходились нехотя. Так в нашем доме было всегда…
Утром я перепечатала интервью Назыма набело и попросила его подписать. Моя редакция о таком журналисте и не мечтала.
– Ну, что ты, Вера, я же для тебя делал, чтобы у тебя было меньше работы…
Но я настояла на своем. А уезжая на конгресс, сказала, что сам он промолчал, так что теперь ему слово… Вечером, когда я вернулась домой, Назым показал мне только что написанную статью «Если бы у меня было 120 миллиардов долларов…» Через день ее многие прочитали у нас и за рубежом. Так мы жили и помогали друг другу.А помнишь, Назым, как года через полтора нашей общей жизни я в первый раз взбунтовалась?
Плакала, кричала даже:
– В этом доме невозможно жить! Проходной двор! Килограммами мелю кофе! Не знаю, сколько сядет обедать людей – пять или десять. Парю, жарю, варю! Перемываю горы посуды, и нет этому конца! И еще нужно читать, писать и хорошо выглядеть! Я больше не могу, я не выдержу, я сдаюсь…
Помню, чем были вызваны слезы. Денег не было настолько, что я потихоньку от тебя начала продавать свои вещи. И когда я продала свою голубую мохеровую кофту, твой подарок, Раисе – моей Райке, понимаешь, продала за сорок рублей, я поняла, что это конец! Я взбунтовалась. Нам ведь никто не помогал по дому. Лифтерша Шура прибегала на полтора-два часа постирать и открахмалить твои рубашки. Она очень заботилась о тебе, но у нее, работающей девушки, времени было мало.
Ты удивился, притих, сказал:
– Ты права, нормальный человек так жить не может. Извини меня, миленькая, я и сам страшно устал от этой суеты. С сегодняшнего дня, – и ты хлопнул в ладоши, – все изменится! Спальня будет твоей территорией. Даже я буду входить в нее по стуку.
И с тех пор ты, Назым, действительно, раз пять постучал в эту дверь. Но люди… Их не было недели две, а потом все пошло по-старому. 31 мая 1962 года ты написал про мою усталость, не про ту, что я сейчас вспомнила, про другую…Ты устала. Тебе со мной тяжело.
От рук моих тяжело.
От взглядов моих, от тени моей тяжело.
Словами моими тебя, как пожаром, жгло.
Колодками
тебя тяготили мои слова.
Настанет, неожиданно настанет день,
И ты ощутишь, как тяжелы мои шаги,
мои удаляющиеся от тебя шаги,
И эта тяжесть будет тяжелее всех для тебя.
Да, в счастливые дни ладились все дела. Мир радовал, и не выл ветер за окном. Было все, кроме стихов. Потом камнем падала новость или неосторожное слово, тревоги, огорчения. Вместе с морщинами на лбу, вместе с тяжестью в груди, отчаянием вдохновенные стихи слетали к тебе с небес.
Ты испытал боль, узнав, что генсек Турецкой компартии Билен с партийным именем Марат оказался ничтожным завистливым человеком.
Марат по ночам врывался к нам в спальню:
– Чем вы здесь занимаетесь! Назым, ты больной, тебе спать надо!
А ты сидишь на голубом диване и диктуешь мне перевод статьи к утру. Марат, увидев исписанные страницы на журнальном столике, замолкает на полуслове:
– Я думал, вы… – и увидев блеск в твоих глазах. – Почему ты не жалеешь Веру, Назым?
Ты произносишь по-турецки:
– Здесь моя спальня, а не бюро турецкого генсека! И мне инспектор нравов в доме не нужен!
Никогда не забуду, как в дни ХХII съезда КПСС тебя не пригласили в Кремлевский дворец.
– Там все корреспонденты, даже буржуазные, там все, а меня не позвали! Неужели я опаснее буржуазных корреспондентов?! За что? Меня забыли или не хотели позвать?
Ты просил Билена:
– Узнай у них, почему так случилось? Ты же каждый день встречаешься с товарищами.
Тот важно обещал выяснить причину. Он видел, как ты мечешься по дому, умирая от ярости, от унижения, от того, что поганая ситуация тебя так волнует. А Билен любил интригу, любил понаблюдать за процессом страдания. Он приезжал к нам из Кремля обедать каждый день в перерывах между заседаниями съезда вместе со своей Марой. Жена турецкого генсека с плебейским высокомерием называла турок не иначе как цыганами. Но она, всего лишь домохозяйка, получила пригласительный билет на съезд! Они с Биленом угощали тебя съездовскими «делегатскими» сигаретами, показывали спецсувениры, о событиях и выступлениях рассказывали так, что никогда нельзя было понять их собственного к ним отношения. Когда они уходили, я говорила:
– Билен сказал тебе, в чем дело?
– Нет.
– Ну, ты бы спросил его…
– Вера, сколько раз можно спрашивать! Спрашиваю каждый день – не отвечает.
– Как не отвечает?
– Как всегда. Смотрит мне в глаза и молчит.
Потом в январе 1962 года, получив советский паспорт, ты сам задал этот и несколько других вопросов, волновавших тебя давно, в ЦК КПСС. Оказалось, что Билен сам просил не приглашать тебя на съезд якобы из-за болезни, хотя у тебя года два и насморка-то не было. Но ему, естественно, поверили.
Сначала ты кипел, хотел публично дать ему по морде, грозился его разоблачить.
– Вот теперь я все узнал. Что мне делать? Мы же будем встречаться, вынуждены иногда вместе работать!
Потом успокоился, решил послать его к чертовой матери.
– Не хочу даже коснуться этого вопроса. Буду с ним говорить только по делу, которое нас связывает. В остальное время буду молчать. Он умер для меня.Я знаю, что приезжая в Лейпциг, в резиденцию Билена, ты именно так и вел себя с ним. А он до сих пор все удивляется, как ты изменился, замкнулся в последнее время. Да, Назым, люди упорно верят в тайну своей подлости.
Мы будем вместе, и вот однажды ты уедешь. Уедешь без меня, потому что я не могла даже представить себя в Германии. Все-таки война закончилась еще совсем недавно.
– Я сейчас поеду в Лейпциг, а то этот черт Марат собирался мне выговор давать, что я партии не помогаю. Назло мне устраивает такие вещи, что я должен как чиновник какой-то три месяца у него перед носом сидеть… Не знаю, что делать. Почему три месяца, откуда он это взял – никто не знает. И главное, у меня месяца никогда нет для спокойной работы, а тут три! Это чтобы меня постоянно держать в напряжении, потому что он знает, я человек дисциплинированный и буду мучиться оттого, что ехать не могу. Но ведь это произвол, глупо. Ах, Марат, Марат…
Так вот, в конце лета ты решил отдать ему эту партийную дань и поехать на двадцать дней в Лейпциг. А я в это время заканчивала курсы шоферов. Ты мне сказал:
– Учись водить машину хорошенько, чтобы мы сразу могли уехать в Коктебель, когда я вернусь из Германии. Я так мечтаю поехать вдвоем с тобой на машине.
Ты уехал ненадолго, но как много стихов – неотправленных писем ты привезешь мне из города Лейпцига. 27 августа 1960 года ты напишешь мне стихи, которые начали слагаться давно.Я люблю тебя, как люблю есть хлеб, обмакнувши в соль,
как проснуться от жажды рано
и пить воду прямо из крана,
как с волнением, радостью и ожиданьем раскрывать посылку, неизвестно откуда, неизвестно с чем,
как впервые лететь в самолете над просторами океана,
как в Стамбуле в сумерки ощущать в себе странную тревогу.
Я люблю тебя, как слова: «Жив еще, слава Богу!»
Каждый мой день —
пахнущая неведомым миром дынная долька —
благодаря тебе,
все деревья тянут ко мне плоды только
благодаря тебе,
сколько меда благодаря тебе собираю я с цветов надежды,
даже в одинокие вечера —
анатолийский ковер, смеющийся возле столика, —
благодаря тебе.
И то, что я, завершая путь, не дошел до города, —
мне не так горько – благодаря тебе.
Благодаря тебе – я к себе не пускаю смерть.
Назым, ничего не хочу. Просто обнять тебя. Подойти сзади, обнять, прижаться щекой к твоей спине.
За неделю до твоего приезда я получила права и решила испытать себя на дороге. Поехала на Валдай – это хоть не полторы тысячи, как до Коктебеля, а всего 400 километров, но для меня было все равно много. Что там со мной происходило и какой я водитель – рассказала тебе честно, предлагая ехать в Крым поездом.
Меня встречали в деревне так:
– А ты из правительства какая? Вон как рулем пыль подымаешь, и юбка у тебя богатая, вон сколько оборок, поди метра три вбила, не жалела… Нет, у меня нельзя. У меня сынок на чердаке от водки удавился. Вчера девять дней справили. У этой детки мал мала меньше. Одна тебе дорога вон к той избе. Она одна живет, муж ее уж сколько лет назад пьяный замерз. Телевизор у нее есть.
А бабка, приютившая меня на ночь, вспоминала, как во время войны у нее в доме останавливался «военный херувим, генералам полковник, золотой весь». Была с ним девушка «в белых перчаточках, на кушанья поставленная».
И так потрясло бабку их появление и неземная красота, что всю ночь пролежала она с перепугу под своей кроватью за дощатой щелястой перегородкой.
Но ты, вдоволь насмеявшись, сказал:
– Послезавтра рано утром выезжаем, Веруся. На такой дороге, как Москва—Симферополь, вряд ли попадутся люди с телегами.
И вот мы едем в Коктебель. Останавливаемся в разных селах и деревнях. Почему-то я запомнила там, в сельских магазинах, сделанных из сливочного масла огромных зайцев. Были они толстые, желтые, немного оплывшие… А глаза у них – кусочки свеклы… Помню, как ты все удивлялся этой странной фантазии.Назым, прости меня! Прости! Ради Бога. Как хочется взять свои слова назад теперь, когда это уже невозможно. Как казню себя, а на сердце легче не становится. Помнишь, перед самой весной 1963 года Борис Слуцкий перевел твою последнюю поэму «Репортаж из Танганьики в десяти письмах», и ее читали в разных редакциях. К тому времени было известно, что «Репортаж» будет печатать журнал «Молодая гвардия». Ты был доволен этой работой. Тебе казалось, что здесь ты удачно развиваешь принципы соединения лирики и публицистики, найденные в «Соломе волос». Ты радовался, что поэму скоро опубликуют, тебе всегда хотелось, чтобы стихи, написанные вечером, наутро с газетой приносил почтальон.
Акпер пришел к нам из какой-то редакции, где поэму уже прочли. Как только ты вышел из гостиной, Акпер мне с тревогой сказал:
– В редакции смеются, говорят, Назым Хикмет совсем с ума сошел от любви. Сначала посвящал стихи своей жене, потом стал везде упоминать ее имя, теперь вот фамилию называет… Спрашивают, что же будет дальше?
Я чувствую, что мое лицо начинает гореть. Мне неприятно. Акпер видит это, хочет помочь:
– Да нет, Верочка, не обращайте внимания, ерунда все это. Такие люди всегда найдутся, но все-таки, может, стоит вам с Назымом поговорить… Что-то в этом есть непривычное, конечно… Что-то чересчур, понимаете… Вернее, не принято у нас так писать. Даже Пушкин называл свою жену в стихах всегда лишь «моя мадонна», а не Наташа. Нет, Назым, конечно, может писать, как хочет, но все-таки, черт знает! Может и не стоит, если стихи вызывают такую иронию…
Я беру рукопись поэмы, забиваюсь в угол. Хочу найти то, что вызвало насмешку. Я глотаю строчки, думаю: «Господи, зачем он распахивает душу перед всеми! Как же я ничего не заметила, может быть, действительно, есть что-то… неприличное, двусмысленное…»
Читаю «Первое письмо».Над снегами украинской равнины лечу.
За последние годы – это первый полет без тебя.
Все правильно, так и есть, первый полет без меня.
Я искал твою руку, когда мы взлетали: так я привык и когда пойдем на посадку – буду искать.
Да, так всегда и было. Ты говорил: «Как я хотел бы разбиться вместе с тобой. Видишь, какой я эгоист». И тут же прибавлял: «Шучу, конечно». Но я знаю, что ты об этом думал иногда, и не шутя вовсе. Сам признавался. А когда приземлялись, ты всегда мне говорил: «Слава Богу, мы дома, на земле. Здравствуй, Веруся». И я отвечала: «Здравствуй, Назым!»
Помню: вечером ты укладывала мой чемодан.
Как печальны были плечи твои!
Может – не были, может, мне показались
печальными,
потому что я этого очень хотел.
Нынче утром я проснулся от сиянья снегов.
Москва спала. Ты спала.
Солома волос, ресниц синева В алой припухлости губ – печаль,
Может, не было этого, может – мне показалось:
печаль, потому что я этого очень хотел.
В соседнюю комнату я тихонько прошел,
Твоя фотография – на моем столе,
Запрокинувши голову, смотрит летнему солнцу
в глаза.
Я уезжаю, а ей дела нет.
Я пропускаю строчки, я ищу что-то этакое, «клубничку», ищу, над чем можно позлословить. Читаю:
Ты вошла.
Растерянно, тоскливо глядишь на меня,
Может – и не тоскливо, просто со сна.
Не ходи меня провожать, я сказал.
Мне так хотелось, чтобы ты пошла провожать!..
Своими руками ты закрыла мой чемодан.
Я открыл дверь, на лестницу вышел я.
На пороге, в рамке дверей, ты стояла картиной
весны:
вода, листья, полуденный свет,
Сплошное сияние. Тени – нет.
До самого Внукова мы с Акпером говорили о тебе.
Вернее, он слушал, а я говорил.
По касательной смотрю строчки. Как летишь – пропускаю, какие земли пролетаешь – сейчас неважно. Ведь не над этим смеялись в редакции. Разве можно смеяться над жизнью бедняков, твоих турецких крестьян.
Плов из пшеницы, масла нет.
В дыму кизяка не видать ни зги.
Дети умирают, завшиветь еще не успев,
А я на высоте восемь тысяч метров над облаками
лечу.
Вот так, Тулякова.
– И что ты держишься за свою фамилию? Была бы хоть красивая фамилия, а то какая-то Тю-ля-кова! Если тебе так нравится твоя фамилия и противна моя, – я пойду в ЗАГС и попрошу дать мне твою. Пожалуйста, буду Назым Туляков! – в шутку угрожал ты, получив советский паспорт, наконец со своим именем.
И мы смеялись с друзьями, а ты позвонил в ЗАГС и спросил, может ли по советским законам муж взять фамилию жены, и тебе ответили – «да, может». Какое-то время мы в шутку называли тебя «Назым Туляков», а ты мне говорил:
– Будешь упрямиться, я так и сделаю! Хватит, показала свою независимость, я даже уважал тебя за это. Теперь сделай, как я прошу. Возьми мою фамилию.Я сделаю, Назым. Подожди чуть-чуть. Обещаю.
Сегодня у тебя было бы хорошее настроение. Вышла твоя книжка «Московское лето», последние стихи для нее ты так тщательно отбирал. А знаешь, каким тиражом? Такого у тебя еще не было – сто двенадцать тысяч восемьсот экземпляров. Вместо тебя ее принес мне Акпер. Он даже надпись сделал вместо тебя: «Вере от Назыма Тулякова. Акпер Бабаев. 28.Х.63». Значит и он, горемыка, разговаривает с тобой, хочет тебя обрадовать, крутит головой по строкам, все ищет – где ты, во что превратился…
Спасибо, Назым, за стихи, только звучат они провидчески сегодня, не как при тебе. Для нас с Акпером, конечно. А ведь может случиться, что еще кто-то из ста двенадцати тысяч восьмисот человек, купивших твой последний привет, прочтет эти стихи так, как ты хотел…– Ты что здесь читаешь, Веруся, так таинственно? – спрашиваешь ты, войдя в комнату.
Я показываю. Ты листаешь страницы поэмы.
– Читаешь мои письма к тебе?! Как я рад, но почему тебе взбрело в голову их вдруг читать? – И, взглянув на мое лицо, пугаешься. – Что-нибудь случилось?
– Не пиши про меня больше стихов, – тихо прошу я. – Пожалуйста. Умоляю!
– Что это значит? – сердишься ты. Я объясняю.
– Нет! – кричишь ты мне прямо в лицо. – Ты не имеешь права просить меня об этом! Ты не палач! Ты знаешь, я для тебя могу сделать все, но не это! Это моя душа говорит, понимаешь! Что мне делать, если стихи идут из меня? Лопнуть?! Сколько времени ты можешь набрать воздух и не дышать? – И сообразив, что тут замешан Акпер, к нему: – И вы, Бабаев, тоже хороший друг! Слушаете сволочей, да еще приходите ей рассказываете! Нормальный человек, ни хороший, ни плохой, просто нормальный, никогда стихи так читать не будет. Только дрянь, которая развлекается литературой. Эти мухи окололитературные! «Назым Хикмет сошел с ума?» Да, сошел! И я горжусь этим! Я желаю, чтобы каждый человек так сошел с ума, как я!
Ты стоишь среди нас огромный, непримиримый, гневный. Выпрямился, руки сунул в карманы, красивый – глаз не оторвешь! И я начинаю тупо отступать:
– Пиши. Ладно, пиши (это я ему говорю, ему «ладно» и «пиши»!). Только не печатай. В конце концов, ведь это не самое главное.
– Во-первых, я не хочу этого! Не печатать. Я никогда не скрывал ни от кого, что′ я думаю, чем живу. Даже от турецкого правительства. Теперь вы хотите, чтобы я скрывал от всех, как я люблю свою жену. Не чужую, а свою жену! Вы подумайте! Да неужели ты не понимаешь, Вера, что мы с тобой можем так гордо, так честно жить потому только, что любовь есть между нами. Иначе это действительно смешно. Пошлый анекдот. Плохая шутка конферансье. Мы с тобой сами слышали на концерте: «Почему вы выходите замуж за академика? – Хочу быть его вдовой». Очень остроумно!
Ты вырываешь у меня из рук поэму, говоришь:
– Пожалуйста, покажи мне, что здесь неприличного? Я верю Слуцкому. Он бы сказал, если бы при переводе заметил что-то. Ну, покажите, покажите мне, где я тут опозорил Веру или себя? Или как это у вас называется словом… – ты после нескольких попыток произносишь: – Ском-про-ме-ти-ровал!
Назым, Назым, я погибаю без тебя! Отзовись! Дай знак, я пойму… Я догадаюсь. В ручку нашей машины кто-то каждое утро вставляет простенькие цветы. Знаю. Они не от тебя.Ты бросил поэму, пошел на кухню. Слышу, как ты гремишь чайником, наливаешь воду. За что я обидела тебя, за что? Я иду за тобой, я толкаюсь рядом с тобой на кухне, накрываю стол к чаю. Я виновата, но мне не хочется просить прощения. Ты ведь не можешь на меня сердиться, ты мне все спускаешь с рук, я это так хорошо знаю. Вот и сейчас… Я ставлю на стол розетки и вишневое варенье. Ты любишь вишневое варенье. Ты незаметно наблюдаешь за мной. Вижу. Я кладу тебе на розетку большую серебряную ложку, ты улыбаешься, понимаешь, что хочу подсластить свои глупые слова, хочу тебе хорошего настроения, хочу равновесия.
Ты подходишь ко мне, берешь в ладони мое лицо.
– Потом, когда меня не станет, ты будешь так рада каждому слову моей любви, будешь повсюду ее искать. Слова любви помогут тебе выстоять в самое трудное время. Пойми это, Вера. Дай мне высказать то, что живет во мне. Не запрещай, не слушай никого. Нам это необходимо. Мне – сейчас, тебе – потом.Прости меня, Назым. Если бы ты знал, если бы ты только мог знать, как ты был прав тогда, хороший мой. Вот так, муженек, твоя Тулякова…
Весь следующий день ты работал у себя в кабинете, дописывал статью для «Литературной газеты». Поставив точку, взял меня за руку, подвел к креслу:
– Посиди немножко. Я хочу тебе прочесть.
Я не удивилась. Ты всегда читал мне все, что писал. Я приготовилась слушать статью и вдруг:Ты знаешь карту, по которой
путешествовали мы с тобой.
Наш корабль – трехмачтовый. Луковицеобразный
нос.
На носу – золотая статуя девушки, похожей на тебя.
На вымпеле – стихи, написанные мной для тебя.
Изумрудоглазых ловили мы рыб.
Серебрянокрылых видели птиц.
Обезьяны бананами забросали с берега нас.
Мы неслись на всех парусах по темным морям.
Мы запутывались в меридианной сети
и выпутывались из нее.
Наконец мы прибыли в Дар-эс-Салам.
– Не сердись, я решил прибавить эти строчки в четвертое письмо. По-моему, так оно лучше читается.
18 ноября 1961 года в Музее Маяковского состоялся твой вечер. Один старенький человек сохранил его магнитофонную запись. Сегодня я снова побывала там, Назым.
Помнишь, мы подъехали к дому Маяковского. На улице стояла толпа перед закрытой дверью. Зал не вмещал всех желающих. Люди бросились к тебе:
– Проведите, товарищ Хикмет! Пожалуйста, попросите, чтобы нас впустили. Мы согласны стоять, слушать вас в коридоре…
Но встречающая нас женщина в ответ на твою просьбу покачала головой и сказала:
– В коридоре яблоку негде упасть… Ничего нельзя сделать, люди стоят от самой вешалки. Мы впустили гораздо больше, чем могли. Вы увидите.
Ты был счастлив.
Все оказалось действительно так, как она сказала. Мы с трудом протиснулись в зал. И мне так легко сделалось оттого, что увидела тебя, стоявшего перед людьми веселым, сильным, со счастливыми глазами.
– Товарищи! Я очень хорошо помню, как я впервые в девятнадцать лет выступал в Политехническом музее с Маяковским. Мне было страшно читать свои турецкие стихи, я очень колебался. Маяковский меня толкнул и сказал: «Иди, турок, не бойся! Все равно тебя ни черта не поймут, но будут аплодировать!» Меня не поняли, конечно, но аплодировали. Это были мои первые аплодисменты здесь. Я учился в Москве. Самые прекрасные годы юности я провел в Москве. Я первый раз влюбился в Москве. Первый раз напился по-настоящему тоже в Москве. Я в Москве познакомился с учением Маркса и Ленина. Потом я первый раз оперу видел в Москве. И многие, многие вещи я узнал впервые здесь. Я познакомился в Москве с Маяковским, с первым переводчиком моих стихов Эдуардом Багрицким. Поэтому я себя считаю очень старым москвичом. Мне скоро будет шестьдесят. Я постараюсь писать стихи, пьесу и один роман. Наверное, стихи получатся, пьеса хуже, а роман совсем не получается. В зале рассмеялись.– Сейчас я хочу попросить моих товарищей поэтов-переводчиков, чтобы они читали то, что я сделал в последнее время. Как бы мой отчет перед вами. Но раньше я вам прочту по-турецки «Каспийское море». Согласны? Когда мне приходится выступать, я читаю эти стихи, во-первых, потому что ничего, кроме них, не знаю наизусть, а потом их легче фонетически понимать. Сейчас я так не пишу. Я так писал, когда мне было двадцать лет.
Люди слушали тебя, затаив дыхание, а потом долго и горячо аплодировали. Потом Муза Павлова почти час читала отрывок из «Человеческой панорамы». В зале тишина.
Даже сейчас, когда я сижу в кресле, уткнув лицо в колени, я не слышу ни скрипа стульев, ни кашля.
Ты вроде бы перед слушателями, а сам и вовсе не здесь. Ты там, на тропе с Нигяр, рядом с ее малюткой. И если бы сейчас толкнуть тебя в плечо и спросить, что случится с Нигяр, – ты бы удивился, не ответил бы, стал бы слушать поэму, чтобы самому все узнать…
…Музу Павлову проводили слушатели аплодисментами. После нее свои переводы читал Давид Самойлов.
– Это стихи шестидесятого года. Лейпцигский цикл. Лирический.
Я люблю тебя, как люблю есть хлеб, обмакнувши в соль… – начал Самойлов, и мне захотелось стать маленькой, невидимой точкой, чтобы никто меня не заметил, не догадался, что это стихи Назыма ко мне… Я впервые тогда слышала, как про нашу любовь рассказывают в микрофон сотням незнакомых людей. Меня охватил ужас. Я сидела, низко опустив голову. Мои щеки горели огнем. Когда Давид Самойлов очень тихо и серьезно прочитал последние строки:
И то, что я, завершая путь, не дошел до города, —
мне не так горько – благодаря тебе.
Благодаря тебе – я к себе не пускаю смерть, —
я подняла голову и взглянула на тебя. Ты смотрел на меня так напряженно, что твоя голова вздрагивала. И я вдруг испугалась, что ты сейчас скажешь: «Товарищ Самойлов, читайте, пожалуйста, еще раз эти стихи». Но ты промолчал, и Самойлов читал дальше… Читал одно за другим все стихи Лейпцигского цикла.
На шоссе, продутом ветром и теряющемся вдали,
час свиданья, час нашей встречи приближается босиком,
час свиданья простоволосый – чуб упал на его лицо,
как он движется неспешно – право, можно сойти с ума!
Час свиданья, час нашей встречи приближается босой,
и прикручены мои руки к телеграфному столбу,
а усталое мое сердце остановится вот-вот,
а на лоб мой падают капли – как на камень —
одна за другой.
Час свиданья, час нашей встречи приближается босой,
я все думаю неотступно, я все думаю о тебе,
и чем больше, чем неотступней, тем он медленнее бредет
если долго так продлится, не дождусь —
и упаду.
Голос Самойлова умолк. На смену ему зал как-то едино выдохнул и всплеснул сотнями рук. Ты смотрел на разбушевавшихся людей и, немного смущаясь, улыбался. Ты был счастлив, что стихи легли людям на душу. – Слуцкого, который перевел вот эти стихи, – сказал Константин Симонов, подвинув поближе к себе странички, – сейчас нет в Москве. Поэтому позвольте мне прочесть в меру сил это стихотворение…
АВТОБИОГРАФИЯ
Написана 11 сентября 1961 года в Берлине:
Родился в 1902
не возвращался туда где родился
возвращаться не люблю
Трех лет от роду в Алеппо состоял внуком паши
девятнадцати лет в Москве студентом
Коммуниверситета
сорока девяти лет снова в Москве гостем ЦК партии с четырнадцати лет в поэзии состою поэтом.
«Автобиография» была встречена овацией. Когда аплодисменты стихли, снова заговорил ты.
– Товарищи, я знаю, что страна, в которой люди могут слушать стихи подряд четыре часа – это только Советский Союз. Я это знаю. Я сам как поэт не могу слушать стихи, даже прекрасные, больше получаса. Но вы это умеете делать. Несмотря на это, я думаю, что хватит стихов. Сейчас давайте поговорим.
– Можно еще стихи?!
– Что?!
Но из зала настойчиво просят читать стихи.
– Не знаю, есть ли у вас что-нибудь? – обернулся Назым к поэтам-переводчикам.
– По-турецки читайте! По-турецки! – кричат из зала.
– Вот у товарища Самойлова есть очень ранние стихи.
– Спасибо! Спасибо! – аплодирует зал.
– Я прочту вам «Великан с голубыми глазами».
ВЕЛИКАН С ГОЛУБЫМИ ГЛАЗАМИ
Был великан с голубыми глазами,
он любил женщину маленького роста.
А ей все время в мечтах являлся
маленький дом,
где растет под окном
цветущая жимолость.
Великан любил, как любят великаны,
он к большой работе
тянулся руками
и построить не мог
ей теремок —
маленький дом,
где растет под окном
цветущая жимолость.
Был великан с голубыми глазами,
он любил женщину маленького роста.
А она устала идти с ним рядом
дорогой великанов,
ей захотелось
отдохнуть в уютном домике с садом.
– Прощай! – сказала она голубым глазам.
И ее увел состоятельный карлик
в маленький дом,
где растет под окном
цветущая жимолость.
И великан понимает теперь,
что любовь великана
не упрятать в маленький дом,
где растет под окном
цветущая жимолость.
Я их слушаю и думаю: честное слово, стоило тебе встретить Нюсхет, чтобы написать это стихотворение!
– Теперь такая записка, – говоришь ты и читаешь: «Товарищ Назым, мы Вас очень любим, поэтому пришли послушать Ваши великолепные стихи («Ваши» подчеркнуто!), и узнать, что Вы думаете о театре и вообще о состоянии искусства на сегодня».
В зале рассмеялись.
– Товарищи, это целый доклад! Я думаю, после XX съезда открылись окна для культурной жизни нашей страны – это факт! Для всего прогрессивного человечества – факт! Но и сегодня на окнах появляются разные решетки – это нормально? Все равно новое будет побеждать, я в этом уверен. Что касается театра – тоже. Я жил в золотую эпоху советского театра, когда в 1921 году впервые приехал в Москву. Когда я вернулся в Москву в 1951-м, я обнаружил, что во всех театрах как будто играют по системе Станиславского, но что-то из нее ушло вместе со Станиславским и Немировичем. Получается, что систему Станиславского равнодушные режиссеры или не очень талантливые вынимают из сундука, как пронафталиненную чалму. Вот у меня в руках записка. Нет, я хочу видеть человека, который задает мне вопрос, а то ведь это бумага! Вы спрашиваете о живописи. Мне кажется, что живопись самый международный вид искусства. Поэту нужен переводчик. А перевод может быть хороший или плохой. А живописи перевод не нужен. Но у нас многие молодые и очень талантливые художники не имеют возможности выставляться. Для них закрыты не только музеи мира, но даже возможность видеть книги по современному искусству Запада! Некоторые голодают! Страшно, товарищи. Я очень люблю Целкова, Оскара Рабина, Краснопевцева, Зверева, Сидура, Силиса, Лемпорта. Многих. Бюрократы думают, что талант – это пустяк, что он появляется часто, что с ним можно не церемониться. Но это преступление невежд! Таланту нужно помогать с любовью, с надеждой. Иначе он пропадет. Обижаться на чиновников, на власти не стоит. У нас в Черном море есть одна сильная рыба, и ее очень трудно поймать. Но она очень обидчивая. У нее есть большой-большой нос. Люди ударяют по этому носу. Рыба обижается и легко попадается в сети. У меня тоже, слава Богу, большой нос. И сколько меня по нему ни били, я продолжаю писать. Вот, например, я написал пьесу «А был ли Иван Иванович?». Ее очень быстро сняли со сцены. И сколько я своих друзей в Москве ни спрашиваю, почему ее сняли, никто не может ответить. Можно было бы обидеться и больше не писать пьес, а я пишу. Написал после нее очень серьезную пьесу – «Быть или не быть?», думая о судьбе моего друга Александра Фадеева. Ее не поставили. Потом написал «Дамоклов меч» – он идет в «Сатире», во многих театрах здесь и в других странах. С моей женой Верой Туляковой написали пьесу «Два упрямца» – повезло. Поставили. Написал «Тартюф-59» – не разрешили. Потом «Корову» – снова запрет. Так что, когда мои переводчики спрашивают: «Что будем переводить?», я им отвечаю: «Если вам не надоело переводить пьесы, которые не идут, то пожалуйста!» Но не писать невозможно, если ты действительно писатель и работаешь не для чиновников. Жена Булгакова принесла мне прочитать его роман «Мастер и Маргарита», много других рукописей. Сейчас его тоже не пускают – но я уверен, что ваши дети обязательно будут читать его замечательные книги, а внуки будут изучать в школе, как Пушкина или Достоевского!
Зал аплодирует, как будто идет открытое голосование за жизнь булгаковского наследия.
– Вот так, товарищи.
И Назым рассмеялся.Я поднимаю голову с коленей – затекли ноги. Смотрю на магнитофон, ничего не понимаю: пленка давно кончилась, а может быть, недавно… Я даже не заметила, когда в комнате перестал звучать твой голос. Я просто была на вечере, который, оказывается, записали не до конца. Если бы не заболели ноги, я бы дослушала и досмотрела все, что там было, еще бы раз прошлась с тобой по пустому дому Маяковского, когда все разойдутся… Еще бы раз…
Мы месяцами не расставались с тобой, Назым, совсем, ни на час, но как много было разлуки. Разлука – твоя ревность.
Твоя жизнь была плотно насыщена работой, людьми, событиями, прошлым, будущим, настоящим всего мира. Я несколько лет неслась в урагане твоей судьбы. Мне кажется, что я прожила с тобой, Назым, жизнь очень длинную и сегодня сижу перед тобой старая-престарая, как ворона или слон. Кажется, что живу на свете лет триста. Ты прошел через меня всей своей невероятной судьбой. Иногда мне кажется, что это я сидела семнадцать лет в тюрьме, это я любила твоих женщин, это я умерла. А ты? Ничего не боялся, боялся, что умрешь, а я останусь одна. Как мог старался меня подготовить к неотвратимому и мучительно пытался предусмотреть все рифы на пути моего одиночества. Хотел остаться моим мужем и после смерти: кормить, одевать, обеспечивать сносную жизнь.
– Я умру, а ты останешься, от этого я схожу с ума. Как ты будешь жить, давай подумаем, Веруся. Давай все решим сейчас. Пойми, я хочу помочь тебе. Не отпускай меня так. Давай подумаем.
Я бегу от этих просьб, я отъединяюсь от тебя, я не хочу, не умею, я боюсь об этом думать. Я не буду копить деньги на «то» будущее. Не смогу. «Неужели он не понимает, – думаю я, – что, начни я складывать деньги про запас, и – конец всему. Я уже ушла от него, меня больше нет… Да и его тоже нет. Не понимает, он ищет способ продолжения. Своего продолжения в моей жизни. Я чувствую, что он рисует картины моего одиночества. Ему меня нестерпимо жалко, и оттого он так страдает, кричит по ночам…»
– Неужели ты забудешь меня, как твоя мама забыла твоего отца? В ее комнате нет даже маленькой фотографии твоего отца. Ни разу она не вспомнила его имя при мне. А я знаю, что он ее безумно любил. Я это сразу понял по его письмам с фронта. Разве русские женщины так быстро забывают?
– Я не забуду, Назым. Не думай об этом.
– Я буду ревновать тебя оттуда лет до пятидесяти. Нет, до пятидесяти пяти. Я вижу тебя до этого времени. Потом, не знаю, что будет.
Я не мог бы прикоснуться к женщине, если бы она мне изменила. И в этом случае я всегда поверил бы слуху, сплетне, а не оправданиям предательницы. Это первое. Второе – я никогда в жизни не мог написать стихов случайной женщине, случайному человеку. Многие женщины с которыми меня сводила жизнь, вымаливали хоть строчку. Я не мог! Ни разу, никогда.
Они существовали параллельно моей жизни, а не внутри ее. Понимаешь? То есть, когда они говорили: «Богатый человек, купи мне шубу или кольцо», я, безусловно, покупал, если деньги были. Но стихи – нет. Поэты не лгут.«Как ты могла это сделать?» Сколько лет ты задавал мне этот вопрос. Сколько лет… И вот сегодня утром я услышала его снова. Я опять включила магнитофон. Поползли старые пленки, забытые давно. Помнишь, мы купили магнитофон, и первое время развлекались этой игрушкой, записывали свои дни с утра до ночи.
Ты сказал:
– Я запишу для тебя на пленку все мои стихи. Пусть голос всей моей жизни останется с тобой. Когда тебе будет скучно, будешь слушать своего Назымчика. Сначала будет трудновато, потом привыкнешь. Даже под мой голос будешь думать о совсем незнакомых мне вещах или людях, может быть, о мужчинах…
Но потом, вдруг, что-то тебе вспомнится от меня. Хочу только это. Больше ничего. Тогда мой голос скажет тебе: «Спасибо, Веруся моя, миленькая моя, гюлюм моя, биртаним моя, севгилим…»
Потом дай этот голос в Турцию тоже. Наше примирение состоится после моей смерти. Я должен умереть, чтобы вернуться на родину. Как жаль, что не могу взять тебя и один раз, один раз повезти туда. Я показал бы тебе мой Стамбул. Честное слово, это один из самых прекрасных городов земного шара. Ах, как я угостил бы тебя моим Стамбулом. Если бы мы летели туда на самолете, я попросил бы летчиков лететь низко-низко и медленно-медленно, чтобы ничего не пропустить в нашем приближении. Если бы мы подплывали к нему на пароходе, я умолял бы капитана развить бешеную скорость, чтобы не умереть от счастья, не доплыв до берега. Если бы быть в Стамбуле… Я показал бы тебе Старый город, показал бы на заре тот город, который я столько лет вижу в своих снах. Потом мы вместе поехали бы смотреть его новую часть. Помнишь, в Милане, я встретил архитектора турка, совсем рыжего парня? Помнишь, он рисовал нам за обедом планировку новых районов Стамбула?
Потом, ай-я-яй, я повел бы тебя к друзьям. К Балабану бы повел. Ты его через меня уже знаешь. Вот он художник! И я не ушел бы от него без картины. Когда мы познакомились с ним в тюрьме, я сразу кончиком своего большого носа угадал, какой он талант! И не ошибся. Обнял бы Орхана Кемаля, говорил бы с ним до утра. Пошли бы сидеть к Яшару, пили бы у них с Тильдой крепкий чай. Он очень крупный прозаик, его талант гневный, нежный, по-настоящему народный. Я рад, что здесь люди нарасхват читают его «Тощего Мемеда», да и «Орта дирек» не хуже. Замечательный роман. Так что у Галлимара истинный вкус. Он каждого писателя видит на два метра под землей еще смолоду. Яшар бы рассказывал, я бы слушал. Ты знаешь, как он мне помог. Ведь это была храбрость – приехать ко мне в Париж, говорить открыто, не таясь, везде и всюду, с раннего утра до поздней ночи гулять по городу со мной все те дни. Когда он начал читать на память мои стихи, я чуть с ума не сошел от счастья. Ведь временами, ты знаешь, мне кажется, что в Турции забыли мои стихи. Через него я снова поверил в Турцию, поверил своему народу, своему будущему.
Мы обедали бы непременно у моей Самийе, мы ведь с сестрой похожи. Если, конечно, ее муж не увез в другую страну. Он у нее дипломат. А потом разыскали бы Рефика, наняли бы лодку и поехали бы кататься с ним вдоль берега. Тем, что я жив – я обязан ему и еще одному нашему другу. Ты-то знаешь. Если пойдешь на родину без меня, скажи им об этом. Скажи, что его имя я нес на сердце и в стихах «Автобиография» послал ему привет… Я ничего не мог для него сделать, а хотел и то, и это…
Мы позвонили бы Мемеду Фуату, – говорил Назым. – Может быть, в дни молодости и потом я был ему плохим отцом, но он оказался настоящим человеком. Его мать Пирайе – замечательная женщина. Ты знаешь, его письма я перечитывал сотни раз. Повидались бы с Мемедом али Айбаром. Пошли бы к молодым поэтам посмотреть, кто из нас моложе. Прошли бы мимо тюрьмы Чанкыры. Входить бы в нее не стали, но с одним директором тюрьмы – Тахсинбеем, хорошим человеком, я бы встретился с благодарностью. Интересно, счастливо ли сложилась жизнь у его любимой дочки Шехназ? Я бы хотел зайти к бывшему прокурору Иззет Окчалу, ведь у него остались мои рисунки, стихи… Что с ними? Выбросил или еще хранит? Постояли бы на мосту Халич, потом я показал бы тебе Айя-Софию.
Вот где ты ахнешь! Будешь стоять, задрав голову, пока не закружится от счастья все это видеть твоя голова. Потом мы не спеша пройдем по Бейоглу, увидишь наш центр. Я покажу тебе Топканы, бульвар Ататюрка, а самое главное, ты увидишь людей. Увидишь, какой мой народ нежный, красивый! Увидишь это горячее море людей, из которого я вышел…
Вечером мы пошли бы с тобой на набережную. Сидели бы долго с друзьями в каком-нибудь маленьком ресторанчике. Я заказал бы фаршированные мидии, я сам бы пошел на кухню готовить для тебя красную рыбу. Ты знаешь, как я умею готовить рыбу! И сколькими способами! Когда-нибудь, когда я напишу все свои стихи и не останется больше ни строчки, когда все мои пьесы будут закончены, я сяду и создам шедевр – свою кулинарную книгу. Вот она-то и принесет мне настоящую славу и богатство. (Тут ты рассмеялся.) Так хочется вкусно накормить людей. И, мне кажется, не потому, что я турок, а потому, что видел мир и могу сравнивать, турки готовят еду немножко лучше других.
Веруся, когда меня не будет, иди хоть один раз в Турцию. Хоть тайком. Сделай это ради меня. Пожалуйста! Честное слово, тебе понравится. Верь мне. Иди в мой край. Я там встречу тебя, радость моя, жена моя, единственная моя, потому что я буду там.Бом, бом-м, бом-м…. Наши часы пробили двенадцать раз, и на улице перед окном твоего кабинета, как обычно, погасили фонарь. А наш дом, словно на допросе, заливает электрический свет. Это я включила его повсюду, ввернув самые большие лампы. Он будет гореть до утра, как вчера, позавчера и так далее. И так далее, далее… Только не думай, что я боюсь наткнуться на твой взгляд в темном углу. Приходи, Назым. Я призываю. Я никому не скажу, что ты был здесь, протягивал мне руку и просил: «Сядь, миленькая моя, поближе, давай поговорим немножко…».
– Послушай, Вера…
Узнаешь, Назым? Это я опять включила магнитофон. Твой голос еле слышно со мной разговаривает.
– Послушай, Вера, почему ты сегодня грустная? Вообще часто бываешь грустная. Вот и бакинка наша слепила твою голову из гипса, очень плохую, конечно, но в ней передано единственно верное в тебе – грусть. Все думают, ты веселая… Ты много шутишь, на смех людей вызываешь, всегда улыбаться стараешься. Это тебе идет, конечно. Но когда никто не видит, грусть выходит наружу и уводит тебя. Она тебе что-то тихо говорит, и ты ее слушаешь немножко устало, немножко покорно и всегда с доверием. О чем она говорит тебе? Конечно, у нас достаточно причин, но твоя грусть связана с чем-то другим, по-моему, и не зависит от наших с тобой отношений, от быта… Скажи, посмотрим!
– Для чего меня родили, Назым?
– Ого, что она хочет понять!
– Ведь каждый человек для чего-то появляется на свет. Для чего я?
– Ты – для счастья!
– Ты шутишь, а если серьезно? Когда мы были врозь, счастье было в том, чтобы быть вместе. Теперь мы вместе, и наше счастье опять впереди, оно уже в чем-то другом. Мы опять его догоняем. Ты понимаешь?
– Да, да! Потому что счастье – это жизнь, миленькая.
– Жизнь? Но я же с этого начала. Это не ответ. А в чем моя цель или твоя? У нас есть с тобой цель?
– Конечно!
– Но в чем? Допустим, ты хочешь написать еще десять или сто стихов или роман… Но разве это можно назвать целью жизни? А другой хочет быть министром. Это тоже цель… А мы говорим: цель его или моей жизни. А предназначение? В чем оно?
– Ну, ты задаешь высшие вопросы, Вера. Этими вопросами человечество мучается уже несколько тысяч лет… Человек верующий сошлется на Бога, другой скажет, что все определяют экономические условия общества. Но в чем его предназначение – сам человек не знает. Надо помогать людям жить. Вообще помогать – это уже кое-что – и разными способами. Скрипач думает, что он родился, чтобы играть на скрипке. Но, может быть, однажды какая-то женщина будет перебегать дорогу и не увидит, что рядом автомобиль. И тогда этот скрипач крикнет ей: «Эй!», и она остановится вовремя. Она родит человека, этот человек родит потом другого человека, тот человек тоже родит человека, и вот он-то, может быть, и окажется очень нужным людям. Так что трудно сказать о предназначении. Все идет из прошлого, через нас в завтра, Веруся моя…Магнитофонная пленка крутится с тихим шипением. Слышно, как ты шаришь рукой по столику, нащупывая через развернутые газеты зажигалку. Чиркнув несколько раз, прикуриваешь, устраиваешься поудобнее… И тут раздается грохот, что-то падает на пол. Мы смеемся…
И я говорю уже шутливо:
– Если мое предназначение во встрече с тобой, то правы египетские фараоны, забиравшие в пирамиды своих жен…
– Что ты, что ты, Вера, ты еще очень молодая! У тебя впереди целая жизнь…Я встала на стул и остановила часы вместо того, чтобы остановить время.
Помнишь, Борис Леонидович Пастернак объяснял тебе тайну цветаевской поэзии, говорил, что она могла каждую минуту начать жизнь сначала. Ты удивлялся, а он как бы вскользь: «А вы-то сами разве не так?» Как часто ты возвращался мысленно к Пастернаку, специально искал собеседников, чтобы о нем повспоминать.
В Париже мы гуляли с Рубеном Николаевичем Симоновым по Елисейским Полям ночью, говорили о неожиданном провале его нашумевшего в Москве спектакля «Иркутская история» («зачем вы нам привезли жалкий вариант «Дамы с камелиями?» – кусались французские рецензенты), а потом говорили о Борисе Леонидовиче.
Рубен Симонов рассказал, как однажды он провел отпуск с сыном Женей в санатории «Узкое», где лечился и Пастернак. Когда Симоновы уезжали и за ними пришла машина, Рубен Николаевич предложил Пастернаку ехать вместе в Москву. Тот собрал все вещи и вынес их на крыльцо. А перед самым отъездом неожиданно вышел из машины: «Вернусь, погляжу, не забыл ли чего…» – «Не ходите, Борис Леонидович, я заглядывал, – остановил его Женя. – Комната пустая». – «Нет, я пойду», – и ушел.
Пастернака не было полчаса. Рубен Симонов попросил сына сбегать и поторопить его. Когда тот поднялся к Пастернаку в номер, то увидел его, одиноко сидевшего на стуле посреди пустой комнаты. Пастернак сидел с отрешенным лицом, глубоко погруженный в свои мысли. Заметив удивление юноши, с чувством сказал: «Ведь я прожил здесь месяц!»
– Как я его понимаю! – воскликнул ты. – Он серьезно относился к своей жизни. В этой комнате он многое передумал, многое вспомнил, и было невозможно закрыть дверь и уйти, не оглянувшись…
– За две недели до трагической истории с «Доктором Живаго», – ответил Рубен Николаевич, – он написал мне на подаренной книжке «Желаю тебе прожить так же тихо и спокойно, как прожил я…»
– А мне он сказал, – вдруг вспомнил ты, – когда мы встретились в Переделкино: «Я только что закончил большую работу, написал роман, который всем понравится…»
Помнишь, как ты потребовал однажды: «Вера, никогда больше не выходи замуж за писателя! Обещай мне!» – «Почему?» – удивилась я. «Я не видел здесь ни одной счастливой жены писателя, хотя некоторых мужья любили. Русская душа, соединенная с талантом, так же неподъемна, как мешок золота».
Да, был у нас с тобой короткий период – одно лето, когда мы по средам ездили днем обедать в странное сооружение академика архитектуры Жолтовского – ресторан «Бега». И вовсе не потому, что он был неподалеку от нашего дома, а из-за Николая Робертовича Эрдмана.
Как-то летом мы с тобой сбежали из дома – замучились от людей, от кормежки, решили тихо поесть где-нибудь вдвоем. Приехали на бега, где прежде не бывали, и не поверили глазам: в ресторане – ни души, официанты скучают.
Нам все мигом принесли. Ты был потрясен – пустой ресторан в Москве – ситуация почти фантастическая. И вдруг в мгновение все переменилось! Народ повалил, как в метро в час пик – все возбуждены, громко спорят, и в зале переговариваются одновременно человек шестьдесят… Оказалось, кончились бега, и болельщики, преимущественно мужчины, хлынули студить страсти и закусывать. Ты словно в театр попал, так тебе стало любопытно находиться среди воодушевленных, темпераментных, празднично настроенных людей.
– Никогда не думал, что русские такие горячие, как, например, грузины или турки! – радостно восклицал ты.
И вдруг в дверях я увидела Эрдмана. Вошел он с компанией. С М. М. Яншиным, или Яншин позже подошел… А. П. Старостин был там, еще какой-то известный московский адвокат и художник. Я помахала Эрдману рукой, и наш до того пустующий, как остров, стол стал самым оживленным.
О его страсти к лошадям я знала еще со времен работы на «Мультфильме», об этом знала и вся студия, где «Эрдмашка» был всеми обожаемым автором.
– Ради Христа не давайте Николаю Робертовичу по средам денег! – умоляла по телефону его старуха-домработница, – ведь все спустит в тот же день на проклятых бегах!
И мы интриговали, дуры, врали ему, берегли его деньги на хозяйство, лишали радости.
Но с тобой по великой случайности Эрдман знаком не был. Даже у Вольпиных вы не встретились, хотя заочно конечно, оба были наслышаны друг о друге. Тебя, Назым, Эрдман покорил сразу. Что-что, а талант ты чувствовал за версту, а тут были и благородство, и сильный ум, и настрадавшаяся душа. До чего же с вами было интересно! Такая в вас прорывалась лихость, удаль от удачи, что встретились наконец, что все так легко происходит… Разговор пошел веселый, шутейный, с литературными анекдотами, забавными воспоминаниями из московской молодости – она у вас к обоюдному восторгу оказалась во многом общей. Выяснилось, что вы одногодки и несколько бесшабашных счастливых лет провели в одних и тех же «злачных» местах старой Москвы. И пошло, поехало: «а помните это? а то?..»
– Кафе «Стойло Пегаса»? – кричал ты. – Еще бы! Помните, как оно было разрисовано?
– Это Викулов! Театральный художник его так расписал! А помните, там, на стене есенинское?
И все хором:Плюйся, ветер, охапками листьев,
Я такой же, как ты, хулиган…
– А ты, Колечка, свое, свое прочти, – язвительно посоветовал Эрдману Яншин.
– И вы там на стене писали? – обрадовался ты.
– Молодой был, нахал, как и вы, должно быть, Назым. Хотелось всей поэзии швырнуть перчатку. Эпатировал страшно. Я там с гордостью начертал свою декларацию невинности:А я свой пах
В давильнях ваших тел
Из кожи девственной
Не вынимал ни разу!
И вы безумно хохотали, забыв про годы, про все на свете.
– Так вы поэт? А я от Веры понял, что вы писали знаменитые пьесы в двадцатые годы. И имажинист к тому же, ведь «Пегас», если мне память не изменяет, был штабом имажинизма? Я там Есенина много раз видел, потом этого поэта, которого Есенин любил, ну красивый такой парень, всегда хорошо одевался…
– Шершеневич, что ли? – подсказывал старый адвокат.
– Какой там! – махал рукой Эрдман. – Мариенгоф! О Мариенгофе говорит Назым, верно? Ну конечно: и красивый, и щеголь, и талантливый, и его любил Есенин.
– Да, да, – кивал ты, – я очень на него хотел равняться, но у меня одежды в то время не было, конечно, а хотелось…
– Но Назым, вы, может быть, и не знаете, но надеждой есенинской компании, наследником его считали молодого поэта Николая Эрдмана! Вы, наверное, Назым, не помните, – говорил Яншин, – а Колечкины стихи печатались в знаменитом в то время сборнике «Гостиница».
И он здорово прочел стихи, из которых я запомнила только последние строчки:…Земля, земля, веселая гостиница
Для проезжающих в далекие края.
– Миша, не надо, ты преувеличиваешь…
– Сколько вам в те годы было лет, восемнадцать? – спросил ты Эрдмана.
– Да лет двадцать уж было, а может, чуть больше… «Стойло Пегаса» открыли ближе к НЭПу, там ведь уже водка подавалась, а она появилась только во времена НЭПа…
– А наискосок, помните, было «Кафе поэтов», и там выступал Стенич – очень хороший переводчик… Не помните его, Назым?
– У меня, брат, на фамилии совсем памяти нет…
– Видели вы его! Не могли пропустить. Они дружили с Маяковским. Это всё люди очень! Очень, Назым.
Потом вы опять вспоминали Есенина. Вспоминали его красивых женщин, Айседору Дункан, но не сплетничали, а радовались времени общей молодости, отдавали всему в нем дань…
А в другой какой-то раз Эрдман рассказал, как он однажды пришел к Есенину домой: «Сережа стоял на столе на четвереньках и разбрасывал на пол карточки с какими-то рифмами, стихотворными заготовками. Я его спросил: «Что ты делаешь?» – «Изобрел, – говорит, – машину поэзии. Думаю, что в этих случайных сочетаниях, заранее приготовленных строчках может возникнуть нечто совершенно новое или хотя бы родится повод для свежего образа…»
– Его нельзя не любить, – говорил ты об Эрдмане. Знакомство с ним, с его пьесами много тебе дало. Но пьесы Эрдмана с двадцатых годов не ставились и не публиковались. «Мандат» мы нашли сразу у Завадского, а вот с «Самоубийцей» не выходило, и ты в конце концов попросил пьесу у самого Эрдмана, а он потом у тебя попросил «Корову», ему тоже про нее рассказали, после нее – твою «Быть или не быть?».
Тебе казалось, что пьесы Эрдмана так сокрушительно актуальны, что за них режиссеры должны сегодня просто передраться, и ты стал всем рассказывать о его сюжетах… Каково же было твое удивление, когда оказалось, что все без исключения режиссеры, которым ты пытался «продать» Эрдмана, его прекрасно знали и в восхищении цитировали кусками… Но ставить его было запрещено.
В одну из сред в ресторане «Бега» во время обеда вы возвращали друг другу прочитанное: ты Николаю Робертовичу – «Самоубийцу», а Эрдман тебе – «Быть или не быть?»
– Послушай, Эрдман-брат, оказывается, мы с тобой в наших пьесах думали об одном и том же! Ты гениально написал, как людям ловко подбрасывают идею!
– А ты еще лучше про все, что случилось потом!
– Но знаешь, брат, я страшно завидую твоему названию… Как я, дурак, не додумался до такой простой вещи – «Самоубийца»!
– Да, Господи, Назым! Есть о чем переживать! Нравится? Бери! Дарю! Эй, официант, стило! Все равно, Назым, что твою пьесу не ставят и не печатают, что мою не ставят и не печатают, один черт!
Ты говорил, что он мог бы стать очень большим писателем. У него интонация чаплинская. Но Эрдман оказался хрупким человеком. И хотя внешне все было хорошо – лауреатство, сценарии, либретто оперетт, – от настоящего литературного дела он отошел после ареста.
– Вот он оказался той рыбой с длинным носом. По нему ударили, и он не смог не обидеться. Выдохся, у нас у всех есть предел.Знаешь, Назым, Эренбург только что написал о тебе главу. Ты вошел в его многотомную галерею знаменитостей, с которыми он дружил: «Люди, годы, жизнь». По-моему, только о троих он вспоминает с непреодолимой болью в сердце: о Поле Элюаре, Бабеле и о тебе.
Зимой мы шли в гости к Илье Григорьевичу. Незадолго до этого встречались с Эренбургом в Политехническом, где он председательствовал на твоем поэтическом вечере. Когда мы подошли к его дому на улице Горького, ты сказал:
– Он единственный человек, перед которым я испытываю робость. Даже сам не могу объяснить почему. Он эрудит. Называет в разговоре сотни имен, дат, названий, а у меня на это памяти нет. Вот ты увидишь сейчас…
Дома Эренбург показался мне приветливым симпатичным человеком. «Он немножко злой, но ты не обращай внимания» – вертелась в голове твоя фраза. У него, как у западных стариков, были розовые щеки и веселые глаза, не насмешливые, как обычно, а озорные. Он искренне радовался встрече с тобой.Ты, Назым, сразу объявил, что я работаю корреспондентом в Агентстве печати «Новости»:
– Она постарается на вас немножко заработать. Будет провоцировать на разные нужные ее редакции темы. Я вас предупреждаю.
– А-а… – едко рассмеялся Эренбург. – Работаете в агентстве, которое посылает материалы во все корзины мира? Ну нет, на мне вы ни копейки не наторгуете в АПН. Я буду нарочно целый вечер говорить такие вещи, что вы ничем не сможете воспользоваться.
И он упорно поддразнивал меня критикой всего и вся, спрашивая после очередного «сюжета»:
– Ну как? Годится для АПН?
Вскоре выяснилось, почему у Эренбурга хорошее настроение – разрешили печатать книгу.
– Кто? – спросил ты. – Меня всегда интересует, кто этот человек, который запрещает, разрешает. Он самый умный, самый талантливый или самый хитрый?
– Недавно я был на приеме в одном посольстве, и там ко мне подошел Хрущев. Мы полчаса тихо в стороне поговорили.
– О ваших мемуарах?
– Да нет, о болезнях, – махнул рукой Эренбург. – Он меня спрашивал, какой я придерживаюсь диеты, – я спрашивал его. О чем могут говорить два старых человека! А кто-то из наших литературных прохвостов заметил нас благодушно беседующими и истолковал ситуацию с бюрократической точки зрения. Утром мне позвонили из издательства и сообщили, что книга подписана в печать. Вот, кстати, – повернулся он ко мне, – очень хороший пассаж для АПН!
Когда тебя не стало, меня пригласил на Старую площадь секретарь ЦК КПСС по пропаганде, душитель культуры Ильичев. Не было сил идти, разговаривать неизвестно о чем, но деваться некуда, пошла. Тося проводила меня до дубовых дверей и обещала подождать в сквере напротив. О чем думал этот облеченный властью человек, цепко глядя на меня прищуренными хитрыми глазками и как бы в задумчивости перебирая несколько листочков, сиротливо лежащих в новенькой папке, – не знаю. Он томил меня паузами, откровенно рассматривал и наконец приступил к вопросам:
– Ну, как вы живете?
– Спасибо, ничего, – по-московски ответила я.
– Может быть, вам что-нибудь нужно?
– Нет, спасибо.
– Кажется, вы с Хикметом писали вместе пьесы? – спросил он, руководивший из этого огромного кабинета идеологией и культурой, он, много раз грубо вторгавшйся в твои дела.
– Да, писали.
– Ну и как же вы это делали? – ухмыльнулся он. – Так вот, садились рядышком и писали?
Мне захотелось встать и уйти. Но я не встала и не ушла.
– Вам знакомо вот это письмо Назыма Хикмета? – спросил меня товарищ из Политбюро и протянул мне листок.В ЦК КПСС
Уважаемы е товарищи.
Я очень болен. На днях улетаю в Танганьику. У меня есть предчувствие, что я не вернусь.
Я никогда ни о чем для себя не просил. Но сейчас обращаюсь к вам с просьбой. У меня есть два близких мне человека: моя жена Вера Тулякова и мой сын Мемед. У меня нет никаких сбережений, а моих гонораров хватит им ненадолго. Мне страшно умереть, думая, что в случае моей смерти они окажутся без средств.
Очень прошу вас найти способ обеспечить мою жену и моего сына. Я думаю, что имею право рассчитывать на помощь и поддержку моей партии, солдатом которой я был всю жизнь.
Назым Хикмет– Да. Знакомо, – подтверждаю я.
– Судя по этому письму, у товарища Хикмета было предчувствие смерти. Почему? – искренне удивился хозяин дубового кабинета. – Хикмет так хорошо здесь жил! Пользовался всеобщим вниманием. Его пьесы ставили, книги печатали… Хотя в некоторых политических вопросах он проявлял полнейшее непонимание. Требовал полного развенчания культа Сталина, например. Зачем? Наивно! И странно не то, что он стоял на одних ревизионистских позициях с итальянскими коммунистами, а что его здесь многие поддерживали, например, Твардовский. Про Эренбурга и говорить нечего. А про литературную зелень, эту московскую богему и говорить нечего. Да, да, он ходил в лидерах у интеллигентской оппозиции.
«Вот и хорошо, – думала я, – а я жена лидера интеллигентской оппозиции».
Я слушала и удивлялась, как ему удается сочетать интонацию брани с торжественным поучением, кричать, разговаривая одними губами, убивать, не оставляя следов… Жаль, не слыхала, как он беседовал с тобой, Назым. Не представляю, как складывался ваш диалог.
Видимо, не очень, если он, не переждав и двух недель после похорон, реализовывал свои амбиции передо мной…
Мы находимся в полном вакууме: не звонят телефоны, никто не входит, с улицы не доносится ни один звук… Сумрачно, жутко. Он, словно угадав мою мысль, желает одушевить пространство. Я цепко, как партизан на допросе, слежу за ним. Почему ты так боялся, Назым, что после твоей смерти со мной могут свести за тебя счеты? Ага, нажал на кнопочку – что-то будет, может быть, выпроводят, а может быть, уведут. Но массивная дверь тотчас бесшумно открывается – на пороге милая девушка с услужливым лицом молча вопрошает повелителя.
– Принесите нам хорошего чаю.
Девушка исчезла и тут же возникла вновь уже с подносом. Ее руки в белоснежных перчатках поставили перед нами дымящийся чай в тонких стаканах с подстаканниками, сухарики, сушки, и… его рецензия на тебя, моего мужа, продолжилась:
– Так что Хикмет бунтарствовал не только в Турции, но и у нас… Пытался изменить наше отношение к творчеству Зощенко, Булгакова. Недавно приходил настаивать по поводу издания Пастернака. Все это малосерьезно! А мы проявляли к нему терпимость!
– Не всегда, – тихо говорю я.
– А вы думаете, запрещать легко?! – взрывается он. – Приятно? Не надо нас ставить в скандальное положение! Одна история с «Иваном Ивановичем» чего стоит! Хотели втихомолку протащить антигосударственную пьесу.
Я смотрю на его белые руки. «Как же вас ненавидит творческая интеллигенция, – думаю, – если нам художники рассказывали, что у вас все руки в татуировке… Как у уголовника».
– Так почему же Хикмет боялся смерти, я не понял? – бурчит он. Как объяснить чужому человеку, почему ты думал о смерти, сидя на стуле приглашенного посетителя? Если бы он пришел ко мне в дом, и не он, а я угощала бы его чаем, и ему действительно было бы интересно узнать почему, – я бы многое могла рассказать.
А чужой человек все исподволь допрашивает меня, почему твой сын оказался в Варшаве да почему ты с его матерью жить не стал, припоминает какие-то слухи, дамские истории… Видно, хватало на Старой площади сплетников, любителей посудачить о личной жизни знаменитостей!
Во мне нарастает бунт. Он это не без удовольствия отмечает:
– А с кем, по-вашему, можно сравнить Назыма Хикмета? – спрашивает вкрадчиво.
– С Герценом! – почти ору я.
– С Герценом?! – обжигается он.
– А вы думали, с Казановой? – я откровенно хамлю.
И тут его пресыщенный глаз зажигается неподдельным мужским интересом… к моей персоне.
– Вы – перец! Женщине это идет, – подначивает он меня.
А у меня в голове, как подстреленная, кружится цветаевская фраза – «властолюбцы не бывают революционерами, как революционеры, в большинстве, не бывают властолюбцами»…
Пожелав произвести впечатление, какую похвальбу, какую чушь он несет:
– Взгляните на эти телефоны, любая моя команда, распоряжение, воля при необходимости через полчаса – всего через тридцать минут! – дойдут до самой отдаленной точки Союза и будут выполнены как приказ!
Я смотрю на его плохо сшитый серенький костюмчик, на нездоровое серое лицо… Дряной мужичонка! Нет, мне не страшно. Мне тяжело. Подложи ему камень сегодня под ногу, Назым, двинь его по мозгам дверью, у тебя же руки чешутся. Хоть бы Хрущев сейчас дверь открыл или Суслов голову просунул, растаяла бы вся его спесь.
«Почему я сразу не ушла, сразу…» – все думала потом дома без устали.Потом у вас с Эренбургом зашел разговор о Пастернаке. Ты много лет прожил по соседству с ним в Переделкино, был к нему привязан, ходил в гости поговорить и много раз, вызывая неудовольствие чиновников, предпринимал попытки защитить его. В Стокгольме ты сразу же купил и прочел «Доктора Живаго», как только напечатали, но привозить не стал. Ходил на Старую площадь доказывать-хитрить, что ничего вредного в этом скучном романе нет, а стихи там замечательные, что надо перестать бояться гениев. Но тебе всегда намекали, что в наших внутренних проблемах может глубоко разобраться только настоящий советский человек.
– У меня перед вами была дочь Ольги Ивинской, женщины, которую Пастернак любил последние годы.
– Я знаю о ней. Он читал мне однажды в старом арбатском дворе замечательные любовные стихи. Я любил слушать, как он читает. Когда я говорил с ним о романе, он рассказал, кем была героиня в его личной жизни. Теперь она снова из-за него в тюрьме…
– Да, Ивинская все еще в лагере. Ее дочь приходила просить за мать. Но эта дама нарушила законодательство, передала рукописи Пастернака за границу и получила за аферу кругленькую сумму.
– Я не понимаю, почему советские законы запрещают писателю печататься, где он хочет?! Что это за рабское право на талант? Пастернак – гений. Я это знаю, вы это знаете. Этого может не понимать только одноклеточное существо или враг прогресса! Гений – не свадебное платье, чтобы его держать в сундуке!
– Да, да, конечно, ради Бориса Леонидовича надо бы постараться помочь, хотя помогать в Москве становится все труднее и труднее. Никто не хочет ни во что ввязываться. Но… ему не повезло с женщинами.
– Почему?! – удивился ты. – Он их любил! Писал стихи, и какие! Одна стала частью романа!
– Все они после его смерти обезумели от денег, которые лежат за границей. Каждая хотела получить этот куш, – сердился Эренбург.
– Думаю, у них здесь жить не на что… Я видел, как Пастернак одевался. Что ели в его доме, открытом, очень гостеприимном, тоже видел… Там лежат им заработанные деньги, а здесь нищета… Как эти люди должны поступать, по-вашему?!
– Но меня обрадовало вот что, Назым. Эта девушка сказала, что в том лагере, где сидит ее мать, все политические заключенные знают, за что сидят. Вы понимаете, Назым! Все. А раньше, при Сталине? Девяносто девять процентов понятия не имели. Это хорошо! Вообще, говорят, политических мало, человек шестьсот. В основном сектанты, верующие. Желающим разрешают выписывать газеты и брать книги в библиотеке. Есть выбор работы. Кормят, естественно, плохо.
– Я не верю в рай советских тюрем. Почему верующие должны сидеть в тюрьме?
– Я видел последнюю книгу ваших стихов, Назым, ту, что издали к юбилею. – Эренбург явно уходил от разговора о Пастернаке, о КГБ. – Вы показали стихи за сорок лет. Так долго работать в поэзии удавалось немногим. Я был поражен, как через стихи проходит вся ваша жизнь, и как она становится все сложнее и сложнее.
– Стихи тоже углублялись, мне кажется. В последние годы с точки зрения формы я по-новому пишу. По-турецки прием свободного стиха хорошо звучит, а в русских переводах – грубо. Ритм спотыкается, мелодии нет. Стихи распадаются: здесь – лирика, здесь – публицистика. С переводчиками тоже трудно мне бывает. Я вижу, что многие из них используют первые попавшиеся, всем надоевшие рифмы, которые для своих стихов они бы отбросили. Но сказать переводчику, что он халтурщик, неудобно, как обидеть человека?
– Ну, в этих вопросах нельзя быть либералом… В первые годы вашей жизни в Москве вас хотели переводить едва ли не все поэты. И, помнится, вы никому особенно не отказывали. Но вашу требовательность выдержали немногие.
– Трудно. Если плохие поэты берутся за перевод – страшно скучные стихи от них приходят. Русский язык у них бесцветный, форму передать не могут. А большие поэты волей-неволей накладывают на перевод свой отпечаток. Я им говорю: знаете, я – посредственный поэт, пожалуйста, не улучшайте меня. Вы написали очень хорошие стихи, но это ваши стихи. И будет правильно, если вы опубликуете их под своим именем. А я не имею права присваивать вашу славу.Каждый раз, когда ты впервые слушал перевод своих стихов, то обещал себе, что это последние стихи, которые написал. «Мысли мои, иногда слова мои, а стихи не мои», – говорил ты мне.
Всякий раз переводчики как бы разрезали твое сердце на количество кусков, равное количеству строк, а потом вновь складывали эти куски, и получалось вновь сердце, только со шрамами. И мне всегда было жаль и тебя, и их.
Ты не терпел никакого творчества у поэта-переводчика, не выносил замены своего слова новым, не соглашался, когда из одной твоей строки делали три, вообще хотел максимальной точности. Ты говорил: «То, что форма не остается, ритм не остается, язык другой – к этому я уже привык, пусть хоть слова будут мои, которые я писал!»
И ты не хотел понять, что иногда слово в слово переведенные стихи изменяли природу оригинала больше, чем те отклонения, которых требовал другой язык. Я видела, как переводчикам было трудно работать с тобой, как часто за счет точности терялась поэтичность, музыкальность, и приходил примитив.
Больше всего ты работал с Музой Павловой. Обычно ты сидел потный, красный, усталый, редактировал с Музой перевод. Потом привыкал понемножку, просил исправить отдельные слова или фразы, устало соглашался на остальное, и стихи уходили в жизнь.
«Музу я могу просить по-товарищески что-то исправить, просто могу сказать ей, что это не получилось, она не обидится, постарается искать. Поэтому я сам часто виноват, что переводы не получаются, – признавался ты. – Лично я благодарен Музе».– Да, Назым, ваш характер я знаю. Но о том, что вы действительно большой поэт, я узнал только из французских переводов ваших стихов.
– Знаете, я моего друга Незвала не могу читать по-чешски. Читаю по-русски. Прошу Веру, она мне помогает. С ее голоса легче понимаю язык стихов. И я вижу разного Незвала в зависимости от того, Пастернак его перевел или Ахматова. Не подумайте чего плохого! Стихи замечательные! Но Незвал где-то посередине остался. По этим соображениям я выбрал Музу Павлову, Слуцкого. Самойлова люблю, и мне нравится, как он чувствует мои стихи. Винокуров хорошо мне помог. Ну, к черту это дело! Я книгу, о которой вы говорите, совсем иначе хотел композиционно построить.
– Не хронологически?
– Хронологически. Но в моей жизни всегда огромную роль играли женщины. Такие или сякие, лучше, хуже, но они входили в поэзию. Таких женщин в моей жизни было пять.
– Вы мне напомнили другого поэта, русского: «В моей жизни семь женских имен», – говорил Гумилев.
– Это муж Анны Ахматовой? – спросил ты. – Я плохо знаю его книги.
Эренбург с укоризной посмотрел на меня.
– Так вот, в моей жизни было только пять женщин. – Это Нюсхет. Турчанка. Познакомился с ней в Тифлисе в 1922-м году. Прожили года два. Потом она с семьей уехала в Стамбул, я остался в Москве. В 24 году познакомился в общежитии КУТВа с Леной Юрченко. Она украинка, училась на медицинском. Очень странная была девушка, анархистка такая. Говорила: «Если я к тридцати годам не сделаю открытие в медицине – покончу с собой». Интересная вообще была. Все, что думала – говорила прямо в лицо. Я однажды рисовал ее портрет. Хотел послать портрет родителям в Турцию. Когда художник рисует, он, естественно, пристально смотрит на свою модель. Я рисовал ее лицо и, конечно, все время смотрел на ее лицо. Она вдруг возмутилась: «Что ты все время на меня смотришь?» – схватила ведро воды и вылила на мою голову. А сидел я в пальто, мороз был в Москве, и отопление не работало. В 1928-м году мы собрались ехать с ней в Турцию. Доехали вместе до Одессы, там вынуждены были расстаться. Она не смогла получить визу. Сильно заболела. Я обещал ей прислать документы из Стамбула или приехать за ней. Оставаться не мог. Мы с другим товарищем-коммунистом переходили тогда границу нелегально. Нас поймали, посадили в тюрьму. Когда вышел, стал ее из Турции искать – не мог найти. Оказывается, она умерла в эпидемию холеры. Потом в Стамбуле в 1930 году снова встретился с Нюсхет. Хотел остаться с ней в жизни. Связывали воспоминания юности, Советский Союз, общие друзья. Но однажды она мне сказала: «Ну хватит, Назым, поиграли в революцию, и довольно. Пора за дело приниматься. Многие коммунисты уже стали министрами, начальниками, и тебе пора делать карьеру». Это был удар, и я ушел. Вот тогда я написал стихи, которые здесь так всем нравятся. «Великан с голубыми глазами». Вот и вы тоже знаете…
– Ну а потом?
– После этого я решил с женщинами ничего серьезного не иметь. Я – профессиональный революционер, меня в условиях Турции каждую минуту могли посадить в тюрьму. Я не должен был вступать в брак. Год-два так и жил, потом у моей сестры – вы знаете, я обожал свою сестру, молился на нее просто, – вот у нее была подруга, Пирайе. У нее было двое детей от первого брака. Ее дочку звали Сюзан, а сына Мемед. Она была почти моего возраста, с огненными волосами. Очень хорошая женщина. Умная, благородная. Через сестру мы были несколько лет знакомы и однажды безо всяких бурь решили пожениться. Я был уверен, что с ней мне будет хорошо, спокойно. Она не была красавицей, и это тоже было плюсом для меня. Я уже испытал безумие ревности. В 1932 году мы поженились. И на самом деле все получилось, как я мечтал. Потом начались тюрьмы. Сажали, выпускали. Потом посадили основательно. Приговор-то был на 55 лет. Пирайе (я ее чаще называл Хатче) всё выносила мужественно. Никогда не жаловалась на жизнь. Аккуратно меня навещала. А я видел, как ей трудно живется. В Турции женщина без мужчины – не в Англии. А ей приходилось воспитывать двоих детей, кормить их. Я мог помогать ей очень мало, хотя старался в тюрьме работать как черт. А вы знаете, ничто не старит женщину так, как заботы и нужда. Последние годы, я видел, она ходила в одном ситцевом платье. И постепенно я стал воспринимать ее как сестру, немножко как маму… А ведь когда в тюрьме сидишь, голова работает совсем иначе. Живешь мечтами. В тюрьме я написал «Легенду о любви», свою мечту о любви. А сам я никогда не любил до исступления и не верил, что человек может так любить. Вот теперь я это знаю, так случилось, а тогда, вы понимаете… Однако мне казалось, что я нормально люблю свою Пирайе, обычно, как бывает между мужем и женой. И вдруг вокруг меня начинается буря! Стихи печатают во Франции, в разных странах. Это обостряет ужас одиночества, хочется избавления, выхода, а я сижу в одиночке! Ко мне журналисты начинают рваться, студенты, разные люди проявляют интерес, требуют освободить. У полиции идет скандал! А я даю стихи! Еще стихи! И вот однажды, в 1948 году ко мне в тюрьму приходит моя двоюродная сестра Мюневвер. Она вошла такая шикарная, от нее пахло французскими духами, представляете, этот запах в феодальной тюрьме? Веселая женщина, самоуверенная! Я обалдел, и… вы понимаете, что случилось. Тогда я уже почти десять лет просидел… В общем, так. Мир требует мне свободу, все друзья убеждают, что правительство сдастся, выпустит меня, и мы с Мюневвер решаем жить вместе. Она – свободный человек, все ей подвластно, а в тюрьме так хочется верить всему хорошему. Она клянется, что уйдет от мужа, а у нее тогда уже была дочь. Клянется, что заберет дочь и уйдет от него ко мне. И вдруг правительство отказывает мне в амнистии… Вы не можете себе представить, что чувствует человек в тюрьме, когда свобода уходит от него. И Мюневвер посылает мне записку, что от мужа уйти не может. Выдвигает какую-то формальную причину, связанную с ее дочерью – и все! Это был удар! Я ненавидел ее тогда. И я объявил голодовку. Хотел этим ей отомстить. Не мог пережить предательства и решил умереть. К черту все! Начал голодать. А люди во всем мире поняли мой поступок как политический. Мама моя вышла на улицы с плакатом «Свободу моему сыну Назыму!» Собирала подписи. А она уже тогда была почти совсем слепая, понимаете? И вдруг ситуация из «Легенды о любви» повторяется со мной! Все, как и в моей пьесе, началось с любви, а кончилось… Мой Ферхад пошел на подвиг из-за любви, чтобы добыть прекрасную девушку, но постепенно долг перед людьми оттесняет любовь. Дальше. Люди вселяют в меня веру, я выдвигаю политические требования и начинаю борьбу с правительством. Голодаю четыре дня, пять дней, шесть… И я решил, если не дадут свободу – умру! Нельзя же сидеть в тюрьме до гробовой старости. Понял вдруг, что могу умереть без всякого мелодраматизма. Физически я с каждым днем слабел, конечно, но морально становился сильнее, даже веселее, понимаете? И вот правительство сдалось. Я получил амнистию. И тут пришла Мюневвер, принесла килограмма два или три клубники. А я столько дней голодал! Я набросился на ягоды и почти все съел. Чуть не умер. Еле меня спасли. Эти дни были счастьем! Все-таки свобода, черт побери! Я еще некоторое время продолжал сидеть в тюрьме, хотя вопрос был решен. Но в личном отношении я не люблю эти времена вспоминать. Потому, что прежде чем выйти из тюрьмы, я увидел, что у Мюневвер уже почти шесть месяцев беременности! Я вообще считал, что из-за моей революционерской деятельности у меня детей не может быть. А тут? Не удивляйтесь. Директор моей феодальной тюрьмы был моим другом и поклонником стихов. Когда я просил, он спокойно разрешал встречаться нам с ней в его кабинете. Частенько уходил совсем. Он думал, что Мюневвер – моя жена. Ведь я никогда не приводил к нему Пирайе. Беременность Мюневвер поставила меня перед трудным фактом. Я понимал, какой скандал сейчас разразится! Дело было не во мне, конечно. И самое важное состояло в том, что этот скандал используют враги коммунистов. Я давал им возможность говорить, что все коммунисты такие сволочи, как Назым Хикмет, они – развратники, подлецы, такие-сякие. Всё что угодно! Ну, вы понимаете: одна женщина страдала, ждала его двенадцать лет, а он выходит и идет к другой, к тому же – более молодой, и прочее. И это все не в Париже, а в нашей крестьянской стране… Так и вышло. Я стал жить с Мюневвер. Я думал, что Пирайе подаст на развод, но она ждала. Тогда Мюневвер настояла, и я подал заявление сам. Суд состоялся в конце марта 1951 года. Никто из нас на нем не присутствовал. А через три месяца после этого я навсегда покинул свою страну.
– Теперь ваш сын живет в Варшаве? – спросил Эренбург.
– Да, он живет там с матерью и со своей сводной сестрой. Они бежали из Турции, потому что мальчик по турецким понятиям оказался незаконнорожденным. Я не оформлял брак с его матерью.
– Вам удалось его усыновить?
– Да, я очень рад. Я пошел в польское посольство, и товарищи всё сделали.
– Вы его видите?
– Нет, к сожалению. Мюневвер не пускает его ко мне. Это страшная рана в моем сердце.
– Сложная у вас жизнь, Назым.
– Очень сложная, черт побери. Очень! Зачем я вам все это рассказал? – удивился Назым.
– Вы начали с книги. Ну и почему же вы отказались назвать ее главы именами ваших женщин?
– Вера не согласилась. Говорит, не хочу, чтобы нас всех сравнивали. А я ей говорю, глупая, никому я таких стихов, как тебе, не написал. Там есть мучения, ревность, все безумства любви. Но она не захотела.
– Вера, показать вам наш дом? – предложил Илья Григорьевич.
Есть дома, убранство которых составляет мебель. У Эренбурга – картины. Мы пошли. Эренбург останавливался возле каждой и любовно рассказывал о Пикассо, Ривере, Пиньоне, Шагале, Тышлере, Фальке и других своих великих друзьях. Перед моими глазами открывались целые миры, хотелось медленно разглядывать эти шедевры, но было неловко. Мне понравилась комната самого Эренбурга. Не кабинет, не спальня, а так – всё вместе. Комната маленькая, с небольшими картинами повсюду – висят на стенах, стоят среди книг, – с трубками, с синей материей на диване, а может быть, зеленой… А может, зелень – с картины Шагала? Все тут органично переплелось, все понятно в пространстве кабинета Эренбурга, а ты робеешь. Бродишь позади худенького, сгорбленного хозяина дома большой в этой камерной квартирке, как телохранитель. Говоришь как-то тише обычного, как будто выполняешь чей-то наказ: «Ты хорошо себя веди в гостях, Назым!» А мне забавно – я тебя таким, правда, не видела никогда.
Входим в комнату Любы. Четыре ее портрета и она сама пятая смотрят на нас одновременно. Одно красивое лицо в пяти вариантах. Люба достает с полки французскую книгу: рисунки обезьян. Рассматриваем. Очень похожи они на рисунки абстракционистов. Всем становится весело.
– Талантливо пишут обезьяны! – несколько раз повторяет Эренбург.
Идем ужинать. На столе заморские вина и закуски. Вот и супчик из парижского гастронома, экспортированный в целлофановом пакете, дымится на столе. «Забавные эти старики, жуткие пижоны, – думаю я. – Суп-то могли и в Москве сварить», – осуждаю с молодым максимализмом, но ем. Ничего не скажешь, вкусно. Но едят все как-то равнодушно. Главное – разговоры. Аппетит к этому.
Мне нужно порасспросить Эренбурга о его последней книге «Люди, годы, жизнь», да я боюсь, что он уйдет от «темы». Спрашиваю как бы между прочим, откуда возникает желание рассказать о своей жизни через других людей, что дает ход воспоминаниям.
– Так мне хотелось высказаться по самым современным вопросам. Теперь я получаю тысячи писем. Мне пишут в основном два поколения. Люди старые обрадовались, что я рассказал о времени, по которому они немного тоскуют. А молодые открыли то, чего не знали.
Эренбург уже увлекся и рассказывает о скандале, который разразился в Западной Германии вокруг издателя, собравшегося там напечатать его книгу.
– «Зольдатен цайтунг» заявила, что моя книга не может быть напечатана, так как я призывал насиловать немок во время войны. Тогда мой издатель решил проверить этот факт, и, представьте, одиннадцать организаций проверяли его! Он, конечно, не подтвердился. Тогда та же самая газета напечатала статью, где говорилось, что я во время войны призывал убивать немецких солдат. В ответ я послал письмо своему издателю, где написал, что горжусь этим и, если издатель не подтвердит этого, я откажусь печатать у него свою книгу. Издатель объявил дискуссию. Опубликовал мое письмо. Некоторые немцы вступились за меня. Пишут: «А почему Эренбург должен любить немцев?» Но на днях появился заголовок через всю газету: «Эйхман повешен, а Эренбург жив!» По-моему, все это очень интересно, а, Назым?
– Интересное дело! Когда книга дает бой – я люблю! Я записываю разговор, и Эренбург больше над этим не смеется.
– С кем из писателей вы встречаетесь во Франции?
– С кем? С Сартром, с Веркором, с Роже Вайяном, с Клодом Руа. В Италии я люблю Карло Леви. Я многих люблю например, Пабло Неруду, Рафаэля Альберти, Жоржи Амаду. И я люблю Назыма, который меня восхищает вечным отрочеством. Написали? Но не в русских переводах. У нас с Назымом, должно быть, общие друзья в современном литературном мире.
– Да. Почти все они мои друзья тоже. Как вы считаете, в каком месяце стоит ехать в Чили? Вы ведь были там?
– Вам необходимо ехать по делам?
– Нет. Нас давно приглашает Пабло, хочет показать свой дом, свою страну. Я дал ему слово, что в этом году обязательно приедем. Раньше я даже думать об этом не мог, а теперь, когда врачи разрешили мне летать в Гавану, я хотел бы посмотреть и на Чили.
– У Пабло роскошный дом! Поразительная коллекция морских диковин! Но я не советую вам, Назым, пускаться в это путешествие. Я жил у него дней тридцать. Пабло никогда не было на месте, и меня все это время кормили одной яичницей. Если вы любите яичницу…
– Мне нельзя яичницу, – улыбнулся ты. – Вопрос не в этом. Я спросил в «Аэрофлоте», сказали: билеты для нас двоих будут стоить почти две тысячи рублей. А у меня сейчас немножко трудновато с этим.
– Чилийская яичница определенно не стоит таких денег! – рассмеялся Эренбург. – А что вы, Назым, сейчас пишете?
– Только стихи. У меня был странный период, несколько лет длился, примерно до 58-го года. Не мог писать стихов. Думал, кончено с этим. Теперь наверстываю.
– Да, я вас превосходно понимаю. У меня самого так бывало со стихами. Стихи – капризная вещь.
Он вдруг задумался. Опустил голову, водит ложкой по дну тарелки.
– Мне надоела условность в литературе, Назым. Я хочу вам, Вера, процитировать Павленко: «В литературе, хочешь или не хочешь, нужно врать, но пар требует выхода. Только не так, как тебе хочется, а как тебе хозяин велит». Вы понимаете?!
Когда мы вышли, ты сказал:
– Не обращай внимания на эту яичницу в доме Пабло Неруды. Уверен, что он ел ее не больше двух раз. Я даже думаю, что Пабло специально сбегал из дома. Они оба настоящие люди. Но не могут долго находиться вместе. Вдруг начинают спорить, говорить друг другу наперекор, ведут себя, как фехтовальщики. Пабло весь кипит будущим, а Эренбург больше поэтизирует культуру прошлого. Как коммунист я во многом с ним не согласен, но как человек – я люблю его.
Мы еще долго стояли в ночи на улице Горького против здания Моссовета под окнами Эренбурга и ловили такси.
– Интересно, – говорил ты, – Эренбурга здесь воспринимают как человека левых взглядов, а в Европе не так. Помнишь, в Риме нам рассказывал журналист, член итальянского ЦК, как проходят его встречи с итальянцами, которые устраивает компартия? Приходят, в основном, старые дамы в кружевных перчатках, мелкие служащие, вообще старики. Их привлекает его изысканная речь, эрудиция, изящные рассуждения о литературе двадцатых-тридцатых годов. Но сегодня итальянцев волнует будущее, жизнь советских людей, результаты ХX съезда партии, отношение к Сталину. В этом дело! Я тебе говорил, как недавно итальянский буржуазный издатель просил у меня стихи: «Пожалуйста, поменьше лирики, – настаивал он, – меня интересуют революционные стихи, самые острые, самые непримиримые. Сегодня я могу сделать бизнес только на этом». …Вера, Эренбург так много говорил о своих стихах сегодня. Я не знаю его стихов. Он хороший поэт?
– Но ты ведь тоже сегодня долго рассказывал о своих картинах. Если он меня спросит, какой ты художник, что мне сказать?
– Вот ты какая, издеваешься над стариками, – ты рассмеялся. – Нет, серьезно, тебе нравятся его стихи?
– По-моему, он никогда не был мальчишкой.А теперь переживший тебя («после войн мировых смерть перепутала весь свой порядок…»), Назым, Эренбург написал о тебе в своей книге: «Внешне он походил скорее на человека с севера, чем на турка, – очень высокий, светлый, голубоглазый. Повсюду он чувствовал себя свободно – в Москве, в Риме, в Варшаве и в Париже. Но о Турции тосковал. В Риме я разглядывал два тома его произведений, один иллюстрировал Гуттузо, другой – друг Назыма, турецкий художник Абидин, который живет в Париже. Я сказал, что встречался с Абидином, и Назым просиял: он не хотел говорить о своих стихах, он хотел говорить о друге. У него было много друзей в разных странах: Пабло Неруда, Арагон, Незвал, Броневский, Карло Леви, Жоржи Амаду – всех не перечтешь». Да, я хотела сказать, Назым, что перед публикацией главы о тебе Эренбург прислал мне рукописный текст и попросил посмотреть, не напутал ли чего. Я попросила убрать только одну фразу, где он говорит, что ты был человеком, который плакал на свадьбах и смеялся на похоронах. А зря.
У тебя никогда не было ни к чему предвзятого отношения. Иногда я иду в театр и думаю: ну зачем? Ведь я и режиссера знаю как облупленного, и пьеса слабая, и заранее ясно, что спектакль унылый. Ты, наоборот, каждый раз искренне огорчался, потому что вдохновенно любил театр и как писатель, и как зритель. Гордился, когда на последней странице «Правды» читал, что в этот день в Москве из восемнадцати театров пять играют твои пьесы. Завидовал Мольеру, Брехту – у них были собственные театры. В последние годы был одержим мечтой создать свой театр в Москве. Тебе хотелось самому ставить свои пьесы. Пожалуй, это была твоя последняя мечта. Помню, утром ты сказал мне об этой идее. Днем предложил Виктору Комиссаржевскому стать соавтором «театра Назыма Хикмета». А вечером, выступая по телевизору, ты, к величайшему изумлению Министерства культуры, объявил, что вы с Комиссаржевским создаете в Москве замечательный театр. Утром следующего дня наша знаменитая балерина Ольга Лепешинская принесла заявление с просьбой зачислить ее в труппу драматического театра Назыма Хикмета.
Помнишь, Назым, как мы встретились в «царской ложе» Большого театра с Жуковым? К нему все время подходили какие-то люди с военной выправкой. Он еще жаловался, что жена, высокая красивая женщина с пучком тяжелых волос, вытащила его из дому. А она любила театр, это было видно сразу, и радовалась, что пришла на спектакль.
Ты мне сказал:
– Как ты думаешь, если бы сейчас крикнуть отсюда из ложи в зал: «Товарищи, здесь маршал Жуков!», что бы случилось? Спектакль, наверное, сорвался бы, а весь зал встал бы спиной к сцене!
Жуков тогда был отстранен Хрущевым от дел, и ты разговаривал с ним осторожно, словно боясь причинить боль. Спросил о здоровье – он только вздохнул. Было видно, что ходить ему тяжело, но лицо, манера говорить и взгляд – особенно взгляд! – все выражало мощный, суровый характер человека, уверенного в своей незыблемой правоте.
Ты сказал ему, что хочешь писать пьесу о войне по просьбе Театра Советской Армии. Он, вскинув брови, спросил:
– А где вы были во время войны?
– В Турции, в тюрьме сидел.
– Как же вы будете писать? – удивился Жуков.
– Я много говорил с советскими людьми, с чехами, с поляками… Недавно прочел письма с фронта отца Веры, он погиб под Ленинградом…
– Не надо, – вежливо, но резко сказал Жуков. – Не пишите. Пусть пишут те, кто сделал победу, хотя вранья, кокетства, ошибок полно даже у них. Правда. Нужна правда. Я недавно где-то прочел, что маршал Конев полетел на самолете. А он патологически боялся самолетов, и армия это знала! Нельзя так!
– Георгий, Георгий, – обращалась к нему жена с пустяковыми вопросами, видимо, желая прекратить мучивший его разговор. Она держала себя гордо, в ней тоже угадывалась внутренняя сила. Нам показалось, что они любят друг друга.
– По-моему, он ее ревнует, – сказал ты мне на ухо, – а иначе зачем бы он сюда поехал? Плевать он хотел на этот балет, поехал, чтобы быть с ней. Какая она строгая… А платье носит, как английская королева!
Назым, с нашей Соней случилось несчастье. «Не могу смотреть в глаза умирающему. Стыжусь», – написал ты в одном стихотворении. Эта фраза крутилась в моей голове, когда после внезапной операции мы с Витей Комиссаржевским, перепуганные, шли по больничному коридору к ее палате. Мы так и не сумели взять себя в руки, когда толкнули ее дверь. А Соня встретила нас с улыбкой, утешала, подтрунивала:
– Ну, что вы носы повесили? Я умирать не собираюсь.
Она знала, что у нее рак. Она сказала мне накануне: «Я буду оперироваться десять, двадцать раз. Ради Виктора. Чтобы он не оставался один. Ведь он даже не знает, как получается в чайнике чай».
Прошла только ночь. Сонины каштановые волосы аккуратно причесаны, лицо в легком гриме, а забинтованную искромсанную грудь скрывает голубая нейлоновая пена ночной рубашки. Сколько раз, Назым, мы с тобой слушали на сцене и дома, как она читала твои стихи. Но какая она талантливая актриса, я поняла только в то утро.
И вот теперь я вожу ее на нашей машине через всю Москву в «башню смерти» на Каширку – на облучение в онкологический институт, чтобы Сонька жила. Медленно мы спускаемся в подвалы гигантского здания и молча идем по полутемным пустынным коридорам, экономя Сонины силы. Над нами справа, почти касаясь виска, текут жирные трубы коммуникаций. А коридоры все тянутся, и нет им предела. Наконец, когда Соня совсем выбивается из сил, во мраке за поворотом вспыхивает белый квадрат неонового света. Мы опускаемся в маленький подземный зал, где вдоль стен на диванах безмолвно сидит самая страшная из всех очередей мирного времени. Перед нами полуметровая толща двери с предупреждением: «Осторожно! Радиация!» Каждый из них шагнет за эту черту и выйдет, еле волоча ноги. В этой очереди девочки с бантами сидят так же понуро, как старики. Все молчат и думают, думают, думают. Чтобы отвлечь Сонины мысли, я завожу разговор о тебе, прошу ее вспомнить что-нибудь, чего я не знаю. Сонька отмахивается:
– Да ладно, все ты знаешь, Назым тебе уж сто раз все рассказал. А я пристаю, напоминаю, что они ездили в гости к физикам в подмосковный Обнинск без меня.
– Там был авторский вечер Назыма. Меня пригласили почитать его стихи по-турецки и по-русски, – унылым голосом, покорно начинает рассказывать Соня. – Физики прислали «Москвич», очень маленький.
В машине было тесно, и я помню, как ты осталась дома, чтобы нам было удобнее. Ехали часа два. Говорили об абстрактной живописи – тогда все о ней говорили. Я сказала, что искусством ее не считаю. А Назым утверждал, что мир Вселенной, открывшийся Гагарину в окне иллюминатора, не похож на традиционный пейзаж и что ученый видит, глядя в телескоп или в микроскоп, тоже подобия абстрактных рисунков. Он сказал: «Я люблю краски, как люди любят фрукты, цветы, море, женщин. Из всех искусств живопись – самое трудное для понимания, хотя многие люди думают, что нет ничего проще. Думают, если яблоко на холсте точь-в-точь как настоящее, значит художник – мастер. Мне кажется, что открытие космоса окажет большое влияние на искусство. Космос радостен. Гагарин испытал восторг от невесомости. С прорывом человека в космос искусство войдет в эру оптимизма».
Я смотрела на Соню – ее лицо и голос становились мягче, живее, словно ты неслышно встал перед ней, обхватил ее измученную голову руками, прижал к своей груди и начал тихонько гладить, успокаивать.
В зал ожидания вслед за врачом вошла женщина. Она ступала гордо, как по большой сцене. Лицо ее показалось мне знакомым. Она властно прошла вперед, не обращая внимания на очередь, прямо к двери камеры и молча стала ждать. Никто не возмутился, не нахмурил бровей…
– Это жена маршала Жукова, – тихо и безучастно сказала Соня, проследив мой взгляд. – Говорят, дни ее сочтены…
Мне сделалось страшно.
Я посмотрела на Соню – мысли ее были далеко…
– Соня, Соня, – тихо позвала я, – говори. Что было потом, когда вы с Назымом оказались в Обнинске? Ведь он мечтал увидеть атомный реактор, ради этого и согласился ехать в такую даль.
– Он очень огорчился, сказал, что видел только белую стену – реактор был спрятан за ней. Так вот, в Обнинске переполненному зрительному залу Назым рассказывал, как в тюрьме по обрывку статьи из французской газеты, которую ему принесла мать, он написал поэму «Зоя» – сначала она называлась «Таня». Когда он оказался в Москве и увидел документы о гибели Зои Космодемьянской, то сам был поражен, насколько точно его воображение воссоздало ее историю. Еще Назым в тот вечер много говорил о провидении поэтов, об их особом предчувствии будущего. Потом сам задавал вопросы: «Вот вы одеты в современную одежду. А вот свой новый клуб вы почему-то нарядили в старомодный мещанский плюш. Считаете это красивым?», – обратился он к какому-то молодому человеку. «Да, – ответил тот. – Плюшевый занавес торжественный…» И тут Назым разозлился: «Но это уродство! – закричал он. – Сами вы не можете выйти на улицу в зипуне или парике с буклями, а клубы, кино и театры украшаете, как купцы, по старинке?» И зал ему аплодировал. Потом я читала его стихи. Вечер затянулся до полуночи. Но когда все кончилось, к Назыму подошли молодые ученые. Он уселся прямо на подмостки сцены и начал отвечать на разные вопросы: политические, литературные, бытовые. Он чувствовал себя как рыба в воде. Я стала выдирать его из толпы, хотя он готов был говорить с ними до утра. Уже в машине я спросила его, как читала сегодня. Он безумно восторженно, громко, с пафосом воскликнул: «Замечательно, Сонечка!» – «А если без восточной любезности?» – «Ну, – он сразу перешел на бытовой тон, – тогда так: то, что ты читала экспромтом по книге, – хорошо, а то, что приготовила как эстрадный номер, – не очень…» Я знаю, ему нравилось менее эмоциональное, внутреннее, глубокое чтение. Он не любил, когда сильно «поют стихотворение», хотел приблизиться к жизненной, обыденной речи людей. Но сам, помнишь, как он читал «Как Керем»? «Хава куршун, гиби аыр. Баыр, баыр, баыр, барыёрум!» У него была невероятная эмоциональность и могучий голос. Люстры в Колонном зале раскачивались, занавес ходуном ходил в Политехническом. В тот вечер он устал, и я подумала, что это опасно для него. «Сейчас буду говорить я, а вы молчите». – «Тогда расскажи, Сонечка, как ты работаешь». И я рассказала, как недавно читала стихи Арагона в цеху на швейной фабрике в обеденный перерыв. У Арагона сложные стихи, и я боялась, что простые женщины их не воспримут. Тогда я выписала биографию Арагона: как он во время войны оказался в Сопротивлении, как вступил во французскую компартию, как началась его любвь к жене Эльзе Триоле – и на концерте чередовала ее куски со стихами. Женщины слушали внимательно, и я предложила им прочитать Арагона по-французски. Я много читала и видела, что им интересно. «Сделай когда-нибудь такой рассказ обо мне. А мы с Верой будем приходить к тебе на все концерты и аплодировать», – подражая голосу Назыма, громко произнесла Соня.
И в этот момент наступила ее очередь идти в камеру. Она жалобно оглянулась на меня у двери и исчезла за ней. Я посмотрела на окружающих – оказывается, все внимательно слушали ее и огорчились, что рассказ оборвался.
Жена маршала Жукова умерла. Теперь ее могила недалеко от твоей. Говорят, он даже не смог проводить ее на кладбище – не ходят больше у маршала ноги.
А сегодня вечером мне позвонила Соня:
– Помнишь, Веруся, как тогда, перед Обнинском, я вошла к вам в новом сером пальто? В американском! Купила по случаю у жены журналиста. Книзу оно было сильно расклешено. Ты посмотрела на меня и сказала: «Ой, Сонька, какая у тебя в нем толстая попка!» И представляешь, я так расстроилась, что в машине спросила у Назыма, правда ли это. А он стал жутко смеяться и на ухо мне прошептал: «А ты, Сонечка, скажи ей, что у нее толстые ножки».
Помолчав, Соня вздохнула:
– Наверное, про это нельзя писать в книге воспоминаний о Назыме Хикмете…Время, когда вы писали с Виктором Комиссаржевским пьесу для театра Завадского, я вспоминаю с благодарностью. Вы придумывали свой «Бунт женщин», взяв за основу комедию Аристофана и еще какого-то современного шведа или датчанина. Я видела, что пишется вам легко, весело. Работа превращалась в игру.
Ты бросал реплику – Виктор подхватывал.
– Ну, как еще можешь ответить, ну, еще? – провоцировал ты его снова и снова.
Писали диалоги, словно азартно играли в мяч. Виктора покоряла твоя способность работать по принципу «два пишем – десять в уме». Ты в последнее десятилетие стремился смешивать жанры в одной пьесе. За сценой «будуарной» шла сцена героическая – «Часовой, пропусти…» Буфф, гротеск, патетика, пронзительная лирика, а рядом – мелодрама. Это сочетание тебя никогда не смущало. Широта твоего взгляда на мир позволяла совмещать в драме мысли о единстве земли и неба, реальности и вымысла. Да и ты сам сочетал в себе такие разные черты – то яростный турок, то нежный турок, то… – ох, перечислять долго.
У меня редко выдавалась минута позвонить старым друзьям на студию, а всегда хотелось узнать, как они там просто поболтать. И я пользовалась случаем, что вы с Виктором работаете, уносила телефон, но… не тут-то было. Как только я начинала говорить, ты вбегал и вопросительно прислушивался – с кем? о чем? А потом говорил:
– Вера, иди, сиди с нами! Все эти пьесы-мьесы я затеял только для того, чтобы ты видела, как это делается, поняла технику написания драмы, ее возможности. Деньги – ерунда! Скоро у меня выйдут книги – это не вопрос. Главное, научить тебя этой профессии. А ты болтаешь по телефону, как маленькая девчонка!
Эти аргументы были, конечно, несерьезные. Ты просто хотел, чтобы я всегда была рядом.
Потом наступало время обеда. Я кормила вас вкусными вещами, потому что единственное, что я умею делать хорошо, – это готовить еду.
Пока вы писали, в доме не было толчеи.
– Говорите короче, мы работаем, – мог сказать Виктор случайному гостю. – Назым занят, у него срочное дело. Звоните через месяц, – отвечал он по телефону.
После обеда вы час-полтора отдыхали. Вспоминали разные случаи, истории. Однажды Виктор рассказал, как ты единственный раз пришел в театр имени Ермоловой на репетицию «Чудака», как актеры выясняли у тебя всякие тонкости о каждом герое пьесы. Потом кто-то из них спросил о Нихаль – ведь она предала Ахмеда, ушла к противному человеку: «Она хорошая или плохая, положительная или отрицательная?» И как ты ответил: «Почему отрицательная?! Она просто женщина, и такой она останется до полной победы коммунизма».
Ты смеялся своей шутке, будто впервые ее услышал.
Ты радовался, когда люди рассказывали о тебе с улыбкой. Любил карикатуры, часто шутливо ворчал:
– Никакой я не знаменитый, на меня даже карикатуру не делают, даже шаржи не рисуют.
Еще Витя вспоминал, как после твоего злополучного выступления по телевизору в 1956 году, когда ты говорил о дороговизне театральных билетов и о том, что семья рабочего с большим напряжением для бюджета может пойти в театр он на следующий день сел в такси, и шофер ему восторженно сказал: «Вы слышали, вчера Назым Хикмет по телевизору прямо в лоб министру культуры какую речь толкнул?! Говорит, нельзя, чтобы так дорого стоили мотоциклы, коньяк, билеты на самолет». А ты смеялся и пересказывал Вите со слов Акпера отзыв на свое выступление другого шофера: «Вчера один грек выступал по телевизору, здорово говорил, что жизнь у нас собачья, дорогая. Но ему-то можно критиковать, он сказал, а сам утром сел в поезд и укатил в свою Грецию». Но тема дорогих билетов в твоей телевизионной речи возникла случайно. Главным для тебя тогда было другое. В тот вечер, вскоре после ХX съезда ты впервые громко, на всю страну заговорил о величайшем театральном режиссере Всеволоде Мейерхольде и его трагической судьбе. И Виктор вспоминал взрыв аплодисментов в зале Центрального дома работников искусств, и как раскатился он на всю страну.Это время я помню в длинных разговорах о Пушкине, Чехове, о Мейерхольде и, конечно, о Маяковском.
– Маяковского ты никогда не видел? – как-то спросил ты Комиссаржевского.
– Видел. Однажды он за руку даже поздоровался со мной.
– Да?!
– Мальчишками-подростками мы бегали в клуб писателей. И мне удалось пробраться на закрытие выставки «Двадцать лет работы Маяковского». Вокруг него были молодые в этот день… Неожиданно Маяковский обернулся, начал со всеми здороваться и протянул руку мне. Я смутился, а он сказал: «Ничего, я сегодня здороваюсь со всеми в округе». В тот день Маяковский читал поэму «Во весь голос». А потом, после закрытия выставки все перешли в зрительный зал. В этот вечер 11-го или 12 апреля 1930 года официально открывался клуб писателей, он тогда назывался ФОСП. И в честь его открытия подготовили капустник в форме репортажа из Литературного музея двухтысячного года. Вели это представление поэтесса Вера Инбер – ты ее хорошо знаешь, и режиссер эстрады Виктор Типот. Он вышел на сцену, и в каждой его руке было по топору. «Вот этим топором, – сказал Типот и поднял правую руку, – Родион Раскольников убил старуху. А вот этим, – и он поднял другую руку, – старуха убила Федора Раскольникова (автора инсценировки романа Льва Толстого “Воскресенье”) за то, что он уничтожил “Воскресенье”». Кстати, – заметил Комиссаржевский, – шутка была несправедливой, а инсценировка превосходной, и ты, Назым, видел ее во МХАТе. Затем Вера Инбер вынесла бюстгальтер, и было сказано: «Это все, что осталось от поэта Уткина. Вот. Нашли его бюст».
– Почему они такую вещь сделали? – удивился ты.
– Поэт Уткин, ты его не знаешь, конечно, был очень женственный, красивый, ну, и они так сострили. А затем последовал черный юмор, о значении которого не подозревали, конечно, и сами авторы этого пародийного шоу. На сцену вынесли две большие урны и одну маленькую. И Типот сообщил, что в этих урнах покоится прах великого поэта Маяковского: «Поэт был так велик, что его прах не уместился в двух урнах. Видите, – сказал он, – здесь их две с половиной. И на этих урнах поэт просил начертать свои самые любимые строки». Они повернули урны, и все прочитали там РОСТовские стихи:Товарищи люди!
Будьте культурны!
На пол не плюйте,
А плюйте
в урны!
А в четвертом ряду сидел Маяковский, и в кармане его пиджака уже лежало предсмертное письмо «Товарищ Правительство!», датированное 11 апреля. А покончил он с собой 14-го.
– Но как он реагировал, когда эти люди сделали свой эстрадный номер? – ты был потрясен.
– В том-то и дело, что он молчал. Тогда это всех удивило…
– Да… Значит, он был очень подавлен… А с другой стороны, «большой поэт не уместился…» Что он мог говорить если письмо лежало в кармане. Жалко его. Когда думаю об этом, мне кажется, будь я с ним, он бы этого не сделал. Абсурд, конечно. Но легче жить, когда думаешь, что смерть можно отвести рукой.
В один из таких рабочих дней к нам на машине заехал Борис Эрин. Стояла середина августа, на улице было по-летнему тепло и тихо. Узнав, что ты целый день провел за письменным столом, Эрин стал уговаривать вас с Комиссаржевским устроить перерыв и махнуть на полчаса в лес. Мы вчетвером сели в машину и понеслись в сторону Шереметьева.
Не доезжая километров десяти до аэропорта, Эрин съехал с шоссе и по проселку покатил к березовой роще. Было часов пять после полудня, зеленые краски земли были щедро залиты спокойным солнечным светом. Вокруг не было ни души. Я помню, что у всех было чудесное настроение.
Мы подъехали вплотную к лесу, но вдруг увидели зеленые палатки и ребят. Их было немного, человек двадцать. Они так настороженно смотрели на нашу машину, словно это был космический корабль. Мужчины, слегка опешив, стали думать, не повернуть ли назад. Я засмеялась:
– Сейчас мы выйдем из машины, и я скажу: «Здравствуйте дети, сегодня к вам в гости приехали знаменитый турецкий поэт, лауреат Международной премии мира Назым Хикмет и известные советские театральные режиссеры – Виктор Комиссаржевский и Борис Эрин!»
– Вера, ты не сделаешь этого! – взмолился ты.
Я вышла из машины и точь-в-точь повторила ребятам свою фразу. Мальчишки и девчонки, большие и первоклашки, окружили нас со всех сторон, они восторженно смотрели на тебя, и ты вдруг весь засветился от их улыбок. Оказалось, что учительница собрала здесь ребят, которые по разным причинам не смогли уехать из Москвы на лето. Школа дала им палатки и хозяйственную утварь, какое-то учреждение подкинуло денег, и ребята жили в лесу на полном самообслуживании. О своей самостоятельной жизни они рассказывали наперебой с гордостью.
Разговаривать сели за длинный, сколоченный старшими ребятами стол. Ты не так давно вернулся с Кубы и рассказывал о праздниках и песнях на улицах Гаваны, о том, как весело там, как интересно. Ты вспоминал Москву двадцатых годов. Говорил, что своими контрастами и доверием людей к новой власти современная молодая Куба напоминает тебе московскую жизнь тех лет. Вдруг заговорил о пугающей схожести молодых кубинских лидеров с советскими бюрократами, о явном психопатизме Фиделя, особенно заметном во время его выступлений…
В лесу стало смеркаться, кто-то из ребят разжег костер, и все пересели к огню. Низкое пламя подсвечивало лица. Было светло на душе. Ребята слушали, затаив дыхание, потом стали спрашивать о Турции… А ты все рассказывал и рассказывал, а мы все сидели вокруг как зачарованные. Костер догорал, но никому не хотелось вставать и идти за ветками. В лесу совершалось чудо.
Наконец ты поднялся, Назым. Ребята с неохотой отпускали нас. И только их молодая учительница все никак не могла взять в толк, каким образом у них в гостях оказались эти знаменитые люди. У нее было такое лицо, словно она боится проснуться. А мы ей не стали ничего объяснять. Хорошо, когда учителя верят в чудеса.Вчера я была в гостях у Бориса Эрина и его жены Веры. Говорили о тебе. Вера вспомнила, как однажды, вскоре после рождения их сына, они с Эриным пришли к нам ужинать и как ты шутливо попросил ее тогда: «Миленькая, отдай нам с Верой твоего Алешу, зачем он тебе? Еще родишь…» А потом грустно объяснил: «У нас нет на это времени. В конце жизни я стал эгоистом. Не хочу Веру делить ни с кем, даже со своим ребенком. Не хочу с ней расставаться ни на один день». Целый вечер мы проговорили о тебе. Они рассказали мне, как проходили твои похороны, Назым. Оказывается, у Эрина есть кинопленка твоих похорон. Может быть, когда-нибудь я смогу ее посмотреть. Я ведь почти ничего не помню… А может быть, я просто боюсь еще раз пережить тот день. Прости меня, Назым, если в нашей жизни что-то было не так. Спасибо тебе, Назым. Выключаю свет.
Когда итальянка Люссо Джойс предложила тебе тайно вывезти твоего сына Мемеда из Турции в Варшаву, ты испытал большое смятение. Причин для сомнений было много.
Потом тебя вдруг осенило:
– Я знаю, что случится! Мемед вырастет и обязательно влюбится в Аннушку. Не может не влюбиться, она изумительная девочка. И Аннушка тоже, я думаю, полюбит его. Я уехал, когда сыну было три месяца, сейчас десять лет. На фотографиях он красивый мальчик и, мать пишет, умный. Вот они станут нашим продолжением. Ах, как я рад! И они будут счастливы, я уверен. И в их жизни ты будешь видеть нас, Веруся моя, понимаешь?Но этого не случилось, Назым. Не только Анюта, но и ты после той единственной вашей встречи, когда Мемед с матерью все-таки оказались в Варшаве, был лишен возможности видеться с сыном. Может быть, твое свидание с сыном еще впереди? Хочется верить…
Спустя несколько коротких лет случилось то, во что ты, оказывается, слабо верил: из Турции бежала Мюневвер с Мемедом и дочерью от первого брака. Помнишь, как нам позвонили ночью и сообщили, что они сидят на каком-то острове в Греции. Помнишь, как утром ты улетал в Варшаву их встречать и я сказала тебе на аэродроме:
– Назым, поступи так, как подскажет тебе сердце. Вы не виделись десять лет. Сейчас ни о чем нельзя говорить. Ты должен быть спокоен за меня, я все выдержу, все пойму… Мы не виновны, что наша жизнь оказалась еще сложнее нас.
Я искренне говорила Назыму:
– Не думай обо мне. Я на родине, среди своих. Мне проще, чем всем вам.
Ты возмущался:
– Вера, как ты можешь так думать!
Тебя в те минуты волновали бытовые вопросы, которые предстояло решить: как устроить их жизнь, чтобы им жилось в Варшаве лучше, чем в Турции.
Но, что говорить, нам было трудно тогда.
Из отеля «Бристоль», где ты провел десять нелегких дней, ты звонил мне утром и ночью по многу раз. От этих дней осталось письмо:Милая моя, женушка моя, сегодня, 8-го пошлю тебе пьесу «Пражские куранты». Сегодня ночью буду звонить тебе. Целую, хорошая моя. Мне очень трудно. Я знаю, как трудно тебе тоже. Скоро, скоро увидимся. Все-таки ничто не может разлучить нас.
Твой муж Назым
1961. ВаршаваНедавно Борис Эрин мне сказал:
– Знаете, Вера, у меня незадолго до смерти Назыма был с ним странный разговор. Он вдруг нервно стал говорить, что ему незнакомо чувство отцовства, не экономическая ответственность, а именно чувство; что он не понимает психологии детей, что они его раздражают, что он их не любит… Я, признаться, удивился, поскольку много раз видел Назыма в окружении детей, и он был ласков с ними, хотя не сюсюкал и говорил на равных.
– Наверное, это было сказано сгоряча, – говорю я, – под каким-то тяжелым впечатлением… Может быть, в этот день сын ему позвонил из Варшавы и предъявил очередной счет… Подобные разговоры случались в последний год жизни Назыма.
– Возможно. Но я не поверил его словам. Ведь он искренне любил Анюту?Ты любил Анюту, я это видела.
– Я никогда не встречал такой спокойной, умненькой, вежливой девочки, как наша Анюта. Анюта, почему ты никогда ничего не берешь без разрешения? Ты знаешь, все дети это делают? Анюта, почему совсем не капризничаешь? А ну, давай, попробуй немножко, – и ты смешно показывал ей, как это делают плохие дети.
«Ты хорошая, умненькая и добрая моя. Желаю получить так много пятерок в жизни, чтобы они надоели тебе. Целую, обнимаю. Дядя Назым», – написал ты ей в телеграмме из Баку. «Анюта, миленькая, молодец ты! Не надоели ли тебе твои пятерки?» – шутливо спрашивал ты ее в другой телеграмме.
Как-то тебе попались открытки с репродукциями известных картин Модильяни с изображением обнаженных натурщиц, и ты положил их под стекло на своем письменном столе. Увидев открытки, я подумала об Анюте и сказала тебе, что, может быть, маленькую девочку смутят такие картинки на столе «у дяди Назыма». Время было ханжеское, я видела, что даже взрослые смотрели на Модильяни под стеклом с испугом.
– Ничего, ей пошел уже одиннадцатый год, – быстро сказал ты. – Я сейчас ей все объясню. Я не хочу, чтобы она даже на минуту испытала смущение от этих солнц.
Ты позвал Анюту в кабинет, закрыл за собой дверь и полчаса с ней разговаривал. Я не знаю, что ты говорил ей там, но когда вышел ко мне, то сказал:
– Вот теперь наша Анюта никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах не будет ханжой.
Когда мы бывали за рубежом, ты сам покупал подарки моей маме и Анюте. Но этого тебе было мало. Ты хотел сделать для Анюты нечто из ряда вон выходящее, что-то такое, чтобы она поняла и оценила.
– Она же знает, что мне ничего не стоит купить ей кофточку или ботинки. Нет, это не то.
И однажды ты придумал. Приехал в Москву и, подозвав Анюту, заговорщицким тоном сказал ей:
– Держи, Анюта, никому не рассказывай, а то будет нам с тобой так стыдно! Я украл все эти вещи для тебя.
И высыпал ей на колени разноцветные леденцы, которыми угощают стюардессы в иностранных самолетах, пузырек одеколона из туалета «Каравеллы» и еще какие-то мелкие вещицы. Теперь они были связаны тайной. Анюта свято хранила секрет дяди Назыма. А ты с тех пор пристрастился воровать в самолетах.
Однажды мы пересели в Париже из «Аэрофлота» на итальянскую «Alitalia». Ты тут же начал «работать» – как только стюардесса появилась с подносом конфет, взял горсть, поколебался и взял еще.
– Какой жадный этот месье, – тихо прошептала девушка стюарду, помогавшему ей обслуживать пассажиров.
Ты услышал ее реплику.
– Я не жадный, – улыбнулся и честно объяснил, что твоя маленькая дочка в Москве подумает, что ты забыл ее, если приехать домой без трофеев. Девушка со всей серьезностью отнеслась к твоей тайне. Через пять минут она очень торжественно, как орден, вручала тебе килограмм леденцов, хорошо упакованных фирмой «Alitalia».
– Я не могу это взять! – расстроился ты. – Понимаете? Я должен быть честным! Весь фокус в том, что я ворую для нее, понимаете?
Девушка смеялась.
– Я никогда не встречала такого забавного месье! – и она шепотом дала тебе несколько полезных советов, сказала, что и где можно украсть у них в самолете без ущерба для безопасности полета.
– Спасибо, спасибо, милая, – веселился ты, – я еще не осмотрелся хорошенько. У меня еще есть время.
Ты стал листать журналы. Среди них был толстенный иллюстрированный «Air France», состоящий в основном из рекламы и вдруг:
– Вера, смотри, это невероятно! Мои стихи! «Море». Миленькая, – обратился ты к стюардессе, – здесь напечатаны мои стихи. Вы не могли бы подарить мне этот журнал? Не могу же я его украсть, в самом деле!
– О, здесь печатают только знаменитостей! Значит вы… Я сейчас спрошу у командира, – и стюардесса убежала, на всякий случай прихватив журнал с собой. Через несколько минут она вышла уже в сопровождении командира. Тот сказал целую высокопарную речь и торжественно преподнес тебе журнал, правда, пожалел, что он «за рулем» и не может пропустить с тобой по стаканчику винца, как полагается у итальянцев.Передо мной нарядная, как праздничный сон, картинка. На ней стихи. Помню, ты протянул ее Анюте 13 ноября 1961 года так, как если бы в твоих руках был аквариум с рыбами, полный воды.
Тебе исполнилось, Анюта, девять лет.
Когда тебе исполнятся все девяносто,
изменятся глаза твои,
их блеск и цвет,
и будешь ты
совсем другого роста.
Тебе исполнилось сегодня девять лет,
и я тебе желаю в день рожденья,
чтоб девять лет
умножив в десять раз,
одно в тебе не изменило время:
твой
в сердце спрятанный
алмаз.
Назым Хикмет 12.11.1961
Ты говорил:
– Анюта, ну чем мне тебя обрадовать?
Однажды она попросила тебя никуда не уезжать из Москвы и прийти в Музей Ленина, когда там в день рождения вождя ее будут принимать в пионеры. К ее желанию ты отнесся со всей серьезностью.
– Как мне лучше поздравить Анюту? Как вообще это происходит? – спрашивал ты.
Но я не знала. Меня в пионеры не принимали. Во время войны, видно, было не до пионеров.
В назначенный день, 22 апреля 1963 года ты попросил:
– Пойдем немножко раньше. Я не был в музее у Ленина.
Мы приехали. Ходили по пустынным безжизненным залам музея, и на наших глазах они заполнялись взволнованными нарядными детишками. Я помню, как ты пристально рассматривал фотографии Ленина.
– На портретах и плакатах сегодняшних художников он совсем не похож на себя. Ты не знаешь, в каком костюме его хоронили?
– Ты же стоял в почетном карауле у его гроба, Назым.
– Я лицо помню так, будто сейчас вижу. А больше ничего. Я стоял в почетном карауле у его гроба всего пять минут. Я говорил с ним, конечно, в мыслях. Самые важные вещи успел сказать, а всю свою дальнейшую жизнь искал у него ответы на мои внутренние вопросы…
Вскоре появилась Анюта с одноклассниками и учительницей. Нам сообщили, что их класс будут принимать в пионеры в траурном зале. Я огорчилась – ну какой же праздник в траурном зале!
– С ума они, что ли, сошли?!
Ты помрачнел, но молчал. Когда мы вошли в этот зал, притихшие дети уже выстроились вдоль стен. Прямо перед ними на пьедестале лежала под стеклом посмертная маска Ленина и его гипсовые руки. Кругом стояли траурные венки, приспущенные знамена с черным крепом, на стендах многочисленные газеты с черной каймой, три фотографии похорон. Потрясенные дети с испугом смотрели на маску вождя. Для большинства это была первая встреча с образом мертвого человека. У входа вместе с нами стояла кучка родителей. Так простояли мы долго. Оказывается, руководители музея, узнав о появлении Назыма Хикмета, позвонили на Центральное телевидение, и все началось только после приезда кинооператора. Ты очень хорошо поговорил с ребятами, рассказал, как впервые увидел Москву, какой она была веселой. Рассказал о детях Турции, попросил:– Дружите с людьми земли, на каком бы языке они ни говорили.
В результате праздник все-таки состоялся.
Мы вышли из музея и остановились пораженные: хмурый день разгулялся. Ярко, словно по заказу светило солнце. В Москву пришла весна. Кругом текли ручьи, капало с крыш, синело над Кремлем высокое небо. Ты распахнул пальто, сдвинул кепку на затылок, расстегнул голубое пальтишко Анюты и высвободил ее алый шелковый галстук. Ты чувствовал, что в эти мгновенья ей хотелось показать свой галстук всей Москве. Кругом все кипело людьми, двигалось, ехало, и нам стало весело среди толкающихся прохожих.
– Пошли, погуляем немножко по улице Горького, – предложил ты, подмигнув Анюте. – Здесь на каждом шагу торгуют мороженым! Понимаешь?
Мы взяли Анюту за руки и пошагали праздной походкой свободных людей, счастливых, не обремененных в эти часы никакими заботами.
Мы миновали Манежную площадь, пошли мимо гостиницы «Москва», возле здания Совета Министров, вдоль витрин магазина «Подарки», вверх, вверх к Моссовету… Ты посмеивался над Анютой, говорил, что все на нее смотрят с таким же уважением, как на героя или космонавта. Поравнявшись со зданием Центрального телеграфа, ты взглянул на его огромные часы – было начало четвертого.
– Давай, Анюта, идем в ресторан! Отметим как полагается твой праздник. Сегодня я куплю тебе все мороженое Москвы – мама не будет ругаться. Я хочу устроить настоящий банкет в твою честь!
Я поняла, что ты устал и проголодался, но на душе у тебя хорошо, и ты опять все превращаешь в игру.
Мы поднялись на второй этаж «Националя», в тот самый старинный зал, где обычно обедали с Пабло Нерудой, когда навещали его в гостинице. Заняли тот же самый, «его» столик у окна с видом на Красную площадь. «В Москве я хочу постоянно видеть перед собой Кремль и Красную площадь», – часто говорил Пабло. Сели, расслабились, с удовольствием выбирали еду. На десерт, конечно, фирменное мороженое, ты его любил, но не упускал случая поворчать, что мороженое готовят здесь не на фруктовом соке, как в Турции, а слишком жирным.
Тем не менее, ты заказал «тонну» мороженого, которое в этом ресторане официанты подавали, как еще при царе Горохе – на громадном серебряном подносе. Анюта, наверное, всю жизнь будет вспоминать, как они с «дядей Назымом» ждали его и дождались. Вот появился официант. Словно фокусник, он нес на вытянутой вверх руке поднос с колосальной причудливой снежной елкой, щедро украшенной фруктами, печеньями, орешками и вареньем. И вдруг елка эта неожиданно вспыхнула высоким огнем чуть ли не до потолка. Пабло тоже всегда приходил в восторг от представления с пылающим мороженым.
Женщина, сидевшая к нам спиной за соседним столиком, обернулась посмотреть, кому несут такое богатство, и оказалась Анной Зегерс. Как ты обрадовался! Вы с Анной давно дружили и очень симпатизировали друг другу. Ты вскочил, бросился к ней, привел ее к нашему столу, представил ей юную пионерку Анюту – ее тезку. Анна Зегерс целовала и поздравляла Анюту, расправляла ее галстук, спрашивала, как все проходило, а Анюта пыталась вырваться от назойливой старушки – ведь перед ней на столе таяло мороженое – и злилась, что ей это никак не удается.
Когда мы распрощались с Анной Зегерс и вышли на улицу, ты попросил:
– Веруся, отвези меня на подмосковную дачу Ленина в Горки. Мне захотелось увидеть, как он жил последние годы. Мне не пришлось там побывать. И прошу тебя, миленькая, не откладывай, едем завтра.
В Горки Ленинские мы поехали через два дня. Белый дом на пригорке за зеленым лугом показался издалека. Мы оставили машину у ворот и пошли по асфальтовой дорожке к дому, куда раненого Ленина привезли долечиваться в 1918 году. Параллельно шла другая – широкая, нехоженая, под желтым песком. Позже мы узнали, что по ней несли из Горок гроб с телом Ленина.
Прекрасная вилла, парк и высокое место над лугом тебе понравились. Нам рассказали, что до революции дом принадлежал начальнику московской жандармерии Рейнботу, поэтому-то сановник и смог установить себе телефонную связь, «воздушку», как ее в то время называли. А красивым дом сделала его жена, овдовевшая в первом своем замужестве после самоубийства Саввы Морозова – богатого фабриканта, ценителя искусств и мецената.
Мы в сопровождении нескольких женщин медленно переходили из одной комнаты в другую. Весеннее солнце наполняло дом светом. А все, кто шел с нами по дому, не торопились, не переговаривались.
Наконец мы поднялись в маленькую угловую комнату наверху. Узкая железная кровать, тумбочка с пузырьками от лекарств…
– Это случилось здесь? – спросил ты.
– Да.
– Как это произошло?
Нам рассказали.
– Значит, он умер, лежа в кровати? Тогда зачем же в фильме «Рассказы о Ленине» мой друг Сергей Юткевич показал, как Ленин умирает, сидя в кресле, одетый в костюм и, кажется, с книгой в руках?! Разве он не был здесь, когда пять лет назад снимал свой фильм?
– Был, конечно, – ответили. – Хотел, наверное, создать впечатление, что Ленин до последнего дня интенсивно работал… После его фильма люди приходят к нам и, когда узнают, что с 15 мая 1923 года после третьего инсульта он уже не разговаривал, недоумевают, вспоминая того веселого, говорливого Ленина. Но ведь художники имеют право на домысел… Правду жизни реального человека показать труднее…
– Я к таким художникам не отношусь, – разозлился ты. – Я знаю Юткевича. Наверное, его заставили так закончить фильм. А Сталин тоже приехал сразу?
– Конечно! Вместе со всеми выносил из дома гроб с телом Владимира Ильича. Вон по той дороге нес. До ворот.
– А когда он был здесь в последний раз при жизни Ленина?
– Летом 1923 года.
Ты помолчал, а потом бросил с нескрываемым презрением:
– Хороший друг! Полгода не навещал смертельно больного товарища.
Проходя мимо витрины, где лежали рукописи Ленина, ты остановился возле одной из них и, показывая на документ, спросил:
– Почему бумага на этой странице наполовину желтая, а наполовину белая?
Оказалось, что до XX съезда посетителям показывали лишь половину текста, а после – разрешили открыть лист целиком. Это было «Письмо Сталину для членов ЦК РКП(б)» – последняя ленинская работа, которую он собственноручно написал в начале декабря 1922 года, «Национальный вопрос» – самый трудный вопрос для Советского Союза. Потом он мог только диктовать.
– В конце жизни он догадывался, конечно, что каша, которую заварил, может оказаться с гвоздями. Имперское сознание многих руководителей ЦК, их высокомерие к «нацменам», как здесь говорят, – это бомба под СССР. Я когда-то читал у Ленина, что если поезд идет из Москвы в Баку, то, когда он пересечет границу Азербайджана, проводник обязан говорить по-азербайджански. Но ведь так никто не делает…
Я часто думаю: почему к тебе, иностранцу, в нашем запуганном государстве за помощью обращались тысячи простых людей? Ты постоянно боролся за чью-то судьбу, за восстановление в правах репрессированных народов (помню семьдесят крымских татар, сидевших на полу в гостиной, помню слезы ходоков ингушей и старых чеченов, помню абузаров…), за гуманный социализм с не бегающими от лжи глазами.
Я слышала, как ты, Назым, говорил у нас дома с большим аппаратчиком ЦК, заведующим отделом Миловановым. По номенклатурной раскладке это ранг министра. В то утро вы обсуждали проблему курдов в Ираке – ты только что получил трагические письма курдских студентов и хотел им всячески помочь. А я мучилась над скучнейшей статьей в соседней комнате и, услыхав твой бурный монолог, с большим удовольствием начала его записывать, предвкушая, как можно будет вечером продемонстрировать его друзьям… – С моих глаз каждый день, как с кочана капустные листья, спадают черные завесы, за которыми хотят спрятать от меня жизнь моей второй родины – Советского Союза. Товарищ Милованов, не прячьте глаза и не разговаривайте со мной как с иностранцем. Я – турок, но я больше советский человек, чем вы! Я вырос из двадцатых годов, и я хочу знать всю правду. Отвечайте мне, почему подростки пьют водку? Почему рабочие на стройке – посмотрите в окно – целый день курят и бездельничают, почему везде бюрократы на любой вопрос сначала отвечают «нет», а после нечеловеческой борьбы оказывается «да»? Почему прием в вузы ограничен национальными рамками, и везде и всюду вы даете заполнять анкету с пунктом о национальности? Даже чтобы получить книгу в библиотеке, пускаете в ход позорный пятый пункт. Почему коммунист, если он русский, – у вас считается стопроцентным коммунистом, если украинец – на восемьдесят процентов, если коммунист грузин – только пятьдесят процентов, узбек – сорок процентов, еврей – пять, а коммунист турок – вообще не коммунист, и ему нельзя говорить правду! Почему у вас ответственные товарищи получают какие-то особые пайки и дополнительные деньги на отдых, на лечение, на одежду? Почему их отдельно лечат и дают им редкие лекарства? Почему, когда восемьдесят тысяч больших чиновников едут утром на работу, они даже в трескучий мороз не берут в свою государственную машину маленьких цыплят – первоклассников, которые мерзнут на автобусных остановках? Перестаньте улыбаться, товарищ Милованов, и послушайте меня: очень скоро настанет время, когда со всем этим позором будет покончено! Это говорю вам я – старый турок, который кое-что видел на своем веку.
Я знаю, Назым, ты был уверен, что Ленин думал так же хорошо, как ты.
Однажды к нам в гости пришла старая комедийная актриса Фаина Георгиевна Раневская. Мы сидели за столом, обедали, говорили. Ты в какой-то связи вспомнил о Ленине. Наша гостья вдруг оживилась и, поправив черный велюровый берет на своих пышных голубых волосах, сказала:
– А вы знаете, Назым, я была знакома с Лениным. Это почему-то прозвучало так неожиданно, что за столом воцарилось молчание.
– Я была маленькой больной девочкой из бедной еврейской провинциальной семьи. И вдруг, вы подумайте! Какое несчастье! У меня туберкулез! Родители повезли меня лечиться в Швейцарию. Там мы поселились в красивом отеле на берегу Женевского озера. Однажды я ужасно разбегалась, – неторопливо рассказывала она своим неповторимым грудным голосом, – и родители послали меня в наши апартаменты немного успокоиться. Конечно, я помчалась бегом и так неслась, что влетела в чужую дверь. Там за столом я увидела человека, который сидел и что-то сосредоточенно писал. Я хотела убежать, но этот господин остановил меня, усадил, чтобы я отдышалась. Он спросил, кто мои родители, откуда мы приехали, что мы здесь делаем, как меня зовут. Потом он сказал: «Ты, девочка, сиди, сколько захочешь, а я немножко поработаю, а потом мы с тобой еще поговорим». И он принялся снова писать. Я посидела-посидела, мне стало скучно, я встала и тихо ушла. В семнадцатом году, когда началась революция, я была молодой провинциальной актрисой в одном захудалом украинском городишке. Все уже говорили о Ленине. Его имя было самым популярным. Однажды я взяла в руки газету и – Боже! – это же тот господин, который разговаривал со мной в швейцарской гостинице! Я подумала: зачем я от него так быстро ушла! Он бы мне обязательно что-нибудь интересное рассказал.
Она помолчала, а потом громко прошептала:
– Скажите, Назым, он действительно гениальный?
– Да! А как же! – вскричал ты и расхохотался.Но иногда ты спорил и с Лениным:
– Не могу больше читать лозунги типа «искусство принадлежит народу» или «искусство должно быть понятно народу». В одном случае – это демагогия, в другом – ошибка. Разве Шостакович и Достоевский виноваты, что необразованные люди их не понимают?
Ты злился, что охранники биографии Ленина сторожат от людей информацию о его частной жизни, например, о ста с чем-то любовных письмах к Инессе Арманд. Что некоторые приказы Ленина дают пищу для чудовищных слухов о жестокости, вероломстве. Что поговаривают даже о сифилисе… Что-то не сходилось у тебя в образе советского вождя, что-то постоянно тревожило. Но при этом я никогда не видела его книг в твоих руках. Тебе хватало прочитаного в молодости.
Я недавно спрашивала у нескольких специалистов, где у Ленина написано про азербайджанского проводника – все пожали плечами.
Мы вышли на улицу. Ты находился под впечатлением трагизма последних лет жизни Ленина, ощутил его беспомощность, растерянность, плен.
Мы нашли скамью в парке и немного посидели, глядя на окна особняка. Ты перебирал в памяти увиденное, все говорил, говорил… о Сталине.
Над нами в листве деревьев по-весеннему звонко пели птицы в экспроприированном саду вдовы русского мецената Саввы Морозова.«А чужое брать – нехорошо», – в детстве меня учила бабушка. Я иногда думала, Назым, глядя на тебя – не чужое ли я взяла?
Тебе всегда хотелось знать, как писатели, режиссеры, артисты выживали в непосредственной близости от Сталина и его окружения. Ты говорил об этом с Михаилом Роммом, с Довженко, с другими – с кем Сталин любил беседовать бессонными ночами. Ты запомнил, как пересказывал наш прославленный тенор Иван Семенович Козловский свой диалог со Сталиным, происходивший, очевидно, в середине войны:
– Товарищ Козловский, вот тут артист Вертинский хочет купить госпиталь для советских солдат, просится пустить его на родину из Шанхая. Как вы относитесь к артисту Вертинскому?
– А вы, товарищ Сталин, как относитесь к артисту Вертинскому?
– Вот товарищ Молотов спрашивает, пускать его к нам или не пускать?
– А товарищ Молотов как думает, пускать Вертинского или нет?
И долго в таком духе. Понимаете, Назым? Он грузин, а я – хохол. Мы все равно хитрее. Я ему так и не ответил. Потому что, если бы я Сталину стал советы давать, моя голова долой!
Добавил для тебя свой штрих к портрету Сталина знаменитый профессор М. С. Вовси рассказами о своем аресте по делу «врачей-вредителей». Он в течение многих лет лечил Сталина, и тот хорошо его знал. Когда профессор находился в Лефортовской тюрьме под следствием, Сталин поинтересовался у Берии: «А как там Вовси?» Берия ответил: «Неважно, у него печень болит». На что Сталин ответил: «Бить по печени!» Берия понял это как приказ, о чем и сообщил профессору на допросе…
А этот рассказ я слышала сама. Однажды к нам в дом пришел старый большевик, человек, который в середине тридцатых годов работал в охране Сталина. В числе прочего рассказал, как весь вечер, предшествующий гибели жены Сталина – Надежды Аллилуевой, он простоял позади Сталина по долгу службы.
Правительственный банкет в честь ХV годовщины Октябрьской революции проходил в здании нынешнего ГУМа, где на одной из его линий был накрыт длинный стол. Банкет был не особенно многолюдным, но все члены правительства и крупные военачальники были с женами. Женщины пришли в вечерних платьях, а некоторые – в открытых. Сталин с Аллилуевой сел не во главе стола, как предполагалось, а в середине. Напротив него сидел Тухачевский со своей необыкновенно красивой женой. Ее платье было с глубоким вырезом, и в течение всего вечера Сталин развлекался тем, что скатывал хлебный мякиш в шарики, и довольно ловко бросал их в ложбинку декольте жены маршала. Женщина пребывала в полном смятении. Все видели, что его игра раздражает и оскорбляет Аллилуеву. Она даже пыталась отнять у мужа хлеб, но Сталин упорно продолжал кидать катыши. Аллилуева несколько раз что-то раздраженно говорила ему, но он не обращал на нее никакого внимания. Наконец, не выдержав унижения, она встала из-за стола и ушла. Сталин даже головы не повернул в ее сторону. Этой же ночью Надежда Аллилуева застрелилась.
Однажды вы сидели с Пабло Нерудой и страстно проклинали Сталина. Потом Пабло после некоторого молчания спросил:
– Назым, а ты знаешь хоть одно хорошее дело этого типа?
– Одно знаю, – подумав, ответил ты. – Вон, видишь на Красной площади, посередине стоит красивый собор? (Мы сидели в номере Пабло в гостинице «Националь» напротив Кремля). Так вот, как-то у Сталина в Кремле обсуждался план реконструкции Москвы. Главный архитектор Москвы рассказывал с помощью макетов, как за счет разрушения старинных домов и улиц будут проложены широкие проспекты. Сталин все кивал головой. Наконец, архитектор дошел до Красной площади. Воодрузив на стол ее макет, он предложил: «Давайте уберем отсюда этот собор, чтобы войска после парадов могли уходить с площади не в два рукава, а по одной широкой дороге… Видите, как будет хорошо – и смахнул с макета древний храм…» – «Положи на место – со своим грузинским акцентом сказал Сталин, и, видя, что собор все еще валяется на боку, цыкнул: – Положи, я тебе сказал!..»В черновике главы о тебе в книге «Люди, годы, жизнь», который передал мне Эренбург, он вспомнил твои слова: «Я часто думаю о смерти Фадеева… Мне повезло, конечно, я сидел в тюрьме, но меня посадили враги, я знал, что я в аду. Куда хуже было жить в раю, и смотреть, как ангелы жарят на сковородках товарищей…» Еще до нашего с тобой знакомства, под впечатлением от самоубийства Александра Александровича Фадеева в 1956 году ты написал об этом сразу запрещенную пьесу «Быть или не быть?». Когда в конце 1962 года вы с Завадским собирались сделать последний ее вариант для театра им. Моссовета, ты подключал его к своему сюжету разными воспоминаниями о Фадееве. Помнишь, как Юрий Александрович просил меня записывать твои рассказы, чтобы потом использовать их при постановке? Спектакль так и не появился, а записи мои остались. Вот что ты рассказал:
Мы с Фадеевым обнялись раньше, чем познакомились. Было это на Внуковском аэродроме 29 июня 1951 года, когда я вышел из самолета. Через десять дней опять встретились на банкете, который Союз писателей устроил в мою честь. Я ведь не мог и предположить, что культ Сталина у вас. Я выжил в тюрьме только благодаря тому, что Советский Союз есть, социализм есть, гордился, что интернациональное государство, созданное Лениным, победило фашизм. Я всегда представлял себе, как далеко ушел Советский Союз вперед, как расцвела его культура, как счастливы люди… А многие вещи, которые меня сразу озадачили, я списывал на последствия войны. В Бухаресте перед приездом в 1951-м в Москву, я попросил румынсках товарщей показать мне последний фильм о жизни Советского Союза. Хотелось скорее все увидеть! Они привезли «Кубанские казаки». Там все веселые, счастливые, поют, изобилие товаров кругом… Это был для меня первый советский звуковой фильм. Я очень обрадовался. А после самолета по дороге в Москву на Внуковском шоссе я из машины вдруг увидел страшно бедные деревни, у некоторых домов крыши еще были соломенные. «Это музейные, – подумал я, – для контраста с новой жизнью их сохранили». В гостинице «Москва» замечательное обслуживание, прекрасные апартаменты, приходят писатели и их жены, все очень довольны жизнью. Журналисты приезжают на больших черных автомобилях… В московских магазинах сколько хочешь икры продается, рыбы всякой, колбас. На улице Горького много гуляет людей. Нет нищих, нет беспризорных детей, как в двадцатые годы. Никто не лузгает семечки. Очень чисто. Опять я успокоился. Вечером повезли в театр, испытал ужасную скуку, герои, как загипнотизированные, ничего не видят и не слышат, но непрерывно учат друг друга. Со сцены в зрителей, как дуло пулемета, направлен указующий палец. На следующий вечер везут в другой театр – там тоже играют точь-в-точь как вчера какую-то унылую пьесу. Так было десять дней. Передо мной, словно глухой забор, вставали проклятые вопросы. Потому что театр – это рентген жизни. Вижу, на сцене искренности нет, голая казенщина. Зачем, думаю, в стране, где создана величайшая литература совести, нужно так назидательно показывать жизнь, чтобы самый несчастный маленький человек в конце спектакля обязательно становился самым счастливым гражданином СССР. Нужен живой конфликт людей, а не принципов! Я профессиональный драматург и понимаю, что от хорошей жизни никто добровольно телеграфный столб украшать не станет. Я взмолился – отвезите меня в театр моего любимого Мейерхольда! Отвечают – он болен и живет на юге, высоко в горах. А его, потом узнал, давно уже расстреляли. Прошу, покажите мне спектакли Александра Таирова – говорят, невозможно, театр его на ремонте, – а его уже закрыли давно! Кого из старых друзей ни назову, например, Николая Экка – тоже в горах. Я огорчился. Что случилось с друзьями моей молодости, все заболели, все переселились в горы. Поэтому на банкете я сказал, что когда уехал из Москвы двадцатых годов, она была раем искусства. Каждый театр имел свое неповторимое лицо. Театр Мейерхольда был не похож на МХАТ, а МХАТ отличался от театра Таирова или Вахтангова. А когда вернулся – ничего не могу понять: здания разные, а на сцене одни и те же «марксистские угрызения совести», как назвал все это ваш Герцен. И на этом банкете я спросил: что с вами случилось? Почему во всех театрах играют вариант одной паршивой пьесы и каждый раз восхваляют товарища Сталина, сравнивают его с солнцем. Я сказал, что, во-первых, настоящий коммунист не может допустить, чтобы его сравнивали с солнцем, а во-вторых, это плохой вкус. Что я знаю только один случай за всю историю России, когда человека сравнили с солнцем, и то после его смерти, и этим человеком был Пушкин! Помимо моего желания получилось, что я протестовал против культа Сталина, который потом на ХХ съезде полностью осудили. Но в то время я всего этого не знал и не задумывался, понравятся мои слова или нет. Многие гости так испугались моей речи, что, когда я сел, от ста приглашенных не осталось и половины. Федин, Охлопков не раз вспоминали, как я там отличился… Я накануне получил от Сталина приглашение на встречу с ним через неделю в Кремле. Но после этого банкета он передал, что болен и увидеться со мной не сможет. Вместо себя на эту встречу послал толстого Маленкова… Потом мы с Фадеевым часто встречались. От Фадеева я впервые услышал такие бранные слова, как «враги народа», «чуждые элементы», «лженоватор», «липа», «индивидуализм», а в конце жизни – «инженер человеческих душ». Когда я пришел в себя после побега, то спросил у своей домоправительницы тети Паши, приданной мне вместе с квартирой, – сколько все это стоит: ЗИМ с шофером, она, тетя Паша, и продовольственный паек, рассчитанный на семью человек в пять. Я был уверен, что деньги за это вычитают из моих гонораров, и беспокоился, надолго ли их хватит. Вот тут тетя Паша, которая уже поработала в домах многих государственных чиновников, объяснила не без гордости, что беспокоиться мне, гостю ЦК, не о чем: зарплату ей и шоферу платит ведомство. ЗИМ – государственный, стало быть, даровой. А еда? Так что о ней думать, это же «кремлевка» с громадной скидкой. По ее словам, этот паек товарищ Сталин давал только самым главным своим помощникам. Потрясенный, я поехал в Союз писателей к Фадееву спросить, правда ли, что меня сделали иждивенцем рабочего класса. Я искренне не понимал, как могли советские коммунисты так меня унизить, ведь даже в тюрьме я зарабатывал хлеб своим горбом! Я кричал, что хочу бить человека, который меня опозорил! Фадеев пытался меня успокоить, говорил, что так советский народ проявляет гостеприимство ко мне, большому другу нашей страны. Я спросил его:
– А вас, брат, товарищ Сталин тоже наградил пайком? И Симонова?
И сказал, что еду в ЦК. Тут Фадеев, видно, испугался за меня, догнал у дверей и просил в ЦК не ездить, ничего в моей жизни пока не менять. У него вырвалась фраза:
– Вам никогда этого не простят!
Фразу я запомнил, а на Старую площадь все равно поехал, чтобы отказаться от всяких этих дотаций и привилегий. Но после почувствовал к себе в верхах другое отношение. Фадеев знал, что′ говорил… А еще помню, как в начале 50-х годов Фадеев буквально выпихивал меня из Москвы в длительные поездки: в Китай, в другие социалистические страны, в Вену, в Стокгольм, в Хельсинки:
– Уезжайте, Назым, уезжайте, поглядите на мир, там много интересного, и климат мягче, не торопитесь назад… Тогда это меня озадачивало, почти злило. Я воспринимал его заботу как принуждение, как посягательство на свободу. Только сейчас ясно понял, что Фадеев элементарно страховал мою жизнь! Он видел, конечно, что тогда я совсем не ощущал опасности сталинской Москвы… Я знал Фадеева разным: веселым, хохочущим, больным, железным. Однажды в Хельсинки на банкете по поводу закрытия сессии Всемирного Совета мира мы разговаривали с Корнейчуком, Борисом Полевым, Эренбургом, Тихоновым, кто-то еще там был из советских литераторов. Фадеев чуть поодаль стоял с Фредериком Жолио-Кюри. Вдруг к нашей группе, не очень твердо ступая, подошел Шолохов. Оглядев лица соотечественников, он громко мне сказал:
– О чем ты с ними разговариваешь, Назым?! Ты что, думаешь, они – писатели? Да никакие они не писатели!
Вот тут я и увидел бешеные глаза шагнувшего к нему Фадеева. Он сказал Шолохову несколько коротких фраз, там повторялось одно слово: «презираю!». Тут же, распрощавшись, он ушел со мной с банкета. Мы несколько часов просидели в каком-то сквере. Фадеев долго тогда не мог успокоиться… Мы говорили о его романе «Молодая гвардия». Фадеев досказал мне жизненные истории своих героев и попросил прочесть «Разгром». Вот по «Разгрому» я и представил себе его сильный писательский дар…. К а к – т о уже после смерти Сталина в санатории «Барвиха» мы прогуливались втроем с Фадеевым и митрополитом Николаем Крутицким и Коломенским. Митрополита я очень уважал, много раз с ним встречался. Он хорошо знал литературу, современную тоже. Наш разговор с трагедий Шекспира вдруг повернулся к роману «Молодая гвардия», и митрополит сказал, что герои романа Фадеева не отказались от ноши, от избранного пути, от той тяжести мира, которая на них была возложена. Николай Крутицкий с помощью Библии доказывал нам, что любая трагедия – это синтез личного движения человека и движения всего мира к совершенству. В этом вопросе мы с ним были полностью согласны. Но потом в связи с чем-то он произнес:
– А самый страшный грех – это отчаяние.
– Но человек – не Бог, – возразил Фадеев. – Куда ему уйти от слабости, от грехов?..
– Праведность не в том, чтобы не грешить, а в том, чтобы раскаяться! Осознать ошибку. Искупить, исправить ее, – убеждал митрополит.
Он сослался на пример из Евангелия, когда апостол Петр трижды в одну ночь отрекся от своего учителя Христа, но затем испрашивал прощения и был прощен.
– А Иуда? – негодовал митрополит. – Человек три с половиной года прошел рядом с Богом, но так ничего и не понял! Предав Христа, не раскаялся, а впал в отчаяние и удавился!
– А нет ли в Библии истории, где в образе сиятельного владыки всесильный, насмешливый дьявол? А легковерный дурак, открыв рот… А-а-а, да что там теперь… – И после паузы Фадеев спросил у митрополита: – Потому-то самоубийц не хоронили в церковной ограде? Если человек отчаялся, наложил на себя руки, значит – безбожник?!
– Да. Они уже не были верующими, и погребение в церковных пределах было совершенно бессмысленно, – ответил митрополит.
Фадеев тогда спорил, доказывал, что человек свободен перед миром и собой, что человек имеет право сам сбросить свой крест, если жить невыносимо тяжело и исчерпаны душевные ресурсы. Говорил об уставшем Пушкине, подставившем грудь пуле, о Маяковском. А митрополит ровным голосом интеллигентного пастыря мягко убеждал его, что самоубийство – это слабость от временного отчаяния, от проходящей безнадежности:
– Человек должен нести свой крест до конца, как это доказали ваши прекрасные дети в романе…
– Нет! Рождены мои дети были совсем для другой жизни, и я знаю, для какой, а расплачиваться им пришлось за любовь к родине и чужие преступления!
– Поверьте, что есть определенный план Божий для мира и для каждой души. Для каждого человека он заканчивается катарсисом, разве вы не замечали? А у нас с вами есть другое – познание себя. Вы же все это написали в своей хорошей книге, Александр Александрович.
– Я неисправимый безбожник, с меня взятки гладки, – рассмеялся Фадеев.
Тут они меня спросили, что я обо всем этом думаю. Мне было очень интересно их слушать, потому что я лучше всего знаю две книги – Коран и Библию. Это единственные книги, которые у нас в турецкой тюрьме разрешают читать арестантам. Сидел я долго, так что хорошенько их изучил. Я им сказал, что Библию прочел как коммунист, и у меня на один из ее удивительных сюжетов написана пьеса «Иосиф Прекрасный». Эту пьесу я сам считаю большой удачей, хотя ее здесь из-за имени героя и ассоциаций со Сталиным играть не дали. С этим понятно. Я, как и товарищ Фадеев, верю только в человека. А человек рождается, чтобы жить. Всю жизнь меня хотели убить, повесить, отравить… Инфаркт у меня случился, но я всегда безумно хотел жить, и жив сегодня только благодаря моему желанию. Поэтому вопрос «быть или не быть?» для меня не теоретический, не религиозный. Короче говоря, я против самоубийства. Помню, что Фадеев весь остальной путь до санатория молчал. А митрополит, видно, что-то почувствовал. Он все говорил, опираясь в том числе и на мою «Легенду о любви» (чем мне немножко польстил, конечно), как страшен грех отчаяния, как велико милосердие Бога и как сложна жизнь… Потом еще прошло время, и 11 мая 1956 года Фадеев позвонил мне на дачу напомнить, что завтра у нашего друга Самеда Вургуна день рождения. Напомнил, потому что знал от меня, что у нас в Турции нет традиции праздновать дни рождений. Советовал позвонить в Баку, а еще лучше – послать телеграмму, пусть Самед обрадуется. Мы с таким удовольствием говорили о Самеде… Фадеев сказал, что хранит одну статью Вургуна, под которой сам готов подписаться. Мне стало интересно, и он пообещал мне ее показать. Назавтра, 12 мая мы встретились у переделкинского магазина. Фадеев отдал мне конверт с газетной вырезкой. Было ветрено, и казалось, что его «морозило». Фадеев вызвался немного меня проводить. Мы больше стояли, чем шли. Фадеев много шутил. Вдруг, безо всякого перехода спросил:
– Часто ли, Назым, вы, вспоминаете тюрьму?
Я ответил, что с тех пор на мою долю выпало так много другой боли, переживаний, неразрешимых проблем, что тюрьма отодвинулась в прошлое. И тут Фадеев вдруг стал рассказывать, как две или три недели назад он увидел из верхнего окна дачи, что перед его калиткой стоит человек и смотрит на окна его дома. Стоит, руки в карманы, а калитку не открывает. Фадеев решил узнать, в чем дело, и вышел во двор. Человек продолжал стоять и напряженно, в упор глядел, как Фадеев приближается к нему… Одет он был скудно, серое, усталое лицо… И вдруг Фадеев узнал его, окликнул по имени. А тот поймал его взгляд, плюнул на калитку, повернулся и тяжелым шагом ушел. Фадеев говорил, что всегда ощущал себя честным человеком. А теперь все перевернулось, и сам он стоит вверх ногами… на голове. От этого перед глазами красные круги, все словно залито кровью, а перекувырнуться нет сил… Я попробовал его успокоить, но Фадеев улыбнулся, крепко пожал мне руку и заспешил… И я увидел, глядя ему вслед, что у него под мышкой буханка хлеба… На другой день после встречи с Фадеевым, это было уже 13 мая, я взялся читать статью Самеда Вургуна «Права поэта». Но зазвонил телефон, и в трубку закричали, что с Фадеевым несчастье, что просят срочно прислать моего врача. Через несколько минут я вбежал на второй этаж дачи, где лежал мертвый Фадеев. Увидел пистолет, пробитую пулей подушечку-думочку, через которую он стрелялся, и два конверта, два последних письма. Одно было адресовано в ЦК, другое – жене. Меня поразили открытые глаза на мертвом лице. И я по восточной традиции попросил женщину простого вида закрыть его материей, а она ответила:– Не надо, может, еще задышит…
О том, что было в письме к ЦК, я узнал через несколько лет от В. Н. Ажаева – он входил в комиссию по похоронам А. А. Фадеева. Письмо он пересказывал близко к тексту, как будто помнил наизусть. Фадеев писал, как верил Сталину, каким чудовищным откровением был для него ХХ съезд. Писал, как понял, что он, всегда считавший себя честным человеком, ответственен за гибель многих писателей. Писал, что для него есть два пути: первый – начать жить сначала и своими поступками вернуть уважение товарищей, а второй – расплатиться за все, к чему причастен, своей жизнью. Первый путь требует огромных душевных и физических сил, а у него их нет. Поэтому он выбирает второй.
Знаешь, Назым, недавно на Новодевичьем я встретила Александра Трифоновича Твардовского. Он шел мне навстречу со стороны старого погоста. Вернулся постоять возле твоей могилы. И там снова спросил: не называл ли ты мне злополучной фамилии писателя, появившегося у фадеевской калитки, ведь во Флоренции ваш разговор шел при мне. Я подтвердила, что ты фамилии действительно не запомнил. Мне почему-то показалось, что Твардовский шел от Фадеева.
Да уж, я свидетель, как 12 марта 1962 года ты рассказывал Александру Трифоновичу о Фадееве. Было это во Флоренции, где вы участвовали в конференции европейских писателей. Стоял теплый-теплый вечер. Мы много ходили по городу, устали. Вы с Твардовским разулись и без ботинок, в носках сидели на каменном крыльце галереи Уффици, говорили до глубокой ночи. Тогда Александр Трифонович сказал вдруг, к чему-то, наверное:
– Я никогда не мог писать босой, страх, как не люблю писать на глянцевой бумаге и ни разу, ни строчки в жизни не написал после выпитой рюмки водки…
Выслушав твой рассказ, Твардовский вспомнил, как сам увидел Фадеева за несколько дней до смерти в подмосковном санатории имени Горького, где отдыхал той весной. Фадеев привез туда на лечение какую-то молодую женщину из Краснодона, очень больную. С путевкой у нее возникли сложности, и Фадеев сильно за нее хлопотал, уехал, только убедившись, что сделал все, что считал необходимым. А потом Александр Трифонович спросил, не запомнил ли ты имени того писателя, что плюнул на калитку Саши.
– Честное слово, не знаю. У меня на русские имена памяти совсем нет, – ответил ты.
Там, во Флоренции, Твардовский многое вспоминал: свою дружбу с Маршаком, Фадеевым, войну. Рассказывал какие-то смешные случаи. Вот, например, о том, как засиделись они однажды в ресторане втроем с Фадеевым и Маршаком. Увлеклись хорошим разговором и не заметили, что наступила полночь. Непьющим среди них был один Маршак. И потому, когда официанты стали их выпроваживать, он вдруг как-то особенно рассердился, что словно студент проторчал с ними в ресторане до ночи. Схватил пальто, нахлобучил шапку и буквально побежал от них прочь. Фадеев еле Маршака удержал и стал молитвенно просить проводить его до дому. «Без вас, Самуил Яковлевич, – говорит, – мне сегодня крышка! Голову снимут за чертов ресторан! Ведь я слово нарушил…» – «Вас вон Александр Трифонович доведет, он не из робких», – отказывался Маршак. «Александр Трифонович, известное дело, не бросит, да он сегодня не ходатай. Уж едемте, Самуил Яковлевич, будьте великодушны. Вам и надо-то всего только у дверей постоять. Если мои увидят меня с Маршаком, буду прощен. Ну же, решайтесь, вся моя жизнь сейчас в ваших руках…» Фадеев свято верил, что одно присутствие Маршака, его учтивость нейтрализует противника: «А в это время я проскользну в дверь… и все свободны!» Маршак насупился, бурчал, выговаривал, что их хмельной авантюризм ему крайне неприятен, но не уходил. Ситуация усугублялась полнейшим отсутствие такси. Наконец они с трудом поймали машину и в середине ночи приехали к дому Фадеева. Тут Самуил Яковлевич в последний раз попытался ретироваться. Твардовский с хохотом вспоминал, как они легонько подхватили старика под руки, будто икону-заступницу внесли его по ступеням, подняли на лифте… Фадеев еще не успел дотянуться до звонка, как дверь распахнулась, и он за ней исчез. Прежде чем захлопнуть дверь, женщина сурово оглядела топтавшихся провожатых и, задержав взгляд именно на Маршаке, сказала: «А вам, старый человек, не стыдно бражничать по ночам?! А еще детский писатель!» Маршак был потрясен, уничтожен. Свое негодование он обрушил на Твардовского, клялся никогда с ним не встречаться, обходить их обоих за два квартала, порвать навеки! Весь его благородный гнев вырвался наружу в лифте, который почему-то без остановки гонял вверх-вниз, вверх-вниз. «Да остановите вы его! – требовал Маршак. – Выпустите меня!» Александр Трифонович рассказывал, что от переживаний Маршака, которого любил, сам впал в такое горе, что окончательно протрезвел. Когда они вышли на улицу, Маршак тихо рассмеялся и с мальчишеской гордостью сказал: «А ведь мы на самом деле помогли Александру Александровичу».Cегодня была у Музы на дне рождения. Кто-то из гостей принес в подарок ее мужу Володе Буричу громадную голову Сталина, сделанную из папье-маше. Желтую, с коварной улыбкой. Володя просунул в ее полое чрево свою голову и сразу стал большеголовым карликом, так она велика. Но я видела, что половине гостей страшно.
Ты рассказал мне, как марте 1953 года лежал в санатории «Барвиха» с инфарктом. Болезнь и смерть Сталина, которую переживала страна, от тебя тщательно скрывали, боялись, что трагическое известие может стать убийственным. Но дни шли, и врачи, опасаясь какой-нибудь случайности, настояли на том, чтобы при максимальной медицинской подстраховке тебе все-таки сообщили о случившемся. Эта миссия была возложена на Симонова.
Первой твоей реакцией был ужас, оцепенение. Несколько минут ты не мог говорить. На глазах у обоих были слезы. И вдруг Симонов сказал в полном смятении чувств:
– Как же мы теперь будем жить? Ведь он даже думал вместо нас!
– Что? – переспросил ты.
– Он думал за нас!
И вдруг ты засмеялся… Сначала тихо, потом громче и громче.
Симонов решил, что началась истерика, страшно перепугался, кинулся за дверь, где со шприцами наготове стояли врачи и сестры. Когда они все столпились возле тебя, ты попытался им объяснить, что с тобой все в порядке.
– Теперь мы все будем думать сами! Сами! Сами! Я уважаю товарища Сталина, но думать человек должен сам! – кричал ты, отпихивая шприцы.
Как и большинство коммунистов, ты Сталину верил, мучительно переживал его развенчание и только в ноябре 1962 года наконец написал об этом в стихах:Он был из камня, из бронзы, из гипса
и из бумаги.
От двух сантиметров до нескольких метров.
Мы на всех площадях находились под его сапогами,
Сапогами из камня, бронзы, гипса и из бумаги.
В парках тень от камня, от бронзы, гипса и от бумаги
Покрывала наших деревьев купы.
И усы его из камня, бронзы, гипса и из бумаги
В столовых и ресторанах были в тарелках нашего супа.
Глаза его из камня, бронзы, гипса и из бумаги
Глядели на нас со стен наших комнат.
Однажды утром исчез он.
Исчезли его сапоги, украшавшие площади и универмаги.
Его тень с деревьев,
его усы из нашего супа,
его глаза со стен наших комнат
И с груди нашей сняли груз огромный.
Тонны камня
Бронзы,
Гипса,
и тонны бумаги.
Назым, я не хочу, но должна наконец поставить тебя в известность об одном неприятном факте: в Москве у тебя появился хозяин.
Сегодня прибежал испуганный Саша Тверской. Прямо с порога, убедившись, что в доме нет чужих, спросил:
– Что вы сказали Симонову?! Я его вчера встретил в нашем писательском дворе на Аэропортовской – он в ярости! Мне страшно за вас.
– Да ничего особенного, – темню я.
– Нет, нет, вы с ним, Бога ради, не рискуйте! Он очень опасный человек. Он может…
Я медленно думаю над словами Саши и понимаю, что Симонов через него меня пугает, иначе не снизошел бы до предметного разговора с заурядным писателем. Так, значит, он объявляет мне войну.
Ну что же, валяйте, Константин Михайлович, злые языки утверждают, что во время Второй мировой вы больше в воображении нюхали порох… Я успокаиваю Сашу, как могу, но он, твой первый биограф, сыплет примерами симоновского вероломства. Он не на шутку встревожен. Саша, добрый, честный, но, как многие интеллигенты у нас, слабый человек, продолжает меня склонять к союзу с К. М. Но в конце концов ему самому становится тошно, и, вынув бумажку, он читает широко известные в свое время стихи Евтушенко, адресованные Симонову в 1957 году:Опять вы предали. Опять не удержались.
Заставила привычка прежних лет,
И как бы вы теперь ни утешались,
Замкнулся круг. Назад возврата нет.
Не много ли скопилось тяжких грузов
На совести? Как спится по ночам?
Я понимаю бесталанных трусов,
Но вам – чего бояться вам?
Бывали вы талантливо трусливы.
Вы сами вдохновлялись ложью фраз,
И располневший, но еще красивый,
С достоинством обманывали нас.
Но потеряла обаянье ложь.
Следят за вашим новым измененьем,
Хозяева – с холодным подозреньем,
С насмешливым презреньем – молодежь.
Я не сдерживаюсь и прошу Сашу «забыть» листок на столе. И тут он больше не может удержать вопроса, который мучает его давно. Саша и к тебе с ним подступал: из-за чего произошла ваша ссора с Симоновым, закончившаяся, как он знал, тем, что ты выгнал К. М. из дома? Нет, Сашенька-паша, ничего говорить мне нельзя. Хватит забот – и так Симонову со зла сказала, что многое знаю. Как он брови вскинул… Не ожидал. Шесть последних лет далекий от тебя Симонов не предполагал, что ты мне все рассказал.
– Мы не ссорились с Назымом, вы же знаете, – зондировал он поначалу мою память. – Я просто уехал на три года в Ташкент корреспондентом «Правды»…
– Нет, – говорю, – разрыв произошел. И – бах! – называю число.
Ничего сверхъестественного в том, что число помню, нет. Ведь твой скандал с ним, Назым, разразился накануне публикации симоновского письма в «Литературной газете», письма против Пастернака, послужившего сигналом к травле Бориса Леонидовича. Дата памятная.
В тот день Симонов приехал к тебе на дачу с дружеской миссией – упредить, что завтра начнется публичное развенчание автора «Доктора Живаго». Он попросил тебя не вмешиваться во внутрилитературное дело. Одна твоя добрая знакомая, московская поэтесса, работавшая в это время над переводами наверху, была ни жива ни мертва от разразившегося внизу скандала. Помнишь, как она у нас, уже в московской квартире рассказывала про этот кошмар, призналась, как боялась, что Симонов вдруг поднимется на второй этаж и обнаружит там ее, свидетельницу твоих обвинений в его верноподданничестве Сталину, в расправе над Зощенко и теперь – в уничтожении Пастернака…
Да не бойся ты за меня, Назым. Обещаю тебе, как и ему, молчать и впредь. Пока он жив. Я ему так и сказала:
– Я должна вас пережить, и я вас переживу!
Сатанинское двуличное время! Как много вокруг лжи, фарисейства. Лгут все, хорошие и плохие люди, разница в степени принуждения и извлекаемой пользы.
Знаю, Назым, ты сейчас мною недоволен. Понимаю, не в женское дело полезла. Я как-то сказала тебе, что не могла бы стать Зоей Космодемьянской – при первой же пытке во всем призналась бы фашистам. А ты возразил:
– Нет. Тебя бы охватила такая нечеловеческая злость, ничего бы не сказала!
А сейчас я так и слышу твой возмущенный вопрос:
– Вера, ну что случилось, почему ты мне опять напоминаешь эту отвратительную историю? Я выгнал в тот день Симонова, ругал его страшными словами, порвал с ним, годами не видел, ни разу не пригласил больше в мой дом. В тот день я сразу пошел к Борису Пастернаку предупредить о завтрашней статье, но его не оказалось дома, а жена была в каком-то странном состоянии, я не мог ей ничего объяснить. Ты все это знаешь… Знаешь, что я дальше делал… Что случилось, почему Симонов опять?
Ерунда, Назым, просто Симонов пришел ко мне после похорон и сообщил, что отныне он председатель комиссии по твоему литературному наследию. Я опешила. Сказала, что ты хотел другим людям все после себя доверить, и назвала семерку поэтов во главе с Твардовским. Он взбеленился, велел, чтобы я помалкивала про твое письмо, сказал, что все уже решено. В его комиссию из твоего списка: Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, Евгений Винокуров, Давид Самойлов, Борис Слуцкий и во главе Александр Трифонович – войдет только Боря. Но когда Симонов мне стал объяснять, какие вы друзья, я ему кое-что сообщила и про Пастернака напомнила. Он удалился в ярости. Ну и черт с ним! А Саша вот боится, да и Акпер неспокоен…
На кого ты нас бросил, Назым? Не страшно, но обидно и очень тяжело.Помнишь, за несколько дней до твоего шестидесятилетия мы пошли с тобой в ГУМ покупать сувениры – решили, нарушив традицию московских дней рождения, сами сделать нашим друзьям маленькие подарки, прикрыть их на столе салфеткам, пусть будет им сюрприз и память.
Ты не любил ходить в магазины. Хотя считал, что магазины каждой страны, где бывал, знать надо: они отражают уровень жизни народа, его вкус, проблемы. Но ходить по нашим убогим магазинам, вечно забитым людьми, для тебя было тяжким испытанием. Да и просто купить что-либо в нашем раздетом городе было немыслимо. Отвращение к очередям, духотища и раздраженные, униженные люди – все это толкнуло к компромиссу и тебя. Если случалась острая необходимость, ты отправлялся в ГУМ, в двухсотую секцию, которая в те годы обслуживала членов правительства и их семей. Там «сверху» был установлен жесткий порядок – посетители приходили по предварительной договоренности с соответствующим отделом ЦК КПСС в сопровождении сотрудника ЦК и ни в коем случае не должны были встречаться друг с другом.
Вход в секцию был со стороны Красной площади, почти напротив Мавзолея Ленина. Он был спрятан в одной из ниш. Справа у левого окна вы нажимали на кнопку, окно оказывалось двойной дверью, и вас в нее впускали. За дверью была небольшая прихожая с двумя письменными столами – заведующей и ее зама, вешалка и стулья для охранников. Здесь оплачивались и запаковывались выбранные товары. Само торговое помещение представляло собой очень большую комнату с отгороженной частью для обуви и примерочной. По стенам на полках лежали дефицитные трикотажные изделия, ткани, готовое платье, висели шубы, сувениры, шапки… Вещей было как бы немного, но хорошего качества. В то время для этой секции ничего специально не покупалось за границей, и цены здесь были те же, что и в обычной продаже.
Но несмотря на строгий ритуал, посетители «секретной лавочки» все же частенько увлекались выбором товаров, задерживаясь с покупками. И мы встречали там некоторых важных особ. Помню, как плакала русская жена властелина Монголии Цеденбала, когда ей не хватило сколько-то десятков метров занавесочной ткани на окна, которую перед ней купила чья-то сановная жена.
Встречала я там и седенькую Нину Петровну Хрущеву. Один раз она при мне купила два рулона индийского цветастого поплина, тоже метров за сто, сказав, что у них большая семья и всем надо по платью сшить. Милые женщины, которые там работали, тихо удивлялись, когда она удалилась: «Как же это у Хрущева в семье все женщины будут ходить в одинаковых платьях?!»
Виделись мы там и с Екатериной Алексеевной Фурцевой. Однажды она высунулась в комбинашке из примерочной и поманила меня посмотреть, хорошо ли сидит синенький костюмчик. Фигура у нее была роскошная, и кожа глянцевая, свежая. В то время она еще была членом Политбюро, и ее охранник – молодой мужик в бежевом макинтоше стоял вплотную за шелковой занавеской. Встретили мы как-то там и Шолохова с дубленкой в руках. Столкнулись разок и с Леонидом Ильичом Брежневым…
Руководила этой торговой точкой замечательная женщина Марианна Михайловна. Ваше знакомство с ней завязалось давно, задолго до меня. Между вами установились дружелюбные уважительные отношения. И меня она приняла с доверием, поверив в серьезность твоего поступка.
После похорон позвонила, приказала:
– Вера, приходи. Поговорим. Если что нужно, поможем. Завтра приходи. Плакать не надо. Хотя ему твои слезы и дороги. Да не видит, жаль. Эх, Назым!
И всегда, когда я ее вижу, – нечасто это теперь случается, – мне почему-то так трудно бывает, Назым. Хочется к ней приласкаться, прижаться. Чувствую, что она меня понимает, а я боюсь руку протянуть, боюсь выдать себя, а она и это понимает, хорошая наша, умная Марианна Михайловна. У нее самой беда – муж недавно умер. Мать старенькая болеет, а она все такая же, энергичная, собранная, деловая, красивая. Звонит, бегает, распоряжается, а подойдет ко мне, что-то в зеленых глазах ее мелькнет теплое, мягкое, замедленное. Я знаю: это грусть по тебе, это печаль.
И вспоминается сразу так ясно, как вы сидите друг против друга, статные, шикарные, положив ногу на ногу, курите, дымите. Говорите про высокое давление, но все у вас не по-стариковски, а весело, с юмором – прячете за шуткой тревогу и нездоровье. А потом разговор у вас всегда переходит на театр, обсуждаете московские премьеры. Марианна Михайловна училась во ВХУТЕМАСе. Вспоминаете театр двадцатых годов, поэтические диспуты… Твой синий и ее зеленый взгляды сияют, и я вижу, какая у вас была замечательная молодость. Мне так интересно между вами! А вы даже не догадываетесь, какими молодыми, бесшабашными делают вас воспоминания…
Однажды ты ей сказал:
– Политическая революция повлекла за собой революцию литературную. Так закономерно случается. Так было с французами, так случилось здесь. – Потом посмотрел на меня и сказал ей: – Знаете, как нас с вами Вера называет? «Политически зрелыми синеблузниками».
– Ничего, ничего, нам есть что вспомнить… – хрипло рассмеялась она.
Как-то мне попался в черновых бумагах эпизод из пьесы «А был ли Иван Иванович?», где герой приходит в специально для него созданный магазин. Очень смешная сцена. Я спросила:
– Почему ты ее выкинул?
– Понимаешь, миленькая, Марианна Михайловна посмотрела «Ивана Ивановича» в Театре Сатиры. Когда я к ней после этого зашел, она смеется, говорит: «Издеваетесь, Назым, над своим героем за промтоварные привилегии, а сами-то к нам за помощью обращаетесь. Нехорошо, нехорошо…» Мне так стыдно стало! Я пошел домой и исправил это место – иначе нечестно. Если я сам не хочу стоять в проклятых очередях… А очереди я ненавижу. Так плохо, что у нас везде очереди и продавщицы грубые. Вчера кассирша в нашем магазине страшно ругала одну женщину за то, что сама неправильно отсчитала ей сдачу. Но ей и в голову не пришло извиниться, нет! Она ее ругала на весь магазин, как будто она миллионерша и сидит за собственной кассой, а все эти люди – ее подданные. Женщина расплакалась и уходила больная. А я увидел, что она беременная! Ты знаешь, когда я вижу беременную женщину, мне всегда хочется перед ней снять кепку или поцеловать ей руку, цветок подарить. Для меня беременная женщина – одно из чудес! В ней совершается что-то изумительное, созревает самый замечательный плод на земле – новый человек. Мне все беременные женщины кажутся красивыми. Без исключения. Я их очень уважаю. Я решил ждать. Когда кассирша освободилась, я подошел к ней и тихонько спросил: «Зачем вы обидели женщину? Она же ни в чем не виновата, даже если бы она была виновата, вы должны были проявить вежливость. Вы не имеете права свое плохое настроение срывать на других! Они придут домой или на работу взвинченные вами и обидят других людей! Возникает цепная реакция злобы. Так нельзя». Она меня тупо слушала, слушала, а потом говорит: «Вы, гражданин хороший, у себя бы в Грузии лекции читали кассирам. У нас из-за копейки скандал, а у вас и рубля не получишь! Двадцать четыре дня в Сухуми отдыхала. Знаю! Вот загар еще не сошел. И давайте, гражданин, не будем создавать очередь кассиру!» Вот у нашей Марианны Михайловны какие девушки работают – без подобострастия, но и без грубости. Она привила им чувство достоинства. Ведь достоинство не позволяет человеку врать, грубить, хитрить, обманывать, быть жестоким и жить не по правде.
Но вечером того дня, ты сказал мне:
– Послушай, Веруся, мы всем делаем подарки, покупаем разные игрушки, но я хочу и тебе сделать подарок. Говори, что ты хочешь? Я готов на все.
– На все? – переспросила я. – Ну хорошо!
– Пожалуйста! – подтвердил ты, почувствовав серьезность в моем голосе. – Ну, говори.
– Если я попрошу слишком много, ты мне откажи. Но я скажу о единственном, чего хочу.
– Говори, говори! Почему не можешь назвать сразу!
– Я хочу, чтобы ты стал советским гражданином.
– Тебе надоело быть женой иностранца? Я понимаю. Когда мы с тобой женились, ты оставила фамилию своего отца. Ты сказала: «Он погиб на войне. Я сохраню фамилию в память о нем». Это достойная причина, но не единственная. Я понял тогда, в чем дело, и не мог настаивать. Выходила замуж за турка Назыма Хикмета, а фамилию должна была взять польскую, неизвестного тебе Боженецкого. Но ты не знаешь, Веруся, что я однажды в 1952 году, вскоре после приезда сюда, хотел получить советский паспорт. В первое время я жил здесь без документов. Потом в Турции приняли закон, по которому меня официально лишили турецкого гражданства. Он называется «Закон Назыма Хикмета». Тысячи человек живут вне Турции, но лишили гражданства только меня! Хорошо, да? Этим фактом они поставили меня перед необходимостью какое-то гражданство принять. Иначе я ездить не могу, жить не могу! И раз правительство Турции меня вынуждает, конечно, я выбираю Советский Союз. – Тут ты начинаешь страшно нервничать. – Они думают, что позорным законом они могут меня оторвать от моего народа! Ерунда! Всегда я буду связан с ним своим пупком, своим сердцем, кровью! Так что для меня это формальный момент. Я сказал об этом Симонову, он был тогда одним из руководителей Союза писателей. Он попросил меня заполнить анкеты и пообещал быстро это дело уладить. Время идет, а он ничего не говорит. Не звонит. Исчез. Я его ищу, звоню туда-сюда – нет! Я нервничаю. Не могу нигде его найти… Мне месяц не отвечали. Месяц! Я сошел с ума от обиды. Подождал еще немного. Молчание. Я все понял. Симонов так и не появился. Тогда поехал в Варшаву, сказал польскому руководству, и через два часа – понимаешь? через два часа! – мне вручили польский паспорт. Сделали меня почетным гражданином Польши. Я мог нормально передвигаться куда угодно. Ведь, не забывай, я был членом Всемирного Бюро Совета Мира, занимался общественной деятельностью, должен был ездить в разные страны. Мои книги повсюду печатали, театры многих стран играли пьесы. Я больше не мог жить без паспорта. Потом, мой прапрадед один был из польского рода Боженецких. За революционную деятельность его и его брата двести лет назад должны были судить. Тогда он бежал в Стамбул. А его брата поймали и сослали в Сибирь. Там он и умер. Поляки тут же вспомнили эту историю, и в моем паспорте написали – Боженецкий Назым. Смешно, но ничего не поделаешь. У всех есть свои маленькие радости… Впрочем, в твоем паспорте эта фамилия стоит на печати. Как только я получил польский паспорт, здесь, в Москве товарищи сделали страшно обиженный вид. Негодовали, зачем я так поступил… Объясняли, что Симонов просто протаскал мои анкеты в кармане. Как это можно? Нет, я же его знаю! Симонов мне потом сказал, что будто бы не думал, что мое желание настолько серьезно. Я и сейчас не знаю, в этом ли была причина.Я открыла твой синий польский паспорт, до сих пор он лежит в твоем портмоне. «Я не могу, не могу им его вернуть. Когда-нибудь ты им все объясни, они поймут, поляки сами так много страдали. Скажешь, как я им благодарен, как я тосковал о Польше. Скажешь, что из-за Мюневвер не мог туда больше ехать… Хотя они и на этот раз меня спасли. Объясни им все, как случилось на самом деле. Они простят. Я уверен». Да, Боженецкий Назым, я только сейчас увидела, какие у тебя глаза на фотографии в этом паспорте – я таких и не знала: стальные, непримиримые, а под фотографией ты зелеными чернилами крупно и разборчиво написал «Назым Хикмет»! и только ниже, путая буквы, нацарапал явно чужое имя «Боженецкий». Здесь отмечено, что родился ты в Греции, живешь в Москве, что рост у тебя 182 сантиметра, волосы светлые, глаза голубые и можешь ты ездить во все страны Европы и вне Европы тоже.
…Но теперь давай говорить о нас. Ты за границей долго не можешь оставаться. Тебя хватает на месяц, потом начинаешь тосковать, нападает самая типичная ностальгия, это я вижу. Раз. Другое дело в том, что мне самому неприятно перед людьми. Я искренне считаю Советский Союз своей второй родиной, а живу здесь с чужим паспортом, под чужой фамилией. Но мой дом здесь. Ты знаешь, как я связан с этой страной. У меня есть ты, без тебя ничего нет. Хорошо. Теперь представь на одну минуту мой ад: я снова заполняю анкеты, и мне снова не отвечают. Сегодня я не буду ждать месяц, Веруся моя! Пойми меня. Ты должна это знать. Сутки не отвечают – до свидания! Уеду! Их молчание будет означать, что товарищи опять не хотят. Я уеду, миленькая моя! И никогда, никогда! – ты понимаешь, что это для меня будет значить, – сюда не вернусь! Ни по какому поводу. Я хочу знать, если так случится, если один процент неуверенности есть – ты уедешь со мной? У тебя дочка, мама, ты с ног до головы с этой земли. Это страшная трагедия для тебя будет, самая страшная из всего, что с человеком может случиться! Она будет сопровождаться большим скандалом, руганью нас! Ты уедешь со мной? Потому что, Вера, бросить меня в этой ситуации, ты понимаешь, сволочество!
– Я уверена, что сегодня все решат быстро.
– Ты поедешь или нет? Отвечай! Я должен знать. Если нет, я не могу рисковать! Буду жить здесь как не очень честный человек, но так живу уже десять лет.
– Если мое правительство тебе откажет, я уеду с тобой. Но я уверена, что всё решат по совести, Назым. За десять лет многое изменилось. Я уверена.
– Ты хорошо все взвесила? Думай еще. Вспоминай, как тянуло домой, тебе даже красивые туфли хотелось надеть и показать только в Москве, а не в Риме или Париже…
Я видела, как ты взволнован. Я понимала всю ответственность за этот шаг и возможные последствия, но отступать нам было некуда. Это был далеко не первый разговор.
Не о советском паспорте, а о твоем положении. Настало время внести ясность в этот мучительный вопрос.
С этого момента ты уже ни о чем другом не мог со мной говорить, все рисовал перед моими глазами новые и новые картины нашего изгнания, все боялся, что я недостаточно серьезно и ясно сознаю, что случится, если… Потом ты метался. Ездил вроде бы по делам в Союз писателей, к некоторым знакомым, а сам хотел получить совет от людей, которым доверял. Федин, Твардовский, Щипачев успокоили и полностью поддержали тебя. Пожалуй, их мнение было решающим. Другие высказывали опасение, что советское подданство сильно усложнит твою жизнь. Станет труднее ездить по миру, а в клетке ты не сможешь жить, что тебя, как наших писателей, возьмет в клещи и будет контролировать Союз писателей, – словом, отговаривали.
Спустя два дня ты сел рано утром за машинку и за несколько минут написал письмо Н. С. Хрущеву с просьбой о гражданстве.Ты написал письмо Хрущеву… Как просто это сейчас звучит. Отошли в прошлое те волнения, а ведь прошло всего два года, Назым.
Мы перевели это письмо на русский язык. Я напечатала текст на русской машинке, и в 12 часов ты отвез его в приемную ЦК. Что и говорить, наступили томительные часы ожидания. В дом словно подложили мину замедленного действия с включенными часами. Нервы твои были напряжены до предела, но ты старался, как мог, казаться спокойным. Стал свистеть… Я позвонила нескольким знакомым, попросила зайти вечером, чтобы скоротать время и отвлечь тебя.
Гости ушли за полночь, ни о чем не догадываясь. Тем лучше. Мы проговорили всю ночь. Всю ночь ты вспоминал Москву разных лет, людей разных лет, случаи разных лет, себя здесь в разные годы. И рефреном время от времени возникал вопрос:
– Почему ты так спокойна? Как ты так можешь?
Господи, если бы ты знал, что творилось в моей душе… Но я, готовая ко всему, не имела права, Назым, нагнетать драматизм и валяться в истерике.Ты метался по дому – побежал в кабинет, снял с книжной полки том Гейне, судорожно листал страницы, потом протянул мне книгу:
– На, читай!
«…Тайное проклятие изгнания именно в том, что в атмосфере чужбины мы никогда не чувствуем себя как дома, – читала я, – что, привезя с родины свой образ мыслей и чувств, мы стоим особняком среди народа, который чувствует и мыслит совсем иначе, нежели мы, что нас то и дело оскорбляют нравы, вернее – безнравственность, с которой туземцы давно примирились, которая даже не занимает их, как и явления природы их страны… Ах! Духовный климат на чужбине для нас так же негостеприимен, как и физический: к последнему даже легче примениться, и в крайнем случае заболевает тело, но не душа».
– Всё это ты здесь испытал? – спросила я в отчаянии.
– Не всё! Но многое. Разница в том, что я – коммунист и приехал в свою социалистическую страну. Но я не знаю, куда мы доедем, если… Если мы по чьей-то глупости, из-за амбиций или недоверия ко мне будем вынуждены уехать отсюда, это больно ударит по авторитету КПСС. Значит, мы должны будем уехать так, чтобы никто не догадался об истинной причине…
– О Боже, – сорвалась я. – Может быть, мы их еще поцелуем на прощанье?
Я держалась из последних сил. Единственное, о чем просила – не ждать ответа завтра. Уговаривала, что, может быть, завтра кого-то не окажется на месте, мало ли что мо жет пом ешат ь…
В десять часов утра раздался звонок. Звонили из ЦК от Хрущева. Его помощник Лебедев сообщил, что Никита Сергеевич поздравляет тебя с советским гражданством! Сказал, что Хрущев сильно удивился, узнав, что «наш Назым Хикмет не имеет нашего паспорта».
С плеч гора! Ты сел к телефону, и в течение нескольких часов никто не мог к нам прозвониться. Так в 10 часов утра были разом решены две наболевшие проблемы: политическая и бытовая, но эти сутки дорого стоили тебе, да и мне, конечно.
– Ну, как вам живется с советским паспортом, Назым? – спросил тебя спустя какое-то время Эренбург.
– Ничего. Хорошо живется.
– Извините, Назым, почему вы это сделали?.. Ну какое это имеет значение? Польша такая же социалистическая с т ра на…
– Нет! Мне надоело! Любой сопляк на Западе… да и не только там, а здесь тоже люди спрашивают: почему вы не советский гражданин, если живете в Москве и считаете себя москвичом? На Западе на митингах журналисты каждый раз бросают мне в лицо два вопроса: почему в Москве запретили мою пьесу «А был ли Иван Иванович?» и почему я не советский гражданин: «Вы здорово агитируете за советский Союз, а вот их паспорт носить не желаете!». Я же не могу каждый раз объяснять, что Сталин не дал мне паспорт! Кроме политических есть бытовые причины. Я здесь живу как гость ЦК, я – иностранец. Но у меня нигде в мире нет дома, откровенно говоря, и не было никогда, не считая детства. Мой дом сегодня здесь, в Москве. Но я не могу прописать в нем свою законную жену! Я пошел в милицию спросить о прописке для Веры, они мне ответили, что поскольку я иностранец, то ее могут прописать только временно, на шесть месяцев! Несмотря на то что она по советскому закону через ЗАГС-магс моя официальная жена. Такой порядок. Вы знаете, здесь каждый человек гвоздями прибит к какому-то жилью и не может из него вырваться! Государство устраивает, что она до сих пор прописана у своего первого мужа. Здесь сотни тысяч людей живут в разводе полжизни в одной комнате. Он хороший, благородный парень, но, знаете, это не выход из положения. Я – больной человек, завтра могу умереть, куда она пойдет? Что с ней будет? Вы можете ответить? Я с ума сходил! У меня страшно развито чувство ответственности перед человеком вообще, а здесь моя жена, вы понимаете? Я больше не мог выдержать этого положения!В ту ночь, перед звонком от Хрущева я впервые поняла твои слова о том, что родина – это не только могилы отцов, березы или кипарисы. Разлуку с ними пережить трудно, но можно. Но в понятие родины входит душа народа, все – от его самой маленькой мечты до большой цели! Если ты выпал из своего народа и не можешь ускорить его движение от маленькой мечты до большой цели – ты несчастный человек. Теперь, без тебя я думаю о моем народе. Где он? Не в Москве же. О чем мечтает? О счастье, как всегда. Недавно в ста километрах от столицы, в деревне под Клином, где в магазине не было ничего кроме хлеба и водки, старухи слезно просили меня прислать им из Москвы дешевеньких сладеньких подушечек к празднику революции, три посылки по полкило… Я послала.
В Польшу ты привез меня ранней весной. Перед вылетом в аэропорту «Шереметьево» мы разговорились с супружеской парой старых армян-репатриантов. Они приехали жить в Армению из Европы, но в тот день возвращались назад, не сумев пустить корни в новую жизнь.
Ты спросил:
– Почему вы уезжаете?
В это время на наших глазах багаж грузили на тележку.
– Вот видите те желтые чемоданы из настоящей кожи, теперь перевязанные ремнями, – это наши.
Рабочий у нас на глазах зашвырнул один из них наверх, и чемодан тяжело осел. Армянин отвернулся.
– Честное слово, не могу на это смотреть. Когда мы приехали в СССР, то ни у одного из наших чемоданов не осталось целой застежки. Так их бросали в Москве, так же швыряли носильщики в Ереване. Здесь слишком легкая жизнь. Люди ничем не дорожат. А мы приехали из страны, где все дается очень трудно. Нам поздно перестраиваться, поэтому мы уезжаем.
В Польше ты много работал с переводчиками над стихами. В свободное время буквально отпихивался от провожатых, от разных людей – хотел мне все показывать сам, особенно днем. Мы одни. Бродим, молчим. На улицах много красивых женщин в разноцветных колготках. В парке с сердцем Шопена лужи и гвоздики. Поляки любят цветы. Холодное солнце, ветер кругом. А вечером ходим в гости, в кино, изредка в ресторан, в театр. Смотрим скучные почему-то капустники.
Жили мы в отеле «Бристоль» с его роскошными зеркалами, тогда там все время проходили выставки абстракционистов. Шикарный ресторан отеля по субботам снимали предприятия, и мы спускались в холл посмотреть, как рабочие съезжаются на свой вечер. Женщины появлялись в длинных платьях из блестящей материи с искусственными цветами на плечах, в волосах. Их яркие, разноцветные платья были сшиты не из атласа, а из подкладочного материала. Тебе они нравились:
– Молодцы! Это талант – быть выше бедности!
Все время ветер, холод. В городе мы еще видели разрушенные дома, пустыри. Но война все-таки отступала, и в гетто, куда мы с тобой приехали, все заросло травой. Там развалины и молодая трава. Руины, а рядом в десяти шагах сверкающий стеклом дом.
– Можно ли привыкнуть видеть из окна гетто? – ты думал вслух. – Дети… Все, кто родился в этом доме, услышат историю тех детей…
Едем в Краков. Оба потрясены, переселяемся в другие эпохи. Мы – внутри них. Вижу, как старые камни говорят с тобой. А ты рассказываешь мне, как фашисты хотели взорвать Краков, германизировать Европу.
– У них все равно ничего бы не вышло!
Ходим, ходим по Кракову, как среди декораций. Много монахинь. Они похожи на птиц в своих черных одеждах и огромных накрахмаленных белоснежных головных уборах. В Краковском университете есть студенческое кафе самообслуживания наподобие московского «Молодежного» на улице Горького. Там я заспорила со студентом-философом-хирургом, а ты слушал нас и молчал.
– Вам не мешает верить в Бога ваше образование? Ведь как философ вы знаете, что материя первична, как врач – что человек смертен, как хирург – что души нет.
– Там, где начинается Бог, мысль отсутствует. Я просто верю, и всё. Это марксизм учит все подвергать сомнению, Ленин выдвигает теорию отрицания отрицаний. А мы ведь говорим о Боге. Там все незыблемо. Вера, вот у вас лучшее, единственное имя – Вера, и сложная жизнь, судя по обилию вопросов…
Потом были Закопаны. Холодно в отеле. В горах снег, мороз и ясное солнце. Много немцев приехало кататься на лыжах. Они громкоголосые, смеющиеся, полноватые. В голове у меня вертится все время идиотская фраза: «А за стеной гуляли пьяные немцы». Ты удивляешься, что я так трудно их переношу. А мне постоянно кажется, что вот этот точно стрелял в наших, и вот этот маршировал по нашей земле, и тот, и другой… Ничего не могу с этим поделать, все время мысленно переодеваю их в военные мундиры. Особенно непереносим их смех, их розовые толстые лица. Я впервые вижу немцев после войны, и это тяжело. Мы перестали ездить на фуникулере в горы, где они загорают. Мы садились в пролетку и уезжали в окрестности. Там на поле крестьяне, одетые как танцоры из фольклорного ансамбля, пахали землю в белых, расшитых тесьмой шерстяных костюмах, войлочных тапочках. Они были любезны, но немногословны.
Потом мы опять вернулись в Варшаву. Однажды в Старо място мы зашли в кондитерскую и познакомились с ее хозяином Бренклером. Его кондитерская была очень известная. Стены исписаны стихами, куплетами, автографами знаменитостей, даже Рихтер как будто там расписался. На тебя это произвело сильное впечатление. Кондитер Бренклер подсел к нашему столу и провозгласил тост:
– Да здравствует Турция, Польша и Франция!
– Почему Франция?
– Мы же говорим на ее языке.
А на следующее утро в отель к нам явился высокий длинный старик, твой польский кузен – Боженецкий. Пришел чуть свет, нас разбудил, очень громко разглагольствовал. Ты встал, а старик плюхался на твою кровать, вскакивал и бросался снова, показывал, какой он ловкий и выглядел совершенно сумасшедшим. Боженецкий очень любил воевать, летал на бомбардировщике, участвовал во всех войнах, где только мог, дрался за всех против всех. Он принес тебе фамильный герб на пергаменте: медведь, а на его голове козел с огромными рогами. Ты расстроился.
– Что за дурацкий герб?
А старик гордился. Просил устроить его на съемки в кино артистом:
– Или воевать, или сниматься в кино!
Ты испытал к нему чувство жалости, смешанное с брезгливостью. Встреча с родственником оказалась смешной, неловкой и продолжалась несколько часов. Все это время бой носил в наш номер коробки с пирожными – все новые и новые сорта от Бриклера. Коробки, коробки, коробки. Я угощала всех, кто приходил, бриклеровскими пирожными. Ты ел их беспрерывно и хотел еще. Вечером мы уезжали в Прагу, ты попросил меня оставить для поезда две коробки с пирожными и ни за что не желал их отдавать. Ты хотел быть взрослым, но не мог. Я видела это не раз.
В Москве, у нас дома, когда гости уходили, ты просил: «Отнеси скорее торт в холодильник, чтобы мои глаза его не видели. Я сейчас могу наброситься на него, и тогда мы с ним оба пропали. Я не должен потолстеть. Это смерть для меня…» А когда утром я заглядывала в холодильник, то не находила ни куска. Кругом были рассыпаны крошки, по линолеуму размазан крем. Ты просыпался ночью и воровски расправлялся со своей жертвой прямо там, возле холодильника, и, уж конечно, обходился без ножа и вилки.Уходя, оставляю свет в прихожей. Уходя, оставляю свет. Даже если ухожу днем, даже если ухожу на полчаса, даже если вернусь с друзьями.
За нашими пыльными окнами – зеленая весна. Запоздалая весна, бессолнечная и такая холодная, словно больная.
Заканчивается цикл, который можно назвать «Без тебя». Без тебя уже все однажды впервые было: лето сухое с моими слезами, осенние дожди и сиротская зима. Теперь весна – последний непройденный километр страха, который я тоже пройду. Но ты не думай, что по моим щекам вечно текут соленые ручьи. Я – твоя жена, Назым. Никто не должен видеть моих слез. Кроме тебя.Ты начинаешь медленно читать:
Ты помнишь Узбекию, каирский бульвар?
Я нашел скамью, где мы сидели с тобой.
Хромая ножка скамьи хрома до сих пор.
Конечно, я помню, Назым. И еще как! Я ищу все скамьи, на которых мы сидели, мимо которых шли. Я ищу, ищу… Ты не знаешь, зачем? Зачем эти бессонные ночи, наши безумные разговоры? Я не могу разогнуться. Тяжесть из сердца не спускается в живот. Всё, всё! Всё, Назым. Ни за что больше не войду в кабинет, не сяду за машинку.
Как мы оказались в Каире? Внезапно. Тебе позвонили из Международного отдела ЦК и с большими реверансами попросили поехать в Египет на конференцию писателей стран Азии и Африки. Дело в том, что незадолго до этого в Стокгольме на заседании Бюро Всемирного совета мира разразился политический скандал. В то время, когда половина нашего мужского населения носила, правда, сильно поднадоевшие китайские рубашки из голубого поплина с эмблемой «Дружба», а женщины – китайские шерстяные косынки «Дружба» одного фасона и двух расцветок, Мао поворачивал руль в сторону культурной революции. Наши политики то ли прошляпили эту ситуацию, то ли, как обычно, держали ее в секрете. Но гуманитарная делегация в Стокгольме оказалась абсолютно не готова услышать, как китаец от имени своей страны вдруг обрушил на СССР обвинение в том, что призывы Москвы к разоружению – подлое вранье, что направлены они не против милитаристских держав, а против колониальных и угнетенных народов. Наши делегаты, не получившие никаких указаний от ЦК КПСС, растерялись и молча слушали, как на их головы льются потоки лжи. У тебя, Назым, реакция была мгновенной. Ты вышел к микрофону и дал бой провокаторам, после чего те демонстративно покинули заседание.
Ехать в Египет на конференцию тебе не хотелось. Зимой 1961/62 года у тебя было светлое настроение, много литературной работы, замыслов. Многое получалось, шли и шли стихи. Ты говорил:
– Руки чешутся. Зуд в пальцах. Все время хочу сидеть за машинкой.
Москва, не ведая близкого конца оттепели, жила интересной жизнью. Каждый мыслящий человек чувствовал себя творцом истории. Уходящие от рутины театры и журналы, шумные поэтические вечера, споры до полуночи в каждом доме – все это притягивало в Москву крупных интеллигентов мира, и многие из них постоянно бывали у нас в доме. Куда тут ехать? Но когда ты узнал, что китайцы опять хотят использовать предстоящую писательскую конференцию для политической атаки на СССР, – ты согласился, но с условием, что пошлют и меня.Я горжусь тобой, Назым! Я дорожу свидетельством твоего бесстрашия. Каждый день ты показывал мне, что мир един и неделим, что он не распадается на прошлое и настоящее, на мертвых и живых, на землю и небо, пока любовь человеческая связывает жизнь.
Надо бы нам вспомнить, как ты для поездки в Каир в первый и последний раз взял деньги у Союза писателей. У тебя в Египте не было гонораров, и чиновники, посулив обеспечить нас валютой выше головы, дали двоим на восемнадцать дней, как сейчас помню, 62 египетских фунта. Ты беспокоился, спрашивал – достаточно ли для нормальной жизни этих денег? Тебя заверили, что более чем. Мы прилетели, нас благодаря твоему новенькому советскому паспорту впервые встретили товарищи из советского посольства, наши журналисты и сразу же отвезли в шикарный «Хилтон», построенный американцами.
Мы выспались в очень милом скромном номере, а утром я случайно прочла на стене бумажку с указанием его стоимости. Наших денег хватало ровно на трое суток жизни в этой гостинице, естественно, без обедов и ужинов. Помню твою панику, твои нервные звонки советскому послу с просьбой срочно переселить нас в другую гостиницу, дать денег взаймы. Боже, какое это было испытание! Посол отрядил нам в помощь двух дипломатов. Те приехали, посочувствовали: «Как же вас отправили с таким мизером, да еще на 18 дней!», объяснили, что у посла денег нет, и к ночи нашли нам захудалый отель – клопиную дыру под самой крышей, без электричества, с вырубленным лифтом.
Утром прибежал посыльный мальчишка, глаза на лоб, и сказал, что великого человека в вестибюле ждет так много журналистов, что они даже не помещаются в холле! «Холл» – это, конечно, было сказано слишком сильно. Помню, как ты кричал:
– Я не имею права жить в нищей грязной гостинице!
Ты опять позвонил советскому послу, потребовал немедленно отправить нас в Москву и резко сказал ему, какое унижение испытал, когда впервые поехал за границу с советским паспортом. А тот, как глухой, бубнил про отсутствие денег в посольстве и необходимость согласовывать с Москвой каждую копейку.
Пока Назым выяснял с послом ситуацию, а тот несколько раз отходил от телефона, пытаясь что-то предпринять, его разговор, очевидно, благодаря спецслужбам, стал известен президенту Египта. Буквально через несколько минут, пока я укладывала вещи, явился респектабельный господин из дворца и передал Назыму личное приглашение Гамаль Абдель Насера быть отныне его гостем и немедленно (машина ждет у подъезда) переехать в специально отведенные апартаменты. При этом господин с нескрываемым отвращением брезгливо оглядывал нашу ночлежку и изумленно спрашивал, как мы сюда попали. А ты, Назым, на голубом глазу ему объяснял, что мечтал быть ближе к простому народу.
Когда мы переезжали, нас сопровождало два эскорта: полицейский и журналистский.
Утром в гостиницу «Гизира-палас» курьер принес нам пакет от советского посла. В нем не было денег, но лежал пригласительный билет в ложу на твой балет «Легенда о любви», который в те дни привезли в Каир артисты Новосибирского театра.
Театр был полон. Билеты стоили очень дорого, поэтому публика была из тех, что ездят по Каиру в автомобилях. В антракте к тебе подошли несколько арабских мужчин и одна женщина, вся в черном, лицо грустное, словно никогда не знало улыбки. Они отвели тебя в сторону, о чем-то вполголоса поговорили с тобой по-французски, потом подозвали фотографа, и он вас всех снял.
Смотрю сейчас на эту карточку и, оказывается, женщина на ней улыбается. Только от улыбки ее глаза еще печальнее.Ты помнишь, о грустной женщине был разговор?
На Нефертити она была похожа лицом.
В концлагере, в пустыне, ее муж, коммунист,
пять лет он пропадает в песках.
Да, помню. После спектакля они ждали нас за углом в машине с погашенными фарами. Двое из них оказались писателями, третий – известным адвокатом Шахотой. Они предложили посмотреть Каир ночью. Мы увидели бедные районы с озерами канализации, тюрьму, напоминающую гигантский саркофаг, нищие окраины. Мы поняли, что наши знакомые любили свой город и мечтали, чтобы он стал самым прекрасным в мире. Мы проехали центр. Он был хорошо освещен, по улицам шли сотни людей. Они не гуляли, не стояли кучками, а сосредоточенно, молча куда-то шли и шли.
Таинственные ночи в Каире. Мы остановились на улице Узбекии, уселись на длинную скамью и говорили не умолкая. Наших друзей интересовала Москва. Сотни вопросов задавали они наперебой, пытаясь представить себе жизнь в Советском Союзе. Одна ножка скамьи была сломана. Мы подкладывали под нее камень, а он то и дело вылетал.
Потом сюда мы приходили посидеть перед сном. Многое было сказано на этой хромоногой скамье… Она стояла в самом начале парка, и здесь удобно было наблюдать за тем, что происходило на площади и трех лучами расходящихся улицах. Удобно было наблюдать и за нами. Помнишь этих двоих? Таскались за нами повсюду. Ты оглядывался, подманивал их пальцем, они прятались. Ты удивлялся – ну какой прок за нами следить? Но парочка работала день и ночь.
Ты попросил одного журналиста из тех, с кем мы познакомились в театре, показать тебе арабскую деревню. И вот однажды утром от отеля «Гизира-палас», где мы жили, отъехал обшарпанный битый-перебитый «фольксваген». За рулем сидел японский журналист, с ним был еще один наш знакомый, местный писатель. Мы кое-как втиснулись в машину, и японец рванул, словно заправский гонщик. Оказалось, что он неделю назад получил водительские права и, пока заказанный им автомобиль не прибыл из Токио, решил поучиться на этой ржавой развалюхе, подобранной на свалке. Ехать он умел только прямо, но – как все новички – с сумасшедшей скоростью. Руль был не в порядке. Когда нужно было свернуть в сторону, японец останавливался на забитом перекрестке, выходил из машины, и все мы начинали толкать и поворачивать лимузин вручную.
– Да, Веруся, – сказал ты весело после очередного разворота, – мы не разбились в самолете, попав в грозу над Средиземным морем. Пронесло, когда у «Каравеллы» в Орли не завелся мотор. Успели выйти в Ашхабаде из ИЛ-18, помнишь, перед взлетом отвалилось гигантское колесо. Но сегодня нет шансов остаться живыми! Если так, пусть эта поездка будет самой счастливой в нашей жизни.
Путешествие обошлось без аварий, но счастливым его не назовешь. Ты написал в записной книжке: «Недалеко от Каира есть деревня Сентерис. Десять тысяч смуглых, почти чернокожих крестьян, худых, высоких, в длинных халатах и в большинстве босых, живет в ней. Землю они пашут сохой… Жители Сентериса, как и большинство египтян, гостеприимны, приветливы. И бедны».
Где-то километрах в тридцати от Каира мы увидели высокого жилистого крестьянина, пахавшего землю деревянным колом. Назым попросил остановиться. По борозде мы подошли к пахарю. Его смуглое, высушенное солнцем лицо было копией потрескавшейся земли под его ногами. Увидев нас, он остановился. Мы все поздоровались с ним за руку а Назым приложил пальцы ко лбу, к губам и к сердцу. Крестьянин держался просто. С достоинством отвечал на все вопросы. Его волновала земля, урожай, засуха, и про все это он охотно рассуждал.
– Вы слушаете радио? Вы читаете газеты? – спрашивал Назым.
– Я не умею читать, у меня нет времени ходить к учителю. Я работаю от зари до темна. Большая семья. Чем больше становятся дети, тем больше едят…
Мы стали прощаться. Крестьянин задержал руку Назыма в своей и сказал:
– Сегодня вечером, когда я буду рассказывать сыновьям, что говорил на пашне с хорошим человеком, они меня спросят, кто ты и откуда приехал. Ты ведь мусульманин, а не гяур, как твоя жена.
– Я – писатель. Назым Хикмет. Я родился в Турции. Лицо крестьянина словно заволокла туча.
– Жаль, – сказал он.
– Почему? – не понял Назым. – Я турок. Стамбул, слышал?
Крестьянин только махнул рукой.
– Ты кажешься мне хорошим человеком, – еще раз повторил он, – а турки – плохие люди.
– Почему? – вскрикнул Назым. – Почему турки плохие?
– Они дружат с Израилем. Если вы заодно с евреями – значит, вы против нас. Жаль.
Он стегнул свою тощую лошаденку, его лопатки резко обозначились под линялой рубахой, руки уперлись в кол, и, обдав нас пылью, он прошел мимо, даже не взглянув.
– Вот тебе на… – растерянно сказал Назым. – Он никогда не был в городе, не видел ни одного еврея, неграмотный, но как он ненавидит!
В Каире мы подружились с семьей адвоката Шахоты. Само собой вышло, что мы стали обедать не в гостинице с оплаченным египетским правительством рестораном, а в доме нового друга. Ты приезжал туда в перерыве между заседаниями и часа два отдыхал – у тебя, Назым, была прелестная способность чувствовать себя хорошо у симпатичных тебе людей.
Когда ты уходил на конференцию, жена Шахоты Мари приезжала за мной на машине. Они беспокоились, чтобы я не скучала одна в чужом городе. По улицам арабской столицы блондинке было разгуливать очень непросто. Дети бегали за мной табуном, и Назым боялся, что однажды они не выдержат – и прощай длинные белые волосы!
Когда мы вернулись из деревни Сентерис, ты рассказал им о встрече на дороге. Шахота и его жена слушали молча.
– Что вы скажете об этом?
– Что тут говорить, – грустно ответил Шахота. – Мама! – позвал он свою старую мать. – Мама! Иди сюда.
Она вошла, маленькая, опрятная, и посмотрела на сына ясными глазами.
– Мама, скажи Назыму, сколько лет наша семья живет в Египте?
– Почти четыреста, – ответила она, подумав.
– Почти четыреста! И никто из предков не хотел уезжать отсюда. Они чувствовали себя арабами. У нас нет других традиций, других отличий, мы – совсем они, и вот теперь мы должны уезжать. Но моя земля, моя родина здесь! Я люблю Египет, я его семя! Что мне делать, Назым Хикмет? Мне стало трудно. Я – еврей, и сейчас люди из-за этого избегают меня. Они больше мне не верят. Девочек дразнят в школе. Я не могу им объяснить, что происходит это потому, что по соседству теперь есть маленькая страна Израиль… Вот так, Назым.– Почему во мне нет еврейской крови? – искренне сокрушался ты. – Турецкая, польская есть, французская, как будто немецкая, даже грузинская есть, а еврейской – нету. Так трудно живет этот народ. Я хотел бы разделить его судьбу.
И только одна претензия к евреям была у тебя, Назым:
– Что эти мужики, наши еврейские братья хотят от тебя? – говорил ты мне и смеялся. – Вот это единственное, что может сделать меня антисемитом.Мы приехали в Каир дней за десять до начала конгресса. Ты сразу же опубликовал в газете свое воззвание, и строки:
Не смотрите, что я рыжеват,
– я азиат.
Не смотрите, что я синеглаз
– я азиат… —
сразу стали знаменитыми.
Десятки корреспондентов осаждали тебя с утра и до вечера. Делегаты, приехавшие из разных азиатских стран, хотели с тобой говорить. Ты работал яростно, до глубокой ночи, и это тревожило меня. Ты жил в те дни, как мудрый проповедник добра и мира, и я радовалась, что у людей, поговоривших с тобой, светлеют лица, что это общение вдохновляет тебя самого, прибавляет сил.
12 февраля 1962 года настало первое утро конгресса. Зал во дворце Фарука заполнили делегаты – это было море желтых и черных людей. Я впервые на таком необыкновенном собрании, да и то полулегально. Далеко впереди вижу твою возвышающуюся спину и твой затылок. Когда конгресс должен был выбирать президиум, неожиданно вышел китайский делегат и сказал:
– Мы требуем лишить сейчас права голоса одного писателя. Он представляет здесь турецкую литературу. Я говорю о Назыме Хикмете. Но может ли быть послом турецкой литературы человек, не имеющий турецкого паспорта, человек, приехавший сюда с паспортом Москвы? Мы требуем лишить его мандата делегата.
Зал замер. Я увидела, как через несколько мгновений из средних рядов партера легко вышел ты, неторопливо подошел к трибуне, встал перед собравшимися – свободный, открытый, и некоторое время молча вглядывался в глаза людей. И не было на твоем лице заметно никакого волнения. Стало тихо-тихо.
– Я думаю, – сказал ты, – что имею право представлять на конференции писателей Азии и Африки Турцию, потому что имеет право представлять литературу своей страны писатель, который пишет на языке своего народа. Я думаю, здесь собрались писатели, а не полицейские. К сожалению, на моей родине, в Турции, сегодня нет поэта лучше меня. Но это не всё. Я думаю, что среди присутствующих в зале я тоже самый крупный поэт. Раздались аплодисменты.
– Если я преувеличил и кого-то обидел, пусть он выйдет, и я с радостью пожму ему руку.
Люди сидели, затаив дыхание. Никто не шелохнулся.
– А если так, уважаемые товарищи писатели, вы не только не лишите меня права голоса, а сейчас же выберете в президиум. Кто «за» – прошу поднять руки.
И лес рук поднялся, Назым! Ты сел в президиум, а люди все не опускали руки.
Внешне ты был спокоен. Но я догадывалась, чего стоила тебе победа. Когда в Москве молодые люди, приходя к нам в дом, протягивали руку и назывались: «Я – поэт такой-то…», ты смотрел на них с нескрываемой иронией и потом удивленно говорил мне: «Я всю жизнь пишу стихи, иногда совсем неплохие, но я не могу сказать о себе, что я – поэт. У нас на Востоке для человека сказать про себя “я – поэт”, все равно, что похвалиться, будто он хороший человек».
То, что ты совершил в Каире, было необходимым актом политической борьбы, острой и напряженной. А еще ты хотел, чтобы никто и никогда не лишал Турцию права голоса. Ты должен был победить и победил. Целый день ты отвечал на вопросы, спорил в перерывах, убеждал, делал заметки для будущей своей речи, давал многочисленные интервью. В гостиницу в тот день пришел в полночь. Вот тут-то напряжение сказалось… А утром – сигарету в зубы:
– Я не могу лежать. Что ты! Там у нас готовится настоящая драка. Я должен быть среди наших друзей.
А помнишь, что было дальше, когда мы спустились завтракать в ресторан «Гизира-палас»? Ведь нас поселили в одной гостинице с китайцами. Никто из них с нами не поздоровался. Китайская делегация состояла из тринадцати писателей, а возглавлял ее министр культуры Китая Мао Дунь – известный прозаик и твой добрый старый знакомый. Китайцы, как и мы с тобой, приехали задолго до начала конференции, и все эти дни Мао Дунь просил, уговаривал тебя выступить на стороне Китая. Культурная революция в КНР только начиналась, и мало кто в то время мог предположить масштабы ее разрушительной силы. Но китайцы боялись тебя сейчас, здесь, в Каире, боялись после Стокгольма. Мао Дунь предлагал тебе формально переехать в Китай, обещая на самом деле безбедную жизнь в Париже, Риме, Швейцарии – где угодно, только бы вытащить тебя из Советского Союза.
Сначала ты терпеливо пытался объясниться, но потом оборвал всякое общение с китайцами. Вот почему они пытались лишить тебя голоса на конференции. Вот почему твои книги первыми горели в кострах культурной революции. Но Мао Дуня ты по-человечески жалел, не сомневаясь, что свою миссию он выполняет по принуждению. Убедился в этом, когда через некоторое время узнал, что в КНР его отстранили от всех дел, перестали печатать и упоминать его имя.
– Нет, – сказал ты серьезно в то утро, – мы не дадим китайским товарищам использовать в своих целях делегатов конференции. Ты видела: тут есть совсем молодые. У некоторых нет никакого опыта политической борьбы, а у других «писателей» нет ни единой сочиненной строчки, но они уже по нескольку месяцев гостили в Китае. Обстановка сложная.
В вестибюле дворца были вывешены плакаты, в которых сообщались краткие сведения о главах делегаций. О тебе написали так: «Назым Хикмет – всемирно известный поэт, автор многих книг, переведенных на 56 языков, член бюро Всемирного совета мира».
В канун закрытия конгресса президент Насер устроил прием в честь писателей – гостей Египта. В назначенное время к нам в гостиницу пришел молодой, прекрасно воспитанный человек, чтобы сопровождать нас на прием во дворец Фарука. Он извинился за незнание русского языка. Он говорил по-английски еще хуже, чем я, и поэтому мы с ним отлично понимали друг друга.
Выйдя из машины у дворцовой площади, мы увидели гигантскую толпу бедняков – тысячи людей, сдерживаемых полицейскими, тянули к нам непомерно худые длинные руки. Их глаза гноились от трахомы, а ветхая одежда едва прикрывала тела.
– Билешь! Билешь! Билешь! – кричал им сопровождавший нас молодой человек, что означало: Прочь! Прочь! Прочь!
А толпа все гудела и рвалась к проходу, по которому должен был пройти человек-бог Гамаль Абдель Насер. Но он заставил долго ждать не только своих подданных на площади, но и несколько сотен писателей во дворце.
Когда мы вошли в огромный старинный зал, нас поразила его живописность и паркетный пол, начищенный до такого блеска, что ноги на нем теряли опору и скользили, как по льду. Зал был абсолютно пуст, у великолепно расписанных стен не было ни единого предмета, на который можно было бы опереться. Церемониймейстер с микрофоном пытался выстроить вдоль стен прибывающие делегации писателей согласно арабскому алфавиту, а в середине зала поставить каре из писателей Египта. Но делегации спорили с ним, одна не желала встать позади другой, все рвались вперед, многие упирались, стояли кучей, и распорядитель впадал в отчаяние. Прошло уже около часа. Порядком и не пахло. Ты был зол, ты устал и не хотел больше стоять.
Наконец какие-то делегации добились своего, и было принято новое решение: выстроить собравшихся по латинскому алфавиту. Снова началась неразбериха. Наш гид вынул из кармана белую пластинку с булавкой – на ней было написано «ТУРЦИЯ» – и приколол Назыму на лацкан пиджака. Мы оказались почти в самом конце шеренги, выстроенной вдоль трех стен, то есть ближе всех к предполагаемому месту президента.
А тот все не появлялся. Ты был в ярости, сказал, что сейчас уйдешь отсюда:
– К чертовой матери такие приемы!
В это время в серединном каре упала в обморок египетская писательница, и ее унесли. Наш гид объяснил, что это от любви к президенту Насеру.
– Нет! – вскричал ты. – Это не от любви! Она просто не могла больше выдержать этого варварства, не могла стоять! Я не хочу рухнуть на пол, как эта несчастная! – и сел на пол, поджав под себя по-турецки ноги.
Наш гид от изумления онемел. В страхе и отчаянии он стал умолять тебя подняться, но ты мотал головой и посылал его к чертовой матери. Церемониймейстер, увидев тебя, сидящего на паркетном полу со скрещенными ногами, закрыл глаза и долго их не открывал. Все писатели смотрели на тебя, по-моему, с завистью. Я тихо смеялась, объясняя гиду, что Назым Хикмет очень устал, что в создавшейся ситуации он нашел единственный для себя выход, и нужно оставить его в покое, иначе он рассердится и уйдет. Тогда молодой человек заговорил со мной по-русски, чем очень сильно нас удивил:
– Если так, то вы, а не ваш муж, будете главой турецкой делегации. – Он отстегнул от пиджака Назыма табличку с «ТУРЦИЕЙ» и прицепил ее мне.
Увидев, что делает наш гид, и услышав его русскую речь, ты стал так хохотать, что парень совсем от тебя сошел бы с ума, но в этот момент в зал в сопровождении свиты быстро вошел президент. Он выглядел очень просто и красиво в сером костюме из мягкой шерсти. Обаятельно улыбнувшись собравшимся, он подошел к началу шеренги стал за руку здороваться с каждым из гостей. Он задержался около китайской делегации, о чем-то спрашивал Мао Дуня, потом быстро пошел дальше, не останавливаясь, пока не дошел до делегации Советского Союза. Несколько минут поговорил с нашими писателями, мне плохо было их видно – мы стояли вдоль одной стены у противоположных ее концов. Но хорошо было видно другое: как только президент заговорил с нашими писателями, китайские делегаты демонстративно повернулись лицом к стене. Время от времени одна из их женщин смотрела, отошел президент от наших или нет, и, увидев, что он все еще разговаривает с советскими, давала своим знак не поворачиваться.
Ты при появлении президента поднялся с пола. Грустно глядя на китайских писателей, сокрушенно покачивал головой, приговаривал:
– Черт побери, и эти люди с такими представлениями о чести и борьбе делают сегодня политику в Китае. Бедный китайский народ, изумительный народ, сколько тысяч лет он рвался к свободе, чтобы эти оппортунисты сели ему на г о лов у…
Пока президент продвигался к нам, наш гид научил меня длинному традиционному приветствию. Я поздоровалась с господином Насером. Он хорошо улыбнулся и спросил тебя, откуда твоя жена знает арабский. С тобой он говорил, пожалуй, дольше всех. Благодарил за приезд, спрашивал, как ты перенес дорогу, как чувствуешь себя в климате Египта, не скучно ли нам здесь, нравятся ли мне его подарки, которые он каждый день присылает мне в гостиницу.Так мы познакомились с президентом Насером. После официальной части он пригласил нас для конфиденциального разговора и долго говорил с тобой о своей стране.
– Вы видели бедность, я знаю, но борьбу с ней мы уже начали. Приезжайте к нам, и не на месяц. Приезжайте надолго. Мы всё вам покажем, и, может быть, новый Египет пройдет через вашу поэзию. Мы нуждаемся, как все новое в этом мире, в благословении такого великого поэта, как вы.
Оказалось, что президенту Насеру очень понравился балет «Легенда о любви», и он просил тебя написать либретто балета специально для их театра, просил найти время и помочь возрождению культуры ОАР. Рядом с президентом находился какой-то человек, который тут же пояснил, что они приглашают нас в гости и поэтому мы ни о чем не должны беспокоиться.
– Благодарю, – сказал Назым, – но я – поэт и дороже всяких благ ценю свободу. Я люблю ходить в гости, но живу только на деньги, заработанные своим трудом. Вы не печатаете моих книг, у меня нет здесь гонораров, поэтому я не могу принять ваше приглашение.
Несколько минут спустя, здесь же Назыму сказали, через сколько месяцев в Каире выйдет двухтомник его стихов, сколько денег он получит за эти книги и сколько времени сможет жить на них в Египте.
Мы с удовольствием гуляли по Каиру. Меня удивляло, что простые люди сразу угадывали в Назыме мусульманина, а во мне – «гяура». Ты радовался, узнавая в Египте, черты Стамбула и привычки своего народа. Я постоянно слышала:
– Вот это как у нас. Вот и у нас так ходят женщины. Еда, дети, лица, минареты, даже отель «Хилтон» – все было точь-в-точь как в Турции. Ты искал свою родину повсюду и здесь, в Каире, чаще, чем в других местах, находил многие напоминания о ней.
– Тебя не раздражает? Тебя не раздражает? – постоянно спрашивал ты меня.
Один чешский друг, – его мы случайно встретили на улице, – увидев, как загораются твои глаза при виде восточных сладостей, которыми в изобилии торгуют на улицах каирские лоточники, с ужасом воскликнул:
– Здесь нельзя покупать эти вещи! Только в магазинах. Лоточники вместе с баклавой (в России это лакомство известно как пахлава. – А. С. ) продадут вам такое количество заразы, о котором вы даже не представляете! Палочки Коха, все разновидности трахомы и так далее. Я работаю здесь три года. Я знаю. Эти мелкие торговцы катастрофически антисанитарны!
Он повел нас в шикарную кондитерскую. Ты стоял перед стеклянной витриной, за которой лежали все сладости твоего детства. Ты сказал:
– Веруся, держи меня. Я могу купить сейчас все эти угощения. Это так вкусно! Это все как в Турции! Это баклава, смотри, как она сочится сиропом. Ах, я думаю, ты никогда не ела таких изумительных вещей. Мой рот полон слюны. Я очень смешной, но ничего не поделаешь. Я умираю от желания съесть все эти сокровища Востока!
Чех еле-еле усадил тебя за столик. Ты боялся, как боятся маленькие дети – если уйдешь от прилавка, тебе дадут лишь половину того, о чем мечтаешь. Но наш чешский друг умел навести порядок. Он принес огромную вазу с самыми разными сладостями из теста.
– Вы можете есть на выбор всё, что вам понравится. Остальное мы вернем. Платить я буду потом.
– Зачем потом? – взмолился ты. – Я плачу сейчас, – и побежал к прилавку.
– Да, вот это пир! Вот это я понимаю, а пить не понимаю. Не пьянею. Жаль, что так. Ах, мой Акпер Баба! Не видит, что сейчас ест его отец! Я ему объясняю, что не могут в Баку, в Кировабаде готовить баклаву, как полагается. Грубо делают. Не тает она у них, всегда сахар хрустит на зубах, как морской песок. А вот здесь, как у нас дома, – тает! – говорил ты, отправляя в рот очередной кусок. – Нет, я все-таки должен буду один раз накормить его настоящей турецкой баклавой! Что вы думаете, этот рецепт азербайджанцы взяли у нас. Все-таки в Турции раньше придумали готовить баклаву.
– Так же как радио, электричество и паровой двигатель, – смеюсь я.
– Это нет, конечно, но баклаву – да! Дайте нам тоже что-нибудь открыть раньше других!
Перед отъездом, вернее, перед отлетом из Каира ты зашел в эту кондитерскую и попросил запаковать баклаву в дальнюю дорогу. Ее положили в коробку со всеми предосторожностями, чтобы не вытек сок, чтобы она не помялась, и упаковали, как упаковывали бы драгоценную пыль, способную улетучиться в малейшее отверстие. Ты поднял за цветной бантик коробку и очень торжественно за руку попрощался с кондитером, объяснив ему, что везешь в Москву это объедение в подарок своему другу, тоже мусульманину, который никогда в жизни не ел настоящей баклавы.
– Да, конечно, мусульмане живут всюду, ивМоскве тоже. Да. А как же?
В самолете ты держал эту коробку на коленях и перебирал пальцами бантик.
– Давай, я поставлю ее на полку, – предложила я.
– Ничего, я не устал.
Какое-то время мы летели над Нилом. Сверху он был густого желтого цвета, «голубой» Нил нашего детства. Я не отрываясь смотрела в окно. Через какое-то время я повернулась к тебе. Ты развязал бантик и шуршал бумагой внутри коробки.
– Что ты там ищешь? – удивилась я.
– Хочу проверить, не течет ли баклава.
Я заглянула в коробку. Одного куска баклавы как не бывало.
– Ты же везешь ее в подарок Акперу…
– Здесь много. Целых десять кусков, больших, как бифштексы. Он все равно не сможет съесть сразу так много, а хранить ее нельзя. Засохнет. Потеряет свой вкус, уже не то будет, хуже, чем в Кировабаде…
Я завязала коробку, и ты как будто успокоился.
– Ты не спишь? – несколько раз спрашивал меня. – Не спишь?
Потом я задремала. Открыла глаза, посмотрела на тебя. Твой рот был полон, а щеки оттопырились. Коробка варварски открыта, все слои целлофана разорваны, а баклавы осталось меньше половины.
– Что же ты делаешь, Назым?! – с упреком сказала я. – Съел уже почти всю баклаву!
– Не знаю! Не мог выдержать. Съел, даже не заметил, как. Еще немного осталось, но теперь придется доесть и это. Неудобно же дать человеку так мало, – и ты, секунду поколебавшись, положил в рот один из двух оставшихся кусков.
– Господи, что же ты скажешь Акперу? Он так огорчитс я…
– Почему огорчится? – быстро возразил ты. – Он же не знает, что я ему вез баклаву.
Когда мы вышли из самолета в Шереметьево и увидели Бабаева, ты обнял его и сказал:
– Ой, Бабаев, ой паша. Ваш отец вез вам баклаву. Из Каира. Настоящую! Но по дороге не выдержал и съел.
Так и знала, когда сегодня начинала уборку, чувствовала, что что-нибудь да случится. Оказывается, у тебя были тайны и такие крупномасштабные, как эта книга величиною с журнальный стол! Браво. Очко. Спасибо, Назым! Прекрасная редкая книга, пожалуй, теперь самая красивая в нашем доме. Твои собственные, разумеется, не в счет. «Древние русские иконы», издана ЮНЕСКО. И где ты только ее достал? Но лучше всего твоя надпись: «Вере Владимировне, когда ей исполнится сорок пять лет. С любовью, Назым. 1960».
Выходит, четыре года назад ты ее принес и засунул под диван на сиденье? И молчал! Мне бы испугаться от твоих шуток, Назым, с ума бы сойти, а я радуюсь. Не удивляюсь нисколько, будто получила книгу из твоих рук. А знаешь, сколько мне сейчас лет? Тридцать два с небольшим… До сорокапятилетия еще далеко… или рукой подать?
Так что шути, шути, только не забывай. Мне уже два человека сказали, что видели тебя на днях в вестибюле метро «Белорусская». Нет. Я не верю. Зачем тебе под землю лезть… Но на этой станции не выйду.Впервые вместе мы приехали во Францию ранней весной, пять лет назад. Вспомни, как ты готовил мое первое появление в Париже. Привез мне из Стокгольма светленькую бежевую куртку из замши, коричневую юбку в складку, коричневые туфли и сумку. Все очень неброское, «как любят в Париже».
В аэропорту нас встретил Абидин. Ты сразу потребовал от него ответа:
– Ну, как Вера? – и тут же с гордостью: – А костюмер я!
– Очень хорошо. Замечательный у тебя вкус. Вера выглядела бы совсем как парижанка, если бы вся одежда ее не была такой новой. Но это поправимо. Я ей помогу.
Он загрузил нас в свою маленькую, очень старую машину, ржавую и неубранную. Твои длинные ноги, Назым, там поместились с трудом, колени торчали выше головы. Так мы и поехали. Машину вела жена Абидина Гюзин, но сил ее не хватало, чтобы выкрутить руль при повороте налево или направо. Тогда она просила Абидина помочь. Вдвоем они, что есть силы, наваливались на руль, и машина нехотя им подчинялась. Ты веселился.
Так добрались мы до маленькой гостиницы «D’Аlbe» в Латинском квартале, неподалеку от бульвара Сен-Мишель, которую Абидин выбрал для нас по двум причинам: во-первых, она была рядом с его домом, а во-вторых, он считал, что если человек живет в Париже, то непременно должен видеть в любой момент, когда ему только захочется, Сену из своего окна. Действительно, если распахнуть окно нашей ванны и хорошенько оттуда высунуться, можно увидеть и Сену, и Нотр-Дам, и мансарду Абидина. Мы полюбили эту маленькую старую гостиницу, свой номер и всегда останавливались только в «D’Аlbe» и только в нашем скворечнике.
Едва мы побросали вещи в гостинице, как Абидин сказал:
– Нечего терять время в Париже, едемте его смотреть.
Мы ездили по городу два или три часа, ахали, изумлялись. Ты все время следил за моим лицом, пытался понять, нравится ли мне Париж, как я реагирую на Нотр-Дам, бульвар Распай, площадь Звезды, Монмартр, на Елисейские поля и Булонский лес, на Лувр… Когда мы вышли из машины у нашего гранд-отеля, Абидин удовлетворенно заметил мне:
– Вот теперь ты настоящая парижанка.
По выражению твоего лица я поняла – со мной что-то случилось. Опустила глаза и увидела, что моя светлая куртка совсем почернела, и только на рукавах у сгиба локтей еще виднелись светлые полосы.
В номере ты раздосадованно пытался отчистить замшу от сажи и ворчал, что глупое пижонство Абидина испортило не куртку, а мой образ…
– Тебе не идет грязь, нарочитая небрежность, за тобой другая страна, другой опыт, другая культура. Не надо играть в жизни чужие роли!.. Вообще не надо играть. Надо лишь быть собой…
Однажды в Париже ты попросил Абидина:
– Нарисуй мне Веру.
А он не рисует портретов. Но ты просил. И когда мы улетали, Абидин принес в аэропорт пакет.
– Вот, – говорит, – тебе три портрета Веры.
В Москве ты распаковал подарок. Абидин пошутил. В пакете оказались три маленькие картинки, похожие на призрачные морские пейзажи. Среди нежных спокойных волн три острова – голубой, зеленый и коричневый. Но ты был очень растроган, удивился, как художник смог передать характер человека через цвет.
– Да, это действительно, Вера! – И повесил «портрет» в центре стены.Помнишь, Назым, мадам Леконт? Ты восхищался ею: умна, как двести мужиков, образованна, как профессор, современна, как Брижит Бардо, деятельна, как Рокфеллер, и обаятельна, как Париж.
– Я не похожа на миллионершу?! Потому что всю жизнь работаю, как каторжник на галерах! До войны я была Кристианом Диором в Париже! Сейчас мне семьдесят три. Я продолжаю проворачивать кучу дел! А вам двадцать восемь, Вера, и вы не умеете водить машину?! Это невозможно!
Вот кому я обязана своими шоферскими правами. Но ничего. Я ее «нокаутировала», когда через полгода гнала на ее «мерседесе» в Шартр! Помнишь, Назым, она, как шаровая молния, носилась по Парижу, успевая переругиваться со всеми шоферами вокруг, высовывалась в окно, бросала руль, грозя кулаком, и каждый получал от нее свое: «Идиот!» Вот у кого был французский темперамент!
Когда мадам Леконт сказала, что русская художница Гончарова хочет познакомиться с тобой, я даже ухом не повела. Сколько мы встречали этих осколков России… Но когда услышала, что та работала с Дягилевым, напряглась. Гончарова, Гончарова… начало века… «Бубновый валет». Не может быть! Уж очень давно все это было. Ведь мы в своем художественном образовании в те годы вынужденно обходили вниманием эмигрантов. Стали всплывать в памяти полустершиеся имена: Бенуа, Добужинский, Николай Рерих, Сапунов, Наталья Гончарова… А ее зовут Наталья? Мадам Леконт не называла имени…
На другой день я в Сорбонне, в библиотеке. Недавно писала статью для АПН об этом университете и кое-кого там уже знала.
И вот передо мной русские книги начала века и более поздние парижские, берлинские издания по декоративному искусству. Сразу понимаю, что просит встречи с Назымом она, та самая Наталья Гончарова, которая создавала с Дягилевым и «Золотого петушка», и «Царя Салтана», и «Жар-птицу»… Стоп. «Жар-птицу» мы только что видели в Москве на гастролях Английского королевского балета… Ты ликовал: «Как поэтично! Какой праздник для глаз!» Ее декорации. Здорово!
Оказывается, Дягилев еще в 1915 году привлек ее своими «русскими сезонами», и с тех пор она постоянно живет в Париже. А ее муж, тоже известный художник начала века Ларионов, экспериментатор, открыл какое-то лучевое направление в живописи… Но еще волнует, что она двоюродная племянница жены Пушкина, Натальи Николаевны Гончаровой. И родилась поблизости от ее родового имения, и гостила у них… Невероятно! Скорее бы к ним!
Мадам Леконт привезла нас в маленький ресторанчик, и там мы тихо встретились с Натальей Сергеевной и Михаилом Федоровичем. Им было по восемьдесят лет. Оказалось, что Гончарова с юности любит Восток, его культуру и твои стихи. Что переживала, когда парижане боролись за твое освобождение из тюрьмы. Словом – «готовая, очень, правда, ветхая, ваша поклонница».
Ты был растроган, щедро хвалил ее балет, рассказывал ей о своей матери-художнице, которая из-за слепоты в конце жизни рисовала яркими красками…
– Я всю жизнь любила праздничный колорит – а в последние годы руки выбирали другие цвета…
Хочется говорить о Пушкине, но не знаю, как подступиться. А Наталья Сергеевна сама начала. Вспомнила молодые годы, Полотняный завод, пруды, деревья, где она «состоялась как художник русской крестьянской темы», а уж потом к ней сказка пришла, театр… Говорила, что долго не могла простить Цветаевой ее враждебного отношения к Натали Пушкиной, ее родственнице.
– Легко ли было услышать, что «Пушкин любил неодушевленный предмет – Гончарову»?
А потом, когда мы уже перекочевали к ним, в запущенную мастерскую, она достала зачитанную книгу Цветаевой и там указала мне на заложенную листом фикуса страницу. Снова с обидой:
– Прямо беда у Марины была с Пушкиным! Прочтите: «…Наташа Ростова – Вы сюда не ходили? Моя бальная Психея! Почему не вы – потом, когда-то – встретили Пушкина? Ведь имя то же! Историкам литературы и переучиваться бы не пришлось. Пушкин – вместо Пьера и Парнас – вместо пеленок. Стать богиней плодородия, быв Психеей – Наташа Ростова – не грех?» Вы подумайте, – смеялась Наталья Сергеевна, – по отношению к Пушкину Марина просто революционерка! Но все это у нее от любви поэтической, тут уж не до земного… суда. Но Цветаева крупна – целый русский континент. Художник! Она видела все кругом, совсем как мы: «оснеженные цветники»… Ну кто так скажет? Или про Чехова: «наируссейший» – всё точно, всё правда.
– Мы Марину Ивановну почитаем, и еще Чехова. Сколько сил от них перелилось… Знали их. – Старческий голос пресекся, это Ларионов. – Любили с годами больше большого…
В мастерской у них тускло горит свет, смотреть работы трудно, а смотреть хочется, и интересного уйма. Много театральных эскизов к непоставленным спектаклям, странные натюрморты с крупными деталями, условные пейзажи… Все рисовано на бумаге, многое в беспорядке.
На моих плечах – черный павловский платок с розами и незабудками. В рисунках попадаются и эскизы платков, очень по стилю схожие с моим.
– Подари ей, Вера, платок, я тебе еще куплю, – шепчешь мне ты.
Когда прощаемся, я накидываю ей на плечи свой платок, и Наталья Сергеевна даже ахает от неожиданности!
А через день мадам Леконт как посыльный привозит от них большой сверток. Там несколько рисунков Натальи Сергеевны и журнал «Жар-Птица», изданный в Париже в 1922 году. Ох уж эта русская черта тут же отдаривать подарки!
Когда через полгода мы пролетали через Париж, Натальи Сергеевны Гончаровой уже не было в живых. Нам рассказали, что она лежала в гробу, покрытая русским черным платком с розами и незабудками…А Арагоны?! Помнишь, мы пришли к ним на блины следующим вечером после встречи с Гончаровой и Ларионовым? Все-таки что ни говори, а их дом действительно самый красивый в Париже.
ХV век, как бы вовсе простой фасад, а глаз не оторвешь. Мраморные, почти дворцовые лестницы, окна как в Лувре и старинное высокое зеркало в золоченой раме между этажами… Но потом, как удар по глазам – узкая черная лесенка наверх под пурпуровой бархатной дорожкой. Эффектно декор на манер Ватикана. Талантливо, театрально решенное восхождение в дом великих… У-у-у… здесь знали основополагающие законы психологии. А там за дверью – анфилада просторных светлых, комнат. Музейность, нетленность, стерильность, подавляющая воссозданность экспозиции. И в этот абсолютно нежилой замечательный интерьер – на стенах Сезанн, Матисс, Пикассо… – так вписывается сидящая в глубине комнат Эльза, словно только что приготовленная из воска опытной рукой самой мадам Тюссо.
– Мадам Эльза поджидает вас в кресле, потому что ее ноги в опасности, – одними губами произносит сопровождающая нас служанка, которую здесь зовут не своим именем – «Зина».
Да-да, мы уже слышали об этом вчера вечером, когда ужинали с нашим любимым человеком в Париже – композитором Филиппом Жераром. Он так и сказал: «Врачи хотят отпилить ей ноги из-за плохой болезни». Вчера Филипп немножко жаловался на вздорный характер Эльзы, потому что, оказывается, теперь она не позволяет произносить имя Арагона без упоминания своего имени рядом. Филипп только что получил от нее возмущенное письмо, полное обвинений. А поводом послужила его воскресная телевизионная передача о музыке, где он рассказывал о песнях на стихи Арагона. «Ну при чем тут Эльза Триоле!» – недоумевал он.
– Вера! Назым! – приветливый голос Эльзы. Старая, элегантная, сразу насмешливая Эльза сидела, кокетливо вытянув перед собой тонкие красивые ноги. Чудесные, молодые ноги… Ее седые длинные волосы были уложены широким валиком в сетку. Прическа времен Сопротивления. Черное платье очень сильно шуршит, по рюшам и завязкам ползают, как живые, громадные золотые цепи со множеством аметистовых брелоков (кажется, ее первый муж был известный парижский ювелир?). Она почти сразу же сверкнула громадным бриллиантом и, вытянув передо мной руку, сказала:
– Нравится? Огромный камень, не правда ли? Это подарок Лили. Вы, кажется, подружились с моей сестрой в Москве? – И почти без перехода. – Но Володя – Маяковский, разумеется – любил дарить мне книги с чудными нежными признаниями. Между прочим, он начал их дарить мне значительно раньше, чем моей сестре.
«Что это? Ревность к литературной истории?» – думаю я.
– Хотите увидеть?
Мы стали вынимать книги из шкафа, который стоял за ее креслом. Я прикасалась к ним с робостью.
– Что вы боитесь? Вытаскивайте всё, и собрание сочинений тоже – все тома подписаны Володечкой!
Мы осторожно брали книги, я читала тебе, Назым, ласковые, смешные, трогательные надписи, многие были сделаны карандашом и почти стерлись. Волнение охватило нас. Дом становился одушевленным…
Потом вбежал Арагон, легкий, прямой, как ивовый хлыст. Он был похож на рано поседевшего юношу – этот профиль так замечательно увековечен в ста рисунках Пикассо. Арагон вернулся с мельницы, из их загородного дома, где три часа копал в саду землю: ежедневная борьба со старостью. Он заталкивает книги Маяковского в шкаф, он страшно хочет есть и почти силком тащит нас всех – оказывается, Эльза прекрасно ходит! – вниз, в столовую, где в интерьере ХV века стоит длинный дубовый стол, черный от времени.
– У нас русский дом.
Стол покрыт нашим вышитым рушником, на нем грибы, икра, клюква – все на старый русский манер.
Арагона интересуют новости Москвы. Ему нравится все, что у нас сейчас происходит в культурной жизни. Он в восхищении от того, что в Москве начался настоящий поэтический бум. Много говорит о Твардовском, его прекрасном «Новом мире», где замечательная проза, умная яркая публицистика. Но вот раздел поэзии считает в его журнале менее интересным.
Ты давно любишь Твардовского, с удовольствием рассказываешь о только что прочитанной, еще не печатавшейся второй части «Василия Теркина»; о том, как вы оказались с Твардовским вместе в Италии, во Флоренции, как о многом тогда поговорили.
– Да, в Москве сейчас замечательная жизнь, люди так давно этого ждали. Мы перед отъездом сюда видели очень интересную выставку в Манеже. Показан отчет работы московских художников за тридцать лет. Там Фальк есть, Тышлер, Петров-Водкин и современные работы, талантливые, слава Богу! Столько забытых имен показали, как это радостно – демократизация жизни! ХХ съезд начал давать плоды! Тебе надо, брат, срочно приехать в Москву! Жизнь сейчас там идет бурно, как река весной.
Но Эльза ворчала и постоянно вставляла шпильки в ваш разговор. Она считала, что все таланты давно истреблены и нечего ждать хорошего. Обновление искусства может быть только в Париже. И она называла десятки никому не известных имен, от которых Арагон морщился, а ты, Назым, хоть и держал себя в руках, чтобы не спорить, но расстраивался.Помнишь, какое-то время спустя у себя на подмосковной даче Эренбург принимал Пабло, Арагонов и нас? Сначала все было мирно. Пабло с гордостью демонстрировал свои новые брюки, только что привезенные из Парижа. Потом мы сидели за столом, а вокруг радостно носились собаки. Но вот между Эльзой и Нерудой завязался такой бурный спор о молодой поэзии Франции, что даже собаки попрятались. Пабло кричал, вскакивал, размахивал руками. Мы общими усилиями в конце концов их как-то угомонили. Обед завершился. Мы вышли из-за стола, Пабло любовно поглядел на свои брюки – и потерял дар речи. Ниже колен они свисали рваной бахромой, ободранные в клочья шкодливыми псами Эренбурга.
Опомнившись, Пабло закричал:
– Ноги моей больше не будет в Москве и в Париже. Чертова баба! – и в ярости удалился.
А ночью позвонил тебе.
– Прости меня, Назым, мой темперамент взрывается, как атомная бомба. Не могу терпеть, когда о поэзии рассуждает дилетантша… Ты еще помнишь, какие у меня были шикарные штаны?Наконец Эльза заговорила о том, что ее сильнее всего волновало в то время: о собрании сочинений Арагона и Эльзы Триоле.
– Такого еще не было во Франции и нигде, и никогда! – утверждала она с вызовом. Видя, что мы не совсем понимаем, о чем идет речь, пояснила: – Мы с Арагоном решили сделать себе памятник из книг. Тридцать три тома! Вперемежку его и мои сочинения. Два тома Арагона, том – мой, потом три тома Арагона – два моих и так до конца! Понимаете, из жизни уходит любовь, мы хотим показать изуверившимся людям пример истинной высокой любви. Мы, слава Богу, сохранили ее до конца наших дней в самом лучезарном и возвышенном виде. Мы вовсе не собираемся умирать, но сами должны побеспокоиться о том, какими будем существовать во времени. Время бесконечно, но мы в нем не абстрактны, не так ли, Назым?
Разговор свернул к поэзии Арагона. Оказалось, что он сейчас в хорошей форме и много пишет.
– Ешь, ешь, Назым, быстрее, я хочу прочитать тебе кое-что из нового, только что закончил одну поэму, – и он при первой же возможности потащил тебя в кабинет.
А мы снова поднялись наверх, и Эльза, угадав мой интерес к Маяковскому, рассказала историю своего романа с ним. Потом предложила посмотреть свою красивую спальню: большая комната, обитая черно-белым рябеньким ситцем, с огромной кроватью, покрытой таким же ситцевым покрывалом.
– Здесь, в постели, я каждое утро пишу четыре часа.
Рядом на сером мягком полу – довольно большой кованый русский сундук с откинутой крышкой, подбитый внутри красным бархатом, полный русских платков: павловских, оренбургских, каких-то еще…
– Это всё мне подарила Лариса – жена Симонова. Она меня ужасно балует…
Потом она показала мне ванную комнату, где только что был сделан ремонт. Обратила внимание на все детали, на розовую ванну в сером кафеле, на розовый халат на крючке, розовые полотенца, тапки…
А Назыма и Арагона все нет. Я томлюсь: Эльза ругает все чужие переводы Маяковского и Чехова, все парижские спектакли по Чехову и без него, французских писателей, советских писателей, Сорбонну, книжный магазин «Глобус», где авторы подписывают свои книги. Она недовольна мизерными гонорарами, которые получает в Москве, она недовольна, сердита, ворчлива, а Назыма нет.
– Что они там делают так долго? Наверное, опять, как мальчишки, восторгаются делами Москвы… – брюзжит она.
Тут вы и появились. Я вижу, что Назым несколько смущен, Арагон с красными глазами… Поздно. Мы довольно быстро прощаемся и уходим.
– Ты знаешь, он читал мне поэму, которую написал вчера ночью. Поэму об Эльзе. Он там выступает как Меджнун Эльзы, как возлюбленный Эльзы. Это душераздирающая история любви и ревности к Эльзе. Он это все чувствовал к ней, когда писал, понимаешь, вчера ночью… Он сходил с ума от ревности сейчас! А ты видела ее. Он плакал, когда читал… Это страшно выдержать!
– Вот это любовь! – потрясенно сказала я.
– Вера, что ты говоришь! Это – театр! Театр, который они играют, Вера! Неужели ты такая наивная и не понимаешь, что они боятся смерти, боятся, что их забудут! Они хотят сделать что-то такое сейчас, чтобы была сенсация! Да, да, ей нужна сенсация, это ее мысли он играет! Мир видел все, кроме шестидесятипятилетних Ромео и Джульетты! Бедный Арагон! Я не знаю, как ему помочь. Он действительно очень большой поэт, ему все эти дурацкие вещи не нужны! Завтра пойду к нему в редакцию. Буду ходить каждый день. Он очень одинок с этой бабой, она же, ты слышала, никого не любит…Вскоре, Назым, ты встретил Пабло, рассказал ему об Арагонах и мемориальных сюжетах Эльзы. Он согласился с тобой, сам добавил еще несколько красочных примеров и вдруг сказал: – А знаешь, кто платит за их роскошный дом, его содержание и прочее? Французская компартия. Это все притязания Эльзы: «Арагон – гордость своей партии… Пусть!» Да, Назым, – это не мы с тобой, рядовые своих компартий…
Мы не спеша идем по ночным улицам Парижа, такси не попадаются, идем, идем, идем… Ты спрашиваешь после недолгого молчания.
– А как бы ты хотела прожить жизнь, Веруся? Например, как кто?
Я задумываюсь.
– У поэтов, у всех классиков очень сложные судьбы… Да и у вас, нынешних, не лучше. Взять Пабло, Ахматову, Незвала, Арагона. Того же Пастернака, тебя… – И вдруг я говорю. – Я бы хотела, как вчерашние старики, как Гончарова с Ларионовым. Лет шестьдесят вместе, и такое внутреннее родство, согласие и искреннее возвышение таланта друг друга.
– Что ты, Вера! Несчастные они, никому не нужные люди… Больные. Одинокие.
– Несчастливые, но не одинокие. Они же вдвоем, вместе. Ошибка, что вся жизнь прошла на чужбине, сейчас – расплата, но ведь мы не об этом…
– Нет, Веруся, очень больно за них.
– А быт, житейство… Да, по-моему, у них и нет ничего давно, только любовь к искусству, в конце концов, накапливающаяся всю жизнь любовь к России…
– Хорошо все-таки ты придумала идти в Сорбонну и читать книги о них. Они поверили, что их даже молодая интеллигенция в Москве знает. А так ли это… Ах, Вера, как человеку важно, что его на родине не забывают, особенно, когда близко смерть…Назым, что ты делаешь! Побереги мою голову, Назым. Неужели тебе нужна сумасшедшая жена? Думаешь, мне легко находить от тебя подарки сейчас, думаешь, радостно? Нет. Больно! Безумная и жестокая компенсация за твое исчезновение! «Я проживу еще два года. Я проживу еще два года, а потом ты меня не держи!» Ты обманул меня, Назым. Так не пугай теперь. В коробке со старыми шляпами я нашла любимые французские духи с запиской: «Веруся моя, это к твоему тридцати четвертому рождению! Твой муж». Я нашла подарок к тридцати семи и к сорока… Видишь. Я еще не все нашла. Я не спешу обшарить свой дом. Еще не все ящики шкафов открыты, еще не все книги пролистаны, не все папки развязаны. Я знаю, у меня впереди несколько сюрпризов. Иногда кажется, что ты подложил мне духи или косынку только вчера. Как тяжело. Назым Хикмет верил в бессмертие, а мой Назым боялся забвения… Мне больно получать от тебя сейчас подарки, Назым, больно, жутко и так сладко! Ты часто говорил мне «радость моя». Теперь я говорю: не беспокойся. Все хорошо, радость моя.
В Париже мы часто бывали в маленьком кафе «La Bucherie». Располагалось оно неподалеку от Нотр-Дам, если встать к нему спиной и недолго идти по левой стороне Сены в сторону площади Сен-Мишель. В этом доме наверху жил Марсель Марсо. Сюда в кафе приходили люди искусства, бывали здесь Сартр, Симона де Бовуар, супруги Люрса.
Владелицу «La Bucherie» Элизабет, очаровательную русскую женщину, родители девочкой увезли из России. Посередине ее кафе стояла русская печь, уставленная большими круглыми пирогами с яблоками, ягодами, а между ними лениво ходили большие сибирские кошки. Здесь однажды мы очень славно встречали Новый год, и все по очереди весело вынимали из мешка подарки.
А еще в Париже на улице Опера, слева от театра, если встать к нему лицом, есть «Cafe′ de la Paix». Ты любил сидеть там и что-то писал, пока я гуляла по бульвару Капуцинов, по улице Опера и ее окрестностям. Помнишь, Назым, как ты встречался там с женой издателя Кремье? Ты отправился к ней один, мы договорились, что я приду попозже.
Мадам Кремье иронизировала:
– Вы женились на русской. Я знаю многих русских в Париже, их легко узнать, у них всегда такой специфический вид… Как только она покажется в дверях – я сразу скажу вам, что вот, вошла Вера.
Ты позвонил мне в «D’Аlbe» по телефону и попросил войти в кафе как-будто мы незнакомы и сесть поодаль. Я так и сделала. Пила кофе, просматривала свои записи. Ты чиркнул мне зажигалкой, когда я вытащила сигарету – и никакой реакции со стороны мадам Кремье.
Наконец я спросила:
– Назым, мне долго еще сидеть в одиночестве? Вот она удивилась!
– Какая же она русская… – Вера очень русская и очень похожа на турчанку. Я отуречил ее окончательно.
– Вера, вы дожны носить черное!
– Не слушай ее. В черном еще походишь.Помнишь, как мы оказались в аэропорту Киева, куда почему-то посадили наш самолет, направлявшийся в Румынию? Элегантный Юрий Александрович Завадский вышел на летное поле с авоськой домашней вязки из суровья, там ржаные лепешки от Васёны, которая велела их съесть. Он Васёну любит и боится. Завадский угощает лепешками нас. Едим – вкусно…
А недавно Завадский попросил меня прийти. Весь вечер, пока я была у него в гостях, звонили попеременно Вера Петровна Марецкая и Галина Владимировна Уланова.
Марецкая Юрию Александровичу говорит:– Хорошо, что Вера с вами.
Потом зовет меня к телефону:
– Сиди, сиди, одиноко ему.
А Уланова спрашивает:
– Еще сидит?
Через пятнадцать минут звонит снова.
– Все еще сидит?
Начинаю собираться. Завадский меня удерживает.
– Куда же вы? Вы пришли к народному артисту Советского Союза, сейчас он будет вас мучить…
Я смеюсь, потому что в это время народного артиста покачивает от слабости, и он с испугом идет на диван.
Мы с ним частенько говорим о тебе. Недавно Юрий Александрович спросил:
– Вера, как вам столь многое удалось зафиксировать в памяти, точно расставляя акценты?
Я отшутилась, сказала, что во всем виновата моя молодость. Ведь возраст с двадцати трех до тридцати ученые считают интеллектуальным пиком человека, а по прихоти судьбы именно с двадцати трех до тридцати одного года я и природнялась к тебе.
Иногда, оказываясь за границей, мы целые ночи просиживали в кинотеатрах. Ты так любил смотреть, как люди веселятся, любил кино, очень любил хороший джаз и все новое. Ты хотел все видеть, твоя жажда впечатлений была ненасытной.
В наших газетах в то время шла кампания против твиста – его во всю клеймили как разложение и разврат. А ты говорил мне:
– Раз ругают – нужно посмотреть.
И мы ехали в московский рабочий клуб, а там давка, народу полно. Но ты себя чувствуешь как рыба в воде. Стоишь у стены, слушаешь музыку, наблюдаешь:
– Смотри, вот эти как красиво двигаются, молодцы! А те бедняги совсем не умеют. Видишь, и твист, как все танцы на свете, можно танцевать и талантливо, и вульгарно.
Как-то мы проездом остались на одну ночь в Париже. Ты предложил:
– Давай, не будем спать, пойдем в какой-нибудь кабак, посмотрим, как французские ребята веселятся, а под утро часа два поспим.
И мы всю ночь смотрели на танцующих ребят из Сорбонны в каком-то студенческом кафе Латинского квартала. Ты был страшно доволен. А когда вернулись в Москву, пригласил в гости молодых друзей и попросил меня:
– Вера, покажи им, как в Париже твист танцуют!Силы ушли… А самое трудное впереди, самое трудное только начинается. Мне не пережить своей судьбы еще раз… Прости. Я умолкаю.
Ты питал нечеловеческую страсть к газетам и всегда начинал свой день с газет. Ты просыпался утром, обычно в половине восьмого, когда наш почтовый ящик на двери начинал содрогаться и греметь от количества почты, которую в него пытались втиснуть. Одурманенный снотворным, потому что в тюрьме ты навсегда потерял способность засыпать, вскакивал после пятичасового сна и бежал за новостями. Выгрузив газеты, журналы, письма и многочисленные счета за телефонные переговоры с самыми различными городами мира, сначала ты очень внимательно изучал «Правду». Письма откладывал до меня, поскольку не разбирал никакого, даже самого простого почерка. Когда брал в руки свежую газету, то злился, что у тебя два глаза, а не четыре или шесть. Ты, Назым никогда никому не завидовал, но это чувство тебя посетило, когда узнал о женщине-экстрасенсе из Свердловска, наделенной счастливой особенностью читать кончиками пальцев.
Дома, в Москве твоя страсть удовлетворялась просто. Мы выписывали газеты утренние и вечерние, центральные, республиканские, иностранные. Журналы, календари, справочники, энциклопедии… Но вот за границей ты попадал в зависимость от киоскеров, поэтому заграничное утро начиналось всегда скверно. Проснувшись чуть свет, ты натягивал на себя одежду, стараясь надеть как можно больше вещей наизнанку, ибо, по твоему глубокому убеждению, это была хорошая примета. Хмурый и недовольный, шел на улицу за новостями. Возвращался быстро. Сбросив все, что надел, вновь ложился, воодружал на нос громадные очки, разворачивал пахнущие краской страницы и очень быстро начинал водить носом. Западные газеты, пухлые, как слоеные пироги, по мере прочтения постепенно сбрасывались на пол. Таким однажды увидел тебя Авни Арбаш и нарисовал. Ты стремился сразу найти главную новость дня, и новость эта должна была оказаться непременно хорошей. Ты постоянно ждал доброго известия.
Помню изумленное лицо горничной. Она пришла убираться в первое наше парижское утро и долго стояла в дверях, смотрела на газетную стихию, заполнившую крошечный номер в гостинице «D’Аlbe». А потом сказала:
– Мадам, я догадалась: ваш муж крупный ученый. Наверное, он рекламный босс.
В первый наш приезд, когда мы утром вышли на улицу, ты вдруг исчез. Я растерялась, стала оглядываться по сторонам и в конце концов увидела где-то внизу за ногами прохожих твою спину. Я подошла. Ты согнулся над кипой газет, которые небольшими стопками лежали на раскладной холщовой скамейке. А перед газетами на табурете сидела старушка. Она напоминала шерстяной клубок, смотанный из разноцветных старых ниток. Лицо у нее было круглое, с тупым маленьким носиком и выцветшими голубыми глазами. На голове ее красовалось нечто вроде выгоревшего чулка, из-под него выбивались редкие седые пряди. Старушка была безучастна к улице и к покупателю. Она словно не верила, что в этом городе можно что-нибудь продать, и уж, во всяком случае, не верила, что это удастся сделать ей – ведь в нескольких шагах от нее расположились нарядные киоски. Накрапывал дождь. Он портил газеты. Старушка вытягивала руки и держала их над газетами, как над огнем. Но красные разбухшие пальцы замерзали, и она прятала их в колени.
Назым купил «L’Humanite′», «Lettre Française», «Le Monde», «La Liberation» и еще какой-то женский журнал. Глаза старушки оживились при виде раскрытого бумажника. Назым спросил, сколько он должен, и сказал по-русски:
– Черт возьми! Ты знаешь, это довольно дорого.
Поздно вечером мы возвращались в гостиницу. Старушка сидела на своем месте, подвинувшись, насколько было возможно, к фонарю и дремала. Чулок съехал с головы, обнажив розовую лысину.
– Какая страшная старость! – вздохнул ты и остановился. Выбрал вечерние французские газеты, московские «Известия», прочитанные нами еще в самолете, и положил деньги ей на колени. Старушка ликовала.
Через несколько дней она уже улыбалась, завидев нас, и ты чувствовал себя виноватым, если проходил мимо, ничего не купив. Однако скоро наша новая приятельница чисто женским чутьем нащупала твою слабость. Однажды она показала тебе открытки с видами Парижа, и ты их купил. С тех пор, когда бы мы ни проходили мимо, старушка хватала открытку, кокетливо ею помахивала над головой и тоненьким писклявым голоском требовательно звала:
– Месье! Месье!
Ты повиновался ее голосу и доставал очередные франки. Так она продала тебе открытки с видами Парижа, Марселя, Венеции, Лондона, Токио, Ленинграда, Чикаго, а также множество картинок с автомобилями и собаками. Недели через две, проходя мимо нее дождливым днем, я увидела в ее руках новенький зонтик.
И вдруг 12 апреля! Новость: взлетел Юрий Гагарин. Все сошли с ума! Служащие гостиницы бегали к нам учиться произношению этого трудного имени. «Юрий Гагарин! Юрий Гагарин» – неслось со всех сторон. Мы кинулись к старушке и скупили у нее все газеты, чтобы скорее узнать новые сообщения и увидеть как можно больше фотографий. Так ты узнал, что первый человек поднялся в космос, и был горд, что этим бесстрашным человеком оказался коммунист. Мы, москвичи, чувствовали себя героями. Париж, который, казалось, невозможно ничем удивить, ликовал… Ты целый день работал над стихами для «Юманите», посвященными Юрию Гагарину, а поздно вечером мы сидели в редакции, где вся редколлегия дружно переводила эти стихи, которых с нетерпением ждали в типографии наборщики, с турецкого на французский.
Утром мы бросились к старушке. Она сидела за большим ярко-желтым столом, и, казалось, поджидала именно нас. Мы скупили все газеты из Москвы, где были новые фотографии Гагарина и его жены Вали, его дочек и его мамы, дома, где он родился, и еще много всяких других…
Мы прожили в Париже сорок дней. Улетали домой рано утром, и вышли из отеля прямо в предрассветном мареве. На площади Сен-Мишель сидела наша старушка, на ее столике горела свеча. Газет еще не было, и она не понимала, зачем мы пришли. Мы хотели с ней попрощаться, но она словно не слышала нас, ведь между нами стоял туман.
Через какое-то время мы снова оказались в Париже, и снова покупали газеты у старушки. Когда мы уезжали, над прилавком ее уже появился тент, а под ним горел газовый фонарь. С тех пор мы несколько раз навещали ее. Минувшей зимой, отправляясь в аэропорт, мы увидели в последний раз нашу приятельницу. Она сидела в настоящем киоске. Стены его были ярко синие, и на них пылали огромные тюльпаны.
– Такова жизнь… – сказал ей Назым.
– Се ля ви… – бодро отозвалась старая дама.Не знаю, как теперь идут дела у нашей старушки. Продавая свежие газеты с фотографиями «Месье» в траурной рамке, она, по обыкновению, не заглянула в них и, может быть, все еще ждет его…
Один наш итальянский друг, коммунист Гарритано несколько лет работал в Москве корреспондентом «L’Unita». И когда мы с тобой впервые вместе оказались в Италии, Гарритано повез нас смотреть площадь св. Петра в Риме. Было это в воскресенье около полудня. Мы бродили по площади перед собором, где собрались тысячи людей и сотни автомобилей. Одно из окон второго или третьего этажа здания Ватикана, выходящее на площадь, было распахнуто. Вдруг с его подоконника спустили огромное красное, как знамя, полотнище с золотой бахромой, установили суперсовременные микрофоны – оказалось, начинается воскресная проповедь.
В оконном проеме появился папа Иоанн ХХIII. Водители автомашин разом нажали на клаксоны, сотни механических сирен взвыли и долго не умолкали над площадью. Толпа мгновенно опустилась на колени, и наш друг Гарритано вместе со всеми. И только мы с тобой продолжали стоять в самой середине толпы. Люди смотрели на нас сначала с удивлением, потом с нескрываемой злобой.
– Мы не можем встать перед ним на колени, Вера. Не обращай внимания. Пусть они все нас ненавидят. Я коммунист, ты – советская женщина, и мы должны быть принципиальными до конца.
Папа говорил тихо и спокойно, без театральной аффектации, но довольно долго. Мы, конечно, ничего не понимали. Тебе зрелище быстро наскучило, и ты стал оглядываться по сторонам.
– Веруся, надо тебе все-таки читать Библию. Интеллигентный человек должен знать Библию, Коран. Ваш Лев Толстой изучил древнееврейский, чтобы в подлиннике – в подлиннике! – читать Ветхий Завет, и греческий для Евангелия.
На нас стали злобно шикать. Гарритано снизу в панике бросал на нас затравленные взгляды, пот стекал по его вискам. Ты с сожалением смотрел на толпу.
– Думаешь, они все верят в Бога? Нет, конечно. Глядят на папу просто из любопытства. Здесь почти нет итальянцев. Американцы, западные немцы, шведы и прочие… Туристы. Этот папа для них – предмет итальянской экзотики. Точно так же они смотрели бы сейчас на Джину Лоллобриджиду или Пикассо!.. А интересно, о чем сейчас Иоанн XХIII думает. Газеты писали, что он очень болен, его желудок совсем не работает… Что же, ему больше восьмидесяти… Он прогрессивный человек и очень современный папа. Мы вместе с ним работаем в движении мира. Да, Иоанн ХХIII антикоммунист, но человек реально мыслящий. Понимаешь, миленькая, движение мира не может быть сектантским, там необходимо объединение всех… Но смотри, с каким трудом он сейчас говорит. Видно, он на самом деле очень слаб. И еще он грузный, с его-то сердцем…
Папа Иоанн ХХIII говорил, простирая вперед слабые руки, не останавливаясь, подавшись вперед. Назым тоже говорил без передышки. Я смотрела на папу, слушала Назыма и ощущала в воздухе ярость всех людей вокруг нас. Какая-то женщина, стоящая на коленях у ног Назыма, сильно дернула его за полу пальто.
– Ничего, ничего, Веруся. У бедной женщины просто заболели коленки. Но если говорить серьезно, то этот папа сейчас в Италии один из самых выдающихся и светлых умов. Он, например, много сделал после последней мировой войны для смягчения отношения между Ватиканом, Францией и лично генералом де Голлем, который не мог простить предшественникам Иоанна ХХIII поддержки предателя Петена. У него огромный авторитет и широкие взгляды на искусство. Помнишь, нам говорили, что Феллини ему первому показывает свои фильмы и что папа дал команду показать его «Сладкую жизнь» в католических кинотеатрах. А ведь картина во всем новая. Говорят, он сейчас пишет хартию мира, свою энциклику. Нам, коммунистам, надо бы многому учиться у Ватикана. Смотри, какие они гибкие, как быстро улавливают современные тенденции, как тонко используют искусство, политику, меняющиеся нравы и даже технику. Уверен, что лифты в их соборах ломаются реже, чем в наших столичных гостиницах.
Наконец папа прощается. Мы идем в толпе под недобрыми взглядами рядом с понурым Гарритано к его маленькому «фиату». Гарритано неловко перед тобой, что стоял на коленях. Он оправдывается, говорит об итальянских традициях, которые ничего общего не имеют с религией.
– У нас считается, что воскресная проповедь и благословение папы приносят удачу…. Даже вступление в брак без венчания для итальянца просто не будет считаться… И все коммунисты проходят через этот ритуал… Это обычай, не больше… Не так легко все отменять идеологией…
Ты, Назым, щадишь его, переводишь разговор на другое, но он, видно, здорово перепугался за нас на площади, нервничает, все время рулит не туда. И вот мы вползаем на битком забитую автомобилями маленькую круглую площадь – старый центр Рима. От площади лучами расходятся десятки улиц, и из каждой на нее идет напор машин. Гарритано теряется, опять делает что-то не так, и громадный полицейский, толстый, как пивная бочка, останавливает его, грозно приказывает подойти. На Гарритано уже совсем нет лица. Он медленно в этой вопящей клаксонами пробке пробирается к полицейскому. Мы с ужасом следим из машины, как полицейский, красный от ярости, нависает над ним. Слов не слышно, но видно, что толстяк орет, как иерихонская труба, и так размахивает руками, что Гарритано, увертываясь от этих рук, как бы уменьшается в размерах.
Движение на площади замерло. Полицейский отвлекся – пробка спрессовалась так, что ехать никто больше не может, все вопят, сигналят, выскакивают, с яростью хлопают дверцами своих же автомобилей… Теперь толстяк, видно, требует у Гарритано документы, тот нервно ищет их по всем карманам, вытаскивает, протягивает. И вдруг, как в фильме Чаплина, полицейский, тряся правами Гарритано, радостно кидается к нему с объятьями, жмет его руку и даже приподнимает его, взяв под мышки. Они прощаются, бурно жестикулируя. Гарритано на наших глазах снова вырастает и гордо, очень гордо идет к своей машине. Полицейский дает сигнал, и все пропускают машину Гарритано вперед – мы уезжаем.
Ты потрясен:
– Брат, что произошло? Что ты ему сказал? Он, наверное, коммунист, да?
– Нет, – небрежно говорит Гарритано, – он открыл мои права, прочитал мое имя и завопил: «Дружище! Джузеппе! Сегодня же день твоего ангела! Поздравляю!» – ну дальше ты видел, Назым.
– У тебя что, действительно, сегодня именины?
– Я и сам бы забыл, если бы не полицейский…
Через несколько дней на римском книжном развале ты купил мне Библию на русском языке, изданную в Сан-Франциско.Помнишь, как в Риме мы поднялись под купол собора Св. Петра?
Там, наверху служитель в ливрее объяснил нам, что у основания купола фантастическая акустика, и если один человек приложит ухо к стене, а другой на противоположной точке круга шепнет слово, то первый его непременно услышит. Мы с тобой разошлись под куполом в разные стороны. Я приложила ухо к холодному камню и услышала, как служитель шепчет молитву. Вдруг итальянские слова перекрыл твой голос, твой крик:
– Вера, не оставляй меня никогда! Вера, помни меня до конца твоей жизни!
Мне почудилось, что твоя мольба сотрясла купол. Я отдернула голову, решив, что ты рядом. Но ты был далеко, на другой стороне прислонился к стене лбом. Я помчалась к тебе, и слезы ручьями лились из моих глаз. Я обняла тебя сзади, а ты повернулся, рассеянно посмотрел туда, где я должна была стоять, и вздохнул:
– Жаль, что ты не слышала, я тебе сейчас сказал очень важные слова…И вот опять весна. В нашем доме женщины из «Бюро добрых услуг» мыли полы. Стали двигать всю мебель с места на место. Подняли тяжеленный матрас с моей кровати, а между ним и днищем в картонной коробке красивая книга «Хождение Афанасия Никитина за три моря» на трех языках. Я удивилась – кто мог ее туда положить? Одному человеку это не под силу. Открыла, а там твоей рукой написано: «Вера, путешествие, которое я совершил в тебе, в тысячу раз опаснее, в тысячу раз радостнее, в тысячу раз полнее сновидениями, чем то, которое совершил Афанасий».
Я начала вынимать книги.
На одной из них ты оставил привет нашей Анютке: «Милой дочери Аннушке», на другой – моей маме: «Матери Веры с любовью и уважением».
На супере «Человеческой панорамы» прочла: «То, что я не знал тебя, когда знал этих людей – самая безнадежная грусть моей жизни, Веруся. Твой муж». На книге твоих стихов, изданной в Париже: «Благодаря тебе я стал еще немного лучшим человеком. Верю тебе. Чтобы людей сделать еще немного лучше, ты должна с ними поговорить, Вера, Веруся. Назым».
Я сижу на полу. Вокруг меня книги. Вспоминаю тебя в Париже. Отель «D’Albe» вспоминаю… Латинский квартал. Абидина, Гюзин, Шарля, Дору, Гершеля, Вюрмсера, Филиппа Жерара, Клода Руа… Вспоминаю, вспоминаю… Зачем?
На моих коленях твои огромные книги из Италии. Твоя гордость. Бестселлеры, украшенные, вернее отмеченные по традиции красной лентой. Коммунистическое издательство представило тебя читателям в подарочном издании. Том поэзии иллюстрировал Ренато Гуттузо, том пьес – Абидин. На одном ты написал: «Моей Верочке. Завершая свой путь, не успев дойти до моего города, отдохнул в розовом саду, благодаря тебе». На другом: «Моей Верусе. Я без тебя как последний уличный фонарь на последнем перекрестке города».
А вот еще одна надпись:21. Х.61 г.
На войне не был
в бомбоубежище не спускался
никогда не бегал
от пикирующего самолета
Но зато влюбился шестидесяти лет от роду
Уже поздно. В доме напротив освещены только два окна, а я все получаю и получаю от тебя приветы… «Вёсны отнимают тебя от меня и уводят куда-то. Назым». Вот еще нашла одну из первых твоих записок ко мне: «Самой молодой женщине на земле с самой сложной душой. Назым. 1956 год».
Дождь
со своими крупными каплями
был гроздью винограда
в день твоего рождения.
Удивленный, промокший, я стоял пред тобою.
Ты была молодым деревом
с золотым куполом
среди моря…
Я иду к тебе из моего первого мужского сна.
Ты самый вкусный плод,
самое умное слово,
самая человечная улица, полная солнца,
которые мне этот город дал,
и ты мой ветер,
жена моя,
волосы цвета соломы,
ресницы синие…
Из Рима мы должны были лететь в Париж, но решили по пути посмотреть Милан. В аэропорту ты попросил изменить наш маршрут.
– Хорошо, но только мы не сможем оплатить ваш обед, – тихо, чуть не плача, сказал тебе чиновник.
– Черт побери, какой обед?! О чем вы говорите?! Я хочу побывать в Милане!
– И вы согласны пожертвовать обедом, который входит в стоимость вашего билета? Своим и обедом вашей жены? – изумился бедный чиновник.
– Да! Да! – вскричал ты. – Мы согласны!
– Тогда прошу вас, переведите мадам, что в виду короткого расстояния между Римом и Миланом в самолете не подается обед и, больше того, в виду непродолжительного полета между Миланом и Парижем вы не получите обеда и там! Я оформлю билеты, если мадам не будет протестовать.
И он замолчал, выжидая, пока ты переведешь мне его предупреждение.
– Да… Никогда не знаешь, чего ждать от этих иностранцев. Он совсем не понимает, как мы можем отказаться от обеда, черт побери!
Назавтра в полдень, посередине пути из Милана в Париж, я услышала:
– Вера, почему мы сразу не летим в Москву? Пошли бы в ресторан на бега, увидели бы наших друзей… Неужели тебе так необходим был этот мокрый Милан?!
Ты проклинал капитализм. Ты хотел есть.
Да, совсем забыла тебе рассказать. Поздно вечером, когда я сидела в твоем кабинете за письменным столом, в дверь позвонили. Стало не по себе. Не поняла по голосу, кто пришел, но открыла. На пороге стоял Николай Николаевич, знаешь ты его – заведующий нашим гаражом. Старый человек, вежливый, сдержанный. Ездит на черной «Татре». У него был такой вид, будто за ним гнались и он искал спасения в нашем доме. Страшно волнуясь, попросил дать ему стихи, где ты говоришь, что влюбился в шестьдесят лет. Оказывается, у него давно умерла жена, и вот сейчас он встретил хорошую женщину, профессора медицины, полюбил ее, хочет жениться, а дети решили, что старик сошел с ума.
Я дала ему веские аргументы: «Автобиографию», «Оказывается, люблю», «Благодаря тебе я к себе не пускаю смерть».
Завидую, Назым, – ты по-прежнему помогаешь влюбленным.Твоя триумфальная жизнь неслась, словно под парусами. По всему миру расходились твои стихи и пьесы. А у меня тревожно ныло сердце, когда вечерами я отрывала очередной лист календаря. Время мчалось с бешеной скоростью, и иногда казалось, будто я только и делаю, что бросаю в корзину наши дни…
Однажды Аркадий Райкин спросил:
– Ты давно живешь на свете, Назым. Скажи, что такое жизнь?
– Аркадий, неужели ты не знаешь такой простой вещи? Ну, как тебе объяснить… Вот однажды я иду домой и вижу, что на ветке дерева качается девочка. «Как тебя зовут?» – «Айше», – отвечает. «Ты делаешь дереву больно, Айше. Вон качели, на них и качайся». – «Хорошо». Назавтра иду мимо дерева и вижу, она опять раскачивается на ветке. «Айше, ты забыла, что обещала мне вчера?» – «Я не Айше, – отвечает девочка. – Я Ольга. Айше моя мама».
Ох, Назым, видишь, как я волчком кручусь на месте, вспоминаю, бог знает что, лишь бы оттянуть приближение нашей последней весны… Ладно, начинаю. О чем? О Пьере.Года три назад позвонил человек и сказал тебе, что зовут его Пьер Куртад, что сегодня утром он прилетел в Москву, что теперь будет здесь корреспондентом «L’Humanité». Сказал, что этот московский номер он набрал первым, потому что наш телефон ему называли в Париже буквально все: товарищи из Французской компартии, коллеги из газеты, Арагон, Пикассо, Люрса, Жан Габен и Надя Леже.
Мы встретились с Пьером в его новом доме на улице Правды. Ваша дружба возникла сразу. К концу вечера вы знали друг о друге все самое главное. Пьер лет на десять моложе тебя, но тоже успел схватить инфаркт. У него тоже была молодая жена Николь. Он, как и ты, по-мальчишески был влюблен в идею коммунизма.
Пьер с трудом привыкал к Москве. Поздняя холодная осень наводила на него уныние.
– Что за город… – ворчал он, глядя на черные деревья и старые здания соседних переулков. – Здесь нельзя купить зимой салата… Даже спаржи нет!.. Мне здесь просто нечего есть…
Пьер постоянно мерз, его вишневый «москвич» плохо заводился на морозе, вызывая хроническое раздражение. Ты огорчался, звонил друзьям в Баку, чтобы прислали зелень для Пьера, но настроение его от этого не улучшалось.Помнишь, как ты сам тосковал по овощам и фруктам в Москве? Как постоянно дарил мне цветы везде, всегда? А к моему тридцатилетию собрал вечный букет из сухоцветов и последний год докладывал туда цветы и почему-то сотки…
А потом ты, Назым, уехал в Европу, и вы долго не виделись c Пьером. Полгода спустя, когда мы вместе были в Париже, однажды ты вернулся в гостиницу как победитель. Сдвинув кепку на затылок, не снимая пальто, сел в кресло и сказал:
– Сейчас видел Пьера на улице, он приехал в отпуск… Мы обнялись, и Пьер закричал: «Я задыхаюсь без Москвы! В Париже так скучно, все эти разговоры ни о чем… Конечно, после Москвы скучно будет везде. Жизнь – там. В Москве люди волнуются, ждут, спорят, верят, сомневаются, злятся, что некоторые дела совершаются медленно. Там все разделились на тех, кто полностью принял ХX съезд, и тех, кто совсем его не принял, но обе стороны достаточно активны. И потом, какой красивый город! С каким темпом жизни! Удобный город! Быстрый! Здесь передвигаться не могу! Я им говорю: в Москве давно нет кондукторов! Они не верят». Тут я Пьеру припомнил: «Но в Москве нет зеленого салата зимой! А про спаржу народ даже не знает». – «А-а, черт с ним, с салатом! Я уже привык к квашеной капусте, – засмеялся он. – Там оптимистическая жизнь. Театры замечательные, спорт, выставки. Мы с Николь, пожалуй, вернемся пораньше. Мы так счастливы в Москве. До скорого на улице Правды!» А я ему: – «И у нас, на 2-й Песчаной…»
Как-то, уже после возвращения Пьер спросил меня:
– Что ты сейчас пишешь для АПН?
– Статью о Москве. О ее улицах, архитектуре, магазинах, витринах, короче говоря, обо всем, что окружает москвича, когда он выходит из дома.
– Ты, конечно, все будешь только хвалить? Найдешь бесспорные вещи, вроде Красной площади, и будешь писать о них, да?
– Конечно, а что же ты хочешь? – удивилась я.
– Но так нельзя, дорогая, пойми. Ни за что! Это пустой номер. Ты же не пишешь статью по заказу «Интуриста»! Я влюблен в Москву, может быть, это очень личное ощущение, ведь я тут счастлив. Но и здесь тоже многое необходимо исправить.
– Что, например?
– Пожалуйста! Одевайся. Я сейчас тебе покажу. Назым, Николь, пошли, это одна минута.
Пьер посадил нас в машину. Он был очень сердит.
– Сейчас увидите… Здесь рядом больница или родильный дом, не знаю. У вас почему-то беспрерывно вскрывают асфальт. Можно подумать, что там ищут алмазы. Ничего похожего я не видел нигде, потому что такие работы во всех городах мира делают ночью и быстро… Ладно. Пускай. Но закройте потом канаву землей, а не бросайте ямы кое-как! Вот сейчас…
На въезде в больницу машина сильно подпрыгнула. Еще раз, еще…
– Пьер, что ты с нами делаешь, черт побери! – взмолился ты.
– Везу вас в больницу! Вот о такой мелочи журналист обязан написать, даже когда он рассказывает о лучшем городе мира… И это ни у кого не должно вызывать обиду. Наоборот. Ты не думай, Назым, что я выискиваю недостатки, что я очернитель – а я встречал здесь дураков, которые делят людей на лакировщиков и очернителей жизни. Когда я вижу плохие вещи, я злюсь, болею. Короче говоря, я ненавижу «саботажников», или, как их здесь называют, халтурщиков. Это самые опасные враги социализма.
Я обещала, что напишу о «яме для беременных женщин», как окрестил ее Пьер. Но в редакции развели руками:
– Такой интересный материал, и вдруг – ложка дегтя! Возможно, я просто плохо написала…
Рядом с вами я часто ловила себя на мысли, что не могу кипеть так, как вы, по каждому пустяку. Житейски я была опытнее вас, мыслила категориями реальности – говорила же, что про яму не напечатают. А вы просили:
– Все-таки напиши! Не бойся, тебя ни в чем не обвинят. И я завидовала вам. У вас из-за таких ям рвались нервы, сердца, а мне было досадно, обидно, но не смертельно.
Однажды Пьер пришел к нам ужинать и страшно ругался. В этот день их с Николь не пустили пообедать в ресторан «Динамо», потому что на ней были брюки – а пришли они после лыж… Пьер кричал:
– Они с ума сошли! Я же пришел в спортивный ресторан! Разве можно не кормить человека из-за того, как он одет?!
Чтобы успокоиться, достал сигару, закурил:
– Очень хорошие сигары. Мне их, между прочим, подарил Анастас Микоян.
– Как это? – заинтересовался ты.
– Мы встретились на приеме. Говорили о том о сем. Потом он спросил, какие у меня здесь трудности. Я пожаловался, что не всегда могу купить сигары, а я к ним привык. Микоян рассмеялся – недавно на Кубе ему подарили ящик сигар, а их никто не курит. На следующий день я получил от него этот ящик и впервые почувствовал себе миллионером! Ящик самых лучших сигар! Я немножко хвалюсь, – улыбнулся Пьер, – но я действительно был тронут и рад. Почему ты не куришь сигары, Назым?
– Не знаю, пробовал – не идет…
– Советую тебе привыкнуть к сигарам или курить трубку. Врачи говорят, что самый большой вред от сигарет, рак легких получается. Нам с тобой хватит и инфаркта.
Ты взял у Пьера сигару, повертел ее, понюхал, надкусил, закурил, бросил…
А Пьер уже с восторгом рассказывал о розовом городе из розовых снов – Ереване. Они с Николь только что вернулись оттуда.
– Назым, ты был в Ереване, конечно?
– Нет, брат. Не пришлось пока.
– Почему? Неужели они тебя не приглашают, потому что ты турок?
– Почему не приглашают?! У меня там друзей полно. Сарьян, например. Очень люблю его картины. Очень! Еще люблю музыку Бабаджаняна. Мой хороший друг физик Артюша Алиханян. Театры там меня играют, да мало ли… Я обязательно поеду в Армению, но ты понимаешь, Пьер, мне все-таки совестно, какое-то чувство вины… Столько армянской крови пролили мы – турки! Так жестоко! Когда думаю об этом, мне больно. Скорее нужен коммунизм, скорее! Только он даст людям настоящее просвещение, иначе темный народ можно использовать для любого грязного дела, которое он сам себе потом не сможет простить. За ужином Пьер спросил:
– Что это у вас за вино? – он поднял бокал, посмотрел на свет и, отхлебнув глоток, воскликнул. – Формидабль! Экстраординер!
– Друзья прислали из Тбилиси на мой юбилей корзину лучших вин Грузии. Так что, брат, не только ты получаешь подарки.
Ты помолчал, потом посмотрел на Пьера задумчиво и серьезно:
– Скажем доброе слово о дружбе армян, грузин, французов, турков и русских! Вот еще скоро придет мой друг Кара Караев. Когда к сердцу подступает тоска по родине, еду в его Азербайджан. Боль не проходит, но там всегда становится легче… Поезжай в Баку, Пьер, тебе там обязательно понравится!
– А в Тбилиси ты был?
– В Тбилиси, конечно. Красивый город! Хорошо вообще живут. Недавно мы с Верой отдыхали на Кавказе. Были на Пицунде, на даче у изумительной актрисы Медеи Джапаридзе. Гуляли, обедали. Вдруг Медея мне сказала: «Я помню, Назым, как вы пришли к нам в театр смотреть свою пьесу. После спектакля мы устроили в вашу честь ужин, большой стол накрыли, много народу собралось. Мы были так рады встрече с вами! После разных тостов за вас кто-то предложил тост за Сталина. Мы встали, подняли бокалы, а вы продолжали сидеть и даже не притронулись к вину. Многие в тот вечер обиделись…» – «Это было после ХХ съезда. Я не мог, миленькая. Извините. Есть вещи, которые не могу сделать».
Мы всегда встречались вчетвером. Иногда нам с Николь надоедали ваши политические споры, и мы уходили в мою комнату. Сидели тихо, пили чай и говорили о том же, что и вы, только без крика.
Помню, как однажды вы просто поймали у нас за столом азербайджанского писателя Мехти Гусейна, который остался приверженцем Сталина, и в два голоса нападали на него. Скоро вы окончательно утратили всякое самообладание и провозглашали свои политические доктрины в никуда, ведь уже никто никого не слушал. Все, что давно накопилось в душе, требовало выхода. Вы как одержимые кричали друг на друга безо всяких пауз в безумном сражении трех монологов. Мы с Николь в конце концов испугались. А Мехти Гусейн просто сбежал.Когда мы остались вдвоем, я сказала тебе, что даже из-за такого зла, как сталинизм, не стоит умирать. Ведь исторически эта проблема с повестки дня снята ХХ съездом, и сегодня сталинизм доживает только в отдельных людях.
– Откровенно говоря, я так разозлился на Мехти не потому, что он отсталый коммунист и проповедует вождизм, а из-за этих открыток…
Помнишь, Назым, как ты ждал прихода Мехти? Ты и Пьера-то в тот день позвал «на него».
Ты отметил в своем календаре день 7 февраля, когда Мехти должен был вернуться из двухнедельной поездки по Турции.
– Что тебе привезти с родины, Назым? – спросил он, улетая.
– Привези открытки, брат. Это недорого, а я все-таки увижу мою Турцию.
И вот Мехти у нас. Ты суетишься около него:
– Ну, расскажи, брат, как там? Что ты видел? Где был? С кем встречался?
Мехти загадочно улыбается:
– Очень красивая страна! – и достает пачку цветных блестящих открыток, рассыпает их по столу.
Ты хватаешь одну, другую, третью, садишься поближе к свету и начинаешь раскладывать открытки на столе, вглядываешься, всматриваешься в них – ты так взволнован. Наконец отодвинулся от стола, снял очки, обнял Мехти.
– Спасибо, брат, что не забыл мою просьбу.
А Мехти вдруг подошел к столу, собрал одним движением все открытки, как колоду карт, и сунул в карман.
Ты обомлел, смотришь на него – не понимаешь, шутит он или серьезно.
– Извини, Назым, не могу тебе их оставить, – говорит Мехти. – У меня половина Баку знакомых, всем нужно что-то дать из Турции. Вот я им и раздам открытки. Хочешь, выбери одну – он снова вытащил пачку из кармана.
– Нет, спасибо, Мехти. Не хочу.А помнишь, как Пьер пришел к нам зимой после операции?
Он был счастлив, с восторгом рассказывал о своем молодом хирурге. Задрал вишневую шерстяную рубашку, надетую прямо на голое тело:
– Вот он настоящий маэстро! Смотрите, эта линия, по-моему, красива сама по себе. Косметический шов.
Мы увидели на его смуглом животе тончайшую изломанную линию, действительно, изысканного рисунка. Тогда же узнали, что это лишь первая операция, и через полгода Пьеру предстояло оперироваться снова. Но он уже не говорил об этом с прежним беспокойством. Теперь Пьер верил своему хирургу:
– Он взял с меня слово, что вторую операцию я обязательно буду делать у него. Боится, если я пойду к другому врачу, все может случиться. Оказывается, я немножко трудный случай, Назым, и я, конечно, вернусь только к его ножу. Это не вопрос!Когда же лед начал ломаться под твоими ногами?..
Зима 1962 года. Рим, веселое приземление в Милане – еще все замечательно. Перелет в Париж, встречи с друзьями, предновогоднее настроение, в папке полностью доработанная рукопись «Романтики». Легкое предчувствие успеха… Много новых турецких книг, хороших, разных. Радостно читаешь последние рассказы Азиза Несина, молодую поэзию, «Двести сонетов» Пабло Неруды. В гостях прихватываешь маленький шедевр – письма турчанки Аиссе о любви. Написаны в начале ХVIII века, подлинные – драматичная судьба светской парижанки, купленной некогда французским вельможей на базаре в Стамбуле. С увлечением переводишь мне ее исповедь и жалеешь бедную Аиссе до слез…
И вдруг громом среди ясного неба утренний выпуск «Le Monde». Крупный заголовок. Сообщение из Москвы: репортаж о посещении Хрущевым художественной выставки в Манеже, той самой, которая так тебя порадовала. Подробное описание скандала, учиненного руководителем страны молодым и известным художникам. «Вы могли бы жениться на этой женщине?!» – его вопрос к сопровождающим лицам перед «Обнаженной» Фалька. И прочее в том же духе.
Ты с ужасом и недоверием читаешь информацию из Москвы. Тебе кажется, что это всего лишь очередной блеф буржуазной газеты.
– Кому после XX съезда нужен поворот культуры вспять? Но почему молчит «Юманите»?
А там только несколько строчек скупой информации.Помнишь то утро, Назым?
Две недели спустя мы вышли на бульвар Сен-Мишель и увидели, что он весь оклеен громадными фотографиями, где Хрущев замахивается кулаком на Андрея Вознесенского. Ты возмутился:
– Это фальшивка!
Все-таки у тебя оставалась надежда.
– Надо скорее возвращаться в Москву.Да, Назым, я помню, как после встречи нашего последнего Нового 1963 года ты вдруг сдался. Мы страшно устали в те дни. Суматошная рождественская неделя. Слишком много встреч, слишком много ходьбы, суеты и волнений, идущих из Москвы.
В последнее утро старого года мы проходили по Елисейским полям, и ты заставил меня войти в маленький магазинчик для миллионеров. Ты шептался с девушкой в углу, как заговорщик, она радостно кивала тебе и улыбалась отнюдь не дежурной улыбкой. Через минуту возле моих ног стояли связанные из золотых нитей тапочки-туфельки небесной красоты. Безумие! Деньги наши были на исходе, но ты вытащил откуда-то из загашника похрустывающие франки. – Арагон взял цикл моих стихов, и вот теперь я, наконец, могу подарить их тебе. Ах, как прав Пьер Куртад! В Париже с любимой женщиной хочется быть миллионером. Мне так совестно, что ничего не могу тебе купить. А сколько вещей здесь создано для тебя…
Нет, в то утро все еще было в порядке.
Вечером ты попросил меня надеть золотые тапочки. Я пыталась протестовать:
– Они же летние! Не по сезону, не принято, я буду смешной.
Но ты умолял.
– Значит, я дурак был? Значит, зря? Значит, могу не увидеть их на твоих ногах… Мы же идем к друзьям. Они меня поймут. – И агитировал меня то ли в шутку, то ли всерьез. – Еще, надевай, прошу тебя, красный костюмчик! Ты – женщина из страны Революции, из страны Красной площади, ты должна выглядеть, как красное знамя!
– Cегодня же Новый год, а не годовщина Октября!
– Да просто идет тебе, понимаешь, красный цвет! Идет! Я сдалась и надела все, что ты хотел.
Этот Новый год мы встречали в Париже в гостеприимном доме еврейской поэтессы Доры Тейтельбойм и ее мужа, замечательного кардиолога Гершеля Майера. Оба были коммунистами, романтиками, деятельными людьми больших собраний и митингов. Они с Дорой рассказывали нам, как преследовали их в Америке, как они не выдержали и переехали во Францию.
В доме у них просто, спокойно. Когда мы вошли, гости уже сидели в гостиной на длинных Дориных диванах. Ты целовал руку изящной жены Мигеля Астуриаса, потом Вере, жене Жоржа Садуля, потом женам журналистов – их здесь было несколько, – потом расцеловал Элиану, жену Шарля Добжинского, а потом уже бросился с объятиями к самому Шарлю, своему любимцу и переводчику.
Я смотрю на Шарля. Он француз еврейского происхождения. Глядя на его умное спокойное лицо, лучистые глаза трудно представить, что вместе с родителями он попал в гитлеровский концлагерь, шестилетним ребенком бежал оттуда и единственным из семьи остался в живых. Стал коммунистом. Я знаю, он ничего не забыл. Он хороший человек, наш Шарль, братишка мой.Париж, 13 декабря 1963 г.
Бесконечно дорогая Вера, я должен был написать Вам несколько месяцев тому назад. Хотел написать сразу, как только к нам пришло это страшное известие, поразившее нас до глубины души. Но в минуты, когда утешения нет и когда смерть образует пустоту, которую ничем нельзя заполнить, я плохой утешитель. Мир без Назыма – как человек без рук или без глаз, потому что благодаря таким поэтам, как он, мы яснее понимаем жизнь, и ночь не кажется нам такой бесконечной. Очень трудно привыкнуть к тому, что его нет. И все-таки жизнь продолжается, как будто ничего не случилось, потому что жизнь – огромное, жестокое колесо. Оно катится сквозь воспоминания и сердца, не останавливается даже тогда, когда давит на своем пути живое существо. Несколько дней тому назад вернулась из Москвы Дора. Она рассказывала нам о Вас с таким чувством дружбы и нежности, что мы до сих пор находимся под впечатлением. Но не думайте, что Элиана или я забыли Вас. Мы думали о Вас так часто, мы говорили о Вас, и у нас сжималось сердце при мысли, что разбилось счастье. Вы и Назым были для нас олицетворением большой и сияющей романтической любви. У Назыма светилось лицо, когда он смотрел на Вас, и это согревало, это наполняло нас радостью; мы видели, что наш дорогой поэт после стольких лет страданий, героической борьбы выиграл право быть просто счастливым, что он обрел эту лучистую свободу, когда любовь и поэзия, как у Поля Элюара, сливаются воедино.
Теперь нам предстоит защищать наследие Назыма, защитить правду, о которой он постоянно говорил с таким мужеством. При жизни он стал легендой. Но нельзя, чтобы легенда заслонила его самого, чтобы она заслонила настоящего человека и поэта. Его поэзия – это наше добро, наш бесценный капитал, и мы обязаны сделать так, чтобы она приносила плоды всем.
Дора Вам говорила, что вышла моя книга «Опера космоса». Назым любил ее. Большие куски из книги я читал ему еще в отеле «D’Albe», в этой незабываемой маленькой комнатке, где вы жили, как два студента. Не прошло и года после нашей последней встречи. Когда я думаю об этом, у меня сжимается сердце. Назыма больше нет, но борьба, которую он вел, не окончена. Я убежден, что его правда победит глупость и зло тех, кто хочет помешать истории двигаться вперед.
Дора сказала, что Вы начали книгу. Написав ее, Вы можете многое сделать для Назыма. Надо до конца сказать правду, не боясь ничего. Мы переведем эту книгу, потому что Назыму нужен Ваш голос.
Голос любви – это единственное, что воскрешает поэтов. Дорогая Вера, мы с Элианой нежно обнимаем Вас и надеемся, что Вы доставите нам радость и приедете в Париж. Наш дом открыт для Вас. Назым говорил: «Ты умрешь, чтобы жили люди… и ты умрешь, прекрасно сознавая, что нет ничего более прекрасного, ничего более верного, чем жизнь… потому что чаша жизни на весах тяжелее». Мужайтесь, Вера, поэзия живет с нами.
ШарльНавстречу тебе поднялся радостный Мигель Астуриас. Вы шутили, смеялись, выясняли, кто последним видел Пабло, и в эту новогоднюю ночь еще много раз возвращались в разговоре к своим друзьям – Неруде, Жоржи Амаду, Гильену. Говорили об их книгах, стихах, женах, вспоминали и смешное, и грустное. Все вы, в разное время отлученные от родины, испили одну тоску. Когда я видела вас вместе, мне казалось, что даже внешне вы все были чем-то похожи друг на друга, как дети одной матери – свободы.
Новогодний стол, как всегда у этих добряков Доры и Гершеля, был щедро уставлен разносолами и напоминал московское застолье. Ты набросился на еду с такой жадностью, что Гершель испугался:
– Назым, ты не должен так много есть! Это страшно опасно для тебя!
Сигарета зажата в твоих зубах – одну бросаешь, другую закуриваешь. Светлые глаза Гершеля становятся круглыми.
– Зачем ты куришь, Назым? Тебе же нельзя!
– Послушай, оставь меня, брат, – смеешься ты. – Я столько лет просидел в тюрьме. Мог курить и пить, да нечего было. Потом вышел. Свобода! Но опять нельзя – инфаркт. Врачи не велят. Теперь я снял с себя все запреты. Оставшиеся годы я буду делать то, что захочу, черт побери! Я хочу жить, понимаешь, жить! По-человечески!
– Лучше пей коньяк, даже кофе, но не кури, – упорно твердит Гершель. – Вера, иди сюда, – зовет он меня. – Я хочу говорить при ней. Так вот, Назым, если ты не бросишь курить…
– Я не могу, брат. Я люблю курить. И как! Когда не курю, страшно хочу, только об этом и думаю. Начинаю себя удерживать, но так нервничаю, что вреда больше получается, чем от курева. Смог тебе объяснить?
– Но ты убиваешь себя, Назым! Я говорю тебе как врач.
– Все вы врачи ни черта не понимаете, – смеешься ты. – Один врач, очень известный в Европе, сказал мне: «Товарищ Назым, вам нельзя летать на самолете – это смерть для вас, только поездом». Я путешествовал только поездом. Сколько лет! Другой врач сказал недавно: «Вы ездите поездом, но ничего для вас не может быть страшнее! Тряска, которую вы испытываете в поезде – смерть для вас. Только самолетом!» Теперь я летаю, даже летал на Кубу, и хорошо себя чувствую. Третий врач заставлял меня круглый год носить шерстяное белье. Я круглый год потел, и маленького сквозняка было достаточно, чтобы я лежал с воспалением легких. Два, три, четыре раза в год я обязательно болел воспалением легких! Вера заставила меня бросить это белье, и вот я три с лишним года не болел вообще. Даже насморком. Недавно один врач в Румынии мне сказал: «Можете курить до десяти сигарет в день, но кофе для вас смерть». Теперь ты говоришь – лучше пей кофе, но не кури. Пока вы между собой не договоритесь, что можно, а чего нельзя – я не буду вас слушать! Вот так, извини, брат.
– Я сейчас говорю тебе не как врач, вернее, не только как врач, а как коммунист и твой друг, – продолжает Гершель. – Если не бросишь курить сегодня, ты с твоими сосудами проживешь пять, от силы шесть месяцев, понимаешь?!Ты прожил пять месяцев и три дня после этого разговора, Назым. Мне страшно. Предсказание Гершеля сбылось.
Париж, 13 декабря 1963 г.
Дорогая Вера,
Дора вернулась из Москвы и, кажется, именно с Вами она провела там самые хорошие часы. Она говорит о Вас с такой огромной нежностью, что мне захотелось написать Вам несколько слов и сказать, что Вы всегда в наших сердцах и мыслях. Шарль, Дора и я постоянно вспоминаем, как лишь несколько месяцев назад мы, пятеро, были вместе. Я и тогда ощущал ценность тех вечеров, однако теперь кажется – бесконечность отделяет нас от них. Я часто спрашиваю себя, что же такое излучал Назым? Какая-то странная магнетическая аура исходила от него, и каждый чувствовал, как его неотразимо влечет к Назыму. Он стоит перед моими глазами во весь свой большой рост, и кажется, что его мудрые, проницательные глаза с безмерным человеческим теплом видят тебя насквозь, понимают и сочувствуют тебе. Говорят, любовь таинственная, часто необъяснимая вещь. Но любовь для Назыма была такой естественной и неизбежной! Он оставил с нами свое человеческое тепло, свое дыхание. Все это зажигает и сплачивает нас, делает жизнь выносимой.
Я думаю о выпавшем Вам счастье знать и любить такого человека, чей дух, я знаю, Вы будете делить с другими и нести дальше. Я надеюсь, что Вам удастся передать в работе, которую Вы пишете о нем, великую простоту, прямоту, искренность, высочайшую честность – все, что отличало его от многих других.
Мы желаем Вам, Вера, хорошего здоровья. Будьте всегда энергичной и сильной, выполняя то, за что Назым боролся всю жизнь. И давайте надеяться, что мы встретимся. Я и Дора желаем вам счастья и всего наилучшего.
ГершельПервые дни твоего последнего года. Мы входим в дом № 18 на набережной Сен-Мишель. Высоко над нами, на шестом этаже в мансарде живет Абидин. Я уже бегала несколько раз к нему в мастерскую-квартирку. Ты поднимаешься впервые. Мне кажется, я никогда не видела таких вытянутых этажей, как в этом старинном доме. «Самое страшное для сердца Назыма – лестницы», – предупреждали меня врачи. Тебе предстоит преодолеть километры ступеней, и я боюсь. Абидин и Гюзин тоже боятся, но ты настоял на своем, и мы уступили. Ты любил Абидина и будто почувствовал последнюю возможность увидеть его дом и картины. Медленно идем наверх.
А там тебя ждет сюрприз. И какой! Абидин заказал обед в Стамбуле, его только что привезли на самолете. И вот на столе одно за другим возникают турецкие блюда, теплые, бесценные угощения родины. На улице мороз, в соседней комнате потрескивают поленья в камине, а на столе горячие фаршированные мидии, любимые тобой с детства, овощи и масса чудес – «наших», «оттуда». Аромат твоей родины. Праздник. Спасибо, Абидин.
– Как жаль, что не смогу угостить тебя моим Стамбулом, – все повторяешь вечером в отеле «D’Albе».Ты говорил на набережной Неаполя:
– Поедешь в Стамбул без меня. Просил в Каире:
– Сделай это для меня, иди в мой город. И смотри Анатолию тоже, и Анкару, и Измир, и маленькие города, и деревни, и базары, и наши свадьбы, и мою тюрьму.
Частенько приговаривал в Москве, собираясь лечь спать:
– Тебе же будет интересно увидеть Турцию, которая странным образом вошла в твою жизнь……А в Измире тополя
выбегают на поля,
Чакыджи меня зовут,
Эй, спалим все дворы!
Здравствуй, милая моя…
4 января 1963 года мы вернулись домой. Когда проходили мимо витрины «Известий», снова увидели фотографию с Хрущевым и Вознесенским, глянцевую, выставленную напоказ. Ты, Назым, как всегда в трудных ситуациях, поехал на Пушкинскую к Твардовскому. Он показал тебе несколько свежих запретов на рукописи, но сдавать своих позиций не собирался. Примерно так же думали Борис Полевой и Тихонов, считали, что нужно по-прежнему работать в духе XX съезда, защищать литературное дело и оберегать молодых. Вот из-за них ты страдал, не таясь. Особенно жалел Андрея Вознесенского, Евтушенко и Роберта. Ты негодовал, временами отчаивался и снова бросался за них в бой…
Мы пришли ужинать к одному известному кинорежиссеру, и у него над столом, там, где еще недавно висела очень хорошая современная картина, ты увидел светлый квадрат стены.
– Снял от греха – признался хозяин дома, – ведь все без разбора объявляют абстракционизмом.
– Да… – ты сокрушенно качал головой.
Наутро поехал к молодому Леве Кропивницкому и купил у него самое большое полотно – настоящую абстрактную картину, очень красивую, сам назвал ее «Взрыв», привез домой, повесил на видное место в гостиной.
– Собаки лают – караван идет, – чаще, чем прежде, повторял ты любимую поговорку, подбадривая себя и друзей.
А сам работал, не разгибая спины. Готовил в печать поэму, привезенную из Танганьики, переводил со Старостовым «Романтику», в промежутках писал статьи. Но на сердце давила тяжесть перемен… Твой взгляд словно навели на резкость. Ты сходил с ума в марте 1963-го после встречи руководителей партии с деятелями советского искусства.
– Я не понимаю, почему один необразованный человек безапелляционно и грубо судит о кукурузе, об архитектуре, о русском языке, о живописи, о стихах! Почему Хрущев навязывает свой примитивный вкус людям культуры, а через них – всему народу? Почему опять командует один человек? Я не согласен с его вкусом, – кричал ты мне, – понимаешь, не согласен! Я не могу писать частушки! Значит, я должен перестать быть поэтом? Хрущев обманул меня. После XX съезда я так ему верил. Я ошибся. Опять пошли слухи, что КГБ охотится за безусыми поэтами. Не хочу ссылаться на Ленина, не запретившего Маяковского, но позволившего расстрелять другого русского поэта, все говорят, очень хорошего – Гумилева. Что-то тут не так, есть какая-то закономерность повторений… Лично мне больше нравится позиция беспартийного Фридриха Великого: «Я сделал для искусства все! Я не мешал!»
Именно в те мартовские дни ты написал:…Бороться еще могу
За все, что кажется мне правильным,
прекрасным и справедливым.
За все, за всех!
Ни возраст,
Ни здравый смысл мне в этом не помеха.
Но удивляться больше не могу.
Все дело в том, что удивление,
С его глазами, расширенными, юными,
Покинуло меня, умчалось в даль.
А жаль!..
В последнее время ты не хотел, чтобы я видела тебя утром сразу после сна. Говорил, что все труднее и труднее оставаться молодым. Ты вдруг утратил энергию. Быстро стал уставать.
– Я прочитал в разных медицинских книгах, что люди с таким инфарктом, как мой, и с аневризмой живут от восьми до одиннадцати лет. Пошел последний, одиннадцатый год моего срока. Со мной что-то случилось! Я сижу за машинкой час, иногда меньше, и все… больше не могу. Устаю так, как будто таскал мешки с солью.
Все чаще полеживал по утрам.
– Страшная слабость, миленькая. Извини, не хочется вставать. Дай мне глоточек кофе. Если так будет дальше, я не смогу зарабатывать, я не сумею прокормить тебя. Как будем жить? Мои старые пьесы уже прошли, а новые не ставят…Скажу тебе честно, Назым, в то время я боялась самого страшного для тебя – разочарования. Я тоже привыкла все в твоей жизни проверять стихами и со страхом ждала новых строк.
Какое облегчение, счастье пришло в середине апреля в наш дом вместе со стихотворением «Красная площадь»! Ты торопил Бориса Слуцкого, которому очень нравились эти стихи, перевести их поскорее, чтобы успеть опубликовать к празднику. Борис посоветовал отдать их в «Правду». Вы вместе позвонили в редакцию и тут же, не откладывая дела в долгий ящик, отвезли стихи в газету.
Прошел день, другой, неделя – из редакции никто не звонил. Ты удивлялся: сколько можно читать короткое стихотворение… Потом не выдержал, позвонил сам, и тебя попросили зайти к заведующему отделом литературы и искусства товарищу Абалкину.
Ты приехал от него в ярости:
– Он даже не встал из-за стола! Не подал руки, не предложил сесть!.. Выкинул стихи на стол из ящика! Сказал, что не будет печатать стихи с прозрачными намеками на то, что в советских тюрьмах сидят борцы за свободу! Черт побери! – бушевал ты. – Каким надо быть страшным человеком, чтобы так прочитать стихи коммуниста о любви к Красной площади и свободе!Первого мая
по всем площадям мира
проходит Красная площадь —
со знаменами и без знамен,
с песней или без песни,
но по всем площадям мира.
Первого мая во все надежды мира
входит Красная площадь.
Первого мая
Красная площадь
вламывается во все тюрьмы,
во все казематы,
где заключена свобода.
Первого мая
Красная площадь
проходит по всем параллелям:
под солнцем,
под дождем,
под снегом.
Первого мая
весь мир превращается в Красную площадь,
в ту самую площадь,
где выступал Ленин.
Через несколько дней в театре Моссовета в антракте спектакля по твоей пьесе он кинулся к тебе с протянутой рукой в битком набитом людьми кабинете Завадского. А ты ему: – Я вам руки, товарищ Абалкин, не подам, потому что вы – сволочь.
12 апреля 1963 года ты думал вовсе не о космосе:
Через четыре дня буду в Москве.
И эта разлука останется позади как дождливое шоссе.
Новые разлуки придут.
Окунусь в новые колодцы.
К новым возвращеньям, задыхаясь, побегу.
Потом – не Прага, не Танганьика —
уйду в никуда.
И не возвратят меня
ни корабли, ни самолеты, ни поезда…
Не пришлю ни телеграммы, ни письма.
Не рассмеешься мягко, услышав голос мой в трубке.
Останешься одна.
– Знаешь, в Турции был один замечательный поэт, – рассказывал ты мне. – Женился на молодой женщине, ужасно любил ее. Потом между ними что-то случилось, и она ушла. Вышла замуж за молодого шведа или датчанина, уехала к нему. Но затосковала, поняла, что и сама любила старого мужа, вернулась и была счастлива со своим поэтом… Я сделал с тобой страшную вещь: никто не сможет полюбить тебя так, как я. Ты вечно будешь искать меня, снова и снова возвращаться ко мне без меня.
Ты слишком меня зафокусировал, Назым…
Боюсь, что ты – это все мое добро и мое зло. После тебя пустота. Каждый мой год, месяц, день, прожитый с тобой, я словно брала в долг у будущего. А потом только расплата, вечная ссылка в воспоминания…
Теперь, в этой разлуке я гонюсь за тобой. Как же выживают те, кому не оставлено ни посланий, ни стихов?Вскоре к нам пришел Пьер Куртад. Пришел прощаться. Ты даже вскрикнул:
– А как же операция?!
– К черту! Сделаю в Париже. У меня есть друг коммунист, работает хирургом в одном госпитале. Он сделает.
– Но тебя же предупреждал твой московский врач. Он уже копался в тебе. Он знает, что говорит! Верь ему, Пьер! Ты не дол жен…
– Я не могу здесь! Умру от бешенства. Я задохнусь, понимаешь, Назым! Ты не читал, наверное? В «Правде» появилась статья, где уже ругают французских импрессионистов. Как это возможно? Это наше национальное богатство! Я возмутился. Написал письмо редактору «Правды» товарищу Сатюкову. Я сказал, что они могут не любить нашу живопись, но не надо ее ругать. Эта живопись нам дорога, в ней живет традиция французского народа. Почему нужно обижать любовь целого народа? Вот Пикассо – коммунист, и наша компартия рада, что у нее есть Пикассо.
– Что же он тебе ответил?
– Что?! Как будто не знаешь! Ничего.
– Да-а…
– Я передал копию своего письма Морису Торезу. Спросил, не думает ли он, что я погорячился? Представляешь, он мне ответил письмом. Понимаешь, зачем он мне послал его по почте? Чтобы те, кто читает – доложили наверх. Вот партизан! Переписал мой текст и послал по почте…
Пьер достал из кармана письмо и развернул его. Внизу исписанного листа стояла крупная разборчивая подпись «Морис Торез».
– Вот видишь, нарочно расписался метровыми буквами, чтобы всем было ясно. А Сатюков мне даже не ответил! Ему плевать, что какой-то там француз недоволен статьей, которую он санкционировал! Стоит ли обращать внимание! Я не могу больше здесь оставаться и нормально работать. Я не понимаю таких отношений между коммунистами и коллегами!
Потом я услышала, как ты, тщетно пытаясь отговорить Пьера уезжать, крикнул ему:
– Ты в какую партию вступал? Сатюкова, что ли? Ты не имеешь права так легко сдавать свои позиции! Уехать! Ты не имеешь права уезжать!
Просил, умолял:
– Пьер, сделай операцию, там посмотрим. Это не может продолжаться долго, вот увидишь…
Но Пьер был непоколебим:
– Нет, Назым. Еду. Через один день. У меня билеты в кармане. Вот.
Николь не проронила ни слова в тот вечер, лицо ее было нежным и печальным. Она время от времени приглаживала свои светленькие волосы, а они не слушались, торчали туда-сюда. Я поняла, что у нее надрывается душа.
– До скорого, – сказал Пьер, прощаясь.
– Увидимся, – обнял его ты.
– На вот, – Пьер протянул тебе пачку сигарет «Житан», – ты любишь черный табак…Жить любовью рядом со смертью, гнать ее, гнать… И ничто не облегчит эту тяжесть. Как легко сломаться, как трудно выстоять.
Ты все-таки попытался бросить курить. Просыпался утром, судорожно выкуривал сигарету, потом сгребал все пачки и с проклятиями спускал их в мусоропровод.
– Если увидите меня опять с сигаретой, ругайте последними словами. С этим делом покончено!
Через два часа ты с грохотом переворачивал весь дом. Злился на себя, раздражался, ничего не обнаружив. И вдруг, сдернув пальто с вешалки, выскакивал за дверь, и, я уверена, не шел, а бежал на угол к табачному киоску.
Сколько раз ты, Назым, давал слово! Каждый раз нарушал. Помнишь, как я однажды потеряла тебя в квартире? Ты вдруг исчез. Я обошла комнаты, заглядывала во все углы – нет. Подумала, уж не решил ли ты подшутить надо мной. А потом увидела через стекло балконной двери, как вьется снизу дымок. Выглянула – ты сидел там на корточках и, как школьник, курил в кулак.
– Ребята, жалейте меня, не давайте мне курить, я не должен, понимаете, не должен! Гершель не врал, он слишком меня любит, – просил ты нас с Акпером.
Но что мы могли сделать, если ты вступал в сговор со всеми, кто проходил по улице, со всеми, кто оказывался у нас дома, и никто не мог тебе отказать? Ты просил так, что все считали, будто сигаретой спасают тебя от гибели.
Назым, сегодня, 1 Мая, во время трансляции праздничной демонстрации на Красной площади дикторы Центрального ТВ громко, на весь социалистический мир читали твои отвергнутые Абалкиным стихи!Май мы прожили в ста километрах от Москвы, сняли дачу в Доме творчества композиторов. Мы уехали туда, потому что ты решил отремонтировать нашу квартиру. Пригласил мастеров, объяснил им, что и как нужно сделать, а они попросили:
– Дайте нам ключи и уезжайте на месяц. Ни о чем не беспокойтесь. Вернетесь – все будет готово и убрано. Картины и занавеси повесите сами.
Ты был потрясен их деловитостью. Купил путевки, и вот мы оказались в Рузе, в изумительных местах. Наша дачка стоит на холме, под ней вьется узкое шоссе, за ним Москва-река. Красиво, сил нет! Мы ходим гулять в лес, ты то и дело срываешь с деревьев веточки и держишь в зубах:
– Так меньше хочется курить.
Но что-то тебя беспокоит. Говоришь, гложет предчувствие, будто что-то случится. Все рвешься в Москву, выдумываешь причину.
– Поеду, посмотрю на ремонт.
Возвращаешься довольный.
– Ребята хорошо работают.
Но через день все повторяется.
– Поеду, вдруг меня кто-то ищет, вдруг какая-то телеграмма, а я тут, без телефона…
И вот однажды телеграмма действительно пришла. Она два дня ждала тебя в нашем почтовом ящике. «14 мая 1963 года в Париже умер Пьер Куртад».
– Пьер умер? Нет! Этого не может быть! Не может быть! Это уж слишком!
16 мая об этом сообщили наши центральные газеты. С газетой и телеграммой в руках ты примчался к нашему другу, московскому корреспонденту «L’Humanité» Максу Леону, который только что поселился в бывшей квартире Пьера.
– Макс, скажи, это правда?
– Да, Назым. Пьер умер в парижском госпитале спустя семь часов после операции, не приходя в сознание.
Только тогда ты понял, что Пьера больше нет, и был убит, уничтожен, раздавлен. В тот же день ты написал стихи для Пьера, и они начинались страшной пророческой строкой.Как собственная смерть
обрушилась на меня весть
семнадцатого мая…
Москва была солнечная семнадцатого мая.
Семнадцатого мая, в пятницу.
На Красной площади голубоглазые дети
Давали клятву, вступая в пионеры.
Реактивный самолет исчертил синеву, пролетая…
Пьер Куртад с трубкой в зубах
Проходил по улице Правды
Москва была солнечная семнадцатого мая.
Семнадцатого мая, в пятницу
Я не смог прийти в дом номер 6
на бульваре Пуасоньер.
Не смог войти в холл «ЮМАНИТЕ»,
Встать у твоего изголовья,
скрестив руки
и наплакаться там вдоволь
как шестидесятилетний ребенок,
вместе с одной светловолосой женщиной.
Но Париж, как смерть, лежит на Пер-Лашез
семнадцатого мая.
17 августа 63 г. Париж
Вера моя, извини меня, если я так поздно пишу. Дальше буду по-французски, иначе очень трудно. Знаешь, я тоже все время думаю о тебе. Твое письмо очень меня взволновало, и если я сразу на него не ответила, то только потому, что хотела немножко успокоиться. Как ты? Как ты? Я бы очень хотела тебя видеть. Увы, так получается, что Москва – город, который мне ближе всего на свете. Но у меня сейчас нет сил приехать именно в Москву, потому что я окажусь там одна. Думаю, у тебя также с Парижем, хотя ты и не прожила тут с Назымом больше двух лет. И все-таки, если бы ты смогла сюда приехать, моя квартира была бы в твоем распоряжении, а твой приезд для меня стал бы огромной радостью.
Смерть Назыма, последовавшая так скоро за смертью Пьера, меня потрясла. Помнишь ли ты нашу маленькую поездку в Ленинград и эту снежную бурю, когда мы вчетвером возвращались в гостиницу из Эрмитажа? Я ужасно за них тогда боялась, впрочем, у меня всегда был страх. Мне кажется, у тебя тоже. Я до сих пор не могу окончательно поверить, что их нет. Пришли, если можно, ваши с Назымом фотографии. Не знаю, говорил ли тебе Макс Леон – я бы очень хотела получить подлинник стихотворения Назыма, посвященного Пьеру, и твой перевод… Меня бы это очень обрадовало.
Сейчас отдыхаю у друзей в деревне. После этого настанет возвращение. Надо будет снова жить, работать… Мы должны попытаться делать то, что хотели от нас они. Это трудно…
Пожалуйста, пиши мне время от времени. Я стану тебе отвечать, мы не будем так одиноки. Передай привет всем нашим друзьям. Тебя я люблю. Будь мужественной,Николь
Николь, я послала тебе стихи, написанные Пьеру рукой Назыма. Мы тоже были счастливы в твоем городе. Будь мужественной и ты.
На другой день, 17 мая ты приехал ко мне. Лицо твое было совсем без крови. – Ты уже знаешь, конечно! Ты можешь это представить? Он просто больше не существует… Помнишь, как мы поцеловались в дверях последний раз, и он сказал: «Не кури сигареты, Назым, пожалуйста. Надо постараться жить! А, Назым?» – и пошел. Я ехал сюда к тебе и всю дорогу думал о несчастной Николь. Мне так ее жаль! Есть ли у нее хорошие друзья в Париже? Как поступит с ней партия? Я полагаю, они не окажутся ханжами. Я ненавижу эти французские законы! Девять лет Пьер не мог добиться развода, потому что жена не хотела дать ему свободу. Он приехал в Москву с Николь, фактически бежал из Парижа сюда, где прошлое оставило его в покое. Они были здесь счастливы. И я думал, как хорошо, что я на тебе женился. Как это важно для меня сейчас, когда Пьер умер и не успел оформиться с Николь. К сожалению, мир еще так устроен, масса условностей! Приходится подчиняться. Я бы с ума сходил, если бы ты оказалась в положении Николь. Вот видишь, я все время говорю о ней, потому что ему уже ничего не нужно. Для Пьера важно, чтобы Николь выдержала е го см ерт ь…
Пьер – твое последнее наваждение. Лучше бы мы полетели в Париж. Там, рядом с Николь, ты бы, наверно, смог пережить его уход.
Мы с тобой шли молча. Было тяжело на душе. Твои руки цеплялись за все ветки, листья, сучки. Стояла жаркая напряженная весна. Природа задыхалась, изнемогала так, будто и у нее болело сердце.
Дошли до реки. Долго сидели на деревянных мостках у самой воды и говорили про Пьера. Ты ловил пальцами водоросли, опуская руку все глубже, забыв о часах… Я видела, что внутри тебя что-то повернулось и никак не может встать на место. Мне казалось, что ты все время крепко держишь в своей руке руку Пьера. Он вырывается, а ты не пускаешь. Тебе трудно, но от этого ты только сильнее сжимаешь свои белые пальцы. Ты говоришь медленно, с паузами, и мне легко представлять мелькающие в твоей голове картины. Все вспоминаешь его, вспоминаешь…До собственной смерти тебе, Назым, оставалось двадцать дней…
Как ты разозлился, когда через неделю узнал, что сделали с Николь на похоронах Пьера тобой уважаемые люди. – Почему я не был там?! – задыхался ты от ярости и презрения. – Как они могли поступить с ней таким образом, и особенно Арагон! Это все Эльза, ее рука! Вытащили к гробу официальную жену! Взяли под руки, повели за Пьером женщину, от которой он спасался в Москве, которая мучила его девять лет! Я ненавижу всякое лицемерие, но лицемерие коммунистов, да еще поэтов – я вынести не могу! Они шли за гробом Пьера, выкинув вперед знамена мещанской морали! Фарисеи! Отбросили любовь… Предали Пьера!
Последние недели перед вторым годом нашей разлуки уходят от меня, как уходит время. Я хотела, нет, не остановить ее, но хотя бы чуть-чуть задержать, чтобы отодвинуть это утро. Но неумолимые дни убегали от меня вместе с листками календаря. Чем ближе приближался ко мне этот день, похожий на пограничный столб, выкрашенный черно-белыми косыми полосами, тем больше я сжималась внутри, собираясь с силами пережить то, что, наверное, всем кажется давно пережитым. Два года назад во мне распустилась черная роза, тяжелая, с горячим запахом горя. Она, невянущая, живет во мне. Больно. Ее шипы врастают в меня все глубже. Но полосатый столб, нездешний цветок и боль – все это там, глубоко. Когда меня спрашивают: «Как вы живете?», отвечаю: «Хорошо». Я учусь у тебя не наваливать свою беду на чужие плечи… Да-да, конечно, Назым, я тоже сейчас подумала про него, нашего китайского друга.
Однажды этот писатель, очень славный человек, застенчивый и тихий, пришел к нам в гости. Вы с ним долго были знакомы, и отношения за давностью лет у вас сложились теплые, дружеские. Он сидел целый вечер. Ты замучил его расспросами. А после вспомнил, как в Пекине тебя пригласили в оперу.
– Было страшно скучно в театре, и я еле дождался конца. После спектакля признался товарищам: «Ничего не понял. Ужасно скучал! Такая музыка до меня не доходит, наверное, потому, что я турок и слух плохой…» Они не обиделись, сказали: «А вы завтра еще идите в нашу оперу. Вдруг завтра понравится?» Назавтра повторилось то же самое. И снова они попросили пойти еще разок. Так продолжалось вечность. Улыбаются, а вечером везут в оперу. На одиннадцатый или двенадцатый раз я как будто уловил мелодию, что-то стал разбирать в голосах… А потом однажды сидел в театре и вдруг поймал себя на том, что наслаждаюсь китайской музыкой, пением… Вот это было открытие! С тех пор, когда люди ругают что-нибудь из того, что мне дорого, я вспоминаю уроки китайской оперы и прошу своих знакомых проявить терпение.
Когда китайский друг уходил, ты спросил, как поживает его жена. И он с нежной улыбкой, словно о чем-то прекрасном, рассказал, что она три недели назад умерла мучительной смертью от неизлечимой болезни…
Ты обомлел от его улыбки больше, чем от внезапной новости. Подумал – вдруг он сошел с ума. Схватил его за плечи, встряхнул, прижал головой к своей груди, стал молить:
– Только не улыбайся, брат! Не улыбайся так, прощу тебя! Ведь ты любил ее, я видел… Ты не можешь не страдать…
– Да, – ответил китайский друг. – Очень. Но у нас считается недостойным омрачать своим горем другого человека, поэтому я улыбаюсь, дорогой Назым.
И он ушел, опять светло улыбнувшись на прощание…За три недели до твоего последнего дня мы сидели у обрыва на дачной террасе в Рузе и смотрели, как под нами течет Москва-река.
Ты был спокоен, задумчив, впрочем, как всегда на природе. Ты никогда не испытывал перед ней мелодраматических восторгов, но ощущал ее мощную независимую живую силу. Тебя тяготила ее власть и гнала в мир, созданный руками человека. Ты понимал города, как людей, и любил их всякие: южные, северные, большие и провинциальные. Вид поля, реки, леса подавлял тебя, вызывал чувство зависти, перемешанное со страданием. В лесу, у моря, на лугу ты острее чувствовал свою временность. А тебе хотелось жить.
Наши головы обернулись на звуки траурного марша. Они доносились из-за реки, с высокого зеленого холма. Ты встал, подошел к перилам террасы и, прислонившись к деревянной балке, смотрел туда, где поблескивали трубы оркестрантов.
– Уйдем, – попросила я.
– Я хочу видеть.
– Лучше уйдем, Назым.
– Ничего, милая, нам некуда уйти. Эти звуки найдут нас везде. Смотри, как много людей. Прыгают из грузовика на землю. Черные фигурки на зеленом. Красный гроб. Почему красный гроб? Что у вас это означает?
– Наверное, хоронят коммуниста. Или депутата. Или местного лидера.
– Значит, меня тоже положат в красный гроб?
– Наверняка.
– Интересно. Ты слышишь, как оркестр врет Шопена? Особенно труба. Слышишь, как он играет?! Должно быть, молодой парень, привык играть вечером на деревенских танцах… Возможно, для его карьеры – это первые похороны… Смотри, куда они уходят?
– На кладбище.
– Какая жара! Разве у вас в мае нормальна такая жара?
– Н е т, та к бы в а е т оч е н ь р ед к о…. М о ж е т быть, Назым, нам все-таки лучше уйти в лес, а? Пошли по нашей дорожке до старой сосны.
– Почему стало так тихо, Веруся? Почему оркестр больше не играет? Все? Кончено?!
– Нет, сейчас, наверное, говорят речи. Последние слова прощания…
– Кто?
– Люди, с которыми он работал, его начальство, его товарищи.
– А может быть, умерла женщина? – ты вдруг отреагировал на слово «он».
– Может быть…
Мы молчали и продолжали смотреть на зеленый холм, в деревьях которого скрывалось кладбище.
– Ты знаешь, в ГДР существует бюро похорон. Это очень смешно, вот послушай. Наши друзья немцы обожают порядок, все должно быть аккуратненько и удобно. Смерть тоже надо легко и просто упаковать. И они правы, черт возьми! Труп – какое он имеет отношение к тому человеку, который жил? Труп – это труп, и нужно с ним побыстрее покончить. Поэтому, если у тебя кто-то умер, ты сразу отправляешься в это бюро или звонишь по телефону: «Товарищи, очень прошу мне помочь». Тебя никто не ругает, не бросает трубки. Напротив, тебе рады. Ты называешь сумму, которую решил истратить на человека, продолжающего тебя мучить. Дальше ты говоришь, сколько человек тебе нужно для траурной процессии. Конечно, за дополнительную плату. Потом тебя спросят, нужны ли ораторы, чтобы сказать на панихиде речи о покойнике. Будут говорить только хорошее, и можно им заказать разные темы. Например, один скажет о его талантах, другой о его человечности, третий о деловых, производственных качествах и так далее, в зависимости от того, сколько у тебя денег. И все эти профессиональные похоронщики придут торжественно одетые, очень печальные. Бюро пошлет тебе гроб, цветы, и катафалк. Тебе нравится?
– Я не могу представить себя мертвой. Не хочу не двигаться, не чувствовать, ничего не делать, Назым. Можно мне жить? – смеюсь я.У-у, хочется выть… Проклятая смерть!
– Ты не можешь представить смерть? Вот что нас разъединяет! Я могу. Так ясно вижу. Свою, конечно. Могу тебе все рассказать. Потом сравнишь… Интересно будет наблюдать то, о чем ты уже знала. Во-первых, у нас дома я не умру. Вообще, я не думаю, что это случится в Москве. Значит, где-то в другой стране. В какой? Если ты будешь со мной – этого не сделаю ни за что! Просто не смогу тебя так напугать. Вот, миленькая, почему хочу всегда держать тебя за руку. Каждую минуту. Скорее всего, это может случиться в ГДР. Точнее, в Лейпциге. Значит, тебе позвонят оттуда на рассвете. Почему-то чаще всего уходят под утро… Тебе позвонят, ты сразу звони Симонову. Мы редко видимся, но я все-таки думаю, он будет тебе помогать… Я слушала тогда, а сама с ужасом думала о стихах, написанных тобой недели за две до этого разговора. В апреле ты читал мне и Акперу, и Музе, и нашим знакомым стихотворение «Мои похороны», читал с такой искренней жалостью к себе – и потому иронично. Да, Назым, в стихах ты ошибался редко.
Откуда вынесут мой гроб, из нашего ли двора? И как вы меня спустите с третьего этажа?..
– Ты отказываешься ехать в турецкое комподполье, – продолжал ты. – Место действительно невеселое. Кучки эмигрантов-неудачников, изображающих бравых революционеров… Больно видеть, с какой радостью ими командует наш лысый турецкий Карл Маркс… Есть что-то уязвимое в коммунистической идее, если ее, как мед, пятьдесят лет растаскивают по отнятым у народа берлогам напористые медведи под одобрительное жужжание помойных мух. Я устал видеть на каждом шагу выцветшие лозунги. Они полиняли не от погоды, а под разочарованными взглядами обманутых людей. С этой болью в сердце мы, последние романтики, уйдем из жизни… Без романтизма человечество задохнется, но у него есть опасная сторона – иллюзии. Мы не выполнили своей задачи во многом из-за собственных иллюзий. Мы виноваты, что нередко, пусть искренне, убаюкивали людей верой в светлое будущее вместо того, чтобы с помощью правды прекратить собачью жизнь многих народов уже сегодня. Но я не пессимист, миленькая моя женушка. Я уверен, что придут новые поколения романтиков и лучше нас взбунтуются против всяких одряхлевших догм. Общество обладает врожденным чувством свободы. Оно-то и толкает людей на непрерывные поиски истины, Вера моя…
Скажи мне, Назым, крикни, простони, хлопни окном: ты был счастлив?
Был счастлив со мной? Был? Как часто, обращаясь ко мне, ты говорил «радость моя, Веруся». А теперь я говорю тебе словами твоего любимого романса: «Прощай, радость, жизнь моя…» – Где в Москве проходит церемония похорон писателей? – мысль о собственных похоронах не отпускала тебя.
– Панихида? В Доме литераторов.
– Значит, туда меня привезут. Ты не приходи, Веруся. Я не хочу, чтобы ты меня видела. Зачем у вас показывают лицо мертвеца? Это дикость! Тебе будет страшно, противно. Будешь мучиться, но раз полагается, придется смотреть. Потом это мертвое лицо начнет тебя преследовать, мешать нам с тобой… Так, что еще? Будут венки. Много. От всех московских театров, где играли мои пьесы. Может быть, привезут из Ленинграда, из Минска, Риги. Последние цветы актеров своему драматургу. Хорошо. Они, слава Богу, живые цветы принесут. В театре, к счастью, не принято давать в руки искусственных букетов. Венки пошлют разные учреждения культуры. Министерство Фурцевой, запретившее спектакль «А был ли Иван Иванович?», не позволившее поставить мои пьесы «Иосиф Прекрасный», «Корова», «Быть или не быть», «Слепой падишах», «Станция»… Так вот это Министерство культуры пришлет, конечно, самый большой и пышный венок. Журналы некоторые принесут, например, «Новый мир», «Знамя», «Театр»… Газеты тоже… «Литературная», думаю, и «Вечерка». Еще «Московская правда». Я для нее много писал репортажей благодаря журналистке Люсе Батаговой… Некоторые посольства, дружественные мне, придут обязательно. Думаю, все посольства социалистических стран пошлют своих представителей… Франции, Италии, конечно, Швеции тоже. Египта наверняка. Дадут телеграммы руководители многих Союзов писателей, руководители разных компартий – тоже телеграфируют тебе… Ты сохрани все, отдашь когда-нибудь в Турцию. Придет, в конце концов, время, когда там захотят узнать обо мне. Уйдет в прошлое, потеряет смысл ненависть реакционеров, глупость политиков и ревность отдельных писателей… Большая работа времени понадобится, миленькая моя, чтобы я вернулся на родину человеком… Все-таки я хотел бы в тот день, когда в Турции сообщат, что меня уже нет в живых – оказаться там. Немножко послушать, что люди будут говорить обо мне в кофейнях, в театрах, в университете…
Внезапно мохнатая верхушка холма разверзлась воплем Шопена. Это была агония его музыки. Шопен еще пытался навязать оркестрантам свою мелодию, но они отшвырнули ее прочь. Они играли бог знает что, но неистово.
– Что там происходит? – ты напряженно всматривался в деревья на холме.
– Не знаю, – соврала я.
– Веруся, как ты думаешь, почему люди с таким интересом бегут на похороны?
– Вероятно, потому, что это чудо, которое мы не в силах разгадать. Смерть всегда поражает живых. По-разному, но поражает и нас. Она уже унесла кого-то, ее нет поблизости, а мы еще в оцепенении. Для меня смерть – это страх и удивление.
– Но мне кажется, ты не очень боялась, когда увидела свою бабушку мертвой? Ты даже не заплакала, когда позвонили, что она умерла, да?
– Я не помню.
– Ты не помнишь, как позвонили полгода назад, под утро? Было еще темно. Ты только несколько часов назад как вернулась от нее. Я ждал тебя. Ты сказала: «Она узнала мой голос, но не смогла открыть глаза». Я хотел расспросить тебя, но ты валилась с ног от усталости. Я знал, что ты весь день провела за рулем, и уложил тебя в постель. Ты провалилась в сон. Я долго на тебя смотрел, но думал в это время о твоей бабушке. Я никогда не встречал такой милой, нежной и такой доброй женщины… Перед моими глазами она сидела за своим большим столом, тяжелым от пирогов, которые напекла для нас. Ее глаза желали мне добра. Мне казалось, она понимает, как я счастлив. Она мне как-то сказала: «Знаете, Назым, как меня выдали замуж? Это было за шесть лет до революции. Приехали сваты и привезли мне двух женихов: отца-вдовца и сына-молодца. Выходи, говорят, за любого. Посмотрела я на них, подумала, подумала. Всю жизнь своей семьи вспомнила. У меня братьев было много. И все они пили горькую. А как, бывало, напьются так безобразничают, шутят, да все жестоко. С попами дружбу вели, а озорничали бессовестно. То на дерево кого-то загонят, то в погреб посадят, то свинью впихнут в дом, где люди обедают с самоваром. Самовар покатится, всех кипятком ошпарит… А отец мой был портной, трудился день и ночь и маму никогда грубым словом не обидел… Вот я и выбрала вдовца. Уж он меня любил! А уж жалел-то как! А был он управляющим имения одного знаменитого князя в Саратовской губернии». Когда Анюта постеснялась стихи прочесть, помнишь, как бабушка легко встала и с таким озорством прочла длинное стихотворение Некрасова про генерала Топтыгина, а потом его «Плакала Саша, как лес вырубали»… Она не читала моих стихов, конечно… А той ночью я смотрел на тебя и думал, что вот она умерла и мы больше для нее не существуем. Смерть ворвалась в твой сон. Я никогда не видел, чтобы ты так быстро двигалась. Ты убегала, я просил взять меня тоже, но ты покачала головой. Я стоял у порога и гладил твои руки. Я не решался их поцеловать в то утро. Ты еще была рядом, но уже отсутствовала. Глянула на меня, как маленькая девочка. Я испугался, сказал: «Возьми такси. Тебе опасно вести машину», но ты сжала в руке ключи и попросила: «Поешь чего-нибудь сам, не волнуйся и не уходи из дома, позови Бабаева…» Тебе было страшно?– Я ехала очень быстро. Едва светало. На дорогах ни машин, ни регулировщиков. Как всегда за рулем, я собралась. Проехала сорок или пятьдесят километров, влетела в дом и натолкнулась на ее неподвижность. Моя любимая, родная бабушка лежала уже прибранная, с добрым, гостеприимным лицом, на котором я прочла уважение к смерти. Она больше не страдала, и оттого ей было хорошо.
Как я благодарна тебе, Назым, за нее. Даже не за известного врача, которого мы привозили, а за то, что поговорил с ней, как только ты умеешь, и у нее были счастливые глаза.
Через несколько минут я уже ехала по деревенской хляби в соседний поселок, где выдавали справки о смерти.
Я долго не могла отыскать нужный дом, рискуя каждую минуту утонуть в грязи. Это меня злило и отвлекало. Потом я стояла в очереди, кого-то просила, что-то объясняла, расписывалась в каких-то толстых книгах, где уже записали, что моя бабушка, Коптелова Мария Максимовна, умерла на семьдесят восьмом году жизни. Потом ездила с мужчинами в другое далекое село, где было кладбище, и уговаривала чужих равнодушных мужиков вырыть получше могилу. Я сама выбрала для нее место возле самой церкви так, чтобы летом, когда открывают двери, бабушке было слышно, как поют… Потом мы заезжали в разные сельские лавки купить водки и сыру. Так велел мой дядя. Он бестолково ходил по дому с полным кошельком денег и все щупал вещи, проверял замки на комоде и сундуке, постоянно искал свои часы, которые были у него на руке. «А?! Веруша! Часы, часы исчезли! А? Где?» Ему казалось, что дом полон воров, – это приводило меня в бешенство. Я не понимала, что он сам не свой от горя. Мама приехала с Анютой позже, и я впервые увидела, что у нее такие огромные глаза.
– Но это, если хочешь знать, тебя и спасло. Ты работала все время. Твой дядя, он помог тебе, взял часть эмоций на себя. Но когда ты плакала о ней? Вы ведь любили друг друга.
– Очень мало плакала… Ее отпевали в церкви.
– Ты мне не сказала про церковь.
– Разве? Я с детства хорошо знала этот деревенский храм. Во время войны девочкой около года молилась в нем по воскресеньям. Мне было интересно войти в него почти через двадцать лет. Церковь помнилась огромной, а оказалась маленькой и еще более прекрасной, чем в детстве.
– Ты молилась? Неужели?! Как это могло случиться, Веруся?
– Очень просто. Мой отец, перед тем как погибнуть, приезжал с фронта за оружием и выхлопотал нам с мамой пропуск в Москву, когда она еще была закрыта для въезда. В сорок третьем году мы вернулись из эвакуации. Квартира в Москве стояла нетопленая, с дровами было трудно, и бабушка с дядей Колей предложили нам поселиться у них в подмосковном маленьком селении Загорянка. Почти у всех моих подруг матери были крестьянки. Отцы воевали. По воскресеньям женщины молились в церкви. Они просили Господа послать их мужьям милость – даровать жизнь. Дети тоже ходили с матерями и бабками. В церкви во время войны было полным-полно народу, горели свечи, хор замечательно пел. У нас в доме никто не молился, хотя в переднем углу у бабушки висела родительская икона Казанской Божьей Матери, теперь она у меня. Один раз в году на Пасху бабушка ненадолго зажигала под ней в синей лампаде маленький огонек. Я не знала, делает ли она это, чтобы не быть в глазах соседей белой вороной, или все-таки верит, потому что бабушка никогда не крестилась и в церковь не ходила. Ну а о родителях моих и говорить нечего. Их молодость проходила в послереволюционную пору.
– Ты пошла молиться за отца?
– Нет. Чтобы сдать экзамен по арифметике.
– И помогло?
– Сдала. Это было начало. Потом отец погиб. Но во время войны происходило много чудес, погибшие находились. Может, и не так много, как об этом рассказывали. Но в чудо верили все близкие и ждали своих по много лет. Мои подруги и их матери говорили мне: «Молись, Вера, и Бог не оставит тебя, молись, Вера». Но молилась я плохо – не знала ни одной молитвы, а признаваться в этом мне было неловко, вот я и шептала обычные слова. Креститься и целовать иконы я умела, старалась найти на них укромное местечко, куда другим не дотянуться. Или терла икону варежкой, носовым платком, за что нередко получала подзатыльники от старух.
– А твоя мама тоже ходила?
– Нет. Не знаю. Когда я собиралась в церковь, они с бабушкой не останавливали, спокойно давали деньги на свечку. Всем было трудно жить…
– Потом что случилось? Почему ты перестала ходить в церковь?
– Пустяк. Старичок-священник, милый, интеллигентный человек, у которого я несколько раз исповедывалась был бабушкин старый приятель. Он иногда заходил к ней попить чаю, и они тихо, уважительно беседовали об урожае, о кормах для коз и о войне. Ему легко было исповедываться и говорить: «Грешна, батюшка, грешна…» В тот день он, видно, заболел и вместо его слабого голоса церковь сотрясал могучий хриплый бас. Я стояла далеко от алтаря и за спинами взрослых не видела нового священника. Когда же настала моя очередь подойти к причастию, я остолбенела: передо мной в рясе стоял знакомый обирала с нашей улицы. Это к нему мы бегали в огромный сад покупать мелкие райские яблочки, когда взрослые давали нам деньги на лакомство. Кажется, он работал инженером в каком-то московском учреждении, и все вокруг говорили про него, что он «из бывших». Мы, дети, ненавидели его. Он так медленно насыпал из большущей корзины яблоки в стакан, несколько раз покачивал его из стороны в сторону, чтобы лишние скатились в корзину, и только потом опрокидывал стакан нам в оттопыренный карман. Мы считали, что он нас обворовывает. Он был большой, рыхлый, с бабьим лицом. И вдруг я увидела перед своим носом его здоровую волосатую руку, которая подносила мне столовую ложку красного вина с хлебом. В горле шевельнулось что-то теплое, противное, подступила тошнота. Я сжала зубы. Бог словно испарился из церкви. А обирала всовывал мне в рот ложку, крепко ухватив темя, чтобы прикрыть голову парчовым платком, и допрашивал, грешна ли я. Ну уж нет! Я вырвалась и как сумасшедшая бросилась к выходу, чтобы выплюнуть причастие, полученное из его рук. Мне и двенадцати лет не было.
– Да… Я хотел бы видеть эту церковь. Жаль, что ты не взяла меня на похороны. Там было много народу?
– Нет. Несколько любопытных старух. Всю службу они обсуждали бабушкин наряд. А лежала она ситцевая. Ее положили в том, что она сама по старому русскому обычаю приготовила себе на смерть. Ей всю жизнь ничего не было нужно. Она все раздавала, всех жалела и особенно моего странного дядюшку. Она считала его человеком, обиженным жизнью, и копила ему деньги на одиночество. Два антипода, два одиноких человека уживались под одной крышей благодаря бабушкиной многотерпимой доброте. А мама потом рассказывала, как молоденький сельский священник, не отрываясь, смотрел на меня во время бабушкиного отпевания, и она по педагогической привычке сделала ему замечание: «Товарищ, вы кого отпеваете – мою мать или мою дочь?!»
– Смотри, музыканты бегут бегом! Куда они торопятся?
– Хотят поскорее выпить. Ведь только они и были здесь наняты.
– Теперь все сядут есть и пить. У нас тоже так. Очень шикарный стол накрывают после мертвого, и даже бедняки дают настоящий банкет деревне, а потом несколько лет выплачивают за него долг и голодают до следующего покойника. Люди просто сумасшедшие бывают, так боятся что-то нарушить в обычаях дедов. Я не смог бы есть после похорон.
– И поэтому никогда не ходишь?
– Ты знаешь, почему я не хожу, – обиделся ты. – Мне страшно, страшно жалко бывает того, кто умер, и еще больше того, кто теперь приговорен жить один! Идем обедать, милая, – позвал ты меня.Знаешь, меня не перестают мучить те ваши последние разговоры с композитором Левой Солиным, которого мы дружески называли Соликом.
Помнишь, в Рузе за две недели до твоего исчезновения мы гуляли по лесу? Я шла впереди с другим нашим гостем, вы – сзади, но до меня долетали отдельные фразы. Сегодня мы встретились наконец с Соликом и стали вспоминать все с самого начала.
– У вас когда день рождения? 19 мая? А первый разговор у меня с Назымом состоялся на другой день после вашего чаепития, значит, 20 мая 1963 года. Это абсолютно точно.
Дальше Солик рассказывал вот что – он помнит все дословно.– Все началось с профессиональных вопросов. Мы говорили, что настоящая поэзия есть воплощение звуковой стихии. «Для поэта перевода вообще не существует, – сказал Назым, – потому что стихи выражаются в музыке, а музыка может быть только одна». Он прочел мне несколько своих стихотворений – «Каспийское море», одно или два из последнего Лейпцигского цикла и стихи о Бахе. Он был спокоен, но читал вдохновенно. «Я знал, что вы – замечательный поэт, но не представлял, что ваши стихи – законченные музыкальные произведения. По звуку, по ритму, по мелодии!» И тут Назым страшно разволновался: «В этом и заключается мое самое большое несчастье! – с болью ответил мне он. – Потому что моя главная поэтическая работа пропадает! Мои стихи переведены более чем на пятьдесят языков! Их читают пятьдесят разных народов, но я турок! Я-то пишу прежде всего для турков! А они меня как раз и не читают! Не могут читать – в Турции меня не издают, а понять до конца меня могут только там, на родине». Он пришел в страшное возбуждение и был похож на человека, втиснутого в камеру с выкачанным воздухом. Я начал его успокаивать: «Ваше возвращение к туркам неизбежно. Пройдет еще немного времени, и ваши книги станут читать в каждом доме. Как истинный поэт вы же ощущаете значимость своей поэзии, предчувствуете ее судьбу?» А Назым даже с какой-то яростью: «Это что? После смерти моей?! Тогда все, о чем вы говорите, будет не для меня! Я ничего этого не узнаю! Я хочу сейчас обратиться к моим братьям и сейчас говорить с ними! А что случится потом – я не знаю! Я не верю в загробную жизнь!» – «Вот послушайте, Назым, что я вам расскажу, – начал я. – В Берлине жили два знаменитых композитора – Спонтини и Бизе. Имя Спонтини было у всех на устах. Оперы его с фурором шли в театрах, а мелодии из них распевали все меломаны того времени. Его “Весталка” стала событием не только в искусстве, но и в общественной жизни. После спектакля восторженная толпа поклонников выпрягала лошадей его кареты и сама везла Спонтини домой. Он умер увенчанный славой, уверенный в ее вечности, но сейчас имя его известно лишь узкому кругу специалистов, его музыка канула в Лету. А опера Бизе “Кармен” провалилась на премьере. И Бизе в тридцать семь лет вскоре после этого трагического провала умер, по существу, от горя. Но сегодня музыку Бизе знает любой мальчишка на любой улице земного шара. Так чья судьба лучше, Назым?» Как он кричал, вы же слышали, Вера: «Спонтини! Только Спонтини! Лично я хочу быть Спонтини! После смерти нет ничего! Вы понимаете?! Все, что происходит с “Кармен”, существует только для нас, а для Бизе этого не было!»
Господи, какая духота навалилась в тот вечер на Старую Рузу… Окна и двери нашего маленького дома мы распахнули настежь, а дышать все равно было нечем. Когда я разбирала кровать ко сну, а ты тихонько напевал мелодию из «Кармен», у меня на шее ни с того, ни с сего лопнула нитка бус. Бусины раскатились по всему полу, и ты, покачивая головой, сказал: – У меня на родине это считается плохой приметой… А как у вас, Веруся? Может быть, наоборот?
Второй ваш разговор с Соликом произошел через три дня. Не удивляйся – я знаю, что ты сказал ему на лесной дорожке 23 мая, за десять дней до собственной смерти. Ты сказал… Не могу. Отложим, Назым. Ночь кончается. До завтра, дорогой мой…
…Продолжаю. Я услышала твои слова, хотя шла впереди. И промолчала. Почему? От беспомощности. От внезапно угаданной, но не осознанной еще беды. Мои ноги вдруг ясно ощутили, как земля уходит в пустоту.
– Мне трудно жить! – донесся до меня твой крик. – Между мной и моим народом лежит не река, не озеро, даже не море, а Северный Ледовитый океан. Я мог бы приносить пользу людям и здесь, но все тут наталкивается на воинствующую подозрительность чиновников! Я целиком разделяю идеи Ленина, но не могу мириться с тем, что знамя, на котором начертаны великие слова, находится в руках грубых, равнодушных, бессовестных по отношению к своему народу сил. От всего этого я теряю веру в смысл жизни. Чего мне только не пришлось испытать в свои шестьдесят лет! Но я побеждал безнадежные ситуации, потому что я очень, очень, понимаете, очень хотел жить! А сейчас я хочу умереть. И мне жалко только одного – оставить Веру.
Сегодня фотограф Маныч, тот самый, что выследил тебя за три дня до кончины, наконец принес мне последнюю фотографию тебя живого. Принес, не понимая истинного ее значения.
Мы уже вернулись из Рузы. В тот день в нашу московскую квартиру к тебе пришел друг, известный театральные критик Константин Рудницкий, всю жизнь он отдал изучению наследия Мейерхольда. Ты отпустил нас с Акпером поискать в магазинах карнизы для окон, чтобы повесить занавески, и мы сговорились, что в пять часов встретимся во дворике Союза писателей, где у тебя было какое-то дело. Мы уехали, вы остались разговаривать, но потом, как выяснилось позже, отправились на Ваганьковское кладбище к могиле жены Мейерхольда – Зинаиды Райх, где есть и символическая плита с именем Всеволода Эмильевича. Я хочу, чтобы когда-нибудь в нашей стране вспомнили, как ты, турецкий поэт-эмигрант отвоевывал с упорством капли, точащей камень, имя обожаемого тобой режиссера у позорного небытия. 11 октября 1955 (!) года ты написал в Москве одно из своих знаменитых писем в его защиту: «Не только история русского театра XX века, не только история советского театра, но и история мирового театра немыслима без Мейерхольда…»
Никаких карнизов мы с Акпером так и не нашли. В назначенный час подъехали к Союзу писателей на его машине, и, пока он парковался, я вышла. Увидела тебя на скамье в тени дерева, а за деревом – прячущегося фотографа Маныча, которого ты, наверное, перед этим турнул. Меня издалека поразило, испугало твое совершенно незнакомое мне состояние трагической отрешенности. Впервые ты не почувствовал моего приближения и даже некоторое время смотрел на меня, как бы не узнавая. Лицо твое показалось мне черным, безжизненным. Ты взял себя в руки, механически говорил с Акпером, а мне шепнул:
– Потом, потом…
Дома, когда мы остались одни, ты рассказал мне вот что.
– Меня все мучил вопрос – как погиб Мейерхольд? Это стало навязчивой идеей. Ты же знаешь, по Москве ходят три версии: его расстреляли в тюрьме; нарочно придавили деревом на лесоповале; засунули в кипящий котел с супом на тюремной кухне, где он работал. Оказалось, две последние версии неверны. Рудницкий располагал совершенно секретной пока датой расстрела Мейерхольда в тюрьме, но места его захоронения не знал. И вот Рудницкому понадобилось похоронить кого-то из близких на Ваганьковском кладбище, а дело это почти нереальное. Ваганьково густо заселено покойниками, там ноги поставить некуда, и каждый клочок земли стоит астрономических денег. Рудницкий начал хлопоты и стал проводить на кладбище кучу времени. Его поразил тот отпечаток, который наложило на ваганьковских служителей пребывание на стыке жизни и смерти. Оказалось, что для них эта загробная жизнь так же реальна, как и земная! Рудницкий познакомился с одним из кладбищенских работяг, многие годы промышлявшим рытьем могил. И этот хваткий, совершенно сумасшедший дядька, с которым Рудницкий нашел общий язык и много, с интересом общался, однажды привел его на единственную свободную полосу земли перед храмом и сказал, что ни один могильщик, который в принципе и родную мать может продать не моргнув глазом, ни за какие блага не станет никого хоронить на этой полосе. Сказал, что там во времена, приходящиеся на дату расстрела Мейерхольда, был ров с негашеной известью, куда сбрасывали привезенные ночью тела расстрелянных и засыпали землей. Могильщик этот был свидетелем тех страшных ночей и сам хоронил мертвых именно из той тюрьмы, где в феврале 1939 года (в действительности в феврале 1940 г. – А. С .) был, по сведениям Рудницкого, приговорен к высшей мере великий режиссер. Могильщик говорил, что это место для служителей запретное – там мученики лежат, и за их невинную гибель будет месть живущим от того мира. И за то, что известью их выжигали, тоже добавится… Я спросил Рудницкого, можно ли верить этому рассказу? Понимал ли он сам, что происходило в то время? И он ответил, что сложно было понять все под давлением тоталитарной пропаганды, которая разрушала мозг. Даже сомнения люди старались отгонять ради главной веры. Отец Рудницкого был директором какого-то завода, к искусству отношения не имел. Его еще до войны в тридцатые годы посадили и расстреляли. Потом посадили мать. А он, молодой человек, пошел воевать на фронт. Гнало его чувство вины, которое почему-то было, хотя в виновность родителей не верил. Свое личное ощущение времен войны Рудницкий вспоминал светло. Его все любили, еврейства никто не замечал, и ему было хорошо на фронте. Потом Рудницкий заговорил про Пастернака. «У меня до такой степени были сформированы мозги, что я рвался, даже хотел выступать в ЦДЛ, где происходило то историческое заседание! Но Таня (Т. И. Бачелис. – А. С. ), жена, на мне повисла. Таня всегда была более мудрой. И Таня сказала: «Если ты туда пойдешь, то я от тебя ухожу». И Рудницкий не пошел только под угрозой развода. То, что сделала для него жена, какое благо она сотворила, он понял уже на следующий день, когда встретил на улице, кажется, Леонова. Покашливая, с ернической улыбкой, тот сказал: «Я очень вчера заболел, никак не мог пойти». И по этой ернической интонации Рудницкий понял все. Он сказал мне: «Мы старались быть бронированными. Эту цельность мы в себе культивировали». Говорил, что не фигура Сталина его вдохновляла – образ страны, подкрепленный фронтом, войной вызывал желание чем-то для нее жертвовать. Рудницкий говорил об этих вещах, как об источнике слепоты. А в Советском Союзе эту слепоту объявили патриотизмом!
Ты налил две рюмки конька и, протягивая мне одну, сказал: – Давай выпьем за Мейерхольда и за всех, кто лежит с ним рядом в этой яме. Весь вопрос заключается только в одном – как жить после кремлевских тайн.
А знаешь, как ты умер, Назым? Ты всегда хотел это знать. Теперь я могу рассказать тебе, как это случилось. Накануне, в воскресенье я встала первой, принесла тебе маленькую чашку турецкого кофе и что-то к нему. Ты выпил и продолжал лежать в окружении газет. Я пошла в кабинет и в страшной спешке села работать. В двенадцать часов я обещала принести в Центральный Детский театр пьесу «Журавли», которую заказали тебе, а ты перекинул работу мне, и вот я не успевала к назначенному сроку. Пьеса рассказывала о трагедии Хиросимы, о коротенькой жизни маленьких героев, превратившихся в горстку пепла, и о бумажных журавликах, которые теперь делают дети Хиросимы, – по преданию тысяча журавликов, сделанных детскими руками, способна воскресить хорошего человека. Я все читала и перечитывала твои стихи о маленькой японской девочке. По твоему совету включила их в пьесу. Они как будто специально были написаны для нее.
На моих коленях лежит венок из тысячи разноцветных бумажных журавликов, искусно созданных маленькими желтыми ручками. И письмо:
Незабвенный Назым Хикмет!
Пожалуйста, просим Вас, примите подарок от девочек Хиросимы. Мы с благодарностью и уважением склоняем головы перед Вашей памятью и возлагаем перед Вашим прахом тысячу сделанных нами журавликов, тысячу птиц, несущих по свету волю к вечному миру.
Дорогому Назыму Хикмету, семье и близким друзьям покойного от школьников Хиросимы, продолжающих бороться за мир; от Хиросимского общества бумажных журавликов.
23 июня 1963 г.Прости меня, Назым, я уже не верю в чудо воскрешения, точно так же, как я не верю и в твою смерть.
Ты позвал меня и попросил:
– Если можно, работай, пожалуйста, здесь, чтобы я мог тебя видеть. Извини, что лежу, ты знаешь, я не смог заснуть сегодня…
Я взяла рукопись и пришла. Вскоре ты встал, умылся и сел со мной рядом. Некоторое время смотрел, как я ищу твои стихи в сборнике, сам помог мне выбрать нужные строчки, потом вдруг закрыл ладонями лист, на котором я писала, и сказал:
– Давай поговорим немножко.
Ты говорил час, а может быть, два. За эти два часа перед моими глазами прошла вся твоя жизнь – не отрывками, как прежде, не кусками, а вся единым духом. Ты вспомнил маму. Это было необычно. Ты ведь старался не говорить о ней. Ты по-прежнему невыносимо страдал оттого, что ее нет в живых, и всякое упоминание о ней резало тебя как ножом по сердцу. Ты просил меня под любым предлогом прекращать расспросы о ней. Но теперь ты рассказал мне, почему она рассталась с твоим отцом, человеком, которого безумно любила и вдруг однажды сама попросила уйти.
– Мама ревновала его так отчаянно, что ее страдания могла облегчить только разлука, хотя и отец любил ее. Ты видишь, какие у меня гены в крови. Родители развелись и остались на всю жизнь друзьями.
И ты рассказывал, как иногда отец приходил к маме в гости, как они немного грустно, немного нежно говорили о жизни, которая как будто свернула от них в сторону и текла где-то рядом за их спинами, и они никак не могли обернуться и найти ее русло… Ты стал говорить об отце, о его второй семье, о его жене, простой женщине, так отличающейся от твоей мамы. Об их детях, о сводной сестре. Рассказал, как однажды, когда тебя посадили, полиция схватила и зверски избила твоего отца – требовали от него улик против тебя. Он ничего не сказал. Да и что он мог знать, ты ведь жил с мамой, с ним виделся редко. Но отец ничего не сказал им не из сочувствия к твоей деятельности – ей он не сочувствовал. Он вообще не мог понять, почему его сын, который может жить как обеспеченный и всеми уважаемый поэт, нарочно старается попасть за решетку, то есть жить хуже, чем собака. Он не сказал ни слова от злости, от презрения к тем, кто его избивал. Потом, когда отец встретился с тобой, признался: «Я не понимаю, чего ты ищешь, сынок, ты ведь не нищий и не простолюдин, чтобы переделывать мир. Оставь это занятие беднякам, их жизнь на воле немногим лучше, чем в тюрьме. И все-таки есть в тебе что-то, что заставляет их бояться тебя, ненавидеть и уважать. Они ведь тебя ни разу не посмели и пальцем тронуть. Знаю, правда, что в самом начале тебя бросили в трюм корабля, закачали туда стоки канализации, чтобы дерьмо было тебе по колено, и держали там несколько суток. Но не били. А руки у них чесались, раз они избили меня. Что же это в тебе такое, сынок?»
– Я не мог ничего объяснить ему, конечно. Я смотрел на его голову, она вдруг за несколько месяцев стала совсем голой, как коленка. Мне было так жалко его, так жалко, ты не можешь себе представить. Больше мы не виделись. Потом он умер. А мама до конца дней своих писала картины, очень яркие, потому что она уже плохо видела и нарочно выбирала самые контрастные цвета. Мама была немножко странной в конце жизни, почему-то любила писать портреты красивых юношей. Она совсем не могла видеть некрасивые лица и всегда удивлялась, что мои женщины были некрасивые. По-моему, она не любила их только за это. Говорила: «Как ты можешь, Назым? Ты же поэт! Как ты можешь каждый день видеть перед своим носом некрасивое лицо?» А я ей старался объяснить, что не могу жениться на красивой женщине, боюсь, просто пропаду. Буду ревновать, как черт! Я ей говорил: «Ты же узнала ревность, ты же сама не выдержала и прогнала отца, разве он был самым неверным мужем?» – «Я обыкновенная женщина, но все равно не понимаю, как ты можешь… Лучше ревность… Лучше мучения. Ты же поэт, Назым, тебе полагается мучиться, чтобы писать стихи, так уж пусть эти муки будут от любви»… Ах если бы мама знала, что я испытал в конце своей жизни! Самую сложную ревность на свете, ревность к будущему моей любимой без меня. Я ненавижу всех этих мужиков, которые могут прийти в твою жизнь после меня. Ведь они где-то ходят в этом городе, мы, может быть, уже встречались… Ненавижу их, а иногда и жалею. Хочется им помочь, дать советы, как с тобой управляться. Я хотел бы написать смешное письмо в стихах, там рассказать, что должен делать человек, чтобы ты его любила, и чего не должен делать, чтобы не надоесть тебе. Эти влюбленные мужики такие всегда дурачества сделают! Я думаю, мама полюбила бы тебя. Она бы радовалась за меня, что наконец у меня обнаружились глаза.
Вспомнил Пирайе. Ты всегда говорил о ней так, как говорят о родном и хорошем человеке.
– Она единственная женщина, перед которой я виноват. Она незлопамятная, знаю, но я хотел бы ей об этом сказать. Я тогда совершил ошибку… Я думаю, когда Мемед вырастет, станет мужчиной, прочитает все мои стихи, он поймет меня. Придет к тебе, скажет спасибо за отца. Ты тогда подружись с ним, помогай во всем как сыну…
Потом заговорил о тюрьме.
– Мне стыдно, когда мне воздают почести в Советском Союзе за семнадцать проведенных в тюрьме лет. Они в Турции должны были меня судить. Я ведь с самого начала знал, что мне угрожает тюрьма. И главное, я знал, за что я сижу. А здесь люди гибли, не понимая – за что. Я в тюрьме лучше становился, сильнее, внутренне развивался. Это нормально. В этом нет никакого героизма. Героизм проявляли коммунисты в тюрьме здесь, начиная с ХVII-го съезда партии – ведь их посадили такие же коммунисты, как и они сами, и безо всякой политической причины. Выдержали все это, не утратив оптимизма и веры в ленинизм, герои. Они сохранили свое человеческое достоинство и, выйдя на свободу, сказали: «А все-таки революция была не зря!» Мне немножко стыдно бывает перед ними за то, что люди из хорошего отношения к поэзии, к турецкому народу создают мне какой-то ореол. Когда мы были в гостях у Каплера, я восхищался им как мальчишка. Как он сохранил молодость, юмор, способность по-настоящему работать и по-настоящему любить. Какой обаятельный человек! И я никак не мог представить его с номером на груди. Я все-таки однажды хотел бы говорить с ним об этом.– А знаешь, Назым, Алексей Яковлевич Каплер был одним из тех, кто позвонил мне после твоего исчезновения и спросил, есть ли у меня деньги. Юрий Александрович Завадский спросил, Исидор Шток, Комиссаржевские, Вера Федоровна Панова звонила из Ленинграда…
– Вдруг подумал, что заключенных в своей тюрьме я всегда очень легко представлял на свободе. А вот никого из тех знакомых на воле, кому пришлось сидеть в тюрьме, я не могу себе представить за решеткой, хотя перевидал так много узников… Даже нашу бедную старую турчанку Сабиху не могу представить в Сибири. Как она радовалась, когда ты называла ее своей свекровью. Как старалась научить тебя готовить турецкую еду, варить кофе по-турецки. Помнишь, как она ласково приговаривала: «Веричка, тебя Назым окончательно отуречил!»
В то утро ты снова заговорил о Ленине. Странно, но я ни разу не видела книг Ленина в твоих руках. Энгельса – видела, Антонио Грамши – да, а Ленина – нет. Очевидно, его ты читал в далекой молодости, совсем юным человеком.
В то утро ты сказал мне:
– Я всю жизнь думал, что коммунизм можно построить быстро. Я был уверен, что это случится при мне. Еще год назад я почти так думал. Теперь я понимаю, что на это потребуется не десятки, а сотни лет. Так что, вот, миленькая, не только я не увижу коммунизма, не только ты не доживешь до него, но, самое грустное, что даже наша Анюта… И вопрос не в экономике. Через несколько лет, если не будет войны, конечно, жизнь здесь наладится, и все будет хорошо. Время, о котором я говорю, уйдет на постройку нового человека, необыкновенного человека! Я вижу его, и он мне так нравится! Мы все, коммунисты, немножко нетерпеливые были, хотели ускорить процесс роста человеческого сознания. Но как бы ни мечтал отец ускорить роды своего ребенка, он все равно вынужден ждать девять месяцев, иначе получается выкидыш…
Около полудня мы расстались. Я поехала в Детский театр, оттуда на дачу к маме повидать Анюту. А ты – к Акперу, писать и переводить на русский язык обещанное Науму Мару предисловие к его книге.
Мы встретились дома вечером, часов в восемь. Пили чай с мамиными пирогами. Ты признался, что у Акпера тебе сделалось так плохо, думал – все, умираешь… Но виду не показал – Акпера пугать не хотелось. Полежал немного, потом стало лучше, боль в сердце отпустила, осталась слабость.
– Теперь совсем хорошо. Завтра поеду в поликлинику, надо сделать анализ крови и ЭКГ.
Я видела, что и сейчас тебе худо. Мечешься, мечешься по квартире…
В доме у нас не все еще было устроено после ремонта – не успели повесить картины и шторы на окна, поэтому комнаты были непривычно голые, большие. Мы пошли в гостиную и включили телевизор. Передавали из Бухареста концерт румынского джаза. Ты подошел ко мне, сел на пол у моих ног, взял мои руки в свои и сказал:
– Ну давай, Веруся, подумаем, где мы повесим картины в т воем дом е…
От этих слов мне стало так больно, так нехорошо, я поняла их смысл, но все-таки спросила:
– Почему в «моем доме»?
– Чувствую, что недолго останусь в нем… А ты будешь жить о-о-е-ей, сколько еще! Вот поэтому я так и сказал. Извини, радость моя, не хотел тебя расстраивать.
Я заплакала.
– Веруся моя, я хочу, чтобы ты привыкла к этой мысли, так тебе будет легче. Это однажды случится, не завтра, конечно, и не через месяц. Может быть, даже не через год, – стал ты меня утешать. – Я постараюсь жить еще два года… Я обещаю тебе. Два года – твердо говорю! Увидишь!
Потом вдруг сделался веселым, шутил, смеялся. Гладил мои руки. Мы слушали музыку. Вдруг ты сказал:
– Прости меня, я очень тебя мучил своей ревностью. Мне так стыдно теперь… Какой я был дурак. Ты простишь меня, простишь? Тебе ведь сейчас со мной не так трудно, правда? Ты прости меня за это дурачество, хорошо, Веруся?
И приставал ко мне до тех пор, пока я не сказала, что все забыла давно.
Поздно вечером в дверь позвонил соседский мальчик и принес тебе по ошибке попавшее к ним с газетами письмо от Яшара Кемаля. Ты обрадовался.
– Я знал, что сегодня что-то будет! Я тебе говорил!19 мая. Хиллз Родд, Кембридж 238
Мой мастер, Назым, аслан баба (отец-лев. – А. С.)! В начале месяца я уезжаю отсюда, неделю пробуду в Париже, потом перееду в Венгрию. Значит, как вы и хотели, можем встретиться в Будапеште 15 июня. Но дела прокручиваются тяжело, до сих пор мне не выслали ни приглашения, ни билета на самолет. Поскольку тот, кто обжегся на молоке, дует на воду, – а я уже ошпарился разок – опасаюсь, что нам не удастся встретиться в Венгрии, как тогда в Танзании. Скажите, где в этом случае мы сможем повидаться? Позвоните мне. Я бы хотел кое-что сказать вам при встрече, так что сейчас не буду и начинать… Если не сможете позвонить, напишите в Париж Абидин-бею, но я все-таки рассчитываю на звонок. Не знаю, слышали вы или нет, что меня и некоторых товарищей выбросили из газеты. «Джумхуриет», по-моему, перешла в руки реакционно настроенных людей, и мои дела сильно испортились. Мне кажется, ситуация в Турции довольно сложная. Там сейчас процветает страшно жестокая и оппортунистическая буржуазия. Никакой жалости у них нет! Вдобавок ко всему пришла «нота» от хозяина моего дома с требованием его освободить. Вот так, решил поехать в Европу и остался без работы, без дома. Но хватит, скоро обо всем мы обстоятельно поговорим. Думаю, что, вернувшись в Турцию, я смогу все исправить. Как дела у нашей невестки? Пишете ли вы? Получили вы мою книгу «Земля железная – небо медное»? Судя по откликам, поступающим из Турции, ее встретили лучше, чем «Тощего Мемеда». Тоскуя, целую вас и женушку, Тильда целует вас обоих.
Яшар КемальСразу звонишь, заказываешь разговор на девять утра с Кембриджем: – 47509 – Мистера Кемаля!
Вот она – сохранилась квитанция за твой несостоявшийся разговор с Яшаром.
Сколько энергии в тебе сразу появилось! Пересматриваешь всю программу дел на завтра:
– К черту врачей, надо ехать в венгерское посольство, торопить с бумагами для Яшара. Давай поедем в Будапешт раньше, через неделю. Берем Анюту из школы и едем! Там, на месте, вернее всё устрою для него. Ах, бедный сынок, бедный сынок, это они его учат. Увидели, что парень сильный, слишком независимый стал. Ничего, все у Яшара будет хорошо. Я уверен. Это уже ясно. Его талант вырос, как замечательное дерево, и люди с радостью попробовали вкус его плодов… Я очень рад, очень рад. И книжка серьезная, в ней он дальше пошел… Надо завтра отвезти ее в издательство. Пусть срочно переводят… А может, сейчас ему звонить, Вера? Нет, поздно уже, пока дадут… утро будет…
Ты говоришь, говоришь, говоришь…
Начал искать книгу Яшара и все никак не мог найти. Ая пошла спать. Ты проводил меня до спальни. Потом принес мне свежий номер «Нового мира», сам вернулся к телевизору – хотел дождаться последних известий. Через полчаса прибежал и неожиданно предложил:
– Пойдем в сквер, посидим под каштанами. Они сейчас все в цветах. Тут краской пахнет, ужасно душно.
Я посмотрела в окно – в доме напротив уже не было огней. Накинула на плечи большую шаль, сунула босые ноги в сабо, и мы пошли.Здесь, на скамье под цветущими каштанами нашего сквера мы говорили с тобой в последний раз. Грустный был, но хороший разговор… Забыть его смогу только со смертью.
– Я проживу еще два года, – упрямо сказал ты. – Я обязательно проживу. А потом ты меня не держи. Мне страшно представить себя дряхлым стариком, беспомощным, жаждущим смерти как милости. Ах, не говори ничего, милая! Твои слова как бальзам, но они – ложь, в которую ты веришь. Разве можно любить старика Лира? Я стану гораздо хуже. Ведь я не слеп, и мне вечно будет нужна моя корона – твоя любовь, и с каждым днем больше. Как сейчас. С каждым днем больше.
Ты молчал. Наверное, ждал опять моих возражений. Я не говорила ничего. Ты провел рукой по лицу и ударил в ладоши.
– В конце концов, я дурак. Я тебе надоедаю этими глупостями. Будь я последний человек, если еще раз начну об этом.
И помолчав, спросил:
– Скажи, пожалуйста, Веруся, как бы ты хотела умереть?
– Никак, – ответила я.
– Я понимаю, – ты рассмеялся. – Но придется все-таки, знаешь… Ты предпочитаешь быструю смерть или?..
– Конечно, кто не хочет легкой смерти…
– Я! – почти закричал ты. – Я!
– Как?
– Я предпочитаю умереть от рака. Медленно, все понимая, долго. Я предпочитаю умереть от рака, от блуждающего воспаления легких, от чего угодно, но медленно. Тебе очень странно?
– Очень, – ответила я.
– Если у меня будет рак, нет, я не думаю, но если так случится, ты обещаешь мне сказать, Веруся?
Я знала, если пообещаю, то выполню. Я хотела понять, во имя чего должна проявить жестокость.
– Объясни, Назым.
– Внезапная смерть – страшное предательство, это как нож в спину. Понимаешь? Я должен, я хочу знать, что умираю. Тогда я сделаю то, чего не могу сейчас, всю свою жизнь не мог. Это очень важно. Тогда все меняется. Человек тот – и уже другой. Все другое: скорость, смелость, честность, вообще всё. Иначе видится мир. Мне нужно это время перед уходом.
Ты замолчал. Молчал долго. Потом сказал:
– После моей смерти я хотел бы проснуться через полчаса, чтобы увидеть свое сердце, которое так меня мучило, и услышать твой плач…Перед уходом у меня еще так много дел,
перед уходом.
Я оленя от рук охотника спас,
но еще лежит без сознанья.
Я с ветки апельсин сорвал,
но корка еще не очищена.
Со звездами уже смешался я,
но число их еще не сосчитано.
На подносе разложены розы,
но чаша из камня не высечена.
Любовью еще не насыщена жизнь.
Перед уходом у меня еще так много дел,
перед уходом.
Господи, Назым, как много мы говорим о смерти даже сейчас. Но куда деться, если она таскалась за тобой по пятам. А ты заклинал ее: «Я проживу еще два года… Мне нужно время!»
Потом мы вернулись. На улице было уже совсем светло. Ты сидел возле моей кровати. Сон ушел из нашего дома. Ты достал из коробочки снотворное фирмы «Си-ба» и угостил меня…
Утром я проснулась раньше обычного, проснулась от солнца, ударившего прямо в глаза из незашторенного окна. В доме было тихо. Я не встала – не хотелось тебя будить. Минут через пятнадцать услышала, как в наш почтовый ящик засовывают почту – значит, 7.20 утра. Я специально сняла с ящика крышку, чтобы не гремела по утрам, но ты все равно каждое утро просыпался от возни почтальона, даже во сне боялся пропустить этот момент. Минут через пять ты вскочил и почти бегом кинулся к двери. Я хотела позвать тебя, но промолчала, решила подремать. А ты не возвращался. Прошла минута, вторая – ты почему-то не открывал входную дверь и вел себя подозрительно тихо. Я полежала еще чуть-чуть, но какая-то сила подняла меня посмотреть, где ты притаился. Встала, подумала: пить захотел или куришь. Быстро прошла на кухню. Там тебя не было. Я открыла дверь в ванную, потом в туалет. Вдруг стало страшно, так страшно, меня будто ударила сзади мощная струя горячего воздуха…
Я выскочила в прихожую и увидела тебя за вешалкой на полу. Ты сидел, прислонившись спиной к двери, опершись рукой об пол, поджав под себя одну ногу по-турецки, а вторую слегка вытянул вперед. По выражению твоего белого, непривычно спокойного лица я в первую же секунду поняла, что ты мертв.
В эту секунду мир отпустил меня. Он оглох. Я пыталась заговорить с тобой – ты не отвечал. Я поняла: все кончено. Бросилась к телефону и позвонила Тосе.
– Тося, Назым умер.
Она вскрикнула:
– Не может быть!
Я сказала:
– Подождите, сейчас я пойду посмотрю…
Положила трубку, кинулась в прихожую и снова, едва взглянув на тебя, поняла, что это правда.
Я сказала ей:
– Да, он умер.
И опять она не верила, и я опять просила:
– Подождите, я посмотрю…
Не знаю, сколько времени это продолжалось. Стоило мне выйти из прихожей, как я уже не верила в случившееся.
– Я сейчас вызову врачей! – крикнула Тося и повесила трубку.
В доме было тихо-тихо, как будто из него выкачали жизнь. Вещи потеряли весомость. Я помню, как не могла стоять на ногах. Ноги не то что меня не слушались, но они как бы вовсе отсутствовали, и я плавала по комнатам, ударяясь обо все предметы и двери, но не могла и подумать, чтобы сесть. Я все передвигалась и передвигалась, пока откуда-то не стало известно, что выехали врачи, что вызвана команда по оживлению сердца из Боткинской и «скорая помощь» из «Кремлевки».
Балконная дверь во двор оказалась с вечера открытой, и я без усилий вышла на балкон. Было светлое утро. Я помню, как меня поразило, что жизнь не остановилась – из всех подъездов нашего дома торопливо выбегали люди и через несколько мгновений исчезали в арке под нашим балконом. Дети опаздывали в школу, взрослые спешили на работу. «Они просто ничего не знают, – думала я. – Они совсем ничего не знают, в этом все дело…» Несколько раз я возвращалась в прихожую, там по-прежнему дверь нашего дома охраняла твоя скульптура, Назым. Помню, как меня удивило, что по твоим ногам расползались муаровые круги и красные пятна. Словно вся кровь твоя отливала к ногам. Я помню, как подумала, что ты очень красиво и удобно сидишь. Возможно, я даже восхищалась твоей позой, законченностью движения, силуэта. Это было безумие.
Вскоре, а быть может, и нет, я увидела, как в наш двор вползает огромный белый автобус, из него почти на ходу выскакивают мужчины в белых халатах и спрашивают, где квартира двенадцать. И тогда я крикнула им сверху, что они должны подняться к нам, в сто двенадцатую, но они мне ответили:
– Мы в двенадцатую, а к вам приедут! ждите!
Я знала, что это ошибка, но все уже покатилось вниз головой после самой неисправимой ошибки этого утра, все потеряло смысл. Я могла только ждать. Я была заперта изнутри тобой, Назым.
Потом я увидела, как эти же мужчины выскочили из первого подъезда и побежали ко мне. Через мгновенье они звонили в дверь. Я ждала их, стоя над тобой. Я сказала им, что дверь открыта, но она не поддавалась. Я объяснила им, в чем дело. Они попросили:
– Отодвиньте его!
Я сказала, что не могу этого сделать. Наконец, один из них каким-то образом просунулся в щель. Я вышла, чтобы не видеть, что будет дальше. Я слышала, как говорили:
– Он совсем теплый.
Потом кто-то из них подошел ко мне и спросил:
– Вы не знаете, у него был инфаркт?
– Был.
– Тогда ничего нельзя изменить…
Я и так знала, что ничего нельзя изменить, и их слова меня даже не тронули. Все потеряло смысл, все, все.
Потом я увидела тебя на диване в гостиной.
Вскоре приехали врачи из «Кремлевки», из той больницы, где ты лечился. Помню, как ко мне подошла женщина и спросила:
– Девушка, а где его жена?
– Это я.
– Девушка, вы меня не понимаете, очевидно. Я спрашиваю, где жена умершего? – настойчиво повторила она.
– Это я, – ответила я покорно, впервые усомнившись в том, что говорю правильно. – Я…
– Девушка, вы меня не понимаете… Я вышла из комнаты.
Через некоторое время врач снова настигла меня и стала спрашивать, как правильно пишется твое имя. Я говорила ей, но она все переспрашивала, уточняла… Это было непереносимо. Я взяла со стола книгу стихов, которая лежала там с воскресенья, и протянула ей.
Потом помню, как две женщины, приехавшие из разных больниц, узнали друг друга и стали вспоминать какую-то медицинскую конференцию, где произошел какой-то смешной случай. Обе говорили наперебой и смеялись, а ты беззвучно лежал рядом с ними, Назым. Уходя, одна из них спросила меня:
– Вы не боитесь остаться одна? А то мы можем подождать, пока приедут близкие…
– Не боюсь.
Мне было все равно, останется она или уйдет, даже хотелось, чтобы ушла…
Потом не помню, что было… Нет, помню. Крик Акпера – гортанный, сильный, очень страшный. Знаю только, что я не плакала первые полчаса этого утра.
Но ты не проснулся через полчаса не поэтому, Назым?
Вот я и рассказала тебе все. Да, только не сказала, что в прихожей у двери, где ты навечно перекрыл мне собой выход из нашего дома, рядом с твоей рукой на полу валялся ключ от почтового ящика и горел свет. Последнее, что ты успел сделать – зажег свет…Откуда вынесут мой гроб, из нашего ли двора?
И как вы меня спустите с третьего этажа?
Ведь гроб не поместится в лифте, да и нельзя,
а лестница наша узка.
И может быть, голуби будут, и солнце по грудь,
а может быть, снег, наполненный криком детей,
а может быть, дождь и мокрый асфальт вокруг,
и ящики с мусором будут стоять у дверей.
Мне на лоб упасть может капля дождя —
вода, говорят, к добру,
и будет оркестр или нет – дети ко мне прибегут,
дети покойников любят, за мною пойдут по двору.
Проводит меня наш милый балкон с бельем,
окно нашей кухни посмотрит мне вслед.
Я в этом дворе был счастлив.
Будь счастлив, мой дом,
соседи мои, желаю вам долгих лет.
Ты, Назым, Пьер, Париж, Москва – как все перепуталось в те недели 1963-го. Кого-то из вас несут на кладбище «Пер-Лашез», когото на «Новодевичье»… А вокруг повторенья… Только не чудо повторений, как ты писал, восхищаясь Бахом, а пошлость повторений… Жестокая, мстительная.
Я помню твое неподвижное лицо, выставленное напоказ. Смерть не испортила его. И вдруг легла какая-то тень, оно начало хмуриться. Кончик носа слегка опустился, и ты стал похож на турка больше, чем живой. Я оглянулась и поняла, отчего тебе становится душно. Я тихо прошу, я умоляю:
– Кончайте. Скорее. Видите, он не выдерживает!
Но меня не слышат. Предлагают бутерброд с черной икрой… Нет, Назым, я не расскажу, почему тебе стало так плохо, когда ты впервые не стоял, опершись о колонну, а подчинившись, лежал в вестибюле Дома литераторов. Я промолчу. Пусть об этом расскажет кто-нибудь другой.Завтра закончится второй год без тебя. В наш дом без звонков и предупреждений придут гости – наши друзья. Придут, потому что захотят прийти. А сегодня я хлопочу: нужно кое-что купить для стола, дом приготовить для товарищей наших… Времени у меня мало, Назым. Извини. Я должна идти.
Когда на кладбище произносили ритуальные речи – не помню. Я ждала, что все разойдутся, и мы с тобой, Назым, вернемся домой. Вокруг гроба лица, лица, лица, тысячи горестных плачущих лиц. Ты лежишь, голова на красной подушке. Такой же бездыханный, как я. Глаза закрыл, чтобы не видеть шумихи вокруг, не видеть самого себя. Звук выключен. Мы как два телепата общаемся в тишине. Прорвалось солнце, покрыло тебя золотой рябью. Я увидела твое розовое лицо. Розовое, как при волнении. Я подошла и погладила твои щеки. Они оказались теплее моих ладоней. Но тут откуда-то возникли строгие глаза Музы Павловой, и ее голос приказал убрать руки, чтобы не испортить твой грим. Я поняла, что никто нас уже не понимает, и все только мешают мне слышать, что ты сейчас хочешь от меня. Кто-то сзади обнимает за плечи железными руками и отводит от тебя. Я пячусь назад и не могу расслышать что-то важное из того, что ты сдавленным голосом говоришь и говоришь мне. И вдруг я увидела одну твою знакомую художницу, странную женщину. Она несколько раз приходила к нам с мужем, всегда, вот и сейчас в желтом платье. Звали ее Элла или Эмма – не помню. Она подошла к гробу и стала рыться, что-то искать в цветах. Рылась долго. С одной стороны, с другой стороны… Потом я ее потеряла из виду. И вдруг ее лицо оказалось прямо передо мной. Она протянула мне черную розу величиной с трость.
– Эта роза из гроба Назыма. Ты должна сохранить ее! – шелестит горячим шепотом. – Это Назым тебе посылает!
Но мои плечи и руки схвачены кем-то, кто-то крепко меня держал. Я была как кукла, механически запоминающая фрагменты печального действа. Я помню Мюневвер, стоявшую с Мемедом по другую сторону гроба. Помню, как по знаку Симонова она подошла к тебе, Назым, и поцеловала карман пиджака, куда утром я по привычке воткнула красную гвоздику. Потом к гробу рванулась невесть откуда взявшаяся Галина и страстно впилась в твои губы, оставив вокруг них жирный пунцовый след помады и обезобразив твое прекрасное лицо. Помню оцепенение, растерянность на лицах и свой безмолвный призыв вытереть твой лик. Но никто не шелохнулся, и это пришлось сделать мне. Я не прощалась с тобой, я уже знала, что для нас конца нет.
– Это Назым, Назым! посылает тебе последнюю розу! – всё шептала мне женщина в желтом платье. – Поплачь, поплачь о нем, наступило время вдовы…
И вдруг она резко оттянула ворот моего жакета и с дьявольской силой буквально воткнула в меня стебель розы, вогнала его весь под одежду. Я громко вскрикнула от боли и увидела, что в этот момент крышка гроба стала медленно опускаться на тебя. Оставалась узкая щель! Я размахнулась и бросила в эту щель мокрый от слез носовой платок. Помнишь, ты подарил мне дюжину вышитых батистовых платков со словами: «Вот, Веруся, тебе платки для слез».
Ты хотел услышать мой крик, Назым? Для этого была послана роза? Я сохранила ее.
Из всего, что было дальше, помню только крупными каплями забарабанивший по гробу короткий дождь из тучи, не закрывшей солнца. Какая-то старая женщина сказала мне, что так природа оплакивает кончину замечательного человека. Как я оказалась дома – не знаю. Я приехала с розой, вросшей в горло, в грудь, в живот. Я еще некоторое время ходила с ней, не чувствуя боли, пока не вынула ее. Она оказалась вся в крови, а у меня от горла спускался рваной бороздой черный запекшийся рубец.
Вчера к твоему зеленому холму приходили люди. Некоторых я прежде не знала. Цветы стояли плотно, как люди вокруг тебя. Одни молчали, курили, другие тихо переговаривались, не уходили подолгу. Женщины поправляли и поправляли цветы, прихорашивали, будто галстук на твоей груди. День выдался солнечный, теплый. Неподалеку за кладбищем проходили с гудками товарные поезда, и требовательный женский голос на стадионе в Лужниках приказывал в мегафон: «Вдох – выдох! Вдох – выдох! Вдох…» На кладбище нашем в этот день, слава Богу, не было похорон.
У нас, как обычно случается летом, на месяц отключили горячую воду. Соня и Витя Комиссаржевские пригласили меня помыться у них. Я плюхнулась в ванну, где Соня заботливо взбила пену, и мне стало хорошо, оттого что рядом друзья гремят чашками, устраивают маленький праздник. Дом наполняется вкусным запахом дивного Сонькиного пирога. Я радуюсь, как в детстве, и мне лень мыться. Я просто лежу. Сонька меня за дверью торопит: стол накрыт! А я лежу, и всё! И тут терпение ее лопнуло. Она ворвалась ко мне, схватила мочалку, начала тереть спину, потом повернула меня к себе и ахнула! Увидела свежий рубец через все тело. Страшно испугалась, позвала:
– Витя! Витя!
Прибежал Витя, ужаснулся:
– Роскошная линия зла!
Убежал. А Соня закричала:
– Ты с ума сошла! Смотри, как себя располосовала. Не смей! Назым бы в гробу перевернулся! Он бы тебе этого не простил! Он осуждал самоубийц! Маяковского, Фадеева, всех! Лучше измени ему! С кем попало. Есть такой способ выжить. Мерзкий, но какая разница! Жизнь человеческая дороже. У меня, когда Валерик умер… Единственный сын! Я его двадцать лет растила… Я хотела из окна выброситься. Веревку мылила! Снотворное копила, как Назым! А потом меня отправили на гастроли с концертом в глухомань. Дали одного администратора впридачу, такое дерьмо! Животное, ничтожество. Я с ним две недели, все ночи…
– Соня! Что ты несешь?! – вскричал откуда-то возникший Виктор. – Не слушай ее! Она все выдумывает! Ты что, серьезно, серьезно несла эту чушь?!
– Ну конечно, из человеколюбия, – говорит Сонька с такой непогрешимой достоверностью в голосе, что Виктор успокаивается и опять уходит. Она заматывает меня в полотенце, шепчет:
– Знаешь, в то утро, когда он мертвый лежал дома, я откинула простыню и увидела статую потрясающей красоты… Красивые ноги, руки. Все было таким красивым, что не возникало ощущения смерти, страха. Тебе, Веруся, будет очень трудно изменить Назыму…
Потом все мы идем пить бесподобный чай с пирогом. За столом сбивчиво говорим о тебе, Назым. Все время о тебе.Теперь, когда я осталась одна, и жизнь проверяет наши отношения на прочность, я хочу сказать тебе, Назым, вот что. Я ни разу не пожалела, что через десять дней после того, как мы условились в кафе «Националь», в тот январский вечер нашего бегства дождалась тебя на негнущихся ногах у края тротуара.
Мне захотелось снова взглянуть на твой свадебный подарок – тринадцать крошечных деревянных черных кошек с поднятыми хвостами. Ты говорил, что в них соберется все отпущенное на мою жизнь зло. Я пошла в спальню. Там в шкатулке кошки пролежали столько лет! Я подняла крышку. Красное шелковое дно было усеяно черными хвостами, лапами, головами, раздавленными туловищами, как будто на кошек кто-то – кто? – наступил тяжелым кованым каблуком. Я высыпала их деревянный прах на ладонь и только тогда заметила, что в углу шкатулки притаилась одна невредимая черная кошка. Я осторожно вытащила ее за хвост и увидела, что она смеется.
Да, вот хочу спросить тебя, Назым… Знаю, что не ответишь, а все-таки спрошу.
В то утро, когда тебя еще не увезли из дома, прислали за твоим паспортом. Я впервые влезла в карман твоего пиджака. Достала из бумажника паспорт, открыла его и увидела вложенную туда свою старую фотографию. Помнишь, как в 1957-м году мы обменялись портретами? Ты мне на обороте тогда конспиративно написал «Вере-дочке» и нарисовал плачущее сердце, пронзенное стрелой. А я тебе не написала ничего.
В то утро я перевернула свою фотографю и вдруг увидела на ее оборотной стороне стихи, написанные твоим мелким почерком. Теперь все думаю, Назым, когда же ты написал это? Дай знак, помоги догадаться.– Поспеши ко мне, – велела.
– Посмеши меня, – велела.
– Полюби меня, – велела.
– Погуби себя, – велела.
Поспешил.
Посмешил.
Полюбил.
Умер.
ВЕРА
Незадолго до смерти мама сказала мне: «Я очень уважаю храбрую молодую женщину, которая написала эту книгу». Она говорила, оглянувшись на себя прежнюю почти через сорок лет прожитой жизни.
В тридцать один год, похоронив Назыма Хикмета, Вера боролась с горем, отчаянием и одиночеством. Днем вокруг были люди, а мама никогда не позволяла себе слабости при чужих. Днем можно было поехать на кладбище и разговаривать там с Назымом. Я помню эти поездки, первый год мама бывала на Новодевичьем каждый день и иногда брала меня с собой. Для меня, одиннадцатилетней, это было тяжким испытанием. Сначала мы ехали на рынок, и мама сосредоточенно – ему понравится? – выбирала цветы. Потом мы ставили букет, убирали могилу. Мама гладила землю, садилась на скамейку, которой теперь уже нет. У нее делалось странное лицо, она больше не видела меня, людей, кладбища. Взгляд Веры уходил в себя, она застывала, становилась для меня чужой, незнакомой. Я понимала, что мешать ей нельзя и помочь невозможно. Просто она была где-то далеко, вместе с ним. Мне казалось, что это длилось долго-долго. Потом она возвращала себя в реальность, почти весело говорила: «До завтра, Назым». А назавтра все повторялось. Мамины дни того времени я хорошо помню. Когда я выросла и прочла Верину книгу, поняла, что спасло ее бессонными ночами, – последний разговор, который она начала тогда с Назымом и вела до последних своих дней.
Мама умерла 19 марта 2001 года. Остался дом Назыма Хикмета, который она берегла и очень любила. Остались Верины неразобранные архивы – письма, записи, сценарии, наброски, множество документов и фотографий. Я знаю, что еще совершу много открытий, когда начну разбирать эти свидетельства маминой жизни, неразрывно связанной с Хикметом. Я сделаю это, как только соберусь с силами. А сейчас я попробую рассказать о том, какой была моя мама и как сложилась ее судьба. Врать не собираюсь, ничего приукрашивать не буду. Но скажу сразу – помимо нормальной дочерней любви, Вера вызывала во мне, даже когда мы ссорились или обижались друг на друга, чувства удивления и восторга. Я узнаю это ощущение в стихах Назыма Хикмета, написанных ей. И этих чувств я вовсе не намерена прятать.
Вера родилась 19 мая 1932 года в небольшом подмосковном местечке Болшево. Маминого отца, моего деда Владимира Тулякова я никогда не видела. Он погиб на фронте в 1943 году. Вера была «папиной дочкой», она обожала отца и была очень на него похожа. Сохранилась фотография, когда они сидят щека к щеке, прижавшись друг к другу, с одинаковым выражением светлых глаз, оба с высокими скулами и правильными чертами лица. Из рассказов бабушки и мамы знаю, что Туляковы были старым московским купеческим родом, до революции весьма состоятельным и интеллигентным. Мама часто вспоминала, как любила и баловала ее бабушка Женя, принадлежавшая к обедневшей ветви знаменитого княжеского семейства. Мама гордилась этим родством. После революции у Туляковых отобрали все, и никто в семье не мог с этим смириться. Только мамин отец поверил в коммунистическую мечту, как поверил в нее тогда же Назым Хикмет. Владимир Туляков стал инженером и в командировке, в волжском городке Петровске познакомился со своей будущей женой.
Верина мама, моя бабушка Мария родилась в семье управляющего большим помещичьим имением, где было десять сыновей. Младшему исполнилось десять лет, когда Мария появилась на свет, а ее мама умерла в родах. В 1917 году большевики расстреляли моего прадеда на ступенях барского дома, где он с криком «Не дам!» пытался остановить толпу, собравшуюся для революционного грабежа. Осиротевшую девочку вырастили старший брат и мачеха. В книге своей Вера рассказала, как дядя Коля, учившийся до революции в Сорбонне, ненавидел советскую власть какой-то немеркнущей ненавистью; как навещала вместе с Назымом Хикметом и как хоронила свою любимую неродную бабушку. Когда Вериной маме исполнилось двенадцать лет, дядя Коля и мачеха признались, что они ей приемные родители, и рассказали историю семьи. С тех пор уязвимость от собственного сиротства и страх перед советской властью поселились в ней навсегда. Моя бабушка Мария переехала в подмосковное Болшево, вышла замуж, родила Веру, устроилась работать воспитателем детского дома. Мама росла в любящей семье, но в то же время и в сиротском приюте, куда ее, как потом и маленькую меня, бабушка нередко брала с собой. Я тоже отлично помню и детский дом, и детей в одинаковых темных платьицах. В 1940 году Вера пошла в школу, и в ее классе тоже оказались сироты, но только испанские – тогда в Испании шла гражданская война и один из интернатов для маленьких испанцев открыли в Болшево.
Когда война началась у нас, детский дом, в котором работала Верина мама, эвакуировали в Татарию, в деревню Солоуши. Вера рассказывала (а бабушка моя никогда не вспоминала об этом времени – не хотела), что она очень скоро заговорила по-татарски, подружилась со всеми деревенскими. Потом, вернувшись домой, мама забудет этот язык, но память сыграет с ней забавную шутку, когда при первой встрече с Хикметом тот по-турецки, обратившись к Акперу Бабаеву, короткой фразой откомментирует мамину внешность, а мама вдруг поймет эти слова. До конца жизни Вера радовалась, слыша татарскую музыку, очень любила национальное лакомство чак-чак – кусочки теста, сваренные в меду, а в хорошие минуты тоненьким голосом смешно напевала татарскую песенку «Комсомола рканырола…».
Жили они в эвакуации трудно, денег на еду не хватало. Настал момент, когда они уже поменяли на продукты все привезенные с собой приличные вещи и больше не осталось ничего. У бабушки от непрестанного стресса отнялись ноги, и все легло на мамины плечи. Вера со смехом и безо всякого драматизма рассказывала мне, как тогда распускала старые шерстяные обноски вязала из них пестрые шапочки и продавала на базаре. На том же базаре она за яйцо или кусок хлеба работала переводчиком, потому что татары не говорили по-русски, а приезжие так и не выучили татарский язык. Но скоро Вера поняла, что дальше будет только хуже. И тогда она написала письмо Сталину. Вернуться домой в военное время из эвакуации можно было только по специальному разрешению, вот об этом-то и просила мама главу государства и даже получила ответ. Потом она сокрушалась, что красивая гербовая бумага с факсимильной подписью не сохранилась. Но пропуск на возвращение в Москву все-таки удалось выхлопотать не маме, а ее отцу-фронтовику, который получил отпуск, перевез свою семью домой, а сам вернулся в часть.
Мама никогда не говорила о том, как она пережила гибель отца. Это была запретная тема. Знаю только одну историю. У Туляковых, скорее на правах родственницы, а не прислуги жила старенькая немка по фамилии Ауль, бонна, выучившая немецкому языку несколько поколений детей семьи. Когда Вера приезжала в Москву погостить у бабушки Жени, бабушка Ауль, как звалась немка, занималась и с ней. После гибели отца Вера, услышав традиционное немецкое приветствие от бабушки Ауль, сказала ей: «Никогда больше не говорите со мной на этом языке». С немецким было покончено. Когда потом Назым Хикмет отправлялся в Германию и звал Веру с собой, она отказывалась. Там, в разлуке, он написал маме знаменитый «Новый Лейпцигский цикл». И, наверное, только лет за десять до собственной смерти, когда она впервые согласилась поехать в Германию по приглашению турецкой диаспоры, Вера открыла для себя эту страну, смирилась с гибелью отца и простила немцев.
Но жизнь продолжалась. Когда бабушка выздоровела и снова начала работать, им с мамой дали две комнаты в огромном старом болшевском доме с колоннами и классическим портиком, который, видимо, был до революции чьей-то загородной дачей, а в советское время превратился в настоящий муравейник – его разгородили и заселили огромным количеством людей. Колодец на улице, печь, которую топили углем, большой куст махровой белой сирени у крыльца – я хорошо все это помню, потому что жила там у бабушки после того, как разошлись мои родители.
Перед самым окончанием войны Верина мама снова вышла замуж. Ей, как и маме, когда та овдовела, было чуть больше тридцати. Она была красива, это видно по фотографиям, но на всех снимках у нее трагический, спрятанный за парадной улыбкой взгляд. Моя бедная бабушка, любившая покомандовать окружающими, посмеяться принародно, работала с утра до ночи, тайно плакала и молилась по ночам (я не раз видела это, проснувшись) и, как я теперь только понимаю, очень боялась жизни. Наверное, ей казалось, что новый брак защитит ее. Вера рассказывала мне, как после этой свадьбы ушла из дома. Она жила в семьях своих школьных подруг, перебираясь из одного дома в другой. Нет, она не ссорилась с мамой и ее новым мужем, – она просто устранилась из их жизни. Бабушка каждый день давала ей еду и уговаривала вернуться, но Вера умела принимать бесповоротные решения. Наверное, это было одно из первых.
В 1950 году мама окончила школу и поступила во ВГИК. Ей никто не помогал готовиться в один из самых знаменитых вузов страны. Она сделала все сама. За две недели до маминой смерти мы смотрели с ней по телевизору документальный фильм о наших знаменитых киноактрисах, одна из них училась одновременно с Верой. И мама вдруг начала говорить о том, как сдавала вступительные экзамены. Тогда в нашей стране жили, в основном, скудно. И Вера вспоминала свое белое в ярко-синюю клетку платье, с невероятными трудностями сшитое специально для экзамена, вспоминала, как болшевский мальчик, с которым она тогда дружила, дал ей на счастье, как мама сказала, самое дорогое, что у него было – значок «Спартака», нашей знаменитой футбольной команды. Вера рассказывала, как заспорила с членами приемной комиссии о культовом в то время фильме «Молодая гвардия», который ей не понравился, и вдруг поняла, что значка-талисмана, зажатого в кулаке, там больше нет. И тогда она в нарядном светлом платье нырнула под длинный стол и, ползая в ногах у преподавателей, отыскала свое сокровище, сильно насмешив приемную комиссию последовавшим объяснением про «счастье» и «самое дорогое». Вместе с Верой учился Анатолий Степанов, драчун, футболист и потрясающе образованный человек. На втором курсе они поженились, и в 1952 году родилась я. Сначала мы жили в семье папиных родителей, а потом нас отселили в коммунальную квартиру на Русаковской улице, куда в поисках Веры так настойчиво звонил потом Назым Хикмет. Я смутно помню нашу единственную комнату, веселых соседей по квартире, друживших с моими родителями, студенческие компании, бабушку, привозившую из Болшева тяжелые сумки с пирогами.
В 1955 году мои родители окончили институт и начали работать редакторами – папа на киностудии «Мосфильм», а мама – на студии «Союзмультфильм», где делали замечательные анимационные картины. Мама приносила мне большие слюдяные листы с мультипликационными рисунками и с восторгом рассказывала, как на студии, сидя за своими столами в большущей комнате, одновременно гримасничают перед зеркалами множество талантливых художников, чтобы поймать и зарисовать мимику своих персонажей. Один из них, вероятно, это был Виктор Никитин, который и потом, едва ли не вплоть до маминой смерти посылал ей свои рисованные миниатюры, сделал смешной мамин портрет, где она красивая, веселая, но почему-то только с одним кокетливым глазом.
С деньгами было трудно, и мама писала статьи о кино, а папа придумывал первые свои сценарии. Меня периодически подбрасывали в Болшево к бабушке и моему неродному деду, а через некоторое время окончательно туда переселили. Родители навещали меня по воскресеньям сначала вдвоем, а потом поодиночке. Но вдруг мама уехала. А папа, приезжая в Болшево, крепко обнимал меня и не отпускал ни на шаг. Никогда я не слышала от него ни одного дурного слова о маме. Недавно я нашла такое вот письмо:Дорогие мои, мои милая мамочка, дедушка и чудесная дочура!
Спасибо огромное за письмо. Ах, Анюта, Анюта, что же это ты делаешь?! (Я, вероятно, опять заболела. – А. С.) Но я рада, что ты поправляешься и, может быть, больше не будешь болеть такими страшными болезнями. Мамочка, вы не волнуйтесь за меня, и все твои пожелания, конечно, исполнятся. Сейчас весь вопрос упирается в Толю. Если он не будет препятствовать разводу, то мы сразу же поженимся. Я думаю, что он согласится. Когда приедем в Москву, я с ним поговорю. Я знаю, что он сейчас очень переживает. Мне написала Раечка (Рая Фричинская, мамина подруга и сослуживица на студии «Союзмультфильм». – А. С.), но что же делать? Я хочу остаться с ним друзьями, но больше ничего сделать для него не могу. С ним сейчас живет Анна Ефимовна (папина мама, моя вторая бабушка. – А. С.). Мамочка, ты с ним ни о чем не говори, встречайте его, как прежде, хорошо. Очень вас прошу. Ему сейчас трудно.
Из Кисловодска мы поедем в Баку. Ведь к нам сюда приехал Юра – шофер Назыма на «Волге», и мы здесь катаемся по окрестностям и на машине поедем в Баку через Сочи. Я прочла Назыму ваше письмо, и он был просто счастлив. Он говорит, что у него есть теперь настоящая семья и хорошие родные люди. Он всех вас очень любит. В Москве мы будем жить в квартире на Новопесчаной и ездить к вам в гости. Вот, кажется, и всё. Отдыхать здесь очень хорошо. Здесь вкусно кормят, и стоит хорошая погода. Правда, Назыма часто приглашают выступать, и все встречи с ним проходят очень тепло и торжественно.
Он шлет вам большой привет и поцелуй. В Кисловодске мы пробудем до 12 числа, а в первых числах марта приедем в Москву.
Мамочка, получили ли вы посылку? <…> Дорогие мои, я вас всех очень люблю и скучаю о вас. Когда приедем – все наладится, и вы перестанете беспокоиться о своей дочке.
Целую вас крепко, ваша Веруша
26/1—60 г.А в самом низу страницы приписка, сделанная другим почерком. Буквы русские, но выписанные слишком старательно:
Дядя Назым целует вас всех родных. Спасибо что Вера существует. Назым Хикмет.
Знакомая подпись. Но между «Хик» и «мет» нарисован лихой цветочек с торчащими лепестками и двумя листочками.
«Дядя Назым» – это было имя, придуманное для меня [2] . Так я и звала Назыма Хикмета. Однажды, уже в квартире на Песчаной мы втроем завтракали на кухне. Раздался телефонный звонок, и мама вышла. Я о чем-то спросила Хикмета, по обыкновению назвав его дядей Назымом. А он вдруг очень серьезно сказал: «Анюта, а не могла бы ты называть меня папой? Давай спросим у мамы, может, она нам разрешит». Я помню, что очень растерялась и ничего не ответила. Тут вернулась Вера, и Хикмет, волнуясь (я помню, возникла какая-то нервозность за столом) повторил ей свое предложение и прибавил к нему еще какие-то аргументы. А мама четким голосом отрезала: «Папа у Анюты только один». И к этому мы больше никогда не возвращались. Потом мама говорила мне, что старалась держать дистанцию между нами – боялась, что Хикмет вытеснит из моей жизни папу. Думаю, что Вера была права, она хотела быть справедливой. Но теперь я понимаю, что Хикмет тосковал по своему сыну Мемеду, фотография которого всегда была на письменном столе в кабинете (мама убрала ее лишь через несколько лет после смерти Хикмета, когда Мемед опубликовал в Париже какие-то злые упреки в адрес отца). Наверное, ему просто хотелось слышать это слово «папа», пусть по-русски, пусть от дочери Веры.
Я помню, как познакомилась с Назымом Хикметом очень отчетливо. Бабушка впервые привезла меня на Песчаную, мама ввела в гостиную. Там возле длинного стола как бы облитый светом стоял высокий человек, улыбался мне и повторял: «Анюта! Анюта!» Я подошла, стесняясь, подняла на него глаза. А он наклонился, взял мою руку в свою очень изящным движением и поцеловал. Это был шок для маленькой советской девочки. Помню и теперь свой ужас. Видимо, он полностью отразился на моем лице, потому что мама начала хохотать и успокаивать меня. Они оба что-то мне говорили. Но в памяти до сих пор остались лишь ощущения: щекотное прикосновение щеточки его усов, легкий запах мужского парфюма, шелковистость тонкой кожи его щеки, покрытой коричневыми пятнышками. Еще я помню, как они с мамой смотрели друг на друга. Не знаю, почувствовала ли я тогда, что теперь Назым Хикмет стал главным человеком в маминой жизни. Наверное, еще не успела.
Между бесконечными поездками они иногда выбирались в Болшево навестить нас, но чаще я сама приезжала в Москву по воскресеньям или на каникулы. Бабушка торжественно объяснила мне, что Назым Хикмет – великий поэт, что он семнадцать лет просидел в тюрьме, что у него больное сердце, поэтому я не должна мешать ему. И я очень старалась быть тихой, незаметной. Это было нетрудно – в московской квартире бурлила не слишком тогда понятная мне жизнь. Дом этот был веселым и необычным. Стены кухни Назым Хикмет придумал покрасить в разные цвета: ярко-желтый и столь же ярко-оранжевый. Наверное, ему особенно хотелось южных красок во время длинной сумеречной московской зимы. А комнаты были увешаны картинами, все поверхности заполняли веселые разноцветные игрушки, привезенные из разных стран, но больше всего было столь любимых Назымом Хикметом русских глиняных расписных фигурок людей и волшебных зверей. Я с некоторой опаской передвигалась по этому пестрому дому, с готовностью мыла грязную посуду, горы которой все время вырастали на кухне, и от избытка старания то и дело в огромных количествах колотила чашки и тарелки.
Назым и Вера жили счастливо, весело. Я помню это сама. Квартира на Песчаной была гостеприимной и открытой. Все время, сменяя друг друга, приходили люди, смеялись, спорили, читали стихи. Каждый раз, когда начинались серьезные разговоры, на телефонный аппарат плотно укладывали большую подушку – так в те времена спасались от кагэбэшного прослушивания, и это был вполне обыденный и всем понятный ритуал. Мама очень вкусно готовила, любила хорошо накормить гостей, и они засиживались допоздна под низкой лампой за нашим длинным столом, который всегда ломился от еды. Люди в нашем доме и при жизни Назыма Хикмета, и после его смерти чаще всего становились откровенными, настоящими. Как-то незадолго до смерти мамы я перестилала скатерть. Она подошла, погладила полированную столешницу красного дерева и грустно сказала:
«Как жаль, что этот стол не сможет пересказать все, что услышал за долгую свою жизнь…»
А по утрам в квартире было тихо. Назым Хикмет закрывал за собой дверь в кабинет, работал. Мы говорили шепотом или вполголоса. Мама стремительно хватала телефонную трубку при каждом звонке. И тогда сразу становилось понятно, как там, в кабинете, идут дела. Если дядя Назым открывал дверь и спрашивал, кто звонил, – не очень хорошо, если то и дело приходил к нам на кухню под каким-то предлогом – совсем плохо, а если на телефон не реагировал вовсе – значит, писалось ему отлично, и потом за обедом он шутил, смеялся, радовался всему.
Чаще всего в московской квартире я заставала раскрытые чемоданы. Они либо укладывались в преддверии поездки, либо распаковывались после нее. Меня страшно смущали подарки, которые мама с дядей Назымом каждый раз привозили мне из-за границы. Ведь в Болшево я ходила в школу вместе с детьми из фабричного поселка. Тогда все у нас в стране носили совершенно одинаковые блеклые некрасивые вещи, потому что других советская промышленность не выпускала. А Назым Хикмет всегда, даже в своей домашней бежевой куртке из верблюжьей шерсти выглядел нарядным. Он и маму заставлял наряжаться, я помню, как, собираясь куда-то в очередной раз, они весело обсуждали, кому что надеть. Вот и мне они на Западе покупали яркие платья, смешные ботинки, разноцветные колготки, которых в СССР отродясь никто не видал, потому что все дети и взрослые ходили в уродливых чулках на резинках. Меня дразнили в школе: «А вот Анька в новых кальсонах заявилась!» Это было мучительно. Я плакала потихоньку, прятала красивую одежду и страдала, оттого что мы не такие, как все. По советским меркам это было стыдно, нехорошо. Наверное, каким-то образом Назым Хикмет все понял. Мама в книге рассказала историю о том, как он пристрастился воровать для меня в самолетах. Я помню те первые украденные им для меня леденцы, их вкус и счастье нашего с дядей Назымом общего секрета.
Когда праздновали его шестидесялетие, Хикмет выглядел очень счастливым, а гостей в доме стало еще больше. Я на шестидесяти листочках написала ему шестьдесят добрых пожеланий, мы с бабушкой разложили их в шестьдесят разноцветных склеенных нами конвертиков. А он, бедный, получив от меня этот пестрый ворох бумаги, покорно прочел всё. Потом долго еще отдельные мои послания обнаруживались в самых неожиданных местах.
Помню, как мама с дядей Назымом взяли меня на премьеру его пьесы «Дамоклов меч» в Театр Сатиры. Они усадили меня в ложу, а сами отправились в партер. Для СССР, где в те годы царили пуританские нравы, пьеса была крамольной. Три немолодые дамы, мои соседки по ложе, услышав со сцены слово «аборт», жутко раскудахтались прямо во время действия, обличая моих неведомых им родителей, развращающих ребенка на подобном спектакле. Но когда в антракте мама с Хикметом зашли в ложу, чтобы забрать меня, дамы онемели, открыли рты и молча проводили нас глазами. Назыма Хикмета знала тогда вся наша огромная страна.
В мае 1963 года мы втроем жили в маленьком коттедже в подмосковной Рузе, пока шел ремонт в московской квартире. Я помню то сгустившееся напряжение, о котором пишет Вера, помню, как все время дядя Назым брал мамину руку – когда она сидела или стояла рядом с ним, когда проходила мимо. Он словно пытался удержать ее и одновременно удержаться сам. Но помню, и как она сердилась, как отчитывала нас, застав за очень веселым антисанитарным занятием: у нас откуда-то взялся большой пакет грецких орехов и мы с дядей Назымом, в полном счастье сидя на крыльце, давили орехи, закрывая дверь, и тут же с пола их поедали.
Наш майский отдых подошел к концу, и я отправилась к бабушке. Но всего через несколько дней мы с ней приехали в московскую квартиру, откуда уже увезли тело Назыма Хикмета и где среди множества участливых людей была совершенно непохожая на всех Вера. Когда потом уже взрослым человеком смотрела хронику похорон Хикмета, я узнала это выражение маминого лица – оно превратилось в тонкую оболочку для горя. Помню, как на панихиде в Центральном доме литераторов, где стоял гроб с телом Хикмета, мимо которого шли вереницы людей, Вера попыталась погладить его по щеке, а тетя Тося что-то тихо ей сказала. «Нет! – шепотом вскрикнула Вера. – Нет, Тося, он совсем не холодный. Нет!» Помню Новодевичье кладбище с разрытой могилой. Кто-то показал мне красивого мальчика примерно моего возраста, стоявшего по другую сторону ямы, и сказал, что это сын дяди Назыма. И тогда я узнала его по фотографии из кабинета.
Мама осталась вдовой в тридцать один год. Она была ослепительно красива – когда мы с ней шли по улице, останавливались и долго глядели ей вслед не только мужчины, но дети и старухи. Как я теперь понимаю, сразу после смерти Хикмета на нее началась самая настоящая мужская охота. Очень долго Вера вообще не подпускала к себе никого. Но и потом ее женская судьба не сложилась, потому что никто не мог для нее выдержать сравнения с Назымом. Мама считала, что он оттуда, из-за смертного рубежа следит за ней. Помогает, когда трудно. Дает понять, когда недоволен. Мама говорила, что слышит его шаги по квартире. Он всегда был рядом с ней. И никто ничего с этим не мог поделать.
Мы очень трудно жили – денег всегда не хватало. Мама рассказала мне, что вскоре после похорон Галина Колесникова извлекла откуда-то и передала Константину Симонову давнее завещание Назыма Хикмета, согласно которому все гонорары после его смерти делились между его сыном Мемедом и турецкой коммунистической партией. Симонов ненавидел Веру, о причинах этой ненависти мама тоже написала в своей книге. Для него такое завещание было лишним способом наказать и унизить ее. Но по советским законам жена в любом случае имела право на половину наследства, и многие мамины друзья уговаривали Веру в суде отстоять свои права. Мама сказала: «Я не могу судиться с ребенком и компартией» – и оставила все как есть. А недавно я нашла в мамином архиве пачку чистых белых листков с подписью Назыма Хикмета и подумала, что на ее месте другая женщина спокойно могла написать завещание в свою пользу от его имени на любой из этих бумаг. Но только не Вера.Она ушла из АПН. Сначала была редактором в издательстве «Искусство», потом поступила в аспирантуру ВГИКа, защитила диссертацию по проблемам телевизионного многосерийного кино и осталась там преподавать. Вела сценарные мастерские с Николаем Фигуровским, Евгением Григорьевым, Одельшой Агишевым. Мама любила своих студентов, дружила с ними, кормила, утешала в неприятностях, одалживала деньги, знала их друзей и подруг, жен, детей, а порой и родителей. Но вовсе не была добренькой и сюсюкающей, умела, когда кого-то из ребят заносило, капитально прочистить мозги. У нее было чутье на талантливых людей и легкая рука. Скольким судьбам она помогла состояться… Вера заставила студента Александра Бородянского отправить на конкурс сценарий знаменитого потом «Афони». Вера посылала в Оренбург Леше Саморядову телеграммы, чтобы он все-таки явился на вступительные экзамены, а потом буквально протащила через все конкурсные испытания, которые он бы никогда не одолел без нее. Саморядов и Луцик были ее самими главными вгиковскими детьми, а нелепая Лешина гибель и внезапная Петина смерть незадолго до ее собственной – мучительным горем. Помню, как она вскоре после похорон Леши с черным лицом писала предисловие для сборника их сценариев. Помню ее глухие рыдания над некрологом о Пете.
Но зато как ликовала Вера, когда у кого-то из ее учеников выходил фильм или книга или случалось что-то хорошее в жизни. До сих пор мне звонят ребята и, приглашая на свои премьеры, говорят: «Вот бы Вера порадовалась!»
У мамы был замечательный талант угадывать драматургию жизненных ситуаций – от бытовых до бытийных. Она вообще радовалась жизни и относилась к ней с веселым любопытством. Недели за две до смерти, когда врачи нам сказали, что больше не могут ничего сделать, мама на кухне смотрела какие-то теледебаты. Я, пытаясь не разрыдаться, в раздражении спросила, как можно сейчас смотреть всю эту чушь. Она с удивлением подняла на меня глаза: «Как ты не понимаешь? Ведь интересно же, что будет дальше!»
Любопытство к жизни толкало Веру на всякие профессиональные авантюры. Она писала сценарии для телевидения, в том числе и для знаменитой программы «От всей души», какое-то время в кадре вела программу о кино, ездила по всей стране с лекциями от общества «Знание» и даже летала к нашим зимовщикам на Северный полюс. В 1998 году, за три года до смерти, Вера (каким-то чудом, потому что у нас не было ни собственных средств, ни спонсоров, а были рядом только хорошие люди, верившие и помогавшие маме) открыла свою Независимую школу кино и телевидения, одну из первых частных профессиональных школ для взрослых в нашей стране. Школа тогда стала нашей семьей, собственно, там и подрастала моя дочь Катя, которая теперь так похожа на бабушку. Но во ВГИКе, переживающем не лучшие времена, многие коллеги не смогли простить Вере ее Школы. И она ушла из своего института от косых взглядов, перешептываний за спиной, от фраз вроде той, что обронил ей Валентин Черных, с которым мы прежде дружили домами: «Я более не числю тебя среди своих друзей».
Даже в самый разгар бед и безденежья мама высоко держала голову и переступала порог нашей квартиры с обворожительной улыбкой, оставляя дома слезы, растерянность и слабость. И все окружающие были твердо уверены, что Вера невероятно богата, благополучна и счастлива. У мамы был чудесный дар превращать одно и то же платье с помощью броши, шарфика или воротничка в разные элегантные туалеты. Она по-прежнему была женой Назыма Хикмета и каждый день соразмеряла себя, свою жизнь, свои поступки со стихами, написанными ей когда-то.
В нашем доме побывало множество людей из Турции. Турки приходили, волновались, кто-то плакал, кто-то гладил украдкой край письменного стола, пишущую машинку, на которой Назым Хикмет писал стихи. Вера принимала гостей, поила чаем, отвечала на вопросы. А проводив их, долго не могла успокоиться. Каждый раз в ней поднималась тоска, каждый раз обострялось горе разлуки. Но самым тяжелым днем в году в нашем доме было 3 июня, день смерти Назыма Хикмета. Лицо Веры застывало как тогда, в 1963 году, на похоронах. Она сторонилась прихожей, где он умер. И не помогала ни поездка на кладбище, ни собиравшиеся вечером их общие постаревшие друзья, которых год от года становилось все меньше.
Вера была очень сильным человеком. Она боролась с раком и, к изумлению врачей, отвоевала себе полтора года жизни взамен обещанных четырех месяцев. Никто не знал о маминой болезни, о мучительных процедурах, переносимых ею стоически, потому что она была по-прежнему весела, общительна, остроумна. Последний раз на занятия в свою Независимую школу Вера пришла за десять дней до смерти. А потом начался ее уход.
Тогда в изголовье своей кровати Вера поставила три маленькие смешные моментальные парижские фотографии, где они вдвоем с Назымом счастливы и валяют дурака перед объективом. Надела на палец привезенное кем-то из Турции серебряное кольцо с выгравированной на нем подписью Назыма Хикмета. Последней книгой, которую мама так и не дочитала, стала изданная у нас переписка Лили Брик и Эльзы Триоле, которая в одном из писем рассказывала сестре о визите в их с Арагоном парижский дом Назыма Хикмета с молодой женой. Дня за три до кончины, когда мама уже почти не говорила и не осознавала происходящего, я подошла к ней и увидела, что она горько плачет. Совсем как ребенок. Я спросила, в чем дело. И вдруг она отчетливо сказала: «Забыла, забыла…» – и заплакала снова. Не знаю как, но я почему-то поняла сразу. «Ты забыла его имя? Назым Хикмет». И лицо Веры вдруг стало счастливым. Это был наш последний разговор с мамой, и это была ее последняя улыбка, обращенная не ко мне – к нему.
На мамины похороны пришли и ее коллеги, и ее ученики. Было много народу и несколько съемочных групп из Турции. Мне потом показали эти записанные репортажи, прошедшие по всем турецким центральным телеканалам. Отпевал маму в Сретенском монастыре его настоятель, отец Тихон, бывший когда-то Вериным студентом Гошей Шевкуновым, к которому она ездила в Псково-Печерскую лавру в безуспешной попытке отговорить его от пострига. Солнечные лучи в храме падали на мамино лицо. Было красиво, печально и торжественно. А панихиду в Доме кино я помню совсем плохо, как в тумане. Но точно знаю, что там Юрий Николаевич Арабов говорил про Веру что-то очень важное, что-то главное, что-то точное… Все хочу у него спросить: что? – и не могу почему-то.
Жизнь иногда играет в странные игры, повторяя какие-то ситуации. Я переехала от бабушки к маме в московскую квартиру пару лет спустя после того, как Вера осталась одна. Всю жизнь с небольшими перерывами на два моих неудачных замужества я прожила в кабинете Назыма Хикмета, где и теперь пишу эти строки. Сейчас глубокая ночь, за окном спит темный город. И как когда-то моя блистательная Вера записывала за этим длинным столом свой нескончаемый разговор с Назымом, я пишу о ней, вернее, о них обоих. Скоро настанет суббота, и я опять поеду на кладбище, где на могиле стоят уже два черных камня – большой с силуэтом Хикмета и маленький с именем Веры, словно выведенном его собственной рукой. Теперь они снова вместе. Порой мне кажется, что они продолжают свое тайное существование в нашем доме, где жили счастливо и оба умерли с любовью друг к другу – сначала он, а тридцать восемь лет спустя и она.
Анна Степанова
Примечания
1
Подстрочный перевод стихотворения Пабло Неруды.
2
Надо сказать, что в те годы дети традиционно звали взрослых «дядями» и «тетями». Так было и у нас: «тетя Тося» – Сверчевская, «дядя Акпер» – Бабаев, «тетя Соня» – Сайтан. И только вальяжного и велеречивого Комиссаржевского мой детский язык не поворачивался величать «дядей Витей», а потому он никак и не звался.