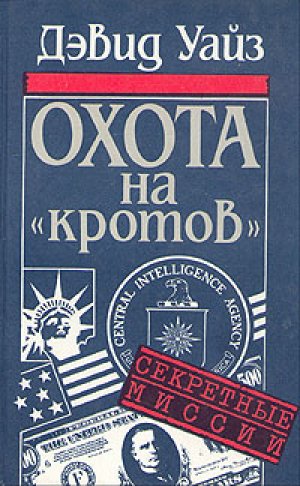
ГЛАВА 1
Бегство из Хельсинки
Смеркалось. До Рождества оставалось десять дней. Белый хрустящий снег покрывал Хельсинки. Фрэнк Ф. Фрайберг, резидент Центрального разведывательного управления, брился, готовясь к праздничному коктейлю, когда у входной двери его дома в Вестэнде, расположенном в четырех милях от столицы Финляндии, зазвонил колокольчик.
Поскольку лишь небольшому кругу лиц было известно, где живет резидент ЦРУ, он, слегка озадаченный и настороженный, подошел к двери и открыл ее. На пороге стоял запорошенный снегом невысокого роста коренастый человек с рыжеволосой женщиной и маленькой девочкой, прижимавшей к себе куклу. Русская меховая шапка почти скрывала темные волосы мужчины.
— Известно ли вам, кто я? — спросил мужчина.
— Нет, — ответил Фрайберг.
— Я — Анатолий Климов.
Сотрудник ЦРУ открыл дверь пошире и быстро впустил семью. Ему было хорошо известно имя Климова, сотрудника КГБ, работавшего под дипломатическим прикрытием в советском посольстве в Хельсинки. Фрайберг даже когда-то изучал фотографию Климова, но не узнал его в пальто и меховой шапке, стоящего в темноте на пороге дома.
В гостиной двое мужчин с трудом старались преодолеть языковой барьер. Русский не переставал повторять одно слово, которое звучало для Фрайберга как «асул». Фрайберг говорил на двух языках — английском и финском. Его родители эмигрировали в Америку из Финляндии, поселились в финской общине в Вестминстере, на севере центральной части штата Массачусетс, где он и родился. Но русского языка он не знал. Человек же из КГБ не говорил по-фински, а только на ломаном английском.
В конце концов Фрайберг дал русскому карандаш и лист бумаги, и тот написал по-английски «asyl».
Теперь ошибки быть не могло. Майор КГБ Анатолий Климов пытался написать по-английски слово «asylum» (убежище).
Фрайберг, который был дома один — его жена уехала к родственникам в США, — неожиданно получил советского перебежчика со всей семьей. И не простого перебежчика, а сотрудника КГБ, мечту всех работников ЦРУ. Речь не шла о том, чтобы Климов оставался агентом на месте, информируя ЦРУ изнутри самого КГБ; русский, боявшийся за свою жизнь, дал Фрайбергу два часа, чтобы тот вывез его из Хельсинки. По истечении этого времени, предупредил Климов, КГБ заметит исчезновение и попытается воспрепятствовать побегу.
Русский также раскрыл резиденту свое настоящее имя. Он был не Климов, а Анатолий Михайлович Голицын.
К моменту появления Голицына Фрэнк Фрайберг уже десять лет проработал в ЦРУ. Он был среднего роста, темноволосый, с голубыми глазами — ничем не выделяющийся человек, если не считать большого шрама на левой щеке, приобретенного в Гарварде. Он работал на ЦРУ в Швеции под прикрытием торгового атташе, разъезжал по всей Европе под видом агента по продаже товаров. В 1957 году ЦРУ направило его в Финляндию под дипломатическим прикрытием, с начала 1961 года он стал резидентом.
Итак, в сорок девять лет Фрайберг усердно трудился в тени незаметного аванпоста ЦРУ — в резидентуре, значение которой определялось ее географическим местоположением на периферии советской державы. Переход Анатолия Голицына стал главным событием в его карьере разведчика, и спустя годы он без труда вспоминал все подробности.
«Я знал, что это была крупная добыча, — рассказывал Фрайберг. — После перехода Дерябина в 1954 году[1] у нас не было никого, кто мог бы с ним равняться по положению». «Мы поддерживали связь с Голицыным», — добавил он. В конце концов тогда, в разгар «холодной войны», ЦРУ всегда было готово к потенциальной вербовке советских людей. «Мы поручили одному сотруднику, который был связан с Голицыным по визовым вопросам, побольше разузнать о нем. Мы знали, что Голицын — сотрудник КГБ, бескомпромиссный человек, и полагали, что здесь у нас нет шанса склонить его к переходу на нашу сторону. Фактически мы считали, что он будет последним из тех, кто мог решиться на такой шаг».
И вот теперь Голицын объяснял Фрайбергу свои мотивы. Он сыт по горло КГБ. У него большие нелады с начальником В. В. Зениховым, резидентом КГБ в Хельсинки. «Голицын был сотрудником контрразведки, — объяснял Фрайберг. — В его задачу входила работа по главному противнику — США, Англии и Франции. Он поведал мне, что Зенихов не понимал самой сути контрразведки. И его переход послужит тому хорошим уроком. Голицын так страстно желал свести счеты с КГБ, что это желание определило всю его дальнейшую жизнь».
«Он сообщил, что начал планировать свой побег заранее, за год-полтора до того, как предпринял этот шаг. Он открылся своей жене только полгода назад, и они договорились подождать приезда дочери. Она училась в школе в Москве».
Резиденту ЦРУ следовало поторопиться. В тот вечер был восьмичасовой авиарейс на Стокгольм. Фрайберг срочно позвонил Стивену Уински, молодому сотруднику ЦРУ. Тот приехал к нему домой, взял паспорта Голицыных, вернулся в консульство и проставил американские визы. Уински нетрудно было это сделать — он работал под прикрытием вице-консула в посольстве.
«Когда мы были готовы отбыть в аэропорт, — рассказывал Фрайберг, — Голицын подбежал к обочине подъездной дороги и недалеко от того места, где она выходила на улицу, выкопал из снега пакет». Голицын сообщил Фрайбергу, что в этом пакете, который он закопал в снег перед тем, как позвонить в дверь, находятся документы — ему удалось взять их, когда он уходил из посольства. Всю дорогу Голицын не расставался со своим пакетом и не показал его содержимое резиденту.
По пути в аэропорт Фрайберг встретился с Уински, который передал ему паспорта. Голицын нервничал все сильнее. «Мы выехали с ним спустя два часа с небольшим, — говорил Фрайберг. — Я взял билеты на коммерческий рейс и вывез его под фамилией Клеменц, воспользовавшись его русским паспортом с визой США. Ни у кого это не вызвало никаких вопросов, так как названная мною фамилия очень походила на его «настоящую» фамилию «Климов».
Фрайберг, несомненно, предупредил обо всем штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли (штат Вирджиния), где известие о скором прибытии высокопоставленного советского перебежчика стало вдохновляющей и крайне важной новостью. Всего лишь за восемь месяцев до этого, после грандиозного провала в заливе Кочинос, ЦРУ, познавшее пору расцвета в 50-х годах при оборотистом, курящем трубку мастере шпионажа Аллене Даллесе, подверглось жестокой чистке.
Операция, неумело проведенная ЦРУ на побережье Кубы, не только не привела к свержению Фиделя Кастро, но и вызвала гибель 114 кубинских беженцев; была взята в плен большая часть личного состава, оставшегося от бригады, насчитывавшей 1500 человек. Эти действия поставили президента Джона Кеннеди, находившегося у власти всего лишь три месяца, в крайне затруднительное положение. Он унаследовал эту тайную операцию от своего предшественника Дуайта Эйзенхауэра, но именно он дал «добро» на вторжение на Кубу и понес всю ответственность за его провал. Кеннеди оказался в очень невыгодном положении на встрече в верхах в Вене в июне 1961 года с советским лидером Никитой Хрущевым, который грубо обошелся с молодым президентом.
За три месяца до появления Голицына на пороге дома Фрэнка Фрайберга в Хельсинки Кеннеди заменил Даллеса Джоном Маккоуном, бизнесменом с миллионным состоянием из штата Калифорния. Ричард Бис-сел-младший, разработчик вторжения на Кубу, возглавлявший директорат планирования, все еще оставался на посту заместителя директора по планированию, но вскоре его должен был сменить его заместитель Ричард Хелмс[2].
Хотя в штаб-квартире с нетерпением ждали прибытия перебежчика, Фрайбергу и Голицыну предстояло пройти не одно испытание на пути в Вашингтон. Когда они прибыли вечерним рейсом в Стокгольм, выяснилось, что им необходимо переехать в другой аэропорт, расположенный к северу от столицы Швеции, чтобы попасть на самолет, вылетавший в Нью-Йорк. Голицын, оцепеневший от страха быть схваченным КГБ, отказался ехать в другой международный аэропорт. Следующий самолет вылетал из Хельсинки, и Голицын опасался, что на его борту могут оказаться сотрудники КГБ.
Обдумывая свой следующий шаг, резидент и его подопечные обосновались на конспиративной квартире в Швеции и провели там около двух дней. Наконец Фрайбергу удалось позаимствовать самолет атташе ВВС США, чтобы переправить на нем Голицына с семьей во Франкфурт. Тем временем управление безопасности ЦРУ направило группу из трех человек во главе со Стэнли Лэчем охранять перебежчика. К моменту прибытия Голицына во Франкфурт люди из управления безопасности, хотя Фрайберг их и не видел, были уже на месте.
Во Франкфурте Фрайберг и Голицын поднялись на борт самолета ВВС, который должен был доставить их в США. Это был «Либерейтор» («Освободитель»), старый бомбардировщик времен второй мировой войны, и после получаса полета на высоте 8000 футов дочь Голицына, плохо переносящая высоту, стала задыхаться. Фрайберг приказал летчику вернуться во Франкфурт, где он заказал билеты на коммерческий рейс американской авиатранспортной компании «Пан-Америкэн» через Лондон в Нью-Йорк. Потребовалось задержаться еще на один день, чтобы ЦРУ выправило новый паспорт для Голицына на другое имя.
Фрайберг и Голицыны вылетели затем в Лондон. Как только они приземлились, сотрудники английской Службы безопасности окружили самолет, чтобы обследовать его в связи со слухом о том, что на его борту находится бомба. Фрайбергу удалось убедить англичан оставить Голицыных в самолете, тогда как все другие пассажиры покинули салон. В конце концов воздушный лайнер вылетел в Нью-Йорк, но одиссея перебежчика, а заодно и Фрайберга на этом не закончилась. Плотный туман окутал Нью-Йорк, и самолет вынужден был взять курс на Бермуды. Еще большая группа сотрудников безопасности ЦРУ ринулась на остров, где Голицын оставался всю ночь.
На следующий день Фрайберг и Голицын наконец-то вылетели в Нью-Йорк. «К этому моменту я был сыт по горло этими самолетами, — вспоминал Фрайберг. — Мы поехали на вокзал и сели на поезд до Вашингтона».
Там их ждало знакомое лицо. «На Юнион-стейшн нас встретил Стимбоут Фултон, оперативный сотрудник, знавший Голицына. Его настоящее имя было Роберт. Он проработал со мной два года в Хельсинки. Встречался с Голицыным на нескольких дипломатических приемах». Русского. с семьей привезли в конспиративный дом на севере штата Вирджиния. Обессилевший Фрайберг снял номер в гостинице «Кей Бридж Мэриот».
Задача резидента заключалась лишь в том, чтобы увезти Голицына из Хельсинки и подальше от КГБ, не подвергая его опасности. Но, естественно, во время своего показавшегося бесконечным четырехдневного путешествия в Вашингтон этим людям пришлось беседовать друг с другом. Английский язык Голицына, все еще неуверенный, по мере практики улучшался.
То, что говорил Голицын, было лишь слабым штрихом, но и по отдельным фразам можно было судить о том, что им будет сказано впоследствии. На Бермудских островах Голицын сказал, что Голда Меир, в то время министр иностранных дел, а позднее — премьер-министр Израиля, — агент КГБ. «Он сказал, что одно очень важное лицо из Израиля находилось в 1957 году в Советском Союзе. У него сложилось впечатление, что этот израильтянин — агент КГБ. Он решил, что это Голда Меир, так как в то время она была единственным представителем Израиля, находившимся в Советском Союзе».
Фрайберг, вполне понятно, заключил, что Голицын склонен повсюду видеть шпионов, хотя он был, возможно, не столь бдителен, как тот сотрудник КГБ, который возглавлял службу безопасности в советском посольстве в Хельсинки. «Голицын сообщил мне, что этот сотрудник подозревал даже кошку, которая постоянно лазила через оконную решетку. Так или иначе, этот парень полагал, что кошку используют как средство проникновения в систему безопасности нашего посольства»[3].
За эти четыре дня путешествия с Голицыным резидент заметил кое-что еще. «Он иногда путал имена. Например, он назвал мне имя одного действительно выдающегося финна, которого спутал с одним ортодоксальным финским коммунистом. У них были одинаковые фамилии — Туоминен. Пойка Туоминен, как планировалось, должен был стать премьер-министром Финляндии после советского вторжения в военную зиму 1939 года, но он не смог пережить этого и бежал в Швецию. Ерикки Туоминен был начальником финской полиции безопасности и коммунистом. Его выслали приблизительно в 1949 году как советского осведомителя. Голицын же сказал, что плохим был Пойка, а на самом деле это был Ерикки».
С самого начала Голицын был трудноуправляем. «Он был упрям, — заявил Фрайберг, — и не любил, когда с ним не соглашались. Он упрямо твердил, что не хочет встречаться ни с кем, кто говорит по-русски. Он страшно боялся любого говорящего по-русски».
Очевидно, у Фрайберга были свои личные опасения. Но как только Голицын прибыл в конспиративный дом в Вирджинии, с этим русским стали обращаться по-королевски. Его рассматривали как источник особой важности, и соответственно его посещали высшие должностные лица. В самом начале опроса Голицына к нему приезжал заместитель Маккоуна генерал Чарльз Кэйбелл в сопровождении Джона Мори-младшего, начальника отдела по делам Советского Союза.
Первоначально Голицыным занялся советский отдел, что было обычным явлением, когда ЦРУ получало советского перебежчика. Но с самого начала за опросом Анатолия Голицына пристально следил Джеймс Энглтон, начальник контрразведки ЦРУ, который имел полный доступ к магнитофонным записям. В конце концов советский отдел фактически передал перебежчика Энглтону — решение, которому суждено было иметь важные последствия для ЦРУ и будущего американской разведки.
Причина жгучего интереса Энглтона к Голицыну была очевидной. Ею служила основная задача шефа контрразведки — помешать любому «кроту» КГБ проникнуть в ЦРУ. Когда советский перебежчик прибыл в Лэнгли, ему, как всегда, задали традиционный вопрос: известно ли ему что-нибудь о проникновении в ЦРУ?
Если бы КГБ удалось внедрить в ЦРУ «крота» на достаточно высоком уровне, Москва заблаговременно знала бы о тайных операциях этого ведомства. КГБ контролировал бы ЦРУ, которое и не подозревало бы об этом. Это был тот кошмар, которого более всего боялись Энглтон и другие должностные лица ведомства.
И Голицын усугубил эти страхи. Фрайберг вспоминал: «Он сказал, что видел материалы с грифом «совершенно секретно» в штаб-квартире КГБ, которые могли поступить только из секретной сферы ЦРУ. Откуда-то «сверху»».
Намек был ясен и вселял страх. Если Голицын прав, то у КГБ есть свой агент в ЦРУ. Когда Голицына попросили назвать имя, дать описание, хоть какую-то зацепку — ну хоть что-нибудь, он с трудом смог дать лишь отрывочные сведения.
«Крот», заявил он сотрудникам ЦРУ, проводившим его опрос, человек славянского происхождения, его имя, возможно, оканчивается на «ский». Он работал в Германии. Его псевдоним в КГБ был «Саша».
И Голицын сообщил еще кое-что: настоящая фамилия «крота» начиналась с буквы «К».
ГЛАВА 2
Главный подозреваемый
В фильмах о Джеймсе Бонде технический специалист, который экипирует этого вымышленного шпиона всеми экзотическими техническими новинками, известен просто как «Q» (кыо).
На самом деле в ЦРУ такому описанию американского «Q» почти наверняка больше всего соответствовал бы С. Питер Карлоу. Он с почетом служил в Управлении стратегических служб (УСС), предшественнике ЦРУ военного времени. После войны Карлоу поступил на работу в новое Центральное разведывательное управление. Для Карлоу, как и для многих других, кто вел тайную войну в УСС, притягательность нового ЦРУ — места продолжения все той же тайной борьбы в период «холодной войны» — была почти непреодолимой.
Несмотря на отсутствие научной или технической подготовки, Карлоу всегда интересовался техническими вопросами. Он понимал, что у неоперившегося разведывательного ведомства нет современной сложной техники, необходимой для обеспечения его шпионов. Микрофоны, камеры, магнитофоны, радиоустройства — все было исключительно громоздким. Особенно ЦРУ ощущало отсутствие качественных подслушивающих устройств. Карлоу понимал, что надо было предпринимать что-то серьезное, чтобы довести до современного уровня шпионскую организацию Америки.
Поставив перед собой эту цель, Карлоу обратился в новое ведомство вскоре после его создания в 1947 году.
Руководители ЦРУ нашли его доводы весьма убедительными. «Я сказал, что в ходе второй мировой войны мы в основном полагались на английскую технику. Почему мы, являясь величайшим технологическим обществом мира, не можем изготовить свои собственные средства?» Карлоу предложил сногсшибательную программу разработки технических новинок с использованием высоких технологий.
«Меня сделали начальником службы специального оборудования. Мы принялись за решение таких проблем, как съем информации посредством измерения вибраций с оконного стекла. В те времена мы не могли этого делать. Состояние технических средств наблюдения было жалким. Оперативные сотрудники направлялись за границу без малейшей технической подготовки либо с весьма незначительной. Это было сплошное расстройство».
Усилия Карлоу улучшить технические возможности ЦРУ наталкивались на обычные бюрократические препоны вплоть до 1949 года, когда он получил помощь с совершенно неожиданной стороны. Питер Сайчел, начальник берлинской «базы», впоследствии ставший широко известным знатоком и производителем вин, как-то, вернувшись в штаб-квартиру ЦРУ, обратился к техническим специалистам управления с просьбой изготовить полые кирпичи, чтобы можно было использовать их в качестве тайников, к которым шпионы часто прибегают для связи со своими агентами[4].
«Технические специалисты поинтересовались, как выглядит немецкий кирпич, — вспоминал Карлоу. — Нам нужно было знать точные размеры и форму немецкого кирпича. Сайчел пришел в ярость». Этот случай подтвердил точку зрения Карлоу, что ЦРУ нуждалось в лучшем техническом обеспечении всех своих тайных операций. И именно тогда Хелмс сказал: «Поезжай в Германию и организуй лабораторию».
В то время Ричард Хелмс был начальником иностранного отдела «М», который стал восточноевропейским (ЕЕ) отделом ЦРУ[5].
Карлоу обрадовался. Несмотря на то что родился в Нью-Йорке, он провел часть своих детских лет в Германии и хорошо владел немецким языком. Вскоре после наступления нового, 1950 года он прибыл в резидентуру ЦРУ в Карлсруэ, расположенный к югу от Франкфурта. За полгода он организовал свою лабораторию в ничем не приметном скоплении неотделанных домов в Хёхсте, пригороде Франкфурта.
«Дик послал меня в Германию выяснить, что нужно для отправки агентов в Восточную Европу», — говорил Карлоу. В этот период восточноевропейский отдел пытался внедрить своих агентов в страны советского блока. Отдел Советской России ЦРУ планировал параллельную операцию по забрасыванию агентов на советскую территорию с воздуха. «Мы занимались ружьями, замками, личными документами. Мы изготовляли средства, необходимые для направления людей в запретные зоны, — говорил Карлоу. — Одежда с подлинными ярлыками, личные документы, членские профсоюзные билеты, трудовые книжки, продовольственные карточки».
ЦРУ получало все это от беженцев с Востока, обменивавших свои личные документы. Карлоу вносил в них изменения, изготавливая, как он называл, «новые оригиналы». В целях прикрытия ЦРУ присвоило группе сотрудников Карлоу, изготавливавших фальшивые документы, и типографских рабочих название «7922-й отряд технических средств армии США». Это подразделение готовило также документы из той самой немецкой бумаги, которую вывозили и использовали страны Восточной Европы. «Мы должны были знать, когда менялся цвет бумаги документов, печати и т. п. Чтобы документы имели естественный подержанный вид, мы ходили по ним босыми ногами, носили в задних карманах. Все это представляло собой реквизит. Именно этим я и занимался. Реквизитом».
Некоторые проблемы, с которыми сталкивался Карлоу, казались неразрешимыми. Например, в определенных случаях оперативным сотрудникам ЦРУ, работавшим «в поле», требовалось проявить пленку на свету. Можно ли это было сделать? Карлоу отправился в корпорацию «Полароид», основатель которой Эдвин Лэнд помогал в разработке самолета-шпиона «У-2» и съемочной аппаратуры для ЦРУ. Карлоу в общих чертах изложил проблему, и технические специалисты «Полароида» нашли очень простой выход. «Они посоветовали взять две химические упаковки, входящие в комплект с пленкой, выпускаемой корпорацией «Полароид», выбрать потемнее место и протянуть непроявленную фотопленку между упаковками. Это сработало!»
Но так было не всегда. В 1952 году, по словам Питера Сайчела, «был получен приказ выкрасть у русских МиГ». Первое задание поступило в ЦРУ из ВВС, которые страстно желали приобрести последнюю модель самолета-истребителя класса МиГ — МиГ-15. Для выполнения этого задания ЦРУ завербовало агента — опытного пилота, никогда не летавшего на МиГе.
«Этим агентом был чех с парализованной рукой, — сообщил Карлоу. — Взамен мы пообещали ему хирургическую операцию руки».
Техническое обеспечение этой программы поручили Карлоу. ЦРУ планировало угнать МиГ-15 из Восточной Германии и переправить через границу на западногерманский аэродром, где у ВВС США находились спрятанный самолет и команда, готовая разобрать МиГ, погрузить на самолет и транспортировать разобранные части на военно-воздушную базу Райт-Паттерсон в штате Огайо. «Мы нашли уязвимый аэродром в Восточной Германии, но агенту-чеху надо было перерезать колючую проволоку, по которой был пропущен ток. Мы изготовили бесшумно действующие ножницы, при помощи которых он мог бы перерезать проволоку, не получив удара током, и проникнуть на территорию аэродрома. На каждой стороне лезвия ножниц мы поставили винтовые зажимы, которые удерживали проволоку при ее перерезании. Мы также снабдили агента пистолетом с глушителем».
Чтобы облегчить подготовку агента-чеха, Карлоу попросил построить макет кабины пилота МиГ а. Сначала Карлоу пришлось угадывать, где могли бы находиться различные рукоятки и рычаги. «Затем мне дали больше данных, и мы изменили расположение рукояток. Нам надо было знать, как выглядела кабина, потому что нашему агенту отводилось лишь 30 секунд для угона самолета».
Но прежде пилота привезли на аэродром в английской зоне Западной Германии «и проверили на «Вампире», который он никогда ранее не видел». Агент успешно взлетел и хорошо пилотировал самолет.
Все было готово к осуществлению плана угона МиГа, по словам Карлоу, когда генерал Уолтер Беделл Смит, директор ЦРУ, вызвал ответственных за операцию сотрудников резидентуры в Вашингтон. Смит поинтересовался, где пилот проходит подготовку к выполнению задачи. «Когда ему сказали, что подготовка проходила на американской авиабазе в Германии, — вспоминал Карлоу, — Смит отменил операцию. Никто не мог отделаться от мысли, что угон русского самолета может положить начало третьей мировой войне. Если бы пилота поймали, первое, о чем бы его спросили, — где он готовился к операции. Связь с Соединенными Штатами обнаружилась бы моментально».
Карлоу провел в Германии шесть лет, возвратился в штаб-квартиру, где стал работать на Хелмса в отделении психологической войны восточноевропейского отдела. Позднее, после венгерского путча 1956 года, его назначили заместителем начальника отдела экономических мероприятий — еще одного подразделения в директорате планирования, занимающегося психологической войной.
По прошествии трех лет ему наконец представился случай заняться миниатюризацией съемочной аппаратуры, передатчиков и другой техники шпионажа. «Почему мы не можем иметь передатчик в оливке, плавающей в мартини?» — задал вопрос Карлоу[6]. Его сетования были услышаны, и в том же году Карлоу организовал и возглавил в качестве секретаря совет технических рекомендаций ЦРУ.
Совет занимался разработкой методов установки устройств съема информации с электрических пишущих машинок, позволяющих перехватывать печатаемые слова электронными средствами на определенном расстоянии. Также был разработан миниатюрный передатчик, который можно было устанавливать за приборным щитком автомобиля и таким образом вести за ним дистанционное наблюдение.
Но усерднее всего технические специалисты ЦРУ занимались игрой в догонялки с КГБ: они тщетно пытались воспроизвести необычное, исключительно сложное подслушивающее устройство, которое Советы использовали против Соединенных Штатов с губительными для США последствиями. В этом устройстве была применена технология, не встречавшаяся ранее, и ученые ЦРУ испытывали затруднения в ее расшифровке.
В 1945 году Советы преподнесли послу США Аверел-лу Гарриману в Москве вырезанный из дерева герб Соединенных Штатов. Полая деревянная копия украшала стену при четырех послах США, и только в начале 50-х годов специалисты посольства по обнаружению скрытых электронных средств подслушивания обнаружили установленное в ней подслушивающее устройство[7].
«Мы нашли его, но не знали принцип его действия, — вспоминал Карлоу. — В гербе находилось пассивное устройство, похожее на головастика с маленьким хвостом. У Советов имелся источник излучения микроволнового сигнала, который заставлял рецепторы внутри герба резонировать». Голос человека, возможно, влияет на характер резонансных колебаний устройства, позволяя осуществлять перехват слов. «С технической точки зрения это устройство пассивного типа: ни тока, ни элементов питания, одно лишь пожизненное ожидание».
Работы по получению копии советского «жучка», найденного в гербе, получили кодовое название «Удобный стул». Фактическое исследование велось в одной из лабораторий в Нидерландах по линии двух сверхсекретных проектов под кодовыми названиями «Отметка 2» и «Отметка 3».
Втайне от Карлоу и ЦРУ английская разведка успешно скопировала советское подслушивающее устройство, которому МИ-5 — английская служба внутренней безопасности — присвоила кодовое название «Сатир». Бывший сотрудник МИ-5 Питер Райт в своей книге «Охотник за шпионами» пишет, что вначале он подумал, что устройство включается от сигнала частотой 1800 мГц, потом попробовал снизить ее до 800 мГц — устройство сработало[8]. Но, по словам Карлоу, англичане не сообщили об этом ЦРУ[9].
Работа Карлоу над «Удобным стулом» должна была иметь неожиданные последствия. Когда Анатолий Голицын откопал свой пакет из сугроба перед домом Фрэнка Фрайберга в Хельсинки, в нем находился один технический документ КГБ, в котором содержалось предупреждение о том, что ЦРУ работает над системой подслушивания, равноценной советскому подслушивающему устройству.
«Голицын сказал, что это был циркуляр с разв'ед-заданиями КГБ, присланный в Хельсинки из Москвы, — вспоминал один сотрудник ЦРУ. — Документ требовал проявлять бдительное внимание к любой информации о совместных американо-английских исследованиях. Об этом говорилось достаточно подробно, из чего ЦРУ могло заключить, что это относилось к проекту, над которым мы работали вместе с англичанами». Несмотря на то что подслушивающее устройство еще не было завершено, говорилось в документе, система представляет потенциальную угрозу. КГБ, по-видимому, было известно об «Удобном стуле».
А «Удобный стул» представлял собой проект, разработанный советом технических рекомендаций. Контрразведка и служба безопасности ЦРУ незамедлительно приступили к действиям. Детективам Управления казалось логичным начать сверху. Они начали с секретаря совета.
Если бы Питера Карлоу не существовало, Джеймсу Энглтону пришлось бы придумать его. «Саша», «крот» Голицына, бывал временами в Германии. Карлоу руководил лабораторией в Хёхсте. «Саша» был славянского происхождения, и его фамилия, возможно, имела окончание «ский». Когда следователи ЦРУ извлекли на свет личное дело Карлоу, они обнаружили, что при рождении его фамилия была Клибанский и что его отец иногда говорил, что родился в России. И начиналась фамилия «Саши», по словам Голицына, с буквы «К».
Наконец, имелась явна# утечка информации из подразделения ЦРУ, занимавшегося подслушиванием и борьбой со средствами подслушивания. К 15 января 1962 года у Карлоу дома на Клингл-стрит в северо-западной части Вашингтона были тайно установлены подслушивающие устройства. В толстых секретных досье ЦРУ, которые были заведены, когда контрразведка и служба безопасности охотились за неуловимым «Сашей», одна фраза все чаще появлялась в документах, относящихся к Карлоу. Он был «главным подозреваемым», как об этом ясно свидетельствовали досье ЦРУ[10].
Но дело не ограничилось только Карлоу. С учетом весьма неясной и фрагментарной информации Голицына контрразведывательная служба ЦРУ и управление безопасности приступили к просмотру всех личных дел сотрудников ЦРУ в секретных службах, чьи фамилии начинались на букву «К».
Не одному лояльному сотруднику ЦРУ суждено было обнаружить, что его карьера сошла с пути или вообще закончилась только потому, что он имел несчастье носить фамилию, начинающуюся с одиннадцатой буквы английского алфавита.
Спустя три недели после прибытия Голицына в конспиративный дом на севере Вирджинии началась охота на «кротов», которая разъедала ЦРУ в течение почти двадцати лет.
Питер Карлоу не собирался становиться героем войны. Летом 1941 года он — студент с полной стипендией в Свартморском колледже. «Я понимал, что приближается война, и хотел пойти в разведку», — рассказывал Карлоу. Он несколько раз подавал заявления, и в июле 1942 года ему присваивают звание лейтенанта ВМС США и направляют в УСС. До наступления февраля 1944 года он находится на Корсике, работает с 15-м отрядом патрульных катеров ВМС по обеспечению операций УСС.
На небольшом острове Капрая, расположенном к северу от острова Эльба, УСС имело радиолокационную станцию (РЛС) перехвата, известную как пункт перехвата, с персоналом 15 человек. Станция служила жизненно важной линией связи, поскольку использовалась для перехвата немецких самолетов, летавших на бреющем полете бомбить военно-воздушную базу США на острове Корсика. «Пункт перехвата был укомплектован одетыми в военную форму солдатами десантно-диверсионных сил УСС, американцами, говорящими по-итальянски, — рассказывал Карлоу. — Немцы атаковали, сбросили десантную группу, уничтожили радиолокационную установку и другое оборудование».
Карлоу, бывший в тот день дежурным офицером, должен был восстановить пункт перехвата. К этому времени Италия объявила войну нацистам и присоединилась к союзникам. «Мне пришлось побегать, чтобы найти аппаратуру для замены и катер, на котором ее можно было бы переправить. Свободного американского катера не оказалось, поэтому я взял итальянский патрульный катер. Собрал итальянскую команду в местных барах, нашел капитана, и мы вышли в море. Добравшись до острова, мы связались с РЛС-отрядом, выгрузили аппаратуру и отбыли обратно».
В узкой гавани острова Капрая немцы установили мины, которые должны были взорваться после определенного числа проходов над ними корабля. 20 февраля, когда катер Карлоу выходил из гавани, одна из мин взорвалась на глубине 10 футов. Катер взлетел на воздух.
«Я стоял на палубе со стороны порта, мина находилась по правому борту. Меня выбросило в море». При взрыве Карлоу раздробило колено о направляющую торпеды. В море его подобрал итальянский рыбак, но от грязной воды у него началась гангрена. Его отправили в полевой госпиталь на Корсике, затем перевели на остров Сардинию, где хирурги отняли ему левую ногу выше колена.
Из 12 человек команды, насчитывавшей 10 итальянцев, включая одного офицера, Карлоу и еще английского офицера, который сопровождал катер в качестве наблюдателя, — все, за исключением Карлоу и двух рядовых, погибли. Карлоу оказался единственным офицером, оставшимся в живых.
В возрасте 22 лет он отдал свою левую ногу за страну. Карлоу подобрали протез, и он научился вновь ходить, плавать, водить машину, вести существование, близкое к обычному. Действительно, он был так решительно настроен преодолеть свою ущербность, что мало кто из тех, кого он встречал в своей жизни, догадывался о том, что у него нет ноги.
Осенью 1944 года по возвращении в Вашингтон его приветствовал генерал Уильям Донован, «Дикий Билл», начальник УСС. У Донована, который впоследствии лично приколол на грудь Карлоу «Бронзовую Звезду» в награду за его действия на острове Капрая, были хорошие новости. «Когда я вернулся в штаб-квартиру УСС на Е-стрит, вышел Донован, обнял меня и сказал: «Добро пожаловать, Питер, у меня есть для тебя работа». Затем в мгновение ока исчез. Таков он был — двигался быстро, но проявлял интерес к своим людям».
Этой работой оказалась служба в личном аппарате Донована до окончания войны. Затем в 1946 году Карлоу поручили написать с помощью Кермита Рузвельта секретную историю УСС периода второй мировой войны. Впоследствии эта работа была рассекречена и опубликована[11].
В новом ЦРУ дальновидность и технические навыки Карлоу обеспечили ему неуклонное продвижение по службе и поддержку влиятельного Ричарда Хелмса. Именно о Карлоу вспомнил Хелмс в 1961 году, когда ЦРУ пошатнулось после неудавшегося вторжения в заливе Кочинос.
Хелмс, в то время заместитель директора по планированию, вызвал Карлоу и дал ему специальное задание. Президент Кеннеди, сказал он, хочет создать одну должность в правительстве для разрешения кризисов во внешней политике. Он приказал государственному секретарю Дину Раску создать центр операций в госдепартаменте, в состав которого войдут представители от каждого вида вооруженных сил и правительственных ведомств, занимающихся вопросами национальной безопасности. Карлоу предложили представлять в нем ЦРУ. «Летом 1961 года, — рассказывал Карлоу, — я появился в госдепартаменте».
Это был престижный пост, представлявший ЦРУ в центре, созданном в госдепартаменте по инициативе самого президента, но он был вне Управления, и это была не та работа, которую хотелось бы иметь Карлоу. Он поведал Хелмсу о своей надежде на то, что его назначат начальником отдела технических служб ЦРУ, который разрабатывал и контролировал все технические средства Управления — от самого экзотического оружия до париков, от устройств, изменяющих голоса, до последних образцов «жучков» и подслушивающей аппаратуры. Исходя из своего послужного списка и жизненного опыта, Карлоу чувствовал, что он достаточно подготовлен, чтобы возглавить этот отдел, и этот пост действительно и окончательно превратит его в американского «Q». Хелмс уклонился от ответа, но Карлоу ушел со встречи с надеждой, что он, возможно, еще получит этот пост после своего пребывания в госдепартаменте.
Вместо этого он за полгода превратится в главного подозреваемого в процессе лихорадочного поиска ЦРУ предателя в своих рядах. В преобладающей атмосфере подозрительности, граничащей с паникой, высшие должностные лица ЦРУ придут в ужас от того, что Питер Карлоу, кавалер «Бронзовой Звезды», — советский «крот».
Но никто не скажет ему об этом.
ГЛАВА З
Лэдл
Анатолия Голицына нарекли «Лэдлом»[12].
С самого начала «Лэдл» создал большие проблемы. Действительно, кое-какая его информация оказалась ценной для ЦРУ. Но Голицын дал понять, что считает себя человеком особой важности, почти единственным, кто осознает характер советской угрозы. Он был несдержан в обращении с людьми, которых считал мелкими сошками.
До некоторой степени все перебежчики доставляют массу хлопот. Оторванные от своей родины, своей культуры, своего языка и нередко от своих семей, советские и перебежчики из восточноевропейских стран зачастую испытывали вполне понятные психологические трудности при адаптации к новому для них окружению. Иногда они бывали непостоянны или, скорее, слишком импульсивны, иначе они не могли бы предпринять такой, как правило, непоправимый и часто опасный шаг перехода на другую сторону во времена «холодной войны». Их мотивы могли быть весьма разнообразны. Одни искали возможности освободиться от неудачного брака. Другие уходили по идеологическим причинам. Некоторые были недовольны своей карьерой (такой мотив представил Голицын), тогда как иных просто привлекал богатый образ жизни на Западе. Чаще переход совершался по совокупности упомянутых да и других причин. И почти у всех перебежчиков были жалобы, проблемы и требования.
Анатолий Голицын, по общему мнению, был единственным в своем роде. Он сразу же попросил о встрече с президентом Кеннеди, но тот отклонил эту просьбу. Голицын требовал, но также безуспешно, чтобы им занимался непосредственно Эдгар Гувер.
Хотя все попытки Голицына получить доступ в Овальный кабинет были блокированы, он написал письмо президенту Кеннеди и настоял на том, чтобы оно было доставлено именно ему. Чтобы успокоить Голицына, ЦРУ поручило своему наиболее выдающемуся оперативному работнику, владевшему русским языком, Джорджу Кайзвальтеру встретиться с перебежчиком. Кайзвальтера, огромного мужчину мощного телосложения ростом более шести футов, в ЦРУ прозвали «медвежонком». У него, сына царского эксперта по боеприпасам, родившегося в Санкт-Петербурге, было располагающее лицо дружелюбно настроенного бармена. Его наружность и поведение скрывали быстрый ум, сочетавшийся с энциклопедической памятью и отвращением к претенциозности в любом ее проявлении. Среди оперативных работников советского отдела Кайзвальтер был первым среди равных. Именно он руководил двумя главными шпионами — подполковником Петром Поповым из ГРУ (советская военная разведслужба), первым советским сотрудником разведки, завербованным ЦРУ, и полковником ГРУ Олегом Пеньковским, с которым он лично встречался и получал у него сведения во время трех поездок Пеньковского на Запад в 1961 году[13].
Говард Осборн, тогдашний начальник советского отдела, вызвал Кайзвальтера и дал ему деликатное поручение. «Не хотели, чтобы письмо попало к президенту, — рассказывал Кайзвальтер. — Голицын был опасно непредсказуем, никто не знал, что он может сказать или сделать. Его письмо президенту ставило всех в определенной степени в затруднительное положение. Меня послали забрать письмо и разрешили пообещать, что оно будет доставлено президенту». На самом же деле задача Кайзвальтера состояла в том, чтобы выяснить содержание письма «и, если оно было небезвредным, предотвратить его отправку».
Кайзвальтер и Голицын встретились на Е-стрит в здании ЦРУ без каких-либо вывесок напротив госдепартамента. Голицын уже сидел за столом, когда прибыл человек из ЦРУ и сел прямо перед ним. «Я вел себя очень дружелюбно, — вспоминает Кайзвальтер. — «Давайте говорить по-русски, — сказал я. — Позвольте мне взглянуть на ваше письмо»». Голицын протянул его через стол.
В письме говорилось: «Поскольку президент, который обещал мне кое-что через своего брата Роберта, может не быть президентом в будущем, каким образом я могу быть уверен, что правительство Соединенных Штатов сдержит свои обещания в отношении денег и пенсии?» Кайзвальтер взглянул на Голицына и сказал: «Сукин сын, да ты первоклассный шантажист. Ведь это шантаж».
Потрясенный реакцией Кайзвальтера, Голицын передумал и потребовал письмо назад.
«Ну нет, — ответил Кайзвальтер. — Ты хочешь отправить его президенту, я доставлю его». Кайзвальтер ухмыльнулся, вспомнив этот момент. «Голицын вскочил на стол, спрыгнул с него на моей стороне, и мы начали борьбу за письмо. Я позволил ему побороть меня»[14].
Анатолий Голицын впервые попал в поле зрения ЦРУ еще за семь лет до своего перехода в Хельсинки. В 1954 году в Вене, когда сотрудник КГБ Петр Дерябин перешел на Запад, он назвал Голицына как человека, который, возможно, наиболее уязвим для вербовки ЦРУ. В то время Голицын, молодой сотрудник контрразведки, работал в Вене. Дерябин говорил, что сообщил допрашивавшим его лицам, что у Голицына преувеличенное представление о собственной значимости и что его недолюбливают коллеги.
Этим двум сотрудникам КГБ суждено было встретиться вновь при необычных обстоятельствах. По соображениям безопасности ЦРУ идет на все, чтобы советские перебежчики не встречались в Соединенных Штатах. Но иногда это не удается. «Конспиративный дом Голицына находился в лесу, — рассказывал Джордж Кайзвальтер. — Ему нужно было постричься, поэтому его привезли в городок Вену, в штате Вирджиния. Голицын направился к парикмахерской на Мэпл-авеню, а Дерябин вышел из парикмахерской и приветствовал его как давно потерянного друга. Охранники чуть не умерли»[15].
Согласно биографическим данным, опубликованным ЦРУ и английской разведслужбой, Анатолий Голицын родился близ Полтавы, на Украине, в 1926 году, но через семь лет переехал в Москву. В 15 лет, будучи курсантом военного училища, он вступает в комсомол. В 1945 году, после окончания войны, Голицын вступает в ряды Коммунистической партии и переводится из Одесского артиллерийского офицерского училища в военную контрразведывательную школу в Москве. В 1946 году он заканчивает школу, поступает в КГБ и работает в центральном аппарате, продолжая учиться на вечернем отделении. В 1948 году получает высшее образование. Затем занимается на двухгодичных курсах усовершенствования по разведке, после чего работает в подразделении КГБ, занимавшемся борьбой с американскими шпионами.
В 1953 году КГБ направил Голицына в Вену под дипломатическим прикрытием в качестве сотрудника аппарата Верховного комиссара. Целый год он собирал сведения об эмигрантах, затем работал против английской разведки. Возвратившись в 1954 году в Москву, он в течение четырех лет учился в институте КГБ, получил степень кандидата юридических наук. Год работал в КГБ в отделе, занимающемся НАТО. Затем в 1960 году его направили в Финляндию[16].
«Он причинял беспокойство КГБ еще до своего перехода на Запад», — так говорил Дон Мор, в прошлом — высшее должностное лицо контрразведки ФБР. Мор, высокий, седовласый, умный и хитрый человек, на протяжении семнадцати лет руководил контрразведывательными операциями ФБР против Советского Союза. Голицын, по словам Мора, хотел реорганизовать КГБ «и пытался сделать то же самое с нами. Он взялся бы руководить ФБР, ЦРУ и АНБ тоже, если бы мы позволили ему».
Мор впервые встретил Голицына сразу же после состоявшегося на мосту в Берлине 10 февраля 1962 года обмена пилота разведывательного самолета ЦРУ «У-2» Фрэнсиса Гэри Пауэрса, которого русские схватили и заключили в тюрьму, на отбывавшего тюремное наказание советского шпиона Рудольфа Абеля. Полковник КГБ Абель был «нелегалом», разведчиком, который работает без дипломатического прикрытия. Он действовал в Бруклине, выдавая себя за художника и фотографа. Арестованный после того, как его помощник-алкоголик пришел и сдался ЦРУ, Абель отбывал свое наказание — 32 года заключения — в федеральной тюрьме в Атланте[17].
Мору, главному контрразведчику ФБР, работавшему против Советов, захотелось встретиться с Голицыным, перебежчиком, который произвел такое сильное впечатление на ЦРУ. Он попросил Сэма Папича, давнишнего сотрудника ЦРУ по связи с ФБР, сопровождать его в гостиницу в центре Вашингтона, которую ЦРУ выбрало в качестве места проведения тайных встреч. «Сотрудники ЦРУ ввели Голицына в номер гостиницы «Мэйфлауэр», — рассказывал Мор. — Это был плотный человек, ниже меня ростом, приблизительно пяти футов девяти или десяти дюймов, довольно резкий. Он был убежден, что мы не обменяем Абеля на Пауэрса, пока не сделаем Абеля своим двойным агентом. Мы этого не сделали. «Когда он вернется, КГБ обработает его», — сказал Голицын».
Мор, уважавший Абеля как умного, опытного профессионала, знал, что нет такого средства в мире, чтобы заставить Абеля стать двойным агентом и работать на американскую разведку в качестве платы за освобождение. Но на встрече в гостинице «Мэйфлауэр» сотрудник ФБР проник в тайные мысли Голицына. Русский был убежден не только в том, что Абель являлся двойным агентом, действовавшим против Советов, но и в том, что КГБ раскроет это и воспользуется им против ЦРУ.
— Дайте мне его показания, и я вам скажу, что они значат, — сказал Голицын Мору.
— И вы сможете это сделать? — спросил Мор, продолжая игру.
— О, я смогу.
Вспоминая эту встречу, Мор улыбнулся и сказал: «В этом был весь Голицын».
Однако для советского отдела и контрразведки ЦРУ проблемы обращения с Голицыным оказались не столь значительными в сравнении с оценкой сути его информации. Голицын мог иметь гипертрофированное мнение о важности своей персоны, требовать встречи с президентом и Эдгаром Гувером, но с этим можно было справиться. В конце концов предшествующий перебежчик, Михаил Голеневский, дал то, что оказалось исключительно ценной информацией для ЦРУ, даже если он так и остался убежден, что он царевич, Великий князь Алексей, сын царя Николая II и, таким образом, последний из Романовых и наследник короны Российской империи[18].
За два года до перехода Голицына в Хельсинки резидентура ЦРУ в Берне, в Швейцарии, получила несколько писем (всего 14 штук) от человека, который оказался сотрудником разведки одной из стран советского блока. Письма были подписаны «Снайпер». В конце 1960 года «Снайпер», будучи в Западном Берлине, бежал и назвался Михаилом Голеневским, сотрудником польской разведывательной службы.
Информация, которую он представил в своих письмах, позволила англичанам арестовать Гордона Лонсдейла, агента КГБ, выдававшего себя за канадского торговца ресторанными музыкальными автоматами в Англии, который завербовал Генри Фредерика Хьютона и его незамужнюю подружку Этель Элизабет Джи, работавших на базе ВМС в Портленде, близ Саутгемптона, в научно-исследовательском центре по разработке подводных лодок. МИ-5 выследила Лонсдейла, который прибыл в пригород Руислип, где американская пара, Моррис и Лона Коэн, проживавшие в Англии под именами Питер и Елена Крогер, использовали высокочастотный передатчик для передачи секретов ВМС в Москву[19]. Чета Коэн была арестована, и все пятеро оказались за решеткой[20].
Голеневского считали также источником информации, которая помогла англичанам разоблачить и арестовать Джорджа Блейка, сотрудника МИ-6, работавшего на Советы, который отсидел срок в исправительно-трудовом лагере в Северной Корее, затем работал на английскую разведку в Берлине[21]. Говорили, что Голеневский дал дополнительные сведения, приведшие к аресту в 1961 году еще одного высокопоставленного советского агента — Хайнца Фельфе, начальника контрразведки по борьбе с советской разведкой западногерманского федерального разведывательного управления (БНД). Фельфе был одним из главных подчиненных начальника и основателя БНД, бывшего нацистского генерала-отшельника Рейнхарда Гелена.
Поскольку этот поток контрразведывательной информации поступил от единственного польского перебежчика всего лишь за год до появления Голицына, ЦРУ, вполне понятно, очень хотелось услышать от Голицына, настоящего перебежчика из КГБ, а не просто сотрудника союзнической разведслужбы, любую информацию, которую тот мог извлечь из своей памяти, начиная, конечно, с его предостережения относительно «крота» в ЦРУ.
Но его обвинения шли намного дальше. Другие западные службы, предостерегал он, подобны швейцарскому сыру, в котором изнутри выедают ходы «кроты» из КГБ. В свое время Голицын утверждал, что помимо Соединенных Штатов Советы проникли в разведывательные службы Англии, Франции, Канады и Норвегии.
Вначале допрос Голицына вел советский отдел, что было в порядке вещей, когда ЦРУ получало перебежчика из КГБ. Но все время возникали какие-то трения. Например, Голицын имел стычки с Дональдом Джеймсоном, одним из сотрудников отдела, который хорошо говорил по-русски и специализировался но работе с советскими перебежчиками. К октябрю 1962 года было ясно, что Голицын абсолютно недоволен теми, кто занимался им, по той причине, что отдел отклонил требования Голицына выдать ему миллионы долларов за руководство контрразведывательными операциями против Советского Союза.
«Голицын говорил мне и другим, что он требует десять миллионов, — вспоминал Джеймсон. — Он заявил, что НАТО не способна защитить себя от советского проникновения. Единственный способ защитить НАТО — создать специальную службу безопасности, которой он мог бы руководить, по существу не отчитываясь ни перед кем. За это он и требовал такую сумму — 10 миллионов долларов. Деньги должны были обеспечить его независимый контроль за этим делом»[22].
Согласно заявлению Пита Бэгли, руководителя контрразведки в советском отделе, в конце концов было принято решение передать Голицына Джеймсу Энглтону, начальнику контрразведки ЦРУ. «Джим получил Голицына приблизительно в октябре 1962 года, как раз когда я пришел в этот отдел, — вспоминал Бэгли. — Требования Голицына превышали мои возможности. Он хотел встретиться с президентом. Полагаю, мы могли бы привлечь Джека Кеннеди, но у него были другие дела. В конце концов Голицына передали сотрудникам контрразведки. И это опять-таки потому, что все его заявления были о проникновении не только в Соединенных Штатах, но и в Англии, Франции, Норвегии. А контрразведка отвечала за связь и взаимодействие с этими службами».
Именно поиск «крота», который, как предполагалось, копал внутри самого ЦРУ, стал основным занятием (более подходящим словом здесь было бы слово «одержимость») Джеймса Энглтона. Голицына допрашивали интенсивно в течение нескольких месяцев. По мере того как расследование принимало все более широкие масштабы и не ограничивалось только Питером Карлоу, включая буквально несколько десятков подозреваемых, спрос на сотрудников Энглтона и управления безопасности был огромен. К 1964 году Энглтон понял, что ему необходимо увеличить штат только для того, чтобы справиться с «голицынскими сериалами», как он называл разбухающие после показаний досье человека из КГБ.
Энглтон привлек Ньютона Майлера, бывшего в то время резидентом ЦРУ в Эфиопии, для помощи в руководстве охотой за «кротами». Его уже не первый раз привлекали к работе с Энглтоном: с 1958 по 1960 год он работал на контрразведку, занимаясь советской контрразведкой.
Высокий (шесть футов один дюйм), на вид грубоватый человек со сдержанными манерами, «Скотти» Майлер имел резкие тонкие черты лица окружного шерифа или полицейского, что было весьма обманчиво, поскольку на деле это был гораздо более глубокомысленный человек, чем могло показаться по его грубо скроенной внешности. Сын упаковщика мясных продуктов из Мэйсон-сити (штат Айова), Майлер во время второй мировой войны проходит обучение по программе V-12 ВМС в Дартмуте и в 1946 году заканчивает учебу, получив степень по экономике. Он поступает на службу в УСС, которое направляет его в Китай. Когда в 1947 году конгресс принял решение о создании ЦРУ, Майлер перешел туда. В течение тринадцати лет он работал оперативным сотрудником за границей — в Японии, Таиланде и на Филиппинах.
Энглтон, отозвав Майлера из Аддис-Абебы, назначает его заместителем начальника «специальных расследований» — эвфемизм, который Энглтон присвоил охоте на «кротов». Работу вело подразделение контрразведки, известное как группа специальных расследований[23]. «Хотя термин «специальные расследования» включает другие конкретно не оговоренные особо секретные дела, — сказал Майлер, — основное дело, которые мы делали, — выявляли случги проникновения. Это была наша главная задача».
К 1990 году, спустя много лет после ухода в отставку, «Скотти» Майлер жил в Плейситасе (штат Нью-Мексико) в доме, который они с женой построили в отдаленном районе холмистой, засушливой местности к северу от Альбукерке. С тех пор он долго пытался забыть охоту на «кротов». Но когда его разыскали, он охотно рассказывал о ней и о характере контрразведки. Во время разговора он все время курил.
Действительно ли правда, что Голицын пытался идентифицировать «крота» по одной букве алфавита? Майлер по привычке глубоко затянулся, прежде чем дать ответ, некоторое время молчал, глядя вдаль, затем произнес: «Да. Он сказал, что имя этого человека начиналось на букву, К»».
«Но Голицын привел и другие подробности, — продолжал Майлер. — Он сказал, «Саша» работал сначала в Берлине, но также и в Западной Германии, и в других местах Западной Европы. Он не знал, был ли «Саша» вольнонаемным сотрудником ЦРУ или кадровым офицером. Он также заявил, что внедренный агент был русского или славянского происхождения[24]. Он привел данные об операциях, которые были провалены. Поэтому мы начали с изучения досье, с того, кто, чем и когда занимался, подбирая отдельные части головоломки».
Но Голицын, по словам Майлера, не ограничивался намеками на неуловимого «Сашу». Он также представил другие данные в подтверждение того, что ЦРУ, возможно, пригрело «крота». Голицын рассказал ЦРУ о поездке в 1957 году в Соединенные Штаты В. М. Ковшука, начальника отдела КГБ, работавшего по американскому посольству[25].
Голицын заявил, что Ковшук мог приехать только для встречи с высокопоставленным агентом, внедренным в правительство Соединенных Штатов, возможно, в ЦРУ. Голицын смог бы узнать Ковшука на фотографии. Проверив по своим архивам, ФБР подтвердило, что Владислав Михайлович Ковшук под именем Владимира Михайловича Комарова действительно работал в советском посольстве в Вашингтоне в течение десяти месяцев до осени 1957 года[26]. Более того, Голицын предупреждал, что КГБ, зная, что он перешел на сторону Запада и что ему известно о задании Ковшука в Америке, попытается отвлечь внимание ЦРУ от истинной цели его визита.
Могла показаться вероятной возможность существования каких-то других причин для объяснения этой поездки в Америку загадочного В. М. Ковшука. Как специалист по руководству операциями против американцев, он, возможно, хотел, например, просто поездить по Соединенным Штатам, чтобы расширить свои знания об этой стране, которая была объектом его деятельности. Назначение в Вашингтон было привлекательным и по другим очевидным причинам. Даже для должностного лица КГБ высокого ранга поездка на Запад была своего рода встряской, шансом вырваться из давящей атмосферы Москвы и посмотреть мир и приобрести предметы роскоши, которых не было в Советском Союзе.
Но для сотрудников контрразведки ЦРУ, подогреваемых Голицыным, эта поездка Ковшука приобрела намного более подозрительный характер. В конце концов она могла означать наличие «крота». Эту возможность нельзя было игнорировать. Для тренированного контрразведывательного ума каждый фрагмент, каждая деталь, неважно, насколько она мала и тривиальна, может иметь потенциальное значение при распутывании более крупного трюка, предпринятого противником. Иногда, несомненно, сотрудники контрразведки оказываются правы. Иногда нет. Но чаще всего они не знают ответа.
Именно на такой шаткой основе контрразведка постепенно ткала полностью дутые теории об агенте проникновения или, еще хуже, агентах проникновения в ЦРУ, и этим теориям предстояло сотрясать управление на протяжении двух десятилетий.
И никто не мог превзойти Джеймса Джезуса Энглтона, самого начальника контрразведки, в раскручивании и создании наиболее замысловатых узоров, раскрытии запутанных заговоров умного и неутомимого коммунистического врага, в вытягивании этих тонких нитей и угадывании связей, которые могли быть незаметны для менее опытного глаза.
ГЛАВА 4
Охотник на «кротов»
В начале 50-х годов Том Брэйден был молодым помощником Аллена Даллеса, заместителя директора ЦРУ по планированию, главы тайного орудия ведомства. Как вспоминает Брэйден, однажды вечером, когда они с женой уже были в спальне, он поведал ей кое-какие служебные сплетни.
«Беделл не любит Аллена», — сказал он жене. Миссис Брэйден поняла, что он хотел сказать: эти слова означали, что генерал Уолтер Беделл Смит, грозный директор ЦРУ, не питал любви к Даллесу, прославленному мастеру шпионажа второй мировой войны, которому в конечном счете суждено было сменить его на посту директора. Брэйден думает, что он даже добавил кое-какие замечания относительно того, как внушавший ужас Смит, которого Уинстон Черчилль сравнил с бульдогом, третировал Даллеса.
«На следующий день, — сказал Брэйден, — Даллес вызвал меня к себе. Он спросил: «Что там такое насчет Беделла и меня?»»
Сделав невинное лицо, Брэйден притворился, что не понимает, о чем говорит Даллес. «Возможно, я дал ему отнюдь не искренний ответ, — признал Брэйден. — Он повторил разговор слово в слово, и я не стал отрицать его снова. Все было точно».
«Вы бы лучше поостереглись, — предупредил его Даллес. — Джимми взял вас под наблюдение». Брэйден сделал очевидный вывод: Джеймс Энглтон установил подслушивающее устройство в его спальне и фиксировал его разговоры в постели с женой Джоан[27]. Но его это особенно не удивило, поскольку у Энглтона, как было известно, подслушивающие устройства имелись по всему городу.
Утром Энглтон первым делом приходил в кабинет Аллена и докладывал о том, что зафиксировали его «жучки» за ночь. Он забавлял Аллена рассказами о том, что происходило у кого-то на званом обеде. Один из домов, которые он прослушивал, был дом миссис Дуайт Дэвис. Ее муж был военным министром в правительстве президента Кулиджа[28]. В начале 50-х годов эта вдовствующая леди была хозяйкой дома в Вашингтоне и пользовалась всеобщей любовью; у нее обедали сенаторы и члены правительства. Джим приходил в кабинет к Аллену, и тот спрашивал: «Как рыбалка?» А Джим отвечал: «Ну, прошлой ночью у меня клевало несколько раз». Все происходило под видом разговора о рыбалке.
Брэйден говорил, что лично знал об этих разговорах в кабинете Даллеса, поскольку «бывал там и все это слышал, и не единожды. Энглтон докладывал, что люди говорили то-то и то-то. Некоторые высказывания представляли собой пренебрежительные замечания в адрес Аллена, которые забавляли последнего. Я полагал, что они получены с помощью подслушивающего устройства».
«Это представлялось мне скандальным. Все считали, что он подслушивает также штатных сотрудников ЦРУ, а не только вдовствующих леди. Думаю, большинство полагало, что он занимается этим. На подслушиваемом званом обеде, — говорил Брэйден, — какой-нибудь сенатор или член палаты представителей мог сказать что-то такое, что могло бы пригодиться ведомству. Я считал, что это неправильно. Думаю, Джим поступал безнравственно»[29].
Роберт Кроули, бывший сотрудник ЦРУ, работавший с Энглтоном, утверждал, что шеф контрразведки не организовывал прослушивания по собственной инициативе. «Джим не располагал средствами, чтобы предпринять что-либо подобное, — сказал он. — Если бы директор одобрил, управление безопасности организовало бы это, Джим воспользовался бы аппаратурой. Он забрал бы улов. Но у него самого не было собственного технического обеспечения».
Тем не менее истории, подобные случившейся с Брэйденом — а их великое множество, — помогли сделать Энглтона зловещей и таинственной фигурой в ЦРУ и в тех узких социальных кругах Вашингтона, в которых он вращался.
Это отражали его прозвища. В ЦРУ его ведомственным псевдонимом (используемым в телеграммах) было имя «Хью Ашмед». Но его коллеги называли его по-разному: «Серый призрак», «Черный рыцарь», «Человек-орхидея», «Рыбак», «Иисус», «Стройный Джим» или, менее лестно, «Тощий Джим» либо «Пугало»[30]. Среди занудной государственной бюрократии Вашингтона и даже в среде чиновников секретной разведки немногие имели столь колоритные прозвища.
Но это еще не все. Хобби Джеймса Энглтона, его прошлое, стиль, вся его жизнь вписывались в представление о том, что собой обязан представлять начальник контрразведки ЦРУ. Имидж и человек были созданы друг для друга; Джеймс Энглтон как бы сошел с экрана из какого-нибудь голливудского фильма.
Например, его легендарное умение удить рыбу на блесну, его диплом специалиста по выращиванию орхидей, его увлечение коллекционированием полудрагоценных камней. Для его многочисленных обожателей эти интересы были не случайны, скорее, они являлись продолжением его блестящих способностей как сотрудника контрразведки. То же терпение, необходимое, чтобы поймать гольца в горном потоке, требуется и для того, чтобы «расколоть» советского шпиона, «липового» перебежчика или двойного агента КГБ. Нужны годы и великое терпение, чтобы вырастить орхидею, и в этом тоже весь Энглтон. Его не увидишь в черной фетровой шляпе отдыхающим с ребятами за игрой в кегли. Точно так же и камни, которые он находил в пещерах и расщелинах на юго-западе страны, — отполированные до совершенства и принявшие форму запонок для манжет или других подарков для друзей, — они тоже были сродни самородкам контрразведывательной информации, которую он умел извлекать из потока телеграмм, донесений и материалов опросов, проходивших через его рабочий стол. Ключевой факт, помещенный в контекст, засверкал бы так же ярко, как какой-нибудь топаз. Или так это представлялось его поклонникам.
Рыбак, как и охотник за шпионами, должен разбираться в наживках. Энглтон тщательно изучил их. Одним из его партнеров по рыбалке был Сэм Папич, высокий, крепкий серб из Бьютта (штат Монтана), который работал на медных рудниках, как прежде его отец, и в течение 19 лет осуществлял связь между ФБР и ЦРУ. Эти два человека были близкими друзьями — посланник Эдгара Гувера в ЦРУ и начальник отдела контрразведки.
«У Джима были руки хирурга, и он делал великолепные блесны для гольца, — вспоминал Папич. — Иногда мы вместе ездили на рыбалку. Джим проходил с четверть мили вверх и вниз по течению, изучая воду, растительность, насекомых. Затем принимал решение, что делать. Он мог прочитать вам лекцию о жизни мухи-однодневки от личиночной стадии до того момента, когда она становится мухой. Я тоже специалист по форели, но он в этом деле был мастер. Обычно он отпускал пойманную рыбу. Для него это был вызов».
Энглтон ловил форель с человеком Гувера, одновременно потихоньку усиливая свои позиции в ФБР, и цветы также переплетались с его жизнью контрразведчика. Меррит Хантингтон, владелец «Кенсингтон оркидз» в мэрилендском пригороде Вашингтона, знал Энглтона много лет и восхищался им и как шпионом, и как специалистом по разведению орхидей. «Энглтон был мистификатором, мистификатором № 1 Америки, настоящим патриотом, — говорил Хантингтон. — Он использовал орхидеи как прикрытие. Он обладал блестящей фотографической памятью. Он досконально разбирался в орхидеях».
«Он использовал орхидеи как прикрытие?» — «Да, — сказал Хантингтон. — Он путешествовал как специалист по разведению орхидей. Он знал всех людей в Европе, выращивавших орхидеи. Мы всегда знали, когда приезжали важные «шишки» из Израиля, потому что Джиму нужны были букеты орхидей. Он срезал цветы для израильтян. Он разводил орхидеи. Он вывел и дал название паре орхидей. Одну он назвал в честь своей жены. Кэтлея под названием «Сесили Энглтон»[31].
Джим мог часами говорить об орхидеях. Но он никогда не говорил о работе. Я знал, кто он, но он никогда не заводил речи о политике. Он мог исчезнуть на полгода, но когда появлялся, звонил мне. Он никогда не расставался со своей теплой полушинелью».
Однажды Энглтон будто бы сказал, что из всех орхидей «Венерин башмачок» нравится ему больше всего, потому что ее труднее всего вырастить[32].
Сэм Папич также рассказывал о цветах и драгоценных камнях. «Джим часто посылал орхидею даме, с которой знакомился; познакомится с дамой, а на следующий день она получает орхидею — не из цветочного магазина, а из питомника Джима. Обычно он ходил в мятой одежде. Но все женщины любили его. Он вселял в них чувство исключительной значимости и красоты. Он не был диктором радиовещательной компании, но у него был дар говорить о вещах, которые представляли интерес для людей и располагали их чувствовать себя свободно.
Энглтон ездил в Тусон, собирал камни и делал прекрасные ювелирные изделия: кольца, браслеты, ожерелья, — Папич помолчал. — Он обладал исключительно пытливым умом. И много работал. Главным образом по ночам».
Как-то само собой разумелось, что охотник за «кротами» должен быть существом, ведущим ночной образ жизни, человеком, предпочитающим работать в темноте. Внешность Энглтона была частью его мистического имиджа — высокий, худой до того, что выглядел изможденным. Одет в черное, стиль одежды — консервативный.
«Он всегда носил тройки, — вспоминает бывший контрразведчик из ФБР Дон Мор. — Он не снимал пиджака и галстука, даже когда садился играть в покер».
Один из сотрудников ЦРУ, хорошо знавший Энглтона, так описывает его: «Около шести футов ростом, с ястребиным носом, под глазами темные тени, довольно бледная кожа, как у человека, мало бывающего на солнце. Слегка сутулый. Он был бы высоким, если бы держался прямо. Довольно большие уши, седеющие волосы с пробором посередине, зачесанные назад». Энглтон носил очки в роговой оправе с толстыми стеклами, но его наиболее интересной особенностью был, безусловно, необычайно широкий рот на костлявой челюсти. Странным образом это делало его почти похожим на одну из тех рыб, которых он, возможно, ловил, — на окуня или щуку. На его губах часто играла легкая загадочная улыбка — улыбка человека, обладающего тайной, которой он не желает делиться.
«В Лэнгли у него был просторный кабинет, — продолжает воспоминания коллега Энглтона, — стол, заставленный предметами искусства, темная мебель. Немного мистично? Как посмотреть. Но Джим не делал ничего, чтобы рассеять это ощущение. Он всегда казался погребенным под грудой документов, испещренных пометками об ограниченном доступе. В его тихом голосе чувствовалась убежденность. Он был точен в отношении всего, что говорил. А то, что он говорил, было гласом Божьим».
Несмотря на серьезное заболевание (туберкулез), шеф контрразведки был заядлым курильщиком. «Он выкуривал в день, должно быть, три или четыре пачки, — вспоминал один из коллег. — Мы ехали с ним в машине. Он едва дышал. И даже включил кондиционер, чтобы восстановить дыхание».
Он еще и пил. Шпионаж — профессия, связанная со стрессом, и у многих сотрудников ЦРУ проблемы с алкоголем. «Джим отправлялся на ленч около половины первого и основательно нагружался, — вспоминал один бывший коллега. — Когда он возвращался, то был очень многословен. И после ленча он никогда не работал».
Энглтон был поэтом или, по крайней мере, он серьезно занимался поэзией в Йельском университете, восхищался Т. С. Эллиотом и Эзрой Паундом, и эта эстетическая сторона в сочетании с огромной тайной властью, которой он обладал, делала его уникальной фигурой в ЦРУ и усугубляла ту зловещую тень, которую он отбрасывал. Потому что именно слияние поэта и шпиона, искусства и шпионажа — искусства с налетом насилия, всегда присутствовавшего непосредственно под поверхностью, — усиливало ореол угрозы в персоне Энглтона. Как литературный интеллектуал, он, должно быть, ценил прелестную драматическую иронию, которую воплощал[33].
В городе, где информация — это власть, секретная информация представляет наибольшую ценность. А в ЦРУ полагали, что Энглтон владел большим количеством секретов, чем кто-либо другой, и схватывал их значение лучше, чем кто-либо другой. Это и составляло основу его власти. Он очень хорошо понимал это и культивировал ауру всеведения.
«Энглтон всюду появлялся со своим «дипломатом», — вспоминал Джордж Кайзвальтер. — Он говорил: «У меня здесь невероятный материал из Бюро». — «Что там?» — «Я не могу обсуждать это здесь». Если это нельзя обсуждать в оперативном директорате, то где же можно? Смешно!» Но Кайзвальтер знал, что власть Энглтона основывалась на секретности. «Главное состояло в том, чтобы иметь информацию и держать ее при себе».
Однажды начальнк контрразведки задержал Кайзвальтера в лифте здания ЦРУ.
— Вам нужно посмотреть этот фильм, — сказал Энглтон. — Он подкрепляет мой образ мыслей.
— Какой фильм? — спросил Кайзвальтер.
— «Маньчжурский кандидат»[34].
Секреты, которыми не делился Энглтон, не только увеличивали его власть в секретном ведомстве, но и давали ему преимущество в бюрократическом ближнем бою. Секретность служила безупречной позицией для отступления в любом споре.
Один оперативный работник ЦРУ, работавший непосредственно с Энглтоном, понял это. «Когда меня направили в Лондон, Энглтон был среди тех, кто одобрил это, — сказал он. — И вообще без благословения Джима уехать было невозможно. Но с течением времени я просто начал думать, что его выводы были неверны. Я выслушивал все его витиеватые теории и говорил: «Но, Джим, это расходится с фактами». Джим отвечал: «Есть вещи, о которых я не могу тебе сказать» Я всегда считал, что ему не хватало аргументов».
Остерегавшийся Энглтона Том Брэйден понял источник его могущества. «Энглтон обладал очарованием Шерлока Холмса, — говорил он. — Сыщик — человек, знающий что-то такое, чего не знал ты».
Если Энглтон окружал себя ореолом таинственности и интриги, если он был наиболее проницательным купцом на базаре секретов ЦРУ, то все же была одна истина, от которой он не мог убежать при всей его власти. Его работа была незавидной. Она состояла в том, чтобы подозревать всех, и он подозревал. Это путь к невменяемости, и некоторые бывшие коллеги думали, что в итоге он действительно свихнулся. Но это уже из области медицинских заключений, которые не делаются легко или походя, даже теми, кто знал его и работал с ним. Много проще сделать вывод о том, что на каком-то этапе жизнь, полная подозрений, разъела его здравый смысл.
Но следует также сказать, что подозрение — это необходимое зло или, по крайней мере, необходимая функция любого разведывательного ведомства. ЦРУ и его операции представляют собой очевидные объекты для проникновения противодействующих разведывательных служб. Таким образом, в ЦРУ должен быть механизм защиты от советского проникновения в операции ЦРУ и в само ведомство. Такой механизм называется контрразведкой.
Практики контрразведки без конца спорят по поводу точного и лучшего определения их искусства. Но в процессе споров удалось прийти к некоему общему соглашению. Наверное, наиболее сжатое определение предложил Раймонд Рокка, высокий, худощавый эрудит с седыми волосами и козлиной бородкой, занимавший пост заместителя Энглтона и в УСС в Италии, и в ЦРУ. Он сказал: «Контрразведка имеет дело с другими разведывательными службами, действующими в нашей собственной стране или против нашей страны за границей. Другими словами, контрразведка точно соответствует смыслу, заложенному в самих этих словах: «противодействие разведке». Термин говорит сам за себя».
«Скотти» Майлер, который, как и Рокка, был заместителем Энглтона, согласен с этим. «Цель контрразведки — защищать ваши институты и операции от проникновения, включая дезинформацию», — сказал он[35].
Поскольку Майлер был заместителем Энглтона в группе специальных расследований, его работа, разумеется, заключалась в том, чтобы вынюхивать проникновение в ЦРУ, в существовании которого в отделе контрразведки не сомневались, раз перебежчик Голицын предупредил о «Саше». И главной задачей контрразведки, согласно любому определению, стало в первую очередь обнаружение и задержание любого «крота» или «кротов». внутри ведомства.
Отдел контрразведки отвечал не только за выявление советских агентов, внедренных в штаб-квартиру в Лэнгли, но и за защиту операций ЦРУ «в поле» от проникновения КГБ. Если оперативный сотрудник «в поле» предлагал завербовать агента, географический отдел, работающий по данной стране, проверял по учетам ЦРУ наличие какой-либо информации об этом человеке. Отдел контрразведки запрашивал такие данные из досье других разведывательных ведомств США; в редких случаях отдел мог осторожно запросить информацию в других дружественных разведывательных службах. Именные установочные данные могут дать информацию, которая помешает запланированной вербовке.
В разведке существует банальная истина, что оперативные работники проникаются любовью к своим агентам. Оперативники хотят верить в людей, которых они завербовали, и в информацию, которую те поставляют. Сотрудники контрразведки — профессиональные скептики. Им платят за их сомнения.
Роберт Кроули, бывший тайный работник ЦРУ, бунтарь и человек большого ума, склонный к метафорам, сравнил роль отдела контрразведки с ролью управляющего кредитами в крупной компании: «Торговцы, которыми являются оперативники, хотят продвинуться по службе за счет увеличения объема больших продаж. Они напористы, работают на комиссионной основе и рвутся к новому делу. Управляющий кредитами окидывает посетителя тяжелым взглядом, проверяет его балансовый счет и информацию о состоянии кредита и говорит: «Не отгружать». Естественно, торговцам это не нравится».
По этой причине существовала традиционная напряженность между отделом контрразведки и отделами оперативного директората, или секретных служб. Последние поделили мир на географические районы. И хотя названия подразделений менялись со временем, тайный директорат ЦРУ традиционно имел советский отдел и другие географические отделы по Европе, Ближнему Востоку, Африке, Азии и Латинской Америке.
Теоретически начальник отдела был рангом выше руководителя контрразведки, но начальники отделов не спешили помериться властью с Энглтоном, так как знали, что его власть больше[36]. Энглтон возмещал любой предусмотренный штатным расписанием ранг, которого у него не было, своими близкими связями с директорами ЦРУ, под руководством которых он работал, в частности с Даллесом и Ричардом Хелмсом. Как и они, Энглтон служил в УСС, а эти корни были крепки в ведомстве[37]. Начальник контрразведки был основателем организации старейших университетов Новой Англии «Бывшие студенты», члены которой управляли ЦРУ как частным клубом вплоть до 70-х годов. Выпускников старейших университетов Новой Англии объединяли служба в военное время, социальное происхождение, воспитание и темперамент. Они — за некоторым исключением — являлись ключевыми фигурами по принятию решений в ведомстве. Им было хорошо друг с другом.
Кроме естественных трений между географическими подразделениями (оперработниками) и начальником контрразведки в недрах службы таилась более крупная проблема: охота на «кротов». Поскольку в начале 60-х годов поиск предателей набирал обороты, стала распространяться атмосфера недоверия, особенно внутри советского отдела, который принял на себя основную тяжесть расследований. Никто не знал, на кого следующего падет подозрение.
И это, конечно же, подняло запутанный, трудный вопрос в ЦРУ. Любая организация строится на доверии, и, наверное, это тем более верно в отношении секретного ведомства, занятого порою опасной работой. Тем не менее контрразведывательная функция — это обязательная проверка на предмет проникновения со стороны противодействующей спецслужбы. Как можно примирить эти две необходимости? Что со временем станет с ведомством, структура которого одновременно требует элементарного доверия и элементарного подозрения?
Маловероятно, чтобы эти вопросы когда-либо возникали в ЦРУ в эпоху охоты на «кротов». Секретные службы и контрразведку возглавляли мужчины со строгими глазами (и очень немногие женщины), которые занимались решением текущих практических задач. Поиски проникновений совпали с разгаром «холодной войны», временем максимальной активности ЦРУ. И если кто-то и тратил время на обдумывание этих философских вопросов, он не осмеливался поднимать их перед «Пугалом».
Джеймс Джезус Энглтон родился в городе Бойсе (штат Айдахо) 9 декабря 1917 года, через восемь месяцев после вступления США в первую мировую войну. Его отец, Джеймс Хью Энглтон, служил в Мексике в армии генерала Джона Першинга («Черного Джека»), преследовавшей Панчо Вилью, и женился на семнадцатилетней мексиканке Кармен Морено. (Энглтона крестили как католика и назвали Джезусом в честь деда с материнской стороны.) У Джеймса были младший брат и две младшие сестренки. Семья жила в Бойсе, а затем в Дэйтоне (штат Огайо), где старший Энгл-тон работал исполнительным директором в «Нэшнл кэш реджистер компани». В 1933 году, когда Джеймс Энглтон был еще подростком, его отец перевез семью в Италию, где приобрел лицензию «Нэшнл кэш реджистер» на право деятельности, и с течением времени стал президентом Американской торговой палаты в Риме[38]. Энглтоны жили в достатке большую часть времени в палаццо в Милане.
Джеймс Энглтон проводил лето в Италии, а учился в Малвернском колледже, британской подготовительной школе. В 1937 году он поступил в Йельский университет, где входил в издательский совет Йельского литературного журнала и вместе с Э. Ридом Уитмором-младшим, которому суждено было стать известным поэтом, основал «Фуриозо», поэтический журнал, имевший большую популярность. Будучи студентом Йельского университета, Энглтон познакомился с творчеством Эзры Паунда и стал его поклонником[39]. Энглтон закончил университет в 1941 году, а в 1943-м, во время прохождения службы в пехоте, был принят на работу в УСС. Направленный в Лондон, он работал в контрразведке, на первых порах в отделении Х-2, где его начальником был его бывший профессор Йельского университета Норман Холмс Пирсон. В том же году Энглтон женился на Сесили дЮтремон из Тусона (штат Аризона), дочери состоятельного миннесотского горнопромышленника; они познакомились, когда она училась в Вассаре.
В УСС Энглтон быстро продвигался по службе, и после высадки союзников его направили в Рим, где к концу войны он стал начальником контрразведки в Италии. Одной из его задач было помогать итальянцам в реорганизации их собственных разведывательных служб. Обширные связи, которые он приобрел в Италии во время войны, сослужили ему хорошую службу, когда он пришел на работу в ЦРУ в 1947 году.
В следующем году он был задействован в массированных усилиях ЦРУ повлиять на итоги выборов 1948 года в Италии. Ведомство истратило миллионы на операцию, направленную на поражение коммунистов и — поддержку христианских демократов, которые и победили.
Но главным интересом Энглтона, его настоящей любовью была контрразведка, и в 1954 году с санкции Даллеса он образовал и возглавил отдел контрразведки. Частью мистического образа Энглтона было то, что его редко видели даже его собственные сотрудники. Энглтон был таким затворником, что, пока он возглавлял контрразведку, в ведомстве о нем ходила обычная шутка. Если в переполненном лифте штаб-квартиры открывалась и закрывалась дверь и не видно было, чтобы кто-то входил или выходил, находящиеся в кабине смотрели друг на друга, понимающе кивали и говорили: «Энглтон».
И действительно, начальник контрразведки предпочитал уединение своего кабинета — комната № 43 по коридору С на втором этаже здания штаб-квартиры. В этой могущественной цитадели Энглтону суждено было на протяжении 20 лет оставаться доминирующей фигурой контрразведки ЦРУ.
Но при Даллесе он натянул еще одну тетиву на своем луке. В соответствии с необычным соглашением ему поручили вести «израильский счет», таким образом, операции и разведывательная информация, касающиеся Моссада или других израильских шпионских ведомств, проходили исключительно через Энглтона.
Если Энглтон не доверял проарабски настроенным оперативникам из ближневосточного отдела ЦРУ, то имеются доказательства, что он не доверял и евреям, поскольку считал, что они руководствуются интересами Израиля. Джордж Кайзвальтер рассказывает о красноречивом инциденте, имевшем место в 1970 году, когда он читал курс лекций для старших сотрудников разведки в разведывательной школе ЦРУ в Арлингтоне (штат Вирджиния)[40]. На занятиях Кайзвальтер рассказывал о работе служб внешней разведки классу, состоявшему из сотрудников ЦРУ, военных и дипломатов, которые готовились к выезду за границу. Ему нужен был эксперт по израильской разведке, поэтому он запросил Джона Хэддена, который недавно вернулся из шестилетней командировки в Израиль, где работал резидентом ЦРУ. «Я направил письменную просьбу Хэддену, — сказал Кайзвальтер. — «Управление подготовки кадров просит Вас прочитать лекцию о Моссаде». Энглтон подписал ее. Хэдден прочитал великолепную лекцию. На следующем курсе лекций для старших сотрудников я вновь запросил Хэддена. Энглтон сказал: «Нет, приходите ко мне». Я так и сделал. Энглтон сказал:,Я не разрешаю. Мы не собираемся делать это внутриведом-ственно».
Я протестовал. Спросил: «Почему бы нет?» Энглтон ответил: «Почем вы знаете, сколько там у вас евреев?» — «А какая разница? — спросил я. — Вы собираетесь вы гнать их из ведомства?» Я пошел к Джоко Ричардсону, который отвечал за подготовку. Тот сказал: «Что с ним такое, черт возьми?» Но лекция о Моссаде не состоялась».
Для Энглтона контрразведка осталась главной заботой, и даже «израильский счет» был средством достижения этой цели. Джон Денли Уокер, сменивший Хэддена на посту резидента в Израиле, говорил: «Энглтон действительно занимался израильскими делами, но его главным интересом оставалась контрразведка. Он хотел, чтобы израильская разведка выявляла возможных советских внедренных агентов среди еврейских эмигрантов из Советского Союза».
Как только на сцене появился Голицын, толкующий о «кроте», с конкретными, хотя и фрагментарными, сведениями о его личности, поиск проникновений стал сверхзадачей Энглтона. В Голицыне Энглтон нашел родственную душу. Наконец-то появился человек, только что из КГБ, который вел отчетливый контрапункт в фуге Энглтона.
Для Энглтона и его большого отдела имело полный смысл предположить, что КГБ преуспел во внедрении «крота» или «кротов» в ЦРУ. С логической точки зрения в допущении о наличии «кротов» в ведомстве прослеживалась аналогия с доводом о том, что где-то еще во Вселенной должна существовать жизнь. Те, кто исходит из существования пришельцев, указывают на статистическую невероятность того, что в безграничном космическом пространстве жизнь должна существовать только на планете Земля. Почти точно таким же образом отдел контрразведки утверждал, что разведывательные службы других государств, особенно британская, подвергались проникновению со стороны Советов. Почему же ЦРУ должно быть исключением? Подобно тому, как федеральное правительство имеет огромный радиотелескоп в Грин-Бэнке (штат Западная Вирджиния), слушающий радиосигналы других миров, которые то ли существуют, то ли нет, контрразведка ЦРУ наблюдала, подстерегала, пыталась уловить слабый звук роющих нору «кротов». Ничего неразумного в допущении о их существовании не было.
У Энглтона имелись и личные причины настаивать на поиске агентов проникновения с такой жестокостью. Его провел «суперкрот» столетия Ким Филби, и он не собирался повторять ту же ошибку.
Гарольд Адриан Рассел («Ким») Филби стал работать в МИ-6, британской секретной разведслужбе, в 1940 году и к концу войны занял пост начальника советского отдела этой организации, что означало, что Москва знала все важное, что британская секретная служба делала или планировала предпринять против Советского Союза. В 1949 году Филби прибыл в Вашингтон в качестве офицера связи взаимодействия между МИ-6 и ЦРУ. Энглтон регулярно обедал с Филби в «У Харви» — ресторане в центре столицы, который предпочитал и Эдгар Гувер. Шефу контрразведки ЦРУ, асу своего дела, никогда и в голову не приходило, что человек, сидевший напротив и обменивавшийся с ним секретами, в действительности с самого начала был преданным советским агентом.
В мае 1951 года Гай Бёрджес, недавно гостивший у Филби в Вашингтоне вместе с Дональдом Маклином, сотрудником британского министерства иностранных дел, бежал в Москву, и Филби попал под подозрение как «третий человек», передававший ценные сведения двум советским шпионам. Но британцы не смогли ничего доказать против Филби и не хотели настаивать на обвинениях против члена университетского истэблишмента Британии. Лишь в конце января 1963 года Филби, осознав, что сеть наконец-то накрывает его, бежал из Бейрута в безопасную Москву[41].
Для Энглтона катастрофа с Филби была унизительной, она оказала огромное влияние на него. И хотя многое делалось под воздействием предательства Филби на Энглтона, в самом ЦРУ имели место по меньшей мере два случая, никогда не предававшиеся гласности, которые убедили шефа контрразведки в том, что у него есть основания для беспокойства по поводу ренегатов.
Один из них — таинственное дело Белы Герцега, уроженца Венгрии, который работал в УСС, а затем в ЦРУ в качестве оперативника в Вене и Мюнхене. В 1957 году Герцег пропал, и Энглтон был убежден, что он перебежал в Моссад. Исчезновение оперативного работника ЦРУ поставило Энглтона во вдвойне затру-днитсльное положение, поскольку шеф контрразведки занимался израильскими делами в этом ведомстве.
Герцег — еврей по национальности — выбрался из Венгрии перед второй мировой войной и приехал в Соединенные Штаты. В 1943 году на юге страны он проходил подготовку в качестве парашютиста-десантника армии США, когда Николас Доумэн, сотрудник УСС, ответственный за операции по Венгрии, в каком-то списке наткнулся на его имя. Доумэн, встречавший Герцега в Венгрии перед войной, искал агентов; он отдал распоряжение доставить его в Вашингтон и привлечь к работе в УСС. Он направил Герцега в Бари, в Италию.
«Он проходил подготовку в составе группы агентов, которую планировали забросить в Словакию, — рассказывал Доумэн, — но заболел, и это спасло ему жизнь. Он так никогда и не прыгал с парашютом. Вся группа, кроме двух или трех человек, была выловлена СС и уничтожена».
После войны Герцег попал в американскую разведывательную группу, выслеживавшую нацистов. Он допрашивал Ференца Салаши, фашиста, печально известного премьер-министра Венгрии, которого впоследствии казнили. Затем Герцег пришел в ЦРУ и работал по линии ведомства с 1952 по 1957 год в Австрии и Германии. Но вскоре у него возникли трения с руководством.
Джордж Кайзвальтер помнил Герцега. «Я встречал его в Вене, когда он был там в командировке, работал против венгров. Мы как-то вместе обедали в ресторане, расположенном примерно в квартале от резидентуры ЦРУ на Мариахильферштрассе. Этот бывший венгр занимал видное социальное положение, был прекрасным наездником. Большой, дородный человек. Он настойчиво уговаривал меня попробовать «фогаш» — как он говорил, прекрасную рыбу из озера Балатон. Где-то в 1957 году он проводил отпуск в Западной Германии и перебежал к израильтянам.
В 1958 году Джо Бьюлик, оперативник, приехал ко мне в Берлин по официальным делам из штаб-квартиры и сказал: «Энглтон хочет, чтобы я спросил вас, что вы знаете о Герцеге. Он бежал». Энглтон знал, что он сбежал к израильтянам, но хотел знать, известно ли мне, как он сбежал и куда. Я ничего не знал. Я мало что мог рассказать Бьюлику. Разумеется, Энглтон огорчился. Это дружеская услуга, но едва ли для этого подключают разведслужбы».
Заместитель Энглтона «Скотти» Майлер также сказал, что Герцег перебежал в израильскую разведслужбу. «Моссад подтвердил это ведомству, — сказал Майлер. — Разумеется, это дело особенно заботило Энглтона, поскольку он вел израильские дела. Кроме того, существовала обеспокоенность относительно советского проникновения в Моссад. Энглтон проинформировал меня об этом деле в общих чертах, просто, чтобы я был в курсе».
Я обнаружил Белу Герцега в Будапеште в 1990 году. Ему было 78 лет, и он был слаб здоровьем, но он подтвердил, что исчез из резидентуры в Вене более сорока лет назад. Однако он отрицал тот факт, что стал работать на Моссад. «Я исчез, — рассказывал он, — и никогда больше не вступал в контакт с ведомством». Он отказался назвать причину своего исчезновения, хотя что-то говорил о «политических разногласиях» со своим начальством в ЦРУ. «Я не работал на израильтян», — сказал он.
В то время как Энглтон обшаривал мир, разыскивая его, Герцег тихо вернулся в Соединенные Штаты, где, по его словам, работал маклером в Нью-Йорке; затем несколько лет продавал «тойоты» в Корал-Гейблз (штат Флорида). В Венгрию он переехал примерно в 1982 году.
Николас Доумэн, поддерживавший связь со своими старыми коллегами по УСС, утверждал, что Герцег действительно уехал в Израиль, а затем в Австралию «после того, как он покинул ведомство». Но, сказал он, Герцег никогда не говорил о работе на Моссад. «Он вообще-то был откровенен со мной, поскольку нас связывала работа в УСС». Однако Доумэн подтвердил, что у Герцега «была размолвка с ЦРУ и он постоянно горько сетовал на ведомство».
Если Энглтон и был расстроен делом Герцега, которое ведомству удалось сохранить в тайне, то гораздо больше оснований для его беспокойства вызвало дело Эдварда Эллиса Смита, первого человека ЦРУ, когда-либо откомандированного в Москву. Смит родился и вырос в крепкой баптистской семье в Паркерсбурге (штат Западная Вирджиния), закончил университет Западной Вирджинии в 1943 году, во время второй мировой войны. Он пошел в армию, служил в Европе и заработал три Бронзовые Звезды за мужество. После войны работал в Вашингтоне, в армейской разведке, и изучал русский язык в разведшколе ВМС. В 1948 году он на два года уехал в Москву в качестве помощника военного атташе. К сентябрю 1950 года вернулся в Вашингтон и теперь был откомандирован в ЦРУ.
В 1953 году советский отдел ЦРУ собрался впервые направить своего человека в Москву. С его знанием русского языка, разведывательной подготовкой и предыдущей командировкой в советскую столицу Смит, которому тогда исполнилось 32 года, был явным кандидатом. Он ушел из армии, и ведомство направило его в Москву под дипломатическим прикрытием, в качестве атташе.
У Смита было особое задание. Годом ранее Петр Попов, подполковник ГРУ, вошел в контакт с ведомством в Вене. От советского отдела его руководителем был Джордж Кайзвальтер. Попов, которому дали псевдоним «Грэлспайс», стал первым агентом ЦРУ в советской разведке. Приобретение агента на месте, в стенах ГРУ (советской военной разведке), было большим событием в Лэнгли. Для обеспечения поддержки операции с Поповым в рамках советского отдела было создано специальное подразделение, получившее обозначение SR-9[42]. Задача Эдварда Эллиса Смита состояла в подборе тайников в Москве, чтобы у ЦРУ имелась возможность держать связь с Поповым в случае, если его отзовут из Вены обратно в штаб-квартиру ГРУ[43].
«Смит подыскивал места для устройства тайников и подготавливал их для Попова, — подтвердил Кайзвальтер. — Его выбор был никуда не годен. Попову не понравились места, выбранные Смитом. «Они паршивые», — жаловался тот. Смит, слава Богу, не знал, что готовит тайники именно для Попова».
Побывав в Москве, Попов проверил тайники, выбранные Смитом. Когда он вернулся в Вену и на конспиративной квартире встретился с людьми из ЦРУ, он был расстроен. «Чего вы пытаетесь добиться — погубить меня?» — спросил он. Попов жаловался, что тайники недоступны; было бы самоубийством использовать их[44].
Смита уволили из ЦРУ, но дело, хотя и замятое, касалось гораздо большего, чем недовольства местом, выбранным для тайников. По мнению Кайзвальтера и других бывших сотрудников ЦРУ, Смит был сексуально скомпрометирован своей горничной, которая оказалась «ласточкой», женщиной — сотрудницей КГБ.
«В КГБ его прозвали «рыжий», — сказал Кайзвальтер. — Это был их шифр. У него были светло-рыжие волосы. Не огненно-рыжие. Рыжеволосой была и Валя, горничная. Он хвастался, что она делает отличный «мартини», и нам это не очень-то нравилось. Они (КГБ) вынудили Смита один раз выйти на встречу. Мы не знаем, что он тогда передал им. Они готовили вторую встречу, пытались организовать новые встречи».
Но Смит, понимая, что попал в большую беду, признался своему начальству, что угодил в «медовую ловушку» КГБ. По словам Пита Бэгли, который впоследствии занимался вопросами контрразведки в советском отделе, Смит доложил о попытке КГБ завербовать его в 1956 году, его вернули в США, допросили, а поскольку его ответы не вызвали восторга, его уволили.
Ни слова о катастрофе в Москве не просочилось. ЦРУ сумело держать под спудом тот факт, что первый сотрудник, которого оно когда-либо отправляло в Москву, попал в ловушку КГБ. Однако, как будет видно далее, Управление еще услышит о деле Смита.
Эдвард Эллис Смит переехал в Сан-Франциско и сделал блестящую карьеру как директор банка, писатель и эксперт по Советскому Союзу, а его неблагоразумное поведение в Москве осталось тайной, похороненной в прошлом. В числе его книг исследование об охранке, царской тайной полиции, и о молодых годах Сталина[45]. По иронии, Смит делает вывод о том, что Сталин был агентом царской полиции в российском революционном движении.
В 1972 году Смита избрали в совет управляющих эксклюзивного Клуба содружества. Десять лет спустя, в субботу 13 февраля 1982 г. сразу после полуночи, в Рэдвуд-Сити Смит был сбит пронесшимся, по словам свидетелей, на большой скорости на красный свет белым «корветтом», при этом водитель скрылся с места происшествия. Полиция выяснила, что у Смита был портфель, в котором находились заметки для книги, в которой должны были фигурировать ЦРУ и КГБ, но представитель полиции также отметил, что, несомненно, причиной смерти явился несчастный случай. «Ни о каких тайнах не может быть и речи», — сказал он. На следующий день водитель автомобиля Дональд Пек, тридцати лет, дважды отбывавший срок за кражу со взломом, сдался полиции. Свидетель заявил, что Пек был пьян, но никакой проверки на наличие алкоголя в крови не проводилось, поскольку он явился в полицию лишь сутки спустя после происшествия. Позднее он не возражал против замены обвинений в непредумышленном убийстве человека путем наезда и в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии на обвинение в том, что он сбил человека и скрылся с места происшествия. 3 ноября Пек был приговорен к уплате штрафа в размере 750 долларов и тюремному заключению сроком на один год.
Контрразведка ЦРУ была напугана тем, что КГБ подловил Эдварда Эллиса Смита. Проблема оказалась более серьезной, чем те, которые нам приходилось когда-либо решать, — сказал «Скотти» Майлер. — Он признал, что был скомпрометирован, но не сделал полного признания относительно того, что он мог передать Советам».
Для Джеймса Энглтона дело Смита лишь подтверждало его точку зрения. Ведомство уже подверглось проникновению, его первый человек ЦРУ в Москве был скомпрометирован. Шефа контрразведки не надо было убеждать в наличии «кротов». Проблема заключалась в том, чтобы обнаружить их.
ГЛАВА 5
Московская резидентура
Пол Гарблер не сомневался, что предстоит хорошая выпивка на вечеринке по поводу его проводов. Во-первых, это был волнующий момент в истории ЦРУ: его только что назначили руководителем резидентуры в Москве.
Во-вторых, вечеринку устраивал у себя легендарный Уильям Кинг Харви, фальстафовский облик которого свидетельствовал о его пристрастии к спиртному. За спиной его называли «грушей» за его телосложение. Подстриженный под «ежик», бывший агент ФБР Харви был яркой и сильной личностью, всегда носил при себе оружие, выпивал три «мартини» за ленчем и имел приводящую в замешательство привычку засыпать на собраниях[46]. Именно Харви во время одного из застолий в Берлине семь лет назад уговорил Гарблера, летчика ВМС, выйти в отставку и поступить на службу в ЦРУ. «А когда мы пили вместе с Харви, здорово надирались», — вспоминал Гарблер.
Менее чем за десять лет Гарблер прошел путь от сотрудника резидентуры в Берлине, где он служил под началом Харви, до человека, на которого пал выбор возглавить самую важную заграничную резидентуру ЦРУ. Гарблер имел все основания гордиться своим успехом.
Другими гостями у Харви были: Ричард Хелмс, в то время помощник заместителя директора по планированию; Томас Карамессинес, высокопоставленное должностное лицо директората по планированию; Эрик Тимм, начальник западноевропейского отдела, и Джеймс Энглтон. Именно эта небольшая группа высокопоставленных лиц Управления в конце 1960 года приняла решение о создании первой резидентуры ЦРУ в советской столице.
Основная задача Гарблера и, конечно, основная причина, побудившая открыть резидентуру в Москве, заключались в обеспечении средств тайной связи с главным агентом Управления в Советском Союзе полковником ГРУ Олегом Пеньковским. «До того времени Москву посещали одиночки, имевшие разного рода прикрытия, — пояснил Гарблер. — Резидентуры не было, — добавил он, — да и резидента тоже. Я стал первым законным резидентом в Москве».
Действительно, был повод для веселья. «Все изрядно набрались. Страсти накалились. Хелмс ушел первым. Энглтон зажал меня в угол и сказал: «Я работал с ФБР. Мы получили пару дел, когда источник возвратился в Советский Союз, и мы хотим поддерживать контакт. Давай завтра я сообщу тебе детали, и ты скажешь, сможешь ли ты заняться этим». На следующий день Энглтон сообщил мне местонахождение тайника». Гарблер согласился руководить агентом Энглтона в Москве.
Гарблер, высокий, крепкого сложения красивый мужчина, лицом походил на ковбоя из западных штатов, хотя и родился в Ньюарке (штат Нью-Джерси), а вырос на юге Флориды, где его отец успешно занимался строительным бизнесом. Гарблер поступил на службу в ВМС за несколько месяцев до событий в Перл-Харборе, а будучи курсантом авиационной школы в Джэксонвилле, он познакомился с Флоренцией Фицсиммонс, привлекательной армейской медицинской сестрой из Бейсай-да, в Квинзе, районе Нью-Йорка. Они поженились в разгар войны. Флоренция участвовала в итальянской кампании, высадилась в Салерно с Пятой армией и пересекла эту страну с юга на север. Пол летал на пикирующих бомбардировщиках, базировавшихся на авианосцах в Тихом океане, поэтому они не виделись два с половиной года, вплоть до окончания войны. Гарблер участвовал в первом и втором боях в Филиппинском море и у острова Чичи и был награжден тремя крестами «За летные боевые заслуги» и восемью медалями ВВС США.
После войны командование ВМС направило Гарбле-ра в Вашингтон изучать русский язык и осваивать специальность разведчика. В 1948 году он отправился в Сеул, Южную Корею, и стал личным пилотом президента Ли Сын Мана. В июне 1950 года, во время северокорейского вторжения, он находился в Корее.
Командование ВМС отозвало Гарблера в Вашингтон, а год спустя его направили на работу в ЦРУ; он прошел подготовку в разведшколе. В 1952 году, еще в составе ВМС, Гарблер выехал в трехлетнюю командировку в Берлин по линии ЦРУ. Под вымышленным именем Филиппа Гарднера Гарблер в качестве оперативного сотрудника руководил работой главного агента, Франца Койшвица, объектом работы которого был советский военный контингент в Карлсхорсте, в Восточном Берлине. Именно в Берлине Гарблер принял предложение Харви оставить военную службу и поступить на работу в ЦРУ.
В 1955 году он вернулся в штаб-квартиру, а на следующий год его направили в Стокгольм в качестве заместителя резидента. К 1959 году он опять в Вашингтоне, работает в советском отделе; это назначение помогло ему попасть в ограниченный список претендентов на должность резидента московской резидентуры.
30 ноября 1961 года Гарблер прибыл в посольство США в советской столице как помощник военно-морского атташе. В Москве возглавляемая Гарблером малочисленная резидентура ЦРУ функционировала под неусыпным наблюдением КГБ, которое осуществляли служащие посольства. Резидентура была настолько законспирирована, что даже выдающийся американский посол Ллуэллин Томпсон, добродушный, но проницательный профессиональный дипломат, не был уверен, кто из его подчиненных мог оказаться сотрудником разведки. Из-за «жучков», установленных КГБ, секретные разговоры в здании посольства приходилось вести в «пузыре» — защищенной комнате, оборудованной в другой комнате.
«Первый вопрос, который Томми задал мне в «пузыре» после моего приезда, — вспоминал Гарблер, — «Кто еще в посольстве кроме меня работает на ЦРУ?»» Гарблер смог сообщить всего несколько фамилий; резидентура была настолько малочисленной, что в его подчинении находилось всего несколько сотрудников[47].
Через несколько месяцев к нему приехала жена Флоренция. Она преподавала в школе для детей дипломатов и помогала в erq разведывательной работе. «Она не имела оперативной подготовки, и перед ней не ставились оперативные задачи. Но она сопровождала меня в ряде поездок для обеспечения прикрытия. Если мне надо было изъять тайник в парке им. Горького, у меня не было причин появляться там одному. Но вместе с Флоренцией мы прогуливались по аллеям, я ей что-то показывал, и в конце концов мы опускались на скамейку. Там-то и был заложен тайник. Или при постановке сигнала мелом у какого-либо театра она обеспечивала мне прикрытие, заслоняя от глаз случайных прохожих. Она была мне хорошей помощницей».
Месяц спустя после приезда Гарблера в Москву Анатолий Голицын попросил политического убежища в Хельсинки. В то время Гарблер не имел оснований обратить особое внимание на этот факт, поскольку с головой ушел в выполнение своей основной задачи — осуществление тайных контактов с Олегом Пеньковским, которого ЦРУ считало своим самым важным агентом на территории Советского Союза[48].
«Нам удавалось проводить моментальные встречи с Пеньковским во время светских мероприятий, — рассказывал Гарблер. — К примеру, сотрудник посольства устраивал коктейль, на который приглашали Пеньков-ского. Во время поездок на Запад Пеньковскому показывали фото людей, которые могли ему что-то передать или забрать у него пленку. Он знал, что некий человек должен вступить с ним в контакт на этом вечере. Один или пару раз мы проделывали это. В разных местах, включая Спасо-хаус, резиденцию посла».
Гарблер встречался с Пеньковским лишь однажды. «Это было на приеме в Спасо-хаусе. У Пеньковского не было моего фото, он не знал, кто я». На приеме Гарблер, в соответствии со своим дипломатическим прикрытием помощника военно-морского атташе, появился в военной форме. Пеньковский полагал, что ведет приятную беседу с американским морским офицером, ему и в голову не приходило, что он говорит с резидентом ЦРУ.
Олег Владимирович Пеньковский, самый знаменитый агент ЦРУ, родился в 1919 году в Орджоникидзе, на Северном Кавказе, сын белогвардейского офицера, погибшего в Ростове в сражении с большевиками во время гражданской войны в России. Олега воспитывала мать; ради будущего своего сына она утверждала, что его отец умер от тифа[49]. Олег поступил в Киевское артиллерийское училище. После нападения на Финляндию в 1939 году пехотную дивизию, в которой служил Пеньковский, направили на фронт. В следующем году его переводят на службу в Москву, где он знакомится с Верой Гапанович, дочерью могущественного советского генерала. В 1941 году, когда немцы напали на Советский Союз, Олега направили на Украину, где он получил восемь наград и осколочное ранение, в результате которого потерял сознание и четыре зуба. В московском госпитале Пеньковский познакомился с генералом (впоследствии маршалом) Сергеем Варенцовым, попавшим в автомобильную катастрофу.
Варенцову приглянулся молодой офицер-артиллерист, и он сразу же предложил ему стать адъютантом. Вскоре у него появилось для Пеньковского задание. Дочь Ва-ренцова, Нина, свет в его окошке, вышла замуж за еврея, некоего майора Лошака, у которого возникли неприятности с властями, поскольку он торговал автомашинами и запчастями на «черном рынке». Его арестовали во Львове и приговорили к расстрелу. Маршал направил Пеньковского ходатайствовать за него, однако тот приехал слишком поздно. «После того как приговор был приведен в исполнение, — рассказывал Джордж Кайзвальтер, оперативный сотрудник ЦРУ, который «вел» Пеньковского, — Нина Варенцова вытащила пистолет у одного офицера и выстрелила себе в голову. Пеньковский на собственные деньги устроил приличные похороны. Когда он вернулся к безутешному Варенцову, тот сказал: "Ты мне, как сын. Ты сделал все, что мог. Я поступил бы так же"»[50].
Этот случай скрепил узы личной привязанности между могущественным маршалом и его молодым адъютантом. Варенцов способствовал поступлению Пеньковского в престижную Военную академию им. М. В. Фрунзе и уговорил его посвятить себя разведывательной деятельности. Пеньковский женился на Вере Гапанович, и его звезда начала восходить. В 1955 году его направили в Анкару, в Турцию, исполняющим обязанности резидента ГРУ. Через шесть месяцев генерал ГРУ Николай Петрович Рубенко (настоящая фамилия Савченко) прибыл в Анкару, чтобы возглавить резидентуру. Вскоре между Пеньковским и его задиристым руководителем, который был гораздо старше его, установились натянутые отношения. Пеньковский, кроме того, невзлюбил своего напарника в Анкаре, офицера ГРУ Николая Ионченко, впоследствии советника Хо Ши Мина в Ханое[51].
Пеньковский возвратился в Москву в 1956 году и готовился к поездке в Индию, когда КГБ наконец докопался до факта, что отец Пеньковского был белогвардейским офицером. В итоге с него сняли подозрения, но понизили в звании и назначили в отборочную комиссию ГРУ. К этому времени Пеньковский все сильнее разочаровывался в своей служебной карьере. В ноябре 1960 года его переводят в Государственный комитет по координации научно-исследовательских работ (позже Госкомитет по науке и технике), а это означало работу с иностранными бизнесменами и официальными лицами и возможность выезда за границу. Но уже до того, как ему представилась такая возможность, Пеньковский принял важное решение.
За три месяца до этого, в августе 1960 года, Пеньковский предпринял первую из четырех попыток предложить свои услуги Западу. Когда полковник ГРУ возвращался домой из летнего отпуска, проведенного в Одессе, поезд сделал остановку в Киеве, чтобы прицепить к составу вагоны другого поезда, следовавшего с Кавказа. Выйдя на платформу, полковник заметил двух американцев, студентов колледжа, разговаривавших по-русски. На следующий день в Москве Пеньковский наткнулся на тех же студентов в парке «Сокольники», проследовал за ними до гостиницы «Украина» и подошел к ним. Он протянул им пакет и попросил доставить его в американское посольство.
«Они взяли пакет, — рассказывал Кайзвальтер. — Морские пехотинцы учили студентов не брать у русских никаких вещей. Я был в штаб-квартире, когда пакет был доставлен курьером. Боже мой, мы схватились за голову и обезумели. Все было напечатано на машинке. От первого письма можно было заплясать на месте. Я офицер разведки. Мой народ страдает. Хрущев толкает мир к третьей мировой войне. Я хочу предложить свои услуги. Я понимаю, что одного этого письма недостаточно. На третьей и четвертой страницах вы найдете план местонахождения тайника и места постановки условного сигнала, указывающего, что тайник заложен. Мне нужны точные инструкции о том, как я могу безопасно доставить вам пакет, содержащий все подробности о полном советском ракетном арсенале, обычном и ядерном»».
Кайзвальтер оживился, рассказывая об этом, несомненно, самом волнующем моменте в его разведывательной работе. Письмо Пеньковского, сказал он, «содержало самый невероятный перечень абитуриентов в Военно-дипломатическую академию, которая является у них высшей разведывательной школой, а также биографии кандидатов, распределение после окончания академии и знание языков». Для разведки это было «золотое дно», какого ЦРУ еще не видело[52].
«Но у нас не было агентуры в Москве, — сокрушался Кайзвальтер. — Мы не ответили на письмо Пеньковского». Как это ни парадоксально, но ЦРУ не имело в советской столице никого, кто бы мог ответить на предложение Пеньковского. В Москве не было резидентуры ЦРУ.
«Приблизительно в октябре 1960 года мы получили телеграмму из МИ-6,— продолжал Кайзвальтер. — В ней сообщалось, что два английских бизнесмена сообщили о каком-то чокнутом по фамилии Пеньковский, в гражданской одежде, который угощал их в Москве. Пеньковский попросил их доставить пакет в американское посольство. Они отказались. «Возьмите, прошу вас, мою визитную карточку». Они согласились. На карточке было указано местонахождение учреждения — на улице Горького. На обратной стороне он написал: «Пожалуйста, звоните по этому номеру (домашнего телефона) в десять утра в любое воскресенье из телефонной будки».
Прошел еще месяц, и мы попытались направить в Москву одного нашего парня. У нас там не было никого, кто бы говорил по-русски. Некем было руководить, никаких агентов. Мы послали туда одного из наших людей в качестве помощника офицера по снабжению». Он поселился в доме, в котором проживали иностранцы, но обслуживался он советскими гражданами.
«Тем временем мы пытались составить представление о Пеньковском. Мы не могли понять, как офицер военной разведки может ходить по Москве в гражданской одежде». В конце концов ЦРУ нашло ответ. Пеньковский был направлен на работу в гражданский научный комитет.
Примерно в то же время канадский дипломат Уильям Вэн Влайет, недавно возвратившийся из Москвы, вылетел в Вашингтон из Оттавы, чтобы встретиться с Кайз-вальтером. По всей вероятности, Вэн Влайет работал в Королевской канадской конной полиции, которая в то время выполняла функции контрразведки в этой стране. Пеньковский, рассказывал Вэн Влайет, подошел к нам с Джеймсом Гаррисоном — другим канадским официальным представителем — в московской гостинице «Нацио-наль» и вручил свою визитную карточку и запечатанный конверт, в котором, по его словам, находились чертежи советских баллистических ракет. И опять Пеньковский попросил доставить пакет американцам. Гаррисон, сообщил Вэн Влайет Кайзвальтеру, был весьма напуган тем, что Канаду впутывали в дело, смахивавшее на американскую разведывательную операцию. «Я думал, что его хватит удар», — сказал Вэн Влайет.
Канадцы продержали у себя пакет одну ночь, заметил Кайзвальтер. Затем они позвонили Пеньковскому, встретились с ним и сказали: «Вот, заберите свой пакет». Пакет был возвращен Пеньковскому не вскрытым[53].
Таким образом Пеньковский сделал уже три попытки связаться с ЦРУ, но безрезультатно. То, что случилось позднее, могло бы отбить охоту у любого другого менее настойчивого шпиона. «Наш человек уже был на месте, в Москве, — рассказывал Кайзвальтер. — Мы послали ему сообщение для Пеньковского: «Пожалуйста, не входите больше ни с кем в контакт, не пытайтесь передавать пакет в интересах вашей собственной безопасности, наберитесь терпения, мы свяжемся с вами». Оперативный работник знал, что в доме, где он поселился, он окружен Советами, и начал сильно пить. Он не смог найти телефонной будки до 11.00 часов утра, то есть с опозданием на час, и тогда он симпровизировал. Сообщение, которое он передал Пеньковскому, было изрядно искажено. Он был пьян. Теперь он преподает в какой-то школе в Западной Вирджинии».,
В апреле 1961 года Карлтон Свифт-младший, начальник операций ЦРУ в лондонской резидентуре, наследник миллионов своей семьи, занимающейся упаковкой мясных продуктов, сообщил, что один английский бизнесмен, Гревил Винн, встречался с Пеньковским в Москве, «Пеньковский водил его по вечеринкам, — говорил Кайзвальтер. — Когда Винну настало время уезжать, Пеньковский вытащил конверт и попросил доставить его в американское посольство в Лондоне».
МИ-6 привлекла к работе Винна, который постоянно наезжал в Советский Союз и страны Восточной Европы в качестве курьера Пеньковского. Он привез конверт в Лондон. Наконец, в последних числах апреля 1961 года ЦРУ впервые встретилось лицом к лицу с Пеньковским, который прибыл в Лондон в качестве главы советской торговой делегации. Кайзвальтер вместе с другим оперативным работником Джозефом Быоликом вылетел в Лондон, где они встретились с Гарольдом Шерголдом и Майклом Стоуксом из МИ-6 в рамках теперь уже совместной англо-американской операции. Они поселились в лондонском отеле «Маунт Ройял» близ Марбл Арч, где делегацию Пеньковского принимала на другом этаже группа руководителей английских стальных корпораций. Кайзвальтер послал Пеньковскому записку, в которой просил прийти в его номер по внутренней пожарной лестнице.
«Мы ждали. Раздался стук в дверь. Это был Пеньковский в гражданской одежде. «Это мы писали вам»», — сказали мы. В доказательство сотрудники ЦРУ показали Пеньковскому копию его первого письма.
«Пеньковский снял пиджак, — продолжал Кайзвальтер. — Из-под подкладки он вытащил конверт и вручил его нам. «Вы не так много знаете обо мне», — сказал он и поведал историю своей жизни. «Вы располагаете временем?» — спросил он. Время у нас было».
Это был первый из серии интенсивных опросов Пеньковского, проводившихся в то лето в Англии и Франции. Из Лондона команда сотрудников ЦРУ и МИ-6 последовала за Пеньковским в Бирмингем и Лидс. В этих трех городах за пятнадцать дней с ним было проведено семнадцать тайных встреч.
Во время одной из них Пеньковский сделал потрясающее предложение: в случае, если война будет неизбежна, он может, если ЦРУ и МИ-6 пожелают, спрятать миниатюрные атомные бомбы в стратегически важных пунктах вокруг Москвы и уничтожить советскую столицу.
«Он назвал двадцать девять исключительно важных точек в Москве, — говорил Кайзвальтер. — Он описал каждое такое место, все значительное с военной точки зрения. Основную штаб-квартиру, московского военного командования, резервную на случай чрезвычайной ситуации, расположенную под землей в заброшенных московских туннелях, штаб-квартиру артиллерийского командования. Мы не прерывали его, поскольку нам было полезно получить перечень этих стратегических объектов.
Он хотел, чтобы мы дали ему бомбы достаточно небольшого размера, которые могли бы поместиться в чемодане. Его замысел состоял в следующем: проехать по Москве на такси с чемоданами, набитыми атомными бомбами, и замаскировать их в урнах, узких проходах между домами или других местах». А как их установить в положение боевой готовности? «Это должны были быть бомбы с часовым механизмом, — рассказывал Кайзвальтер, — установленным на одно и то же время, дающее ему возможность уехать». План Пеньковского развязать третью мировую войну с помощью такси и чемоданов поразил сотрудников ЦРУ и МИ-6 своей абсурдностью, но они не хотели отбивать у него охоту сотрудничать. «Мы сказали ему, что у нас нет такого оружия, — вспоминал Кайзвальтер, — но если оно у нас появится и возникнет необходимость, мы свяжемся с ним, — Кайзвальтер улыбнулся. — А мы получили двадцать девять объектов».
В Лидсе случай с кистоунской полицией чуть не закончился арестом Кайзвальтера. «В штаб-квартире сказали, что я должен поехать в Англию под видом шотландца по имени Макэдам. Я зарегистрировался в Лидсе в одном из отелей. Шел проливной дождь. Я только что встретился с Пеньковским на улице. «Мы можем поговорить?» — спросил я. «Да, у меня есть два часа». Мы пошли в мой отель. В вестибюле было много народу. «Я войду. Вы следуйте за мной», — сказал я. Я прошел через вращающуюся дверь в вестибюль. Он не появлялся. Я решил, что, возможно, он меня не понял. Я вышел на улицу. А пока я выходил через вращающуюся дверь, он входил. Люди в вестибюле оторвались от своих газет. Что это за клоуны?»
Дело принимало плохой оборот: Кайзвальтер вернулся в отель — прямо в руки полиции. «Меня арестовали в вестибюле. Задержали во всяком случае. Меня спросили: г-н Макэдам, что вы здесь делаете? Это владения Королевы. Владения Королевы? Я не мог понять, о чем речь. Выяснилось, что речь шла о переписи каждые десять лет. Если вы приезжаете в этот период, вам необходимо зарегистрироваться в полиции, а я этого не сделал. Да я и бланка-то не мог заполнить. Я даже не знал имени своего «отца» — шотландца. Я поехал в МИ-6, и они, умирая со смеху, заполнили требуемую форму».
Перед отъездом из Англии Пеньковскому вручили новейший фотоаппарат, изготовленный техническими специалистами МИ-6, для переснятия документов. Он выглядел как фотоаппарат «минокс», но был специально предназначен для этой задачи, и в нем использовалась сверхчувствительная пленка[54].
В июле Пеньковский возвратился в Лондон с делегацией советских технических экспертов. Он передал Винну кучу пленок и документов и вновь встретился с четверкой сотрудников ЦРУ — МИ-6.
Совместная команда разработала для Пеньковского процедуры дальнейшей передачи секретов после его возвращения в Москву. Его контактами должны были стать Винн и Дженет Энн Чисхолм, бывшая секретарша Шерголда, а теперь жена начальника московской резидентуры МИ-6 Родерика Роари Чисхолма. Она прилетела в Лондон из Москвы для встречи с Пеньковским, чтобы тот знал, как она выглядит.
Пеньковскому дали график работы связи ЦРУ под кодовым названием «Yo-Yo-51» и одноразовый блокнот с русским алфавитом для расшифровки кодированных сообщений, которые будут передаваться ему в Москву на коротких волнах из Франкфурта[55]. В случае с Пеньковским ЦРУ передавало фонограмму, представляющую собой своего рода измененную азбуку Морзе. Она звучала как Морзе, но фактически представляла собой постоянный, но явно бессмысленный набор точек и тире. Пеньковского проинструктировали, что в субботу и воскресенье в полночь он должен надевать наушники и слушать радиоприемник марки «Сони», который ему купил Кайзвальтер за 26 долларов. В полночь предполагалось передавать позывной Пеньковского — группу из пяти цифр, — а вслед за ней ложную группу, последние три буквы которой должны означать, сколько настоящих групп ему следует ждать в следующей передаче. Если бы КГБ прослушивал эту передачу, то сообщение ничем не отличалось бы от предшествующего набора точек и тире; и только Пеньковский мог расшифровать текст с помощью своего блокнота одноразового использования.
Пеньковский привез с собой длинный список покупок, заказанных советскими должностными лицами. Первой в списке была просьба начальника ГРУ Ивана Александровича Серова, бывшего шефа КГБ. «Пеньковский говорит, Серову нужно садовое кресло-качалка и он хочет вылечить ревматизм с помощью пчел, — рассказывал Кайзвальтер. — Пеньковский также привез список размеров обуви, которую он должен был купить женам руководящих работников. «Как ты мыслишь все это довезти домой? — спросил я. — Винн выезжает с десятью чемоданами. Кресло-качалку можно переправить на катере — у нас есть катер на Темзе». Итак, мы отправились за покупками. Нам пришлось купить подарок ко дню рождения Варенцова — будет сам Хрущев. В «Хар-родсе» я купил серебряную сигаретницу в виде ракеты. Как раз для маршала. И часы. Но у нас не было надежного гравера, поэтому мы не могли сделать на них гравировку. А также бутылку коньяка шестидесятилетней выдержки, которую нам привезли оперативные работники ЦРУ, прочесавшие с этой целью всю Францию. Они все же нашли одного надежного дантиста, который вставил Пеньковскому отсутствующий зуб».
Как ни был занят Пеньковский, ведущий двойную жизнь, находясь в Лондоне, он нашел время побывать на могиле Карла Маркса на Хайгетском кладбище. «Она была покрыта мусором, — сказал Кайзвальтер. — Он сфотографировал ее и сообщил в Москву, что эти типы, засевшие здесь в нашем посольстве, даже не удосуживаются ухаживать за могилой. Его похвалили».
В сентябре Пеньковский почти на месяц прилетел в Париж, где встречался с Кайзвальтером, Шерголдом и двумя другими членами команды на английской конспиративной квартире близ площади Этуаль. Он возвратился в Москву 16 октября 1961 года. На Западе его больше никогда не видели.
По возвращении в Москву Пеньковский должен был, согласно договоренности, в неотложных обстоятельствах установить связь через тайник, укромное местечко за радиатором отопления в подъезде жилого здания № 5/6 на Пушкинской улице. Он должен был оставить свое сообщение в спичечном коробке, обмотать его проводом и подвесить на крючок за радиатором. Этот тайник, по словам Кайзвальтера, должен был использоваться только в исключительных случаях «для предупреждения о запланированном внезапном нападении советских войск или резких изменениях в оперативной обстановке. Например, положим, в случае неожиданного перевода Пеньковского из Москвы. Ему пришлось бы каким-то образом сообщить нам об этом». Если Пеньковский закладывал что-то в тайник, он должен был сигнализировать об этом ЦРУ, начертив углем круг на фонарном столбе № 35 у автобусной остановки на Кутузовском проспекте. Столб проверял ежедневно капитан Алексис Дэ-висон, помощник военно-воздушного атташе и врач посольства, привлеченный ЦРУ исключительно для выполнения этой задачи. Дэвисон мог делать это, не привлекая внимания, ежедневно проезжая мимо фонаря своим обычным маршрутом из дома в посольство[56].
В конце 1961 года ЦРУ решило проверить тайник, хотя сигнала от Пеньковского не поступало. Штаб-квартире хотелось удостовериться, что дверь подъезда не заперта, тайник доступен и все в рабочем состоянии.
Управление убедило Джона Абидяна, офицера службы безопасности посольства, выполнить это рискованное задание. Хотя Абидян работал на госдепартамент, а не на ЦРУ, его не пришлось долго уговаривать. «Это была работа, и ее надо было выполнять», — сказал он.
Высокий темноволосый красавец, уроженец Новой Англии, с поразительно привлекательными чертами лица, Абидян очень следил за своей внешностью. «Я питал слабость к хорошей стрижке», — рассказывал Абидян. Когда за год до описываемых событий он прибыл в Москву, то долго искал себе хорошего парикмахера. «Наконец я нашел одного. Рядом с парикмахерской находился книжный магазин. И так случилось, что дверь подъезда дома на Пушкинской улице находилась рядом с книжным магазином, за углом. Я смог подстричься, так как знал, что сотрудники наружного наблюдения спят или курят. Затем вошел в книжный магазин в одну дверь и вышел в другую. Повернул за угол и проскользнул в плохо освещенный подъезд, с телефоном-автоматом на стене. Я помню лестничную клетку, радиатор на правой стороне, очень маленький подъезд». Абидян проверил дважды на тот случай, если Пеньковский оставил что-нибудь за радиатором. «Но там ничего не было. Наступал вечер, и в подъезде было темно». Хотя Абидян не помнит этого, но, возможно, он зажег спичку, чтобы осмотреть тайник. «Я просунул руку как можно дальше — дальше некуда, для этого нужно было бы иметь очень тонкую руку».
Поскольку тайник оказался пустым, Абидян установленным порядком информировал об этом ЦРУ. Он вспоминал, что впоследствии он вновь проверял тайник на Пушкинской улице, по крайней мере один раз. Но, ныряя из парикмахерской в книжный магазин, а оттуда к тайнику, Абидян был уверен, что слежки КГБ за ним нет.
Шесть недель спустя после возвращения Пеньковского из Парижа в Москву прибыл Гарблер. Хотя и занятый делом Пеньковского, он разрабатывал и другие объекты для московской резидентуры. Одним из них был дипломат из другой страны, сотрудничавший с ЦРУ. Гарблер. пригласил несколько человек, включая и его, к себе домой посмотреть фильм. В темноте он передал этому человеку небольшое устройство, заостренное с одного конца и имевшее полый контейнер для сообщения.
«Его надо было установить у столба на шоссе и использовать в качестве тайника, — рассказывал Гарблер. — Но этот человек не сделал того, о чем его просили. Утверждал, что за ним следили, и решил, что лучше этого не делать». Гарблер попросил вернуть устройство, и дипломат вернул его неделю спустя также во время просмотра фильма на квартире резидента.
Гарблер спрятал устройство в карман брюк, а ночью переложил под подушку. Он переслал устройство в штаб-квартиру ЦРУ, где его осмотрели специалисты отдела технических служб. «К моему ужасу, отдел технических служб сообщил, что устройство радиоактивно, — сказал он. — Очевидно, советские органы вскрыли сейф человека из посольства и пометили устройство изотопами». Гарблеру сказали, что это сделали, чтобы легче было обнаружить это устройство.
«Я подумал, что в течение шести часов это устройство находилось в кармане моих брюк, в непосредственной близости от жизненно важных органов, — вспоминал Гарблер, — а затем под подушкой». Этот случай не имел никаких последствий для его здоровья, но поразил Гарблера тем, как далеко заходят Советы в своем противостоянии ЦРУ.
Тем временем он ждал сигнала от Энглтона. Хотя Гарблер и согласился на прощальном вечере у Билла Харви принять руководство агентом шефа контрразведки в Москве (не так-то легко было отказать Энглтону), между Гарблером и шефом контрразведки не было задушевных отношений. Причиной тому явился случай, имевший место в 1956 году, когда Энглтон посетил стокгольмскую резидентуру. В то время Гарблер был заместителем начальника резидентуры.
Энглтон встретился с Гарблером и Полом Бердсол-лом, начальником резидентуры. Шеф контрразведки немного поболтал о хорошей погоде, о том, как он прекрасно проводит время в Стокгольме, а затем встал, снял пиджак и из потайного карманчика в ремне извлек шифрблокнот.
— Я хотел бы послать сообщение, — объявил Энглтон.
— Это имеет какое-нибудь отношение к тому, что происходит в Швеции? — вежливо спросил Г арблер.
— Конечно.
— Мы несем ответственность за все, что здесь происходит. Не можем ли мы узнать, что вы собираетесь передать?
— Ни в коем случае.
Поскольку Энглтон путешествовал со своими собственными кодами, их нельзя было прочитать в резиден-туре. Гарблер повернулся к Бердсоллу. «Пол, — обратился он к нему, — думаю, нам не следует разрешать ему передать сообщение. Пусть передает его через Западный союз, если хочет». Бердсолл, выпускник Гарварда, с мягкими манерами, не умевший возражать, не согласился с предложением своего заместителя и разрешил Энглтону передать сообщение.
Теперь, спустя несколько месяцев после приезда в Москву, Г арблер получил из штаб-квартиры телеграмму от Энглтона с пометкой «только лично». Начальник контрразведки выслал порядок установления связи с его агентом. Когда тайник в парке им. Горького будет заложен, агент пошлет вполне невинную почтовую открытку на условленный адрес за границу. Энглтону сообщат, когда придет открытка, и он вышлет условный сигнал Гарблеру в Москву об изъятии закладки.
Когда сигнал поступил, Гарблер в сопровождении своей жены Флоренс отправился в парк им. Горького. Тайником служил полый булыжник. Если он лежал на указанном Гарблеру месте, значит, внутри была закладка. Булыжник был там. Убедившись, что за ним никто не следит, Гарблер поднял его и ушел.
В посольстве Гарблер вскрыл булыжник и внутри нашел длинное сообщение, зашифрованное сериями групп из пяти знаков. Начальнику резидентуры это создавало основательную проблему. В присланном коде процедурой предусматривалась расшифровка цифр в буквы. Цифра «6», например, становилась словом «шесть», а затем текст должен был быть опять зашифрован. Даже если в коде агента использовались цифры до 10, Гарблер подсчитал, что каждая группа из пяти цифр потребует для расшифровки три или более групп из пяти букв. А это может дать в результате очень длинное сообщение.
Учитывая длину полученного в булыжнике сообщения, Гарблер подсчитал, что для передачи Энглтону всего сообщения потребуется несколько телеграмм с грифом «оперативная весьма срочная». Поскольку весь связной обмен осуществлялся через советскую телеграфную сеть, эта необычная передача могла бы насторожить и, возможно, встревожить Советы. Не начинается ли третья мировая война? Гарблер телеграфировал Энглтону о своем затруднении и попросил дальнейших указаний. Действительно ли следует передать телеграммы начальнику контрразведки по кабельной связи? Пришел ответ: «Поступайте, как договорились».
В комнате связи кондиционер работал плохо, поэтому в ней было жарко и душно. Гарблер, раздевшись до майки, работал там в течение четырех часов, старательно пользуясь одноразовым блокнотом, заново кодируя материалы, заложенные в булыжник. Он отправил четыре сообщения с грифом «оперативное весьма срочное», когда позвонили из штаб-квартиры: «Прекратите передачу. Остальное направляйте с грифом «обычная»». То есть самый низкий и наименее срочный вид телеграммы.
Гарблер так и не узнал имени агента и содержания сообщения, взятого из булыжника, и никогда более не получал сигнала от Энглтона. Но начальник московской резидентуры, возможно, надеялся, что, после того как он обслужил агента Энглтона, начальник контрразведки сможет забыть или по меньшей мере простить инцидент в Стокгольме. Будущее Гарблера, первого начальника московской резидентуры, казалось блестящим, да и Энглтон не тот человек, с которым стоило бы вступать в спор.
Гарблер никогда не говорил Джону Мори, начальнику советского отдела, что согласился изъять закладку из «булыжника» Энглтона. Начальник контрразведки дал ясно понять, когда связался с Гарблером, что эту операцию следует провести в условиях строгой секретности.
И у Гарблера могла быть другая уважительная причина не говорить об этом начальнику отдела. Он знал, что Мори не относился к числу почитателей Энглтона. Начальник советского отдела, вежливый, курящий трубку уроженец Вирджинии, обычно не делавший поспешных выводов, не однажды достаточно резко высказывал свою точку зрения.
«Мори обычно говорил об Энглтоне, — вспоминал Гарблер, — что если ему отрубят голову, он будет извиваться еще очень долго».
ГЛАВА 6
Контакт
В начале июня 1962 года Юрий Иванович Носенко, 35-летний сотрудник КГБ при советской делегации по разоружению, подошел к американскому дипломату и попросил его о конфиденциальной беседе. Дипломат известил об этом резидентуру ЦРУ в Берне, столице Швейцарии, и Пит Бэгли, сотрудник, специализировавшийся на советских операциях, немедленно поездом отправился в Женеву.
Там Бэгли и Носенко встретились на конспиративной квартире ЦРУ. Во время беседы Носенко явно очень нервничал и налегал на спиртное. Он сказал Бэгли, что перед встречей он тоже пил[57]. В ходе встречи возникли определенные трудности: Бэгли едва говорил по-русски, а знания английского языка Носенко были ограниченными. Здесь явно требовался человек ЦРУ, владеющий русским языком.
Оповестили штаб-квартиру. Как только телеграмма из Швейцарии прибыла в Лэнгли, Джорджу Кайзвальте-ру было приказано вылететь в Женеву. Кайзвальтер не только бегло говорил по-русски, но руководил двумя самыми ценными агентами ведомства из числа советских граждан: сначала Петром Поповым, затем Пеньковским. Логично, что для встречи с Носенко выбор пал на него.
В это время в ЦРУ кипела работа. Шестью месяцами ранее в Хельсинки бежал Анатолий Голицын, и его предупреждение о «Саше», агенте, проникшем в ЦРУ, фамилия которого начиналась с буквы «К», дало толчок секретной охоте на «кротов» в контрразведывательной службе Энглтона. Установили прослушивание телефонных разговоров Питера Карлоу, который и не догадывался, что является главным подозреваемым. В Москве Пол Г арблер по-прежнему руководил контактами с Пеньковским, который все еще передавал советские военные секреты Западу, хотя все более нервничал по поводу того, что КГБ, возможно, раскрыл его шпионскую деятельность.
Теперь свои услуги предложил Носенко. Со временем ему предстояло стать самым спорным из перебежчиков за всю историю ЦРУ.
«Бэгли встретил самолет и отвез меня на конспиративную квартиру, — говорил Кайзвальтер. — Носенко должен был прийти». Но прежде пришлось провести кое-какую подготовку. «Мы установили потайные микрофоны, — продолжал Кайзвальтер. — И я подсоединил их к магнитофону». Проделав все это, Кайзвальтер и Бэгли стали ждать.
Сомнительно, чтобы ЦРУ при всем своем желании смогло найти двух столь непохожих друг на друга сотрудников и поручить им общее дело. По стилю, индивидуальности, происхождению и внешним данным оба эти человека резко контрастировали друг с другом.
Джордж Кайзвальтер походил на крупную лохматую овчарку. Это был самоуверенный человек, не признававший авторитетов, сердцем оперативный работник, но где-то глубоко в душе возмущавшийся клубной атмосферой, царившей в ведомстве, которое, как он понимал, не позволит ему выдвинуться на высокий пост, поскольку он навсегда останется аутсайдером, иностранцем по рождению, уроженцем царской России.
Кайзвальтер, старший из двух сотрудников, родился в Санкт-Петербурге в 1910 году. Его отец, специалист по снаряжению царской армии, в 1904 году был направлен в Вену для наблюдения за производством снарядов для войны с Японией. Там он встретил француженку из Дижона, школьную учительницу, которая приехала с ним в Россию и вышла за него замуж. Когда началась первая мировая война, старшего Кайзвальтера направили в Соединенные Штаты на военный завод близ Честера (штат Пенсильвания), где производились трехдюймовые снаряды для России.
После революции в России он вывез свою жену и сына в Нью-Йорк. Кайзвальтеры стали гражданами США. Их сын Джордж в 1930 году закончил Дартмутский университет со степенью бакалавра, а спустя год получил степень магистра по гражданскому строительству.
Молодой специалист Кайзвальтер устроился на работу в нью-йоркский департамент городских парков, где помогал в строительстве зоопарка для детей в Центральном парке. Затем он поступил на службу в армию. Когда разразилась вторая мировая война, армейское руководство, узнав, что Кайзвальтер говорит по-русски, направило его на Аляску в качестве офицера связи с советскими летчиками, перегонявшими порядка двенадцати тысяч военных самолетов в Советский Союз через Фэрбанкс. На Аляске на самолеты наносилась советская маркировка — самоклеющиеся красные звезды по обеим сторонам фюзеляжа. В середине войны запас красных звезд иссяк, и Кайзвальтер, проявив изобретательность, закупил запасы самоклеющихся звезд фирмы «Тексако» на местной заправочной станции. «Я скупил эти звезды, — рассказывал он, — мы их наклеивали на самолеты и гово->или русским пилотам: вперед, летайте с компанией «Тексако»! И они летали».
В конце войны Кайзвальтер служил в разведотделе армейской разведки в Германии. Два года он работал с генералом Рейнхардом Геленом, который возглавлял «Иностранные армии Востока» — отдел германского генерального штаба, осуществлявший сбор разведывательной информации по Советскому Союзу. Кайзвальтер проводил опрос Гелена, которого ЦРУ планировало назначить руководителем западногерманской разведки, «обо всем, что тот знал о Советской Армии».
Затем Кайзвальтер, оставив службу в армии и работу в разведке, отправился в штат Небраска, где в течение пяти лет занимался выращиванием люцерны. Его фермерская карьера была недолгой. В 1951 году он поступил в ЦРУ и завоевал там себе репутацию, благодаря которой спустя десяток лет он появился на конспиративной квартире в Женеве.
Теннент Харрингтон («Пит») Бэгли попал в Швейцарию более традиционным путем. Бэгли был красив, образован, застегнут на все пуговицы и амбициозен, с острым аналитическим умом и социальными и семейными корнями, опиравшимися на ВМС и Принстонский университет. В то время ему было тридцать шесть. Он родился в Аннаполисе в семье вице-адмирала. Два его брата тоже стали адмиралами: один — заместителем командующего по морским операциям, другой — командующим ВМС в Европе. Его двоюродный дед адмирал Уильям Лехи возглавлял аппарат президента Франклина Д. Рузвельта в военное время.
Вместо того чтобы следовать семейной традиции, Бэгли в 1942 году, в день, когда ему исполнилось семнадцать лет, поступил на службу в морскую пехоту. После войны он посещал Принстонский университет, но степень бакалавра получил в университете Южной Калифорнии, а докторскую степень в области политических наук — в Женевском университете в Швейцарии. На службу в ЦРУ он пришел в 1950 году, в начале 50-х четыре года работал в Вене. Именно тогда он сопровождал советского перебежчика Петра Дерябина в Вашингтон, и теперь, когда его четырехлетняя командировка в Берне, где он обрабатывал письма Голенев-ского, близилась к концу, в Женеве вышел на контакт Носенко.
Кайзвальтеру и Бэгли ждать пришлось недолго. «Дня два прошло с момента моего приезда в Женеву, — рассказывал Кайзвальтер. — Однажды во второй половине дня вошел Носенко. Это был мужчина около тридцати лет, прекрасно выглядевший, темноволосый, примерно пяти футов десяти дюймов ростом, довольно мускулистый. Он очень нервничал и сразу принялся пить».
Сотрудник КГБ предложил продать информацию ЦРУ за 900 швейцарских франков, заявив, что ему необходимо вернуть эти деньги в кассу КГБ, поскольку он потратил их на спиртное. Позднее Носенко признал, что выдумал эту историю: он боялся, что предложение предоставить информацию просто так будет отвергнуто как провокация, как уже бывало порой в прошлом, когда сотрудники КГБ, действуя согласно инструкциям, делали подходы к ЦРУ.
Носенко не говорил о своем переходе на Запад. «Он хотел вернуться домой, — рассказывал Кайзвальтер. — Его дочь Оксана страдала астмой, и в кремлевской клинике, куда он имел доступ, ему сказали, что в Советском Союзе нужного лекарства нет. Мы позвонили в штаб-квартиру в США. Там никого не было. Наконец мы нашли кого-то в Голландии. Мы наняли пилота, который прилетел в Женеву и привез нужное лекарство.
Два года спустя он сказал, что это спасло ей жизнь».
Потягивая неразбавленное виски, Носенко заговорил, раскрывая информацию, которая, как он надеялся, докажет его искренность двум сотрудникам ЦРУ. Вначале он сообщил, что Борис Белицкий, известный корреспондент Московского радио, который в то время работал на ЦРУ и действовал под псевдонимом «Вайр-лес», на самом деле был двойным агентом и находился под контролем КГБ. Это разоблачение поразило Кайзвальтера, поскольку он знал, что всего два года назад Белицкий блестяще прошел проверку на детекторе лжи ЦРУ. «Оператор полиграфа сказал, что Белицкий парень что надо, — вспоминал Кайзвальтер. — По его словам, он мог бы задницей пропеть «Звездно-полосатый флаг»».
После такого «непрофессионального» заверения ЦРУ воспринимало информацию Белицкого буквально[58]. Корреспондент был завербован в 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе Джорджем Голдбергом, который родился в Латвии и прекрасно говорил по-русски. К 1962 году работой «Вайрлеса» руководили два оперативных сотрудника— Голдберг и Гарри Янг[59]. В подтверждение этих данных Носенко смог назвать Кайзвальтеру и Бэгли фамилии обоих сотрудников ЦРУ.
«Белицкий находился в Женеве для освещения встреч по разоружению, — рассказывал Кайзвальтер. — Улыбнувшись, Носенко сказал: «Вы не должны ничего предпринимать против Белицкого, потому что, если они что-то обнаружат, я погиб. Если они обнаружат даже то, что я здесь, я погиб»».
Какое-то время Голдбергу и Янгу не говорили, что их агент является двойным агентом, опасаясь, как бы нечаянной оговоркой, или даже интонацией, или каким-то действием они не предупредили «Вайрлеса», что ЦРУ теперь известно о наблюдении за ним КГБ.
К 1962 году Белицкий, уже ведущий корреспондент Московского радио, слегка лысеющий мужчина нормального телосложения, одевался как английский джентльмен и блестяще говорил по-английски с американским акцентом. Его отец работал в Амторге, советском торговом агентстве, и Борис учился в Нью-Йорк Сити[60].
В Женеву прибывали новые лица. В то время, когда Кайзвальтер и Бэгли встречались с Носенко, Брюс Соли из управления безопасности ЦРУ, тесно сотрудничав-ший с контрразведкой в охоте на «кротов», прилетел туда в надежде расспросить Носенко о проникновениях. Кайзвальтер, исходя из пословицы, что у семи нянек дитя без глазу, заявил, что сам задаст эти вопросы, и не допустил Соли на конспиративную квартиру.
Кайзвальтер и Бэгли ничего не знали о предупреждениях Анатолия Голицына в отношении «кротов» в ЦРУ и его конкретных заявлениях относительно «Саши». Оба сотрудника ЦРУ, однако, сказали, что помнят, как Соли передавал вопросы для Носенко.
«Соли дал мне целый список, о чем спрашивать, — вспоминал Кайзвальтер, — включая и несколько вопросов о «Саше». Я не раз встречался с ним в уличном кафе. Рассказывал ему о том, что Носенко говорил по интересующим его вопросам».
По словам Бэгли, Носенко сказал, что не располагает никакой информацией о «кроте» КГБ в ЦРУ по имени «Саша». Они задавали ему также вопрос о Владиславе Михайловиче Ковшуке, сотруднике Второго главного управления КГБ, работавшем в Вашингтоне под именем Владимира Михайловича Комарова. Голицын заявил, что Ковшук — сотрудник столь высокого ранга, что мог приехать в Соединенные Штаты только для встречи с высокопоставленным агентом проникновения.
Мог ли Носенко пролить какой-то свет на миссию Ковшука? Носенко ответил, что мог и что Ковшука направили в Вашингтон для контактов с источником КГБ по кличке «Андрей». Но, по его описаниям, «Андрей» был источником низкого ранга, сержантом, работавшим в американском посольстве в Москве, который теперь вернулся в Соединенные Штаты и проживает где-то в районе Вашингтона.
Даже когда Носенко сообщил правду о «Вайрлесе», на другой конспиративной квартире в Женеве Голдберг тайно встречался с Белицким, пребывая в блаженном неведении о происходившем. В процессе опроса, проводившегося в Женеве и занявшего в общей сложности восемнадцать часов в течение нескольких дней, Белицкий передал Голдбергу, как он утверждал, секретную информацию.
В итоге Г олдбергу сообщили, что его агент провален. Даже после разоблачения Носенко ЦРУ продолжало работать с Белицким отчасти потому, что считало это полезным в период кубинского ракетного кризиса, имевшего место в октябре того года, чтобы проследить, какого рода искаженную информацию он передавал.
Но после того как его завербовали, «Вайрлес» в течение двух или трех лет поставлял хорошую информацию. По словам Голдберга, Белицкий не докладывал (КГБ) о том, что он завербован ЦРУ, до 1961 или 1962 года. По его словам, Голдберг узнал об этом из сообщения Носенко о разговоре с Белицким, который заявил ему, что был завербован ЦРУ в Англии в 1961 году, то есть спустя три года после его несомненной вербовки Голдбергом в Брюсселе.
Во время встреч Носенко раскрыл информацию, вызвавшую еще большее беспокойство: дело красавца-армянина. КГБ, сообщил он, выследил кого-то из американского посольства и наблюдал, как тот проверял тайник в подъезде жилого дома. «Советы называли его красавцем-армянином, — сказал Кайзвальтер, — но они знали его имя, да и Носенко назвал его — Абидян».
Кайзвальтер сразу же и безошибочно заподозрил, что этот тайник, предназначенный на случай чрезвычайных обстоятельств для самого важного агента ЦРУ, раскрыт. Он предположил, что потайное место, о котором говорил Носенко, не что иное, как тайник на Пушкинской улице, оборудованный для Олега Пеньковского. Кайзвальтер понимал важность сообщенного Носенко и пришел в смятение. Поскольку этим тайником в подъезде здания на Пушкинской улице никогда не пользовались, Кайзвальтер заключил, что КГБ пока неизвестно о его предназначении для Пеньковского. Но теперь тайник «засвечен», КГБ было известно его местонахождение. Разумеется, Кайзвальтер ничего не сказал Носенко, но в телеграммах в ЦРУ из Женевы он предупредил штаб-квартиру, что тайник обнаружен.
«Абидян был кретином, каким и должен был быть, — сказал Кайзвальтер. — Он захотел осмотреть это место ночью. Подъезд. Но не знал, что находится под неусыпным наблюдением. Было очень темно. То ли света не было, то ли он был тусклым. Они увидели, что армянин что-то вынюхивает. Чиркнув спичкой, он начал искать тайник. Это было вдвойне подозрительно. Затем он сказал: «Да, это здесь».
КГБ методично обследовал подъезд в течение шести месяцев. Рабочие возвели ложные стены. Носенко говорил мне, что наблюдение велось полгода. Я спросил его, что же произошло? «У них не хватило пороху», — ответил он. По-русски это значит, что все оказалось безрезультатно. Иными словами, через какое-то время они устали наблюдать за этим местом»[61].
Носенко также предупредил людей ЦРУ, что стены американского посольства в Москве скрывают в себе 42 микрофона. «Того, что он сообщил нам, — говорил Кайзвальтер, — было достаточно, чтобы найти их». Голицын также говорил о микрофонах в посольстве; впоследствии государственный департамент сообщил, что сорок из них были найдены[62].
В то время как Носенко рассказывал о подслушивающих устройствах в американском посольстве в Москве, его собственные слова, разумеется, фиксировались скрытыми микрофонами Кайзвальтера и записывались на пленку. В течение нескольких дней оба сотрудника ЦРУ провели на конспиративной квартире серию встреч с Носенко. Кайзвальтер, бегло говоривший по-русски, вел опрос, а Бэгли, хотя его знания русского языка и были ограничены, вел запись. Все это было тщательно спланированной головоломкой: Носенко, несомненно, допускал, что его записывают на пленку, но ведение записей в блокноте предназначалось, чтобы убедить его в обратном.
В процессе общения с Носенко стало ясно, что он — продукт советской элиты. Его отец Иван Исидорович Носенко при Никите Хрущеве был министром судостроения. Юрий Носенко родился в Николаеве, порту у Черного моря, недалеко от Одессы, 30 октября 1927 года. Его отец был человеком, который добился всего самостоятельно: он работал на одесских судоверфях, по ночам учился и стал инженером. Его мать, дочь архитектора, унаследовала интеллектуальный багаж высшего сословия. В 1934 году Носенко с семьей переехал в Ленинград, где работал директором судостроительного завода. Спустя пять лет семья переехала в Москву, где отец достиг поста министра судостроения, на котором оставался до своей смерти в 1956 году. Но за два года до этого карьере Носенко-старшего был нанесен сокрушительный удар, когда Хрущев отказался от крупного военно-морского флота, который Сталин приказал построить. Уже шло строительство двух авианосцев. Но эта программа был практически бессмысленной: корабли сошли бы со стапелей уже устаревшими и во многом уступали бы кораблям ВМС США. Сокращение в области кораблестроения по приказу Хрущева оставило Ивана Носенко практически не у дел. Его отец, говорил Юрий Носенко, был настолько подавлен, что последние месяцы своей жизни проводил на диване и мог только либо спать, либо вздыхать.
Но его сын, как отпрыск высокопоставленного родителя, быстро продвигался по служебной лестнице в советской разведке, В 1942 году, во время второй мировой войны, Юрия Носенко направили в нахимовское училище, а затем в академию, где, по словам одного бывшего должностного лица ЦРУ, он выстрелил себе в ногу, чтобы уйти с военной службы[63]. Тем не менее он сумел пристроиться в престижный Московский институт международных отношений и поступил на работу в ГРУ, которое направило его на Дальний Восток в качестве сотрудника военно-морской разведки. В 1953 году он перешел на работу в КГБ и женился на Людмиле, дочери известных коммунистов.
Кайзвальтеру и Бэгли Носенко заявил, что в данный момент в КГБ он имеет звание майора. Он также сказал, что после прихода в эту организацию его направили на работу во Второе главное управление, которое отвечает за внутреннюю безопасность и операции против иностранцев на территории Советского Союза[64]. Конкретнее, по словам Носенко, его направили на работу в Первый отдел, ответственный за наружное наблюдение за американским посольством и вербовку агентуры из числа его персонала. В 1955 году его перевели в Седьмой отдел, специализировавшийся на туристах, затем в 1960 году — вновь в Первый отдел, а в 1962-м — опять в Седьмой отдел. Он выезжал в 1957 году в Лондон в качестве офицера безопасности с группой советских спортсменов и в 1960 году — на Кубу[65].
Носенко не дал никаких объяснений по поводу того, что заставило его вступить в контакт с ЦРУ, кроме повтора истории с растратой швейцарских франков, которая, как он позднее признал, была вымыслом. Но какими бы ни были его мотивы, он имел достаточно информации для сообщения ЦРУ. КГБ, раскрыл он, внедрился в английскую разведку в Швейцарии. По словам Кайзвальтера, Носенко было известно об этом скорее из личного опыта. «Дело было так. Носенко флиртовал с английской секретаршей в Женеве, которая работала на МИ-5[66]. Как-то к Носенко заглянул Юрий Иванович Гук, сотрудник КГБ, находившийся в Женеве. Они были добрыми друзьями. Носенко сказал Гуку: «Аппетитная дамочка». — «Ради бога, Юрий, — ответил Гук, — держись от нее подальше, она из британской разведки. Что будет, когда наш человек в МИ-5 сообщит в Москву, что ты увиваешься около нее?» Мы ничего не сообщили англичанам, — продолжал Кайзвальтер, — поскольку они стали бы настаивать на том, чтобы им раскрыли источник. А что мы могли сказать, не засветив Носенко?»
Но другой новостью о проникновении в английские спецслужбы ЦРУ поделилось: Анатолий Голицын рассказал о советском шпионе в британском адмиралтействе. Последовавшее расследование сузило круг подозреваемых, но не выявило «крота». Теперь Носенко сообщил дополнительные детали, что дало возможность англичанам тремя месяцами позже, в сентябре 1962 года, арестовать Уильяма Джона Вассала, клерка адмиралтейства[67].
В 1954 году Вассал был направлен в Москву в качестве клерка при военно-морском атташе. Он удовлетворительно справлялся со своей работой, несмотря на «вызывающую раздражение женоподобную внешность». И хотя сослуживцы за глаза называли его «Вера», вряд ли кто-то из них допускал, что КГБ понял, что он гомосексуалист, которого можно шантажировать. В заявлении в Специальный отдел Вассал указывал, что помнит, как его накачали коньяком и сфотографировали голым в постели с «двумя или тремя» приятелями — точно сказать не может — в «нескольких компрометирующих сексуальных позах». Русские использовали эти фотографии, чтобы вынудить его заниматься шпионажем в Москве, а позднее в Лондоне. Когда ему надо было встретиться в Лондоне со своими советскими «партнерами», рассказал он, он должен был нарисовать кружок на дереве розовым мелком.
По словам Кайзвальтера, Носенко было известно, что «этот человек работает в адмиралтействе и что он гомосексуалист». «Он объяснил мне, как он это обнаружил. Из Англии вернулся советский оперативный сотрудник и в Москве получил награды. Вокруг этого было так много шума и зависти! Предполагалось, что этот человек добился большого успеха. Но каким образом, Носенко услышал об этом в служебных коридорах».
Кайзвальтер вел опрос Носенко в стремлении побольше узнать о том, какой ущерб причинил Эдвард Эллис Смит, резидент ЦРУ в Москве, которого поймала в ловушку его горничная из КГБ и которого уволили с работы. Носенко, по словам и Кайзвальтера, и Бэгли, подтвердил, что Смит был скомпрометирован. Фактически Носенко заявил, что, поскольку его подразделение работало по американскому посольству, он лично имел отношение к делу Смита. «У Носенко на связи была девушка Валя, — сказал Кайзвальтер. — Именно Носенко раскрыл, что КГБ прозвал Смита «Рыжим» за цвет его волос».
Кайзвальтер рассказал, что КГБ вынудил Смита прийти на одну встречу и пытался организовать следующую. «Носенко сообщил, что Смит йе хотел идти на вторую встречу. Носенко спросил девушку: «Собирается ли он на эту встречу?» По словам Носенко, девушка ответила, что перед ним (Смитом) стоит гамлетовский вопрос — быть или не быть».
Были и другие разоблачения. Голицын предупредил ЦРУ, что один из канадских послов в Москве был гомосексуалистом. Теперь Носенко подтвердил, что таким послом был Джон Уоткинс, выдающийся ученый, работавший в Москве в середине 50-х годов. По словам Кайзвальтера, Носенко поведал о том, как Уоткинс и министр иностранных дел Канады Лестер Пирсон присутствовали на обеде на даче Хрущева в Крыму в 1955 году. По мере возлияний советский лидер начал «подкалывать» Уоткинса. «Опьяневший Хрущев со знанием дела отпускал замечания в адрес Уоткинса, — продолжал Кайзвальтер. — Он сказал: «Не всем здесь нравятся женщины». Среди гостей был генерал Олег Михайлович Грибанов, который работал по иностранцам в Советском Союзе и теперь готов был лопнуть от ярости»[68].
Носенко также дал описание операций КГБ в Женеве, важной разведывательной базе, поскольку там часто проводились международные встречи, многие под эгидой структур Организации Объединенных Наций, штаб-квартиры которых находились в этом городе. «Носенко сообщил нам, сколько оперативных сотрудников находилось в Женеве, как они действовали в этом городе, какую вычислительную технику использовали для наблюдения. Они держали под контролем все каналы полиции. По его словам, в Женеве они брали напрокат автомобили, чтобы их собственные автомашины не были засвечены».
В ходе встреч на конспиративной квартире в Женеве Носенко также сообщил, что Советы осуществили проникновение в операцию ЦРУ против одного сотрудника КГБ, Операция началась с того, что женщина-агент, работавшая на ЦРУ в Вене, призналась своим руководителям в своей опасной любовной связи. «Она влюбилась в сотрудника КГБ, с которым встретилась в Советском Союзе, — вспоминал Кайзвальтер. — Этот парень выехал из Москвы, прибыл в Одессу и оттуда пароходом отправился в Пирей, чтобы встретиться с девушкой в Вене. Идея состояла в том, чтобы скомпрометировать этого сотрудника КГБ. Но поскольку Носенко обо всем знал, это означало, что советский офицер действовал под контролем». Для Кайзвальтера это стало еще одним сообщением, которое «помогло доказать искренность Носенко».
Одно из заявлений Носенко было трудно проконтролировать даже для ЦРУ. По словам Кайзвальтера, Носенко сообщил ему, что Советы имеют изобличающие данные на обозревателя Джозефа Олсопа, гомосексуалиста: у них есть фотографии и, как только он выйдет за рамки, они могут шантажировать его, если он не будет писать то, что они хотят. «Над ним постоянно занесен меч», — сказал Носенко. Тогда Кайзвальтер пошел к Тому К. (Томас Карамессинес, в то время помощник заместителя директора по планированию), он приказал вырезать этот кусок из пленки и не вести запись этой темы, потому что Олсоп был близким другом президента. «Он приказал мне вырезать эту часть беседы из пленки, и я сделал это», — сказал Кайзвальтер. Олсоп, один из наиболее влиятельных вашингтонских обозревателей, был другом не только президента Кеннеди, но и многих других известных политических деятелей. Изысканный в манерах, эрудированный, он был к тому же коллекционером, искусствоведом и писателем. Но если бы Советы попытались оказать на него давление, их усилия вряд ли могли увенчаться успехом: Олсоп был закоренелым антикоммунистом и суровым критиком Советов во всех своих произведениях. Он постоянно предупреждал, что в военной области Советы опережают Соединенные Штаты и что Вашингтон столкнется с «ракетным прорывом». Он скончался в августе 1989 года в своем доме в Джорджтауне в возрасте семидесяти восьми лет[69].
Носенко также рассказал о системе КГБ «литра» — об использовании определенных химических веществ в ходе секретных операций. «Носенко говорил, что советская контрразведка использует «литру» для того, чтобы помечать почтовую корреспонденцию или фиксировать местонахождение людей, — сообщил Кайзвальтер. — Один посольский служащий на переходе ожидал зеленый свет. Рядом с ним стояла симпатичная пожилая дама, также собиравшаяся переходить улицу. Она нажимала кнопку баллончика, и тонкая струйка жидкости попадала на его ботинки. Если бы за этим человеком пустили собак — колли и овчарок, они смогли бы взять его след»[70].
Когда беседы с Носенко в Женеве близились к концу, сотрудники ЦРУ выработали план будущих встреч. «Он согласился вновь вступить в контакт, — рассказывал Кайзвальтер, — но настаивал, чтобы повторной связи не было в Советском Союзе, где наблюдение со стороны его собственных коллег делало такую попытку исключительно опасной. Пять или шесть агентов (русских, работавших на ЦРУ) были потеряны в результате повторной связи в Советском Союзе.
Теперь нам предстояло разработать план связи для Носенко. Прежде чем покинуть Женеву, я связался с управлением безопасности и получил несколько надежных адресов в Нью-Йорке. Мы остановились на адресе в Манхэттене человека, который являлся агентом ЦРУ. На основании этих планов мы договорились с Носенко, что он вступит с нами в повторную связь с любой территории свободного мира, отправив на нью-йоркский адрес письмо или телеграмму». Носенко проинструктировали, что он должен подписать свою телеграмму именем «Алекс».
«Спустя три дня после отправления телеграммы мы встречаемся в вестибюле кинотеатра, название которого начинается с буквы, ближе всего расположенной в алфавите к букве А, в городе, из которого отправлена телеграмма»[71].
И они разъехались. «Мы подарили Носенко отрез ткани на платье для его жены. Мы так поступали и прежде в отношении других добровольных информаторов. Он поблагодарил нас за лекарство и, разумеется, заучил адрес в Нью-Йорке».
Кайзвальтер и Бэгли приняли меры предосторожности, чтобы не потерять записи опроса Носенко. «Мы покинули Женеву на разных самолетах, — вспоминал Кайзвальтер. — У одного из нас были записи, у другого — магнитофонные ленты».
Бэгли и Кайзвальтер возвратились в Лэнгли, уверенные, что добились крупного успеха — сотрудник КГБ щедро выкладывал секреты и, что редко среди офицеров советской разведки, согласился остаться агентом на месте. И хотя он исключил всякие контакты в Москве, но согласился на возможную повторную связь с ЦРУ. Ведь, с точки зрения Лэнгли, более желательно иметь агента на месте, чтобы продолжать черпать информацию из стен КГБ. Носенко и ЦРУ пошли на взаимный компромисс: он возвратился в СССР, и это предпочтительнее в сравнении с тем, что случалось с большинством добровольных информаторов, таких как Голицын, который настаивал на немедленном переходе на Запад. Перебежчиков можно было допрашивать и выуживать из них все, что они знают, но наступал момент, когда их информация заканчивалась. Для ЦРУ агент на месте, даже такой, как Носенко, имел гораздо большую ценность.
Оба оперативных сотрудника были в восторге от своего улова: «Вайрлес»; разоблачения Бориса Белицкого, агента-двойника, действовавшего против ЦРУ, которому уже не суждено спеть «Звездно-полосатый флаг» тем необычным способом, какой предложил проверявший его оператор полиграфа; дело красавца-армянина и та серьезная опасность, которую Кайзвальтер уловил в операции с Пеньковским; микрофоны в стенах американского посольства в Москве; проникновение в английские спецслужбы в Швейцарии; информация, которая должна была привести к аресту Уильяма Джона Вассала, клерка британского адмиралтейства; новая деталь о компрометации на сексуальной почве Эдварда Эллиса Смита, резидента ЦРУ в Москве; советское проникновение в действия ЦРУ, направленные на вербовку пылко влюбленного сотрудника КГБ в Вене; прокат автомобилей КГБ и другие профессиональные хитрости в Женеве; система «литра» — впечатляющий перечень.
Бэгли, не чуя под собой ног от радости, доложил Джеймсу Энглтону о своих встречах с Носенко в Женеве. Энглтон приветствовал его с энтузиазмом отца, маленький сынишка которого с триумфом притащил домой дохлую бродячую кошку.
В пантеоне перебежчиков Энглтона имелось место только для одного божества. Анатолий Голицын предсказал это; он предупредил, что другие перебежчики или агенты, опровергающие его предупреждения о наличии «крота» в ЦРУ, не будут восприниматься всерьез. По мнению начальника контрразведки, именно так и получилось с Носенко, с его объяснением причины приезда Ковшука в Вашингтон и твердым заявлением, что он не знает никакого советского агента по кличке «Саша», работающего в ЦРУ.
«По возвращении я думал, что он был искренним, — вспоминал Бэгли. — Я был полон энтузиазма в отношении Носенко. Энглтон сказал: „Прежде чем организовать следующую встречу, я хотел бы, чтобы ты посмотрел дело другого перебежчика, Голицына“. Я прочел досье, пришел и сказал: „Что-то не так. Думаю, мы получили не то, что нам надо“».
Позднее говорили, что Энглтон использовал всю свою огромную силу убеждения, чтобы воздействовать на Бэгли и склонить этого более молодого сотрудника к своей точке зрения. По словам Бэгли, не все было именно так. Разве не Энглтон повлиял на точку зрения Бэгли? «Нет, — ответил тот. — Информация изменила мою точку зрения»[72].
В ЦРУ наметилась тонкая трещина, которой со временем суждено было обернуться катастрофическим землетрясением. Начиная с этого момента группа лиц в ЦРУ во главе с Энглтоном и примкнувший к ней Бэгли должны были создать непоколебимую убежденность в том, что Юрий Иванович Носенко является подставой под контролем КГБ. «Война перебежчиков» началась.
Но война эта фактически велась не по поводу противоречий в искренних признаниях Анатолия Голицына и Юрия Носенко, хотя это и послужило полем боя, на котором разгорелась жестокая схватка. В действительности война шла по поводу «кротов».
ГЛАВА 7
Кольцо сжимается
У Питера Карлоу пока не возникло и мысли о том, что и ЦРУ, и ФБР теперь подозревали, что он и есть «Саша», неуловимый советский «крот», настоящее имя которого, по словам Анатолия Голицына, начиналось с буквы «К».
Каждый день Карлоу являлся на работу в государственный департамент в качестве представителя ЦРУ в центре операций. К началу 1962 года весь огромный аппарат безопасности правительства Соединенных Штатов нацелился на Карлоу, который стал золотой рыбкой в чане. Это дело считалось настолько важным, что о нем поставили в известность Эдгара Гувера, директора ФБР, а директора ЦРУ Джона Маккоуна полностью информировали о ходе исключительно секретного расследования.
Первое слабое подозрение, что что-то, видимо, не так, поначалу вызвало у Карлоу лишь смутное чувство тревоги, какое испытываешь в затишье перед летней грозой. Этим слабым предвестником явилось предложение в конце 1962 года явиться в одно из зданий ЦРУ, на котором не было никаких вывесок и которое находилось на Н-стрит, 1717, в центре Вашингтона. Там его ожидали два агента ФБР.
«Они выглядели стандартно, — вспоминал Карлоу. — Черные костюмы, белые сорочки, черные галстуки, темные волосы. Оба агента расспрашивали меня о кузнеце-немце, с которым я работал. Это был этнический немец, выросший в России, но во время войны он через линию фронта перебрался в Германию. Мне сказали, что он хочет бежать в СССР, что у этого парня, старого кузнеца, проживавшего в Бетесде, есть тетка, которая настаивает на его возвращении в Советский Союз. Я знал, что ему это ни к чему. Кузнец работал частным гравером в Вашингтоне — я посещал его время от времени. Они якобы хотели, чтобы я оценил возможности его возвращения. Я сказал им, что он не вернется. Я знал, что это чушь. Он ничего не выиграет, если вернется назад.
Я понял, что что-то не так, но не знал — что. Моя реакция была следующей: как могли эти два агента ФБР так ошибаться и почему именно я? Оглядываясь назад, можно сказать, что эта беседа была лишь предлогом для встречи со мной».
Агенты ФБР хотели поближе познакомиться с человеком, который, как им сказали, мог оказаться советским шпионом. Но в то время Карлоу не придал этому случаю особого значения. Он написал докладную записку «лично» Ричарду Хелмсу, заместителю директора по планированию, в которой сообщил о странной беседе с представителями ФБР, и выбросил это из головы.
Спустя несколько недель другое незначительное событие заронило искру тревоги. У дома Карлоу на Клингл-стрит в северо-западной части Вашингтона, где он проживал со своей женой Либби, появились два других агента ФБР. «Они сказали, что по этой же улице проживает подозрительная пара, они немцы, но могут оказаться шпионами одной недружественной страны. Можно ли использовать мой гараж для установки подслушивающего оборудования? На следующий день по всему было видно, что мой телефон прослушивается». В конце концов, Карлоу был техническим экспертом ЦРУ и ему были известны эти признаки. «Сигнал после набора номера поступал с задержкой, потому что подслушивающее устройство требовало дополнительного отвода на линии. С телефонами было не все в порядке».
Теперь Карлоу знал, что является объектом какого-то расследования, но он особо не беспокоился. Он все еще надеялся, что после работы в государственном департаменте Хелмс назначит его руководителем отдела технических служб. Может быть, посещения представителей ФБР просто часть необычно тщательной проверки благонадежности для столь ответственного поста.
Но даже если, это и так, странные встречи с ФБР лишали покоя. Карлоу стал нервничать. Однажды утром он выглянул из окна и увидел человека, что-то делающего на телефонном столбе у его дома. «Я позвонил в телефонную компанию, и мне сказали, что по нашей улице никаких заказов на работы не поступало».
«Вскоре после этого произошел пятый странный инцидент. Представители компании прибыли для чистки нашей печи — бесплатно, любезность фирмы «Вашингтон гэз лайт». Я сказал им, что мы только что ее чистили. Но они все равно ее прочистили».
А за кулисами, в недрах аппарата безопасности, разворачивалась скрытая драма. Ряд факторов в своей совокупности сделал Карлоу главным подозреваемым в охоте за «кротами» почти сразу же после прибытия Голицына в Вашингтон. Прежде всего, имелся документ, о котором рассказал советский перебежчик; он давал основания полагать, что КГБ знал о попытке ЦРУ скопировать советское подслушивающее устройство, обнаруженное внутри герба в американском посольстве в Москве. В свою очередь, это заставило детективов сконцентрировать свое внимание на Карлоу, совет технических потребностей которого работал над созданием такого устройства. Кроме того, поскольку его имя начиналось с буквы «К», он служил в Германии и его фамилия по рождению была славянского происхождения, то есть все элементы, которые сообщил Голицын, казалось, соответствовали данным о «Саше», следователи из ЦРУ были уверены, что «крот» у них в руках.
9 января 1962 года, спустя немногим более трех недель после перехода Голицына на Запад, Шеффилд Эдвардс, начальник управления безопасности ЦРУ, решил, что дело Карлоу достаточно серьезное и что необходимо предупредить ФБР и заручиться его поддержкой[73]. Видимо, это решение Эдвардса было достаточно естественным, поскольку широко бытовало мнение, что шеф безопасности — человек Гувера в ЦРУ. К 15 января, как свидетельствуют правительственные архивные документы, «установка для […] по Объекту была на месте» — явная ссылка на прослушивание телефонных разговоров Карлоу[74].
Спустя три дня ФБР было официально уведомлено соответствующим ведомством, что Карлоу «может оказаться идентичным […]» — явная ссылка на «Сашу»[75].
5 февраля Шеффилд Эдвардс встретился с Сэмом Папичем, сотрудником Гувера, осуществлявшим связь с ЦРУ, и проинструктировал его и еще одного агента ФБР по делу Карлоу. С угрозой в голосе Эдвардс сообщил людям из ФБР, что «некоторые встречи… проходили в комнате цокольного этажа дома Объекта». Шеф безопасности ЦРУ был прав, хотя и не помышлял иронизировать: Карлоу с женой устроили вечеринку с немецким пивом и сосисками, чтобы отметить десятую годовщину подразделения технических средств ЦРУ, созданного Карлоу в Германии по распоряжению Ричарда Хелмса. Гостями были нынешние и бывшие технические специалисты ЦРУ.
Согласно докладной записке ЦРУ о встрече Эдвардса с Папичем, ФБР проинформировали, что «Объект все еще работает в центре операций государственного департамента, но готовятся планы его перевода на другое место работы». ЦРУ «будет оказывать всю возможную помощь».
Между двумя ведомствами всегда существует традиционная напряженность в делах, связанных с подозрением в шпионаже. ЦРУ как разведывательное ведомство стремится оценить ущерб и по возможности использовать в оперативных целях то, что становится ему известно. ФБР, как оружие министерства юстиции, хочет упрятать шпионов в тюрьму. Эти две цели приходят в столкновение, именно поэтому ЦРУ пыталось действовать дипломатично, когда попросило ФБР помочь в расследовании дела Карлоу. В ходе встречи представители ФБР отметили, что «главная цель ФБР — судебное преследование, если будет заведено уголовное дело». ЦРУ, спокойно уверял агентов ФБР Эдвардс, придерживается «известной точки зрения» в отношении уголовного преследования, хотя «управление, разумеется, крайне заинтересовано» в том, чтобы определить, является ли Питер Карлоу советским шпионом, «и если да, то какую информацию ведомства раскрыл Объект».
Через четыре дня, 9 февраля, «г-н Папич сообщил, что данный вопрос доведен до сведения г-на Гувера и что принято решение о том, что ФБР будет расследовать дело Объекта в полном объеме»[76].
Неудовлетворенное темпами расследования ФБР, ЦРУ настаивало на том, чтобы бюро провело с Карлоу «беседу под каким-либо предлогом». Эдгар Гувер отнюдь не любил, чтобы его поучали, как руководить ФБР, особенно если это исходило от ЦРУ. 6 марта Гувер сдержанно информировал Маккоуна, директора ЦРУ, о том, что ФБР приняло решение о проведении «осторожного расследования прошлого Карлоу и его нынешней деятельности», И далее добавил: «…естественно, в это время мы не намерены встречаться с ним в целях проведения опроса». Но в процессе расследования, добавил Гувер, «Карлоу будет соответствующим образом опрошен» и результаты будут сообщены ЦРУ[77]. Над Карлоу установили жесткое наружное наблюдение, и каждый его шаг тщательно контролировался в течение года.
Когда Карлоу отправился в Филадельфию, прихватив с собой большой ящик, агенты ФБР не спускали с него глаз в надежде, что, может быть, им представляется счастливый случай продвинуть дело. Видели, как он вошел в здание и спустя три часа вышел оттуда уже без ящика. Для наблюдавших за ним агентов ФБР действия Карлоу выглядели зловещими, тем более что они не могли заглянуть внутрь здания. В отчете ФБР о наружном наблюдении говорилось:
«В ходе наблюдения на Саут-Броуд, 1127, проведенного специальным агентом Федерального бюро расследований, обнаружено трехэтажное кирпичное строение… Отмечено, что наблюдение за происходящим внутри служебного здания невозможно, поскольку жалюзи плотно закрывают все окно на внешней стороне здания». Если бы люди ФБР считали, что Карлоу доставил коробку, полную секретов ЦРУ, на какой-то советский объект, они были бы разочарованы, узнав правду. Карлоу отправился в Филадельфию для примерки нового протеза и замены старого, которым он пользовался. «Это была моя нога, — пояснил Карлоу. — И вывеска на фасаде здания гласила: „Б. Питерс и компания. Ортопедическая обувь и протезы“». Он помолчал и добавил: «В коробке лежал мой протез».
Многим должностным лицам контрразведки и безопасности в значительной мере присуще предположение, что все чужое вполне может оказаться предательским, а в лучшем случае — антиамериканским. Поэтому, когда управление безопасности ЦРУ, контрразведка и разведывательный отдел ФБР начали копать биографию Карлоу, они обнаружили достаточно настораживающего материала, способного усилить их прирожденную ксенофобию.
Начать хотя бы с того, что при рождении и до шестнадцати лет он носил фамилию не Карлоу, а Клибан-ский. И она не только начиналась с буквы «К», но и была славянского происхождения. Не требуется большого воображения, чтобы представить, как те же самые детективы, которых охватывает подозрение, когда герой войны отправляется в Филадельфию с протезной ногой в коробке, отреагировали, обнаружив русскую по звучанию фамилию его семьи. В конце концов, ведь это была эпоха Эдгара Гувера.
И действительно, когда спустя более года после того, как ЦРУ начали секретное расследование, в итоге Карлоу столкнулся с ФБР и был допрошен, агенты бюро неоднократно задавали ему вопросы о биографии и национальности его отца и о несовпадении записей о месте рождения отца в различных документах, которые Карлоу заполнял.
Сергей Клибанский (отец Карлоу) родился 18 апреля 1878 года во Франкфурте, в Германии. Он был певцом и учителем пения и к тридцати годам стал самым молодым директором крупной Берлинской консерватории. Мать Карлоу, Ферида Вайнерт, происходила из влиятельной семьи, которая владела ткацкой фабрикой в Силезии. В 1910 году Сергей и Ферида прибыли в Нью-Йорк, куда отца Карлоу пригласили в качестве преподавателя пения.
«Они были приняты очень солидным социальным кругом, — сказал Карлоу, — патронами оперы, людьми, проживавшими на Холме Джорджа Вашингтона. Затем разразилась война». Клибанские остались в Соединенных Штатах.
Они стали натурализованными американскими гражданами в 1921 году, в год рождения своего сына Сержа Питера. Его отец, хотя и был немцем, иногда заявлял, что родился в России. «В первую мировую войну лучше было быть русским, чем немцем», — говорил Карлоу. Он предполагал, что его отец, вращавшийся в музыкальном мире, возможно, тоже думал, что для его карьеры лучше быть русским. Каковы бы ни были причины, Сергей Клибанский не мог предугадать, что незначительные изменения, внесенные в его прошлую биографию, спустя почти полвека поставят его сына в очень затруднительное положение[78].
В своей деятельности Сергей процветал. «Он давал уроки звездам «Метрополитен-опера», Джеральдине Феррар и другим», — рассказывал Карлоу. И в бурные двадцатые годы семья Клибанских вела роскошную жизнь, путешествуя первым классом на океанских лайнерах через Атлантику и проводя время то в Берлине, то в своей квартире в районе Уэст-Сайд в Манхэттене. «Мои родители раз в год или в два года ездили в Германию. К четырнадцати годам я четырнадцать раз пересек океан. В Берлине я год учился в школе, в первом классе»
Но в годы Великой депрессии все рухнуло. «Все средства отца были вложены в ценные бумаги под 10 % прибыли», — сообщил Карлоу. Рано утром 17 сентября 1931 года, когда вся семья еще спала, отец вышел на кухню и открыл кран газовой печи. Спустя несколько мгновений в возрасте 53 лет он умер.
В 1937 году Питер окончил школу, и в том же году семья в законном порядке изменила свою фамилию на Карлоу. Он получил право на стипендию Суартмора и с началом войны пошел служить в ВМС и УСС. В 1947 году, когда недавно созданное ЦРУ обратило внимание на доводы Карлоу в пользу создания более совершенного шпионского технического оборудования, он был принят на работу в это ведомство. Он возглавил службу специального оборудования и занимался «жучками» и другими устройствами шпионажа, пока в 1950 году Ричард Хелмс не отправил его в Германию для создания лаборатории в пригороде Франкфурта.
В 1952 году, работая в Германии, Карлоу женился на Элизабет («Либби») Рауш, которая поступила в ЦРУ вскоре после окончания колледжа и была направлена на работу в Хёхст в техническое подразделение Карлоу. Позднее она работала в контрразведке, в советском отделе во Франкфурте и Мюнхене, но ушла из ЦРУ незадолго до рождения первого ребенка в 1953 году. Какое-то время мать Карлоу также работала в ЦРУ, в управлении подготовки кадров, а впоследствии в качестве внештатного преподавателя немецкого и итальянского языков.
В 1956 году Карлоу вернулся в Центр и продолжил свою работу в отделе стран Восточной Европы, а также в качестве заместителя начальника отдела экономических мероприятий. В 1959 году он организовал совет технических потребностей, подразделение ЦРУ, которое наряду с другими программами пыталось скопировать «жучок», обнаруженный в гербе, и стал его секретарем.
Летом 1961 года Хелмс направил его в центр операций государственного департамента. А спустя шесть месяцев бежал Голицын, и Карлоу, который добился руководящих постов в ЦРУ, внезапно был заподозрен в том, что является советским шпионом и предателем своей страны, о чем сам он и не догадывался. В обстановке того времени, видимо, не имело никакого значения, что он, по крайней мере, чуть не погиб, защищая ее.
Летом 1962 года Карлоу встретился с Хелмсом и просил отозвать его из госдепартамента. «Я попросил освободить меня от этой работы, потому что там мне ничего не светило. Я хотел занять должность начальника отдела технических служб. Хелмс не отказал мне, но и не предложил работу». Он, казалось, предоставил Карлоу полную свободу действий. «А пока, — сказал Хелмс, — приведите в порядок кое-какие дела для меня. Возвращайтесь в отдел экономических мероприятий». Заместитель директора ЦРУ по планированию не дал никаких точных указаний, но Карлоу понял, что Хелмс негласно предлагает свернуть некоторые операции этого подразделения, если не весь отдел. Это была деликатная задача, поскольку несколькими годами ранее Карлоу работал в этом отделе. Теперь ему предстояло вернуться туда, чтобы поработать топором для Хелмса. Ему отводилась роль, которая не способствовала росту его популярности среди бывших коллег в отделе.
Когда Карлоу появился в своем бывшем подразделении, он столкнулся с комической операцией ЦРУ, которая могла бы сойти прямо со страниц одного из романов Ивлина Во. Объектом являлось государство Западной Африки — Гвинея. «Одному бизнесмену из Бруклина дали деньги, чтобы он купил грузовое судно и импортировал товары из Гвинеи с целью продемонстрировать гвинейцам прелести свободного рынка, — вспоминал Карлоу. — Ему удалось закупить судовой груз гвинейских бананов — зеленых с черными точками. Он пытался продать их компании детского питания «Джербер». Но кто-то в компании решил, что это не то, что им хотелось бы. В конце концов он продал эти бананы Польше с убытком, который возместило ЦРУ».
Помимо того что «Джербер» не захотела закупить зеленые бананы с пятнами для детского питания, имелась еще и крохотная финансовая проблема. «В этой торговой операции с Гвинеей сто тысяч долларов ока-запись пропавшими бесследно. Я рекомендовал прикрыть ее, но сотрудники отдела посчитали, что я делаю это со зла. Однако я установил, что в Гвинее уже обосновались три крупные американские компании, и усомнился в обоснованности этой операции».
К началу осени Карлоу завершил свою работу в отделе экономических мероприятий и тянул время. «Я был в затруднительном положении. У меня не было оснований считать, что я под подозрением. Я чувствовал затянувшуюся вендетту со стороны сотрудников отдела экономических мероприятий. И когда моя карьера стала пробуксовывать, я подумал, что, возможно, это результат внутренней вражды».
Еще когда начались странные посещения людей ФБР и чистильщиков печей, Карлоу на короткое время обрел надежду, что в его судьбе наступает улучшение. В конце концов, может быть, его проверяют для работы в отделе технических служб.
Однако к Рождеству Карлоу получил убийственные новости. Ему отказали в должности начальника отдела технических служб. «В ярости я отправился к Хелмсу», — сказал Карлоу. Проработав с Хелмсом не один год, Карлоу решил, что он достаточно хорошо знаком с ним, чтобы заглянуть к заместителю директора по планированию домой. В один из воскресных вечеров в самом начале нового года Карлоу отправился к дому Хелмса на Фессенден-стрит в северо-западной части Вашингтона.
Встретившись с заместителем директора по планированию, Карлоу сказал, что хочет знать, что происходит.
«О’кей, — ответил Хелмс, — вы услышите об этом в понедельник». Хелмс не развил свою мысль, но в тот вечер Карлоу уехал с чувством, что, по крайней мере в недалеком будущем, его ожидает какое-то новое назначение. И действительно, в понедельник Карлоу позвонили от Говарда Осборна из управления безопасности ЦРУ. «Осборн сообщил, что по согласованию с Хелмсом мне предстоит поработать над одним секретным делом, связанным с безопасностью». Ему сказали, что он будет работать в региональном отделении ФБР в Вашингтоне в старом здании почтового управления на Пенсильвания-авеню.
«Я позвонил Хелмсу, но его не было в городе. Я связался с Томом К., его заместителем, и тот сказал мне, чтобы я приступал к порученному делу». Чего Карлоу не понял, так это того, что именно он и был объектом этого секретного дела, связанного с безопасностью.
11 февраля, в понедельник, Карлоу явился в региональное отделение ФБР. Его ожидали два агента — Обри («Пит») Брент и Морис («Гук») Тейлор. «Они сказали мне: «Вы имеете право не отвечать». Эти слова поразили меня как удар грома».
Теперь Карлоу понял, что его самые худшие подозрения оправдались. Человек на телефонном столбе, беседа под предлогом получения сведений о кузнеце-немце, чистильщики печи, запаздывание гудка в его телефонном аппарате — все, что он пытался отметать, теперь обернулось реальностью.
Для Карлоу, ветерана американской разведки со стажем работы 21 год, этот момент показался абсурдным. Подобно персонажу Кафки, он пытался нащупать, в чем его обвиняют и почему. Агенты ФБР не сказали ему.
«В чем дело?» — спросил Карлоу. Молчание. Дело, сказали агенты, возникнет в ходе их встреч. Карлоу спросил, имеет ли он право посоветоваться, и если да, то как можно было бы оформить допуск адвокату, не работающему в ЦРУ.
Карлоу попросил разрешения позвонить Лоуренсу Хьюстону, юрисконсульту ЦРУ и своему близкому другу. «Я спросил его, кого мне следует взять адвокатом. Может ли он назначить мне одного из его людей? Он не мог. Он посоветовал мне отвечать на вопросы и, если я не смогу ничего сказать, позвонить еще раз. Ларри оказался в двойственном положении: с одной стороны, он был другом, с другой — адвокатом ЦРУ».
Итак, без помощи адвоката начался допрос Карлоу, которому предстояло продлиться пять дней.
Карлоу вновь попросил агентов объяснить ему тему допроса. Если это касается его, он будет счастлив всячески помогать им. У него совесть чиста. Но агенты не сообщили ему своих целей.
Как в классической игре «хороший полицейский — плохой полицейский», один из агентов был настроен дружелюбно, другой — враждебно. Атмосфера в комнате накалялась. В какой-то момент Карлоу резко бросил: «Вы здесь в игры играете и тратите время». Если что-то не так, если есть что-то в его биографии, что-то неправильно интерпретировано, он горит желанием прояснить все.
Агенты с каменными лицами попросили Карлоу прийти вновь на следующий день.
Во вторник, по словам Карлоу, допрос проходил таким образом:
ФБР: Как ваше имя?
Карлоу: Серж Питер Карлоу.
ФБР: Оно всегда так произносилось?
Карлоу: Вы имеете в виду, что в моем свидетельстве о рождении записано Сергей.
ФБР: Это два разных имени.
Карлоу: Нет, одно и то же. В Германии, например, оно произносилось бы Сергей, а во Франции — Серж.
Люди ФБР самым подробнейшим образом расспрашивали Карлоу о членах его семьи, о каждом месте его проживания, о всех школах, в которых он учился, о работе, которой он занимался. Карлоу напомнил, что вся эта информация имеется в его личном деле; поскольку более двух десятилетий он проработал в УСС и ЦРУ, где часто проводятся проверки на благонадежность, все это есть в этих досье.
Агенты ФБР ответили, что хотят получить ее непосредственно от него. И так продолжалось часами, когда вся жизнь Карлоу рассматривалась до мельчайших подробностей. «Я вновь и вновь спрашивал о цели всего этого, мы могли бы сэкономить время, если они прекратят играть в игры. Никакой реакции».
В среду вновь вернулись к его семье. Как звали родителей его отца? Если его деда звали Михель, почему он иногда указывал его как Миша? Карлоу пояснил, что это одно и то же, например как Джон и Джек.
Агенты ФБР набрасывались вновь.
ФБР: Девичья фамилия вашей бабушки?
Карлоу: Фон.
ФБР: Нет, ее фамилия была Фоу.
Карлоу отреагировал скептически. «Я рассмеялся, когда понял, что случилось. Они отыскали во Франкфурте свидетельство о рождении моего отца и не смогли прочесть готический шрифт. В витиеватом рукописном старогерманском написании, утраченном в период между двумя войнами, буква «и» писалась с черточкой наверху.
Без такой черточки это была буква «n». Черточки над «u» не было, и ФБР тем не менее не смогло ее прочесть правильно.
Более подробные вопросы о школах, политических группах, в которые входил Карлоу в Суартморе. И вновь о его отце. Где он родился — в Германии или в России?
Агенты начали задавать вопросы о людях, которых Карлоу знал на протяжении жизни, по каждой фамилии, указанной в его автобиографии, которую он заполнял при поступлении на работу в ЦРУ, по каждой упомянутой им в докладных записках фамилии бывших служащих ЦРУ и даже по фамилии Ричарда Хелмса. «В алфавитном порядке они прошлись по всем, кого я знал. Друзья, коллеги; родственники, и про каждого они спрашивали, не был ли он гомосексуалистом. Вы знаете Джонса? Не был ли он гомосексуалистом? Он с вами не заигрывал? Хелмс — коммунист? Я ответил: „Я не намерен отвечать, это просто смешно“».
В четверг агенты ФБР начали подробно расспрашивать Карлоу об операциях проникновения ЦРУ против Советского Союза. «Особенно их заинтересовало мое знание подслушивающих устройств».
Они требовали от Карлоу указать кодовое название проекта ЦРУ по копированию подслушивающего устройства, вмонтированного в герб. Карлоу отказался сообщить его. «ФБР спросило меня, передавал ли я Советам какую-либо информацию, касающуюся знания американцами этого устройства. Я ответил, что нет. Вся моя информация сводилась к тому, что научно-исследовательские работы продолжаются с привлечением технического специалиста из Голландии».
В ЦРУ Карлоу также работал над созданием «не поддающегося обнаружению подслушивающего устройства для автомобиля, которое можно было бы быстро установить. Идея состояла в том, чтобы взять крохотное устройство и вмонтировать его за приборной доской автомобиля. Это дало бы нам возможность следить за автомобилем и слушать разговор на разумном удалении. Питание поступало бы от собственных элементов питания». В процессе своих исследований Карлоу посетил лабораторию электроники в Монтауке на Лонг-Айленде, где проводились аналогичные исследования в интересах ФБР. В результате ему стало известно о попытках ФБР осуществлять перехват разговоров в автомобилях.
Теперь следователи, ведущие допрос Карлоу, перешли к этому вопросу. «Они спросили меня об установке аппаратуры для съема информации в автомобилях, которые предполагалось поставить Советам в Мехико. Мне было известно об этом».
Это была совместная операция. «ФБР и ЦРУ установили такие устройства на четырех «фордах», которые предназначались для советского посольства в Мексике в 1959 году. При установке «жучков» ФБР разобрало эти автомобили до шасси, с тем чтобсл теоретически их невозможно было отыскать, хотя Советы сразу же узнали об этом. Итак, ФБР указало пальцем на меня. «Ты был тем парнем, через которого произошла утечка этой информации Советам». Разумеется, это нонсенс».
Казалось, ФБР было досконально известно об операции с привлечением бруклинского бизнесмена, который попытался перегрузить покрытые пятнами бананы ЦРУ компании детского питания «Джербер». Оно требовало назвать имя агента, то есть бизнесмена, и сумму исчезнувших денег, которая превышала сто тысяч долларов.
ФБР неоднократно требовало от Карлоу указать, сколько раз он был в Восточном Берлине. Он полагал, что два, максимум три раза, и всегда по приказу ЦРУ.
Агенты, казалось, были убеждены в том, что ЦРУ дает пристанище гомосексуалистам. «Они спросили меня, почему так много «гомиков» работало в резидентурах ЦРУ в Германии в начале 50-х годов».
Затем агенты насели на Карлоу с вопросами о чернилах для тайнописи. Когда он был в Германии, штаб-квартира заинтересовалась симпатическими чернилами для использования в Восточной Европе и направила два образца. «Мы проанализировали их и обнаружили, что один представлял собой аспирин, другой — уксус. И тот и другой можно было использовать. Мы провели исследование и пришли к выводу, что лучший состав для тайнописи использовали русские. Я сказал, что нам надо что-то получше, чем аспирин. Мы разработали формулы симпатических чернил в Германии».
ФБР желало узнать о формулах Карлоу. Почему он разрабатывал новые чернила?
«Они явно пытались интерпретировать это так, что я прибыл, располагая методами тайнописи, которые были лучше всего того, что имел Вашингтон, но я также передал их русским».
Карлоу попросили прийти в пятницу. Его должны были «побеспокоить» — провести проверку на полиграфе.
В пятницу утром при виде детектора лжи Карлоу вновь потребовал объяснений.
Карлоу: Теперь вы мне скажете, что это значит?
ФБР: Да, скажем. Вы непосредственно подозреваетесь в том, что являетесь советским шпионом, советским агентом, работающим в ЦРУ.
«Я не мог поверить в это. Я улыбнулся и сказал, что полагал, что совершил что-то серьезное, например оставил открытым сейф». Но за бравадой Карлоу скрывалось осознание ужасного. «Я сразу же понял, что моя карьера завершилась. Это конец моей карьере, сказал я им. Если хотите забрать мой жетон, прошу вас».
Ошеломленный обвинением, разъяренный, охваченный злобой, озадаченный тем, что это значило для его будущего, Карлоу давил на агентов ФБР, требуя подробностей. «Что я, предполагается, сделал и где?» Они ответили: «Вопросы задаем мы, а у вас будет масса времени выяснить это».
Карлоу подключили к полиграфу. Оператор обвязал его грудь гофрированной резиновой трубкой, пневмографом, который, растягиваясь и сокращаясь, должен измерять частоту его дыхания. На руку надели наполняемый воздухом манжет, кардиосфигмоманометр, для регистрации кровяного давления и частоты пульса. И наконец, самое ужасное приспособление из всех — пара металлических электродов — с помощью хирургического бинта было прикреплено к его ладони. Это устройство — психогальванометр — должно было измерять гальваническую реакцию кожи Карлоу на электрический ток. Показания должны меняться в зависимости от того, в какой степени он будет покрываться испариной в процессе ответа на вопросы. Все эти инструменты подключили к записывающему устройству, которое будет фиксировать его ответы в виде волнистых линий на бумажной ленте.
«От манжета полиграфа у меня посинела рука. Они Стали настойчиво добиваться от меня, сколько раз я был в Восточном Берлине. Был ли я на связи у советского оперативного сотрудника по имени (называлось одно, затем другое имя)? Это было женское имя, не уверен какое, но, думаю, они называли имя «Лидия». По направлению допроса было ясно: ФБР считало, что Карлоу встречался с «Лидией» в Восточном Берлине. «Они спрашивали об адресах в Восточном Берлине. Хотели увидеть мою реакцию, знаю ли я эти адреса. Я сказал, что не знаю ни одного из них».
Теперь близился самый драматический момент проверки на детекторе лжи.
«Они сказали, что я должен отвечать на вопросы только «да» или «нет», — пояснял Карлоу. — Они спросили, знаю ли я Сашу. Я ответил «да», и игла самописца подпрыгнула. Поскольку я подумал о Саше Соголове. В Берлине в 50-е годы я знал только одного человека по имени Саша — Сашу Соголова. Крупного, шумного парня русского типа. Он всегда говорил: «Я и русский и еврей, и они (советские) меня любят». Он приезжал с оперативным работником для встречи с агентом. Он был «шофером». Возвращаясь, он говорил: «Шофером КГБ был полковник такой-то». Я часто встречался с Сашей Соголовым. Он был в Берлине. Мы снабдили его фальшивыми водительскими правами»[79].
Карлоу мог заметить, что агенты ФБР сильно заволновались, когда он отреагировал на имя «Саша». Он не был уверен почему. «Я думал о Саше Соголове. А они-то думали о другом Саше», — как позднее узнал Карлоу.
«Они не задали ни одного вопроса по мотивам. Наконец я сказал: «Зачем мне становиться советским шпионом? У меня прекрасная жена, двое великолепных детей, хорошая работа»». Агенты ФБР не ответили на его вопрос.
В пятницу проверка на полиграфе закончилась только во второй половине дня. Итак, допрос Карлоу продолжался цять дней.
«После этого я опрометью бросился в Джорджтаун к Хьюстону: «Что происходит?» — «Да, трудный случай», — ответил Ларри. Юрисконсульт ЦРУ, по словам Карлоу, попросил его «письменно изложить все, что он по этому поводу думает», возможно, это вызвано проблемой его безопасности.
«В понедельник, разгоряченный, я влетел в кабинет Хелмса. Он приветствовал меня как обычно, назвав Сергеевичем. Х#лмс всегда называл меня Сергеевичем. На этот раз я сказал, что, может быть, шутки по поводу этого имени более чем неуместны, учитывая обстоятельства».
Хелмс также попросил Карлоу в письменном отчете изложить все, что он мог думать по этому поводу Теперь Карлоу, которого обвиняли в том, что он советский шпион и предатель своей страны, высшие должностные лица управления просили изложить причины — поворот, достойный пера того же Кафки.
«Хелмс сказал: «Считайте, что вы поступаете в распоряжение Ларри Хьюстона». Я' ответил: «Значит, это конец моей карьере. Что ж, до свидания». Я сказал Хелмсу, что не пощажу своих сил, чтобы пролить свет на все это».
Карлоу задержался еще в одном кабинете. Он спустился на второй этаж в службу контрразведки и зашел к Джеймсу Энглтону.
Энглтон, сидя, как всегда, с сигаретой в зубах за письменным столом, хотел предупредить Карлоу. Он говорил размеренно.
«Очень неопределенная и исключительно опасная ситуация. Могу сказать даже больше. Речь идет о русском перебежчике».
Энглтон наклонился вперед и добавил: «Пожалуйста, не обсуждайте это ни с кем».
Ошеломляюще! Карлоу не только обвинили в государственной измене, но и затем попросили объяснить почему, а теперь приказали хранить все в тайне. Начальник контрразведки пояснил это: факт обвинения Карлоу в том, что он является «кротом», что его карьера рухнула, а его жизнь почти загублена, — секрет ЦРУ.
ГЛАВА 8
Гастроли
К осени 1962 года Анатолий Голицын измотал ряд сотрудников советского отдела, занимавшихся его делом, и это послужило одной из причин, по которой он был передан Джеймсу Энглтону.
Объясняя причину этого решения, бывший заместитель Энглтона «Скотти» Майлер сказал: «Отдел устал от него». По мнению еще одного бывшего сотрудника ЦРУ, это чувство было взаимным: «Голицын был в ярости от сотрудников советского отдела — они слишком давили на него. Его терпению пришел конец, а они все продолжали оказывать давление».
По мнению бывшего контрразведчика советского отдела Пита Бэгли, дело Голицына передали в связи с выдвинутыми им обвинениями в том, что советская агентура проникла не только в ЦРУ, но и в другие западные спецслужбы. Именно контрразведка отвечала за связь с ними.
За несколько месяцев до этого, в связи с утверждениями Голицына о наличии советских агентов в органах английской разведки, Энглтон пригласил ответственного сотрудника английской контрразведки МИ-5 Артура Мартина приехать в Вашингтон и побеседовать с бывшим работником КГБ. Голицын не только произвел впечатление на Мартина, но в заключение беседы тот убедил его посетить Англию.
По словам ветерана ЦРУ, работавшего в Лондоне, «настоящие взаимоотношения получили развитие в Лондоне и их инициатором стал Артур Мартин». Идеи Голицына буквально вскружили ему голову. Он пригласил Голицына, его жену и дочь приехать в Англию, заявив Энглтону, что «гарантирует безопасность пребывания этого человека». Может быть, Энглтон и не согласился бы на отъезд Голицына, но ему неудобно было отказать англичанам, принимая во внимание давние, порой несколько напряженные, «особые взаимоотношения», существовавшие между американской и английской разведками. Энглтону не хотелось стоять у Голицына на пути, так как он опасался вообще потерять его.
В Англии Голицыну была присвоена кличка «Кэйгоу». С ним работали Мартин, Питер Райт, ставший впоследствии широко известным в связи с публикацией секретов МИ-5 в книге «Ловец шпионов», и сотрудник МИ-6 Стивен де Маубрэй. Голицын приехал в Англию в марте 1963 года, вскоре после того, как лидером оппозиционной партии лейбористов стал Гарольд Вильсон.
Это было время значительных политических потрясений, у истоков которых действовали шпионы. В январе Ким Филби, находясь в Бейруте, сделал признание в том, что является советским агентом, и затем сбежал в Москву, таким образом дав открытое драматическое подтверждение того, что постоянно отрицало английское правительство, — он являлся советским «кротом» в службе МИ-6. У правительства премьер-министра Гарольда Макмиллана голова шла кругом от скандала с Профьюмо, в ходе которого выяснилось, что «девица по вызову» Кристин Киллер делила свою благосклонность между военным министром Англии Джоном Профьюмо (женатым на актрисе Валери Хобсон) и помощником советского военно-морского атташе капитаном I ранга Евгением Ивановым, который на самом деле был сотрудником ГРУ. Не имело значения, что вряд ли Профьюмо обсуждал военные секреты Англии в постели с Киллер, а та, в свою очередь, как полагают, нашептывала их Иванову. Это был превосходный скандал, включая купание нагишом на вечеринке в имении лорда Астора в Кливдене (там Профьюмо впервые обратил внимание на Киллер «во всем ее естестве») вместе с «общественным доктором Стивеном Уордом», с еще одной «девицей по вызову» Мэнди Райс-Дэвис и, конечно, с членом кабинета министров и шпионом. Флит-стрит максимально выполнила свое обязательство по информированию английской общественности, лондонские газеты не упустили ни одной детали, касающейся скандала с Профьюмо.
Однако существовала угроза, что эта тема может отойти на второй план после приезда Голицына, который с одобрения своих руководителей из британской контрразведки заявил, что Гарольд Вильсон — советский «крот».
«Скотти» Майлер подтвердил, что сообщение Голицына по приезде его в Англию было подобно взрыву бомбы: «Голицын не сказал нам, что он сообщил англичанам. Но именно это он им и сказал: Вильсон — советский агент».
Похоже, Голицын пришел к своему сенсационному заключению в отношении лидера британской оппозиционной партии, рассматривая ряд, скажем, по меньшей мере, косвенных доказательств. Незадолго до прибытия Голицына в Англию неожиданно умирает глава лейбористской партии Хою Гейтскелл. За шесть недель до своей смерти он посетил советское посольство по вопросу получения визы для поездки в СССР, где ему предложили чашечку кофе, которую он и выпил.
Питер Райт сказал, что Артур Мартин сообщил ему о смерти Гейтскелла от таинственного вируса волчанки, тропической болезни, которая редко встречается в странах с умеренным климатом. Далее Райт сказал, что направился в английскую лабораторию химических и биологических средств ведения войны, расположенную в Портон-Дау, чтобы установить, не мог ли КГБ отравить этого политического лидера Великобритании. Он также консультировался у Энглтона, который прислал ему перевод одной малоизвестной научной работы из СССР, в которой сообщалось, что советские ученые получили химический препарат, использование которого в экспериментах на крысах вызывает у них волчанку. Райт приходит к заключению, что Гейтскеллу в отличие от крысы потребовалось бы проглотить огромное количество этого препарата, чтобы у него развилась волчанка, если только за это время в Советском Союзе не разработали более сильный препарат, так как научная работа об экспериментах с волчанкой была впервые опубликована семь лет назад[80].
Когда Голицын узнал о подозрениях в МИ-5 по поводу смерти Гейтскелла, он вспомнил о ходивших в КГБ слухах до того, как он бежал, о том, что 13-й отдел КГБ, который еще устрашающе называют «отделом мокрых дел», планирует совершить убийство одного западного лидера, с тем чтобы на его место поставить советского агента. Менее чем через месяц после смерти Гейтскелла, 14 февраля, лидером партии лейбористов избирается Вильсон. Все становится ясным для Голицына.
Как считает бывший сотрудник ЦРУ, возможно, что англичане сами подбросили Голицыну идею о предательстве Вильсона. «Думаю, они на нем обкатали не одну идею. Как вы думаете, может быть Вильсон шпионом? — спрашивали они его и увязывали это с фактом смерти Гейтскелла. Когда Голицын прибыл к нам, он был довольно невежественным человеком, но быстро учился, буквально впитывал все. Он мог ответить: «Вполне возможно. Мне кажется, я что-то слышал об этом». Голицын быстро подхватывал такие идеи и развивал их».
На протяжении более чем десяти лет в Англии сказывались последствия предположений Голицына. В 1964 году Гарольда Вильсона избирают премьер-министром, а спустя некоторое время, по словам Питера Райта, Энглтон отправляется в Лондон на встречу с руководителем контрразведки Эдвардом Мартином Фернивалом Джонсом, чтобы предупредить его о том, что «Вильсон — советский агент»[81]. Энглтон не указывает своего источника, однако его утверждение было зафиксировано в архивах МИ-5 под кодовым наименованием «овсяный сноп». В 1970 году Вильсон потерпел поражение на выборах, но в 1974-м был избран премьер-министром на второй срок. И вот тогда-то, по словам Райта, некие его коллеги из МИ-5 попытались вовлечь его в заговор, цель которого состояла в организации утечки информации в прессу из архивов службы безопасности, с тем чтобы вынудить Вильсона покинуть свой пост. Райт заявил, что отказался от участия в попытке заговора против премьер-министра.
Возможно, так оно и было, но ясно одно: МИ-5 в значительной мере занималась исследованием деятельности Вильсона и его помощников. Начиная с 1953 года Вильсон несколько раз бывал в СССР, представляя интересы различных деловых кругов Великобритании. Эти поездки не ускользнули от внимания британской разведки.
Руководитель подразделения контрразведки ФБР, занимавшегося Советским Союзом, Дон Мор отмечает: «Теория Голицына состояла в том, что в СССР могли завербовать любого иностранца, находившегося там в течение продолжительного времени. Вильсон действительно провел определенное время в СССР, однако не следует смешивать теории Голицына с известными ему сведениями. Его информация была солидной и полезной, а вот теории — это уже нечто другое».
МИ-5 организовала расследование по двум политическим сторонникам Вильсона — Руди Стэрнбергу и Джо Кагану, евреям по происхождению, прибывшим в Англию из Центральной Европы и сколотившим себе здесь состояние. Стэрнберг, выходец из Австрии, занимался импортом удобрений и другой продукции из Г ДР. Каган, литовец, являлся производителем плащей из Хаддерсфилда, и его МИ-5 подозревала в передаче секретов, полученных им от Вильсона, сотруднику советской разведки в Лондоне. После 18 месяцев вторичного пребывания на посту премьер-министра Вильсон неожиданно в марте 1976 года уходит в отставку. По словам английского журналиста Дэвида Ли, Вильсон пришел к этому решению после «крупного столкновения» с руководителем МИ-5 сэром Майклом («Джамбо») Хэнли, в ходе которого он справедливо обвинил службу безопасности в организации заговора против него[82].
Действительно ли МИ-5, подстрекаемой Голицыным и Энглтоном, в конце концов удалось добиться ухода с поста английского премьер-министра? Все это довольно неопределенно, однако возникло достаточно доказательств, чтобы сделать предположение о том, что нечто подобное действительно могло иметь место. История получила широкую известность и в слегка завуалированном виде была отражена даже в телевизионной драме[83].
Помимо попытки заговора против Вильсона поездка Голицына в Англию весной 1963 года примечательна еще и тем, что она помогла развязать в этой стране гораздо более разрекламированную, но менее убедительную охоту на шпионов, чем это было сделано ЦРУ в своей стране, хотя в конечном счете она оказалась неубедительной.
Первое «ату его» в этой охоте на «кротов» прозвучало несколько ранее в том же году после побега Филби в Москву. Незадолго до прибытия Голицына в Англию, в январе 1963 года, Артур Мартин встретился в Вашингтоне с Доном Мором из ФБР и главным экспертом бюро по вопросу советских нелегалов Энтони Литренто. Мартин поставил их в известность о сделанном Филби в Бейруте признании.
Мор вспоминает реакцию Литренто. «Он арестован?» — спросил Тони. «Не знаю», — ответил Мартин. «Если вы этого не сделали, то завтра его уже не будет», — сказал Литренто. Так оно и оказалось.
После катастрофы с делом Филби Голицын сообщил англичанам, что он слышал о разговоре в КГБ о существовании «пятерки», группы советских агентов, которые действовали в английской разведке. Первых четырех членов пресловутой группы было легко идентифицировать. Все нити вели в Кембриджский университет, где предположительно они были завербованы. В 1951 году в Москву бежали Гай Бёрджес и Дональд Маклин, за ними в 1963 году последовал Ким Филби. Бывший офицер МИ-5 Энтони Блант подозревался в качестве четвертого члена группы[84]. Но кто же был пятый?
Поначалу Артур Мартин и Питер Райт считали, что пятым «кротом» был заместитель директора МИ-5 Грэм Митчелл. Позднее оба контрразведчика решили, что это не кто иной, как генеральный директор МИ-5 сэр Роджер Холлис.
Бывший сотрудник резидентуры ЦРУ в Лондоне не сомневался, что во всем этом деле главную роль сыграл Голицын. «Результатом развернувшейся в Англии охоты на «кротов» являются заявления Голицына. Он сказал, что в высших сферах британской разведки действует советский агент и сразу же конкретно указал на Грэма Митчелла».
МИ-5 установила в кабинете Митчелла скрытую телевизионную камеру и аппаратуру подслушивания и в течение ряда недель вела за ним наблюдение. Как подозреваемому Митчеллу было присвоено кодовое название «Питерс». По ходу расследования Артур Мартин, занимавший в Англии пост, эквивалентный посту Энглтона, прилетел в Вашингтон, чтобы согласовать с коллегами из ЦРУ и ФБР действия МИ-5 по поиску советских агентов.
Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки так говорит о встречах с Мартином: «Когда Артур приехал, все переговоры с ним были засекречены. Он предпочитал встречи и переговоры только один на один. В то время они анализировали поведение Грэма Митчелла, который находился под наблюдением. Митчелл иногда сидел за столом, положив голову на руки. Артур полагал, что это говорит о его принадлежности к шпионам, так как, очевидно, Митчелл сидел и думал: «Боже мой, они узнали обо мне». А он просто любил немного вздремнуть после обеда!»
Митчелл стал объектом внимания своей собственной службы безопасности в возрасте 57 лет. Выходец из высших кругов английского общества, он получил образование в Винчестере и Оксфорде, являлся прекрасным яхтсменом и блестящим шахматистом. Он остался хромым после полиомиелита. Во время войны он работал вместе с Холлисом в МИ-5, а когда Холлиса в 1956 году назначили директором этой службы, Митчелл стал его заместителем.
Спустя пятнадцать месяцев охота на «кротов» все еще не дала никаких результатов. Митчелл ушел в отставку, и на тот момент его дело было закрыто. Но вопрос оставался: кто же «крот» в английской разведке? Если агент не Грэм Митчелл, то, может быть, это сам директор?
Для проведения расследования в отношении этих сенсационных подозрений создается совместное от МИ-5 и МИ-6 подразделение, получившее странное название — «Флуэнси коммити» (комитет беглости). Возглавил его Артур Мартин[85]. В течение пяти лет члены комитета усиленно трудились, но им так и не удалось доказать, что их собственный шеф Роджер Холлис или его бывший заместитель Грэм Митчелл являются советскими шпионами.
Холлис, на месяц моложе Митчелла, сын епископа из Таунтона, также получил образование в Оксфорде. В юности, в 30-е годы, до прихода в МИ-5, Холлис проработал несколько лет в табачной компании в Китае, на чем, очевидно, охотники за шпионами строили свои подозрения и предположения. В период между двумя войнами Шанхай был известен как рассадник коммунистических шпионов. Не исключено, что Советы могли завербовать его там. А может быть, подобно Филби, Холлис являлся агентом проникновения, работавшим на СССР в английской разведке в течение продолжительного времени. Однако ни одно из этих предположений не получило подтверждения.
В 1965 году Холлис вышел в отставку, однако расследование его деятельности только усилилось. Он получил кодовое обозначение «Дрэт», что значит — «пропади ты пропадом». Очевидно, подобным образом охотники за шпионами выразили чувство разочарования в связи с неспособностью доказать вину Холлиса.
Казалось, этому не будет конца. Митчелла вызвали из отставки, допросили и вновь признали невиновным. В 1970 году подразделение контрразведки МИ-5 было переименовано в подразделение «К», а все охотники за «кротами» вошли в новое отделение «К7». В том же году Холлиса вновь допрашивали на конспиративной квартире МИ-5 в Лондоне, а Питер Райт, находясь в другом здании, слушал допрос в наушниках.
И ЦРУ, и ФБР информировались о ходе охоты на «кротов» в Англии. «Скотти» Майлер из ЦРУ заявлял: «Англичане держали нас в курсе того, что им становилось известно, так как от этого напрямую зависела безопасность разведки США. Мы знали о тех расследованиях, Энглтон поддерживал контакты с [Морисом] Олдфилдом, Райтом, Хэнли, Диком Уайтом, то есть с теми, кто вел расследования».
Трудность состояла в том, что МИ-5 мало что обнаружила. В 1973 году скончался от удара Холлис и унес с собой секреты, если они у него были. В 1981 году факт расследования деятельности Холлиса стал достоянием гласности, и премьер-министр Маргарет Тэтчер, выступая с заявлением в парламенте, в осторожной манере оправдала Холлиса[86]. В 1984 году умер Грэм Митчелл, к этому времени общественность также узнала о проводившемся в отношении него расследовании под кодовым названием «Питерс».
Несмотря на то что так и не удалось выяснить, кто же является пятым членом группы, некоторые ОХОТНИКИ на «кротов» полагали, что это бывший сотрудник МИ-6 Джон Кэрнкрос. Несколькими годами ранее он признался, что во время второй мировой войны был советским агентом. Ему позволили уйти в отставку и не возбуждали против него уголовного преследования. Но именно Энтони Блант, не склонный к раскаянию, назвал имя Кэрнкроса следователям из МИ-5. Хотя было сомнительно, чтобы Блант открыл имя высокопоставленного шпиона. Более того, Кэрнкрос покинул государственную службу в 1951 году после того, как попал под подозрение. В 1990 году он отрицает, что являлся так называемым «пятым», а спустя год заявляет, что это именно он[87].
В 1990 году советский перебежчик Олег Гордиевский, в свое время получивший назначение на пост резидента КГБ в Лондоне, добавил некоторые детали по вопросу охоты на «кротов» в Англии. По его словам, два ответственных сотрудника КГБ, специалисты по Англии, которые предположительно в силу своего служебного положения обладали информацией о личностях советских агентов в этой стране, отвергли донесения о Холлисе как несоответствующие действительности[88].
Анатолию Голицыну удалось перевернуть английскую разведку с ног на голову и по ходу дела помочь в создании «надомного производства» охотников за «кротами» в Англии, так как появились его книги, охотно читаемые по обе стороны Атлантики. Являясь кладом для издателей, он в итоге оказался менее ценным для английской разведки.
Однако главной причиной внимания англичан к обвинениям Голицына явилась ужасная правда о Филби, так как в конечном счете одно время он возглавлял советский отдел МИ-6. Поэтому, как бы это ни казалось невероятным, но можно было заподозрить в предательстве и начальника МИ-5.
Филби улетел в Москву за несколько недель до прибытия Голицына в Лондон, хотя иногда ссылаются на полученные от Голицына наводки, которые якобы подтверждали роль Филби как высокопоставленного советского агента проникновения. Действительно, в 1962 году Голицын сообщил ЦРУ о наличии советских «кротов» в английских разведслужбах, но к тому времени Филби уже более десятилетия находился под подозрением. В результате вклад Голицына, если таковой имел место вообще, в дело Филби в лучшем случае остается незначительным.
Однако, как бы драматически ни складывалась судьба Голицына в Англии, в июле 1963 года события вокруг его пребывания в стране неожиданно превратились в фарс. А началось все с того, что лондонская газета «Дейли телеграф» узнала о пребывании в Англии важного советского перебежчика. Репортер газеты Джон Баллок попытался проверить эти данные через правительственные источники, предупредив таким образом официальные круги. В результате вечером 11 июля вышло «Уведомление D», потребовавшее от представителей прессы воздерживаться от упоминания о перебежчике.
В США не существует эквивалента чисто английскому изобретению — системе «Уведомлений D». В соответствии с данной системой объединенная группа из представителей правительства и прессы — «Комитет по вопросам обороны, прессы и радиовещания» — организует выпуск предупреждений в форме рекомендаций для английской прессы, сообщающих о том, что некоторые виды информации, касающиеся военных секретов, разведки, кодов или радиоперехвата средств связи, подпадают под действие Закона о служебной тайне Великобритании. Игнорирование подобного уведомления равносильно нарушению этого закона[89].
В данном «Уведомлении D» необычным было то, что называлось или подразумевалось имя перебежчика, и таким образом Флит-стрит оказалась в курсе событий. Однако, чтобы «сбить ищеек со следа», в уведомлении оно было указано как «Анатолий Дольницин».
Корреспондент газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» в Лондоне Том Ламберт в пятницу узнал это имя от английских коллег. Как только бюро газеты в Вашингтоне попыталось навести кое-какие справки, ЦРУ настоятельно потребовало не печатать никаких данных по этому вопросу. Но было уже поздно. В Лондоне 13 июля, несмотря на «Уведомление D», редакторы Баллока решили напечатать статью с упоминанием имени перебежчика в том варианте, как оно было дано в «Уведомлении»[90]. Другие газеты последовали их примеру, а телеграфные агентства сообщили о нем всему миру.
Должностных лиц ЦРУ в Вашингтоне как ударом грома поразила новость об утечке информации в Англии. Они гневно обвинили англичан в преднамеренном распространении информации с помощью «Уведомления D», чтобы отвлечь внимание общественности от сексуального скандала с Профьюмо. Разгневанный и перепуганный шумом, поднятым в Лондоне, Голицын упаковал чемоданы и первым же авиарейсом возвратился в Вашингтон. Должностные лица английской службы безопасности тут же заподозрили американцев в том, что именно они явились инициаторами утечки информации в газету «Дейли телеграф», чтобы заставить Голицына вернуться в Лэнгли[91].
Вся эта история отнюдь не способствовала укреплению отношений между МИ-5 и ЦРУ. В результате Джеймс Энглтон вновь заполучил в свои руки главного перебежчика.
Еще до того, как Голицын очаровал Артура Миллера и внес вклад в развертывание охоты на «кротов» в Англии, он предупредил своих опекунов из ЦРУ о проникновении советской агентуры во французские разведслужбы. Семена обвинений упали на благодатную почву. Словом «коварная» вряд ли можно по достоинству оценить запутанную и пеструю историю французских шпионских ведомств.
Задолго до того, как французская секретная служба организовала в 1985 году в Новой Зеландии взрыв судна движения «Гринпис» «Рейнбоу Уорриор», в результате которого погиб фотограф, она уже имела репутацию организации, способной на грязные дела и даже уголовные действия. Потопило судно, вышедшее в море с миссией протеста против французских ядерных испытаний на атолле в южной части Тихого океана, Главное управление внешней безопасности. Это название служба приобрела при президенте Франсуа Миттеране; ранее она именовалась Службой внешней документации и контрразведки, но большинству французов она более известна как «Бассейн», по прозвищу штаб-квартиры, расположенной в северо-восточной части Парижа[92].
Известно, что в 50-х годах французское шпионское ведомство было причастно к серии убийств сторонников движения независимости в Алжире. Сотрудники французской разведки по всему миру вербовали агентов, традиционно известных как «благородные корреспонденты», но мало кто из них отличался благородством, особенно если это касается гангстеров, бывших преступников и наемников, входивших в этот состав. Одно из подразделений управления — служба действия — функционировало как команда для совершения убийств.
Управление по наблюдению за территорией (DST) отвечает за вопросы внутренней безопасности и контрразведки и в общих чертах эквивалентно ФБР. Его штаб-квартира также находится в Париже на улице Нелатон, 7, недалеко от Эйфелевой башни.
По словам Голицына, советские «кроты» прорыли ходы в секретные службы Франции, правительство, возможно, проникли даже в кабинет президента Шарля де Голля. Президент Кеннеди достаточно серьезно отнесся к предупреждению Голицына и направил письмо де Голлю, чтобы предупредить его о выдвинутых Голицыным обвинениях. В ответ на это де Голль направил в Вашингтон со специальными полномочиями генерала Жан-Луи де Румжона, представителя Второго бюро французской военной разведки. Румжон встретился с Голицыным, зернулся в Париж и явился с докладом в Елисейский дворец. В результате этой миссии глава Службы'внешней документации и контрразведки генерал Поль Жакье и директор ДСТ Даниэль Дустэн направили в Вашингтон совместную группу следователей для встречи с Голицыным, которому присвоили тайную кличку «Мартель».
Голицын заявил, что внутри Управления функционирует состоящая из дюжины членов сеть советских шпионов под кодовым названием «Сапфир». Создавалось впечатление, что он был хорошо осведомлен о структуре и деятельности французской службы.
Бывший сотрудник ЦРУ, который был в курсе показаний Голицына, сказал: «Голицын — профранцузски настроенный советский человек. Ему нравилось все французское, хотя он никогда не жил в этой стране. У него был список из 25 или 30 наводок, не имен, а очень слабеньких наводок. Голицын неоднократно говорил о том, как некий ответственный сотрудник КГБ называл своих агентов во Франции «сапфирами» — другими словами, коллекцией драгоценных камней».
Заявления о группе «Сапфир» не улучшили довольно хрупких отношений между ЦРУ и французской службой. Контрразведчиков из ЦРУ тревожила мысль о том, что секреты, которыми ЦРУ поделилось со Службой внешней документации и контрразведки, могли просочиться обратно в Москву через французов. В то время как сотрудники французской контрразведки продолжали опрос Голицына, в ЦРУ все ширилось впечатление, что французская разведка буквально нашпигована советскими шпионами.
Все тот же бывший сотрудник ЦРУ говорил: «Никакой ясности с французами. Некоторые наводки вели к сотрудникам службы довольно высокого ранга, которые были связаны с нами по оперативным вопросам и в то же время в отношении которых уже имелись определенные подозрения, но никаких доказательств. Джим (Энглтон) был против этих лиц, что приводило к большим трениям. По словам Голицына, советские «кроты», засевшие в Елисейском дворце, в правительстве и французской разведке, могли оказать влияние на французскую политику».
Энглтон, со своей командной позиции, считал, что французские службы не проявляли достаточной активности в деле искоренения названной Голицыным шпионской сети. ЦРУ заподозрило французов в том, что они больше заинтересованы в предотвращении возможного политического скандала, а не в обнаружении и наказании «кротов».
Но во Франции заявления Голицына привели к выдвижению обвинений против двух известных политических деятелей — Жака Фоккара и Луи Жокса, а также против дипломата Жоржа Горса. Фоккар вошел в близкое окружение де Голля в период пребывания генерала в Лондоне в ходе второй мировой войны, являлся членом французского кабинета и советником де Голля по вопросам разведки, когда в результате заявлений Голицына попал под подозрение. Пресса обвинила Фоккара в том, что он организовал «бородачей» — тайный отряд преступников, выполнявший террористические акции в Алжире, а также в том, что он является советским «кротом», описанным Голицыным. Фоккар отверг обвинения, подал в суд на несколько газет и выиграл процесс. Он продолжал оставаться министром при де Голле и Жорже Помпиду.
Второй подозреваемый Голицыным француз, Луи Жокс, в начале 50-х годов был послом в Москве и при де Голле занимал высокий пост в правительстве. Будучи министром по делам Алжира, он сыграл основную роль в урегулировании конфликта и установлении в 1962 году независимости Алжира, что сделало его непопулярным среди правых и, возможно, явилось причиной причисления его к «кротам». Однако, как и в случае с Фоккаром, когда дым рассеялся, против Жокса не оказалось доказательств, и он продолжал пользоваться доверием де Голля[93]. Жорж Горе, французский дипломат, в отношении которого вели расследование французские охотники на «кротов», неоднократно был в Советском Союзе и работал послом в Тунисе.
Кроме сообщений о проникновении советской агентуры во французское правительство Голицын заявил, что КГБ имеет в НАТО высокопоставленного агента, способного обеспечить Москве постоянный доступ к секретным документам, даже с наивысшим грифом секретности «космик». Информация, предоставленная Голицыным, была оценена после разоблачения Жоржа Пака, советского шпиона в штаб-квартире НАТО, располагавшейся тогда в Париже. На момент ареста в августе 1963 года он являлся заместителем начальника отдела прессы. Ему предъявили обвинение в государственной измене и приговорили к пожизненному заключению. Впоследствии этот срок был сокращен до 20 лет.
Французский писатель Тьерри Вольтон утверждает, что Пак не мог быть шпионом в НАТО, на которого указал Голицын. Голицын бежал в декабре 1961 года, а Пак начал работать в НАТО в октябре 1962 года[94]. Однако Пак передавал секреты Советам многие годы и прежде работал в министерстве обороны, где имел доступ к документам НАТО.
И все-таки, если не Пак, то кто же был советским шпионом в НАТО? Спустя почти два десятилетия, хотя и не как прямой результат информации Голицына, советский шпион в НАТО был разоблачен. Им оказался Хью Джордж Хэмблтон, профессор экономики из Канады, работавший в НАТО с 1956 по 1961 год. В 1977 году ФБР задержало и перевербовало нелегала КГБ, чеха по имени Людек Земенек, прибывшего в США из Канады под именем Рудольфа Херманна. Он согласился работать на ФБР и стал агентом-двойником. Земенек сообщил ФБР, что одной из его связей является профессор Хэмблтон, против которого канадцы предпочли не выдвигать обвинения. Но Хэмблтон, имевший двойное, канадско-английское гражданство, в 1982 году неблагоразумно вылетел в Лондон, где его сразу же арестовали, привлекли к суду и приговорили к 10 годам тюремного заключения[95].
В течение многих лет в разведывательных ведомствах США ходила драматическая история о шпионе (помимо Пака), который, будучи арестован на основании информации, предположительно полученной французами от Голицына, в процессе допросов выпрыгнул из окна и разбился насмерть. Несмотря на противоречивые сообщения об этом, файлы ЦРУ не содержат данных, подтверждающих факт ареста этого шпиона на основании информации Голицына.
В действительности такой шпион был. По словам бывшего руководителя ДСТ[96] Марселя Шале, им являлся агент румынской секретной службы и в дальнейшем ГРУ полковник Шарль де Жюркэ д» Анфревилль де ля Салль, отставной офицер ВВС, герой советско-французской эскадрильи в период второй мировой войны. Отчасти в результате своей службы в военные годы он всегда с симпатией относился к Советам. В мае 1965 года в знаменитом кафе «Липп» на левом берегу Сены подруга де ля Салля познакомила его с сотрудником румынской разведки Ионом Якобеску, работавшим «под крышей» ЮНЕСКО. Якобеску завербовал полковника, имевшего связи в электронных фирмах, и получал от него данные по французским военным самолетам. Через некоторое время наряду с румынами с полковником стал работать офицер ГРУ Владимир Архипов, находившийся в Париже под дипломатическим прикрытием.
Не желая возвращаться в Бухарест, Якобеску сбежал в Англию и выдал де ля Салля. Последнего арестовали в августе 1969 года в Париже. На допросах в ДСТ полковник признался в шпионаже в пользу румын. Он ничего не сказал о связи с русскими, попросил разрешения вернуться в квартиру, чтобы забрать какие-то документы. В сопровождении двух сотрудников ДСТ он направился в пригород Парижа Иври-сюр-Сен. Бывший сотрудник контрразведки ФБР рассказал: «По прибытии на квартиру один из сопровождавших спросил полковника о его связях с русскими. «Я не знал, что вы в курсе», — ответил де ля Салль. Он вышел на минуту из комнаты под предлогом выпить стакан воды и выпрыгнул из кухонного окна, упав на крышу автомашины ДСТ». Смерть де ля Салля отнесли к разряду самоубийств, выдал же его не Голицын, а Якобеску.
Обвинения Голицына в том, что советские агенты проникли в секретные службы Франции и правительство де Голля, по большей части не принесли видимых результатов. Однако в 1968 году «французская связь» привела к большому скандалу.
В центре скандала оказался Филипп Тиро де Вожоли, офицер связи взаимодействия Службы внешней документации и контрразведки в Вашингтоне с 1951 по октябрь 1963 года, когда он неожиданно ушел в отставку.
Во время второй мировой войны де Вожоли бежал из оккупированной фашистами Франции, через Пиренеи он пробрался в Испанию и далее в Лондон, где стал работать в разведслужбе Свободной Франции де Голля.
В Вашингтоне де Вожоли, под псевдонимом «Ламиа», установил тесные отношения с ЦРУ и с директором контрразведки ЦРУ Джеймсом Энглтоном. Допросы Голицына продолжались, вбивая клин между двумя разведками. Группа следователя из французской разведслужбы получала через Голицына смутные описания «кротов», затем сверяла их с архивами в Париже, пытаясь подогнать имена под эти данные. В ходе следующей встречи с Голицыным в Вашингтоне французы тщательно проверяли эти имена. Вожоли писал: «Проблема состояла в том, что на каждой встрече с «Мартелем» (французская кличка Голицына) присутствовали коллеги-американцы. Как только французы называли «Мартелю» какую-либо фамилию, американцы автоматически включали этого человека в список подозреваемых»[97]. Вожоли заявил, что его контакты с американской разведкой начали рушиться. «Похоже, прошел слух не связываться с французами»[98]. А тем временем в 1962 году Вожоли создал шпионскую сеть на Кубе, которая задолго до развития кубинского ракетного кризиса снабжала его информацией.
В декабре Вожоли отозвали в Париж и, по его словам, приказали заняться сбором военных и ядерных секретов в Америке. Изоляция Франции от США постоянно возрастала, и де Голлю хотелось иметь собственную «ударную силу» — ядерное оружие. Более того, утверждал Вожоли, его обвинили в том, что он направлял во Францию ложную информацию, сообщая о размещении советских наступательных ракет на Кубе. Французы отказывались верить в это. По словам Вожоли, обвинения Голицына его руководство рассматривало как часть американского заговора, имевшего целью поставить Францию в затруднительное положение.
Встревоженный таким поворотом событий, Вожоли 18 октября 1963 года направил язвительное письмо своему шефу генералу Жокье, в котором потребовал отставки. Заявив, что опасается за свою жизнь, Вожоли скрылся.
Позднее он рассказал свою историю писателю Леону У рису, который положил ее в основу широкоизвестного романа «Топаз», посвященного этому делу[99]. Во Франции Вожоли посчитали двойным агентом, перешедшим на сторону американцев. Должностные лица разведки США подтверждают, что они обеспечивали охрану Вожоли после его отставки.
Один бывший сотрудник контрразведки ФБР рассказал: «Де Вожоли попросил политического убежища. Французы заподозрили, что он уже работает на Джима Энглтона. Возможно, это утверждение не было далеким от истины. Конечно, Вожоли приходилось поддерживать тесный контакт с Энглтоном, но в этом заключалась его работа. На каком-то этапе его лояльность претерпела изменения. Он пришел к мнению о ненадежности собственной службы. Это вызвало бурю и длительное расследование во Франции».
По словам одного отставного сотрудника ЦРУ, Вожоли в споре со Службой внешней документации и контрразведки пытался отстоять контакты с Энглтоном. «Он заявил им, что в ЦРУ считают Голицына надежным перебежчиком. По мнению французов, Вожоли постепенно стал выступать в защиту Энглтона и Голицына. Спустя какое-то время французы стали непосредственно работать с Голицыным, встречались с ним на каких-то островах в Карибском море и в других местах».
Заместитель Энглтона «Скотти» Майлер сказал, что разрыв Вожоли с французской службой ускорил приказ о сборе информации, касающейся американских секретов: «Вожоли бежал из Службы внешней документации и контрразведки после того, как его проинструктировали шпионить против США. Благодаря информации Голицына были разоблачены Пак и другие. Вожоли подозревал, что во французской спецслужбе имелся советский агент, сумевший направить ее работу против США. Вожоли сказал, что не имел к этому никакого отношения».
Некий французский чиновник, знакомый с этим делом, настаивал, что страхи Вожоли по поводу собственной безопасности были оправданны. «Де Голль решил покончить с Вожоли и отдал распоряжение Службе действия убить его. Вожоли предупредили, и он бежал в Мексику». Впоследствии он перебрался на юг Флориды.
Одновременно охота на «кротов» распространилась и на Канаду. У Голицына были лишь расплывчатые наводки по вопросу проникновения советской агентуры в разведслужбы Канады. В конце концов по наводке из ЦРУ канадцы (Королевская канадская конная полиция) сконцентрировали свое внимание на собственном начальнике советского отдела контрразведки Лесли Джеймсе Беннете. Сын шахтера из Южного Уэльса, Беннет работал в английской разведке средств связи и после второй мировой войны, находясь в Стамбуле, встречался с Кимом Филби. В 1954 году он эмигрировал в Канаду и начал работать в службе безопасности КККП, где со временем занял высокую должность, в целом сравнимую с постом Джеймса Энглтона в ЦРУ[100].
В 60-х годах произошел провал ряда канадских операций против СССР, за Беннетом на два года установили наблюдение. Расследование его деятельности получает кодовое наименование «операция Гридирон». По словам одного бывшего сотрудника ЦРУ, знакомого с делом Беннета и хорошо его знавшего, «Голицыну показали личное дело Беннета или ознакомили с материалами разработки и он заявил, что считает Беннета советским агентом. Это стало мощным фактором».
Не менее важными оказались подозрения в отношении Беннета, высказанные одним из сотрудников Энглтона Клэром Эдвардом Петти, входившим в состав группы специальных расследований контрразведки, отвечавшей за поиск «кротов». Доводы Петти были довольно путаными. По просьбе Беннета ЦРУ установило наружное наблюдение за сотрудником КГБ в Канаде, который часто выезжал в Южную Америку. Вскоре представитель БНД (службы разведки ФРГ) по связям и взаимодействию в Вашингтоне Хайнц Херре посетил Беннета в Оттаве и в разговоре с ним упомянул о своей поездке в Южную Америку. По словам Петти, Беннет заметил, что Херре мог наткнуться на сотрудника КГБ, который находился там в это же время. Данное предположение «заставило побелеть Херре», о чем Беннет сообщил ЦРУ. «У Беннета возникло ощущение, что Херре виновен, что, возможно, он встречался с сотрудником КГБ или вместе с ним ездил».
Петти заявил: «Озаренные идеей и обеспокоенные, сотрудники ЦРУ устанавливают наблюдение за Херре. Через несколько месяцев, летом, Херре едет в отпуск в Джексон-Хол, и туда же направляются два работника КГБ». По словам Петти, КГБ пытался скомпрометировать Херре, направляя в те же места, где бывает в поездках Херре, своих людей. «Необходимо было создать ему плохую репутацию. Подобные методы уже использовались два или три раза, и каждый раз в отношении различных членов организации Гелена». Петти пришел к мнению, что Беннет выполняет задание КГБ: «Если бы Беннет не проинформировал нас, мы бы не узнали о поездке Херре в Южную Америку».
Все это ошеломляло и сбивало с толку, но бывший сотрудник ЦРУ, обладавший информацией по этому делу, сказал: «Дело Беннета началось с инцидента с Херре. Энглтон сыграл здесь главную роль, он требовал расследования, используя на канадцах свои хитрые методы, включавшие продолжительные обеды с обильными возлияниями».
Беннет являлся хорошей мишенью для подозрений отчасти потому, что был гражданским лицом в полувоенной организации. Он всегда ходил в одном и том же твидовом пиджаке с нашитыми на локтях заплатками из замши, носил длинные волосы, что раздражало аккуратистов из Королевской полиции. В то время как ЦРУ, англичане и французы занимались охотой на «кротов», создавалось впечатление, что и Канада не хотела остаться в стороне. К 1970 году Беннет стал объектом разработки канадской охоты на «кротов».
Канадская служба наблюдения опасалась, что Беннет для связи с КГБ использует голубиную почту. Они неоднократно следовали за ним от дома до какой-нибудь рощицы, где он обычно из багажника автомобиля доставал проволочную клетку. Наблюдатели опасались приблизиться к нему настолько, чтобы уверенно определить, кого же он выпускает из клетки, но предполагали худшее. Вот комический пример того, как далеко могут завести подозрения ищеек из контрразведки. На самом деле Беннет ловил черных белок в своем саду и, будучи добрым человеком, выпускал их на волю в лесу.
Неустрашимые контрразведчики попытались расставить ему собственную хитрую ловушку, сообщив, что в Монреаль прибывает советский перебежчик, что не соответствовало действительности. Таким образом, если бы на месте встречи появились сотрудники КГБ, чтобы установить личность перебежчика, это означало бы, что информация передана Беннетом. Но охотникам за «кротами» помешала снежная буря, разразившаяся вечером в Монреале. Трудно было разобрать в порывах снежного ветра, был ли кто-нибудь из КГБ на месте встречи или нет. В конце концов в 1972 году КККП подвергла Беннета тяжелейшему допросу, но ничего не добилась. И хотя Беннет прошел испытания на детекторе лжи и подтвердил под присягой, что никогда не был советским агентом, после 18 лет работы он был уволен со службы и переехал в Австралию[101].
Бывший сотрудник ЦРУ, хорошо знавший Беннета, сказал: «В этом заключалась канадская трагедия. С этим человеком поступили ужасно. Его уволили, и от него ушла жена. Его жизнь практически закончилась на этой точке, а он — абсолютно невиновен».
После публикации «Уведомления D» и выхода наружу фамилии Голицына он возвратился в Вашингтон и был лично принят директором ЦРУ Джоном Маккоуном.
Бывший сотрудник ЦРУ отмечает: «Он многое порассказал Маккоуну: Вильсон — советский агент, КГБ организовал убийство Гейтскелла и другие фантастические истории. Ошеломленный Маккоун направил телеграмму Холлису». Директор ЦРУ запросил, что же происходит на самом деле.
Телеграмма Маккоуна попала резиденту ЦРУ в Лондоне Арчибальду Рузвельту, который через своего заместителя Кливленда Крэма информировал о ней штаб-квартиру МИ-5 (Ликонфилд-хаус, Керзон-стрит).
Как далее продолжает сотрудник ЦРУ, «Холлис в ответной телеграмме сообщил, что все это — вздор. У нас нет доказательств по этим обвинениям. Однако Энглтон продолжал настаивать, что Вильсон — советский шпион».
К тому времени сам Холлис попал под подозрение в МИ-5, и охота на «кротов» в Англии вышла из:под контроля. Гастроли Голицына длились недолго, но оказали разрушительное воздействие на английскую разведку, последствия которого ощущались в течение ряда лет.
В ЦРУ охота на «кротов» набирала силу.
ГЛАВА 9
«Гаичка»
В 1962 году Олег Пеньковский передавал на Запад подробную информацию о советских стратегических планах и о мощи ракетных войск — данные, которые должны были помочь президенту Кеннеди в тот октябрь справиться с первым мировым ядерным противостоянием, кубинским ракетным кризисом.
В штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли совершенно секретная информация по советским ракетам, передаваемая Пеньковским, получила специальное кодовое название «Чикади» — «Гаичка». Список лиц[102], допущенных к этим материалам, был крайне ограничен. Эта мера вполне соответствовала характеру данных, которые, как было признано в одном официальном исследовании, поступали от «единственного, наиболее ценного агента в истории ЦРУ»[103].
ЦРУ присвоило кодовое название «Айронбарк» всем поступающим от Пеньковского материалам, которые не имели отношения к советской ракетной мощи[104]. Как «Гаичка», так и «Айронбарк» были одним из наиболее тщательно охраняемых правительством США секретов.
Пеньковский передавал фотопленки со снимками советских секретных документов Гревилу Винну и Дженет Энн Чисхолм, привлекательной темноволосой жене резидента МИ-6 в Москве. Иногда Пеньковский встречался с Чисхолм в парке в то время, когда она гуляла со своими маленькими детьми, и передавал ей пленки в коробке с конфетами. Обычно эти встречи проходили по пятницам или субботам недалеко от Арбата, на бульваре в центре Москвы. Чисхолм, увидев Пеньковского, шла за ним на ближайшую улицу, где он и передавал ей пленки.
Постепенно стало появляться все больше признаков того, что шпионская деятельность Пеньковского обнаружена. Уже в январе 1962 года на встрече с Дженет Чисхолм Пеньковский обратил внимание на небольшую коричневую автомашину, едущую медленно против движения по односторонней улице. Двумя неделями позже та же машина появилась во время его другой встречи с Чисхолм. К 5 июля, когда он встретился с Винном в ресторане «Пекин», наружное наблюдение КГБ стало очевидным. На следующий день в аэропорту Пеньковский сказал Винну, что, как подобает солдату, он будет продолжать работать на Запад, несмотря на очевидную и возрастающую опасность.
Пеньковский был на приеме в посольстве Великобритании 6 сентября, а затем, казалось, исчез из поля зрения.
Пол Гарблер нервничал. Самый важный агент ЦРУ в Советском Союзе исчез.
«Мы действительно попотели, потому что не видели Пеньковского и не слышали о нем ничего», — вспоминал Гарблер. Затем 2 ноября на фонарном столбе № 35 по Кутузовскому проспекту появилась условная метка мелом. Этот столб каждый день проверял капитан Алексис Дэвисон, помощник военно-воздущного атташе. И тут, как было оговорено заранее, в квартире заместителя резидента ЦРУ в Москве Хью Монтгомери три раза прозвонил телефон.
Для сотрудников ЦРУ эти сигналы означали, что Пеньковский заложил что-то в тайник за радиатором отопления в подъезде жилого дома № 5/6 по Пушкинской улице. Чтобы проверить это, Гарблер сам сел в машину и проехал мимо этого фонарного столба на Кутузовском проспекте. Сомнения отпали — пометка мелом там действительно была.
То ли оттого, что Пеньковского не было видно уже почти два месяца, то ли потому, что Гарблер знал, что данная закладка должна быть использована только в чрезвычайных обстоятельствах, — какова бы ни была причина, у резидента появились плохие предчувствия. Но закладка должна была быть изъята.
Для выполнения этой задачи резидент выбрал Ричарда Джэкоба, двадцатичетырехлетнего оперативного работника ЦРУ из Эг-Харбора (штат Нью-Джерси), который значился в списке сотрудников посольства как «архивист». Для Джэкоба это была наконец настоящая работа. Он значился шпионом в Москве, и это выглядело замечательно на бумаге. Теперь перед ним была поставлена реальная, но, возможно, опасная задача.
Его подготовкой занимался Гарблер. «Я провел около часа в защищенном помещении с молодым парнем, которого посылали провести тайниковую операцию, — вспоминал Гарблер. — Я не могу объяснить, почему я выбрал именно его и уделил так много времени его подготовке к участию в этой операции, которая была обречена на провал. Пожалуй, я это сделал инстинктивно. Что-то внутри меня заставило отработать все и предупредить его, что делать на тот случай, если что-нибудь случится».
«Что вы имеете в виду под „если что-нибудь случится“?» — спросил нервно Джэкоб. «Послание должно быть в спичечном коробке, — ответил Гарблер. — Держи его в руке, пока не выйдешь на улицу. И если на тебя накинутся, попытайся бросить коробок в сточный колодец. Если сможешь — избавься от него».
Джэкоб кивнул, и Гарблер продолжил: «Они тебе дадут жару. Не признавайся в том, что ты изъял тайник. Добивайся звонка в посольство».
Когда Джэкоб прибыл к тайнику на Пушкинской улице, сотрудники КГБ его уже поджидали. Он попал в ту ловушку, которой так опасался Гарблер[105].
Пеньковский был арестован 22 октября, за две недели до того, как сигнал появился на столбе. Анализируя происшедшее, ЦРУ пришло к выводу, что Пеньковский под давлением выдал как местонахождение тайника, так и отметку мелом, которая служила сигналом, что тайник задействован. В тот момент, даже если русские еще не подозревали, они могли догадаться, что тайник, около которого они видели Джона Абидяна, предназначался Пеньковскому[106]. КГБ привел в действие эту тайниковую операцию, поставив метку на столбе, и ЦРУ попало в ловушку.
Пеньковский, находясь под контролем КГБ (или сам КГБ), подал еще один, необычный сигнал, значение которого уже в течение многих лет после этого события обсуждалось внутри ЦРУ. По мнению Гарблера,
Пеньковскому было заранее сказано, что если он узнает, что русские готовятся осуществить ракетно-ядерное нападение на США, то он должен пойти в телефон-автомат, позвонить капитану Дэвисону и просвистеть три раза в трубку. Это и был условный сигнал, означающий: «Дело началось». И он (Пеньковский) сделал это[107].
Как сказал Гарблер, могло быть несколько возможных объяснений того, что сделал Пеньковский. Он мог раскрыть КГБ условный сигнал, «и они, возможно, сделали это, чтобы нас встряхнуть». Мог ли Пеньковский, раскрыв сигнал сотрудникам КГБ, скрыть его значение? «Да, так могло быть», — ответил Гарблер. Зная, что он обречен, Олег Пеньковский мог попытаться нанести последний удар по своей стране, начав ядерный Армагеддон. Если так, то это совпало бы с его предложениями, сделанными ранее: установить миниатюрные ядерные бомбы в разных местах вокруг советской столицы.
Связной Пеньковского Гревил Винн был арестован в Будапеште 2 ноября, переправлен в Москву и заключен на Лубянке. Оба они предстали перед судом в мае 1963 года и были признаны виновными[108]. Пеньковский был обвинен в измене Родине и приговорен к исключительной мере наказания. 16 мая, как сообщил ТАСС, он был казнен. Винна приговорили к восьми годам тюремного заключения, но в апреле 1964 года его обменяли на советского шпиона Гордона Лонсдейла.
13 мая, после завершения суда над Пеньковским, Ричард Джэкоб и еще четыре американца были объявлены персона нон грата и высланы из Москвы[109].
Дело Пеньковского, несмотря на его очевидный успех, закончилось явным провалом: сообщением о казни советского полковника и высылкой десяти официальных представителей западных стран.
Но почему ЦРУ направило своего сотрудника на Пушкинскую улицу, если пятью месяцами ранее в Женеве, как утверждал Джордж Кайзвальтер, Юрий Носенко заявил, что Джон Абидян, «красавчик-армянин», был замечен у тайника? Ответ не ясен, но, по словам Кайзвальтера, он сразу передал сообщение Носенко в штаб-квартиру[110].
После ареста Пеньковского Кайзвальтер, в ярости от того, что операцию поставили под удар, сказал, что он сокрушался по поводу участия Абидяна, которого, хотя он и не был сотрудником ЦРУ, послали проверять тайник[111]. Он сказал, что пожаловался Джозефу Бьюли-ку, руководителю подразделения SR-9, отвечавшему за операции в Москве и лично за дело Пеньковского. Возвратившись в Лэнгли, Кайзвальтер сказал: «Я проговорил с Бьюликом целый день в коридорах Центра в конце 1962 года, после того как «закрутили» Пеньковского. Я спросил, почему мне не сказали, что армянин отправился к тому самому тайнику».
«Я поднял скандал, — продолжал Кайзвальтер, — Бьюлик подтвердил, что тайник, который проверял армянин, и тайник Пеньковского — один и тот же. Бьюлик сказал мне: «Ну, мы решили, что Абидяна было безопасно использовать, потому что его срок пребывания заканчивался и его перевели из Москвы». Да, лошадь уже вывели из конюшни».
Поскольку никто не сообщил в московскую резидентуру, что тайник засвечен, Гарблер, естественно, ничего не знал. Почему Центр не сообщил ему об этом? Гарблер ответил, что не знает, но добавил, что Бьюлик, возглавляющий SR-9, был печально известен своей скрытностью и чрезвычайной осторожностью в отношении того, что он кому-либо говорил, включая своих ближайших коллег.
Гарблер заявил, что если бы его информировали, что КГБ известно местоположение тайника, он никогда не послал бы Ричарда Джэкоба изымать закладку и попытался бы предупредить Пеньковского, что тайником пользоваться нельзя, и тогда русские не схватили бы на тайниковой операции оперативного работника ЦРУ как действовавшего в тайном сговоре с Олегом Пеньковским.
Короче говоря, именно Центр не поставил в известность московского резидента о том, что происходит в деле Пеньковского. Только много лет спустя Гарблер выяснил удивительную причину того, почему его держали в неведении.
Дело «Гаичка» было закрыто, но осенью 1963 года Гарблер оказался в новой кризисной ситуации. В анналах ЦРУ это дело проходит под названием «Бумаги Черепанова».
Александр Николаевич Черепанов являлся сотрудником Второго главного управления КГБ, деятельность которого направлена на иностранцев и дипломатов.
Неприятности начались, как говорил Пол Гарблер, когда чета американцев явилась в посольство с пакетом документов. Гарблер помнит эту пару. «Кто-то из них был библиотекарем, оба из штата Индиана. Они общались с гидом, который водил их по московским библиотекам. Фамилия гида была Черепанов». Он-то и отдал пакет американцам и попросил передать его в американское посольство.
Пара пришла в Консульский отдел на первом этаже посольства на улице Чайковского и передала бумаги американскому сотруднику, который, в свою очередь, вручил их Малькольму Туну, советнику по политическим вопросам при после США Фое Колере.
«Было договорено, — сказал Гарблер, — что если какой-либо добровольный информатор приходит в посольство, то меня сразу же (или, по крайней мере, в течение нескольких часов) извещают об этом. Но в данном случае о том, что поступили бумаги, я узнал лишь на следующий день. Меня вызвали Тун и Уолтер Стоссел, заместитель главы представительства, который исполнял обязанности посла, так как Колера не было в городе.
Дипломаты рассказали Гарблеру о бумагах, утверждая, что все это похоже на провокацию. Они упомянули, что в Варшаве за неделю до этого кто-то передал американскому военному атташе схему расположения ракетных площадок. Атташе был обвинен в шпионаже и выслан.
Гарблер едва мог поверить своим ушам. Документы, очевидно, были взяты из дел КГБ, все-таки попали в посольство, а эти дипломаты собираются вернуть их русским. «Мы приняли решение все это отдать обратно», — заявили они. «Хорошо, — согласился я, только вначале я должен их посмотреть и сделать фотокопии».
«Пачка материалов была в дюйм толщиной, — продолжал Гарблер. — Они мне ее дали с неохотой, заявив, что я могу посмотреть, но что они уже договорились о времени возврата. Я взял бумаги в свой маленький закуток на десятом этаже и переснял их. У меня в распоряжении была пара часов, так как встреча должна была состояться в полдень в Министерстве иностранных дел».
В документах, очевидно, принадлежавших американскому отделу Второго главного управления КГБ, очень подробно сообщалось о том, как пьют и как вступают в интимные связи некоторые работники посольства США. «КГБ тщательно фиксировал эти факты, и все это представляло собой грязную картину. Так, например, «помощник военного атташе пьет, и мы собираемся поймать его на этом». Документы являлись основанием для шантажа. Если бы я был сотрудником КГБ, то не стал бы использовать такую информацию для организации провокации, а воспользовался бы информацией о ракетах. Я полагал, что материалы подлинные».
Гарблер спустился вниз, вернул бумаги Стосселу и попросил переговорить с ним еще раз в защищенном помещении-«пузыре». Гарблер настаивал на том, чтобы бумаги остались в посольстве. Я сказал: «Уолтер, ты делаешь ошибку». Я пришел к выводу, что бумаги взяты из досье КГБ, и подчеркнул: «Это не те бумаги, которые обычно используют для провокации. Это материалы, которые мог бы использовать человек из КГБ, намеревающийся вступить с нами в контакт». Тут к нашему разговору присоединился Тун, и я привел дополнительный довод, что если бумаги будут возвращены, то КГБ потребуется не более часа, чтобы установить источник утечки информации. Я сказал: «В действительности то, что вы делаете, является убийством».
Ответ Туна возмутил резидента. Малькольм Тун изрек: «Вы ребята, каждый день убиваете людей в вашей организации. Какая разница — ну, убьете одним больше. К тому же уже поздно, мы их уже вернули».
Гарблер вскочил со своего места.
— Сотрудник, которому поручено отвезти материалы, еще в здании?
— Возможно, уже нет, — ответил Тун.
«Было около двенадцати часов дня, — рассказал Гарблер, — а встреча в МИД должна была состояться ровно в двенадцать. Я вышел из защищенной комнаты, подошел к окну и выглянул во двор. Внизу я увидел парня, который собирался садиться в машину, чтобы ехать. Я не стал дожидаться лифта, который очень медленно поднимался, а побежал по лестнице вниз и выскочил во двор».
Американский консул Том Фэйн собирался отбыть в МИД. Гарблер выхватил из его рук бумаги и помчался назад к Стосселу. «Послушай, Уолтер, я отдам свою карьеру и жизнь за это, не отдавай назад эти бумаги. На карту поставлена жизнь человека».
Стоссел отказался, и бумагам Черепанова суждено было вернуться к русским. Гарблеру, служебное положение которого было ниже, ничего не оставалось делать, как подчиниться. «Я сказал: ладно, но ты не прав, не прав, не прав. Если ты хочешь это делать, то делай. Я думаю, что ты должен выполнить свои обязанности». Я пошел вниз, передал бумаги консулу, который все еще стоял во дворе. Он, наверное, подумал, что я сошел с ума»[112].
Бумаги ушли обратно в КГБ, но благодаря Гарблеру в ЦРУ остались копии, и уже очень скоро ЦРУ суждено было услышать о Черепанове еще раз.
После ареста Пеньковского и закрытия дел «Гаичка» и «Айронбарк» пребывание Гарблера в Москве подходило к концу. Довольно скоро после стычки по делу Черепанова произошло событие, которому суждено было изменить мир и напрямую повлиять на проведение в штаб-квартире ЦРУ секретных поисков по выявлению «кротов».
Ли Харви Освальд прибыл в Советский Союз в октябре 1959 года. После двух с половиной лет пребывания, в июне 1962 года, он уехал. Это произошло спустя шесть месяцев после приезда Гарблера в Москву. 22 ноября 1962 года в Далласе Освальд выстрелом из ружья из углового окна школьного библиотечного коллектора штата Техас убил президента США Джона Ф. Кеннеди.
ГЛАВА 10
«Отдайте мне ваш жетон»
Поскольку Питер Карлоу допрашивался ФБР, он понял, что его карьера в ЦРУ закончилась. Он не знал лишь того, что Шеффилд Эдвардс, директор управления безопасности ЦРУ, делал все, чтобы «схватить» его независимо от того, имеются доказательства его вины или нет. И то обстоятельство, что их не было, совершенно не беспокоило Эдвардса. В январе 1963 года, за три недели до начала допросов в ФБР, шеф безопасности ЦРУ пригласил представителей ФБР обсудить дело Карлоу, который все еще рассматривался в качестве «главного обвиняемого» в охоте на «кротов».
«Присутствующие на совещании лица, — Эдвардс писал удивительно высокопарным бюрократическим стилем, — признали определенную возможность того, что в отношении [Карлоу] не может быть выдвинуто конкретное обвинение, поскольку существует вероятность того, что [Карлоу] не идентичен [„Саше“]. Директор управления безопасности указал, что ЦРУ заинтересовано в том, чтобы другие области, касающиеся личного состава и/или проблемы безопасности, которые имеют отношение к… делу, были тщательно выяснены во время допроса [Карлоу], поскольку, по мнению управления безопасности… этот [Карлоу] должен быть удален из ЦРУ вне зависимости от того, идентичен он или не идентичен [ „Саше“]»[113].
Яснее не скажешь. Если бы ЦРУ не смогло доказать, что Карлоу является «кротом», оно нашло бы другие причины для его увольнения. Европейские манеры Карлоу и его широкая эрудиция, очевидно, раздражали Эдвардса, бывшего армейского полковника, стройного мужчину с военной выправкой и коротко подстриженными седыми волосами. Его неприязнь к Карлоу была очевидной и пронизывала все его секретные докладные записки того периода, многие из которых были полны сарказма. На совещании с представителями ФБР Эдвардс высказал беспокойство по поводу того, что Карлоу может отказаться от допросов в ФБР. «Тем не менее, по общему мнению присутствующих на совещании лиц, — заключил шеф управления безопасности, — [Карлоу], который, как представляется, очень высокого мнения о своем интеллекте, согласится на собеседование в ФБР независимо от того, является ли он [ «Сашей»] или нет»[114].
19 февраля, неделю спустя после допросов в ФБР, Карлоу явился к Эдвардсу. Между ними произошла отвратительная стычка.
— Вы — предатель! — рявкнул Эдвардс. — Вопрос просто в том, уволим мы вас или позволим уйти в отставку.
— А вы — дурак, — в том же тоне отвечал Карлоу.
После дальнейшего обмена подобными любезностями руководитель безопасности ЦРУ информировал Карлоу, что через неделю будет принято решение о том, разрешат ли ему уйти в отставку без всяких последствий.
Карлоу был против такого решения, заявив, что он невиновен. Очевидно, добавил он, Эдвардс не верит ему. «Он-таки остался при этом мнении», — писал Эдвардс[115].
Двумя днями позже по просьбе заместителя директора ЦРУ по планированию Ричарда Хелмса Карлоу направил докладную записку на его имя. «В меру своих сил я желаю помочь ФБР, — писал он, — как в разрешении дела, так и в целях снятия с меня подозрений. Мне не в чем признаваться и нечего скрывать. Я понимаю, что вследствие невероятной ошибки… я нахожусь под серьезным подозрением в измене и что моя карьера в ЦРУ закончена». И добавил: «Я намерен оспаривать любое подозрение или обвинение в нелояльности либо совершении необдуманных поступков всеми средствами, которыми я располагаю как в ЦРУ, так и вне этой и других правительственных организаций. Я буду бороться До тех пор, пока не будет восстановлено мое честное имя»[116]. К докладной записке Карлоу приложил заявление, в котором он разъяснил несоответствие в отношении места рождения отца в анкетах, заполненных им много лет назад. За это несоответствие, как и за незначительное нарушение режима секретности, совершенное Карлоу (однажды он оставил обрывки секретного документа в банке из-под кофе), «зацепилось» управление безопасности и использовало эти обстоятельства как «дубинку» для выдворения его из ЦРУ.
На следующий день Карлоу еще раз зашел к Хелмсу, которого считал своим другом. На этот раз Карлоу сообщил, что планирует уйти в отставку. Хелмс, являющийся воплощением бюрократии и человеком холодного рассудка, сообщил, что дело уже переправлено в ФБР. Однако Карлоу, по мнению Хелмса, должен попытаться исправить «определенные противоречия», обнаруженные в его личном деле.
Карлоу не осознавал, что лица, подозреваемые в предательстве, не имеют друзей. В своей докладной записке Хелмс зафиксировал, что настаивал, чтобы Карлоу устранил все противоречия в материалах, находящихся в руках ФБР, иначе «он рискует навлечь на будущее своих детей угрозу быть под подозрением в случае, если они будут пытаться устроиться на работу в любое государственное учреждение, включая службу в вооруженных силах». Хелмс добавил: «Я изложил эту мысль, потому что мне казалось, что это было единственное средство добиться от Карлоу любого возможного признания и заставить его беспокоиться не столько о собственном будущем, сколько о своих детях и других членах семьи». В конце Хелмс записал: «Ничего утешительного я ему не сказал…»[117].
К тому времени Карлоу не пытался сохранить свое место работы. Все, что он мог делать, — это бороться за восстановление своей репутации. «Когда на пятый день допросов в ФБР мне было вынесено окончательное обвинение, — писал Карлоу, — я почувствовал облегчение, они никак не могли доказать, что я был русским шпионом. Обвинение было явно абсурдным. Но я не хотел, чтобы в отношении меня остались какие-то подозрения».
Карлоу продолжал требовать от обвинителей конкретных доказательств. Если, как они утверждают, он — советский шпион, то необходимо привести данные о месте, времени и характере осуществленных им акций. Он настойчиво добивался от генерального юрисконсульта ЦРУ Лоренса Хьюстона конкретных сведений о якобы совершенных им преступлениях.
«Наконец, они представили две даты. Предполагалось, что 6 января 1950 года и 24 августа 1951 года я находился в Восточном Берлине, где имел встречи со своим руководителем — оперработником КГБ, таинственной Лидией».
Однако Карлоу удалось найти доказательства, подтверждающие, что в указанные дни он находился в других местах. Как оказалось, у Карлоу хранилась книга с надписью «Моему дорогому другу Питеру Карлоу, Руан, 6 января 1950 года» (тот самый день, в который Карлоу, согласно обвинению, должен был находиться в Восточном Берлине). Книга была ему вручена одним из французских героев второй мировой войны капитаном Жаном л’Эрминье. Последний был командиром подводной лодки «Касабланка», которая доставила на Корсику 104 французских и марокканских командос за сутки до освобождения этого острова в 1943 году. Карлоу и этот французский герой были инвалидами, француз в годы войны потерял обе ноги.
Впервые Карлоу познакомился с л’Эрминье в госпитале ВМС США в Филадельфии, куда оба были направлены на лечение и протезирование конечностей. Один из сотрудников госпиталя поинтересовался, знает ли Карлоу французский язык, так как в госпитале был пациент, не говоривший по-английски. Карлоу таким образом оказался в одной палате с французом. «Я увидел фотографию подводной лодки над кроватью француза и сразу понял, кто передо мной», — вспоминал Карлоу. Оба пациента стали хорошими друзьями.
В конце декабря 1949 года Карлоу на борту парохода «Иль-де-Франс» направился в Гавр. Из Франции он должен был поехать в Германию, где в Карлсруэ по поручению Ричарда Хелмса ему предстояло создать техническую лабораторию. «Мы отпраздновали новый год на борту, Иль-де-Франс»», — вспоминал Карлоу. Из Гавра Карлоу выехал поездом в Париж, а затем другим поездом — в Руан, где остановился на ночь и посетил л’Эрминье. Француз подарил Карлоу свою книгу «Касабланка», в которой рассказывается о подвигах его знаменитой подводной лодки в годы войны.
Карлоу сумел также восстановить события 24 августа 1951 года. По данным Карлоу, в этот день он, его мать и будущая жена Либби были в Берхтесгадене, где расположились в гостинице «Берхтесгаденер Хоф». «Именно тогда я сделал предложение моей будущей жене. Они обнаружили наши имена в регистрационном журнале этой гостиницы».
Карлоу не ставили в известность, каким образом ЦРУ смогло установить эти две даты. Однако он удивился реакции управления безопасности ЦРУ, когда ценой огромных затрат времени и усилий он представил доказательства, свидетельствующие, что он не был в Восточном Берлине в указанные дни. Карлоу беседовал с Робертом Баннерманом, заместителем директора управления безопасности, которому предстояло заменить Шеффилда Эдвардса. Баннерман заявил: «Вы, должно быть, высококлассный шпион, так как очень хорошо документированы». Когда же к Карлоу еще не было документальных доказательств, а в его многочисленных анкетах, заполненных еще в давние годы, содержались незначительные неточности — все это воспринималось как свидетельство его вины. Какая-то невероятная «Ловушка-22».
12 марта Карлоу подготовил на имя Хелмса другую докладную записку. Его дело изучала уже новая группа ЦРУ, однако двое ее членов входили в штат Эдвардса. Поскольку последний «считал меня виновным», как же он мог обеспечить объективное расследование? «Я нахожусь дома в административном отпуске, — сообщал Карлоу Хелмсу, — но для моих друзей в ЦРУ мое «прикрытие» тает. Это дело тянется уже «слишком долго»[118]. Хелмс ответил краткой запиской, в которой предлагал Карлоу решать свои проблемы с Хьюстоном[119].
Тем не менее через три недели, 3 апреля, Карлоу сумел связаться по телефону с Хелмсом. Последний сделал секретную запись этой беседы и направил ее заместителю директора ЦРУ генерал-лейтенанту Маршаллу Картеру. Карлоу, по мнению Хелмса, чувствовал, что паутина, опутавшая его, базируется на косвенных уликах и ее очень трудно распутать и понять конкретный характер якобы совершенных им нарушений[120].
К тому времени паутина уже полностью опутала Карлоу. Спустя две недели генерал Картер «опустил топор». «Я пришел к решению, что мы не можем больше удерживать мистера Карлоу на службе в Центральном разведывательном управлении и ему следует разрешить подать в отставку», — писал Картер[121].
Но Карлоу уже сам решил сделать это. Он знал, что беспомощен остановить бесстрастное наступление бюрократии, но был еще способен добиться от нее одной уступки. В докладной записке Хьюстона говорится, что расследования, проведенные ФБР и ЦРУ по «делу о неблагонадежности» Карлоу, не выявили, «что он был замешан каким-либо образом». Однако в этом документе также отмечалось, что дело «остается в ФБР открытым». Это было самое лучшее, что Карлоу мог ожидать; он передал копию докладной записки в надежные руки бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ, что могло служить страховкой от «пропажи» этого документа в файлах ЦРУ.
«Я оказался втянутым в дело о шпионаже, несмотря на отсутствие каких-либо соответствующих действий с моей стороны, — писал Карлоу. — Подобно козырьку дымовой трубы, отваливающейся от крыши, я абсолютно ничего не могу сделать, чтобы что-либо изменить. Поэтому я подал в отставку». Карьера Карлоу в ЦРУ завершилась, когда он достиг возраста 42 лет.
Прошли годы, но Карлоу не мог забыть состояние гнева, разочарования и отчаяния, которое он переживал в течение весны и в начале лета 1963 года. «Это был очень трудный период. Я был деморализован, пытаясь выяснить, что же случилось. Мне приходилось объяснять своей семье, что я — не русский шпион. Моей жене, матери и сестре».
5 июля 1963 года Карлоу последний раз переступил порог здания штаб-квартиры ЦРУ. В кабинете Лоренса Хьюстона он встретился с Робертом Баннерманом, заместителем директора управления безопасности.
Баннерман сказал: «Отдайте мне ваш жетон».
Карлоу носил свой пластмассовый идентификационный жетон с цепочкой на шее. Он снял его и передал сотруднику управления безопасности. «Баннерман сопроводил меня до выхода из здания». На стоянке Карлоу ожидал его белый «паккард» с откидывающимся верхом.
Карлоу говорил, что у него не было «сентиментальных чувств» в отношении прошлого, когда он покидал в тот день штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли в сопровождении Баннермана. «Я никогда не чувствовал привязанности к этому зданию, — сказал он. — Я до сих пор испытываю доверие к небольшому разведывательному управлению, которое размещалось в нескольких зданиях в городе и которое трудно было найти. Нынешнее здание штаб-квартиры было мечтой Даллеса. Многое изменилось, после того как мы перебрались в него. После этого оно стало безликим. У меня не возникало никаких чувств к этому зданию».
Когда Карлоу и его сопровождающий проходили через широкий вестибюль, Карлоу обратил его внимание на надпись на мраморной стене: «И познаешь истину, и истина сделает тебя свободным» (Евангелие от Иоанна, 8,32). Он посмотрел на Баннермана и сказал: «Надеюсь, вы иногда читаете это».
ГЛАВА 11
Фокстрот
Джордж Кайзвальтер обеспечивал всю линию связи.
Адрес в Манхэттене, который он дал Юрию Носенко до того, как они отбыли в Женеву в 1962 году, принадлежал агенту ведомства. Если бы на этот адрес из-за границы пришло что-нибудь за подписью «Алекс», это означало бы, что Носенко пытается восстановить связь с ЦРУ.
Но Кайзвальтер не верил даже наиболее надежной, отлаженной связи. Он время от времени сам проверял ее. Может быть, они никогда ничего не получат от Носенко, но если он все же пришлет телеграмму, почтовую открытку или письмо на манхэттенский адрес, она должна сработать.
«Мы организовали линию связи. Я направил телеграмму резиденту в Копенгаген: «Пошлите телеграмму по следующему адресу в Нью-Йорке». Я периодически запрашивал контрольные телеграммы из Копенгагена, Женевы и других мест, чтобы поддерживать линию в рабочем состоянии и чтобы определить время прохождения сообщения к нам». Хронометраж был очень важен, поскольку ЦРУ должно было встретить Носенко, в каком бы городе он ни находился, в кинотеатре, название которого начинается с буквы, наиболее близкой к началу алфавита, через три дня после того, как он отправит телеграмму на адрес в Нью-Йорке.
Со времени первой встречи Носенко с ЦРУ в июне 1962 года в Лэнгли произошли перемены. Говард Осборн, сменивший Джека Мори на посту начальника советского отдела, в свою очередь, в 1963 году был заменен Дэвидом Мэрфи. В конце 1962 года Пит Бэгли вернулся из Швейцарии и стал работать в отделе в качестве офицера контрразведки. Когда Энглтон показал ему досье Голицына, он пришел к убеждению, что Носенко — подстава КГБ.
В конце января 1964 года Юрий Носенко вновь приехал в Женеву с советской делегацией по разоружению. «В Нью-Йорк пришла телеграмма, — рассказывал Кайзвальтер. — Я узнал об этом через несколько часов и вылетел в Женеву. Отдельно от меня туда же вылетел Бэгли».
Бэгли встретился с ним (Носенко) в вестибюле кинотеатра в Женеве[122]. Он передал Носенко записку с адресом конспиративной квартиры. «Мы пришли на конспиративную квартиру, но не на ту, что использовали в 1962 года, а на другую».
Так началась первая из шести встреч на новой конспиративной квартире. Носенко не знал, разумеется, что один из двоих сотрудников ЦРУ, работавших с ним, Пит Бэгли, теперь считает его советской подставой.
Это происходило спустя всего два месяца после убийства Кеннеди. Линдон Джонсон пришел в Белый дом, а Комиссия Уоррена, которую Джонсон назначил для расследования убийства президента Кеннеди, собиралась начинать заслушивание первого из 552 свидетелей.
Трагедия в Далласе была еще свежа в памяти, но то, что Носенко теперь рассказал Кайзвальтеру и Бэгли, потрясло обоих сотрудников ЦРУ. Он утверждал, что лично вел дело Ли Харви Освальда, когда этот бывший морской пехотинец приехал в Москву и попросил разрешения остаться в Советском Союзе.
«Об Освальде речь зашла почти сразу же, — вспоминает Кайзвальтер. — Мы расспрашивали Носенко о всех подробностях, касающихся Освальда. Носенко рассказал, что КГБ решил, что Освальд не представляет интереса. И добавил, что именно ему было поручено официально сообщить Освальду, что тому придется покинуть страну до истечения срока действия его визы».
«Когда же он предпринял попытку самоубийства, — продолжал Носенко, — решение приказать Освальду покинуть страну было пересмотрено другими официальными лицами, уже не из КГБ, которые пришли к выводу, что будет лучше при сложившихся обстоятельствах разрешить ему остаться». По словам Кайзвальтера, когда Носенко спросили, почему Советы поменяли свое решение, он ответил: «Потому что он попытался совершить самоубийство. Они опасались широкой огласки, которая могла последовать, если бы он попытался сделать это еще раз». Как позже объяснял Носенко комиссии Конгресса, Советы пришли к заключению, что если бы Освальд покончил с собой, реакция в прессе повредила бы «потеплению советско-американских отношений»[123].
«После убийства Кеннеди, — сказал Носенко, — генерал Олег Грибанов, его шеф — начальник Второго главного управления КГБ, приказал доставить военным самолетом досье Освальда из Минска». Он рассказал, что изучил досье КГБ на Освальда и нашел, что оно состояло из обычных записей о пребывании Освальда в Минске с упоминанием его жены Марины. Там не было, по его словам, никаких указаний на то, что КГБ когда-либо делал подходы к Освальду с оперативными целями.
Два сотрудника ЦРУ в Женеве быстро передали сообщения Носенко в штаб-квартиру в Лэнгли. Как можно себе представить, в ЦРУ возник большой спор по поводу заявлений человека из КГБ, и позже они также создали проблемы для Комиссии Уоррена, которой пришлось решать, стоит ли доверять им.
На встречах в Женеве в 1964 году Носенко затронул также целый ряд других тем. Недавний арест Олега Пеньковского тоже не выходил из головы его собеседников. Носенко первым поведал о том, как был пойман Пеньковский.
По словам сотрудника КГБ, провал Пеньковского начался почти случайно. Джордж Кайзвальтер так подытожил рассказ Носенко. «Пеньковский имел одну слабость, присущую всем советским офицерам военной разведки, — сказал он. — Они недооценивают возможности КГБ в слежке, направленной против своих граждан. В Ленинграде (сейчас это Санкт-Петербург) есть превосходная школа наружного наблюдения КГБ. Это школа Седьмого управления. Ленинград — космополитический город с множеством различных этнических типов. Кандидатов для обучения в школе отбирают и в Ленинграде, и в других местах, затем их направляют в Москву. Если бы их набирали в Москве, то там их могли бы узнать знакомые или родственники, поэтому их набирают в Ленинграде».
В Москве, пояснил Кайзвальтер, КГБ держит под «наблюдением малой интенсивности» даже жен дипломатов. Одной из таких женщин оказалась Дженет Энн Чисхолм, жена резидента МИ-6. Один человек, который прошел обучение в Ленинграде и теперь работает в Москве, сказал: «Думаю, эта женщина как-то реагирует на одного русского»— «Кто он?» — «Не знаю. Он исчез». Тогда для наблюдения за Дженет Энн Чисхолм назначили более опытного офицера.
От балетной школы она проходила пешком к автобусной остановке, заглядывая в комиссионный магазин, куда советские люди приносят на продажу иконы и другие вещи. Она рассматривала товары и могла видеть проходящего мимо Пеньковского. В этом случае она выходила из магазина и шла вслед за ним в конец квартала, к пассажу с магазинами и лестнице, спускающейся вниз. Там, вне поля зрения наблюдающих, он мог, не глядя на нее, передать ей фотопленку. Другим местом был сквер.
Все подтвердили, что с Чисхолм в сквере и в пассаже было проведено всего одиннадцать встреч. Сквер находился около дома, в котором жили британские дипломаты. Он был очень небольшой, треугольной формы. К нему вели три улицы, и Пеньковский мог войти туда с любой стороны и там уронить кассету в ее сумку для покупок.
Когда КГБ засек ее, пригласили артиста, по описанию, сделанному двумя сотрудниками КГБ, одели его под Пеньковского и предупредили: «Вы должны пройти перед этой женщиной, но не поворачивайте голову, чтобы она не видела вашего лица». Когда он оказался перед Энн, она повернулась и пошла за ним.
Теперь они были уверены, что Чисхолм поддерживает связь с советским гражданином, личность которого пока еще не была установлена. В наблюдение включилось несколько бригад — целая армия сотрудников наружного наблюдения. Они проследили Пеньковского, за которым шла Энн, и установили, кто он и где живет — в многоквартирном доме на берегу Москвы-реки.
Это представляло сложности для наблюдения. Ближайший жилой дом был на расстоянии полумили на другой стороне реки. В КГБ сказали: «Надо его как-нибудь выудить оттуда, чтобы произвести обыск в квартире». Пеньковский часто обедал в шашлычной недалеко от улицы Горького. Однажды, когда он, как обычно, пришел туда, он почувствовал резкую боль в желудке. Ему подсыпали яд.
Любезный пожилой мужчина, оказавшийся рядом с ним, представился врачом, и так уж получилось, что тут же, за углом, стояла его машина «скорой помощи», на которой Пеньковского доставили в кремлевскую поликлинику. Ему промывали желудок, а тем временем сотрудники КГБ обыскивали его квартиру. Но ничего не нашли. Это было в сентябре — октябре, после последней встречи с Пеньковским. Обыск производили аккуратно, чтобы не оставлять следов.
«А не обнаружили они ничему потому, что Пеньковский имел тайник в виде выдвижного ящика стола, очень хитрого устройства. Все его шпионские принадлежности хранились там».
КГБ, по рассказу Носенко, решил установить за Пеньковским и его квартирой круглосуточное наблюдение. «Они проверили, кто жил этажом выше, — продолжал Кайзвальтер. — Ответственное должностное лицо». Они договорились с его начальником, тот вызвал его и предложил ему вместе с женой путевку на Кавказ. За многолетнюю службу на благо государства, выполнение плана и т. д. Затем начальник сказал: «Мой племянник только что женился и приезжает в Москву со своей женой. Вы знаете, как сложно получить прописку. Не могли бы вы дать ключи от квартиры на время вашего отсутствия?» Чиновник был поставлен в такое положение, когда отказать трудно.
«Племянник» и его «жена» поселились в квартире. Там за окном в ящиках росла герань. Жена Пеньковского Вера и дочь Галина отправились в гости к Варенцову. Пока они гостили на даче у маршала, Пеньковский был дома один. Сотрудники КГБ смотрели в бинокли с наблюдательного поста (НП) с другого берега реки и передали «племяннику», что Пеньковский копается в своем письменном столе. По сигналу с наблюдательного пункта большой горшок с геранью опускается вниз. В нем скрыта бесшумно работающая камера, которая снимает, как он открывает тайник. И вновь ему подсыпают яд, проникают в квартиру и на этот раз находят в тайнике материалы, шифровальный блокнот, камеру». Вот такую историю рассказал Кайзвальтеру Носенко.
На большинстве опросов Носенко в 1964 году, по словам Кайзвальтера, присутствовал Серж Карпович, оперативный работник ЦРУ. «Он работал у Бэгли, который хотел иметь рядом своего человека, потому что боялся, что я не поддержу его в отношении искренности Носенко, которому он не доверял. Чтобы фиксировать все наши беседы, Карпович пытался установить специальное звукозаписывающее оборудование, но оно не сработало. Тогда мы принесли обычный магнитофон.
Как и в 1962 году, у Носенко было что рассказать. Он сообщил, что у КГБ есть важный источник в Париже, который передает Советам секреты США и НАТО. Имя шпиона ему неизвестно. Но он раскрыл, что КГБ имел портативную рентгеновскую установку, способную считывать коды замков, что использовалось для проникновения в хранилища секретных документов в Париже.
Через десять месяцев, осенью 1964 года, Роберт Ли Джонсон признался ФБР, что в 1953 году, когда, будучи армейским сержантом, служил в Берлине, он вступил в контакт с КГБ и был завербован. Затем Джонсон завербовал своего лучшего друга — сержанта Джеймса Аллена Минткенбо. Позже Джонсон получил назначение в Центр связи вооруженных сил в аэропорту Орли, строго охраняемый объект, через который проходили совершенно секретные материалы. Осенью 1962 года он использовал рентгеновское устройство КГБ, чтобы прочитать код замка хранилища. Семь раз он брал там секретные документы и приносил их на встречи с сотрудниками КГБ, которые фотографировали их, после чего он возвращал их на место.
Носенко, говорил Кайзвальтер, рассказал о странной группе технических специалистов КГБ, которые создали и использовали эту опасную рентгеновскую установку. «Он рассказывал нам о подразделении КГБ, которое называли «беззубые». Они, работая с рентгеновской установкой, которая использовалась для определения кодов замков, подвергались облучению. Их было около пятнадцати — и у всех вставные металлические зубы. Установка состояла из двух частей, соединяемых вместе.
Однажды один из «беззубых» приезжал в Париж, чтобы показать Джонсону, как ею пользоваться»[124].
На конспиративной квартире в Женеве Носенко также рассказал об Александре Черепанове, сотруднике КГБ, чей пакет документов Полу Гарблеру удалось скопировать всего лишь за три месяца до этого, прежде чем дипломаты из американского посольства в Москве настояли на их возврате Советам. В них содержались отчеты о наблюдении КГБ за американскими дипломатами.
«Когда мы спросили его о документах Черепанова, — вспоминал Кайзвальтер, — он сказал, что это его операции». Сотрудники, работавшие с ним, настойчиво расспрашивали Носенко. Если Черепанов действительно был офицером КГБ, то что толкнуло его передать документы супружеской паре из Индианы, которая принесла их в посольство?
«Черепанов обижался, что на работе его держали за козла отпущения, — сказал Кайзвальтер. — Вместе с другим сотрудником он расписался за уничтожение этих документов в КГБ, но сумел сохранить предназначенные для сжигания материалы».
Пол Гарблер, если рассказ Носенко точен, был прав в своих предположениях, что Стоссел и Тун, вернув документы, решили судьбу Черепанова. Носенко не только заявил, что операции, описанные в документах, были его операциями, но и сообщил, что участвовал в проводившейся в масштабе всей страны охоте на беглого сотрудника КГБ. «Носенко отправили на север ловить Черепанова, — сказал Кайзвальтер. — Но схватили его на юге, «накрыли» на иранской границе и расстреляли».
В ходе тайных встреч с сотрудниками ЦРУ Носенко первый намекнул, что подумывает о переходе на Запад. «Мы говорили о его будущем, — сказал Кайзвальтер. — Он ждал письма от своей жены. «По почте?» — спросил я. «Нет, через Гука. Он приезжает из Москвы». Юрий Иванович Гук — коллега из КГБ, о котором Носенко говорил в 1962 году. Именно он, по словам Носенко, предупредил его, чтобы он прекратил встречаться с английской секретаршей, работавшей в Женеве на МИ-5».
«Гук привез письмо, — продолжал Кайзвальтер. — В один из дней Носенко явился рано утром и прочитал его мне, пока мы были вдвоем. Он был расстроен. Это было интимное, сентиментальное письмо с новостями о его семье. Он сказал: «Меня могут больше не послать за границу. Может, мне остаться? Может, я никогда больше не увижу ее»». По словам Кайзвальтера, Носенко разрывался между своими эмоциями и тягой к семье.
Даже если это так, тем не менее сотрудники ЦРУ, работавшие с ним, были поражены и изумлены, как сказал Бэгли, когда 4 февраля как гром среди ясного неба прозвучало заявление Носенко о том, что он решил бежать, потому что получил телеграмму, отзывающую его в Москву. Он просил защиты у ЦРУ.
«Он сказал, что ему приказывают вернуться домой, — вспоминал Кайзвальтер. — Бэгли бросился в комнату связи, чтобы сообщить в штаб-квартиру об отзыве». Несмотря на убежденность Бэгли в том, что Носенко — подстава КГБ, он настаивал, чтобы в Лэнгли согласились принять его. Информация Носенко об Освальде была потенциально настолько «взрывоопасной», что отметала все его возражения. Вспоминая о действиях Бэгли, Кайзвальтер сказал: «Он рекомендовал нам принять его с учетом убийства Кеннеди и всего того, что он сообщил об Освальде. Разумеется, ответ гласил: «Забрать». Если бы получилось так, что мы отправили его домой, у нас были бы неприятности».
В 1962 году Носенко говорил, что не хочет бежать на Запад. Теперь, по его словам, он передумал, потому что боится, что КГБ подозревает его, он никогда больше не сможет покинуть Советский Союз, а ему хочется начать новую жизнь. Много позже Носенко признался, что история с телеграммой о его отзыве была выдумкой, он сочинил все это, чтобы убедить ЦРУ принять его.
«По причинам, которые лучше известны советскому отделу, — говорил Кайзвальтер, — по указанию штаб-квартиры в Женеве мы тратили целые дни на составление организационной структуры КГБ, включая в нее всех, кого он (Носенко) мог вспомнить. Знали бы мы, что он собирается бежать, мы получили бы от него эту информацию позже».
4 февраля Носенко вручили американские документы и в гражданской одежде перевели через швейцарскую границу в Германию. Спустя неделю самолетом из Франкфурта его доставили на базу ВВС Эндрюс близ Вашингтона, куда он прибыл 11 февраля. «Его держали на конспиративной квартире в северной части Вирджинии, — говорил Кайзвальтер. — Двое сотрудников ЦРУ (супружеская пара) вели домашнее хозяйство и обеспечивали безопасность своего гостя. Его окрестили «Фокстрот»».
Для Носенко его новая жизнь в Соединенных Штатах быстро обернулась кошмаром, который продлился не месяцы, а годы. Энглтон и Бэгли видели миссию Носенко в достижении двух целей: отвлечь внимание от наводок Голицына на «кротов», действовавших в ЦРУ, и довести до Запада информацию о том, что КГБ не имеет никакого отношения к Ли Харви Освальду и к убийству президента Кеннеди.
В свете этого утверждения Носенко о том, что КГБ не проявил интереса к Освальду, казалось, противоречили логике. Как бывший морской пехотинец Освальд предположительно располагал хоть какой-то информацией, которую КГБ хотелось бы узнать. Более того, Освальд служил в Ацуги, в Японии, на базе самолетов «У-2». С 1956 года самолеты-шпионы ЦРУ летали над советской территорией, собирая разведывательную информацию, и для ЦРУ казалось невероятным, чтобы КГБ не захотел расспросить Освальда об этом самолете[125].
Однако Носенко придерживался своей версии: КГБ не опрашивал и не вербовал Освальда. Причина, которую указал Носенко, состояла в том, что Освальд по своим личным качествам совершенно не подходил для того, чтобы КГБ захотел иметь с ним дело. 3 марта 1964 г. спустя месяц после бегства, Носенко опрашивали в ФБР. Он сказал, что принял решение отвергнуть просьбу Освальда остаться в Советском Союзе, потому что тот показался ему не «вполне нормальным»[126]. Носенко добавил, что* когда досье Освальда после убийства президента было доставлено из Минска в Москву, он читал в деле краткую записку, составленную Сергеем Федосеевым, начальником Первого отдела Второго главного управления КГБ. Как говорится в докладе ФБР, Носенко «вспомнил, что в ней содержалось категоричное утверждение, что с момента прибытия Освальда в СССР и до его выезда из страны КГБ не имел контактов лично с Освальдом и не пытался использовать его каким бы то ни было образом»[127].
Для ФБР у Носенко были еще более удивительные новости об Освальде. Из досье он узнал, что у Освальда в Советском Союзе было ружье, с которым он ходил охо-титься на зайцев. По его словам, хотя западные газеты и изображают Освальда метким стрелком, в досье Освальда имеются свидетельства его приятелей-охотников о том, что Освальд очень плохо стрелял и они снабжали его дичью[128].
Но зайцы и самолеты-шпионы были лишь второстепенными фактами в сравнении с центральной проблемой, с которой столкнулось ЦРУ в результате показаний Носенко по делу Освальда. Вкратце она состояла в следующем: если Носенко — настоящий перебежчик, то его информация чрезвычайно важна, потому что в этом случае можно считать очевидной непричастность Советов к убийству Кеннеди. Но если Носенко направлен КГБ и не является настоящим перебежчиком, значит ли это, что Освальд действовал в интересах Советов, когда стрелял в президента?
Ричард Хелмс, заместитель директора по планированию, угодил в эту ловушку. Давая свидетельские показания в Комиссии по расследованию политических убийств в 1978 году, Хелмс, к тому времени бывший директор ЦРУ, сказал, что если Носенко давал ЦРУ ложную информацию о контактах Освальда с КГБ, то «для нас было бы естественным предположить о связи Освальда с КГБ в ноябре 1963 года, точнее, что Освальд действовал как советский агент, когда стрелял в президента Кеннеди»[129].
Но если Носенко действительно принес информацию, то возможны и другие объяснения. Освальд жил в Советском Союзе, и он убил американского президента. Если он действовал исключительно по собственной инициативе, то нетрудно себе представить, что советское руководство после событий в Далласе впало в панику и направило кого-то, чтобы убедить Соединенные Штаты, что Советы непричастны к убийству. Но Хелмс был прав в одном — «для правительства чрезвычайно важно определить искренность м-ра Юрия Носенко»[130].
Вопрос о достоверности сведений Носенко расколол ЦРУ на два лагеря: с одной стороны, Энглтон, Бэгли и их сторонники, с другой — большая часть сотрудников управления. В то время как многие подчиненные Энглтона считали вместе с своим боссом, что Носенко «плохой» или «грязный» — краткое обозначение двойных агентов в ЦРУ, большинство сотрудников советского отдела и руководители управления пришли к заключению, что он действительно был тем, за кого себя выдавал, то есть настоящим перебежчиком. Споры о Носенко, однако, продолжаются и по сей день, особенно среди бывших сотрудников ЦРУ.
Но вначале преобладало мнение тех, кто в нем сомневался. Взять хотя бы вопрос о звании Носенко. По словам Бэгли, «он был майором с 1962 года, а когда приехал в 1964-м, сказал, что он подполковник. А затем сознался, что он капитан». Но перебежчики до Носенко, как известно, также преувеличивали свой ранг, чтобы придать себе большую значимость и произвести большее впечатление на своих новых друзей.
Тем не менее поразительно, что споры о звании Носенко завязались в один узел с вопросом о бумагах Черепанова. Он представил командировочное удостоверение КГБ, которое, как он сказал, получил в 1963 году, когда участвовал в охоте на предателя Черепанова, и где было указано его звание — подполковник.
Допрашивавшие его сотрудники ЦРУ задавали всякого рода вопросы: почему Носенко до сих пор сохранил его, почему там указано звание не капитан, а более высокое? В контрразведке предположили, что в КГБ Носенко снабдили фальшивым документом, чтобы подтвердить его заверения о более высоком звании. «Почему он выехал в Женеву с внутренними проездными документами?» — спрашивал заместитель Энглтона «Скотти» Майлер.
«Существовало одно объяснение, — сказал бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ. — Он действительно был капитаном. Когда КГБ командирует офицеров из Москвы, им выдают временные документы, удостоверяющие личность, в которых указываются более высокие звания — майор или подполковник. Носенко ожидал повышения, но бежал на Запад, не успев получить его. Он считал себя уже в новом звании».
Те, кто допрашивал Носенко, вновь вернулись к вопросу о «Саше». Два года назад Анатолий Голицын предупредил о «кроте» в ЦРУ, имевшем в КГБ такой псевдоним. Питер Карлоу, основной подозреваемый, был уволен из ЦРУ, но доказать, что он — это «Саша», не удалось, как не удалось доказать и сам факт агентурного проникновения в ЦРУ. Известен ли Носенко «крот» под таким псевдонимом?
«В 1962 году мы ничего не узнали от Носенко о «Саше», — сказал Бэгли. — В 1964 году он по собственной инициативе заговорил о нем и сообщил, что «Саша» был офицером армии США в Германии. А ведь за полтора года до этого он ничего не знал ни о каком, Саше»». Бэгли сообщил, что личность этого армейского офицера была установлена позднее с помощью другого советского перебежчика, которого разведка США числила под псевдонимом «Китти Хок».
Заместитель Энглтона, «Скотти» Майлер, подтвердил, что «некоторые из сообщений Носенко представляли ценность». Например, говорил Майлер, его показания помогли сузить круг подозреваемых при выявлении этого армейского офицера. «Носенко знал, что «Саша» служил в Берлине. В какой период — ФБР установило. «Саша» оказался армейским майором. Его не судили. Он сознался и был использован как двойной агент. Его перевербовало ФБР». Армейский офицер, нуждавшийся в деньгах, чтобы платить своей любовнице-немке, был завербован КГБ в Германии в 1959 году. Позже он вернулся в Вашингтон и поставлял Советам в период кубинского ракетного кризиса разведывательную информацию низкого уровня.
Джэймс Нолан-младший, бывший заместитель помощника директора ФБР по контрразведывательной работе, считал, что это дело имело даже больше ответвлений, чем казалось на первый взгляд. К тому времени этот «Китти Хок», которого Нолан, в отличие от других, считал подставой КГБ, дал дополнительную информацию, которая вывела на майора, «тогда уже ушедшего с военной службы. Ему гарантировали неприкосновенность в обмен на сотрудничество с его стороны. «Саша» использовался в течение непродолжительного времени как двойной агент, когда Советы вновь проявили некоторый интерес к нему».
Нолан говорил, что, по его мнению, Советы возобновили контакты с «Сашей», чтобы восстановить доверие к «Китти Хоку», поскольку последний дал информацию, которая вывела нас на армейского майора. Такое возобновление контактов доказывало, что майор действительно был советским агентом, и тем самым повышало степень доверия к «Китти Хоку».
Дело армейского майора, хотя и не очень значительное само по себе в анналах «холодной войны», иллюстрирует сложность мира контрразведки. Голицын предупредил о «Саше» в ЦРУ, Носенко говорил, что это военнослужащий, а установлен он был с помощью третьего офицера КГБ, чье происхождение неизвестно по сей день.
Допрашивавшие Носенко задавали ему также вопросы, как и в 1962 году, о Владиславе Ковшуке, высокопоставленном сотруднике КГБ, который в 1957 году посетил Вашингтон под другим именем. Голицын высказал предположение, что Ковшук настолько важное лицо, что мог прибыть в Соединенные Штаты только для встречи с «кротом», действовавшим в американском правительстве, возможно, в ЦРУ.
Носенко повторил, что Ковшука направили в Вашингтон для встречи с источником КГБ, кодовое имя которого — «Андрей». По словам Бэгли, Носенко дал достаточно информации, чтобы навести разведку США на сержанта, который прежде работал в американском посольстве в Москве, вернулся в Соединенные Штаты и жил в окрестностях Вашингтона. По уточненным данным, «Андрей» был сержантом и работал в гараже посольства. «Он ничего не знал и его не привлекли к судебной ответственности», — сказал Бэгли. «Ковшук все же встретился с «Андреем» в конце своего пребывания в Вашингтоне», — добавил Бэгли. «Он установил контакт, передал «Андрея» резидентуре и уехал. Что он делал остальное время? Носенко не знал. «Он охотился за ним», — сказал Носенко. Мы спросили: «Начальник отдела охотился за источником?» Носенко ответил: «Все время ушло на то, чтобы найти его». Но ведь он значился в вашингтонской телефонной книге, заметили мы. Носенко не ответил».
Комментарии Бэгли относительно миссии Ковшука отражают это отношение к Носенко, как, впрочем, и отношение Энглтона, и направленность допроса, начавшегося в 1964 году. Почти все сообщения и объяснения Носенко встречались с глубокой подозрительностью. В результате ничего из того, что говорил Носенко, не принималось за чистую монету.
«Носенко был, есть и всегда будет подставой», — говорил Бэгли[131]. При таком предвзятом отношении к Носенко показания перебежчика расценивались как отвлекающие действия с целью отвести внимание от настоящего «крота» (или «кротов») в ЦРУ, которых пытался выявить Голицын.
По словам Голицына, «Саша» был внедрен в ЦРУ. А Носенко говорил, что «Саша» — армейский офицер. Голицын сказал, что Ковшук приехал в Америку, чтобы встретиться с высокопоставленным источником, а Носенко — что Ковшук приехал для встречи с «Андреем», который оказался армейским сержантом.
«Он отвлекал в сторону от наводок, данных Голицыным, — говорил Бэгли. — Мой тест для перебежчиков заключается в вопросе, дают ли они доступ к ранее не известной информации. Носенко не дал». Но Носенко, кажется, многое раскрыл. Например, его показания о Роберте Ли Джонсоне, который вскрывал в Париже сейф с секретами НАТО. «Роберт Ли Джонсон лишился доступа к этим секретам и был уже отработанным материалом», — отвечал Бэгли.
4 апреля, менее чем через два месяца после прибытия перебежчика в Соединенные Штаты, ЦРУ приступило к «враждебному допросу», как эвфемистично называли его сотрудники. Хотя Носенко сделал выбор жить в свободном обществе, ЦРУ держало его в заточении в течение следующих четырех лет и восьми месяцев. Более двух лет из этого периода он был изолирован в цементной камере с нечеловеческими условиями. Позже условия улучшились, но Носенко был ограничен в передвижениях. Проще говоря, Носенко стал узником ЦРУ, затерянным в американском ГУЛАГе.
Бывший директор ЦРУ Стэнсфилд Тэрнер порицал Энглтона за его решение заточить Носенко, но это мнение резко оспаривалось сторонниками Энглтона. «Энглтон… решил, что Носенко — двойной агент, и намеревался заставить его сознаться, — писал Тэрнер. — Контрразведывательное подразделение Энглтона поставило себе целью психологически сломить этого человека»[132].
Ответственность за принятие решения о заключении Носенко в тюрьму и проведении его допросов в жесткой форме разделили Энглтон и Хелмс, Дэвид Мэрфи, руководитель советского отдела, и Бэгли, сотрудник по контрразведывательным вопросам данного отдела. Мэрфи прямо сказал Хелмсу, что Носенко «должен быть сломлен», если ЦРУ намерено узнать правду. Хотя, добавил он, сильное желание Управления получить больше информации «может вступить в противоречие с необходимостью сломить Объект»[133].
Когда в комитете конгресса Хелмса спросили о его собственной роли в этом деле, он разговорился. По его словам, решение «было принято совместно». И добавил: «Я не знаю, кто конкретно принял окончательное решение… Я там был. Но это не было моим окончательным решением»[134]. Во время дачи показаний в том же комитете Мэрфи был задан вопрос, «не несет ли он главной ответственности за то, что случилось с Носенко». Он ответил: «Я был ответственным за это дело»[135].
Однако Бэгли заявил: «Решение о начале «враждебного допроса» принимали Дэвид Мэрфи, Хелмс и я. Энглтон все же согласился на заключение Объекта в тюрьму. Немыслимо, чтобы он не согласился. Энглтон вместе с Хелмсом и Мэрфи дал согласие и на жесткие допросы. Он никогда не возражал против заключения в тюрьму»[136].
Один из бывших сотрудников ЦРУ, занимавшийся тщательным исследованием того периода в истории Управления, не сомневается в том, что Энглтон был тем лицом, которое приняло окончательное решение о заключении Носенко. Он утверждает: «Именно так. Мэрфи сделал это? Вранье! Наверняка советский отдел нес ответственность за Носенко, но этого не могло случиться, если бы Джим не подал знак, если бы он не согласился».
И далее этот сотрудник ЦРУ делает поразительное разоблачение: «В действительности Джим хотел только одного — отправить Носенко назад в Советский Союз. Хелмс не принимал участия в этом. И все было именно так. Затем возникла идея: давайте начнем эти жесткие допросы».
Одна из проблем, с которой столкнулись новые следователи в более поздний период, состояла в том, что было почти невозможно обнаружить следы, указывающие на роль Энглтона в этом деле. Сотрудник ЦРУ отметил: «Я никогда не видел ни одного документа, подписанного им. Но он и не возражал. Джим никогда ни на чем не оставлял отпечатков пальцев. Он всегда был мастером своего дела. Носенко заключили в тюрьму на три года. Но в течение трех лет Энглтон не протестовал. Нет и малой толики доказательств того, что Энглтон когда-либо выражал недовольство Хелмсу».
Начиная с 4 апреля 1964 года Носенко в течение почти полутора лет находился в жестких условиях — в мансарде одной из конспиративных квартир за пределами
Вашингтона. В тот день ему было сказано, что он доставлен для проведения исследований его физического состояния и проверок на полиграфе. Позднее он так описал происходившее: «После окончания тестирования сотрудник ЦРУ вошел в комнату и переговорил с техническим работником. Затем он начал кричать, что я обманщик, и тут же несколько охранников вошли в комнату. Они приказали мне стать у стены, раздели и обыскали. После этого меня отвели наверх в мансарду. В центре комнаты стояла металлическая кровать, прикрепленная к полу. Никто мне не сказал, как долго я буду находиться здесь и что со мной произойдет»[137]. Спустя несколько дней начались допросы.
Носенко не имел доступа к телевидению, радио или газетам. Его еда была на уровне поддержания существования и в течение многих месяцев состояла главным образом из слабого чая, водянистого супа и овсяной каши. Он находился под постоянным наблюдением. Ему отказывали в сигаретах. «Я курил с четырнадцати лет и никогда не бросал. Теперь же мне отказали в курении. Я не видел книг. Я ничего не читал. Я сидел в четырех стенах… Я был голоден… Я думал о еде, потому что все время хотелось есть. Мне давали еду, причем плохую»[138].
В Вашингтоне летом ужасная жара и жить в мансарде просто невыносимо. Носенко рассказал, как это было: «Я находился в чердачной комнате: жара, кондиционера нет, дышать нечем. Никаких окон, все закрыто. Мне разрешали бриться и принимать душ один раз в неделю. У меня отобрали зубную пасту, зубную щетку. Условия были нечеловеческие»[139].
Шли дни, и у Хелмса возникла мысль, что нужно будет сказать о деле, если придется, Комиссии Уоррена, которая готовилась завершить свой доклад. Хелмс встретился с бывшим главным судьей Эрлом Уорреном, председателем этой комиссии, и проинформировал о том, что ЦРУ оказалось неспособным установить истинные намерения Носенко и не может ручаться за правдивость его истории. Комиссия никогда не проводила допроса Носенко, и ее заключительный доклад, изданный 27 сентября, не содержит никаких ссылок на него.
Сомнительно, чтобы Хелмс рассказал бывшему председателю Верховного суда, который провозгласил жесткие нормы по обеспечению прав подозреваемых в совершении преступлений лиц, о том, что Носенко содержится в душной мансарде. Но как бы плохо там ни было, условия его содержания оказались роскошными в сравнении с тем, что его ожидало. Пока русский был заперт в мансарде, управление безопасности ЦРУ создавало специальную тюремную камеру для него на «Ферме».
Все стажеры ЦРУ проходят подготовку на «Ферме» — в шпионской школе, расположенной вблизи Виль-ямсбурга (штат Вирджиния). Эта база ЦРУ имеет прикрытие военной организации под названием «Экспериментальный центр подготовки вооруженных сил, министерство обороны, Кэмп-Питтри». Вооруженная охрана отвечает за безопасность этого объекта, занимающего десять тысяч акров земли вдоль реки Йорк. Школа находится в густом лесу, и это место, конечно, закрыто для посторонних лиц и имеет специальное ограждение. Во время второй мировой войны здесь располагался лагерь для немецких военнопленных.
В наручниках и с завязанными глазами Носенко был доставлен сюда в августе 1965 года. Его поместили в бетонную камеру без окон, размером 12 х 12 футов, расположенную в доме в глубине леса. День и ночь за ним осуществлялось наблюдение с помощью телевизионной камеры. Чтобы занять свой ум, он тайно сделал шахматы из ниток. Однако охранники их обнаружили и конфисковали. Чтобы не потерять счет времени, он создал из волокон своей одежды календарь.
Носенко был доведен до отчаяния отсутствием возможности читать. Ему выдали зубную пасту, но затем забрали, когда он под одеялом попытался читать надписи на тюбике. Более двух лет Носенко содержался в этой камере, подвергался допросам и проверке на полиграфе.
Спустя год с лишним после прибытия на «Ферму» ему разрешили прогулки на свежем воздухе и занятия физическими упражнениями. Каждый день его выводили на тридцать минут на огороженный прогулочный дворик, откуда он мог видеть только облака.
Как позднее Хелмс рассказал парламентскому комитету, «к сожалению», ЦРУ находилось в таком положении, когда оно рисковало вызвать на себя критику за слишком длительное задержание Носенко. Однако оно могло оказаться в еще худшей ситуации, если бы «не предприняло мер, чтобы установить, что он знает об Освальде». Хелмс пытался убедить членов комитета, что камера на «Ферме» была лечебным учреждением для
Носенко, почти что вирджинским отделением общества «Анонимные алкоголики». «Носенко, когда перебежал на Запад и ранее, очень сильно пил. Одна из проблем, с которой мы столкнулись в первое время его пребывания в США, состояла в том, что он ничего не хотел делать, кроме как предаваться пьяному разгулу. У нас возникли проблемы с ним во время инцидента в Балтиморе, когда он полез в пьяную драку. Одной из причин его заключения в тюрьму было стремление удержать его от попоек, помочь ему успокоиться и посмотреть, сможем ли мы с ним прийти к разумному диалогу»[140].
Носенко был убежден, что во время заключения ему давали какие-то препараты, включая «вызывающие галлюцинации». ЦРУ отвергло эти утверждения, заявив, что ему назначались только необходимые лекарства[141]. В своих свидетельских показаниях Хелмс отметил, что он отклонил просьбу о назначении «лекарств правды», таких как содиум пентотал. Другой свидетель из ЦРУ заявил, что в качестве «препарата правды» был предложен содиум амитал[142]. В своих воспоминаниях Стэнсфилд Тэрнер отметил, что «Носенко давали один или несколько из четырех препаратов в семнадцати случаях»[143].
Применялись и другие меры психологического давления. Например, непосредственно перед отлетом Носенко на «Ферму» допрашивавшие его сотрудники ЦРУ заявили, что его заключение продлится более десяти лет. В заточении Носенко прошел три раза проверку на полиграфе. При этом результаты первых двух проверок были фальсифицированы, с тем чтобы «сломать его» и убедить в необходимости сознаться, что он специально засланный агент КГБ. В первом случае проинструктированный оператор полиграфа заявил Носенко, что тот провалился, даже еще не зная результатов проверки. Ему также сказали, что полиграф может читать его мысли, что не соответствовало действительности. Результаты второго тестирования на полиграфе — фактически серии проверок, проводившихся в течение десяти дней, — показали, что Носенко лжет в отношении Освальда. Однако ЦРУ в дальнейшем заявило о недействительности результатов второй проверки на полиграфе. Одна мелкая удивительная деталь: в ходе одного тестирования Носенко был подсоединен к аппарату в течение семи часов; когда же сотрудники ЦРУ сделали перерыв на обед, он оставался привязанным к стулу так, что не мог пошевелиться. Один такой «перерыв на обед» длился четыре часа. Оператор полиграфа также терроризировал Носенко, заявляя, что тому не на что надеяться и что он наверняка сойдет с ума. Носенко прошел и третье тестирование на полиграфе, которое включало в себя два вопроса об Освальде. Эту проверку ЦРУ признало единственно действительной.
Бэгли лично руководил допросами Носенко с помощью телевизионной линии связи замкнутого типа, соединявшей специальную тюрьму на «Ферме» и штаб-квартиру в Лэнгли. На месте допрос вели три человека.
Бэгли утверждал, что вначале ЦРУ не планировало заключения Носенко в тюрьму на такой длительный срок. «Мы ожидали, что потребуется от десяти дней до двух недель, чтобы показать ему несоответствия в его рассказе». Почему же тогда заключение длилось более четырех с половиной лет? «Он сам себя закапывал все глубже новыми противоречиями, — отмечает Бэгли. — Было очевидно, что он не занимался той работой, о которой говорил. А по его словам, он принимал участие в операциях против посольства США, чего в действительности не было. Его заявления были направлены на то, чтобы что-то скрыть».
Руководимые Бэгли следователи цеплялись за любые противоречия в рассказе Носенко. Например, в 1962 году в Женеве тот утверждал, что лично участвовал в операции против Эдварда Эллиса Смита, в ходе которой первый сотрудник ЦРУ, направленный в Москву, был скомпрометирован интимной связью со своей горничной, работавшей на КГБ. То, что эта «ласточка» из КГБ заманила Смита в ловушку, обнаружилось в 1956 году[144]. Носенко также сообщил, что в 1955 году он был переведен в Седьмой отдел, занимавшийся туристами. Далее Бэгли отмечает: «Во время жесткого допроса Носенко противоречил самому себе. Он сказал, что работал по Смиту, но как он мог это делать, если уже был переведен в Седьмой отдел? «Кто такой Смит?» — спрашивал Носенко. Поэтому мы прокрутили магнитофонные записи состоявшейся в 1962 году нашей встречи с Носенко в Женеве, на которой он говорил о Смите. Запись была без помех и с хорошим звучанием. Он прослушал ее, а затем — тут Бэгли сгримасничал, имитируя Носенко, — сказал: «Бэгли напоил меня».
Конечно, вполне вероятно, что Носенко просто важничал, утверждая, что он заманил в ловушку Смита, но наверняка он знал об этой операции. Успешное обольщение в постели первого сотрудника ЦРУ в Москве, без сомнения, стало предметом бесконечных коридорных сплетен и хихиканий во Втором главном управлении. И вполне возможно, что горничная была подставлена Смиту в 1955 году, еще до перевода Носенко в новый отдел, занимавшийся туристами. Как и многое в мире контрразведки, почти каждое событие может трактоваться как гибельное или безобидное в зависимости от субъективной точки зрения того или иного лица.
Джеймс Энглтон, например, придал значение тому факту, что главный источник информации ФБР в Нью-Йорке, сотрудник КГБ, проходивший в бюро под псевдонимом «Федора», подтвердил истинность намерений Носенко. Как полагает Энглтон, данное обстоятельство доказывает, что «Федора» сам был подставой, поскольку заверил ФБР в том, что Носенко настоящий перебежчик из КГБ. За такую цепочку рассуждений даже студент начального курса логики в колледже на экзамене получил бы неудовлетворительную оценку. Прежде всего, Носенко мог быть настоящим перебежчиком; тогда информация источника ФБР в Нью-Йорке оказалась бы верной. Но даже если допустить, что Носенко являлся подставой, в чем, разумеется, был уверен Энглтон, то имелся ряд алмгернативных объяснений заявлений «Федоры», включая явную возможность того, что КГБ не сообщил ему о засылке Носенко. В случае если Носенко был настоящим перебежчиком, а «Федора» — подставой, то последний мог все же выступить в поддержку Носенко в стремлении укрепить свой авторитет у американцев. Количество комбинаций и перестановок в этом вопросе было бесконечным. Комментарии «Федоры» в отношении Носенко в действительности ничего не подтверждали о каждом из этих двух лиц.
Один из бывших высокопоставленных сотрудников ФБР поставил под сомнение выводы Энглтона в отношении высказываний «Федоры» по поводу Носенко. «Федора» мог просто передать содержание подслушанного случайно разговора двух советских дипломатов из представительства при ООН, возможно сотрудников КГБ, которые высказались так: «Какой ужас с этим Носенко!» При этом работник ФБР сослался на газету «Нью-Йорк тайме» от 11 февраля, которая на первой полосе поместила статью из Женевы о перебежчике Носенко.
Советские дипломаты в Нью-Йорке, конечно же, читали ее. ««Федора» вообще не подтверждал истинности намерений Носенко. Он просто передал содержание разговора и не имел представления о том, соответствовало ли услышанное действительности. Но для «Скотти» Майлера и других работников подразделения Энглтона полученные от «Федоры» сведения были как раз той информацией, которую они искали».
У Энглтона все же была одна, более убедительная, причина сомневаться в «Федоре». Один бывший контрразведчик ЦРУ утверждал: ««Федора» сказал, что из Москвы была получена телеграмма о дезертирстве Носенко. Мы просмотрели все материалы в Агентстве национальной безопасности, но так и не обнаружили доказательств ее существования». АНБ — национальное ведомство по расшифровке кодов — могло и не «расколоть» советский код. Однако на основе полученной от «Федоры» информации оно могло провести анализ передач, который установил бы факт прохождения телеграммы в указанный им день и час. Но АНБ небезгрешно, и оно не всегда может точно определить факт передачи конкретного сообщения.
Псевдоним «Федора» — в ЦРУ псевдоним «Скотч» — имел Алексей Исидорович Кулак, офицер КГБ, работавший под прикрытием ООН: сначала сотрудником секретариата, а затем — атташе по науке в советском представительстве при этой организации. Он начал снабжать информацией ФБР в начале 1962 года, спустя всего несколько месяцев после того, как 29 ноября 1961 года прибыл в США и начал работать консультантом Научного комитета ООН по изучению воздействия атомной радиации. Кулак — тогда ему было 39 лет, в Нью-Йорк приехал вместе с женой — был невысоким, коренастым мужчиной, чья фамилия, конечно же, в России означала «зажиточный крестьянин». По словам сотрудника ФБР, у которого на связи находился «Федора», они назвали его «Фатсо»[145].
Кулак был не заурядным сотрудником КГБ, а шпионом, специализировавшимся на добыче научно-технических секретов. Имел степень доктора химических наук и ранее работал химиком-радиологом в одной из лабораторий Москвы[146]. В начале весны 1962 года он явился в контору ФБР в восточной части Манхэттена и предложил свои услуги. Он заявил, что недоволен отсутствием продвижения по служебной лестнице в КГБ. По его словам, советская система не оценила его способностей. Нельзя исключать, что как Кулак, так и здание конторы ФБР могли находиться под наблюдением советской разведки. Юджин Питерсон, который 15 лет проработал в контрразведке ФБР и возглавил советский отдел, согласился с мыслью, что если «Федора» был искренен, то он испытывал судьбу, избрав такой путь установления первичного контакта. По мнению Ю. Питерсона, «это было рискованно, причем возникло много вопросов».
Питерсон, высокий здоровяк с лысиной, светлыми голубыми глазами и скептическим выражением лица, добавил: ««Федора» предоставил недостаточное количество контрразведывательной информации. Он не установил факты проникновения КГБ в объекты своего интереса. Главным образом информация «Федоры» касалась того, «кто есть кто» в резидентуре КГБ в Нью-Йорке».
Эдгар Гувер полностью доверял «Федоре», но всегда существовала возможность того, что сомнения в отношении источника на исполнительском уровне не доходили до него. А сомнения все же существовали. Как отметил Питерсон, «с самого начала имелись вопросы и, безусловно, в последние четыре-шесть лет».
С другой стороны, утверждал бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, «Федора» обеспечил США ценной информацией. Он убежден, что Кулак был эффективным источником по нескольким причинам. Этот бывший сотрудник ЦРУ считает: «На сей счет была целая серия моментов. Прежде всего внимание «Федоры» к мельчайшим деталям в вопросах наблюдения и контрнаблюдения. Если вы ведете наблюдение за человеком, то, когда он идет на встречу, вы видите по нему, предпринимает ли он меры предосторожности, опасается ли слежки. «Федора» опасался возможного наблюдения за собой. Если он выходил из своего офиса и направлялся прямо на конспиративную квартиру, мы понимали, что здесь что-то не так. Кроме того, он проявлял готовность раскрывать сведения о сотрудниках КГБ. Что он и делал. Вообще разведчики не любят сообщать сведения о своих коллегах».
Более того, «Федора» раскрыл США получаемые от КГБ задания о сборе научно-технической информации. Работник ЦРУ утверждал: «Он передал нам задания КГБ на сбор информации в области науки и техники, перечень сведений, которые советская разведка стремилась получить, помог установить объекты интереса КГБ в военной области, прежде всего производителей вооружений. Все, чем он интересовался по своей работе, относилось к военной сфере: танки, ракеты и прочее. Он был очень полезным источником, принимая во внимание наши скромные возможности в советской колонии в те дни».
С тем чтобы представить Кулака в глазах его руководства (КГБ) в качестве ценного работника, ФБР предоставляло ему соответствующую информацию — подлинные секреты США, которые, однако, предварительно просматривались и обрабатывались ЦРУ и другими разведывательными ведомствами и о которых «Федора» затем уже сообщал в Москву. По словам сотрудника ЦРУ, «эти материалы имели низкий гриф секретности, но не были фальшивыми».
Регулярные тайные встречи Кулака с представителями ФБР записывались на видеопленку. Работник ЦРУ сообщил: «Я видел записи этих встреч и его опросов. Коренастый парень, типичный русский. С ним вели беседы нью-йоркские сотрудники ФБР на английском языке. И была большая бутылка шотландского виски, которое все пили».
В 1963 году Кулак покинул секретариат ООН и перешел на работу в советское представительство при этой организации. В 1967 году он сообщил ФБР, что его отзывают в Москву в связи с обычной ротацией кадров. Когда в 1971 году Кулак вновь приехал в США в качестве атташе по науке, он возобновил отношения с ФБР. Но позиции «Федоры», если он действительно был агентом проникновения, становились все слабее и слабее. В газетных отчетах, включая таковой Симура Херша в «Нью-Йорк тайме», выдвигались предположения, что ФБР осуществило проникновение в советское представительство при ООН. Так, писал Херш, одна из причин, по которым президент Р. Никсон создал секретное подразделение под видом рабочих по обслуживанию помещений Белого дома, состояла в показном беспокойстве, что «высокопоставленный сотрудник КГБ… работавший на американскую контрразведку, мог быть скомпрометирован» расследованием уотергейтского дела[147].
В 1971 году во время шумной истории с документами Пентагона — секретной историей вьетнамской войны, просочившейся через журналиста Дэниеля Элсберга в «Нью-Йорк тайме», — Кулак сообщил, что комплект документов был передан в советское посольство. ЦРУ подняло на смех это сообщение. На встрече с Дэвидом Янгом, одним из руководителей секретного подразделения «водопроводчиков» в Белом доме, директор Управления Ричард Хелмс сказал, что он игнорирует эту информацию, потому что «мы знаем человека, который передает нам такие сообщения, и у нас есть свои сомнения в отношении их»[148].
В общей сложности Кулак — «Федора» — проработал в Нью-Йорке два года в секретариате ООН, начиная с 1961 года, и два срока в советском представительстве при ООН в период с 1964 по 1977 год с четырехлетним перерывом между ними, когда он отзывался в Москву[149]. Несмотря на сомнения в отношении Алексея Кулака, его, как и других добровольных информаторов из КГБ, не могло обойти вознаграждение: в течение шестнадцатилетнего периода ФБР заплатило ему примерно 100 тысяч долларов.
Питерсон утверждает: «В 1977 году, когда «Федора» готовился к окончательному возвращению домой, мы указали ему на опубликованные статьи и сказали, что он сам справится с ситуацией. По моему личному мнению, если бы он не был подставой, его бы казнили».
После работы на ФБР и передачи ему информации в течение более двенадцати лет Кулак — «Федора» — возвратился в Москву в 1977 году и впоследствии был зафиксирован там ЦРУ живым и здоровым. Это, конечно, не подтверждает, что он был искренним с ФБР. Но это также не означает, что Кулак честно работал на США, избежав разоблачения, или что все это время он действовал как двойной агент. Питерсон считает: ««Федора» мог быть под наблюдением в Москве, и, когда он столкнулся с ЦРУ, КГБ мог вмешаться и свернуть это дело».
В 1978 году писатель Эдвард Джей Эпштейн раскрыл скрывавшегося под псевдонимом «Федора» человека, описав его как сотрудника КГБ, работавшего под прикрытием ООН и занимавшегося сбором научно-технической информации[150]. Сотрудники американской разведки были потрясены этим разоблачением, потому что описание их источника в советском представительстве носило настолько конкретный характер, что они предположили, что ему уже конец. Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ отмечал: «После книги Эпстейна мы пришли к выводу о том, что с "Федорой" покончено. Он никоим образом не миг выжить»[151]. Но по странному стечению обстоятельств, насколько ЦРУ удалось узнать, с ним ничего не случилось.
Борис Соломатин, работавший в 1971–1975 годах резидентом КГБ в Нью-Йорке, во время второй командировки Кулака предложил свой вариант возможного толкования событий. В интервью с автором этой книги, состоявшемся в Москве в сентябре 1991 года, Соломатин, хотя и отказался назвать «Федору» его настоящим именем, сказал: «Имелись обстоятельства, которые отклоняли подозрения от него. Во время войны он получил звание Героя Советского Союза, и это снимало подозрения».
Споры об искренности «Федоры» никогда не утихали. ЦРУ поверило в его искренность в 1975 году (после ухода в отставку Энглтона)[152]. ФБР столкнулось с большими трудностями, прежде чем составить свое определенное мнение о нем, и часто склонялось в ту или иную сторону в данном вопросе. В 1967 году ФБР, кажется, признало «добросовестность» сотрудничества «Федоры»[153].
Однако более позднее исследование, проведенное под руководством Джеймса Нолана-младшего, заместителя помощника директора ФБР по контрразведке, и завершенное в марте 1976 года, содержало вывод о том, что «Федора» являлся подставой. Как говорили, ФБР вновь видоизменило эту точку зрения в начале 80-х годов. К 1990 году в ЦРУ стало известно, что Кулак умер естественной смертью.
В то же самое время, когда «Федора» активно работал на американцев, ФБР, а позднее и ЦРУ получали информацию от другого советского источника в Нью-Йорке — Дмитрия Федоровича Полякова, офицера ГРУ (советской военной разведки). Он проходил под псевдонимами «Топхэт» в ФБР и «Бурбон» в ЦРУ, которое головному убору предпочло спиртной напиток. В разведывательных кругах имена «Федора» и «Топхэт» фигурировали неразрывной парой словно яичница с ветчиной. В 1966 году Поляков был направлен в Бирму, в начале 1970 года откомандирован в Индию, где с ним поддерживал связь сотрудник ЦРУ Пол Диллон. Возвратившись из этой командировки в Москву, Поляков продолжал передавать информацию ЦРУ, используя переданный ему американцами импульсный радиопередатчик. В 1990 году советская сторона заявила, что «Топхэт» схвачен, а позднее было сообщено, что он был казнен 15 марта 1988 года[154].
Однако в то время «Федора» и «Топхэт» были не главной заботой ЦРУ. В Лэнгли все с большей отчетливостью начинали понимать, что допросы Носенко являются катастрофой. Более того, они несли в себе потенциальную возможность скандала, в случае если общественность узнает о том, что ЦРУ поместило в тюрьму перебежчика КГБ. Неизвестно, принимали ли во внимание Энглтон и другие сотрудники Управления катастрофическое воздействие этих допросов на других возможных перебежчиков, если бы Советы узнали о тяжелых испытаниях Носенко.
Необходимо было что-то предпринимать. В 1967 году Хелмс, теперь уже директор ЦРУ, поручил сотруднику управления безопасности Брюсу Соли вновь рассмотреть вопрос о причинах ухода Носенко на Запад. 28 октября его наконец забрали из тюремной камеры и перевели на первую из трех конспиративных квартир в пригороде Вашингтона. Условия проживания Носенко значительно улучшились, но его передвижения были все еще ограничены, и он не являлся свободным человеком[155]. Не ранее марта 1969 года ЦРУ наконец позволило Носенко провести двухнедельный отпуск во Флориде. В памятной записке Хелмсу директор управления безопасности Говард Осборн писал: «Носенко становится все более упрямым и жаждет получить полную свободу. После почти пятилетнего заключения это желание, включая и желание иметь женское общество, понятно»[156].
Бэгли явно видел возможность скандала. Он направил письмо Энглтону, предупреждая его об «опустошительных последствиях», которые могут наступить в случае, если Носенко отпустят на свободу. Взяв карандаш и лист бумаги, он изложил возможные меры по разрешению проблемы с Носенко. Пункт № 5 звучал — «Уничтожить человека», пункт № 6 — «Представить его неспособным связно излагать мысли (специальные дозы препаратов и т. д.). Возможная цель — помещение в сумасшедший дом» и пункт № 7 — «Помещение в сумасшедший дом, не делая его сумасшедшим»[157].
Однако Бэгли, который в 1966 году стал заместителем руководителя советского отдела, так никогда и никому не отправил эти «леденящие душу» записи, и они явно не предполагались для предания широкой огласке. Этот перечень мер стал известен только потому, что в 1976 году преемник Энглтона и руководитель контрразведки ЦРУ Джордж Каларис — с одобрения тогдашнего директора Управления Джорджа Буша — поручил бывшему резиденту Джону Харту провести новое изучение дела Носенко. Харт обнаружил записи Бэгли в файлах Управления и рассказал о них конгрессу.
Бэгли, пойманный в ловушку Хартом, был разъярен. Он заявил: «Изложенные на моем листке меры никогда не предлагались к реализации. Это был мыслительный процесс: вот у нас есть парень — и что со всем этим делать? Записи произведены от руки карандашом, никогда и никому не показывались и не были предназначены для кого-либо еще».
Действительно ли он предполагал убийство Носенко? Бэгли отвечал: «Конечно, нет. Я просто не разрешил бы, да это и не в практике Управления. Об этом ни у кого даже не было и мысли. Я должен добавить, что это и моя собственная линия. Я не хожу и не убиваю людей. И Харт знал об этом». Но мысль все-таки была зафиксирована. «Ликвидировать человека» — это самый страшный пункт в списке Бэгли.
В октябре 1968 года Брюс Соли представил свой доклад Хелмсу, в котором оправдывал Носенко[158]. На основе этого доклада бывший сотрудник КГБ был реабилитирован американцами, нанят на работу консультантом в ЦРУ, и ему была выдана компенсация в размере 137 052 долларов[159].
Хелмс пережил непростые времена, когда пытался дать пояснения по делу Носенко в конгрессе США. Член палаты представителей штата Мичиган республиканец Гарольд Сойер спросил бывшего директор ЦРУ, знал ли он, что все, что было сделано с Носенко, включая задержание без решения суда, физическое и психическое воздействие, шло вразрез с законом. Хелмс не был уверен в этом. Он полагал, что вопрос о правовом статусе Носенко относился к проблеме «что морально — что аморально».
Конгрессмен не купился на это.
Сойер: Ладно, он был человеком, не так ли?
Хелмс: Я так думаю.
Сойер: Вы знаете, что в большинстве штатов подобное обращение даже с животными привело бы вас в тюрьму?
Хелмс не ответил.
Что касается Юрия Носенко, то он кратко сформулировал пережитое так: «Я прошел через ад. Я действительно перебежчик».
ГЛАВА 12
Охота на «кротов»
К концу лета 1963 года охота на «кротов» в ЦРУ была в самом разгаре.
Отлучка Голицына в Англию на время замедлила ее ход, но после скорого возвращения перебежчика из Лондона поиски агентов проникновения вновь набрали темп. Охотой руководил Джеймс Энглтон, который теперь начал показывать Голицыну секретные досье ЦРУ, так что перебежчик мог «прочесывать» секреты Управления в поисках каких-либо ключей и возможных подозреваемых[160].
В июле, именно в том месяце, когда Голицын возвратился в Лэнгли, Питер Карлоу, первый подозреваемый, ушел в отставку. Но его виновность ничем не была доказана. Если Карлоу не был «кротом», то кто же был им? Но и нельзя было предполагать, что в рядах сотрудников ЦРУ был только один предатель. Контрразведка фактически не ограничивалась поисками одного советского агента, действовавшего в ЦРУ. Управление, быть может, кишело «кротами». По мере расширения масштабов расследования его цель также разрасталась, следуя обычному бюрократическом правилу[161].
В целях проведения охоты на «кротов» Энглтон обратился в группу специальных расследований контрразведывательной службы[162]. Ее начальником вначале был Берч О’Нил, изысканный уроженец штата Джорджия с тягуче-медовым южным акцентом, поступивший на службу в ФБР в 1938 году, а впоследствии перешедший в ЦРУ. Дородный, краснолицый О’Нил, как приличествовало его положению, был исключительно скрытным человеком. «Ни у кого не было ни малейшего представления о том, чем занимается Берч, — говорил один его бывший коллега по группе специальных расследований. — Иногда даже возникал вопрос, делает ли он что-нибудь вообще».
Но если О’Нил, которому в ту пору было пятьдесят и который уже подумывал об отставке, возглавлял «охоту», то хозяином «охотников» был «Скотти» Майлер, которого Энглтон вызвал из Эфиопии, где он возглавлял резидентуру, с тем чтобы тот вошел в состав группы специальных расследований и включился в поиск агентов проникновения. Энглтон назначил его заместителем начальника группы.
Майлер, с большим опытом работы на Дальнем Востоке, жесткий, с медленным выговором человек, был прирожденным контрразведчиком. По его мнению, следовало тщательно изучить каждого возможного подозреваемого, так как «кротом» мог быть любой и в любом месте. Необходимо было педантично проследить каждую наводку. От этого, возможно, зависела безопасность ЦРУ. И у Майлера была собственная система. Если коллега по ЦРУ попадал под подозрение, Майлер обязательно составлял перечень всех сомнительных моментов в личной биографии этого человека или возникающих в связи с операциями, в которых он принимал участие. Затем шаг за шагом, методично изучая досье, он мог исключить те пункты, в отношении которых в результате дальнейшего расследования, по мнению самого Майлера, будут получены благоприятные объяснения. По завершении этого рабочего процесса и при наличии в списке Майлера оставшихся сомнительных вопросов подозреваемый будет взят на заметку как человек, способный подвергнуть риску безопасность. Не обязательно как виновный, только как таящий риск. Должностные лица ЦРУ более высокого уровня должны будут решить, что делать с этим подозреваемым, поскольку это не входило в компетенцию Майлера. Порой ему приходилось иметь дело с теми самыми людьми, которых он тайно проверял, или встречаться с ними в коридоре. При этом он чувствовал себя весьма неловко. Это была трудная работа — охота на «кротов», но кому-то надо было ее делать.
В группу специальных расследований были назначены с десяток других сотрудников ЦРУ, в том числе Джин Эванс, ультраконсерватор, бывший контрразведчик из УСС, владевший французским, занимавшийся в основном анализом всех наводок, данных Голицыным[163]. Худой, стройный человек среднего роста с редеющими волосами, Эванс носил очки на своем заостренном носу, что делало его похожим на птицу. Он редко говорил о себе. Уроженец Новой Англии с лаконичной манерой янки излагать свои мысли, Эванс до своего прихода в ЦРУ был армейским полковником и работал в Мюнхене. Там на «базе» ЦРУ в Пуллахе, которая действовала в тандеме с организацией генерала Гелена, он возглавлял контршпионаж[164]. Как и Майлер, Эванс был педантом; ни одна деталь не ускользала от его глаз. Но тогда смысл работы контрразведки, как любили говорить ее сотрудники, и заключался в этих деталях.
Еще одним членом группы специальных расследований был Клэр Эдвард Петти, оклахомец, аккуратный седой человек с квадратным подбородком, имевший дружелюбный, даже несколько профессорский вид. Он пришел в ЦРУ после войны и работал в ФРГ с организацией Гелена в течение восьми лет. Он гордился тем, что снял отпечатки пальцев Хайнца Фельфе из федерального разведывательного управления ФРГ как возможного советского шпиона еще до того, как перебежчик Михаил Голеневский дал наводки, которые привели к аресту Фельфе в 1961 году. Петти вошел в состав группы в 1966 году. Спустя некоторое время ему предстояло стать наиболее противоречивым членом группы после своего поразительного вывода относительно личности высокопоставленного «крота» в ЦРУ.
Одна из задач группы специальных расследований состояла в анализе перехваченных западной разведкой во время второй мировой войны шифрованных советских радиосообщений, которым было присвоено условное название «Венона». Были расшифрованы лишь маленькие кусочки кода. Сообщения содержали кодовые имена советских агентов на Западе, но не их настоящие имена. Группа специальных расследований внимательно изучила его материал в надежде получить новые наводки на «кротов». В конце концов Берч О’Нил пришел для того, чтобы взять на себя ответственность за материал «Венона» и за сбор за границей «сопутствующей» информации, такой как регистрация поездок, расписание морских рейсов и т. п., которая могла бы помочь расшифровать советские сообщения.
Членом группы специальных расследований был и Альберт Керджел, также работавший с материалами «Венона» и тесно связанный с Советом национальной безопасности по вопросам поиска агентов проникновения. Стройный лысеющий человек более шести футов ростом, Керджел родился в штате Нью-Йорк, историк, выпускник Колумбийского университета, специализировавшийся по Советскому Союзу и Восточной Европе. Джон Уокер в течение короткого периода между назначениями начальником резидентуры в Израиль и Австралию также работал над перехваченными материалами «Венона» в интересах группы специальных расследований.
Были и другие, приходившие в группу и уходившие из нее, например Чарльз Арнольд. Этот человек, шести футов ростом с профилем героя Дика Трейси и с постоянно беспокойным выражением лица, пришел в группу специальных расследований и быстро стал известен как человек, сказавший «нет». «Он был единственным, кто сказал: «У вас нет никаких доказательств», — вспоминал один бывший сотрудник ЦРУ. — Арнольд стал очень скептично относиться к этому делу в целом и написал кучу бумаг, убеждая своих товарищей по охоте на «крота» отказаться от этой затеи». С таким отношением к делу Арнольду не суждено надолго задержаться в группу вскоре он ушел из ЦРУ на пенсию и поселился в небольшом городке Тайдуотер (штат Вирджиния). Уильям Потоки в составе сплоченной команды ЦРУ также тесно сотрудничал с охотниками на «кротов». Крупный блондин, кадровый офицер из Чикаго, он работал на Берлинской «базе» с Биллом Харви до своего прихода в 1958 году в службу Энглтона.
Комнаты, занимаемые группой специальных расследований, находились на втором этаже штаб-квартиры ЦРУ; их окна смотрели поверх низкой крыши и находились под углом к кабинету Энглтона, занимавшему комнату 2С43 на том же этаже. Действительно, из своего кабинета Энглтон мог видеть через дорогу помещения группы специальных расследований в коридоре «D», расположенном в крыле под прямым углом к его собственному. Выглянув из окна, он мог убедиться, что искатели «кротов» усердно трудятся.
Охоте на «кротов» было присвоено кодовое название «Хоунтол»[165]. Ей предстояло продлиться почти два десятилетия, и еще до ее окончания в ходе поиска агентов проникновения было проверено более 120 сотрудников ЦРУ. Но охота на «кротов» не ограничилась рамками ЦРУ.
«Мы проверяли любого в правительстве Соединенных Штатов, — сообщил один бывший высокопоставленный сотрудник контрразведки. — У нас были досье на людей из информационного агентства США, министерства торговли и других ведомств. Имелись и газетчики. Дела газетчиков находились в этих досье».
Если охотники на «кротов» вышли далеко «в поле», главной сферой приложения их усилий тем не менее оставалось само ЦРУ. Поскольку именно это Управление, очевидно, и представляло собой наиболее соблазнительный объект для КГБ.
«Крот» в ЦРУ мог сообщить КГБ о ведущихся операциях и планах ЦРУ в отношении будущих операций. Он или она могли бы дать Советам имена сотрудников ЦРУ, работавших под прикрытием во всем мире, и ключевых фигур в Лэнгли. И возможно даже, что более важно, советский «крот» внутри ЦРУ мог занимать такое место, которое позволило бы ему раскрыть, существуют ли «кроты» в самом КГБ.
Реальную опасность с точки зрения контрразведки ЦРУ представлял вовсе не советский агент в Лэнгли, занимавший незначительную должность. В силу компартментализации, какую практикуют разведывательные ведомства с различной степенью успеха, такой «рядовой» предатель, вероятно, имел бы доступ только к ограниченному объему классифицированных материалов в своем подразделении. Реальной опасностью стал бы «крот», находившийся на достаточно высоком уровне в секретных службах и имевший доступ к широкой сети операций и планов ЦРУ.
В идеальном случае КГБ хотелось бы завербовать директора ЦРУ или в крайнем случае его заместителя или заместителя директора по планированию, начальника советского отдела оперативного директората или начальника контрразведки. Успешная вербовка на таком уровне была бы достаточно сложной для Советов. А для Энглтона и его охотников на «кротов» проверка самих себя и своих вышестоящих начальников была бы весьма неудобным и щекотливым делом. В результате контрразведка стремилась вести поиск по нисходящей линии и сосредоточить его на агентах проникновения в советский отдел — выбор, продиктованный как логикой, так и осторожностью.
А поскольку объектом советского отдела ЦРУ был сам Советский Союз и этот отдел много времени посвящал попыткам завербовать сотрудников советской разведслужбы, вполне обоснованно было предположить, что высшим приоритетом для КГБ является, в свою очередь, вербовка оперативного работника ЦРУ в советском отделе. Такой сотрудник помимо доступа к широкому кругу операций и собственной осведомленности мог бы прислушиваться в коридорах к сплетням о другой агентуре ЦРУ и успехах разведки.
Если Питер Карлоу и не был «кротом», это неважно, ведь список сотрудников ЦРУ, чьи фамилии начинались с буквы «К», был достаточно велик и обеспечивал группу специальных расследований напряженной работой на несколько лет вперед. В июле 1964 года Голицын, внимательно изучая досье ЦРУ, с триумфом указал на нового кандидата. На этот раз он был уверен, что нашел агента проникновения.
Фамилия сотрудника начиналась с требуемой буквы, он был славянского, а именно сербского, происхождения и служил в Берлине. Таким образом, он соответствовал «профилю», представленному Голицыным.
Ричарда Ковича его близкие друзья знали под именем Душана. Он был испытанным сотрудником, руководившим полдюжиной наиболее секретных агентов ЦРУ. Он помогал Кайзвальтеру, когда тот руководил Петром Поповым, полковником ГРУ, первым крупным «кротом» ЦРУ в советской разведке. Он руководил Михаилом Федеровым, получившим псевдоним «Экьют», нелегалом ГРУ, которого Кович завербовал в Париже. С ведома и согласия норвежской секретной службы он вел Ингеборг Лигрен, норвежку, работавшую в посольстве своей страны в Москве, но представлявшую отчеты через Ковича ЦРУ. Он был первым оперативным сотрудником, который руководил Юрием Логиновым (псевдоним «Густо»), известным нелегалом КГБ, судьба которого наряду с судьбой Лигрен обернулась самой большой проблемой для ЦРУ.
В 1964 году, когда на Ковича обрушилась беда, ему было 37 лет и он уже в течение 14 лет работал в ЦРУ, придя туда сразу после окончания Миннесотского университета. Красивый высокий мужчина шести футов ростом, Кович был жизнелюбом, обладал прекрасным чувством юмора и самоуверенностью, которая зачастую побуждала его высказывать свое мнение тогда, когда другие молчали.
Он родился в семье сербских иммигрантов в Хиббинге (штат Миннесота). Ему дали имя Душан Ковасевич. Его совершенно неграмотный отец работал на экскаваторе, добывая железную руду в Месаби-Рейндже. Это был жестокий город, кишащий преступниками, где разговаривали на 37 языках, и Кович покинул его, поступив в семнадцатилетнем возрасте на службу в ВМС.
В ЦРУ с самого начала его назначили в советский отдел. Он начал службу в Японии, где собирал сведения о советских гражданах, помогал Кайзвальтеру в его работе с Поповым в Австрии в 1953 году, затем некоторое время вел учебный курс по перебежчикам в Вашингтоне. (На «Ферме» Кович прославился тем, что, читая слушателям лекцию о перебежчиках, писал на доске сокращение КТІР, (что означало первые буквы английских слов фразы «сохраняйте их на своем месте».) В 1955 году, работая в штаб-квартире, он вновь в течение трех лет осуществлял помощь Кайзвальтеру, пока длилась операция по руководству Поповым.
К этому моменту Кович был «третьим национальным сотрудником» в отделе, что означало, что он подбирал людей в других странах для работы в Москве. Одной из завербованных стала Ингеборг Лигрен, секретарь полковника Вильгельма Эванга, начальника норвежской военной разведки, который в 1956 году направил ее в Москву для работы секретарем норвежского посла Эрика Браадланда. Служба Эванга являлась эквивалентом ЦРУ, и Лигрен стала агентом Ковича с благословения Эванга. Норвегия, союзник США по НАТО, была готова поделиться с ЦРУ любой информацией, какую могла получить Лигрен в дипломатических кругах. В течение трех лет она под псевдонимом «Сатинвуд» направляла Ковичу сообщения из Москвы.
Пер Хегге, иностранный корреспондент «Афтен-постен», ведущей утренней газеты Норвегии, вспомнил Лигрен. Он случайно встретил ее в университете в Осло в начале 60-х годов. «Она занималась на курсах русского языка после возвращения из Москвы, — рассказал он. — Возможно, она хотела усовершенствовать свой русский язык, не знаю». Лигрен, сказал он, была непривлекательной шпионкой. «Это была серая мышка, самой обычной наружности, пятидесяти семи лет. В то время, когда она работала в Москве, ей могло быть 45. Она выросла в Ставангере на юго-западе Норвегии, где говорили с сильным местным акцентом, который крайне затруднял произношение русских слов, и у нее был ужасный акцент».
Однажды Голицын, получив для ознакомления досье Ковича, должно быть, увидел там имя Ингеборг Лигрен и вспомнил, что в 50-е годы у КГБ был в Москве один источник — норвежка. Это была, сказал Голицын, большая удача. Лигрен была советской шпионкой, а Кович руководил ею по линии ЦРУ. Вероятно, он использовал ее для связи со своими шефами из КГБ или для чего-то в этом роде, размышлял Голицын.
В карьере Душана Ковича контрразведка явно нашла богатое полотно, сотканное из нитей, расходившихся в десятках направлений. Можно было почти слышать, как облизываются сотрудники группы специальных расследований. Вот, наконец, «Саша». Они ошибались, и их ошибка разрушила несколько судеб и в конечном итоге стоила ЦРУ — и американским налогоплательщикам — кругленькой суммы. Но это уже забегая вперед.
Энглтон был в экстазе. Теперь охота на «кротов» что-то дает. Осенью 1964 года ЦРУ приняло решение предупредить норвежцев, но Энглтон ничего не сообщил Эвангу. В конце концов, если Лигрен «крот», ее босс мог оказаться «суперкротом», работавшим на Советы в тесной связи с Ричардом Ковичем.
Вместо этого ЦРУ предупредило норвежскую гражданскую полицию территориального надзора, тайное ведомство, возглавляемое Асбьерном Брюном, жестким человеком, который был боевиком норвежского движения Сопротивления, ликвидировавшим нацистов в период оккупации, никогда не ночевавшим в одном месте дважды. Предупрежденная ЦРУ полиция территориального надзора вела наблюдение за Лигрен в течение нескольких месяцев. В ее отчетах отмечалось, что Лигрен вела абсолютно нормальную жизнь и не занималась подозрительной деятельностью. Тем не менее, руководствуясь информацией ЦРУ, полиция арестовала ее в сентябре 1965 года и приступила к серии жестких допросов.
В то время Лигрен возвратилась в Осло на старую работу, в военную разведку к Эвангу. Но после ее ареста полиция не сообщала об этом Эвангу несколько дней. «Однажды она не пришла на работу, — рассказывал Пер Хегге. — Конечно, Эванг был взбешен. Они с Брю-ном не разговаривали и до ареста Лигрен. Трения возникли еще во время второй мировой войны, когда Брюн скрывался в лесах, совершая набеги на нацистов, а Эванг находился в изгнании в Лондоне, где жил припеваючи. Между Лондоном и группами, скрывавшимися в лесах, существовала большая враждебность»[166].
Лигрен провела в тюрьме почти три месяца. Норвежская пресса активно подхватила эту информацию. Все выглядело так, будто русская шпионка работала в самом сердце норвежской разведки. В течение нескольких недель газеты пестрели заголовками о деле шпионки. Особенно сильный огонь обрушился на Эванга, но его предложение уйти в отставку было отклонено министром обороны. В одном из сообщений высказывалось предположение, что Эванг направил Лигрен в Москву для подхода к Советам с опасной ролью двойного агента.
Все это время полиция территориального надзора без устали допрашивала Лигрен с применением «мер воздействия», пытаясь вырвать у нее признание, что она — советская шпионка, каковой она вовсе не являлась. Один из ответов, полученных во время допроса, был понят сотрудниками Брюна как «признание». Затем в середине декабря государственный прокурор вдруг постановил, что для судебного преследования недостаточно доказательств. Дело против Лигрен было прекращено. Ее восстановили на работе, но вследствие жестоких испытаний ее здоровье было подорвано, и она в итоге вышла на пенсию и уехала из Осло.
Парламент создал специальную комиссию — комиссию Меллби — для расследования вражды между двумя разведывательными ведомствами, и еще один официальный совет — комитет правосудия — по рассмотрению самого дела Лигрен[167].
Несмотря на то что правительство Норвегии сняло с Лигрен обвинение в шпионаже, Энглтон оставался убежденным в ее виновности. В марте 1968 года преемник
Брюна на посту начальника полиции территориального надзора Гуннар Хаарстад прибыл в Вашингтон для встречи с высшими должностными лицами ЦРУ и ФБР. Энглтон и его заместитель Рэй Рокка пригласили начальника норвежской полиции территориального надзора в небольшой ресторан в Джорджтауне на ленч, на котором, как сказал Хаарстад, «мало с чем пришлось иметь дело, кроме мух, которые годились на наживку для лосося. Дела Лигрен вообще не затрагивали… Однако, когда мы поднялись из-за стола, Энглтон отвел меня в сторону, вынул из кармана лист бумаги и попросил меня прочитать то, что там было написано». В записке, которую Энглтон вручил ему, кратко излагалась информация Голицына о Лигрен. «Энглтон хотел забрать записку, но, даже быстро просмотрев ее, я смог понять, что она не содержала ничего более того, что мне уже было известно ранее». Хаарстад понял, что его американские коллеги считали дело против Лигрен «твердым орешком». Хаарстад добавил: «Энглтон намекнул совершенно таинственно, что он убежден в правильности информации и мнения Голицына и что прекращение дела, возбужденного против Лигрен, ошибочно со стороны норвежских властей»[168]. Вопреки точке зрения Энглтона норвежский парламент через несколько месяцев, в июле, проголосовал за выдачу Лигрен в качестве компенсации за неоправданный арест и перенесенные испытания 4200 долларов.
Поскольку усилия охотников за «кротами» разоблачить Ковича в связи с делом Лигрен были сорваны, они обратили свое внимание на «Экьют», нелегала ГРУ, который был на связи у Ковича во время пребывания Лигрен в Москве. Советских нелегалов обучают шпионажу за границей без преимуществ дипломатического прикрытия и иммунитета. Их трудно определить, поскольку они, словно хамелеоны, сливаются с населением страны — объектом своей деятельности. Как правило, в качестве прикрытия они открывают небольшое дело.
Михаил Федеров — настоящее имя которого, как считал Кович, Алексей Шистов — был нелегалом ГРУ, прибывшим в Швейцарию с мексиканским паспортом и окончательно осевшим во Франции. В Париже Федеров поселился как фотограф и открыл фотостудию. На правом берегу Сены у него была небольшая мастерская, где посетители могли заказать свой портрет. Невысокого роста худой человек с военной выправкой, Федеров хорошо одевался, а его темные волосы и смуглая кожа легко позволяли ему сойти за француза или испанца. Его, конечно, никто и не принимал за русского. В 1957 году он вышел на американское посольство и добровольно предложил свои услуги ЦРУ. Но таких добровольцев не всегда воспринимают всерьез. Мексиканский фотограф, утверждающий, что он русский шпион?
Ковичу, который находился за границей в связи с очередной операцией, сообщили, что какой-то сумасброд явился в американское посольство в Париже и заявил, что он сотрудник советской разведки. Кович поспешил в Париж. Ему потребовалось менее семи минут, чтобы прийти к выводу, что, во-первых, Федеров — не сумасшедший и что, во-вторых, он настоящий нелегал ГРУ.
Кович завербовал его. Поначалу Федеров, который бегло говорил по-французски и по-испански, хотел перейти на Запад. Кович, следуя своему принципу «сохранять их на своем месте», здорово попотел, чтобы действительно сохранить его на месте. В конце концов Федеров согласился и в досье ЦРУ получил псевдоним «Экьют».
Улов был впечатляющим. В апреле 1958 года Кович встретился с «Экьютом» в отеле «Крийон» в Париже. За семь месяцев до этой встречи, в октябре 1957 года, Советы потрясли мир запуском первого искусственного спутника Земли. Теперь Федеров сообщил Ковичу, что в следующем месяце, 15 мая, состоится еще один запуск ракеты. Более того, добавил Федеров, в конце августа русские запустят в космос собак, помещенных в контейнер.
Точно 15 мая, как и предсказал «Экьют», Советы запустили Спутник-3, и торжествующий председатель Совета Министров Никита Хрущев высмеивал более мелкие американские спутники, вращавшиеся вокруг Земли подобно «апельсинам»[169]. 29 августа Кович встретился с Федеровым еще раз, теперь уже на конспиративной квартире в Берлине. В ожидании второго завтрака они слушали Московское радио. Неожиданно диктор прервал передачу сообщением о том, что Советы запустили в космос двух собак, которые благополучно приземлились на парашюте.
Федеров захохотал. «Что вы думаете по поводу моей информации?» — спросил он. Кович считал ее прекрасной. В течение трех лет Кович руководил Федеровым, но контрразведка в штаб-квартире была скептически настроена в отношении последнего. Несмотря на обилие информации, которую он передавал ЦРУ, его заклеймили как возможную советскую подставу.
Федеров много разъезжал: за более чем три года Кович встречался с ним в Париже, Ницце, Берне, Женеве и Берлине. Еще раньше у них была встреча на французской Ривьере, и именно там, как заявил Голицын, анализируя досье Ковича, Советы, должно быть, завербовали сотрудника ЦРУ.
В атмосфере того времени трудно было сыскать какой-то советский источник, который контрразведка восприняла бы как настоящий. Даже по прошествии десятилетий эта уверенность лишь углубилась. «Скотти» Майлер никогда не изменял своего мнения относительно Федерова. «Федеров — это подстава, он вел его (Ковича) по Европе, как по угодьям для охоты, — заявил он. — Имелись признаки, свидетельствующие о том, что Федеров выезжал на вербовку или для восстановления контакта с кем-то, кого завербовал ранее».
Возможно, и так, но и Кович, и Джордж Кайзвальтер были убеждены, что он представлял собой настоящего и ценного агента ЦРУ. По поводу одной поездки Федерова на Запад Кайзвальтер вспоминал: «Он проезжал через Берлин, и я встретился с ним». Кович привел Федерова на конспиративную квартиру ЦРУ; Кайзвальтер был там, выдавая себя за француза.
«Он не умеет пить водку, — сказал Федеров Ко-вичу. — Мы научим его». А так как Кайзвальтер родился в Санкт-Петербурге и чисто по-русски был знаком с водкой, он с трудом удержался, чтобы не рассмеяться, когда Федеров объяснял, что вначале надо что-нибудь съесть, кусочек сливочного масла или немного оливкового масла, и только потом пить водку.
«Мы пытались выяснить, где в Карлсхорсте находились тайники, — рассказывал Кайзвальтер. — Феде
ров спрятал некоторые документы в тайник, но не в советской резидентуре, разумеется, а где-то вблизи железнодорожной станции. Он сказал, где найти документы. Один немец, агент ЦРУ, практически как настоящий крот прокопал мили рельсовых путей, разыскивая тайник, но так и не нашел его»[170].
Несмотря на подозрения контрразведки, директор ЦРУ Аллен Даллес считал агента Ковича настолько ценным, что Управление предприняло необычайный шаг. Советские перебежчики или агенты часто просят о встрече с президентом или директором ЦРУ, чтобы утвердиться в своей собственной значимости и убедиться, что их информация оценена на самом высоком уровне правительства Соединенных Штатов, но эти просьбы редко удовлетворяются. Федеров попросил о личной встрече с Даллесом. Необычное дело, но его тайно привезли в Вашингтон, где он встретился не с Даллесом, которого не было в стране, а с генералом Чарльзом Кейбеллом, заместителем директора ЦРУ. По утверждению Кайзвальтера, Кейбелл, генерал ВВС, «надел военную форму, чтобы произвести впечатление на Федерова».
Именно Кович сопровождал своего высоко оцененного агента во время перелета из Берлина в сентябре 1958 года. Он надеялся воспользоваться собственным самолетом Даллеса, но директор отправился на нем в свою поездку, поэтому Ковичу пришлось выпрашивать у ВВС четырехмоторный турбовинтовой самолет «С-54» для столь продолжительного полета в Вашингтон. Федерова привезли в штаб-квартиру ЦРУ, устроили ему встречу с Кейбеллом и продержали на конспиративной квартире в северной части штата Вирджиния почти неделю[171].
После встречи с заместителем директора ЦРУ Федеров возвратился в Берлин. За несколько месяцев до этого, в марте, Федеров ездил в Москву, но снова вернулся. Теперь он сообщил ЦРУ, что его вновь вызывают в Москву. В октябре 1958 года он в последний раз покинул Берлин и Запад.
Его больше никогда не видели. После трех лет руководства русским агентом Кович потерял с ним контакт. Федеров исчез. Джордж Кайзвальтер был убежден, что одна ошибка, допущенная ЦРУ, стала причиной его поимки. «Какой-то тупица в штаб-квартире решил направить Федерову письмо советской почтой. Его отвезли в Москву в вализе, а затем послали по почте в Советском Союзе. Полагали, что внутреннюю почту слишком сложно проконтролировать, но один из способов, которым мог воспользоваться КГБ, — это «засечь» парня, отправившего письмо. Письмо было перехвачено»[172].
Через два года после исчезновения Федерова Кайзвальтер получил сообщение от Олега Пеньковского, в котором предполагалось, что Федеров действительно был настоящим источником ЦРУ, обнаруженным Советами. Шел апрель 1961 года, Кайзвальтер встречался с Пеньковским в Лондоне в отеле «Маунт Ройял». «Пеньковский сообщил мне: „Я закончил ракетную академию. Один из генералов, генерал Борисоглебский, в день выпуска предложил выпить. Был май. Генерал сказал, что жизнь — не ваза с вишней. Недавно, продолжал он, я председательствовал на заседании военного трибунала; мы приговорили одного сотрудника ГРУ к расстрелу за предательство“»[173].
Хотя генерал Борисоглебский не назвал имени офицера ГРУ, Пеньковский сказал, что генерал упомянул, что предателя тайно возили в штаб-квартиру ЦРУ на встречу с одним высокопоставленным должностным лицом. Поскольку Федерова тайно возили на встречу с генералом Кейбеллом, сомнений быть не могло, что человек, о котором говорил Пеньковский, был Федеров.
Ковичу позже также сообщили, что Федерова казнили, но его смерть была еще более ужасной, чем рассказал Пеньковский. Было известно, что КГБ идет на все, чтобы отбить у сотрудников советской разведки охоту работать на Запад. В 80-е годы Ковичу сообщили, что один советский перебежчик в ЦРУ говорил, что в период учебы ему показывали кинопленку, на которой было снято, как Федерова бросили в печь заживо.
Один бывший сотрудник ЦРУ, знавший о судьбе Федерова, сказал: «Я знаю кое-кого, кто видел пленки, на которых снята казнь. Один из излюбленных способов казни — сжечь какого-нибудь парня живьем. Они сделают это, отснимут на кинопленку, покажут другим и скажут: „Вот что случится, если вы перейдете к своим друзьям в Лэнгли“».
Если Федерова действительно казнили — расстреляли или сожгли, — это послужило бы достаточно убедительным доказательством того, что он был настоящим агентом ЦРУ. В 1964 году, когда Кович попал под подозрение, охотники на «кротов» знали, что рассказал Пеньковский о судьбе Федерова, так как Кайзвальтер доложил о нем, но это нисколько не удержало их. ЦРУ поставило телефон Ковича на прослушивание, а его корреспонденция перехватывалась.
И это потому, что Кович руководил еще одним (третьим) агентом, который показался контрразведке еще более темной личностью. В мае 1961 года, всего лишь за несколько месяцев до перехода Голицына, резидентура ЦРУ в Хельсинки получила советского добровольного информатора. Резидентом был Фрэнк Фрайберг, тот самый начальник резидентуры, который в конце того же года обнаружил на пороге своего дома заснеженного Голицына и сопровождал его в Вашингтон. Теперь же, весной, Фрайберг сообщил о подходах добровольного информатора, установившего связь с посольством.
Ковича, который в это время находился в Вене, направили в Хельсинки. Он встретился с советским человеком, который назвался Юрием Николаевичем Логиновым и представился нелегалом КГБ в Хельсинки, выдававшим себя за американского туриста под именем Рональда Уильяма Дина. Человек из КГБ сказал, что хочет перейти на Запад и выехать в Соединенные Штаты; он уже одной ногой почти ступил на борт самолета. Кович терпеливо, следуя своему правилу, а также правилу ЦРУ, убедил Логинова остаться на месте, где он, без сомнения, может быть более полезным для Запада. А затем, несколько позднее, ЦРУ обеспечит его безопасность.
Кович провел в Хельсинки около десяти дней, и за это время Логинов провел две запланированные встречи с двумя другими сотрудниками КГБ, одним из которых был не кто иной, как Голицын, действовавший под псевдонимом Анатолий Климов. У театра «Астра» Логинов встретился с человеком из КГБ, который представился Николаем Фроловым и подвел его к припаркованному автомобилю, где ждал Голицын. Водитель вез их в пригород, а по пути Логинов, который впервые выехал на Запад в качестве нелегала, объяснял те трудности, с которыми он столкнулся в Италии, первой стране, куда он прибыл после того, как покинул Советский Союз. Вскоре после этой встречи Логинов вновь встретился со своими коллегами из КГБ, и Фролов с Голицыным сообщили ему, что Центр в Москве принял его объяснения. Они вручили ему визу для возвращения в Москву.
До отъезда из Хельсинки Логинов сообщил об этих встречах Ковичу и согласился остаться в качестве агента на месте. ЦРУ присвоило ему кодовое имя «Густо».
Спустя семь месяцев одно из первых сообщений, которые Голицын сделал ЦРУ, касалось существования Юрия Логинова, нелегала КГБ, фантастически владевшего английским языком. Голицын высоко оценил способности Логинова. Поскольку теперь Логиновым руководило ЦРУ, маловероятно, хотя и не исключено, чтобы Голицыну, перебежчику, сообщили, что Логинов завербован ЦРУ. Если бы Голицыну сказали об этом, это было бы нарушением всех правил шпионского ремесла.
Но в 1964 году Голицыну показали личное дело Ковича, и если он видел, что Кович находился в Хельсинки в середине мая, в то время, когда Голицын встречался с Логиновым, он мог уловить определенную связь. Голицын почти наверняка догадывался, что присутствие Ковича в Хельсинки было связано с Логиновым.
Дело Юрия Логинова — одно из наиболее спорных в истории ЦРУ. Именно его Управление долго пыталось замалчивать. Но до развязки еще оставалось пять лет.
Детство Логинова, сына партаппаратчика, проходило в Курске, промышленном городе, расположенном к югу от Москвы, а затем в Тамбове. Во время второй мировой войны семья переехала в Москву, и там, еще в школе, у Логинова проявились способности к иностранным языкам. В свои двадцать с небольшим он был принят на работу в КГБ и прошел подготовку для работы нелегалом. Во время нескольких выездов на Запад он после Хельсинки побывал в Париже, Брюсселе, Австрии, ФРГ, Бейруте и Каире.
Весной 1964 года, к тому моменту, когда Голицыну показали личное дело Ковича, уже другие оперативные работники — вначале Эдвард Ячниевич, затем Питер Капуста — руководили Логиновым. Кович приобрел славу своего рода «охотника за головами»: опытного сотрудника ЦРУ в резерве, которого можно послать в любую точку земного шара, чтобы взять какого-либо советского. В Берлине он женился на Саре Артур, секретарше на берлинской «базе». Теперь, в 1964 году, проведя в Вене три года, Кович с женой возвратились в штаб-квартиру.
Его не повысили в должности, как он надеялся, и казалось, что его карьера застыла на мертвой точке. Разумеется, он и не догадывался, что охотники за «кротами» со второго этажа сделали его новым главным подозреваемым, хотя и чувствовал, что что-то не так. Только по прошествии более десяти лет его официально уведомят, что его подозревали как советского агента. ЦРУ пришло к верному выводу — Ричард Кович не тот человек, которого можно смести с пути и забыть.
Были и другие, много других. Одним из попавших под стекло микроскопа контрразведки оказался Александр Соголов, большой шумливый оперативник русского происхождения из Киева, который имел несчастье быть известным в Управлении под именем Саша.
Именно о Соголове подумал Питер Карлоу, когда оператор полиграфа спросил его о «Саше», что заставило подпрыгнуть иглу самописца и еще глубже затянуть Карлоу в трясину. В России многие имена имеют уменьшительные, ласкательные формы, которыми друзья и члены семьи пользуются вместо более официального полного имени. Так, уменьшительная форма от имени Александр — Саша.
До Соголова, назначенного в 60-е годы на работу в штаб-квартиру ЦРУ после командировки в Германию, дошли слухи, что охотники на «кротов» в Лэнгли разыскивают какого-то «Сашу». Будучи в Вене, он облегчил свою душу Ковичу, который в то время служил в ре-зидентуре в Вене.
«Они собираются преследовать меня, — посетовал он. — Я в опасности. Говорят, его имя «Саша»».
«Черт побери, — успокоил его Кович, — расслабься. В Советском Союзе восемнадцать миллионов Саш». По иронии судьбы, Кович впервые услышал о поиске агентов проникновения в штаб-квартире. Он не знал, что сам под подозрением.
Саша Соголов родился в царской России в 1912 году в семье процветающего предпринимателя-еврея, поставлявшего обмундирование русской армии. У Соголова вошло в привычку рассказывать историю о том, как после революции его семья бежала в Германию, спрятав драгоценности в игрушечной палочке, которую дали ему. Семья благополучно добралась до Германии, но маленький Саша потерял палочку. По крайней мере именно так Соголов любил рассказывать эту историю[174].
В 1926 году семья Соголовых иммигрировала в Нью-Йорк, где Саша окончил финансовый колледж и юридическую школу Сент-Джонского университета. Наступили годы «депрессии», и Соголов, по словам одного из его коллег по ЦРУ, «некоторое время торговал машинками для ощипывания кур, пока его не избила кучка людей, ощипывавших кур вручную»[175]. В период второй мировой войны он служил офицером разведки армии США — вначале в качестве переводчика генерала Эйзенхауэра и генерала Патона, затем при Верховном командовании в Берлине. В ЦРУ он пришел в 1949 году и был направлен в ФРГ.
Поскольку Советский Союз был главным объектом для ЦРУ, оно нуждалось в людях, которые говорили по-русски. Многие сотрудники в советском отделе, подобно Соголову, неизбежно были русского происхождения, что только усугубляло подозрения охотников на «кротов».
А Соголов, несмотря на ироничные успокаивающие слова Ковича, все-таки находился под подозрением у группы специальных расследований. Он был славянского происхождения и служил в Берлине. Правда, его фамилия начиналась не на букву «К», но к этому времени контрразведка уже не придерживалась этой детали в описании «крота». Поиск агентов проникновения уже начал распространяться на другие буквы алфавита.
Хуже всего для Соголова было то, что его звали Саша. Во всем этом казалось невероятным, чтобы КГБ использовало псевдоним «Саша» для человека, чье настоящее имя тоже было Саша. Но это не исключалось, и в царившей в то время атмосфере контрразведка ни в чем не полагалась на волю случая.
«Мы смотрели его дело, — вспоминал Майлер. — Мы изучили операции, в которых он участвовал в Германии во время своего пребывания там». Группу специальных расследований, сказал Майлер, особенно интересовала «близость» Соголова с Игорем Орловым, вольнонаемным агентом ЦРУ русского происхождения, который работал на Соголова во Франкфурте в конце 50-х годов и теперь возник как последний подозреваемый.
Что касается Соголова, заявил Майлер, на него «ничего не нашли». Его не понизили в должности, утверждал Майлер, и не заключили в тюрьму, которая ждала другой добычи охотников на «кротов» из коридора «D». Но Соголов так и не достиг того уровня в Управлении, до которого надеялся дорасти.
Группа специальных расследований обратила свое внимание на Джорджа Голдберга, плотного, симпатичного латыша, уехавшего из Риги вместе с отцом перед приходом Красной Армии. Остальные члены его семьи — мать и сестра — погибли от рук нацистов. Голдберг, коренастый, сильный человек, водил такси в Чикаго, прилетел во Францию на планере со 101-й военно-воздушной дивизией в день начала военных действий, был ранен в голову и, истекая кровью, вдруг увидел направленное на него дуло немецкого автомата марки «шмайссер».
«На третий день войны они не брали пленных, — вспоминал Голдберг. — Я сказал по-немецки: «За что ты хочешь меня застрелить?» В этот момент в молодом солдате проснулись человеческие чувства. «Ты истекаешь кровью, — сказал он. — Подержи мой автомат, давай, я перевяжу тебя»».
«Моя война продлилась три дня. Остальную ее часть я провел в лагере для военнопленных 4В близ Лейпцига». Русские, освободившие Голдберга из немецкого лагеря, заставили его короткое время служить в Красной Армии в качестве переводчика. Он находился в советских войсках, когда произошла встреча с американскими войсками на Эльбе.
После войны Голдберг работал в армейской разведке, служил в Корее, в ЦРУ пришел в 1954 году. В 60-е годы он находился в Мюнхене и Бонне под армейским прикрытием. Но после его возвращения в штаб-квартиру группа специальных расследований начала проверять его без его ведома.
«Голдберг был в Германии, — говорил Майлер. — Он же был перебежчиком»[176]. Он приехал из Советского Союза. Расследование проводилось не как прямой результат наводок Голицына, но его изучали в свете этих наводок, чтобы узнать, нет ли какой-либо связи. Начиная с 1958 года Голдберг завербовал Бориса Белицкого, корреспондента Московского радио, псевдоним «Вайр-лес», которого Носенко впоследствии разоблачил как двойного агента, действовавшего под контролем Москвы, и вместе с Гарри Янгом руководил его работой.
Не поэтому ли Голдберг попал под подозрение? «Одна из причин состояла в том, что он руководил Белицким, — сказал Майлер. — Голдберг работал в Германии. Были и другие вещи — операции, закончившиеся неудачно».
Все это время Голдберг работал по контракту, ему отказывали в предоставлении полного статуса штатного сотрудника, которого он добивался. В 1969 году он отправился в Чикаго с отделом внутренних операций ЦРУ для вербовки иностранных студентов. «С наступлением 1970 года меня должны были взять в постоянный штат, поскольку в Чикаго я исполнял обязанности начальника «базы», — говорил Голдберг. — Меня могли бы взять, если бы не эта неприятность». Начальник отдела внутренних операций сказал Голдбергу, что его повышение заблокировал «кто-то вне отдела». Голдберг, поскольку ему не давали ходу, в 1975 году вышел в отставку и уехал в штат Колорадо.
Типичным объектом для группы специальных расследований в этот период стал Вася Гмиркин, оперативный работник советского отдела. Яркая биография Гмир-кина была необычной даже для отдела, многие сотрудники которого имели корни, уходившие в шквал русской революции. Его отец раньше служил царским советником в Урумчи, в китайской провинции Синьцзян, граничившей с Россией. Когда началась революция, старший Гмиркин возвратился в Россию бороться с казаками против большевиков. Его отряд был изгнан в Китай. Губернатор провинции знал и любил его, он предоставил ему китайское гражданство и присвоил звание генерала. В 1926 году там родился Вася. Молодой Вася говорил на двух языках — русском и китайском. В 1934 году отец Гмиркина отправил свою жену, дочь и двух сыновей в безопасное место, в Тяньцзинь, близ Пекина. Вскоре после этого вступили войска китайской Красной армии, схватили и расстреляли отца Гмиркина. В 1941 году пятнадцатилетнему Васе и остальным членам его семьи удалось выбраться из Китая и эмигрировать в Сан-Педро (штат Калифорния). Он поступил на военную службу в ВМС и возвратился в Китай в качестве переводчика ВМС. В 1951 году Вася пришел в ЦРУ. После четырех лет работы в Лос-Анджелесе он был переведен в советский отдел в штаб-квартире ЦРУ. Одна из его обязанностей, которую он выполнял под прикрытием сотрудника госдепартамента, состояла в сопровождении советских работников сельского хозяйства в их поездках по Соединенным Штатам.
Работая в Африке и на Ближнем Востоке, включая Багдад, Гмиркин добился впечатляющих успехов, включая и вербовку одного сотрудника противоборствующей разведки. К 1968 году он был уже начальником направления в советском отделе. Но в этот год Дэвид Мэрфи, начальник советского отдела, уехал резидентом в Париж. В советском отделе его заменил Рольф Кингсли, выпускник Йельского университета и опытный работник спецслужб.
К этому времени фактически каждый сотрудник отдела русского происхождения находился под подозрением, и Кингсли предложил Гмиркину уйти; его карьера как начальника направления закончилась. На протяжении семнадцати лет Гмиркин не получал повышения. Непосредственные начальники рекомендовали его, но затем, как ему говорили, контрразведка накладывала свое вето.
Последние годы службы Гмиркина в ЦРУ стали воплощением парадоксальности целой эпохи. Для Гмиркина, хотя он и был жертвой охоты на «кротов», карьера закончилась на должности оперработника, руководившего Голицыным. Он работал с Голицыным с 1976 года в течение трех лет до выхода в отставку. И хотя он не принимал теорий Голицына, в личном плане сблизился с перебежчиком, помогал ему редактировать книгу и был одним из двух сотрудников ЦРУ, подписавшихся под предисловием. Вторую подпись поставил «Скотти» Майлер.
Одним из более чем странных эпизодов в анналах группы специальных расследований стало расследование по делу Аверелла Гарримана, продолжительная и блестящая карьера которого включала работу на постах посла в Советском Союзе, заместителя госсекретаря, члена кабинета министров и губернатора Нью-Йорка. Но для контрразведки Гарриман был одним из возможных советских «кротов» под псевдонимом «Динозавр»[177].
Неудивительно, что проверка дипломата-мультимил-лионера началась с Голицына. «Вследствие заявлений Голицына», подтвердил «Скотти» Майлер, группа специальных расследований решила, что «некоторые вещи, происходившие в то время, когда Гарриман находился у советских дел, следовало проверить». Когда Гарриман работал в Москве, Советы подарили ему герб Соединенных Штатов, в котором находилось подслушивающее устройство. Разве не могло это стать причиной для подозрения? «Конечно, — сказал Майлер, — тот факт, что он принял герб с подслушивающим устройством, было лишь малой толикой».
Но другой бывший сотрудник группы специальных расследований смог пролить больше света на это дело. «Гарриман был в Советском Союзе еще раньше, помогая ему строить заводы и тому подобное, — заявил он. — У Голицына есть сведения, что бывший посол США в Советском Союзе был близок с одной советской женщиной, у которой от него родился сын. И что Гарриман все еще привязан к своему сыну и, следовательно, завербован КГБ. Когда этот агент, предположительно Гарриман, приехал в Советский Союз с визитом, в Москве готовился к постановке спектакль по пьесе известного драматурга под названием «Сын короля». Гарриман присутствовал на премьере, пьеса была написана столь явно о нем, что он выразил сильное неудовольствие и добился, чтобы пьесу сняли».
Голицын даже вышел на сына. В 1956 году Гарриман написал книгу о поездке в Советский Союз, в которой выразил благодарность за помощь, оказанную ему сопровождавшим его человеком, которого Советы предоставили в его распоряжение, и Голицын пришел к заключению, что он-то и был его сыном[178]. В мире Энглтона, подобном Стране чудес Алисы, фантазия на тему операции «Динозавр» получила свою собственную жизнь.
Расследование продолжалось, несмотря на то что Эд Петти, сотрудник группы специальных расследований, установил, что в те дни, когда ставилась эта пьеса, Гарримана в Москве не было. Не эти сведения хотелось бы услышать Энглтону. Операция «Динозавр» подпитывалась также тем фактом, что в советских шифр-сообщениях, перехваченных в ходе операции «Венона», Гарриман проходил под двумя псевдонимами. «Одно из них было «капиталист», — вспоминал бывший охотник на «кротов». — Но это ничего не доказывает. Никакого дела. Советы давали кодовые обозначения всем и вся».
Фактически все наводки Голицына, независимо от их нелепости, тщательно проверялись группой специальных расследований. Ее сотрудников не страшил тот факт, что, согласно свидетельствам Джона Харта, Голицыну, их основному источнику, был поставлен диагноз — паранойя. «В ходе его отношений с Центральным разведывательным управлением, — свидетельствовал Харт в конгрессе, — он был обследован психиатром и отдельно клиническим психологом, поставившими диагноз — параноик. И я уверен, каждому это известно. Этот человек страдал манией величия. Ему позволили создавать широчайшие, фантастические заговоры…»[179].
Возможно, наиболее притянутой за уши была точка зрения Голицына относительно того, что китайско-советские разногласия, возникшие в конце 50-х годов, оказались не чем иным, как акцией КГБ, призванной ввести в заблуждение. Когда Энглтон предложил организовать встречу ученых и заслушать теорию Голицына, ее тут же окрестили «Конференцией на тему „Плоская ли Земля“»[180]. По мнению Голицына, советско-югославский разрыв был еще одним крупным заговором КГБ, как и «пражская весна» Александра Дубчека — неудавшийся мятеж, подавленный советскими танками, введенными в Чехословакию в 1968 году. Энглтон верил большинству этих глупых теорий.
Например, на одном обеде Энглтон заметил обозревателю Стюарту Олсопу, что китайско-советский раскол — просто изобретение КГБ. Олсоп, скептически отнесшийся к этому замечанию, попросил доказательств. Энглтон сказал, что располагает некоторыми, и они договорились встретиться за ленчем. «И вот на ленче, — рассказывал один из друзей Олсопа, которому он поведал эту историю, — Энглтон привел кусочки информации, которые, по его мнению, свидетельствовали о картине сотрудничества между двумя странами. Например, Аэрофлот, советская авиакомпания, все еще имеет своего представителя в Пекине, который, по убеждению Энглтона, был человеком КГБ. Русские строят железную дорогу на китайской границе. Для Олсопа все это были малозначащие факты, подтверждавшие еще раз его подозрения относительно паранойи Энглтона».
Дон Мор, ветеран, начальник контрразведки ФБР, работавший против советской разведки, любил Энглтона лично, но крайне скептически воспринимал необычные теории, которые проповедовал этот человек ЦРУ на пару с Голицыным. По какой-то причине Энглтон считал, что Мор изменит свое отношение, если только пообщается с перебежчиком и его женой. Мор отказался, но Энглтон настаивал, время от времени возвращаясь к этой идее. «Если вы встретитесь с г-жой Голицыной и Анатолием, у вас мнение изменится в лучшую сторону», — говорил он Мору. Маловероятно, чтобы вся четверка собралась когда-то за обедом, но в какой-то момент Мор все же встретился с Ириной Голицыной. Это не изменило его точку зрения на теории ее мужа.
Сотрудники группы специальных расследований трудно прошли через все это, прослеживая каждую наводку Голицына, тщательно изучая личные досье, анализируя старые дела, надеясь, что неуловимых агентов проникновения можно еще выявить. И теперь, в 1964 году, спустя три года после прихода Голицына, охотники на «кротов» полагали, что они наконец откопали «Сашу».
ГЛАВА 13
«Саша»
Он был маленького роста, не более пяти футов и пяти дюймов, поразительно красивым, с татуировкой в виде цветка между большим и указательным пальцами левой руки и буквой «А» (его группа крови) на том же месте правой руки.
Во время второй мировой войны он был советским разведчиком и боролся с нацизмом, а позднее — сотрудником немецкой разведки и боролся против Советского Союза, поэтому татуировка о данных группы крови понятна, но никогда никому, даже своей жене, он не объяснял значение цветка. Его биография была такой же таинственной. В разное время он пользовался по крайней мере четырьмя различными именами.
Посетителям его преуспевающей картинной галереи, которую он и его жена, Элеонора, держали в Александрии (штат Вирджиния), как раз напротив Вашингтона, на противоположном берегу реки Потомак, он был известен как Игорь Орлов. Для своей жены и друзей он был Сашей. Очень немногие из посетителей знали, что в течение тринадцати лет он работал в Германии в качестве агента ЦРУ.
Пол Гарблер называл его «Малыш».
Когда в 1952 году Гарблер прибыл на берлинскую «базу» для работы у Билла Харви, его познакомили с Орловым, который должен был стать его основным агентом. Работая с Орловым, Гарблер не пользовался своим настоящим именем. Он был Филиппом Гарднером.
Орлов тоже пользовался оперативным именем, которое ему дали в ЦРУ. В Берлине он был Францем Койшвицем.
«Когда я приехал в Берлин, Орлов уже был завербован и работал», — вспоминал Гарблер. Кто завербовал его? «Это покрыто мраком, — сказал Гарблер. — К 1952 году, когда я приехал, он уже года два был там основным агентом «базы». До меня Орловым руководил Вольфганг Робинов. Он был ведущим оперработником, родился в Германии и бегло говорил по-немецки. «Малыша» я получил от Робинова. Он привел меня на конспиративную квартиру и познакомил с Орловым». В то время, конечно, он не знал, что имя его нового агента «Орлов», ЦРУ ему его еще не присвоило. Он знал его только как Франца Койшвица.
Это был маленький, похожий на фарфоровую куклу, человечек, с темными волосами, разделенными сбоку на пробор и зачесанными назад. Большой пижон. Жена его была гораздо выше него. Чистота для него была почти навязчивой идеей. Его ногти всегда были в порядке и даже покрыты лаком.
«У моего агента на связи были одиннадцать проституток и однорукий пианист, — сказал Гарблер. — Девушки и пианист работали в одном баре в советском секторе, где околачивалось много русских солдат. Пианиста звали Вилли. Орлов, конечно, никогда не говорил девушкам, что работает на американцев».
Основная цель операции, сказал Гарблер, заключалась в том, чтобы попытаться убедить одного из советских военнослужащих, завсегдатая бара, перейти в Западный Берлин, а потом завербовать его. А в качестве дополнительного задания Орлов/Койшвиц сообщал о всех сплетнях, представлявших военный или разведывательный интерес, которые могли подхватить женщины в зале. «Если они слышали, что пятнадцатая дивизия перебрасывается, они сразу же сообщали об этом, — сказал Гарблер. — Они передавали «Малышу» каждый услышанный обрывок сплетен».
И Гарблер с помощью Орлова осуществил то, что на вид выглядело вербовкой советского военнослужащего. «Одна из девушек, хорошо сложенная рыжеволосая Труди, провела русского военнослужащего в Западный Берлин. Мы заставили его поверить, что он общается с профессором западногерманского университета, которому хотелось знать, что происходит в Советском Союзе, наличие там продовольствия, бензина и так далее». В роли профессора выступал сотрудник ЦРУ. Встреча с советским военнослужащим происходила в первоклассном конспиративном доме ЦРУ, закамуфлированном под дом профессора, которого проститутка представила как своего дядю.
«Уолли Драйвер был фотографом, — сказал Гарблер. — Когда русский вышел из метро, его сфотографировали через глазок в фургоне. На русском были рубашка цвета хаки и куртка, но он был без формы. В доме его фотографировали, когда он разговаривал с агентом ЦРУ, выступавшим в качестве профессора, и проституткой. Уолли Драйвер поместил фотоаппарат в часы с кукушкой, обмотал его тряпкой, чтобы заглушить его работу, и протянул провод к «профессору», который должен был делать снимки, нажимая на кнопку. Чтобы скрыть щелчок от русского, нашему человеку при каждом снимке приходилось кашлять. Мы сделали несколько действительно хороших кадров».
Советский военнослужащий, по словам Гарблера, согласился поддерживать контакт с «профессором». «И он действительно его поддерживал. Они переписывались. Пока я был там, он прислал по крайней мере одно письмо, а может, больше».
«Все это не имело такого успеха, — признался Гарблер, — но с точки зрения того времени казалось замечательным. Это было типично для того, чем мы занимались тогда».
Мюнхен 1947 года. Элеонора Штирнер, двадцати трех лет, пережила войну и воздушные бомбардировки союзников, сильно разрушившие город.
В тот зимний февральский день она ехала на трамвае № 8 в Швабинг, богемный район Мюнхена. «Я везла продукты профессору, который был художником, в его студию, — сказала она. — У меня болело горло, и я не могла говорить. Саша и его друг Борис, мужчина высокого роста, вышли на той же остановке, что и я, и оказалось, что мы идем в один и тот же дом. Они помогли мне донести картофель наверх, на последний этаж. Профессор прошептал: «Они иностранцы, давай пригласим их, может, у них есть сахар». Так я познакомилась со своим мужем».
Саша и Элеонора поженились в июле 1948 года. Это была невероятная пара: бывший советский разведчик и дочь члена нацистской партии, но Элеонора Штирнер была счастлива найти мужа в разрушенной войной Германии. Молодых людей осталось немного. «Все мои друзья умерли, — сказала она честно, — иначе я никогда не вышла бы замуж за русского».
Во время интервью в ее просторном магазине, где продавались рамы для картин, и в художественной галерее в старой части Александрии Элеонора Орлова проявила себя женщиной умной, исключительно энергичной, у которой случайные меланхолические нотки удачно гармонировали с большим чувством юмора. Она подробно рассказывала о своем прошлом в нацистской Германии, последующих контактах с ЦРУ и ФБР и о загадке человека, за которым была замужем тридцать четыре года. Саша Орлов умер в мае 1982 года в возрасте шестидесяти лет, оставив жену и двух взрослых сыновей — Роберта и Джорджа.
Элеонора Штирнер родилась 10 марта 1923 г. в Мюнхене. Она была дочерью Йозефа и Розы Штирнер. «В шестнадцать лет я вступила в гитлерюгенд, — рассказала Элеонора Орлова. — Я отвечала за водные виды спорта, греблю на каноэ и так далее во всей Баварии. Это было единственным развлечением в нашей жизни. Гитлера любили все». Ее отец, эсэсовец шести футов и шести дюймов ростом, воевал в Польше, Советском Союзе и Италии, где попал в плен, в котором провел два года. «После войны мы лишились нашей квартиры, потому что соседи видели черную форму и сапоги и вышвырнули нас».
Как члена гитлерюгенда в 1945 году ее отправили в Дахау, где она пробыла в заключении пять месяцев, работая на полях бывшего нацистского концентрационного лагеря, уничтожая сорняки, собирая урожай и жуков с картофеля. «За это отвечали находящиеся в заключении польские офицеры», — сказала она. После выхода на свободу в 1946 году она работала секретарем в фирме по поставкам медикаментов. Тогда она познакомилась с Сашей Орловым и вышла за него замуж.
В то время он называл себя Александром Копацким. Он сказал своей жене, что взял фамилию, звучащую по-польски, чтобы избежать отправки обратно в Советский Союз. По словам Элеоноры, он родился 1 января 1922 года в Киеве. Он никогда не называл ей своего подлинного имени, рассказывала она, хотя однажды в какой-то официальной анкете он, должно быть, записал своих родителей под фамилией «Навратиловы».
Он был в отличной спортивной форме и с хорошими манерами европейца, когда был трезв. «Пил он много. Целовал дамам руки. Он явно был офицером. Учился в военном училище в Новосибирске или где-то еще в Сибири. Был очень пунктуальным, начищал до блеска свои ботинки, делал по утрам зарядку, носил аккуратную стрижку, причем всю жизнь короткую, прилично одевался. И он был очень хорошим стрелком. Саша любил охотиться и рассказывал, как они с отцом в Сибири охотились на тигров. Он был советским разведчиком. В 1944 году, когда его сбросили с парашютом в Германии, он получил сильное ранение в шею и икру. Его схватили, вылечили в немецком полевом госпитале и завербовали в качестве связника между армией Власова и немецкой армией. Это было жестокой зимой 1944 года»[181].
Андрей Власов, советский генерал-лейтенант, попал в плен к немцам с большей частью своей армии в июле 1942 года. Немцы позволили Власову, ярому антисоветчику, сформировать Русскую освободительную армию (РОА) и призвать советских военнопленных поддержать усилия нацистов в их борьбе против Красной Армии[182].
Оправившись от ранений в немецком госпитале, Орлов вступил в войска тех, кто его пленил. По его собственным словам, прежде чем стать сотрудником разведки генерала Власова, он почти год прослужил в немецкой разведке. После войны американские власти заключили его в Дахау, как раз в то время, когда там находилась Элеонора, но тогда они еще не знали друг друга.
Когда же они действительно встретились в 1947 году, Орлов уже работал на ЦРУ в Пуллахе, под Мюнхеном, где Управление разместило генерала Рейнхарда Гелена и его немецкую разведывательную сеть.
Орлов очень мало рассказывал жене о работе на ЦРУ. Но по словам одного бывшего члена группы специальных расследований, в 1948–1949 годах «Орлов работал по Украине в районе Мюнхена на мюнхенской оперативной «базе» (ЦРУ). Он работал у Дэйва Мэрфи».
Элеонора Орлова вспоминала о первых месяцах своего замужества как об идиллическом периоде своей жизни. Молодая пара ездила на пикники в сельскую местность Баварии. «Я каталась на велосипеде по берегу реки Изар. Это было очень счастливое время».
Все это резко изменилось в 1949 году во время создания Берлинского воздушного моста. «Мы жили спокойной жизнью, пока однажды в нашу дверь не постучал американец и не сказал: «Вы нужны нам в Берлине»».
«В Берлине он изменил имя на Франца Койшвица. Это имя нам дали американцы. Я стала Элен Койшвиц. Я настояла, чтобы фамилия начиналась с буквы «К» из-за монограммы на моем постельном белье. Оно было помечено инициалами «ЭК» — Элеонора Копацкая. Моя мать прислала его из Мюнхена».
Под именем Франца Койшвица Орлов пробыл в Берлине семь лет. «В Берлине я не работала на ЦРУ, но печатала еженедельные отчеты мужа, — сказала Элеонора, — поэтому я знала, чем он занимался».
Орлов занимался тем, что вербовал для своей сети женщин. «Каждый вечер он ходил по барам и многочисленным ночным заведениям. Посещал бары с телефонами, где можно всего лишь снять трубку и разговаривать с кем-нибудь, сидящим за столом в конце зала. Иногда он вербовал девушек в «Рези», баре в Хазенхейде, районе Берлина под названием «Кроличий луг».
Еще он пил. У Пола Гарблера были веские причины помнить об этом. «Трижды, — сказал Г арблер, — мне приходилось выручать его из беды. Орлов был ужасным водителем. У меня обычно тряслись поджилки, когда он возил меня по Берлину. Большинство русских — ужасные водители. Они не учатся этому с детства, как мы. Он ездил на красный свет, давал задний ход посреди улицы, а вокруг неслись машины.
Когда он говорил о чем-нибудь печальном, например когда одна из его девушек подхватила триппер, он плакал. Его глаза наполнялись слезами. Я никогда не спрашивал его о причинах, а он никогда не спрашивал ни о чем меня».
Глаза Орлова снова наполнились слезами в 1955 году, когда после трехлетнего пребывания в Берлине Гарблеру настало время уезжать. Сотрудник ЦРУ и его агент в последний раз встретились в конспиративном доме. Орлов подарил Гарблеру книгу с фотографиями Берлина и подписал ее[183]. Надпись гласила: «Франц Койшвиц, Элен и Роберт. Июнь 1955 года».
Год спустя ЦРУ перевело семью Койшвиц из Берлина во Франкфурт, главным образом потому, что Элеонора буквально восстала против их кочевой жизни в меблированных комнатах, которые они меняли через пару месяцев в целях конспирации. Их сын Роберт родился в 1954 году. Вот как сама Элеонора говорит об этом: «Я хотела покинуть Берлин. Там я была с ребенком и без дома. Эдакой дамой на чемоданах».
В Берлине, рядом с границей и советской штаб-квартирой, агент ЦРУ подвергался риску, сказала Элеонора. Во Франкфурте, в самом центре Западной Германии, не было бы необходимости все время переезжать с одного места на другое. Более того, Управление предложило выдать семье Койшвиц американские паспорта.
«Мы приехали в американское консульство для оформления бумаг о нашем гражданстве[184]. Но тут произошла неприятность. Франца Койшвица арестовали за нарушение правил дорожного движения. Поэтому американцы изменили нашу фамилию на фамилию Орлов. Мы были вынуждены войти в консульство и поклясться, что мы Игорь и Элеонора Орловы». Поскольку перед вылетом во Франкфурт, сказала она, их предупредили о том, что они смогут взять с собой только небольшой багаж, Элеонора, перед тем как покинуть Берлин, раздала их немногочисленное имущество, включая свое белье с монограммами «ЭК». Теперь для нее уже не имело значения, будет ли их новая фамилия начинаться с буквы «К».
Во Франкфурте госпожа Орлова работала на ЦРУ, занимаясь перлюстрацией почты и переводом фотокопий писем, курсирующих между Советским Союзом и Западной Германией. Ее муж, сказала она, «много ездил, в частности в Гамбург, Кельн, по всей Западной Германии в черном «опель-капитане». Теперь я знаю, что он делал во Франкфурте. Я сопоставила факты. Мы, три женщины, работавшие в отделе цензуры, просматривали письма, адресованные в Советский Союз и приходящие из этой страны. Мой муж встречался с людьми в Германии, которые писали эти письма на Восток. Он пытался вербовать лиц, имевших контакты с Россией».
Кабинет Элеоноры находился на этаже без номера, на тринадцатом по счету этаже здания «И. Г. Фарбен». «Мы просматривали письма и откладывали в сторону те из них, которые представляли интерес с разведывательной точки зрения, — для перевода. Например, если чья-либо тетя из Советского Союза писала, что они больше не ходят на рыбалку, это могло означать строительство крупной электростанции. Мне даже попало в руки письмо Бориса Пастернака, благодарственное письмо, адресованное в Германию одному из почитателей его романа «Доктора Живаго». Я стащила его, положила в свою записную книжку и хранила в качестве автографа. Пропажу никто так и не заметил. Я вложила это письмо в свою книгу «Доктор Живаго»».
В апреле 1957 года ЦРУ самолетом переправило Орловых в Америку, с тем чтобы Элеонора, которая в это время ждала ребенка, могла рожать там, и разрешило им обосноваться в США, чтобы стать гражданами этой страны. Сначала их поселили в конспиративном доме ЦРУ на ферме Эшфорд на восточном берегу реки Чоп-танк в штате Мэриленд.
Позднее, когда должен был родиться ребенок, семью Орловых перевели в другой конспиративный дом в районе Джорджтаун, в северо-западной части Вашингтона по адресу: 3301, О-стрит[185]. Врачом Элеоноры в больнице Джорджтаунского университета был доктор Джон Уэлш, который летом того же года наблюдал Жаклин Кеннеди, родившую в ноябре дочь Каролину[186].
Еще до появления ребенка, продолжала госпожа Орлова, «экскурсовод ЦРУ пригласил нас в Белый дом, водил по музеям. Он старался дать нам представление об Америке». Второй сын Орловых, Джордж, родился 9 августа. «Потом мы вернулись во Франкфурт и начали новую жизнь, с настоящими документами и льготами на получение дешевых товаров почтой. Саша получил машину, и у нас началась прекрасная жизнь».
Все складывалось удачно, за исключением отношений Орлова с коллегами из ЦРУ. Во Франкфурте вскоре возникли разногласия между Орловым и Николаем Козловым, еще одним бывшим- советским гражданином, работавшим в ЦРУ. Главные неприятности начались в 1959 году, когда Орлов отправился в Вену. «На время поездки ему выдали мужские туфли на каблуках, чтобы он казался выше, выкрасили волосы в черный как смоль цвет и снабдили очками в роговой оправе без каких-либо предписаний на этот счет», — рассказывала Элеонора. Вернувшись во Франкфурт, Орлов пришел к убеждению, что его сейф вскрывали. «Сейф имел внеш-нюю кодовую комбинацию, а внутри — две назакрывающиеся секции. Козлов знал эту комбинацию», — сказала она. Накануне отъезда в Вену Орлов положил кусочки слюды в свой отсек сейфа, а когда вернулся из командировки, нашел их на полу. По словам Элеоноры, ее муж поставил в известность о с/іучившемся своего начальника, Сашу Соголова, на которого впоследствии пало подозрение как на тайного агента, отчасти за связь с Орловым, но Соголов не придал значения этому инциденту.
Неприятности, однако, на этом не закончились ни для самого Орлова, ни для его жены. Сотрудники безопасности ЦРУ, расследуя этот случай, обнаружили в сейфе почтовую открытку на имя Элеоноры Орловой от поклонника, которую ее муж перехватил и убрал в сейф. Сотрудники ЦРУ «с пристрастием» допрашивали Элеонору об этой открытке, обвиняя ее в сделках на «черном рынке».
«Однажды во Франкфурте я везла Джорджа в коляске, — рассказывала миссис Орлова. — В парке встретила мужчину. Он предложил мне билеты во франкфуртский оперный театр, где работал режиссером-постановщиком. В благодарность я дала ему дешевый джин, полученный по почте. Я сказала об этом во время проверки на детекторе лжи. Содержание почтовой открытки было примерно следующим: «Если я вас не увижу, я влюблюсь в весь кордебалет».
Меня. спрашивали, почему я дала ему джин? А может, платила ему сигаретами, чтобы заняться с ним любовью? Я ответила: «Вы с ума сошли. Если бы мне был нужен мужчина, я бы его имела». Я попала в неприятную историю, поскольку бартерные сделки считались противозаконными. Меня отстранили от работы».
По словам Элеоноры Орловой, она никогда не видела этой открытки, однако муж перед поездкой в Вену прямо спросил ее об этом. «Он был необычайно ревнив. В Берлине он несколько раз приставлял пистолет к моей голове, потому что учуял запах сигарет, а я не курила. Да, сказала я, я ехала в метро в прокуренном вагоне».
По словам Элеоноры Орловой, решение мужа написать рапорт о явном вскрытии сейфа испортило его отношения с ЦРУ. «Соголов был хорошим другом семьи Козловых, поэтому он, скорее всего, ничего не мог поделать, — сказала она. — Когда он (Орлов) обвинил в случившемся Козлова, это стало концом нашей карьеры».
Орловым об этом, однако, ничего не сказали. Игорю пообещали новую работу в Соединенных Штатах, и в январе 1961 года семья отплыла в Нью-Йорк на судне «Америка». Накануне вступления в должность президента Кеннеди в снежную бурю они направились в северный район Вирджинии. Орлов набрал номер, который ему дали для связи с ЦРУ, но обнаружил, что телефон отключен.
«В конце концов ему удалось дозвониться, но ему ответили, что работы для него нет, — сказала Элеонора. — А жить надо было. Летом 1961 года он устроился водителем грузовика в издательстве «Вашингтон пост». У нас не было документов о гражданстве. Мы имели «зеленую карточку», но не паспорта».
Он отказался от курса Берлитца, предложенного ЦРУ, однако мы получили небольшую сумму, примерно 2700 долларов. Это были деньги ЦРУ. Я готова была уехать на поиски лучшей доли. Мы поспорили. Я сказала: «Что тебе делать в этой стране? А мне чего ждать? Мне стать женой водителя грузовика?» Элеонора Орлова взяла 1800 долларов из денег ЦРУ. «Я купила три билета на теплоход «Бремен», отправлявшийся в Германию. Взяла с собой детей, книги, перину. Приехала к матери, но она выгнала меня в первый же день: «Говорила тебе, не выходи замуж за этого иностранца. Теперь я знаю, что он шпион. Здесь мне о нем все рассказали»».
«Девять месяцев я прожила в Мюнхене, сняла квартиру, Игорь высылал мне 100 долларов ежемесячно. Для этого он продал свой телевизор, пишущую машинку. Он зарабатывал всего 60 долларов в неделю. Я не могла устроиться на работу, у меня не было документов. Кто такая Элеонора Орлова? Где училась? Чем занималась в течение последних пяти лет?»
В 1962 году Элеонора Орлова вместе с детьми вернулась в Вашингтон к мужу. К 1964 году семья Орловых накопила достаточно денег, чтобы открыть в Александрии магазин картинных рам на Саут-Пит-стрит. А в нескольких милях отсюда, в штаб-квартире ЦРУ, охотники на «кротов» сужали круг своего расследования.
В октябре 1964 года «Скотти» Майлер пришел в группу специальных расследований, и дело Орлова фактически первым легло на его стол. «По словам Голицына, Саша в основном работал в Берлине, но и в Западной Германии тоже, — рассказывал он. — Таким образом, мы начали просматривать картотеки, выявляя, кто, где и каким образом был причастен к этому делу. Складывали вместе обрывки информации. Понадобилось три года, чтобы в 1964 году выйти на Орлова как на возможную кандидатуру. Уменьшительное имя Александра Орлова было Саша. Он работал в Германии. Были и другие люди по имени Саша. Начали выяснять, сколько людей мы знаем по имени Саша. Это первый пласт расследования. Во-вторых, имеет ли кто-либо из них настоящую фамилию, начинающуюся на букву «К»? Или оперативную кличку?»
Фамилия Орлова не начиналась с буквы «К», и можно себе представить волнение, охватившее охотников на «кротов» со второго этажа, когда они, открыв его дело, обнаружили, что до того, как стать Орловым, он был сначала Александром Копацким, затем Францем Койшвицем, и что звали его Сашей.
Но мог ли КГБ использовать подлинное имя человека в качестве его псевдонима? «Маловероятно, но возможно», — ответил Майлер.
Изучив дело Орлова и агентуру, которой он руководил в Германии, по словам Майлера, контрразведка пришла к «абсолютному» убеждению, что обнаружила против него серьезные улики. В ходе интервью некоторые другие бывшие сотрудники ЦРУ также заявили, что, по их мнению, Орлов был двойным агентом КГБ. «Он (Орлов) соответствовал наводкам, а его операции не давали хороших результатов», — сообщил Пит Бэгли.
Брюсу Соли, сотруднику управления безопасности ЦРУ, было доверено «раскрутить» дело Орлова. Соли был ведущим сотрудником управления и с самого начала занимался работой по раскрытию «кротов». Длинный, худой, в очках, Соли говорил медленно, с расстановками. Он вырос на ферме в сельской местности штата Висконсин, во время второй мировой войны штурманом ВВС воевал в Европе, в послевоенный период получил юридическое образование ив 1951 году пришел на службу в ЦРУ, где все время работал в управлении безопасности.
В дополнение к основным характеристикам Саши — фамилия, начинающаяся с буквы «К», работа в Германии, славянское происхождение — Голицын представил еще один фрагмент информации. Саша, сказал он, сообщал КГБ данные о военных удостоверениях личности, которыми снабжаются агенты ЦРУ при засылке в Советский Союз. Соли внимательно изучил дела, но не смог найти в них ни одной операции, которая соответствовала бы описанию Голицына.
Но Соли сделал интересное открытие: более десяти лет назад ЦРУ действительно планировало засылку агента с воинским удостоверением личности и подбирало документы. Именно Орлов добыл их, объяснив, что получил их от советского источника. Из воспоминаний сотрудника ЦРУ: «Орлов передал три документа, но их было недостаточно, требовалось четыре. Поэтому ЦРУ отказалось от этой затеи».
Соли пошел к Голицыну. «Что-то здесь не так», — сказал он. Голицын на какой-то миг задумался. Возможно, решил он, все было наоборот, не Саша передавал в КГБ информацию о воинских удостоверениях личности, а КГБ снабжал его документами для их передачи в ЦРУ. Теперь для Соли дело прояснилось. Первоначально Голицын представил его в обратном смысле, но даже в таком виде наводка перебежчика позволила Соли «засечь» Орлова. Он пришел к заключению, что три документа, переданных Орловым, являлись ловушкой, расставленной КГБ; в каких-то незначительных деталях они отличались от действующих, так что любой агент, который попытался бы воспользоваться ими в Советском Союзе, был бы немедленно обнаружен.
Все это дело с документами не являлось достаточно веским основанием для судебного разбирательства, но его было достаточно, чтобы дать возможность ЦРУ ходатайствовать о проведении уголовного расследования. К середине 1964 года ЦРУ передало дело Орлова ФБР.
«Это случилось во второй половине дня, — рассказывала Элеонора Орлова о том, как сотрудники ФБР пришли в первый раз. — Однажды, в начале марта 1965 года, в дверь позвонили, вошли шесть человек и сказали: «Мы хотим произвести обыск в вашем доме. Шпионаж». Уже после окончания уроков в школе, около пяти часов вечера, Саша спросил: «Можно моей жене с детьми пойти в кино?» Агенты ФБР согласились. Он принес мне пальто, и мы ушли.
Когда я вернулась, они все еще были в квартире. Все ящики на полу, каждый клочок бумаги фотографировался, даже из моей сумочки. Мне пришлось ее оставить дома. Они пробыли у нас почти до полуночи. Сказали, что утром, после возвращения с работы, Саше следует явиться в ФБР, в старое здание почтового ведомства в Вашингтоне[187].
Никакого ордера на обыск. В то время мы даже не знали таких слов — «ордер на обыск». На следующий день агент ФБР по имени Берт Тэрнер и с ним какой-то мужчина пришли в галерею, на верхнем этаже которой мы жили, и стали расспрашивать о Берлине, о Германии. Они спросили меня, почему я так часто пишу в Швейцарию?
— Я пишу своей тете, — ответила я.
— Мы также в курсе, что вы пишете в Австралию. А кто живет там?
— Моя бывшая горничная в Германии.
— А в Монтевидео?
— Еще одна моя тетя.
У моей матери было пять сестер. Это меня взбесило, и я сказала: «Послушайте, это свободная страна».
Они приходили снова и снова, изо дня в день. Они предложили мне пройти проверку на детекторе лжи, но я отказалась. Мой муж сказал: «Если ты не пройдешь, тебя упекут в тюрьму». Но я не стала этого делать, а Сашу проверяли на детекторе лжи в ФБР. Он с готовностью прошел эту проверку».
В ФБР дело Орлова передали Куртленду Джонсу. Высокого роста, с мягким говором жителя штата Вирджиния, из Линчбурга, он пришел в ФБР в 1940 году по окончании юридического колледжа. Осенью 1964 года, когда Джонс получил это дело, он был начальником контрразведки Вашингтонского отделения ФБР.
«Дело Орлова получило название „Неизвестный Саша“»[188],— сообщил Джонс. ФБР завело досье в начале 1962 года, сразу после приезда Голицына. Каждого подозреваемого в том, что он является «Сашей», начиная с Питера Карлоу, заносили в это досье. «В деле находилось пять или шесть серьезных кандидатов, каждый из которых мог оказаться Сашей, — сказал Джонс, — и, вероятно, еще несколько имен, взятых в связи с этим в проверку».
Независимо от результатов проверки Орлова на полиграфе агенты ФБР очень плотно работали с ним.
Допросы в вашингтонском отделении продолжались. Галерея находилась под постоянным наблюдением. «Он был доведен до отчаяния», — сообщила Элеонора Орлова, объясняя, что случилось дальше.
Здание «Вашингтон пост» примыкало с тыльной стороны к советскому посольству, и однажды в апреле Орлов, который все еще работал водителем грузовика в редакции, проскользнул в посольство через черный ход. «Днем он вернулся домой, — вспоминала Элеонора Орлова, — и сообщил: «Я был в советском посольстве и попросил адрес матери. Я обратился также с просьбой о помощи моей матери, так как ФБР заявило, что ей придется очень плохо, если я не признаюсь, что являюсь двойным агентом. А я даже не знаю, жива ли она»».
По словам Элеоноры, вначале показалось, что цель Орлова при посещении посольства состояла в том, чтобы выяснить, жива ли его мать или уже умерла и находится вне досягаемости ФБР. Но он сразу пояснил, что задумал гораздо большее. Он планировал их побег. «Он так боялся, что нас обоих арестуют. Кто позаботится о детях? Мы жили на 60 долларов в неделю». Муж признался, по словам Элеоноры, что обратился к советским представителям с просьбой о предоставлении политического убежища для себя, жены и двух сыновей. «Посольство дало согласие», — сообщил он.
В советском посольстве ему сказали, чтобы после окончания уроков в школе он подъехал к месту автомобильной стоянки торгового центра в Арландрии (часть Александрии), но не на своей машине, а в такси. Перед кегельбаном будет ждать автомобиль. «Он заберет вас с женой и детьми». По ее словам, Орлов приказал ей на следующий день привезти детей в такси на автомобильную стоянку; было только неясно, будет ли он там тоже.
Элеонора Орлова не горела желанием бежать в Советский Союз. «Я была как безумная, — вспоминает она. — Я пригласила своего пастора. Он пришел, опустился на колени и молился вместе со мной. Он сказал: «Не уезжай к русским, не делай этого». Я позвала подругу и спросила ее, что если со мной что-то случится, возьмет ли она на себя заботу о моих детях? Я подумала, что передо мной два пути: броситься с моста Вильсона или ехать к автомобильной стоянке. Мне разрешили взять с собой только мое водительское удостоверение и ключи от машины».
На следующий день Элеонора отвезла мужа в Вашингтон на очередной допрос в ФБР, затем вернулась домой. «Я спустилась, в цоколь и обнаружила, что у одной из моих кошек родилось четыре котенка. И это решило все. Я не смогла покинуть дом. Просто не смогла. Итак, я осталась. Я знала, что в пять часов мой муж вернется домой с допроса. Я просто сидела и ждала. Он пришел и сказал: «В чем дело? Мне разрешили уехать. Передо мной извинились и сказали, что я могу уехать с женой. Назавтра мы свободны. Но ты меня не послушалась». Он очень разозлился. Он даже подумал, что я работаю на ФБР. Это был серьезный довод. Очень серьезный».
В ФБР его спросили, где он был накануне.
— В советском посольстве.
— Да, мы знаем.
— Я пытался выяснить адрес своей матери.
«Если бы мой муж был русским шпионом, ему бы не
пришлось идти в посольство. Он бы нашел более безопасный способ связаться с ними. Может, он брал их (ФБР) на пушку, но это слишком опасная игра».
Но если Орлов надеялся, что все невзгоды позади, он ошибался. Для охотников за «кротами» в Лэнгли посещение Орловым советского посольства стало окончательными доказательством его шпионской деятельности в пользу Советского Союза. Для его жены это был акт отчаявшегося человека, который, опасаясь ареста, надеялся защитить свою семью.
Убежденный в том, что «Саша» «загнан в нору», Джеймс Энглтон постоянно интересовался в ФБР, как идет расследование. «Джим все время держал его под контролем, — сказал Джеймс Нолан-младший, бывший контрразведчик ФБР. — Постоянно спрашивал: «Вы «раскрутили» дело Орлова? Что нового по Орлову?» Энглтон использовал это дело, чтобы держать ФБР в постоянном напряжении. — Если ему ни к чему было придраться, он донимал нас расспросами об Орлове», — говорил Нолан.
Нажим со стороны ЦРУ не ослабевал. Под началом Куртленда Джонса агенты ФБР держали семью Орловых под наблюдением многие годы.
Как-то неожиданно, после последнего допроса Орлова, целая вереница новых клиентов стала посещать его галерею. Некоторые из них открыто представлялись агентами ФБР. Их действиями руководил Джозеф Первес, специальный агент вашингтонского отделения ФБР. «Первес пришел заказать рамку для фотографии, на которой Гувер пожимал руку какому-то парню на фоне флага и герба, — вспоминала Элеонора. — Потому пришел мистер Джонс, потом несколько агентов ФБР»[189].
«Джонс приезжал каждый год, привозил нам полную корзину яблок. Довольно долго он присылал нам поздравительные рождественские открытки.
У Первеса был серый карликовый пудель, он держал его на руках. Кошка частенько пыталась напасть на пуделя, защищая свою территорию. Однажды мы изготовили для мистера Первеса раму для портрета его жены. Мы вставили в рамы несколько фотографий Гувера, обменивающегося рукопожатиями с агентами».
Возможно, одним из наиболее необычных побочных продуктов всего периода охоты на «кротов» явилось огромное количество фотографий Дж. Эдгара Гувера, директора ФБР и символа ярого антикоммунизма в Америке в течение десятилетий, вставленных в рамы для ФБР человеком, которого Гувер и Энглтон подозревали как советского шпиона, легендарного «Сашу».
Еще один агент ФБР, Фред Танси, стал особенно частым посетителем и подружился с семьей Орловых. «Он принес нам две двери и украшение для перил, очень красивые вещи, которые он приобрел для дома. Он всегда находил какой-нибудь предлог, чтобы навестить нас»[190].
Агенты ФБР появлялись не только для того, чтобы наблюдать за галереей и Игорем Орловым, но и чтобы оценить реальный масштаб бизнеса, которым занималась семья. Джеймс Нолан, который стал человеком № 2 в разведывательном отделе ФБР, подтвердил мотивы бюро.
«В течение короткого периода я вел дело Орлова, — сказал он. — Я получал все квитанции (сотрудников ФБР, которые заказывали рамки для фотографий в галерее). Вот почему агенты находились там постоянно — чтобы наблюдать, сколько у них работы, и не была ли эта мастерская подставной».
Весной 1966 года, спустя год после обыска ФБР галереи Орлова, дело приняло новый потрясающий оборот. Советский офицер КГБ, проходивший под кличкой «Китти Хок», вышел на контакт с ЦРУ и предложил, среди прочих товаров, свежую информацию об Орлове.
Дело «Китти Хок» было и остается одним из самых противоречивых советских дел за весь период.
Игорь Петрович Кочнов, который и был «Китти Хок», приехал в Вашингтон в конце марта 1966 года в короткую командировку в качестве советского дипломата[191]. Примерно через неделю он позвонил домой заместителю директора ЦРУ Ричарду Хелмсу, проживавшему на северо-западе Вашингтона. Хелмса не оказалось дома, и Кочнов переговорил с тогдашней женой Хелмса Джулией, наследницей состояния компании «Барбасол», занимающейся производством крема для бритья. Кочнов сказал, что у него имеется информация, представляющая интерес для ЦРУ[192].
Когда сотрудники ЦРУ встретились с Кочновым после его телефонного звонка, он сделал предложение, которое, не первый взгляд, казалось возмутительным. Его отправили в Соединенные Штаты, сказал он, чтобы попытаться найти Николая Шадрина, советского перебежчика, подлинное имя которого было Николай Федорович Артамонов, и установить с ним контакт. В 1959 году Артамонов, самый молодой командир эсминца на советском военно-морском флоте, переплыл через Балтийское море в Швецию на маленькой лодке со своей польской подругой Евой Горой, которая теперь стала его женой[193]. Если ЦРУ поможет ему выполнить это задание, сказал Кочнов, его карьера в КГБ стремительно рванет ввысь и он будет для ЦРУ уже внедренным агентом. Поскольку ЦРУ охраняет перебежчиков, часто — как и в данном случае — изменяя их имена, просьба Кочнова была дерзкой, если не сказать хуже.
Но ЦРУ и ФБР согласились на эту операцию. Куртленд Джонс обговорил ее с Элбертом Тэрнером («Бертом»), который был назначен ведущим оперработником Кочнова от ФБР. Совместно с ЦРУ было принято решение свести Кочнова с Артамоновым и посмотреть, куда это приведет. «Мы включили его в игру и стали предо* ставлять соответствующий материал, — сказал Джонс. — Мы с Тэрнером чувствовали, что это необходимо сделать, а что нам было терять? Я собирался в отпуск в Аутер-Бэнкс. Билл Брэниган, начальник отдела, вызвал нас, и один из нас сказал: «Как мы назовем эту операцию?» Билл и я проводили отпуск в Аутер-Бэнкс. Я сказал: «Билл, я еду завтра в Китти Хок. Не назвать ли нам ее «Китти Хок»?» Он ответил: «Почему бы нет?»
«Китти Хок», по сведениям нескольких бывших агентов ФБР, сообщил американской разведке, что Орлов работает на русских. Сотрудник КГБ, по словам Куртленда Джонса, также сообщил ФБР, что Орлов посещал советское посольство в 1965 году. По словам другого бывшего сотрудника ФБР, имевшего отношение к этому делу, «Китти Хок» сказал, что когда Орлов явился в посольство, он рассказал там, что в настоящее время сотрудники ФБР допрашивают его, и попросил таблетки, чтобы покончить с собой, на тот случай, если они понадобятся. А когда мы спросили об этом Орлова, он ответил, что обращался в посольство справиться о своих родственниках.
Операция «Китти Хок» кончилась катастрофой. Кочнов установил контакт с Шадриным, который в то время работал в РУМО. Под контролем ФБР Шадрин сделал вид, что изменил убеждения, и передавал Кочнову информацию, подготовленную американской разведкой. Через несколько месяцев Кочнов объявил, что вынужден вернуться в Советский Союз, но он передал Шадрина другим ведущим из КГБ. Шадрин встречался с русскими несколько лет, один раз в Вене[194]. Затем в декабре 1975 года он снова отправился в Вену в сопровождении Брюса Соли, сотрудника управления безопасности ЦРУ, и Синтии Хаусманн, сотрудницы контрразведки. Вечером 20 декабря Шадрин назначил встречу с советским агентом на ступенях Фотифкирхе на Рузвельтплац, недалеко от американского посольства. Больше его не видели[195].
Десятилетие спустя советский перебежчик Виталий Юрченко поведал окончание этой истории. Прежде чем снова перебежать в Советский Союз, Юрченко сообщил ЦРУ, что сотрудники КГБ в Вене похитили Шадрина. Поскольку он оказывал сопротивление, сидя на заднем сиденье автомобиля, вывозившего его из Австрии, сказал Юрченко, сотрудники КГБ дали ему слишком большую дозу хлороформа, и он умер.
В 1978 году Орловы поселились на Кингстрит, в старой части Александрии, туда же они перевели свою галерею. Периодическое наблюдение ФБР продолжалось 15 лет, но не дало никаких результатов.
«Мы не могли установить, что Орлов — это «Саша», — сказал Джонс. — Орлов отрицал, что он «Саша», и все. Что мы могли сделать?»
ФБР, однако, продолжало заниматься этим делом не столько из-за нажима со стороны ЦРУ, сколько из опасения, что Орлов, даже если он больше не является активным советским шпионом, может оказаться законсервированным агентом, который начнет действовать в неизвестный момент в будущем. «В любом таком расследовании, — сказал Джонс, — мы смотрели, не является ли он законсервированным агентом, как с ним войдут в контакт: по почте, телефону или радио».
Хотя Энглтон, Майлер и многие другие сотрудники ЦРУ по-прежнему были убеждены, что Орлов — советский агент, это мнение разделяли не все даже в стенах ЦРУ. Высокопоставленный бывший сотрудник ЦРУ, знакомый с этим делом, пришел к такому выводу: «Мы не думали, что Орлов когда-либо находился под контролем КГБ. Мое общее впечатление состоит в том, что у нас фактически никогда не было обвинений против Орлова. Масса подозрений, но никаких обвинений».
2 мая 1982 года в возрасте 60 лет Игорь (Грегори) Орлов скончался от рака в своей квартире над галереей. «За два дня до смерти, — сказала его жена, — один из наших бывших клиентов, священник, пришел и спросил: «Могу я помолиться за вас?» Игорь сказал, что в этом нет необходимости, но если вы считаете, что это хорошо, можете сказать несколько слов. Священник сказал: «Жизнь — словно река; мы — люди на берегу, заходим в реку и немного плывем по ней, затем возвращаемся на берег». Игорь сказал: «Да, вы правы. Но я действительно хотел бы, чтобы мой прах покоился в России, а не в Америке». Затем он повернулся ко мне и сказал: «Кремируй меня и отнеси мой прах в советское посольство, они знают, что делать». Я посмотрела на священника. Он сказал: «Госпожа Орлова, это вполне естественно. Все мои друзья с Востока, когда приходит время умирать, хотят, чтобы их похоронили на родине».
Сыновья были с Сашей всю ночь. Он впал в кому и умер в воскресенье утром. Мистер Танси распорядился насчет похорон. Никакой службы не было, когда он умер. В понедельник его кремировали».
Элеонора Орлова не выполнила распоряжения своего мужа. «Его прах наверху, на камине, — сказала она. — В урне, украшенной российским орлом».
Несмотря на последнее желание Орлова и его давнюю просьбу о предоставлении убежища в Советском Союзе, после 34 лет совместной жизни Элеонора Орлова сказала, что ее муж никогда не выражал симпатии к советской системе и ничем не намекнул на то, что он мог работать на русских. Скорее наоборот, настаивала она. «Он очень осторожно относился к лицам русского происхождения. Он никогда не пускал никого в дом. Он боялся, что русские его отравят».
В Берлине, сказала она, «мы до смерти боялись русских. Он опасался, что они убьют его. Сначала из-за Власова, а потом из-за того, что он работал на американцев. В Западном Берлине его пытался отравить грибами доктор из Восточной Германии. Недостаточно, чтобы умертвить его, но, может быть, они планировали перевезти его через границу к русским. Это было время похищения людей в обеих частях Берлина».
Почему она никогда не настаивала на том, чтобы ее муж рассказал свою подлинную биографию, например назвал имя, полученное при рождении? Элеонора Орлова улыбнулась и сказала: «Вы знаете легенду о Лоэнгрине. Вам известно, что случилось с Эльзой»[196]. Однажды она спросила о татуировке в виде цветка на его левой руке. «Не твое дело», — сказал он.
Верила ли Элеонора Орлова, что ее муж — советский шпион? Не верила, сказала она, и не хотела верить. «Где-то в глубине души я сомневаюсь. Я просила ФБР разрешить мне поговорить с Голицыным. Они рассмеялись мне в лицо. „Не может быть и речи“. Мне хотелось знать, откуда ему известно о „Саше“ и букве „К“».
Даже само предположение о том, что ее муж был шпионом, глубоко ранит ее, сказала она. «В течение семи лет он развозил на грузовике газету «Вашингтон пост» в два часа ночи, а днем работал в галерее. Он работал с 2 до 9 часов утра, и каждый понедельник в течение всего дня ему приходилось собирать плату с аптек и киосков, торгующих газетой». Если бы Саша Орлов имел деньги от своей шпионской деятельности, спросила она, стал бы он этим заниматься?
Нет, она не могла поверить, что он был шпионом. «Я не верю, что это так. Нет ни малейшего доказательства. Если это так, — в ее глазах показались слезы, — это было бы низостью. Не могу поверить, что человек лгал своей семье в течение 30 лет, и не помог нам в нашей борьбе. Дом, который мы купили, был в ужасном состоянии. Я год отдирала штукатурку. Я работала как в ГУЛАГе. Если он допустил это, если он действительно был шпион…» Ее голос сорвался.
Она успокоилась. «Если Игорь всю свою жизнь работал на русских и воспользовался семьей для прикрытия, я никогда больше не засну ночью, — сказала она. — В конце «Великолепного шпиона» Джона Ле Карре, герой пишет своей жене: «Прости, я женился на тебе только для прикрытия». Я видела последнюю серию по телевизору у своих друзей. Она обрушилась на меня как гора кирпичей. Я сказала: о Боже, это могла быть я».
ГЛАВА 14
Тринидад
Как первый начальник московской резидентуры Пол Гарблер имел все основания считать, что штаб-квартира удовлетворена его работой. Он руководил контактами с Пеньковским, согласно инструкциям, ухитрялся держаться в тени, и у него хватило сообразительности скопировать бумаги Черепанова, прежде чем они были любезно возвращены в КГБ.
Где-то в середине срока его командировки ему сообщили, что он получил повышение. Гарблер и его жена Флоренс отпраздновали это событие с шампанским и икрой.
В феврале 1964 года, уже к концу своего пребывания в Советском Союзе, Гарблер вылетел из Москвы для встречи с Дэвидом Мэрфи, начальником советского отдела, совершавшим поездку по Западной Европе. Мэрфи предложил ему высокую должность заместителя начальника этого отдела в ЦРУ. Но временно рекомендовал поработать в качестве руководителя по операциям. Гарблер сразу принял это предложение.
В начале марта он взял отпуск на несколько дней и отправился покататься на лыжах в Цюрс, в Австрию. Хотя он был опытным лыжником, но на спуске потерял равновесие, упал, ударился головой, отчего начал страдать головными болями и получил частичный левосторонний паралич руки и ноги. Его поместили в больницу в Висбадене (Западная Германия).
В больнице его навестил Хью Монтгомери, который был его заместителем в Москве и которого за год до этого выдворили из страны после провала Пеньковского. «Монтгомери приезжал не для того, чтобы пожелать мне выздоровления, — сказал Гарблер. — Ничего подобного. Думаю, что Хью появился для того, чтобы посмотреть, насколько я нормален после того, как приземлился на собственную голову. Он сказал, что Дэйв Мэрфи не хочет, чтобы я возвращался в Москву, и почему бы мне не вернуться домой. Я ответил, что пришел на работу в Москве ногами и собираюсь так же уйти оттуда, а не на носилках». Гарблер вскоре выздоровел и вернулся к своей работе в Москве.
В июне он улетел в Лэнгли, чтобы занять пост руководителя операций в советском отделе. Но у него еще долго оставались подозрения относительно случившегося. «Я был в отличной форме, играл в посольской хоккейной команде и думаю, что кто-то мне это подстроил». Гарблер подумал, уж не является ли этот кто-то генералом Грибановым, начальником Второго главного управления КГБ, который отвечал за слежку и компрометацию американских дипломатов, аккредитованных в Москве.
«Я знал, что Грибанов в поездке», — сказал Гарблер. — Я тщательно проверил все его передвижения. Мы обнаружили, что он приезжал в Австрию, в Инсбрук и Сент-Антон, менее чем за три недели до моей поездки в Цюрс». ЦРУ не смогло установить, что генерал КГБ делал в Австрии. Здесь след обрывался. А у Гарблера не было никакого подтверждения, что ему что-то подсыпали.
Кроме того, у него были другие проблемы. Почти с самого начала после возвращения в штаб-квартиру дела на службе не пошли успешно. Гарблер нелегко входил в роль обычного бюрократа. Он столкнулся с Питером Бэгли, офицером контрразведки отдела. Как бывший начальник резидентуры в Москве Гарблер без колебаний выражал вслух свое мнение. Однажды поздно вечером возник конфликт с другим сотрудником советского отдела по поводу составлявшейся телеграммы, призванной оповестить около тридцати резидентур ЦРУ по всему земному шару. В телеграмме говорилось, что КГБ обратился с предложением к ЦРУ совместно работать против китайцев. Гарблер поставил под сомнение точность телеграммы и запросил подтверждение. Сотрудник, который готовил ее, заявил, что «самые лучшие отчеты пришли от «Роки» Стоуна из Катманду». Он передал Гарбле-ру расшифровку записанного разговора между Говардом «Роки» Стоуном, начальником резидентуры в Непале, и резидентом КГБ.
«Читаю расшифровку. Сотрудник — КГБ говорит: «Ваше шотландское виски великолепно и лучшее из них — «Чивас ригал». Сотрудник ЦРУ: «Закуска потрясающая, как насчет того, чтобы работать с нами против китайцев?» Советский представитель уклонился от ответа. Я был потрясен. Все было настолько очевидно».
Гарблер обратился к офицеру: «И это то лучшее, что у вас есть?» Он ответил утвердительно. «Но это же ужасно. Это все настолько несущественно». Он сказал: «Вас здесь давно не было. Это то, что хочет Дэйв. И не устраивайте шума».
«На следующий день я сказал Мэрфи: «Вы действительно хотите разослать это?» Мэрфи ответил: «Я, вероятно, сделал ошибку, вы не годитесь для моей команды».
Я остался не у дел. Пит Бэгли напролом шел к посту заместителя начальника, а мне была нужна работа». Пришло время, и Бэгли действительно стал заместителем начальника советского отдела.
Гарблеру казалось, что было «что-то странное» в том, как быстро он потерял расположение в советском отделе, но он отнес это за счет обыкновенных бюрократических интриг. Да и, в конце концов, с помощью Мэрфи он быстро получил другое назначение. «Надо отдать должное Дэйву, он устроил меня на хорошую должность начальника внешней разведки западноевропейского отдела». В 1965 году, когда Гарблер работал в новой должности уже несколько месяцев, в директорате по планированию произошла серьезная реогранизация. Отделы Центральной и Западной Европы были объединены в новый европейский отдел, который возглавил Рольф Кингсли, старший офицер, возглавлявший резидентуры в Копенгагене и Оттаве.
В начале 1966 года Кингсли назначил Гарблера руководителем по операциям в новом отделе. Он послал сообщение о назначении Десмонду Фитцджеральду, заместителю директора по планированию. Спустя две недели, по словам Гарблера, Кингсли вызвал его к себе в кабинет и, расточая улыбки, показал ему докладную записку, которую он послал заместителю директора по планированию. Она вернулась с резолюцией Фитцджеральда, написанной карандашом на полях: «Отличный выбор, согласен».
Для Гарблера это была престижная новая должность в центре европейских операций ЦРУ. Печальный опыт работы в советском отделе остался позади, и он приступил к своим новым обязанностям. Спустя три недели, в пятницу вечером, взволнованный Кингсли вызвал Гарблера к себе в кабинет. «Он сказал мне, что Том К. хочет немедленно видеть меня». Томас Карамессинес был заместителем Фитцджеральда.
Было уже поздно, и Гарблер вспоминал, как его шаги эхом разносились в почти пустом здании, когда он направлялся в кабинет к Карамессинесу. Что понадобилось Тому К.?
Карамессинес, небольшого роста коренастый человек в черных роговых очках, выглядел смущенным. Но он быстро перешел к делу. Они с Фитцджеральдом обсуждали этот вопрос почти всю вторую половину дня и пришли к решению. ЦРУ имело новое назначение для Гарблера. Карамессинес сказал: «Мы направляем вас на «Ферму»».
«Ферма»! Гарблер был ошеломлен, с таким же успехом Карамессинес мог назвать Сибирь.
Непонятно: ведь заместитель директора по планированию только что утвердил его в должности руководителя по оперативной деятельности в Европе.
«Нам нужен человек с вашим оперативным опытом для подготовки стажеров, — спокойно ответил Карамессинес. — И нам повезло, что у нас есть вы».
Гарблер только и смог спросить, когда ему надо быть на «Ферме».
«В течение недели», — ответил Карамессинес.
Гарблер годы спустя помнил, какая ярость охватила его в тот момент. «Я спрашивал себя, что же, черт побери, происходит? А как быть с моей семьей? Мы купили дом, полагая, что будем жить в районе Вашингтона по крайней мере три года. Моя жена уже строила планы его обустройства. Дочь только что определили в школу. Что я скажу им?»
Гарблер, наверное, еще час пытался убедить Карамес-синеса. Его просьба встретиться с Фитцджеральдом или директором ЦРУ была отклонена. Карамессинес в заключение сказал ему, что он может отказаться от назначения только в том случае, если уйдет в отставку.
После 15 лет службы в ЦРУ карьерные соображения еще имели для Гарблера слишком большое значение, чтобы просто уйти. Подчиняясь распоряжению, но в полном замешательстве он отправился в Вильямсбург, где провел два года в качестве заместителя начальника «Фермы», работая со стажерами. И все это время он ожидал сообщения из штаб-квартиры ЦРУ, что произошла ужасная ошибка.
Другие сотрудники ЦРУ в Кэмп-Пири быстро уяснили, что с Гарблером происходит что-то непонятное, и стали сторониться его во избежание неприятностей. «Такое складывалось впечатление, что я подхватил проказу», — вспоминал Гарблер.
Два года спустя Гарблер снова оказался в кабинете Карамессинеса, который к тому времени стал заместителем директора по планированию. Шеф тайных операций был оживлен; он уже обсудил назначение Гарблера с Ричардом Хелмсом, который стал директором ЦРУ. Гарблеру наверняка понравится его новая работа.
«Великолепно», — отреагировал Гарблер. С его опытом работы в качестве начальника резидентуры в Москве его, вероятно, выбрали на должность резидента в одном из основных стран восточного блока. Или, вероятно, снова открылась руководящая должность в советском отделе. «Мы направляем вас в Порт-оф-Спейн на Тринидад», — сообщил Карамессинес.
Гарблер был ошеломлен.
А Карамессинес, подобно агенту туристского бюро, продающему билет на «Титаник», оживленно расхваливал преимущества нового поста. Ситуация в Карибском регионе сложилась «очень сложная». И Дик Хелмс крайне этим озабочен. ЦРУ необходим надежный, опытный человек, чтобы возглавить резидентуру на Тринидаде.
Гарблер был настроен очень скептически. «Не могу в это поверить», — сказал он. Несколько лет назад он посещал остров на авианосце и знал, что основным занятием островитян был ежегодный карнавал. «Я годами трудился, чтобы приобрести опыт работы против СССР. Чем я буду заниматься на Тринидаде?»
Возмущенный подобным предложением Гарблер возражал против этого решения, приводя всевозможные аргументы и требуя сообщить ему истинную причину его ссылки. Карамессинес, в свою очередь, ограничивался только успокаивающими ответами. Гарблер назначается в один из самых важных центров ЦРУ в Карибском регионе. Это желание Хелмса, чтобы он там работал. И опять Карамессинес напомнил Гарблеру, что он всегда может подать в отставку, если не хочет принимать это назначение.
Теперь Гарблер был уверен, что против него плетется заговор в Управлении, хотя об истинных причинах не догадывался. От Карамессинеса он отправился прямо в кабинет Говарда Осборна, главы управления безопасности. Осборн, старый друг Гарблера, сказал, что знает о назначении. Шеф безопасности, по словам Гарблера, признал, что направление его на Тринидад в какой-то степени напоминает ситуацию, как если бы «Дика Хелмса назначили руководить крематорием». Он смеялся, обменивался шутками с Гарблером, но не пролил света на то, что же происходило на самом деле.
В возрасте 50 лет Пол Гарблер, бывший пилот пикирующего бомбардировщика, оперативный работник в Берлине в разгар «холодной войны», первый шеф резидентуры ЦРУ в Москве, усмирил свою гордость и отправился на Тринидад на четыре года.
Где-то в середине своего пребывания там Гарблер наконец узнал правду. Сотрудник директората по планированию, его старый и верный товарищ, прибыл на Тринидад по служебным делам и остановился в доме Гарблера. После обеда хозяин пригласил коллегу в кабинет, который был проверен на наличие электронных «жучков» несколько дней назад техниками ЦРУ. И тем не менее Гарблер включил стереомузыку. После нескольких рюмок коньяка гость отбросил конспирацию и признался во всем своему старому другу.
Штаб-квартира хотела удалить Гарблера, потому что он подозревался в шпионаже в пользу Советского Союза. Его считали советским «кротом» внутри ЦРУ. Его отправили на Тринидад, чтобы отрезать ему доступ к секретным операциям и документации, касающимся Советского Союза.
Во время второй мировой войны был момент, который Гарблер часто вспоминал. Он летел на задание на своем военно-морском «хеллдайвере» в ужасную погоду на занятый японцами отдаленный тихоокеанский остров Чичи. Командир эскадрильи Грэфтон Кэмпбэлл по прозвищу «Плакса» с трудом прокладывал курс в густом облачном покрове. Самолеты шли на минимуме горючего, и если не нанести удара в самое ближайшее время, то они не смогут вернуться на корабль. Неожиданно в облаках появился просвет, и Гарблер вместе с другими пилотами разом выкрикнул по радио: «Давай, Плакса, пикируй!»
И сейчас, почти тридцать лет спустя, когда приемник извергал звуки карнавальной музыки Тринидада, облака снова расступились для Гарблера. Наконец он все понял.
В то время Гарблер был не в курсе, что внутри ЦРУ велась активная охота за проникновениями в его структуры. Не знал он и того, как или почему Управление решило сосредоточиться на нем как на основном подозреваемом.
Ключ к этому, конечно, находился у Игоря Орлова, которого Гарблер называл «Малыш», когда работал с ним в Берлине почти двадцать лет назад. Но как охотники за «кротом» вышли от Орлова на Гарблера?
В конце концов, его имя не начиналось с буквы К. Эд Петти, бывший сотрудник группы специальных расследований, объяснил ему, что произошло.
В группе, по его словам, существовало общее мнение, что Орлов — это названный Голицыным агент «Саша». Брюс Соли пришел к такому выводу после того, как изучил берлинские оперативные досье. «Но существовала одна проблема. И они отправились к Голицыну. «Вы говорили, что это кадровое внедрение, — сказали они. — Но этот парень (Орлов) никогда не был кадровым сотрудником». Голицын предложил такую версию: «Русские ведут Орлова и делают его агентов агентами-двойниками, а их настоящая цель — ваши кадровые сотрудники. Можете быть уверены, что среди тех, кто работает с Орловым, вы найдете одного или более серьезных агентов проникновения. Русские, вероятно, сделали подход к этим людям и заявили им: «Мы контролируем вашу сеть, вам лучше сотрудничать с нами, в противном случае с вашей карьерой будет покончено». Я никогда не мог понять, из какой логики исходили Энглтон и другие[197].
Больше дюжины сотрудников разведки имели отношение к Орлову, и все они попали под подозрение. Все они прошли тщательную проверку».
«Скотти» Майлер, бывший заместитель Энглтона и один из основных участников группы специальных расследований, отстаивал решение расширить рамки расследования. «Вы должны предположить, что если Игорь Орлов был шпионом, он, в свою очередь, мог вербовать людей, с которыми общался, — сказал Майлер. — С точки зрения контрразведки приходится допускать, что один шпион может завербовать другого».
Проверке подверглись не только те сотрудники разведки, которые работали с Орловым, продолжал он, но также и все другие работники Управления, которые могли его знать или каким-то образом общаться с ним.
Но Майлер настаивал на том, что охота на «кротов» не являлась исключительной прерогативой группы специальных расследований. Другие также сыграли свою роль в этом. «Контрразведка, — сказал он, — не проводила расследований. Мы вели поиск, а управление безопасности занималось этим, только если такое расследование могло стать интересной операцией. Управление безопасности, директор Центральной разведки, шеф контрразведки, заместитель директора по планированию знали об этом. Почти в каждом случае обращение к ФБР на это давал разрешение директор Центральной разведки.
Именно через Орлова, чьи прежние оперативные имена начинались с буквы «К», охотникам за «кротом» удалось немного продвинуться в направлении первого шефа московской резидентуры. Подобно электрическому току, который образует дугу между электродами, охотники за «кротами» двигались от Орлова, который, по их убеждению, был «Сашей», к каждому оперативному работнику, секретарю, другому служащему ЦРУ, который когда-нибудь имел любой контакт с ним.
Когда группа специальных расследований занялась Гарблером, контрразведчики покопались в его досье и обнаружили дополнительную информацию, давшую пищу для подозрений. В Корее, например, где Гарблер служил помощником военно-морского атташе и пилотом президента Ли, охотники за «кротом» с торжеством обнаружили, что он играл в теннис с Джорджем Блейком. Блейк, который был захвачен в плен и содержался в тюрьме в тяжелейших условиях, когда Северная Корея захватила Сеул, впоследствии был разоблачен как советский агент МИ-6.
Так как «данные» свидетельствовали против Гарблера, включая тот факт, что его отец эмигрировал из России, а мать из Польши, отдел центральной разведки пришел к убеждению, что бывший глава московской резидентуры является советским шпионом. ЦРУ направило дело Гарблера в ФБР.
В Тринидаде Гарблер, узнавший, что он подозреваемый советский «крот», мало что мог предпринять на месте, ему оставалось только дослужить оставшийся срок командировки. Привязанный к Порт-оф-Спейну, более чем в двух тысячах миль от штаб-квартиры, он не мог даже попытаться восстановить свое доброе имя.
Ему оставалось только сидеть и предаваться размышлениям, это было время отчаяния. Хотя теперь он знал, почему его направили в Карибскиь регион, он пытался наилучшим образом использовать этот факт. Тринидад был все-таки островным раем. Ром и солнце — в изобилии. Гарблеру нравились жители острова; он находил их жизнелюбивыми и непредсказуемыми, великодушными и добрыми. Среди них он обрел много друзей, как среди черных, так и среди белых.
Но сейчас он осознал, что лучшую часть из девяти лет он был поставлен в безвыходное положение, отрезан от основной жизни ЦРУ и, наконец, изолирован под кокосовыми пальмами; он подозревался в предательстве страны, которую так любил и которой служил всю сознательную жизнь.
Гарблер восстановил в памяти последние шесть лет, переоценивая события в свете того, что он теперь знал. То, что могло казаться бюрократическими ошибками или невинными событиями, сейчас приобретало новое значение. Это походило на повторный просмотр фильма, когда уже знаешь сюжет.
Он вернулся мысленно к Москве. Неужели подозрения ЦРУ, о которых его официально пока не уведомили, возникли еще там? В Москве руководство почти ничего не сообщило Гарблеру о разработке своего самого важного агента, Олега Пеньковского. Если он уже был под подозрением, то штаб-квартира старалась бы сообщать ему как можно меньше.
Он припоминал, как его заместитель по работе в Москве Хью Монтгомери пришел навестить его в больницу в Висбадене после несчастного случая в горах. В то время он подумал, что Монтгомери прислал
Дэвид Мэрфи, начальник отдела, чтобы «через него выяснить, достаточно ли у меня осталось мозгов, чтобы вернуться в Москву и продолжить руководство резиден-турой». Но сейчас, в ретроспективе, Гарблер подумал, а не являлось ли истинной целью визита Монтгомери посмотреть, «не ношу ли я деньги КГБ в карманах моей пижамы».
Было решено тогда, что Гарблер возвращается на свой пост в Москву. «Работнички штаб-квартиры, наверное, подумали, что мое желание вернуться связано с необходимостью увидеться еще раз с моим руководителем из КГБ для получения инструкций о будущих контактах в США. А Мэрфи мог заключить, исходя из моего положения, что я должен был вернуться, чтобы успокоить людей, контролировавших меня с другой стороны».
В 1972 году, по окончании командировки на Тринидад, Гарблер вернулся в штаб-квартиру ЦРУ и сразу же условился о встрече с генеральным инспектором Уильямом Бро. Гарблер знал, что жалоба генеральному инспектору вызовет недовольство Карамессинеса, заместителя директора по планированию, но ему уже нечего было терять.
Гарблер поведал свою историю Бро, которую тот, без сомнения, уже знал. Он достиг высокого положения в директорате по планированию в возрасте 45 лет и вполне мог рассчитывать на работу в последующие пятнадцать лет на ответственном посту. А вместо этого его перевели на запасной путь — он стал жертвой тех тайных обвинений, о которых ему никогда не сообщали официально. Гарблер хотел знать, почему ему не сообщили о том, что он находится под подозрением.
Бро не ответил, но обещал поговорить с Карамесси-несом, который впоследствии написал докладную записку, где отмечалась его прекрасная работа на Тринидаде и ни слова не говорилось непосредственно об обвинении. Но протесты Гарблера все-таки дали некоторые результаты: после девяти лет невысокого положения в ЦРУ он был частично реабилитирован и в 1973 году направлен в качестве резидента в Стокгольм.
Знание того факта, что собственная служба подозревала его в шпионаже в пользу Советского Союза, держало в ужасном напряжении не только самого Гарблера, но и его жену Флоренс, и дочь. Как-то, когда борьба
Гарблера за восстановление своей репутации была в самом разгаре, однажды ночью жена разбудила его и спросила:
— Поль, я никогда не спрашивала тебя об этом и знаю, что это неправда. Но сейчас хочу услышать это от тебя. Ты когда-нибудь шпионил на русских?
— Боже, ты же знаешь, что нет, — ответил Гарблер.
И все-таки Гарблера так официално и не уведомили, что он подозревался как агент проникновения. Ему так и не предоставили возможности лично встретиться со своими безликими обвинителями. Швеция была хорошим назначением, но Гарблер не хотел сдаваться. В декабре 1976 года после возвращения из Стокгольма он снова написал генеральному инспектору.
На этот раз он требовал расследования.
ГЛАВА 15
Закон Мэрфи
К середине 60-х годов советский отдел ЦРУ пребывал в смятении. Укомплектованный на тот момент большим количеством сотрудников, говорящих по-русски и русского происхождения, он оказался мишенью номер один в охоте на «кротов», начавшейся с подачи Голицына.
Под подозрение попали буквально десятки сотрудников, по многим делам активно работала группа специальных расследований при управлении безопасности, а в некоторых случаях — и ФБР. Юрия Носенко — бомбу с часовым механизмом — содержали в изоляции на «Ферме». Первого шефа московской резидентуры Пола Гарблера, и не догадывавшегося о том, что его подозревают, сослали на Тринидад. Расследовались также дела всех других оперативников, работавших с Игорем Орловым.
Поскольку Голицын предсказывал, что все перебежчики после него будут внедренными агентами, то фактически все дела, которые вел отдел, рассматривались контрразведкой как плохие. Предполагалось, что советский отдел должен вербовать сотрудников советской разведки по всему миру, но какой же был смысл в этом, если должностные лица могущественной контрразведки в штаб-квартире усматривали в каждом вновь завербованном или добровольном информаторе агента, засланного КГБ?
В результате появились все основания прекратить операции ЦРУ по Советскому Союзу. В то время, в разгар «холодной войны», ЦРУ существовало в первую очередь для сбора разведывательной информации по Советскому Союзу; остальные объекты являлись второстепенными. Теперь же охота на «кротов» парализовала весь советский отдел и, следовательно, само ЦРУ.
И хотя некоторые должностные лица Управления оспаривали данное мнение, именно к такому выводу пришел Уильям Колби, директор ЦРУ с 1973 по 1976 год: «Начиная с середины 60-х годов, — говорил Колби, — операции по Советскому Союзу были напрочь прекращены. Хелмс и Карамессинес развернули программу, которую мы назвали трудно достижимыми целями. «Давайте вербовать трудных объектов: советских, китайских. Именно для этого мы и работаем». Но этого не происходило.
Как я понимаю, причиной тому была чрезвычайная подозрительность, проявляемая в отношении оперативных возможностей. Эдакое настоятельное требование контрразведки, чтобы на перебежчиков смотрели как на возможных подставных лиц. Отношения между контрразведкой и советским отделом окончательно зашли в тупик».
Бывший высокопоставленный чин Управления говорил, что проблема вышла далеко за рамки советского отдела. «У советского отдела были сотрудники, разбросанные по резидентурам всего мира, — рассказывал он, — но они были не единственными людьми, которые могли бы вербовать советских граждан. Другие сотрудники резидентур также могли это делать[198]. Отдел продолжал работать и пытался вербовать людей, но постоянно вступал в споры с Энглтоном, так как последний заявлял, что каждый, кого мы вербовали, засылался, чтобы манипулировать нами. Энглтон считал, что все плохи. Мы продолжали работать, продолжали вербовку, но все это полностью сводилось на нет контрразведкой».
По словам одного бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ, Энглтон пытался вынудить англичан отвергнуть Юрия Кроткова, первого советского перебежчика, который поручился за Носенко. Московский киношник Кротков бежал осенью 1963 года в Лондоне. «Кротков являлся привлеченцем КГБ, — сказал человек из ЦРУ. — Он дал нам массу информации о советских диссидентах. Он был потрясающим источником интересной информации. Но Энглтон все высмеял: «Все — агитка». Энглтон сказал: «Кого волнует кучка диссидентов?»»
Носенко бежал в начале 1964 года. «Кроткова немедленно спросили, знает ли он Носенко. Да, он его знал; и засвидетельствовал, что Носенко — сотрудник Второго главного управления. Это и решило его судьбу. Джим сказал, пошлите его в Шотландию, заключите там в крепость и пусть он годика два там погниет. Англичане не сделали этого. Тогда он попросил отправить Кроткова обратно. Дик Уайт (шеф МИ-6) сказал: «Вернуть его, вы что, с ума сошли? Мы в таком случае не получим больше ни одного советского перебежчика». Уайт ужаснулся. Англичане вмешались, и Кроткову было разрешено остаться. Сейчас он живет в Калифорнии»[199].
Закон Мэрфи гласит, что если что-то не заладилось, то так оно и пойдет. Как это и случилось в беспокойный и трудный период 60-х годов, когда в ЦРУ многое шло наперекосяк и когда советский отдел возглавлял Дэвид Мэрфи.
Высокого роста, в очках, с высоким лбом и копной седых волос, контрастировавших с его голубыми глазами, квадратным подбородком, Мэрфи выделялся своей внешностью и безумно походил на актера Уильяма Холдена. В штаб-квартире ЦРУ Мэрфи выглядел как человек, который вечно спешит. Его слегка сутулая фигура мелькала по коридорам. Он производил впечатление наделенного большой властью исполнителя, который и думает, и действует быстро.
Для большинства своих коллег Мэрфи был человеком ирландского происхождения из Сиракуз, что на севере штата Нью-Йорк. «Безусловно, он был ирландцем, — говорил один бывший сотрудник ЦРУ. — Я бывал у него дома. У него на стене висели дубинки. Но его происхождение окутывала некая тайна. По Управлению ходили сплетни, что Мэрфи был сиротой, что его усыновили, что на самом деле он не ирландец, что настоящая его фамилия — Московиц и что, вполне вероятно, он русского происхождения. Возможно, кое-что в этой болтовне основывалось на том факте, что первая жена Мэрфи Мэриан Эскови была из белоэмигрантов. А может быть, на том, что Мэрфи свободно говорил по-русски, как, впрочем, и по-немецки, и по-французски[200].
То немногое, что известно о Мэрфи, свидетельствует, что он родился 23 июня 1921 года в штате Нью-Йорк, закончил Государственный педагогический колледж в Кортланде (штат Нью-Йорк) к югу от Сиракуз, в 1942 году, во время второй мировой войны, служил в армии. Затем в его официальной биографии значится должность «консультанта в министерстве обороны». В действительности же он служил в армейской разведке в Корее и Японии, а затем поступил в ЦРУ. В 1949 году или немногим позже он уже был шефом оперативной «базы» ЦРУ в Мюнхене.
В 1953 году Мэрфи прибыл в Берлин в качестве заместителя начальника «базы», под начало Билла Харви. В Берлине его дом своим задним двором граничил с участком Пола Гарблера, который вел «Франца Койшвица», известного позднее под именем Игоря Орлова. К 1959 году Мэрфи на короткое время сменил Харви на его посту начальника «базы», а в 1963 году получил повышение и занял пост начальника советского отдела в штаб-квартире. Он оказался в гуще событий периода охоты на «кротов», ожесточенных споров по поводу Голицына и Носенко и замораживания операций по Советскому Союзу.
Мэрфи был одним из ведущих игроков Управления, он быстро продвигался по карьерной лестнице, но по пути попадал в весьма громкие скандальные истории. В Вене, по сложившейся в ЦРУ легенде, он ввязался в драку в баре с человеком из КГБ и вынужден был спасаться бегством весьма унизительным способом — через окно мужского туалета. «Очевидно, он отправился в пивной зал или бар, получив информацию, что этого парня из КГБ можно завербовать. Дэйв ринулся в бой, и тут парень взорвался, выплеснул пиво ему в лицо и завопил: «Американский шпион!»»
В 1966 году, будучи шефом советского отдела, Мэрфи стал звездой еще одной истории, на этот раз в Японии. Она прошла по заголовкам газет всего мира, хотя Мэрфи был изображен в сообщениях как «турист».
Трудности начались, когда Мэрфи самолетом отправился в Токио, чтобы завербовать резидента КГБ Георгия Покровского, который находился там под прикрытием должности первого секретаря советского посольства в Токио. Для начальника отдела необычно лично участвовать в весьма рискованном оперативном деле «в поле», но Мэрфи был не из робкого десятка и не бегал ни от опасности, ни от интриг.
Джордж Кайзвальтер так вспоминает эту историю: «В качестве шефа отдела СР (Советская Россия) Мэрфи под настоящим именем отправился в Японию, чтобы показать парням, как это делается. Он взял с собой оперативного сотрудника, который и получил удар зонтиком по голове. Разразился скандал, попавший в газеты».
Да, это был скандал, и газетные статьи сконцентрировали внимание на некоторых странностях, происходивших в апартаментах токийского «Клин Бриз» в ночь праздника Святого Патрика. Согласно газетным сообщениям, Покровский, возвращаясь в свой номер в «Клин Бриз», увидел своего соседа-колумбийца, некоего Хосе Мигеля Монева Кальдерона, в холле, тот выглядел больным. Колумбиец попросил Покровского помочь ему добраться до своего номера, чтобы принять лекарство. Русский оказал эту услугу. На лестничной клетке их, конечно же, поджидали два американских «туриста»: Мэрфи, который зарегистрировался в отеле как прибывший из Маклина (штат Вирджиния), и Томас Райан из Вены (штат Вирджиния). Завязалась драка. Покровский вырвался, но вернулся с подкреплением из советских. Группа головорезов из КГБ схватилась с двумя американцами за пределами номера, началась свалка. Покровский ударил Райана зонтиком, и сотруднику ЦРУ разбили очки.
Покровский выдвинул обвинение в том, что американцы пытались похитить его. Японская полиция замяла дело, назвав его всего лишь «ссорой двух американцев с колумбийцем». В Вашингтоне представителя госдепартамента Роберта Макклоски спросили, были ли «замешаны в эту историю какие-либо американские официальные лица»?
«Нет», — твердо ответил он.
Именно при руководстве Мэрфи советский отдел вел, а затем начал подозревать нелегала КГБ Игоря Логинова, кодовое имя «Густо». Вспомним: Логинов был завербован в Хельсинки в 1961 году Ричардом Ковичем, который позднее, в результате проведенного Голицыным анализа его карьеры, стал одним из первых подозреваемых в принадлежности к «кротам». У Ковича были не только имя, начинающееся с букры «К», славянское происхождение и служба в Германии, но он вел Ингеборг Лигрен (норвежского агента ЦРУ), Михаила Федерова (нелегала ГРУ) и Логинова.
Хотя Логинова «в поле» после Ковича последовательно вели сотрудники ЦРУ, за дело с самого начала наблюдали из штаб-квартиры сотрудник контрразведки Джозеф Эванс, работавший на Мэрфи, и Бэгли из советского отдела. Невысокий, коренастый, компактный человек, куривший одну за одной сигареты с фильтром, Эванс в прошлом был газетным репортером, издававшим еженедельник в Луисбурге (штат Пенсильвания). Он поступил на работу в Управление и в 50-е годы был направлен в Лондон, чтобы анализировать материалы перехвата, поступавшие из берлинского туннеля. Вернувшись в 1959 году обратно в штаб-квартиру, он сконцентрировал свою деятельность на узкой специальности — советских нелегалах. Вдумчивый человек с аналитическим складом ума, он на первых порах доверял Логинову.
Эванс принимал участие в допросе Голицына. «Я тщательно допрашивал его относительно Логинова», — рассказывал он. Дело было в мае 1961 года, когда Кович находился в Хельсинки. Тогда Голицын и еще один сотрудник КГБ встретились там с Логиновым. «Голицын сказал, что тот, другой сотрудник из Москвы служил в управлении, занимающемся нелегалами, он вел Логинова и проводил его «стажировку», то есть проверку усвоенного перед получением окончательного задания». В то время, говорил Эванс, «я весьма опасался возвращения Логинова в руки Советов», поскольку теперь он якобы был для ЦРУ двойным агентом.
Осенью 1962 года Логинов вылетел в Париж. Весной 1964 года он прибыл в Брюссель, это была его третья командировка на Запад. Он ездил в Германию, затем в июне отбыл в Бейрут, потом в Каир, выдавая себя за канадца, а позднее вернулся в Москву. В январе 1967 года КГБ направил Логинова в Антверпен в его четвертую командировку на Запад. Ему была дана инструкция посетить несколько стран и наконец поехать в Соединенные Штаты — основную цель его поездки.
Хотя Ричард Кович по-прежнему доверял Логинову, в советском отделе и среди сотрудников контрразведки к советскому нелегалу росло подозрение. Для Бэгли и
Эванса, сотрудников контрразведки, работавших на советский отдел, «стажировка» Логинова представлялась бесконечным процессом. «Создавалось впечатление, что он никогда никого не вел, — говорил Бэгли. — В данном случае мы имели дело с нелегалом, который все время тратил на то, чтобы задокументировать себя. Большинство нелегалов ведет агентов, как, например, Лонсдейл».
«Имелось несколько других причин, — добавлял Бэгли. — Конкретных причин. Не то чтобы он был непродуктивен. Были совершенно конкретные моменты* Он допустил ошибку в радиопередаче. Он что-то знал, что еще не получал из Москвы. Его легенда не контролировалась. Ему постоянно обещали, что он получит важное задание, но этого так и не случилось». Приблизительно к 1965 году решение было принято: Логинов — подстава.
Джозеф Эванс сказал, что решение было принято по двум причинам. «Во-первых, мы отчаялись добраться до основы его легенды. Мы задавали ему вопросы относительно противоречий и пробелов в ней. Перед нами был человек, который по характеру вопросов мог сделать заключение, что мы явно сомневаемся в его истории, и при этом никогда никакой реакции озлобления или удивления. И во-вторых — мы имели дело с большим ловкачом. Если мы отступимся и дадим свободно уйти человеку с паспортом, то кто знает, куда он намерен отправиться».
Если Логинов прибыл в Соединенные Штаты — свою конечную цель, — то он должен находиться под наблюдением ФБР. Но ЦРУ беспокоило, по словам Эванса, что «этот человек способен изменить личину и исчезнуть. Мы могли его потерять».
«Логинов не дал нам ничего, что представляло бы ценность для контрразведки, — настаивал Эванс. — Ни нелегалов, ни агентов. Его фальшивые документы никогда не приводили нас к какому-либо аппарату поддержки нелегалов, ни к адресам (советских) агентов, находившихся на связи у нелегалов. Ничего!»
Неспособность Логинова идентифицировать вспомогательных агентов-нелегалов имела значение потому, настаивал Эванс, что «если они обеспечивают одного, то могут обеспечить и других. Он не назвал ни одного, кто мог бы привести к остальным нелегалам». Истинное задание Логинова, считал Эванс, заключалось в том, чтобы «выяснить, сколь много мы знаем о нелегалах и о том, как они действуют».
Для верности, сказал Эванс, Логинов передал ЦРУ свои коды. «Вот моя шифр-система», — сказал он. «Ну и что? Мы могли читать его сообщения. А может, имелось две системы? Он имел одностороннюю радиосвязь из Центра (Москвы), которую без шифра нельзя было прочесть. Мы могли слушать — он дал нам частоту и время — и подтверждать его сообщения». Но, повторил Эванс, Логинов мог получать послания, о которых ЦРУ и не знало.
Еще одной причиной для вывода, сделанного сотрудниками контрразведки, сказал Эванс, явилось то, что Логинов никогда не объяснял мотивов своей добровольной службы на ЦРУ. «Я никогда не чувствовал ненависти к КГБ или порученным заданиям». Не проявлял он ее и ради захватывающей роли двойного агента. Он говорил, что ему нравится работать на американцев, но никогда не проявлял противоположного чувства, враждебности, к советской системе. «Я просто хочу работать на американцев», — говорил Логинов[201].
Как вспоминает Эванс: «Я пришел к выводу, что он никуда не годится, и в этом мнении меня поддержали Дэйв Мэрфи и Пит Бэгли. Они тоже чувствовали, что что-то не так».
Во-первых, разумеется, то, что Логинов защищал искренность побуждений Юрия Носенко. В то время ЦРУ держало Носенко под арестом и, по резкому выражению Дэвида Мэрфи, пыталось «расколоть» его. Оперативным работникам ЦРУ, находившимся в контакте с Логиновым, приказали расспросить его о Носенко. Ответа Логинова, что Носенко действительно является перебежчиком, самого по себе было достаточно, чтобы бросить тень на Логинова. «Логинов подтвердил честность Носенко, и это навлекло на него беду», — сказал один из бывших сотрудников Управления.
Тем временем Логинов продолжал Поддерживать контакты с ЦРУ. В конце января 1967 года он прибыл в ЮАР. В мае вылетел в Кению, где встретился с сотрудником ЦРУ, а в следующем месяце опять был в Йоханнесбурге; он путешествовал по канадскому паспорту под именем Эдмунда Тринки[202] и переехал на квартиру на Смит-стрит.
И вот в штаб-квартире ЦРУ было принято из ряда вон выходящее решение. Уверенные в том, что Логинов — подстава, в Управлении решили «заложить» собственного агента. Разведслужбе ЮАР намекнули, что Юрий Логинов, советский нелегал, находится в Йоханнесбурге под именем Эдмунда Тринки.
В июле 1967 года сотрудники службы безопасности ЮАР ворвались в квартиру Логинова и арестовали его. Он был заключен в тюрьму, и началась длинная череда допросов.
Если ЦРУ право, то оно било КГБ его же оружием и выводило советского шпиона из игры. Если же Управление ошибалось, то тогда оно являлось причиной ареста и тюремного заключения одного из своих собственных агентов. Оно могло даже поставить под угрозу жизнь этого агента. Можно себе представить, что данное решение принадлежит к разряду тех, о которых большинство сотрудников ЦРУ не желают говорить даже сегодня.
Пит Бэгли (уточним, что к 1967 году он оставил пост заместителя начальника советского отдела, чтобы возглавить резидентуру в Брюсселе) сказал: «Логинов был арестован с согласия отдела и Энглтона. Так решили Дэйв Мэрфи и Джим. Он был выдан южноафриканцам. Мы отдали его южноафриканцам»
Разведслужбе ЮАР было сообщено, что ЦРУ вело Логинова как агента, но не смогло установить честность его намерений и подозревало, что он — подстава КГБ.
Джозеф Эванс сказал, что решение выдать Логинова было «коллективной рекомендацией; что нам было делать? Мы обсуждали альтернативные варианты. Дэвид Мэрфи отмахнулся от него, а может быть, и Энглтон. Уверен, что вопрос был выяснен с заместителем директора по планированию и обсужден с Энглтоном, но я этого доподлинно не знаю»[203].
Другой бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, отставной резидент, не сомневается, что Энглтон был душой данного решения. «Он являлся дирижером за сценой, он дергал марионеток за веревочки, была ли эта марионетка молодым Бэгли, считавшим себя лучше всех, или стариной типа Кингсли, который не был в себе уверен, или Томом К. Дело в том, что Джим никогда не действовал открыто. Но как шеф контрразведки Энглтон держал все мелочи в поле своего зрения. Он видел все.
Никакая выдача Логинова не могла иметь места без его разрешения. Не могла».
9 сентября полиция безопасности ЮАР объявила, что Юрий Логинов признался в шпионаже против данной страны и еще двадцати трех стран. Шеф полиции безопасности генерал-майор X. Дж. ван ден Берг огласил длинный список советских дипломатов в других странах, которых Логинов идентифицировал как агентов КГБ.
Эванс под видом представителя службы безопасности ЮАР встретился и допросил Логинова после его ареста. «В ЮАР он признался мне, что рассказал нам не все о своих отношениях с КГБ», — сказал Эванс. Но не более. Эванс сообщил в ЦРУ, что Логинов балансировал на лезвии бритвы и почти допускал, что являлся засланным агентом, но все же не признал этого. Тем не менее ЦРУ, уверенное в том, что Логинов — обманщик, позволило ему чахнуть в южноафриканской тюрьме, куда само и засадило его.
Охота на «кротов» шла плохо. Карлоу заставили уйти, Гарблера перевели, карьера Ричарда Ковича застопорилась; дела бесчисленных сотрудников находились на дознании, и в некоторых случаях этих людей переводили на менее секретную работу. Но никаких «кротов» не нашли, если не считать Игоря Орлова, который ни в чем не признался. В любом случае Орлов никогда не являлся штатным сотрудником ЦРУ, только служащим по контракту в Германии.
Но в конце 60-х годов группа специальных расследований начала концентрировать свое внимание на новом и совершенно потрясающем объекте. На этот раз им оказался не агент из низов, ведущий проституток из баров Карлсхофа, а глава советского отдела — собственной персоной Дэвид Мэрфи.
Начать с того, что Мэрфи был обвинен в том, что, возможно, является советским агентом. Обвинение выдвинул его собственный сотрудник (.который руководил Юрием Логиновым) Питер Капуста. Бывший ведущий сотрудник штата Энглтона Уильям Джонсон вспоминает эту историю. Джонсон, элегантный человек, куривший трубку, носил усы, обладал манерами английского полковника; он учился в Йельском университете вместе с Энглтоном, который привлек и взял его на работу в Управление, а затем направил в Вену. Позднее Джонсон служил в странах Дальнего Востока, закончив карьеру шефом базы в Сайгоне.
По словам Джонсона, Капуста пошел к Сэму Па-пичу (ветерану ФБР, осуществлявшему связь с ЦРУ) и высказал ему свои домыслы относительно Мэрфи. Для сотрудника ЦРУ дело необычное — выйти за пределы своего ведомства и обратиться к ФБР.
У Папича были веские причины запомнить обвинения против Мэрфи. «Капуста позвонил мне среди ночи. Было около часа или двух». Но, добавил Папич, «ФБР не стало вести расследование. С самого начала Бюро рассматривало дело Мэрфи как внутреннюю проблему ЦРУ. Мы получили определенную информацию, включая показания Капусты. По нашим стандартам, которые базируются на имеющихся данных, расследование ФБР не дозволялось».
Уильям Джонсон сказал: «Я так и не смог понять, почему он (Капуста) обвинил Мэрфи. Я не мог проследить логику его обоснований. Среди причин указывалось, что Мэрфи и Блейк вместе работали в Берлине. Я написал рапорт и в срочном порядке подал его Хелмсу. Я был в шоке. Двумя днями позже я видел Сэма (Папича). Он тоже не мог понять, что к чему».
Поскольку Папич и ФБР отказались взять дело, то можно было бы его и закрыть, если бы не тот факт, что группа специальных расследований занималась делом Мэрфи. Это означало, что и Энглтон начал подозревать Мэрфи, одного из своих ближайших коллег и высокопоставленного сотрудника ЦРУ, ведающего операциями против Советского Союза. В охоте на «кротов» произошел поражающий воображение поворот: начальник контрразведки подозревал начальника советского отдела[204].
«Скотти» Майлер подтвердил, что группа специальных расследований провела тщательную проверку Мэрфи, когда тот возглавлял советский отдел. По его словам, она «не была напрямую связана с «Сашей». Просто был ряд неудач и провалов. Чистки в Японии и в Вене. КГБ, возможно, приложил руку к выдвижению Мэрфи, чтобы сбить с толку ЦРУ. Однако необходимо иметь в виду, что инциденты, видимо, инсценировались с целью поддержки его репутации».
Майлер закурил сигарету и медленно выпустил дым. «Быть может, Мэрфи постигла судьба «Джо Бтфсплка». Ему, вероятно, просто не повезло»[205]. Майлер также припомнил, что Мэрфи находился в Берлине в одно время с Орловым. «Пути Орлова и Мэрфи пересекались несколько раз в разных местах».
Нельзя не принимать во внимание и семью Мэрфи, добавил Майлер. «Жена Мэрфи из среды русских белоэмигрантов в Китае, которая затем выехала в Сан-Франциско. Это фактор, который можно отнести ко всем выходцам из белой эмиграции, особенно из Китая. Таких прожженных иммигрантов было много. Да, над этим следовало подумать».
Однако в конечном счете Майлер заключил, что драка в пивной, потасовка, завершившаяся ударом зонтом, одновременное пребывание Мэрфи с Игорем Орловым и Джорджем Блейком в Берлине, происхождение его жены в действительности не являлись главной причиной. На самом деле у контрразведки возникли подозрения относительно Мэрфи, который возглавлял все операции ЦРУ против СССР в критический период, из-за его связи с одним белоэмигрантом, являвшимся, как полагали охотники за «кротами», агентом КГБ. Жизнь и деятельность человека, бросившего тень на карьеру Мэрфи, — одна из наиболее интригующих и ранее неизвестных страниц периода «холодной войны».
«Мэрфи помог ему внедриться в ЦРУ, — сказал Майлер. — Было ясно, как божий день, что он шпион.
Он не являлся кадровым сотрудником, а работал по контракту. У него был допуск. В период его работы у нас было много провалов. Мы потеряли несколько агентов. Это случилось во время войны в Корее. Этот парень курировал агентов, работавших за линией фронта, в Северной Корее. И они исчезали. Подозревали, что это была не простая некомпетентность, а что он их выдавал».
Человек, о котором говорил Майлер, мог бы стать героем романа Лe Карре или Джона Бьюкена. Его имя — Арсений «Энди» Янковский.
Он родился в 1914 году в России, в городе Владивостоке, в помещичьей семье старого аристократичет ского рода. Янковские имели свой герб, большое поместье, разводили скот и лошадей. Фактически они были известны как коннозаводчики. Во время революции 1917 года отец Энди, Георгий, вступил в Белую армию и сражался против красных. Через три года Янковских выгнали из поместья. Георгий с Энди и еще двумя сыновьями в сопровождении двух десятков родственников бежал из России, перешел через границу в Северную Корею и обосновался в Чхонджине. Позднее они купили землю в горах возле Чхуула и осели там[206].
Георгий Янковский слыл знаменитым охотником в России и в Северной Корее. Он со своими тремя сыновьями ходил на диких кабанов, леопардов и корейских тигров, которые больше по размеру и, как говорят, свирепее индийских. Он продавал шкуры и ловил тигров для зоопарков. Янковские торговали также измельченными в порошок оленьими рогами, ценившимися в Азии как средство против импотенции. Поскольку Георгий был известным энтомологом, в его честь названы двадцать видов бабочек[207].
В такой экзотической, хотя и суровой обстановке рос Энди Янковский; он говорил на русском, корейском и японском языках. В колонию в Северной Корее влились новые белоэмигранты, и в 1934 году молодой Энди женился на Ольге Соколовской, матери двух маленьких детей, состоявшей в разводе с мужем. Они познакомились во время летних каникул, когда она приехала в колонию. Как и многие другие русские, Ольга уехала из России в Маньчжурию, в Харбин, где в 1925 году у нее родилась дочь Анастасия (Ната) Соколовская. В тот же год семья переехала в Шанхай, где примерно в 1930 году родился сын Ростислав, которого все звали Слава. Однако, после того как Ольга вышла замуж за Энди Янковского, детей разлучили. Слава остался в Шанхае с отцом, а Ната с матерью и отчимом — в Северной Корее.
В 1947 году с хорошей жизнью Янковских в Чхууле было покончено. Советы, оккупировавшие Северную Корею, начали гонения на русскую колонию; это коснулось Энди, его двух братьев и отца. «Пришли Советы и всех арестовали, — вспоминает подчерица Энди Янковского Ната. — Повсюду стояли войска. Они только и делали, что арестовывали людей. Энди был арестован. Ему удалось бежать, и они пробирались пешком. Энди и Ольга перешли 38-ю параллель».
В то время Нате было 22 года, и она жила в Чхонд-жине. «Я бежала в 1947 году на рыбачьем баркасе, в куче зловонной рыбы». Она встретилась с матерью и отчимом в Сеуле. Но отца и двух братьев Энди отправили в сибирский лагерь, где, по ее словам, отец Энди умер. Тем временем ее брат Слава, обманутый обещаниями советских властей, сел на пароход и возвратился в СССР; там его вскоре арестовали, и он провел десять лет в лагерях ГУЛАГа.
В Сеуле американская разведка занималась поисками кандидатов на вербовку среди белогвардейских беженцев. «В первый раз в контакт с нами вступил Дэвид Мэрфи, — рассказывает Ната. — Он разговаривал с Энди и со мной. Он (Мэрфи) в то время работал в Сеуле. С нами постоянно вели беседы».
В течение года Ната работала в Сеуле машинисткой в армии. Затем Янковских перевели в Японию. Энди Янковский начал работать в ЦРУ. В 1949 году Ната также поступила в ЦРУ в качестве переводчика в Йокосуке.
Там она познакомилась с Эдом Сноу.
Эдгар Сноу (не имеет родственных связей с известным писателем) являлся оперативным работником ЦРУ, владел русским языком. Это был высокий голубоглазый импозантный мужчина, которого женщины находили привлекательным. Энди Янковский, будучи агентом на контрактной основе, как и Ната, работал на него.
Биография Сноу почти так же колоритна, как и жизненный путь Энди Янковского. Он родился в Сиэтле в 1922 году, его отец Николай Снегирев, русский из Новосибирска, сражался на стороне Белой армии. После разгрома армии под Иркутском отец Сноу остался в этом городе, где познакомился с будущей матерью Сноу, которой тогда было шестнадцать лет, и женился на ней. Вместе с женой, в то время беременной Эдом, он бежал из России сначала в Канаду, а затем перебрался в Сиэтл, где семья взяла более легко произносимую фамилию — Сноу.
Старшему Сноу предложили работу в «Континентэл кэн» в Японии, где маленький Эд ходил в американскую школу и учил японский язык. Семья возвратилась в США, когда Эду исполнилось десять лет. Сначала рни поселились в Лос-Анджелесе, а затем в Фениксе, где он, еще будучи школьником, работал диск-жокеем. Он пошел служить во флот, попал в разведку и был наблюдателем в ходе ядерных испытаний на атолле Бикини. После войны закончил колледж при Колумбийском университете; имея некоторые соображения относительно операций по Советскому Союзу, он вступил в контакт с ЦРУ и был принят на работу. В 1948 году его направили в Японию под прикрытием военнослужащего.
Там он руководил Энди Янковским, который занимался созданием агентурной сети в Северной Корее. Когда ЦРУ приняло на работу в качестве переводчика приемную дочь Янковского, Сноу познакомился с ней и увлекся девушкой. В свои двадцать семь лет Ната, маленькая и жизнерадостная, с длинными волнистыми волосами песочного цвета, была очень привлекательна. Они поженились в 1954 году.
Как вспоминает «Скотти» Майлер, Янковский стал сотрудником ЦРУ по рекомендации Дэвида Мэрфи. В июне 1950 года началась война в Корее, и вскоре почти все агенты Янковского на Севере были схвачены.
«Янковский руководил агентурой из Южной Кореи и готовил агентов для заброски в Северную Корею, — вспоминает Майлер. — Агентов переправляли через границу морским путем или по воздуху. Они должны были добывать информацию военного характера. Многих из них поймали. Где-то от двадцати до пятидесяти человек».
Сноу работал по советским операциям в Японии. По существу, он курировал своего тестя. Жена его была из белоэмигрантов. Сноу пришлось просить разрешения жениться на ней, так как обычно браки с иностранцами были запрещены. А потом оказалось, что у нее были родственники за «железным занавесом».
Ната Соколовская утверждала, что с самого начала она рассказала в ЦРУ все о себе. «В лагерях находился не только мой брат, но и другие родственники. Об этом было известно, как и о каждом моем родственнике. Если их так беспокоил мой брат, почему нас вообще вербовали? Почему мне разрешили выйти замуж за Эда? Когда меня принимали на работу, я, конечно, рассказала о Славе. Меня проверяли на детекторе лжи. Не помню, сделала я это в письменной форме или нет, но я говорила о брате».
Эдгар Сноу и Ната вернулись в штаб-квартиру ЦРУ из Токио в 1954 году вскоре после своей свадьбы. К тому времени Ната ждала ребенка; девочка появилась на свет в том же году, и она уволилась из ЦРУ.
В советском отделе Сноу дорос до ведущей должности начальника операций. В 1959 году была запланирована его поездка в Берлин для совместной работы с Джорджем Кайзвальтером по делу Попова.
К этому времени, однако, сотрудники контрразведывательного отдела и управления безопасности получили полную свободу действий в деле Сноу — Янковского, по вопросу агентов, потерянных в Корее, и родственников Наты за «железным занавесом». Теперь в Управлении началась большая охота на «кротов», это произошло за два года до того, как перебежал Голицын, ставший причиной крупной кампании по поиску агентов проникновения. Но самая большая охота на глубоко законспирированных агентов началась в 1959 году с началом расследования по делу Эда Сноу, его жены и его тестя.
«Допросы были ужасными, — рассказывала Ната. — В течение нескольких лет меня мучили ночные кошмары. Они вызвали меня. Огромная комната, за огромным столом полно офицеров, глазеющих на тебя. Но вопросы были одни и те же. Там был Хелмс, думается, и Даллес тоже. Все это было летом 1959 года. В основном они спрашивали меня о двух годах, которые мы прожили в советской оккупации в Северной Корее, с 1945-го по 1947-й».
Сноу и его жену допрашивали отдельно. В дело был также втянут Вивиан Паркер, оперработник ЦРУ, англичанин, эмигрировавший в Америку и натурализовавшийся в 1942 году в возрасте 34 лет. В середине 50-х ЦРУ направило Паркера в Индию, в Мадрас и Калькутту, и он имел несчастье встретить кузину Энди Янковского, Марианну, и жениться на ней. Теперь у охотников на «кротов» было два оперативных работника, связанных с Янковским через брак.
По словам Джорджа Кайзвальтера, директор ЦРУ Аллен Даллес в конце расследования вызвал Сноу к себе и уволил его. Как утверждает Кайзвальтер, Даллес сказал Сноу: «У нас здесь трагедия. По соображениям безопасности мы должны вас уволить». В возрасте 37 лет по достижении им руководящего поста в отделе со Сноу было покончено.
«Даллес лично нашел ему работу, — продолжал Кайзвальтер, — а потом он стал вице-президентом «Литтон индастриз» благодаря Даллесу. Даллес был столь любезен, поскольку чувствовал, что Сноу попал в мышеловку и что Управление поступило с ним несправедливо. Но оно разрушило всю его жизнь»[208]. Вивиана Паркера и Янковского уволили вместе с Эдом Сноу.
Энди Янковский, как утверждала его падчерица, «был самым лояльным человеком в этой стране. Мы думали, что нашли здесь свой приют». Даже 30 лет спустя она все еще чувствовала горечь по поводу того, что сделало ЦРУ. Ее муж, ее отчим и Паркер — все были уволены по одной причине, сказала она, «из-за родственников за «железным занавесом», которые умирали от голода и замерзали в ГУЛАГе.
Три поколения семьи Энди и моей семьи боролись с коммунизмом и жили в изгнании как не имеющие гражданства русские белоэмигранты. В глазах советского правительства мы были его злейшими врагами. Мы все были включены в список для депортации в сибирские трудовые лагеря. Если бы мы знали, мы все попытались бы пересечь 38-ю параллель. Мы не строили амбициозных планов, мы «просто хотели жить», как сказал доктор Живаго в книге Пастернака. Если мы уже не были полезны для ЦРУ, нас могли бы уволить более человеческим образом. Мы были абсолютно беззащитны и преданы этой стране. Мы хорошо служили ей».
У охотников на «кротов» хорошая память. Увольнения 1959 года не закрыли дела, и менее чем через десятилетие дело Сноу — Янковского — Паркера всплыло вновь, чтобы коснуться Дэвида Мэрфи, начальника советского отдела. Это была, как подтвердил Майлер, одна из основных ниточек расследования, проводимого группой специальных расследований в отношении самого Мэрфи. Каким бы притянутым за уши это ни казалось в ретроспективе, но охотники за «кротами» пытались выяснить, был ли Мэрфи, помогший привлечь Янковского к работе в ЦРУ, хоть в какой-то степени ответствен за потерю агентов ЦРУ во время войны в Корее.
Эд Петти входил в состав группы специальных расследований и принимал участие в проверке Мэрфи. Энглтон не только считал Мэрфи главным подозреваемым, но, по словам Петти, «даже открыто неоднократно заявлял, что Мэрфи — агент КГБ». Изучив досье, Петти написал длинное заключение, что в конечном итоге Мэрфи не являлся «кротом». Но поскольку вокруг
Мэрфи витали подозрения в предательстве, его дни как начальника советского отдела были сочтены.
В 1968 году в отделе произошли крупные перестановки. Мэрфи вынудили уйти — заменили другим руководителем отдела — и отправили в Париж резидентом. Сначала на его место планировался Уильям Колби. Но президент Джонсон вмешался в дела ЦРУ и отправил Колби во Вьетнам. В результате преемником Мэрфи стал Рольф Кингсли.
По словам Майлера, не только подозрение, павшее на Мэрфи, сыграло роль в его отстранении, «но еще и решение заключить в тюрьму Носенко. Да и все дело Носенко». Именно Мэрфи сыграл главную роль в том, что Носенко пришлось пройти через жуткие испытания. Хелмс к этому времени уже требовал, чтобы вопрос о честности Носенко был закрыт; это дело слишком затянулось. Советский отдел стал явной мишенью. «Было решено, что необходимы перемены — новое руководство, новый стиль», — сказал Майлер.
Насколько далеко Энглтон зашел в своей борьбе против бывшего начальника отдела, вскоре обнаружилось поразительным образом. Во время поездки в Вашингтон графа Александра де Маранша, тучного директора французской Службы внешней документации и контрразведки, Энглтон отвел его в сторону для беседы. Шеф контрразведки предупредил де Маранша, что Дэвид Мэрфи, новый резидент в Париже, является советским агентом.
Уильям Колби сообщил, что узнал о поразительном предупреждении Энглтона относительно Мэрфи несколькими годами позже. По его словам, это случилось во время его визита в Париж через несколько месяцев после его назначения на пост директора ЦРУ. «Де Маранш отвел меня в сторону и сказал: ^Вы знали, что Энглтон сообщил мне, что Мэрфи — советский агент?»»
Колби отметил, что у де Маранша имелись основания для расстройства. «Он имел в виду, что нам следует контролировать свое ведомство. Мы не должны делать заявления на два голоса». Как только Колби вернулся в Лэнгли, он заявил: «Я прочитал дело Мэрфи. Там были голословные утверждения, нужно было в этом разобраться». В своих мемуарах, не называя Мэрфи или де Маранша, Колби писал, что обнаружил в делах, что офицер, «блестящий и эффективно действующий сотрудник, был сочтен абсолютно чистым. Однако наша контрразведка ни за что не соглашалась с этим заключением»[209].
После просмотра дела, вспоминает Колби, «я написал записку с утверждением, что не может быть подозрений в отношении этого человека». Более того, Колби поручил Мэрфи важное задание по координации технических операций Управления с агентурной разведкой. «Я вызвал его после того, как изучил его дело, и сказал: «Я хочу, чтобы вы знали, что все в прошлом». Я решил испытать судьбу, поручив ему чрезвычайно секретную область деятельности. И сделал это намеренно».
История о предупреждении Энглтоном французской стороны в отношении Мэрфи годами циркулировала в темном мире контрразведки. Но близкое окружение Энглтона отказывалось верить в это. «Колби — единственный источник этих сведений», — заявил «Скотти» Майлер.
Тем не менее Александр де Маранш лично подтвердил, что Энглтон предупреждал его о том, что Мэрфи — советский шпион. Городской аристократ, говорящий на разговорном английском языке без тени акцента, де Маранш заявил, что очень хорошо помнит этот разговор. «Приблизительно в 1971 году я был в Вашингтоне, — сообщил он. — Сообщение, что офицер связи со мной (Мэрфи) — русский агент, явилось сюрпризом, мягко говоря». И ему сказал об этом Энглтон? «Да, Энглтон. Это было поразительно»[210].
Еще до того, как Колби узнал о подозрениях Энглтона в отношении Мэрфи, де Маранш поднял тревогу, сообщив высокопоставленному сотруднику ЦРУ о предостережении Энглтона относительно резидента в Париже. По словам бывшего сотрудника Управления де Маранш сказал ему: «Мой дорогой друг, почему ЦРУ посылает мне советского шпиона в качестве резидента?» Этот разговор состоялся в Париже. Сотрудник ЦРУ ответил: «Я не верю в это». На что де Маранш сообщил: «Это сведения от вашего господина Энглтона».
Когда этот недоверчиво настроенный сотрудник ЦРУ вернулся в Лэнгли, «он попросил Джима дать объяснения и получил докладную записку на трех страницах, содержавшую все доводы в пользу того, что Дэйв Мэрфи — шпион. Читая эти три страницы, осознаешь, что Энглтон действительно спятил. Энглтон хотел, чтобы
Хелмс направил письмо, включавшее в себя материалы, изложенные на этих трех страницах. Хелмс уклонился. Вместо этого высокопоставленный сотрудник отослал французам любезное письмо, сообщавшее, что нет никаких факторов, подтверждающих это».
Ричард Хелмс настаивает, что не помнит этого случая и не знал о подозрениях в отношении Мэрфи. Но Хелмс затруднялся вспомнить почти все спорные дела, имевшие место во время его пребывания на посту директора. Он не смог припомнить, кто принял решение о заключении в тюрьму Носенко; он никогда не давал разрешения на операцию с Шадриным. Давая интервью в своем офисе на К-стрит в Вашингтоне, где бывший директор ЦРУ работал в качестве консультанта по вопросам международного бизнеса, Хелмс в свои семьдесят семь лет являл собой «симфонию в сером» — серые (седые) волосы, серый костюм и серые полутона, в которых он говорил о своих годах работы в качестве главы ЦРУ и о необходимости тонкого равновесия между разведкой и контрразведкой. Он был высок, строен, элегантен и раскован; в отличие от прошлых лет, он согласился на то, чтобы его слова цитировались.
«Я не помню, чтобы Джим приходил ко мне и что-либо говорил о проблемах с Дэвидом Мэрфи, — сказал он. — Я узнал об этом позже, после моего ухода из Управления. Я отлично помню, что, направляя Дэвида Мэрфи в Париж, я не знал о подозрениях Энглтона. Я никогда в это не верил. У меня не было оснований сомневаться в лояльности Дэвида Мэрфи».
Но Энглтон сомневался. И то, что Говард Осборн, начальник управления безопасности ЦРУ, снял, по словам бывшего старшего сотрудника управления, с Мэрфи обвинения в том, что он является глубоко законспирированным агентом, еще до его приезда в Париж, делает предупреждение Энглтоном французов еще более странным. «Когда Мэрфи собирался ехать в Париж, он был под подозрением, — сказал он. — Хелмс не направил бы в Париж резидента, которого подозревают. Он настаивал на урегулировании этого вопроса. Осборн устроил Мэрфи самый строгий допрос, к которому он когда-либо прибегал, и тщательную проверку на детекторе лжи. Это было отвратительно. И Дэвид Мэрфи оказался абсолютно чистым. Показатели были отрицательными по всем пунктам».
Энглтон, сказал бывший сотрудник ЦРУ, «лично предупредил не только де Маранша, но и Марселя Шале, тогдашнего главу французской контрразведывательной службы. Я убежден, что он сообщил Шале то же, что и де Мараншу. Бедный Мэрфи. Просто чудо, что он мог ходить в туалет без сопровождения, пока был в Париже. Это было самое вопиющее возмутительное поведение, о котором я когда-либо слышал».
Но у этой истории есть неизвестное продолжение. По сведениям одного бывшего высокопоставленного сотрудника контрразведки ЦРУ, Энглтон высказал такое же предупреждение в отношении преемника Мэрфи на посту резидента в Париже — Юджина Бергсталлера. «Это произошло примерно в 1974 году, — сказал сотрудник ЦРУ, — Энглтон уверял, что Бергсталлер — также советский агент. Это не убедило французов. К этому моменту Энглтон пользовался все меньшим доверием. Он предупредил Шале, и я думаю, что еще не раз встречался с ним»[211].
Марсель Шале отказался сообщить, предупреждал ли его Энглтон о том, что сменявшие друг друга резиденты ЦРУ в Париже были советскими агентами, хотя и не отрицал этого[212].
Рольф Кингсли, новый начальник советского отдела, будучи еще руководителем европейского отдела, одобрил назначение Мэрфи в Париж. Кингсли, до тех пор пока не возглавил советский отдел, не знал, что Мэрфи подозревают как «крота».
Мэрфи, как потом оказалось, был всего лишь первым в списке. По словам бывшего высокопоставленного сотрудника советского отдела, с приходом Кингсли «отдел был очищен». Буквально сотни людей, все из них сотрудники, говорившие по-русски, были переведены без их согласия в другие отделы. В советском отделе работали сотни людей, и большинство из них говорили по-русски — одни были детьми русских, другие родились в России. Фактически весь отдел был переформирован. И все это только для того, чтобы очистить отдел от возможного «крота».
Если сотрудники контрразведки не смогли найти «крота», сказал он, то все эти перестановки означали, что по крайней мере подозреваемого агента проникновения, по всей вероятности, не осталось в советском отделе. Это был новый подход: вместо того чтобы точно установить агента проникновения, чего она не смогла сделать, группа специальных расследований широко раскинула свою сеть, пытаясь выловить «крота» вместе с остальными.
Бывший сотрудник сказал, что большинство из тех, кого перевели в другие отделы, так и не узнали причины. «Предлогом послужило то, что мы не добились успехов в вербовке русских. Каждому сотруднику назвали касающуюся только его причину перевода. Никто и не подумал, что все это вызвано тем, что мы все оказались подозреваемыми. Энглтон решил избавиться от всех сотрудников русского происхождения».
Для пополнения оголенного советского отдела, сказал он, ЦРУ обратило свой взор на сотрудников прежнего отдела Восточной Европы, который вошел в состав советского отдела двумя годами ранее. «Теперь дела перешли к отделу Восточной Европы, они знали, как это сделать. Сотен людей коснулись поиски «крота», — заключил он, — поскольку сотни людей были переведены из отдела».
Другой бывший сотрудник советского отдела сообщил: «Я думаю, что Кингсли своими действиями постоянно ограничивал возможности проведения тайных операций». И добавил: «Не знаю, было ли ему так приказано или это была политика».
Дональд Джеймсон, который работал в то время в советском отделе, подтвердил, что там «произошел ряд существенных изменений», когда сотрудники были переведены из отдела. «Причина состояла в их связи с Мэрфи. И как теперь кажется, существовало предположение, что все они шпионы».
Кингсли решительно оспаривал оценки, касающиеся массового увольнения. На вопрос о переводе сотен сотрудников, владевших русским языком, он ответил: «Это все вздор». Кингсли отказался, однако, назвать число сотрудников, которых убрал он лично.
Ричард Хелмс, в то время директор ЦРУ, не смог припомнить массовых переводов. «Это чепуха, — сказал Хелмс. — Такого никогда не было, насколько мне известно. Просто ложь». Знал ли Хелмс о каких-либо переводах из отдела по соображениям безопасности? «Нет, не знал», — ответил он. Но, по мнению «Скотти» Майлера, возможно, «плюс-минус 50 человек» были переведены. «Возможно, но это из трехсот сотрудников отдела».
Каков бы ни был окончательный результат, из оставшихся сотрудников те, кто попал под подозрение, были по секрету названы Кингсли Томасом Карамессинесом, заместителем директора по планированию. Кроме того, Кингсли возглавил засекреченный комитет трех, в который вошли он сам, Энглтон и представитель управления безопасности. Секретный комитет позволял Кингсли быть в курсе последних подозрений группы специальных расследований.
Как позднее заявил Кингсли, его не очень поразили доказательства, представленные ему в тайной комиссии трех. Он понимал, что разворошил муравейник; настроения в советском отделе царили упаднические, операции прекратились, все искали под стульями «кротов». Кингсли понял, что отдел потерял из виду свою главную цель: проникновение в Советский Союз.
Но с уходом Мэрфи Кингсли вскоре был втянут в заключительную фазу дела Логинова. Решение выдать Логинова Южной Африке, после того как Энглтон и советский отдел пришли к выводу, что он являлся подставой, было принято до того, как Кингсли возглавил отдел. Но он разделял господствующее мнение, что Логинов был «не настоящим»; он так и не сделал того, что требовало ЦРУ.
По сей день многие бывшие сотрудники считают все происшедшее самым грязным пятном в истории ЦРУ. С одобрения ЦРУ ЮАР обменяла Логинова в Советском Союзе путем трехстороннего обмена на полдюжины западногерманских агентов, томившихся в тюрьме в Восточной Германии.
По словам Джорджа Кайзвальтера, Энглтон был ключевой фигурой в обмене Логинова. «Энглтон решил, что тот — подстава, и договорился с восточными немцами, чтобы те освободили западных немцев в обмен на Логинова, который затем был возвращен русским».
«Энглтон, — сказал один из бывших сотрудников контрразведки, — должен был консультироваться по каждому малейшему аспекту дела». Хотя ЦРУ и подозревало, что Логинов является подставой, никто не был уверен, и вернуть его КГБ означало бы подписать ему смертный приговор, если окажется, что ЦРУ ошиблось.
После ареста Логинова в Йоханнесбурге в 1967 году юаровцы заявили, что советский шпион назвал имена сотрудников КГБ во всем мире. На вопрос о том, как Логинов мог оказаться подставой, учитывая огромное количество офицеров КГБ, которых он выдал, Пит Бэгли ответил: «Он назвал своих советских ведущих в Африке, Кении и Бельгии. Но Логинов выдал эти имена преднамеренно, чтобы ввести в заблуждение относительно всего прочего».
Фактически имена офицеров КГБ были переданы южноафриканской службе безопасности ЦРУ, они были выбраны из досье Управления и поступили совсем не от Логинова. Выдача имен, по словам одного сотрудника ЦРУ, была предназначена для того, чтобы как можно больше очернить Логинова перед КГБ. Но «признание» Логинова, хотя и фальшивое, могло тем не менее поставить его жизнь под угрозу, если бы его отправили назад в Советский Союз[213].
Когда ЮАР, прежде чем согласиться на обмен, спросила ЦРУ, уверено ли оно, что ему не нужен Логинов, Рольф Кингсли это подтвердил. Энглтон согласился; Юрий Логинов больше не был нужен ЦРУ[214].
Один из сотрудников ЦРУ, знакомый с делом Логинова, пояснил, что произошло потом. «Логинова доставили из ЮАР в ФРГ, и Джим принял меры по его отправке. Когда Логинов прибыл в Германию и понял весь ужас своего положения, он испугался до смерти и всеми силами сопротивлялся отправке назад. На границе произошла довольно печальная история. Его буквально вытолкали. Прямо в руки КГБ, который увез его».
Эта история, рассказанная и некоторыми другими источниками ЦРУ, оспаривалась Бэгли, который заявил, что Логинов был «счастлив» вернуться назад. «При встрече с русскими они обнялись. Немыслимо, чтобы мы перебросили кого-нибудь через границу против его воли». Тот факт, что Логинов передавал информацию ЮАР, доказывает, что он не был настоящим нелегалом, утверждает Бэгли. «Нелегалы, подобные Абелю, держат язык за зубами. Нелегалы не говорят».
Эванс также, со своей стороны, тешил себя надеждой, что ни он, ни другие сотрудники ЦРУ, которые «вели» Логинова, не совершили ужасной по своим последствиям фатальной ошибки. Он не был уверен, что над Логиновым учинили расправу. Но ЦРУ, согласно некоторым хорошо осведомленным источникам, располагало полученной от перебежчиков более позднего периода информацией о том, что Логинова казнили. Ричард Кович, завербовавший Логинова, узнал об участи своего агента, лишь когда его взяли обратно в ЦРУ в качестве консультанта вскоре после выхода в отставку; к тому времени «в активе» ЦРУ был советский перебежчик, утверждавший, что он лично присутствовал на похоронах Логинова.
Джордж Кайзвальтер слышал что-то подобное. Он сказал: «Один перешедший на нашу сторону в более позднее время перебежчик рассказывал о том, что Логинова расстреляли.
С ним простились навсегда».
ГЛАВА 16
Крах
Джон Денли Уокер, шеф резидентуры в Израиле, знал, что приезд из штаб-квартиры старшего должностного лица всегда сопряжен с целым рядом приготовлений и хлопот. По отношению к высокопоставленной персоне следовало проявлять необходимое внимание и соответствующую заботу.
Но он не был готов к тому, что произошло, когда Джеймс Энглтон нанес свой очередной визит в Израиль, который состоялся вскоре после того, как в 1967 году Уокер приступил к исполнению обязанностей резидента.
В то время Энглтон сильно пил. Шеф контрразведки попросил Уокера позаботиться о том, чтобы в его гостиничный номер доставили ящик виски.
Когда ящик был на месте, Энглтон сказал Уокеру, что он подозревает, что бурбон[215] отравлен КГБ. Уокер попытался объяснить, что он купил это виски в магазине при посольстве и доставил его лично, но тщетно — Энглтона невозможно было разубедить.
По мнению Уокера, Энглтон выглядел изнуренным. Шеф резидентуры ЦРУ опасался, что шеф контрразведки находится на грани нервного срыва.
— Я отправлю вас домой, — сказал он.
Энглтон взорвался.
— Вы не можете этого сделать, — ответил он.
Когда Уокер стал настаивать на своем, Энглтон гневно предупредил его о неминуемой расплате: он позаботится о том, чтобы Уокер никогда не получил приличной работы в ЦРУ. Однако этот разговор возымел свое действие, Энглтон сделал на некоторое время передышку. Он отправился не в Вашингтон, а в Эйлат, в район Акабского залива.
К этому времени власть начала уходить из рук Энглтона. Сделанное им предупреждение в адрес французов о том, что Дэвид Мэрфи — советский агент, не было серьезно воспринято Службой внешней документации и контрразведки и, в конце концов, ударило бумерангом по шефу контрразведки. Кроме того, Энглтон потерял Пита Бэгли, одного из ближайших союзников и самого сильного сторонника в советском отделе.
Директор ЦРУ Ричард Хелмс решил, что пришло время провести изменения в руководстве советского отдела. В начале 1967 года Бэгли, являвшемуся тогда заместителем начальника, была предложена должность шефа резидентуры в Брюсселе. К сентябрю он был на месте. Вскоре за уходом Бэгли последовал отъезд в Париж Дэвида Мэрфи.
Однако никто не был застрахован от того, что его не затронет волна подозрительности, охватившая ЦРУ. Теперь и сам Бэгли стал мишенью для энглтонов-ских охотников за агентами проникновения. Эд Петти, член группы специальных расследований, начал копаться в его анкетных данных.
Внимание Петти привлек один случай, происшедший несколькими годами ранее, когда Бэгли работал в Берне, осуществляя контроль за советскими операциями в швейцарской столице. В то время Бэгли пытался завербовать в Швейцарии одного из сотрудников польской разведслужбы. Петти пришел к выводу, что одна фраза в письме от Михаила Голеневского, сотрудника польской разведки, называвшего себя «Снайпер» и позднее начавшего работать на ЦРУ, заключала в себе мысль о том, что «через две недели после утверждения штаб-квартирой этой операции» КГБ было заранее известно о попытке осуществления вербовки в Швейцарии, а это означало, что упреждающая информация могла поступить только от «крота», окопавшегося в ЦРУ.
Бэгли заявил о том, что ничего подобного это не доказывает. «Я вел корреспонденцию «Снайпера» в Швейцарии, — сказал он. — В то время когда я был в бернской резидентуре, мы написали письмо польскому офицеру безопасности». В письме, которое было попыткой завербовать этого поляка для работы на ЦРУ, «упоминался босс этого человека. Спустя некоторое время Голеневский написал снова, назвав имя резидента польской разведки в Берне, добавив при этом, «чье имя вы уже знаете», что означало, что Голе-невскому было известно о нашем письме. Однако это не значит, что в ЦРУ действовал внедренный агент. Это означает, что объект разработки использовал письмо в своих интересах, а наш парень («Снайпер») занимал достаточно высокое положение, чтобы знать о нем».
По словам Бэгли, Петти представил этот случай таким образом, чтобы показать, что «польская разведслужба знала заранее о попытке вербовки, что на самом деле обстоит совсем по-другому». Тем не менее Петти написал аналитический доклад по этому случаю вербовки в Швейцарии и по личному делу Бэгли и сделал вывод о том, что «Бэгли является объектом, которому мы должны уделить серьезное внимание». В этом материале Бэгли был дан криптоним «Жираф». Петти сказал, что свой документ он представлял «с неким тревожным чувством», так как ему было хорошо известно, что Бэгли — давний протеже Джима Энглтона.
В своем докладе Петти упоминает Джеймса Рамсея Ханта, заместителя Энглтона. «Хант сказал, что «это лучшее, что я когда-либо видел»». Но при этом Петти добавил, что он ничего не слышал от Энглтона.
«Доклад Бэгли довольно долго пролежал в ящике стола у Энглтона, — сказал Петти. — Затем однажды он пригласил меня для обсуждения дела Носенко. Он выделил некоторые моменты в исследовании Бэгли, занимавшем более 900 страниц. А я отметил: если существует внедренный агент, то в этом случае Носенко не может быть настоящим перебежчиком. «Крот», внедренный в ЦРУ, заявил Петти, сообщил бы о первом контакте Носенко с Управлением в 1962 году, и Носенко, если бы он действительно был агентом, не вернулся бы обратно в 1964 году. Я сказал ему, что нет необходимости обращать внимание на все эти моменты в исследовании Бэгли объемом свыше 900 страниц. На самом деле все это значительно проще».
Энглтон некоторое время размышлял над этой мыслью. Затем сказал мне: «Пит не является советским шпионом».
В этот момент Петти увидел свет, подобно апостолу Павлу по дороге в Дамаск. Внезапно его осенило: не Бэгли, а сам Энглтон является агентом. «Я был ошеломлен, — сказал Петти, — потому что суть моего документа о Пите не рассматривалась. Именно в тот момент я решил, что был не прав, считая Голицына достойным всяческих похвал. Я начал переосмысливать все заново. Вполне разумно посмотреть на что-то с другой стороны. Голицын был направлен для того, чтобы использовать Энглтона. Следующий шаг: может быть, это уже не просто использование, и я должен был допустить такую возможность в отношении Энглтона. Голицына направили, по-видимому, для оказания на него соответствующего влияния или для обеспечения его теми материалами, основываясь на которых он (Энглтон) мог бы внедриться в другие службы и контролировать их».
Петти решил, что Энглтон, судя по всему, сам является предателем. «Энглтон открыл Голицыну доступ к обширной особо секретной информации, которая могла уйти в КГБ. Энглтон был «кротом», однако ему нужен был Голицын, которого он мог использовать в своих интересах».
Теперь Петти был уверен, что нашел ключ ко всему, что происходило внутри Управления в течение последнего десятилетия. «Голицын и Энглтон. Перед вами два парня, идеально подходящих друг для друга. Голицын обеспечивал реализацию тех дел, которые на протяжении ряда лет планировал осуществлять Энглтон для вхождения в службы внешней разведки. Сами наводки Голицына служили этому. Я пришел к выводу, что если рассуждать логически, Голицын — ценный внедренный агент».
Чем больше Эд Петти думал над этим, тем все больше убеждался, что все это время Энглтон был глубоко законспирированным агентом, «кротом». В конечном счете он имел доступ практически ко всем материалам. «Единственным местом в ЦРУ помимо комнаты для ознакомления с телеграммами, где имелся полный доступ ко всем поступавшим материалам, был рабочий стол Джеймса Энглтона. Судя по имевшейся у нас информации, проникновение должно было осуществляться на высоком, секретном уровне и долгосрочной основе.
Можно сказать, что кабинет директора соответствовал этим требованиям, но ведь было несколько директоров, а все оперативные телеграммы шли через Энглтона».
К тому времени охота на «кротов» вышла из-под контроля. Подобно чудовищу Франкенштейна, она в итоге обрушилась на своего создателя.
«В 1971 году, — рассказал Петти, — я начал работать над этой проблемой. Заносил данные на карточки, разрабатывал теорию». Он не осмеливался обсуждать то, чем он занимался, с Джином Эвансом, бывшим в то время его шефом. Вместо этого он обратился к своему близкому другу, старшему офицеру, и изложил ему свои соображения. «Я сказал, что не могу этим заниматься без поддержки. Он обещал сообщить о нашем разговоре директору и через несколько дней пришел ко мне и сказал, чтобы я продолжал свою работу. Сказал, что разговаривал с Хелмсом».
Хелмс отрицал, что в бытность директором ЦРУ знал о том, что самого начальника его контрразведки стали подозревать в шпионаже.
«Мне ничего не было известно об этом, когда я работал в ведомстве, — заявил он. — Я знал Эда Петти, он работал в ЦРУ в течение многих лет. Но никто и никогда не рассказывал мне, что Петти занимается расследованием. Вывод Петти о том, что Энглтон — «крот», — добавил Хелмс, — довольно странен».
Старший офицер, которому доверился Петти, был Джеймс Критчфилд. Много лет назад он был шефом Петти в Мюнхене, а потом возглавлял отделы Восточной Европы и Ближнего Востока. По словам Критчфилда, он действительно знал о расследовании Петти, и тот обсуждал с ним этот вопрос. Однако он никогда не говорил об этом Хелмсу и сообщил ему эти факты только после того, как и директор ЦРУ, и он сам ушли из Управления[216].
Однако Петти был недалек от истины, считая, что его наставник встречался с директором, поскольку, как оказалось, в 1974 году Критчфилд проинформировал тогдашнего директора ЦРУ Уильяма Колби о расследовании Петти дела Энглтона. Критчфилд собирался уходить в отставку. «Я сообщил со слов Эда Петти о возможных проблемах безопасности в отделе контрразведки. Конечно же, я упомянув об Энглтоне.
Я не хотел уходить, не доведя известную мне информацию до директора»[217].
Петти занимался своей работой в обстановке абсолютной секретности и никогда ни с кем, кроме Критч-филда, не делился тем, что собирает информацию на собственного босса, Джеймса Энглтона, как советского шпиона. К весне 1973 года после напряженной работы, продолжавшейся около двух лет, Петти понял невозможность своих дальнейших усилий. Он решил уйти в отставку.
«Я проинформировал своего посредника о своем решении уйти в отставку. Он сказал: «Вы должны с кем-то переговорить». К тому времени директором ЦРУ стал Колби, но на прием к нему попасть было невозможно. В итоге я встретился с помощником заместителя директора по операциям Дэвидом Бли. Я рассказал ему о себе, на что он ответил: «Мы хотим, чтобы вы остались». Смысл его слов был таков: «продолжайте заниматься тем, чем вы занимаетесь». Поэтому я остался и продолжал свою работу еще один год».
В 1974 году, по словам Петти, он твердо решил уйти в отставку. Бли попросил его подготовить доклад по Энглтону[218]. «Я сказал, что вся информация записана на карточках. Нам со старшим офицером Джеймсом Берком отвели комнату, где и проходила наша беседа, продолжавшаяся в общей сложности 26 часов. Она была записана на магнитофон. Кроме того, я просмотрел имевшие отношение к делу материалы, хранившиеся в двух сейфах. Во время нашей беседы, которая записывалась на пленку, я совершенно ясно заявил, что Энглтон должен быть тем самым человеком. Проникновение. Мы не говорили о «кротах». Я не сказал, что он единственно возможный «крот». Но он единственный человек, который был здесь все это время и все видел. Я посоветовал им избавиться от Энглтона, уволить его».
Еще до того, как Уильям Колби стал директором ЦРУ, он начал подвергать нападкам возглавляемую Энглтоном контрразведку. После возвращения Колби из Вьетнама в 1971 году Хелмс назначил его исполнительным директором ЦРУ.
Когда президент Никсон в разгар «Уотергейта» назначил Хелмса послом в Иране, Колби в феврале 1973 года стал заместителем директора по операциям при новом директоре ЦРУ Джеймсе Шлесинджере.
«У меня было мало контактов с сотрудниками контрразведки, — сказал Колби. — Я знал, что все они очень скрытные люди и представляют собой отдельную силу. У меня был один контакт с Энглтоном в Риме в середине 50-х годов. Управление контрразведки вело агента, в итоге это дело поручили мне. У меня имелись определенные сомнения». Возникшие в Риме противоречия не играли важной роли, однако они вселили Уильяму Колби мысль, что контрразведка стала слишком независимой, ей никто не указ.
Пути Колби и Энглтона не часто пересекались вплоть до 1967 года, когда Колби попросили возглавить советский отдел. Однако этой работой вместо него стал заниматься Дэвид Мэрфи, когда Колби неожиданно направили во Вьетнам. В тот период, когда Колби готовился к работе, как он думал, на должности начальника советского отдела, Энглтон захотел увидеться с ним. «Джим пригласил меня на так называемый брифинг. И я несколько часов слушал его: КГБ — повсюду, оно проникло в руководящие политические круги США и других стран, и ЦРУ — главная цель. Как юрист, я ожидал доказательств. Но их не было».
Когда Колби стал заместителем Шлесинджера по операциям, он отвечал за контрразведку и вдруг стал начальником Энглтона. «Я начал присматриваться ко всему и обнаружил, что личный состав контрразведки насчитывал несколько сотен сотрудников. На меня оказывали давление, с тем чтобы сократить численность. Штат был, пожалуй, сильно раздут».
Колби пробыл заместителем директора ЦРУ по операциям только два месяца, но за этот период он также узнал, что Энглтон взял под свой контроль все, что касалось контактов с Израилем. «Я обнаружил, что все по Израилю делалось через контрразведку, и, к своему изумлению, узнал, что шеф резидентуры в Каире не мог напрямую связываться с шефом резидентуры в Израиле. Все контакты должны были осуществляться через отдел контрразведки».
Колби обнаружил также, что на протяжении 20 лет ЦРУ вскрывало почту, следующую первым классом, в нарушение закона. В это время Энглтон и отдел контрразведки перехватывали переписку между США и СССР, а также другими коммунистическими странами. «Я занялся поближе этим вопросом и составил меморандум о том, что следует положить конец такой ситуации, — сказал Колби. — Сотрудник почты, который отвечал за эту работу, очень перепугался. Но меры, принятые мной, не дали никаких результатов. Энглтон воспротивился. Шлесинджер принял половинчатое решение, сказав: „Давайте временно приостановим эту работу“»[219].
В мае Колби был назначен директором ЦРУ. «Я стал вести с Джимом разговоры об этих вещах вскоре после вступления в новую должность, — рассказывал он. — Несколько раз я поднимал вопрос о том, чтобы вывести из-под контроля контрразведки работу по Израилю, но он сопротивлялся. Я не хотел насильно заставлять его. Теперь я могу поведать причину, так как его уже нет в живых. Он был настолько эмоционален, что я действительно опасался: если я избавлюсь от него, он что-нибудь сделает с собой».
Колби боялся, что Энглтон мог покончить жизнь самоубийством?
«Да. Поэтому я пытался отвести его от дел постепенно». Чтобы избавиться от Энглтона, Колби одно за другим ликвидировал отдельные подразделения контрразведки. До того времени исключительно контрразведка осуществляла связь с ФБР. Это означало, что Сэм Папич, человек Гувера, напрямую имел дело с Энглтоном, с которым у него установились тесные дружеские отношения.
«Я передал связь с ФБР в ведение заместителя директора по операциям, — вспоминал Колби. — Никто не мог сказать, чем занималась контрразведка. Однако отношения с ФБР имели важное значение. Поэтому я назначил сотрудника из оперативного директората на должность офицера связи с ФБР».
Методично Колби предпринимал и другие шаги, чтобы ослабить могущество Энглтона. До того времени ни одна разрабатываемая тайная операция не могла осуществляться в любом уголке мира без одобрения контрразведки. Колби распорядился, чтобы такие решения принимались руководителями отделов; отдел контрразведки «должен давать советы, а не накладывать вето или давать одобрение на проведение операции». Работа контрразведки была сведена к осуществлению проверок лиц, предлагаемых для использования в операциях. «Контрразведка могла дать допуск, в котором указывалось, что нет никакой негативной информации на то или иное лицо, — говорил Колби, — но она не должна была давать одобрение на проведение всей операции».
Когда утверждение операций перестало входить в компетенцию Энглтона, следующее, что сделал Колби, — он лишил Энглтона полномочий осуществлять контроль за уже проводившимися операциями. По словам Колби, «периодически контроль за их проведением осуществлялся контрразведкой и несколькими другими подразделениями ЦРУ». В какой-то степени, сказал он, «эти сотрудники выработали некую оперативную систему и вели свои собственные операции. Я полагал, что такая постановка была ошибочной. Проводить операции должен отдел». Теперь контрразведка более не занималась контролем за осуществлением операций.
Кроме того, Колби вывел из подчинения Энглтона небольшое подразделение, занимавшееся вопросами международного коммунизма. Так как эти подразделения уже не находились под контролем Энглтона, то численность сотрудников его отдела уменьшилась с нескольких сотен до примерно сорока человек.
«Энглтона лишили функции осуществления связи с ФБР и руководства другими подразделениями. Таким образом, ему дали понять, откуда все идет, — рассказывал Колби. — Но он не попался на эту приманку».
Энглтон, конечно, понимал, что происходит, так же как и «Скотти» Майлер. «Колби не объяснял осуществляемых им перемен, — вспоминал Майлер, — и было ясно почему. Он считал, что утверждение контрразведкой каждой операции препятствовало ее осуществлению. Избавлялись от людей, стоящих над душой оперативных работников. Никто не мог предугадать дальнейшие действия. Грубо говоря, избавились от „гестапо“».
«Существовала прямая связь между неприязнью Колби к охоте на „кротов“ и его решением расформировать контрразведку в 1973 году, — продолжал Майлер. — Колби не понимал контрразведку. Но он сказал, что каждый ведущий оперативный работник будет его собственным контрразведчиком». Какова же была реакция Джима? «Значит, должна быть контрразведка».
«Мы знали, откуда все это происходило, — продолжал Майлер. — Мы с Джимом говорили об этом. И это был первый шаг, чтобы убрать Джима. Я не видел больших перспектив для контрразведки. В возрасте 48 лет у меня предположительно было несколько мест, куда бы я мог пойти. Разумеется, мы понимали, что контрразведка в том виде, в каком ее представлял Джим, да и я тоже, не сможет функционировать при такой реорганизации».
По завершении реорганизации поле деятельности Энглтона и его подразделения стало очень ограниченным. «Все, что нам осталось, — это заниматься внедренными и двойными агентами, нескольких из которых вела контрразведка, — рассказал Майлер. — В нашей компетенции оставались утверждение операций с двойными агентами и повседневный надзор. Возможно, осталось десятка два таких операций. Мы начинали все больше заниматься исследованиями и анализом, мы перепроверяли дела по внедрению иностранных агентов, чтобы посмотреть, не упустили ли мы чего-то».
Вспоминая, как урезались полномочия Энглтона, Колби искренне рассказал, что именно он делал и почему. «Будучи заместителем директора по операциям, а затем и директором ЦРУ, я разваливал на части империю Энглтона. У него сложились прямые дружеские отношения с Даллесом, Хелмсом и Маккоуном. Он пытался установить такие же отношения и со Шлесинджером». При Шлесинджере это у него не вышло, и Энглтон знал, что бесполезно ставить подобную цель при Колби.
«Я давно уже решил, что надо избавиться от него, но каким образом? — сказал Колби. — Мне представлялось важным руководить четко функционирующей организацией, разные подразделения которой работали бы согласованно. Его же идея сводилась к полной секретности и контролю за всеми участками работы. Затем я обнаружил, что в контрразведке работало несколько сотен сотрудников. Честно говоря, я не мог понять, чем они все занимаются. Какая нам от этого польза? Никакой.
В конце концов я решил: если я отвечаю за контрразведку, то должен контролировать ее. Но я не был уверен, смогу ли я это сделать, пока Энглтон возглавляет ее. По контрразведке нужно было пройтись хорошей новой метлой».
По мнению Колби, охота на «кротов» затруднила проведение операций ЦРУ и почти свела на нет его основную задачу того периода — осуществление разведывательной деятельности по Советскому Союзу. «Я не смог обнаружить ни одного случая проникновения и окончательно пришел к мысли, что его работа препятствовала вербовке настоящих агентов. Я был бы счастлив иметь двух ложных агентов, если бы мог получить трех настоящих. Мы не вербовали никого, поскольку сверхподозрительность негативно сказывалась на нашей работе. Я сказал, что пора положить этому конец. Мы должны иметь агентов. Нам нужно вербовать советских граждан. Вот чем должно заниматься ЦРУ».
Колби пришел к выводу, что Энглтон сделал ЦРУ недееспособным. «Важным фактором было и другое: все, что он делал, приводило к обратным результатам. Если находишь причину отвергать каждого, кого хочешь завербовать, то операцию осуществить нельзя. Джим считал, что если можно сделать подход к потенциальному агенту из числа советских людей, значит, им манипулируют с другой стороны. Самым главным стало отсутствие вербовок, а с точки зрения режима работы — он действовал в условиях полной секретности. Я полагал, что его навязчивая идея о коварстве КГБ была преувеличением, чем-то нереальным. Не следовало доверять такие важные дела столь эмоциональным людям. Кроме того, вопрос касался честного отношения к моим сотрудникам. Я не мог согласиться с тем, чтобы их брали на подозрение по неадекватным причинам».
И наконец, это неловкое положение с Дэвидом Мэрфи. Когда Александр де Маранш отвел Колби в сторону и сообщил о предупреждении Энглтона, что Дэвид Мэрфи — советский шпион, тот был взбешен. «Как может работать служба, если один сотрудник направляется в Париж на должность резидента, а другой ходит и рассказывает французам, что тот — советский агент?»
Для Колби это стало последней каплей. «Я уже принял решение, что надо сделать замену, а это обстоятельство явилось еще одним фактором, серьезным фактором. Еще одним доказательством, что Джим абсолютно вышел из-под контроля. И тогда возник вопрос: как это осуществить?»
Пока Колби размышлял, как устранить сопротивляющегося Энглтона, проблема решилась сама собой с помощью человека по имени Симор Херш. Блестящий и неутомимый бывший полицейский репортер из Чикаго, Херш, в лучших традициях увековеченный в газете «Франт пейдж», получил национальную известность в 1969 году, когда одной малоизвестной службе новостей поведал историю о зверской расправе во вьетнамской деревне Май Лай. За этот репортаж он получил премию Пулитцера. Он стал работать в газете «Нью-Йорк тайме», где его репортажи об «Уотергейте» в начале 70-х годов помогли этой газете удержаться на должном уровне, а иногда даже и превзойти Боба Вудворда и Карла Бернстайна, публикации которых появлялись день за днем в газете «Вашингтон пост».
В 1973 году, освещая тему «Уотергейта», Херш писал: «Кое-кто, с кем я имел дело, сказал мне, что внутри ЦРУ существует большая проблема. Осенью 1974 года Маски провел слушания по вопросу о реорганизации разведывательного сообщества. Там присутствовал один человек, с которым мне удалось поговорить. Я спросил его: «Что это, черт возьми, за проблема, которая существует внутри ЦРУ?»»
Это было в тот период, когда Херш узнал историю о «фамильных драгоценностях».
В мае того же года Шлесинджер, потрясенный историей о париках, шпионских штучках и других вещах, которыми ЦРУ снабдило «водопроводчиков» Белого дома во время пребывания в нем Никсона, издал приказ, который запрещал незаконные действия служащих ЦРУ, и требовал, чтобы они докладывали о любых нарушениях устава ЦРУ в прошлом и настоящем. Так родилось понятие «фамильные драгоценности», эвфемизм ЦРУ для досье на 693 страницах, хранящего тайну, тщательно скрываемую от посторонних. Список планируемых мероприятий включал заговоры против лидеров других государств с целью их физического устранения, испытания действия наркотиков на ничего не подозревавших американцах, перехват почтовой корреспонденции и операцию «Хаос», программу слежки за американцами, выступавшими против войны во Вьетнаме.
Вскоре Херш прослышал об этом необыкновенном списке, и ему удалось узнать часть его содержания. «В итоге я вступил в контакт с одним человеком, который имел доступ к «фамильным драгоценностям», — 9 Зак. № 396 257 рассказал он. — Я получил внушительные данные, которые показывали, сколько писем вскрывалось, телефонных разговоров прослушивалось, сколько было произведено несанкционированных «визитов», и, конечно, сведения о шпионаже в собственной стране. Я помню свой разговор с Энглтоном. Сначала он говорил, что не имел к этому никакого отношения».
Энглтон также пытался завлечь Херша, но безрезультатно. «Энглтон сказал: «Послушай-ка, забудь то, над чем ты сейчас работаешь. У меня есть более ценная информация для тебя». И он поведал мне о двух (шпионских) сетях — в Северной Корее и в Москве. «Ловушки» он расставил в Москве. Я позвонил Колби и сообщил ему о том, что рассказал мне Энглтон, причем по обычному телефону, и мне показалось, что тот тяжело вздыхал и цокал языком.
К тому моменту, когда я уже был готов встретиться с Колби, у меня имелись внушительные данные. Я позвонил Колби, и он согласился принять меня в пятницу утром в ЦРУ. Я изложил все, что знал. Для меня прошлый год был очень напряженным, вся работа была связана с «Уотергейтом». И мы с Колби плавали на «Гло-мар Эксплорер», что, между прочим, было не моим решением[220].
Он просто вместе со мной просмотрел мою публикацию о шпионаже внутри страны. Я заметил, что вскрывалось такое большое количество корреспонденции, так много было произведено несанкционированных «визитов». Он просмотрел цифры и уменьшил их. Было заведено десять тысяч карточек (я назвал их «досье44) на американских граждан. Он заметил, что они больше похожи на карточки. Когда я сказал, что было произведено 62 несанкционированных «визита44, он ответил, что только 19. С его точки зрения, такое уменьшение вредило статье. Тем не менее он подтвердил все факты».
Расставшись с Колби, Херш сразу же позвонил Эйбу Розенталю, редактору «Нью-Йорк тайме»: «Я не стенографировал его, но он подтвердил все». «Помню, как я был изумлен, что мне удалось узнать эти подробности от него, — говорил потом Херш. — В пятницу я пошел на работу и написал обо всем, а в воскресенье моя статья была опубликована».
Колби рассказывал, как он во время встречи с Симором Хершем всячески пытался принизить роль ЦРУ во всем этом. Колби заметил: «Он пришел ко мне и сказал, что у него есть более значительная история, чем происшествие в Май Лай. Он сказал, что мы (ЦРУ) проводим широкомасштабную разведывательную операцию внутри страны. Я ответил, что у него неверная информация. Он спросил меня о подслушивании телефонных разговоров. Я сказал, что мы прослушивали телефонные переговоры не множества людей, а всего лишь нескольких нынешних и бывших сотрудников ЦРУ, оказавшихся под подозрением. Он сказал, что мы вскрываем почту. Я ответил, что это происходит лишь в очень и очень ограниченном количестве случаев. Это затрагивает лишь небольшую часть корреспонденции, направляемой в Москву и из Москвы».
Колби понял, что ему не удалось сбить Херша со следа, — в любом случае это было просто невозможно. «У меня было ощущение, что он что-то найдет», — лаконично выразился Колби. Когда возникла угроза разглашения одного из самых неприятных секретов ЦРУ, Колби решил, что он больше не может тянуть с увольнением Энглтона.
«За какое-то время до этого, — рассказывал Колби, — я намекнул Энглтону, что, если он уйдет до определенной даты, он получит пенсию получше. Когда я впервые поднял этот вопрос, он ответил „нет“. Этот вопрос возник вновь в декабре 1974 года, еще до моей встречи с Хершем. У меня был разговор с ним за несколько дней, может быть, за неделю до этого. Я указал ему, что настало время уйти и что, если он не хочет уходить в отставку, у меня есть для него другая работа по написанию истории его вклада в работу Управления. Это был способ занять его прибыльным делом. Но он и от этого отказался. Я сказал, чтобы он подумал об этом и хочу, чтобы он ушел к концу декабря».
Когда статья Херша должна была вот-вот взорвать общественное мнение, Колби позвонил Энглтону и сообщил ему, что газета «Таймс» вышла на операцию «Хаос», то есть на программу ведения наблюдения внутри страны, и на другие секреты, способные доставить неприятности. «Я позвонил Джиму и сказал: „Мне жаль, но это произошло. Фактически это не связано с нашими разговорами. Мы оба знаем, что эти разговоры велись давно. Но теперь я настаиваю на твоем уходе“. Я не собирался участвовать в скандале, который коснется Джима, защищать его и работать с ним. Ведь он действительно имел отношение к некоторым из „семейных драгоценностей“, например к вскрытию почты. Я сказал: „Ни один человек в мире, Джим, не поверит нам, что причиной этого стал Херш“».
Однако, обращаясь к прошлому, Колби согласился с тем, что «точный срок» увольнения Энглтона и в самом деле был вызван статьей Херша в «Таймс». В конце концов он уволил Энглтона в ожидании ее опубликования[221].
Статья Херша была опубликована на первой полосе «Таймс» в воскресенье 22 декабря 1974 года под заголовком «Поступило сообщение о колоссальной операции ЦРУ в США против антивоенных сил и других инакомыслящих в годы правления Никсона». В статье сообщалось, что ЦРУ в нарушение своего устава провело «грандиозную незаконную разведывательную операцию внутри страны», направленную против антивоенного движения, и занималось подключением к линиям связи, прослушиванием телефонных переговоров и «тайным почтовым контролем»[222].
Статья Херша вызвала цепную реакцию в политических кругах. Президент Джеральд Форд, катавшийся на лыжах в Вейле (штат Колорадо), заявил, что он не потерпит незаконного шпионажа, и приказал Колби подготовить отчет по этой операции ЦРУ. Колби отдал распоряжение заместителю директора по операциям Уильяму Нельсону подготовить проект отчета. «Около восьми часов утра в понедельник, — рассказывал Майлер, — мне было сказано, что я должен просмотреть кое-какие материалы, которые готовились канцелярией Нельсона для Белого дома в связи со статьей Херша. Нам надо было просмотреть секретные сообщения о вскрытии почты и по другим вопросам для отчета, который Колби должен был доставить в Вейл. Затем мне сказали, что вечером в 7 часов я должен явиться в кабинет Нельсона. В течение дня Джим позвонил мне и Рэю Рокка и объяснил, что уходит в отставку».
Рокка был заместителем начальника контрразведки. В тот вечер на совещании в кабинете Нельсона, по словам Майлера, также присутствовали Энглтон, Нельсон, стройный блондин, хорошо одетый и обходительный, и заместитель Нельсона Дэвид Бли.
«Нельсон объяснил, что Джим уходит в отставку, в контрразведке происходят большие перемены, Рок (Рэймонд Рокка) и я больше не будем там работать. После этого он повернулся ко мне и спросил: «Что вы намерены делать?» — «Думаю, я уйду в отставку». — «Хорошо». Он повернулся к Року, и тот ответил: «Думаю, я уйду в отставку». Так все и произошло».
Двумя днями позже Херш сообщил об отставке Джеймса Энглтона, а вскоре после этого и об отставке Рокка, Майлера и Уильяма Худа, еще одного заместителя Энглтона и ветерана УСС с тридцатилетним стажем. Худ, поздно вошедший в ближайшее окружение Энглтона (он поступил на службу в качестве заместителя лишь в 1973 году), все равно собирался уходить в отставку, но, по словам Майлера, был захвачен круговоротом массовых увольнений.
В тот день, когда стало известно об увольнении Энглтона, сотруднику «Си-би-эс ньюс» Дэниелу Шорру в шесть часов утра позвонили из его офиса. Съемочная группа уже была на пути к дому Энглтона в Арлингтоне, и Шорр получил инструкцию встретить ее там. Он отчетливо помнит, как начался этот разговор, превратившийся в четырехчасовую беседу. «Я приехал, он открыл дверь, еще не совсем проснувшийся, в накинутом поверх пижамы халате. Пригласил меня войти. Он сел, и мы очень долго разговаривали». «Я всю ночь не ложился, — сказал Энглтон. — Моя семья в отъезде, но я могу предложить вам яблочный сок или кофе».
Он выглядел усталым, очки у него спадали с носа, и иногда он пытался смотреть поверх них. Он говорил тихим голосом. Очень долго рассказывал о Ясире Арафате, о том, как Арафат приехал в Москву и возложил венок к Мавзолею Ленина. Он показал мне фотографию сияющего Арафата у подножия Мавзолея. «Человек, стоявший рядом с Арафатом у Мавзолея Ленина, — сотрудник КГБ, который его ведет, — сказал Энглтон. — Петраков. Он возглавлял резидентуру КГБ в Карлсхорсте, когда Блейк был в Берлине».
«Никакой съемки, — заявил Энглтон Шорру. — Съемочной группе придется остаться снаружи». Он сказал: «Вы раскрыли мое прикрытие. Я отправил членов моей семьи в различные штаты, они разбросаны по различным местам — из-за этой истории. Все это причинило мне массу неприятностей. Если вы меня сфотографируете, мою жену убьют. Моя тридцатидвухлетняя жена уехала, а я вот здесь». И он продолжил свои сетования по поводу обрушившихся на него неприятностей. Затем вновь вернулся к разговору об Арафате.
Энглтон пытался выговориться, перескакивая с одной темы на другую, разговор стал бессвязным. Он тридцать раз был в Израиле. Он никогда не встречался со взломщиком «Уотергейта» Говардом Хантом. Затем последовало длительное рассуждение о том, как в Москве пришел к власти Георгий Маленков, и о других кремлевских интригах, которые находились под контролем КГБ, о том, что у Дзержинского было четыре тысячи агентов и что Сталин превратил ОГПУ в террористическую организацию.
«Он говорил об уотергейтском скандале, — сказал Шорр. — Рассказал, что когда он разразился, Хелмс подвергся неотступным преследованиям. Он был превращен в козла отпущения для спасения президента Никсона. Энглтон был обеспокоен разрядкой напряженности: „Общественное мнение высказывается в пользу разрядки напряженности, все крутится вокруг разрядки, которая является лишь еще одним синонимом мирного сосуществования, которым пользовался Сталин. Меня глубоко беспокоит проводимая Никсоном и Киссинджером политика разрядки“».
«В течение 22 лет я занимался израильским направлением. Израиль был единственным разумным государством на Ближнем Востоке. Они хотели перевести меня с этого направления — это было неприемлемо. Колби планировал поездку в Израиль, а Киссинджер запретил ему посещать Восточный Иерусалим, потому что это явилось бы признанием израильского контроля над этой частью города, и Колби отменил это посещение». Энглтон был разъярен этим поступком.
Энглтон сказал, что «разрыв Югославией отношений с Советским Союзом — фальсификация, как и разрыв отношений между Китаем и СССР. Ничего подобного не было, все это — дезинформация со стороны КГБ, направленная на то, чтобы ввести нас в заблуждение. Эти отношения сохраняются под централизованным контролем». Именно тогда я решил, что он действительно не в своем уме. Я сказал: «Г-н Энглтон, вы действительно верите этому?» Он не ответил и продолжал говорить, будто меня там и не было, будто он вглядывался в собственную душу.
Затем Энглтон заявил, что уходит. Я сказал: «Г-н Энглтон, вы осознаете, что там — снаружи — находятся шестнадцать телекамер. Вы только что сказали мне, что если вас снимут, то ваша семья будет уничтожена». И все же он вышел из дома и, казалось, как загипнотизированный застыл перед камерами. Какое-то время он что-то говорил, потом сел в свой голубой «мерседес» и уехал».
К тому времени Колби завершил чистку в руководстве контрразведки. Однако это было лишь началом последствий, связанных с публикацией Херша. Для проверки выдвинутых обвинений президент Форд назначил комиссию из восьми членов во главе с вице-президентом Нельсоном Рокфеллером. В начале 1975 года началось тщательное расследование в сенате, которое возглавил сенатор Фрэнк Черч, демократ от штата Айдахо. В палате представителей подобное расследование проводилось под руководством члена палаты представителей Отиса Пайка, демократа от Лонг-Айленда[223].
Джеймс Энглтон неохотно возник из неизвестности, чтобы предстать в сенате перед специальным комитетом по разведке, возглавляемым сенатором Черчем. Он впервые в жизни публично давал показания в качестве свидетеля. Под стрекот и жужжание теле- и кинокамер в ярко освещенном канделябрами зале для закрытых заседаний за столом для дачи свидетельских показаний был приведен к присяге высокий сутулый человек.
После небольшого препирательства вначале между Энглтоном и Черчем сенатор Ричард Швейкер, республиканец из Пенсильвании, приступил к допросу бывшего шефа контрразведки. На предыдущем, закрытом заседании, отметил сенатор, Энглтону был задан вопрос, почему ЦРУ не выполнило распоряжение президента об уничтожении смертельного токсина, вырабатываемого моллюсками, который использовался в качестве покрытия, наносимого в виде микроскопической пленки на малоразмерные поражающие элементы, предназначенные для стрельбы из штатного оружия?
Энглтон ответил: «Непостижимо, чтобы государственная секретная разведывательная служба была обязана исполнять все открытые распоряжения правительства». «Вы действительно так считаете? — спросил Швейкер.
«Ну, если все воспроизведено точно, то этого не следовало бы говорить», — ответил Энглтон.
Швейкеру этого было недостаточно. Считает ли Энглтон, что ЦРУ было обязано подчиняться президенту или нет?
Энглтон сказал, что его высказывание было дерзким и что он хотел бы взять свои слова назад.
К допросу подключился сенатор Черч.
— Вы не имели этого в виду, когда сказали это в первый раз? — спросил он.
— Я не знаю, как ответить на этот вопрос, — ответил Энглтон. — Я сказал, что я беру эти слова обратно.
— Но вы не желаете сказать, имели ли вы или не имели в виду именно это значение, когда вы говорили об этом?
— Я бы сказал, что все эти предположения не должны были бы служить поводом для догадок.
Сенатор Роберт Морган из Северной Каролины был обеспокоен ответами Энглтона. Он хотел знать, каким образом «можно установить такой контроль за действиями ЦРУ, который обеспечил бы соблюдение основных прав американских граждан в этой стране?.. Как мы должны поступать, если… разведывательные ведомства отказываются подчиняться директивам?.. Какими гарантиями должны мы располагать, чтобы быть уверенными, что разведывательное ведомство будет выполнять любые указания конгресса или президента?»
«Мне нечего добавить к этому, сэр», — сказал Джеймс Энглтон.
В дни, непосредственно предшествовавшие наступлению осени, рассказывал Майлер, «Джим находился в весьма унылом настроении. Что ждет контрразведку? Что случится с усилиями, направленными на то, чтобы оградить правительство от проникновения агентов? Много вечеров мы проводили за ужином в «Шанхае» на автостраде Ли хайуэй. Либо Джим отправлялся в ресторан «Нисуаз» в Джорджтауне»[224]. Там за обедом двое мужчин вели разговоры о туманном будущем контрразведки.
«Он был очень озабочен тем, что нам не удалось обнаружить внедрившегося агента, — сказал Майлер. — Он спрашивал меня: «Где следовало искать? Что мы должны были делать? Что мы упустили? Что мы делали неправильно?»»
ГЛАВА 17
Последствия
Норвежский контрразведчик был удивлен. Он установил сотрудника КГБ в Осло и следовал за ним до места отдыха. Озадачила его женщина, с которой русский там встретился. Она была старше, чем можно было ожидать, вероятно, лет 65-ти, отнюдь не юная красотка, с которой сотрудник КГБ мог бы предпочесть встретиться в выходной.
Бывший агент контрразведки ФБР рассказал, что было потом. «Служба безопасности Норвегии установила ее личность и… о Боже, она работала в Москве. Она вписывалась в дело Голицына».
Конец 70-х годов, более десяти лет прошло с того времени, как Ингеборг Лигрен была арестована и допрошена «с пристрастием» (в итоге освобождена за недостаточностью доказательств) в результате идентификации ее Анатолием Голицыным как советской шпионки. Энглтон предупредил норвежцев о Лигрен и продолжал настаивать на ее виновности даже после ее освобождения.
Женщиной, с которой встретился русский, оказалась Гунвор Гальтунг Ховик, 65 лет, работавшая секретарем в норвежском посольстве в Москве в течение девяти лет до появления там Лигрен[225].
В 1977 году Гунвор Ховик трудилась в отделе по торговым и политическим вопросам в министерстве иностранных дел Норвегии в Осло. Проверив свои отчеты, норвежская служба безопасности установила, что она работала в посольстве в Москве с 1947 по 1956 год.
«Голицын рассказал, — продолжал контрразведчик из ФБР, — что КГБ избрал норвежское посольство в Москве в качестве объекта проникновения. Решил, что женщина, оказавшаяся Ховик, одинока, и устроил так, что в опере с ней познакомился привлекательный сотрудник КГБ. Это сработало».
Джеймс Нолан-младший, сотрудник контрразведки ФБР в советском отделе штаб-квартиры в то время, когда установили Ховик, объяснил, как провалилось это дело. «Голицын говорил о норвежке, завербованной с помощью «медовой ловушки» в Москве, которая была важным источником для КГБ в МИД Норвегии. Это было абсолютно, совершенно точно. Управление с помощью норвежцев подобрало пять или шесть кандидаток и показало их дела Голицыну. «Вот эта женщина», — сказал он. Ее арестовали. Разразился большой скандал. Беда в том, что это оказалась не та женщина».
Как только норвежская полиция безопасности вышла на след Ховик, ее взяли под наблюдение на несколько месяцев. 27 января 1977 года за ней все еще следили, когда она ехала в трамвае на встречу с Александром Принци-паловым, сотрудником КГБ, числившимся третьим секретарем советского посольства. Встретившись с сотрудником советской разведки, она передала ему документы. В этот момент группа полицейских, переодетых спортсменами, окружила их, арестовала Ховик и задержала Принципалова, пока тот не доказал свой дипломатический статус, после чего его пришлось отпустить.
На допросах и в суде Ховик призналась, что передала КГБ кучу секретных документов, сначала в посольстве в Москве, а затем — на протяжении 19 лет, работая в министерстве в Осло. КГБ экипировал Ховик специальной сумкой русского производства с секретными карманами, чтобы удобнее было выносить документы из министерства. Она передавала их своим руководителям из КГБ во время встреч на улицах в районе Осло, а за это получала деньги.
Ховик вел Геннадий Титов, сотрудник резидентуры КГБ в Осло, ставший впоследствии генералом[226]. После ареста Ховик Норвегия выслала пятерых советских граждан за шпионаж, включая Принципалова и водителя посольства С. Громова, которых обвинили в получении секретных материалов от Ховик. В то время Титов находился в отпуске в Москве, но правительство Норвегии дало понять, что вернуться ему не разрешат.
По словам корреспондента столичной газеты «Афтен-постен» Пера Хегге, история на этом не закончилась. У Советов имелся персональный «крючок» для Ховик. Сотрудник КГБ, которого, по словам Голицына, подсадили к ней в опере в Москве, был ей уже знаком. «В 1945 году, — сказал Хегге, — Ховик работала переводчицей у норвежского врача, пытавшегося улучшить условия содержания в лагерях советских военнопленных, которых немцы отправили в Норвегию и которых теперь репатриировали. Она подружилась с советским солдатом, а может, и влюбилась в него. Его, в отличие от других, не отправили в Сибирь по возвращении в Советский Союз. Он написал ей. Его использовали, чтобы держать ее под контролем: если она не будет сотрудничать, с ее советским другом-солдатом произойдет нечто ужасное. Мне говорили, что его выпустили из тюрьмы для свидания с ней. И если бы она отказалась сотрудничать, его упрятали бы обратно».
Все подробности дела так никогда и не были оглашены на суде. 5 августа 1977 года, через шесть месяцев после ареста и до того, как она могла предстать перед судом, Гунвор Гальтунг Ховик скончалась в тюрьме от сердечного приступа.
В 1974 году, сразу же после Рождества, Колби отозвал Джорджа Калариса из Бразилии, где тот работал резидентом, и назначил его начальником контрразведки вместо Джеймса Энглтона.
Каларис, сын греческих иммигрантов, владельцев ресторанов в Биллингзе (штат Монтана), пришел в Управление в 1952 году. Он служил большей частью на Дальнем Востоке — заместителем резидента в Лаосе и резидентом на Филиппинах. Там он и познакомился с Колби, который возглавлял отдел Дальнего Востока. Каларис входил в число «дальневосточной мафии», со-трудников-«азиатов», которых Колби привел с собой и поставил на ряд руководящих постов в Управлении.
Когда Каларис стал во главе отдела контрразведки, в качестве одного из первых своих шагов он поручил Уильяму Кэмпу III, сотруднику ЦРУ, который работал в Осло в момент ареста Лигрен и которого Каларис перетащил в контрразведку, изучить это дело. Еще до ареста Ховик Кэмп пришел к выводу, что ЦРУ, положившись на информацию Голицына, испортило все дело, побудив Норвегию арестовать не ту женщину.
Подавленный, Каларис понимал, что Управлению следовало бы выразить свои сожаления Норвегии в связи с ошибочным заключением в тюрьму Лигрен. В 1976 году Кэмпа отправили в Осло с письмом от ЦРУ, подписанным Каларисом, с извинениями правительству Норвегии за чудовищную ошибку в деле Лигрен. Кэмп в сопровождении Квентина Джонсона, резидента ЦРУ в Осло, обратился к властям Норвегии и доставил письмо и устные извинения по адресу. ЦРУ также предложило Лигрен деньги в дополнение к небольшой компенсации, полученной ею от собственного правительства, но нор-вержцы отклонили это предложение.
Кроме того, Каларис предпринял шаги, призванные гарантировать, что сама Лигрен узнала об искреннем раскаянии Управления. Но официальное извинение ЦРУ перед правительством Норвегии так и не стало достоянием гласности. К тому времени Ингеборг Лигрен ушла со службы и канула в неизвестность в своем родном городе Ставангере на юго-западе Норвегии. Номер ее телефона не значился в телефонных книгах, и ее единственным желанием было дожить свои дни тихо и незаметно.
22 января 1991 г. из сообщения, помещенного ее семьей в столичной газете, стало известно, что Ингеборг Лигрен скончалась в Санднесе, пригороде Ставангера, в возрасте 76 лет.
Джордж Каларис, новый шеф контрразведки, был высоким, худощавым мужчиной с живым умом и без светских претензий. В Управлении, возглавляемом в основном выпускниками старейших университетов страны, Каларис являл собою аномалию. В то время как многие его коллеги были уроженцами восточной части США с медлительным выговором Г ротона или Андовера, Каларис вырос в Монтане; по внешности и стилю он в чем-то напоминал Джимми Дуранте. Его начальной школой стали улицы оккупированных нацистами Афин.
Когда Калариса (одиннадцати лет) и двух его братьев мать привезла в Грецию, чтобы они получили там образование, отец навещал их каждый год. Началась вторая мировая война, и Каларис с матерью и братьями остался в Афинах в нацистской оккупации. Семья обзавелась фальшивыми документами на свое имя и выдавала себя за греков. В удостоверении личности Калариса значилось, что он родился в Афинах. Во время войны Каларис учился в юридической школе при университете в Афинах. В 1944 году после освобождения Греции вновь открылось американское посольство. Когда подстегиваемый нетерпением Каларис обратился в посольство, чиновник сказал ему бодро: «У нас здесь кое-что есть для вас». Это была призывная повестка. Каларис вернулся в Соединенные Штаты в апреле 1945 года, а в августе, сразу после окончания войны, был призван на военную службу. Отслужив два года в армии, он закончил юридическую школу при университете штата Монтана и получил степень магистра по трудовому законодательству в нью-йоркском университете. Он работал юристом в Национальном совете по трудовым отношениям, затем в 1952 году пришел в ЦРУ.
Отдел контрразведки, обструганный Колби, уже значительно уменьшился, когда Калариса отозвали из Бразилии и назначили его начальником. Он решил оставить все как есть. Своим заместителем он сделал Леонарда Маккоя, который занимался отчетами в советском отделе. Сотрудники этого типа не ведут агентов, а записывают и оценивают информацию, поступающую с мест от ведущих оперативников. Среди прочих крупных дел Маккой писал отчеты по Пеньковскому и Носенко. Крупный лысеющий человек с размеренной речью, Маккой приходил в ужас, читая дела эпохи Энглтона, к которым теперь имел доступ. Настроенный явно в пользу Носенко и против Энглтона, он еще больше разъярился, когда в полной мере осознал, что происходило за закрытыми дверями контрразведки и группы специальных расследований[227].
Бывший коллега Маккоя в общих чертах описал подоплеку этого: «Будучи еще сравнительно молодым сотрудником в подразделении отчетов, Маккой в разгаре полемики о Носенко написал памятную записку Хелмсу, в которой утверждал, что Носенко чистосердечен и отношение к нему со стороны сотрудников ЦРУ неправильное. Хелмс направил записку Энглтону для комментария. Маккой попал на заметку. Он едва не вылетел со службы. Бэгли и Энглтон навалились на него, словно тонна кирпичей. Слышно было за квартал. Его вызвали «на ковер», и Бэгли задал ему хорошую головомойку».
«Памятная записка привела Энглтона в такую ярость, что, я думаю, он занес Маккоя в список подозреваемых, как он зачастую и делал. Если с кем-то было трудно иметь дело, Энглтон делал вывод, что этот человек действует по советским инструкциям, чтобы сорвать расследование по «кроту», — коллега покачал головой. — Став заместителем шефа контрразведки, Маккой имел несчастье впутаться в дело Шадрина, что отнюдь не способствовало его карьере». Шадрин, капитан советского эсминца, стал перебежчиком в 1959 году и исчез в Вене в 1975 году после того, как американская разведка ввела его в свою игру против КГБ.
Своим вторым заместителем Каларис сделал Лоуренса Стернфилда, крепкого, плотно сбитого ветерана ЦРУ, работавшего в Чили, Бразилии и Боливии, а затем занимавшегося кубинскими операциями в Майами. При Каларисе отдел контрразведки состоял из двух подразделений: исследований и анализа — во главе с Маккоем и операций — под руководством Стернфилда.
Стернфилд был поражен, узнав, что Голицын имел доступ к досье Управления, которые предоставил ему Энглтон в разгар охоты на «кротов». К тому времени ЦРУ упрятало Голицына на «Ферме» в северной части штата Нью-Йорк. Потихоньку Стернфилд стал возвращать досье ЦРУ. Каждый выходной в течение нескольких недель он отправлял на «Ферму» автофургон, который возвращался в Лэнгли нагруженный документами. За рулем находился Эрнест Цикерданос, сотрудник контрразведки ЦРУ.
Группа специальных расследований все еще активно действовала, выискивая проникновения. Каларис передал ее под начало Маккоя. Но по прошествии четырнадцати лет группа специальных расследований так и не обнаружила никаких «кротов» в Управлении, и Каларис приказал ей не тратить больше времени на голицынские наводки.
Позднее новая контрразведывательная команда подверглась критике со стороны бывших помощников Энглтона за отсутствие контрразведывательного опыта. Может, оно и так, но Каларис сообразил попытаться выяснить, чем занимался Энглтон в последние 20 лет. С этой целью он отдал приказание провести серию секретных исследований. Некоторые из них касались крупных советских дел, таких как Носенко, Орлов, Логинов и Шадрин. Но наиболее важным исследованием была массивная, подробнейшая история самого отдела контрразведки при Энглтоне.
Для выполнения этой задачи, достойной Гаргантюа, Каларис обратился к Кливленду Краму. Полный дружелюбный человек с манерами ученого, Крам имел впечатляющие характеристики для этой работы — он был доктором философии Гарвардского университета по специальности «история», каких не так-то много было в секретных службах, и бывшим резидентом. Более того, осуществляя связь взаимодействия между ЦРУ и британской разведкой в Лондоне, он стал очевидцем охоты на «кротов» в Великобритании и был уже знаком с обвинениями, которые выдвигал Голицын.
Сын фермера из Уотервилля (штат Миннесота), Крам обучался в университете Св. Джона, школа бенедиктинцев в штате Миннесота. Он получил степень магистра по европейской истории в Гарварде, во время второй мировой войны отслужил четыре года на флоте в южной части Тихого океана и вернулся в Гарвард, чтобы получить степень доктора философии. Крам мечтал преподавать в каком-нибудь милом маленьком колледже и провести остаток жизни в башне из слоновой кости. Но ЦРУ предложило ему работу. Крам согласился и навсегда забыл о своей мечте, в 1953 году он уехал в Лондон, где проработал пять лет, встречался с Кимом Филби. После этого возглавлял британское отделение в штаб-квартире, выезжал в Лондон на второй срок, затем работал резидентом в Голландии и Оттаве.
В 1975 году, после 26 лёт работы в Управлении, Крам вышел в отставку. Осенью 1976 года он присутствовал на коктейле в Вашингтоне, устроенном Гарри Брандесом, представителем Королевской канадской конной полиции — службы безопасности Канады. Теодор Шекли, помощник заместителя директора по операциям, подозвал Калариса, и два сотрудника ЦРУ приперли Крама к стенке.
«Не хотели бы вы вернуться на работу?» — спросили его. Краму сказали, что ЦРУ намерено провести расследование деятельности Энглтона с 1954 по 1974 год. «Выяснить, что же, черт возьми, происходило на самом деле, — сказали Краму. — Что же делали эти парни?»
Крам принял предложение. На время работы он занял огромное хранилище в том же коридоре, где располагался кабинет Энглтона. Это была комната, похожая на библиотеку, с кодовым замком на двери. Большинство необходимых материалов было под рукой; в хранилище, к примеру, находились 39 томов только по Филби, все го-лицынские «сериалы», как Энглтон называл наводки своего ведущего перебежчика, и все досье по Носенко.
Но даже это защищенное хранилище не представляло собой святая святых Энглтона. Внутри этого помещения имелось другое хранилище, меньших размеров, с кнопочными замками, где находились действительно секретные материалы по Джорджу Блейку, Олегу Пеньковскому и другим шпионским делам, которые считались слишком секретными, чтобы держать их во внешнем хранилище.
Каларис считал, что на проведение исследования Краму потребуется год. Когда Крам наконец-то, спустя шесть лет, закончил его в 1981 году, он представил 12 томов форматом 21,6 на 33 сантиметра по три-четыре сотни страниц в каждом. Исследование Крама, в котором примерно четыре тысячи страниц, до сих пор не рассекречено. Оно остается под замком в хранилище ЦРУ[228].
Но кое о чем можно рассказать. Крам, очевидно, потратил значительную часть времени, анализируя историю охоты на «кротов», которая пронизывала изучаемую им эпоху. При этом он столкнулся с серьезными трудностями. Имена подозреваемых в шпионской деятельности считались настолько секретными, что их дела хранились в запертых сейфах еще в одном хранилище, расположенном прямо напротив кабинета Энглтона (теперь Калариса).
И хотя Краму предоставили полную свободу действий в проведении исследования, на первых порах у него возникли сложности с получением доступа к этим особо секретным материалам. Частично ему мешал также хаотичный и зачастую таинственный характер энглтоновских досье.
В конце концов Крам получил доступ к досье на отдельных лиц, хранившимся в запертых сейфах. Но он обнаружил, что и Каларис, и его сотрудники явно склонялись к мысли о том, что Энглтон может каким-то образом вернуться, подобно Наполеону с острова Эльба, и отомстить тем, кто посмел вторгнуться в его досье и прочесть их.
Даже при наличии доступа Краму было трудно сказать, какие из дел о проникновении более или менее важные. В досье царила полная неясность.
Бывший сотрудник ведомства, знакомый с секретным исследованием, описал, с чем, должно быть, столкнулся Крам, годами корпя в секретных хранилищах подобно бенедиктинцам, у которых он учился.
«Энглтон мог обсуждать с начальником какого-нибудь отдела его план направить кого-то резидентом за границу, — рассказывал бывший сотрудник ЦРУ. — Энглтон бросает как бы между прочим: «Я бы не послал этого человека». — «Почему?» — спрашивает начальник от дела. Джим вытаскивает пачку «Мальборо», закуривает сигарету и говорит: «Извините, я не могу обсуждать это с вами». И этого было достаточно».
Цифры трудно было установить. Но, проанализировав все досье, Крам пришел к выводу, что существовало примерно 50 подозреваемых[229]. Из них 16 или 18 подпадали под категорию серьезных, основных подозреваемых, ставших объектами массированного и детального расследования сначала отделом контрразведки, перед которым стояла задача точно определить возможных советских «кротов», а затем управлением безопасности, в чью компетенцию входило дальнейшее расследование.
По мере продвижения работы Краму стало ясно одно: любой сотрудник мог оказаться абсолютно беззащитным, как только он попадал в списки пятидесяти, даже если его имя не фигурировало в том из них, который энглтоновские охотники на «кротов» прозвали «твердым орешком». Карьера страдала просто потому, что имя человека попадало в более длинный список.
Бывший сотрудник ЦРУ, знавший об исследовании Крама, сказал, что, должно быть, это был вызов. «Люди просто не знали, чем, черт возьми, занимались Энглтон и компания. Энглтон немного походил на Волшебника Изумрудного города. Там ничего не было. А он причинял массу хлопот».
Он помолчал, как бы раздумывая, стоит ли продолжать. Но все же решился. «Это место представляло собой трясину иррациональности. Можно даже сказать — «безумия». Эти люди были слегка ненормальными. Да нет, не слегка. Совершенно ненормальный Джим был исковерканной, искаженной личностью. О, он мог выглядеть очаровательным и приятным, но в душе он был сукин сын. Плохой человек».
Продвигались и другие исследования, проводимые Каларисом. Крам часто сталкивался по работе с Джеком Филдхаузом, выпускником Йельского университета, ранее работавшим в Вене. Изучая дело Логинова, Филдхауз был потрясен тем, что обнаружил в досье Управления по этому нелегалу КГБ. Его отчет остается засекреченным в ведомственных хранилищах, но в нем содержится вывод, что Логинов — настоящий агент и был продан обратно в КГБ против своей воли[230].
Позднее, весной 1981 года, после того как директором ЦРУ стал Уильям Кейси, Филдхауз написал исследование по делу Носенко. И снова прозвучал вывод о том, что Носенко — перебежчик, заслуживающий доверия.
Каларис дал указание о проведении еще одного исследования в попытке рассеять туман, окружавший отдел контрразведки. Ранней весной 1975 года он обратился к Бронсону Твиди, отставному ветерану ЦРУ, британцу по рождению, два срока работавшему резидентом в Лондоне. Каларис имел в виду Голицына. Он обратился к Твиди, потому что ему нужен был надежный человек не из Управления[231].
Каларис поручил Твиди изучить все дело Голицына; он хотел знать, насколько можно полагаться на все сказанное Голицыным. Твиди работал несколько месяцев и позднее в том же году представил Каларису первое исследование по Голицыну на 90 страницах. В докладе делался вывод о том, что Голицын — действительный перебежчик, заслуживающий доверия, но его ценность для ЦРУ значительно ниже, чем утверждали его сторонники. С подсказки отдела контрразведки распространилась идея о том, что так или иначе Г олицын разоблачил огромное число шпионов и агентов проникновения в союзнические разведывательные службы. Фактически, как явствовало из доклада, Г олицын дал информацию, которая привела к аресту Жоржа Пака, советского шпиона во Франции; он дал первую наводку на Уильяма Вассала, шпиона в адмиралтействе Великобритании; и он же дал несколько наводок в Финляндии. И это, делает заключение Твиди, практически все. Невзирая на выводы Твиди, в 1987 году ЦРУ наградило Голицына медалью за выдающиеся заслуги.
Каларис настоял, чтобы Твиди провел еще одно исследование. Новому шефу контрразведки досталась в наследство докучавшая проблема в виде доклада Петти, бо-бйн магнитофонных записей, каталожных карточек и забитых картотечных шкафов, в которых бывший сотрудник группы специальных расследований обвинял самого Энглтона в том, что он — советский «крот» в ЦРУ. Каларис едва ли мог исключить возможность, хотя и притянутую за уши, что его предшественник — предатель. И снова Твиди представил в письменной форме исследование, в котором обвинения в адрес Энглтона отметались как иллюзорные[232].
Хотя теперь с Энглтона было снято обвинение в том, что он, основной «охотник на кротов», сам являлся главным «кротом», из своего изгнания он нанес ответный удар. В качестве инструмента борьбы им был избран писатель и журналист Эдвард Джей Эпштейн. В 1978 году Эпштейн опубликовал книгу под названием «Легенда»— Энглтон при этом выступал в роли Глубокой Глотки, — в которой впервые рассказал о войне между перебежчиками, о закулисных стычках между Голицыным и Носенко, об убежденности Энглтона в том, что Носенко солгал о Ли Харви Освальде, и о вере Эдгара Гувера в «Федору»[233]. Энглтон представлен в книге как герой, прославленный контрразведчик с «преждевременно поседевшими волосами и прекрасно вылепленным лицом», «невероятно терпеливый» рыбак, который «выуживал перебежчиков, как форель»[234].
В то время, когда появилась эта книга, в Вашингтоне широко распространилось мнение, что источником сведений Эпштейна был Энглтон, в своем более позднем произведении Эпштейн подтвердил это предположение[235]. Эпштейн признался, что начиная с 1977 года за десять лет он взял у Энглтона серию интервью. Во второй книге Энглтон цитируется прямо с восхищением.
У Энглтона имелись обширные связи в прессе, и ему удалось через Эпштейна и других поведать о своих горестях и своем уникальном видении мира. После своего падения он стал своеобразной знаменитостью, предметом нескончаемого восхищения журналистов, авторов научных книг, романистов и создателей фильмов.
Но изгнание совершенно выбило из колеи старого шефа контрразведки. Уязвленный свидетельскими показаниями Джона Харта в комитете по политическим убийствам палаты представителей о том, как вели дело Носенко (Харт назвал это «мерзостью»), Энглтон в 1978 году обратился к Стэнсфилду Тэрнеру, директору
ЦРУ, пытаясь получить доступ к собственным бывшим досье, чтобы подготовить опровержение. Заявив, что ему необходимо изучить досье по делу Носенко, чтобы подготовить свои собственные показания в комитете, Энглтон получил только два из них; но в качестве компромисса, который, должно быть, выглядел подслащенной пилюлей, ему в итоге разрешили приехать в штаб-квартиру ЦРУ, где он некогда обладал такой огромной властью, и прочитать еще кое-какие секретные документы. Пришлось надеть значок посетителя[236].
Не имея в своем распоряжении ни агентов, ни отдела контрразведки, Энглтон тем не менее наносил ответные удары различными путями, используя оперативное мастерство, которое он оттачивал на протяжении более трех десятилетий. В Вашингтоне поползли слухи, что Колби — «крот». Но так или иначе их никогда нельзя было прямо связать с Энглтоном. Бывший шеф контрразведки усвоил позицию «я здесь ни при чем», когда его спрашивали о кампании слухов в адрес человека, уволившего его со службы.
Сам Колби, когда его спросили, не Энглтон ли обвинил его в том, что он законспирированный агент, ответил: «Я никогда не слышал от него ничего подобного. Слышал, что некоторые его помощники говорили об этом[237]. До меня дошли слухи, что сотрудники его отдела говорили, будто я «крот» или наподобие того, что большего вреда Управлению Колби не смог бы нанести, даже если бы был «кротом».
Несколько лет спустя мне позвонил Джим.
— Как ты? — спросил я.
— Чувствую себя не очень хорошо.
— Что ты хочешь этим сказать?
— «Нью рипаблик» на этой неделе сообщила, будто я сказал, что ты советский «крот».
— Джим, как я понимаю, ты этого не говорил, но кто-то из твоих (бывших) помощников сделал это заявление.
— Правильно.
— Что ты хочешь, чтобы я сделал?
Он не ответил.
— Я напишу письмо в «Нью рипаблик», в котором сообщу, что, насколько я понимаю, ты никогда не говорил этого.
Я отправил письмо, и оно было опубликовано[238]. Я часто думал, в чем же состояла его проблема? Подозреваю, цто он, видимо, боялся привлечения к суду за клевету».
И каков же был ответ Колби на слухи о нем, циркулировавшие по столице? «Я сказал, что я не «крот», — ответил он. — Ничего подобного. Все это чепуха. Я сразу отмел все это».
В 1976 году Пол Гарблер, вернувшись из Швеции, потребовал провести официальное расследование туманных обвинений в свой адрес. Никто никогда не занимался бывшим руководителем московской резидентуры. Но по неофициальным каналам ему стало известно, что почти десятилетие он жил с тайным клеймом человека, подозревавшегося в том, что он — советский агент проникновения в ЦРУ. Именно этим подозрением объяснялась его ссылка на Тринидад на четыре года, когда его работа в отделе операций по Советскому Союзу должна была обеспечить успех его карьере.
В письме генеральному инспектору Управления Гарблер писал: «Я оказался жертвой обвинения, защищаться от которого мне никогда не представлялось возможности… Я был возмущен тем, как поступили с моей семьей и со мной. Без расследования, — писал Гарблер, — невозможно снять обвинение в нарушении безопасности. В конечном счете я хотел бы защитить себя и восстановить свое доброе имя»[239].
Спустя восемь месяцев, в августе 1977 года, Гарблер получил письмо о. т Джона Блейка, исполняющего обязанности заместителя директора ЦРУ, в котором сообщалось, что «вопрос о нарушении безопасности полностью решен в вашу пользу». Впервые ЦРУ информировало, что против него выдвигалось обвинение в нарушении безопасности. Далее в письме Блейк признавал, что обвинение в Шпионаже действительно «неблагоприятно отразилось» на карьере Гарблера. «Ваши чувства разочарования и горечи понятны, — писал Блейк, — и мне остается только сожалеть, что время вернуть невозможно»[240].
Достаточно ли было извинений, полученных от ЦРУ? Поразмыслив над этим вопросом несколько месяцев и обсудив его с семьей, Г арблер решил— недостаточно. Он направил Стэнсфилду Тэрнеру, директору ЦРУ, просьбу о компенсации «для моей семьи и для меня за девять скудных и безрадостных лет». Обвинения, писал Гарблер, поставили под вопрос «мою лояльность Управлению, правительству и стране. Друзья и коллеги избегали меня, и я стал человеком, с которым держались осмотрительно, своего рода парией»[241].
Гарблер нашел точные слова. Годами он читал недоверие в глазах своих коллег в ЦРУ. «Люди, с которыми я работал, переворачивали документы на столах, когда я входил в комнату, — вспоминал он. — Если я шел по коридору, а группа моих коллег о чем-то болтала там, то, увидев меня, они быстро расходились. На вечеринках друзья поворачивались ко мне спиной. Даже люди, хорошо меня знавшие, иногда умолкали на полуфразе, чтобы убедиться, не сболтнули ли они лишнего».
В конце декабря, за три дня до выхода в отставку, Гарблер получил ответ от Тэрнера, который сообщал, что находит гнусными необоснованные обвинения в нарушении безопасности, выдвинутые против него. При этом, писал Тэрнер, он ничем не может помочь. Выплатить компенсацию Гарблеру не представляется возможным, если конгресс не примет частный закон по этому вопросу. Допущена «несправедливость», добавил Тэрнер, тем не менее Управление отдает должное его многолетней отличной службе[242]. Что было равносильно сердечному рукопожатию, но никак не деньгам.
Двадцать с лишним лет спустя Гарблер проживал в Тусоне, куда он удалился с женой Флоренс. Говорил Гарблер без озлобленности.
«Я вышел в отставку 31 декабря 1977 года, — сказал Гарблер, — и удостоился традиционной церемонии проводов на седьмом этаже. Тэрнер не явился. Хелмс не явился. Энглтон не явился».
Через десять дней после выхода в отставку Гарблер в соответствии с заведенным порядком получил письмо от Стэнсфилда Тэрнера с выражением искренней признательности директора за «важную работу, которую вы выполняли, и глубочайшей надежды, что предстоящие годы принесут вам удовлетворение».
О чем думал Гарблер в тот холодный день, когда после прощального вечера он освободил свой стол и в последний раз переступил порог здания? «Я о многом вспомнил в тот день, — сказал Гарблер, — но подумал, что Господь был добр ко мне. Я пережил несчастливые времена. Девять лет вычеркнуты из жизни, но в общем и целом стоило жить. Я всегда буду гордиться тем, что работал в ЦРУ.
Я действительно чувствовал, что мне очень хотелось доказать несостоятельность того, что люди думали обо мне и что эта небольшая группа пыталась сделать мне». Затем он что-то вспомнил. «На прощальной церемонии мне вручили небольшой герб ЦРУ в пластиковом футляре».
Гарблер встает, поворачивается и долго смотрит в окно своего кабинета.
ГЛАВА 18
Закон о пособиях «кротам»
В 1964 году Ричард («Душан») Кович, хотя и понял, что что-то непонятное отрицательным образом повлияло на его карьеру, продолжал добросовестно работать в качестве «охотника за умами» ЦРУ, то есть оперработника, владеющего русским языком, который по первому приказу мог вылететь куда угодно для осуществления вербовочного подхода к сотруднику КГБ.
Осенью 1966 году Ковича направили на «Ферму» делиться своим опытом с молодыми разведчиками. Через три года он возвратился в штаб-квартиру, где читал лекции и проводил занятия, но, как казалось, просто дотягивал свой срок до отставки. К началу 1974 года, когда ему исполнилось 47 лет, стало ясно, что он уже никуда не поедет. В феврале «Душан» Кович решил «укладывать чемоданы».
К тому времени он понял, что Ингеборг Лигрен («Сатинвуд-37»), Михаил Федеров («Экьют») и Юрий Логинов («Густо») — три его ценных агента — находились под подозрением. Но он еще не знал, что сам находится под «колпаком» как предполагаемый советский «крот».
На церемонии отставки Ковича Уильям Колби наградил его медалью ЦРУ и двумя другими знаками отличия, которые он заслужил за 24 года безупречной службы в Управлении[243]. Вместе со своей женой Сарой Кович окунулся в жизнь отставника. Однако, подобно старому коню пожарной службы, он откликнулся на сигнальный колокол и в 1975 году возвратился в Управление. Работая в ЦРУ по контракту, он стал путешествовать по свету, предпринимая, как и в старое время, вербовочные подходы.
В начале марта 1976 года Ковича наконец поставили в известность, что он подозревался в сотрудничестве с Советами. С ним встретились три сотрудника аппарата Генерального инспектора ЦРУ X. Уоллера и тактично сообщили эту неприятную новость. Ковича также информировали, что он больше не находится под подозрением. К тому времени Колби уволил Энглтона, а затем и сам был смещен со своего поста президента Фордом в связи с результатами многочисленных расследований в организациях разведывательного сообщества, начало которым было положено статьей Симора Херша в газете «Нью-Йорк тайме», в которой сообщалось о незаконных операциях ЦРУ[244] Но перед уходом в отставку Колби приказал, чтобы Ковичу разрешили ознакомиться с его досье. По мере чтения у Ковича волосы вставали дыбом Он еще не понимал гнусности выдвинутых против него обвинений. Он не знал, что причиной подозрений могла стать его фамилия, начинавшаяся с буквы «К» Охотники за «кротами» из группы специальных расследований «галоши» из управления безопасности, действительно считали его предателем. Для Ковича это казалось не вероятным.
Он обнаружил, что в декабре 1965 года, после ошибочного ареста Ингеборг Лигрен, ЦРУ было настолько обеспокоено вероятностью побега Ковича, что обратилось к ФБР с просьбой запретить ему посещать советские учреждения на территории США. Кович горько смеялся, когда обнаружил подобное в досье; он никогда не имел намерений бежать в Советский Союз. Он был лояльным сотрудником ЦРУ, но знал, что ФБР не имело таких всеобъемлющих прав, позволявших ему задерживать каждого входящего в советские учреждения. ФБР также это было известно, и оно ответило отказом на просьбу ЦРУ.
Прочитав свое досье, Кович понял, что больше не сможет работать на ЦРУ, о чем он проинформировал нового директора ЦРУ Дж. Буша. В июле в письме на имя Буша Кович суммировал все ложные обвинения в свой адрес, которые разрушили его карьеру. Буш сразу же ответил, выразив сожаление по поводу случившегося. В конце письма он добавил, что Кович, возможно, почувствует некоторое облегчение, узнав, что с него сняты все подозрения[245]. Осенью, после завершения проекта, над которым он работал, Кович вновь покинул ЦРУ, на этот раз навсегда.
Однако он был намерен устранить все сомнения по поводу своей лояльности и, если возможно, получить материальную компенсацию. Кович вступил в контакт со своим бывшим коллегой Стэнли Гейнсом, который также уволился из ЦРУ и после этого занимался адвокатской практикой. И речь вовсе не о деньгах, говорил он Гейнсу. Он отдал все свои лучшие годы своей стране и хотел бы восстановить свое доброе имя и устранить жестокую несправедливость.
Гейнс и Кович обратились к Генеральному инспектору и в управление генерального юрисконсульта ЦРУ. Одновременно Роберт Барнетт, адвокат Пола Гарблера, также и по той же причине вступил в контакт с ЦРУ. К тому времени президентом США был избран Картер, который назначил директором ЦРУ Стэнсфилда Тэрнера.
В то время как адмирал Тэрнер информировал Пола Гарблера, что для получения компенсации необходимо решение конгресса, Ковичу сообщили о том, что такой закон должен быть принят. «Мы не могли найти какие-нибудь специальные полномочия, которые давали бы возможность предоставить этот вид пособия, — вспоминает представитель управления генерального юрисконсульта. — Необходим был закон, принятый конгрессом, который разрешил бы ЦРУ предоставление компенсации лицам, карьере которых был нанесен ущерб путем голословных обвинений в проведении шпионской деятельности. Генеральный инспектор вместе с нами изучал этот вопрос. Мы считаем, что по отношению к этим лицам допущена несправедливость. Возник вопрос об оказании им помощи. И именно тогда мы решили, что необходим закон, который мы поддерживали».
Хотя юрист ЦРУ, который по моей просьбе пересмотрел соответствующие досье, полагал, что ЦРУ, по крайней мере сначала, поддерживало это законодательство, дело было не так.
В письме адвокату Пола Гарблера, составленном в 1978 году, тогдашний Генеральный юрисконсульт ЦРУ Энтони Лафем писал: «Я продолжаю считать, что любой реальный ущерб, причиненный мистеру Гарблеру, является в лучшем случае умозрительным». В то время как карьера Гарблера, без сомнений, была переведена «на запасной путь», аргументировал Лафем, нет никакой гарантии в том, что он был бы во всяком случае повышен в должности. «Для ЦРУ вряд ли целесообразно выступать в роли инициатора или оказывать поддержку такому законодательству, чтобы возместить неудобства, причиненные Гарблеру, — писал Лафем, — но мы также не будем выступать против принятия закона»[246].
Генеральный юрисконсульт Стэнсфилда Тэрнера сообщал, что ЦРУ не поддержит частный законопроект для оказания помощи Гарблеру, хотя и не будет выступать против. Частное право применяется только во взаимоотношениях государства с конкретным лицом, а гражданское — с целой группой лиц. Сейчас же, когда Кович подталкивает ЦРУ к тому или иному действию, Управление заявляет, что без нормы гражданского права, которая применима ко всем лицам, пострадавшим в результате охоты на «кротов», оно не сможет предоставить кому бы то ни было компенсации. Внутри ЦРУ, однако, имелось довольно сильное противодействие этой идее
Причину этой столь противоречивой позиции ЦРУ понять несложно. Закон, дающий директору ЦРУ право предоставлять компенсацию жертвам охоты на «кротов», можно было бы незаметно протащить без привлечения внимания прессы. Однако нельзя исключать возможности, что все же найдется бдительный репортер, чтобы очернить этот закон, что привлекло бы к нему нежелательное внимание общественности и вызвало с ее сто роны ряд самых разнообразных вопросов. В итоге возникла бы следующая поразительная ситуация: секретное ведомство, которое нанесло ущерб своим сотрудникам, просит изменить позицию, признать ошибки и предоставить компенсацию пострадавшим. Однако ни одна бюрократия, не говоря уже о влиятельном секретном ведомстве, не любит признавать своих ошибок.
Более того, ЦРУ опасалось, что закон, предусматривающий компенсацию жертвам охоты на «кротов», мог бы приоткрыть «ящик Пандоры». Десятки, даже сотни бывших сотрудников могли бы тогда потребовать компенсации за причиненный ущерб, вылившейся в миллионы долларов.
Тем временем Кович, являясь как бы пионером, продолжал борьбу. В 1977 году он направил письмо на имя председателя сенатского комитета по разведке сенатора Даниэля Инойе, демократа от штата Гавайи, а в августе 1978 года в течение нескольких дней давал показания на закрытых заседаниях комитета.
Доводы Ковича произвели впечатление на Уильяма Грина Миллера, влиятельного руководителя аппарата сотрудников сенатского комитета по разведке. Сенатор Берч Бэй, ставший новым председателем этого комитета, и сенатор Чарльз Матиас-младший, республиканец от штата Мэриленд, поддержали идею принятия законодательства. Кович встретился с Даниэлем Силвером, который заменил в 1979 году Лафема на посту Генерального юрисконсульта ЦРУ, и бывшим нелегалом, адвокатом Эрнестом Майерфилдом. В поддержку нового закона выступил комитет палаты представителей по разведке.
«Вопрос заключался в том, — сообщал Миллер, — каким образом компенсировать ошибку, в результате которой был нанесен ущерб конкретному человеку, включая и нервное потрясение.
Право на исправление такой ошибки являлось целью принятия нового закона. Налицо было также искреннее желание ЦРУ решить этот вопрос справедливым путем».
Желание ЦРУ, возможно, было даже более искренним, потому что комитеты обеих палат конгресса по разведке буквально дышали ему в спину. 30 сентября 1980 года конгресс принял Закон об ассигнованиях на разведывательную деятельность на 1981 финансовый год. Статья 405(a) этого закона гласит:
«В тех случаях, когда директор Центральной разведки в течение 1981 финансового года сочтет, что была несправедливо ущемлена карьера действующего или бывшего сотрудника ЦРУ в результате обвинений указанных сотрудников в нелояльности к Соединенным Штатам, директор может предоставить им такое денежное или другое возмещение (включая восстановление на работе и продвижение по службе), которое он сочтет целесообразным в интересах справедливости».
14 октября 1980 года закон был подписан президентом Картером и вступил в силу. Среди сотрудников ЦРУ он стал именоваться «Законом о пособиях „кротам“»[247].
В ноябре 1980 года президентом США был избран Рональд Рейган, который назначил новым директором ЦРУ Уильяма Кейси, руководителя своей предвыборной кампании. Ковичу и Полу Гарблеру было заявлено, что они получат компенсацию согласно «Закону о пособиях, кротам»». 3 февраля 1981 года Гарблер на основании нового закона получил чек из казны США. Весной того же года в адрес Ковича поступило письмо с извинениями от ЦРУ, а в конце июня он также получил компенсацию. Хотя ни один из этих бывших сотрудников ЦРУ не пожелал сообщить о размере полученной суммы, источники, близкие к разведывательным кругам, сообщили, что первый из них получил более 100 тысяч долларов, а второй — немного меньше.
Четыре других бывших сотрудника ЦРУ, включая Питера Карлоу, также обратились в соответствии с законом 1980 года с заявлениями о выплате им компенсации. Всем им было отказано. Однако Карлоу решил продолжить борьбу.
Но на пути реализации «Закона о пособиях, кротам»» имелось препятствие. Закон работал всего лишь год. Жертвы охоты на «кротов» могли воспользоваться им только в том случае, если они знали о его существовании и могли убедить ЦРУ, что имеют заслуги перед этой организацией, до истечения срока действия этого закона[248].
С точки зрения ЦРУ все шло неплохо, то есть без шума. Управление было удовлетворено тем, что число жертв охоты на «кротов», которые действительно подпадали под положения закона, оказалось небольшим. Его также удовлетворяло, что пресса, за исключением одной статьи в журнале «Ньюсуик», прошла мимо этого экстраординарного события[249]. Таким образом, государственное секретное ведомство ложно обвинило своих сотрудников, а теперь выплачивало им крупные суммы денег согласно решению конгресса, о чем большая часть общественности ничего не знала.
Сегодня ЦРУ отказывается официально назвать имена сотрудников, которые, согласно «Закону о пособиях, кротам»», получили компенсацию, сообщить размер пособия для каждого из них, а также общую сумму денег, выплаченную жертвам охоты на «кротов». «Согласно условиям выплаты компенсации я не имею права сообщать о ее размерах, — заявил один адвокат из управления Генерального юрисконсульта. — Все они получили разные суммы».
Тот факт, что многие бывшие сотрудники ЦРУ, включая и тех, кто пострадал от охоты на «кротов», не знали о существовании этого закона, частично объясняется незначительным числом лиц, выступивших в защиту своих прав в годичный период действия закона. Так, Стивен Ролл, прослуживший в ЦРУ 26 лет, серьезно подозревал, что Энглтон блокировал его продвижение по службе из-за его славянского происхождения. «В 1980 году я не знал о существовании этого закона, — сказал Ролл, — я услышал о нем значительно позже». Но было уже слишком поздно.
Ролл родился в центральной части штата Пенсильвания, в семье украинцев. Отец ремонтировал железнодорожные пути. Ролл поступил в колледж, изучил русский язык, закончил Йельский университет и в 1949 году поступил в ЦРУ.
Он работал в Мюнхене в должности руководителя контрразведки, участвовал в печально известной операции «Красная сандалия» по парашютной заброске эмигрантов на Украину. Затем был направлен в советский отдел ЦРУ как сотрудник контрразведки. После командировки в Ливию, где он был резидентом, Ролл планировался в состав аппарата Энглтона. Учитывая свою хорошую контрразведывательную подготовку, Ролл рассчитывал на получение этого назначения, однако его кандидатуру отклонили без всяких объяснений.
Ролл вспомнил, что говорил ему Пир де Сильва, его бывший коллега по советскому отделу. Де Сильва работал в совете по выдвижению, который рассматривал кандидатуру Ричарда Ковича. Во время обмена мнениями Энглтон, по словам де Сильвы, указав большим пальцем на фамилию Ковича, заявил: «Мы не можем доверять этим славянам».
Ролл понял: что-то не так. «Я спросил себя, почему мне не предоставили лучшей работы? Почему не дали повышения? Почему мне отказали в приеме на работу в ведомство Энглтона? Я могу только предположить, что к этому причастен Энглтон, учитывая его отношение к лицам, владеющим русским языком. В нас нуждались, но не желали, чтобы мы занимали слишком высокое положение».
Другие сотрудники потеряли надежду доказать, что на их карьеру повлияли поиски агентов проникновения в ЦРУ. Возможно, они и подозревали, что происходит, однако представление доказательств с их стороны было равносильно гонке за блуждающим огнем.
Приверженцы Энглтона выдвигали контраргументы. По их мнению, посредственным сотрудникам, карьера которых потерпела неудачу, легко было свалить все на охоту за «кротами». «Каждый, кому было отказано в продвижении по службе, заявлял, что причиной этого являлась охота на „кротов“», — утверждал бывший заместитель Энглтона «Скотти» Майлер.
Однако дело заключается в том, что было очень трудно доказать, что ущерб карьере нанесен охотой на «кротов», и через значительный промежуток времени точно указать на соответствующие решения неизвестных бюрократов. Причем причины отказа в повышении должности некоторым сотрудникам никогда не фиксировались на бумаге.
Существовало и другое, более серьезное обстоятельство, которое не позволило многим сотрудникам воспользоваться «Законом о пособиях «кротам**": большинство сотрудников ЦРУ, занесенных в списки наиболее подозреваемых лиц группы специальных расследований, даже не знали об этом факте. Они не знали, что это отразилось на их карьере, и никто не ставил их об этом в известность. Другие же не хотели бередить старые раны, они ушли в отставку и не собирались бороться с Управлением самостоятельно или идти на расходы, чтобы через адвоката обращаться в суд.
В процессе многомесячных усилий, которые увенчались получением материальной компенсации, Пол Гарблер стремился также узнать, каким образом и почему его заподозрили в предательстве. Он понял, что основная причина заключалась в том, что он был руководителем «Саши» Орлова в Берлине, который якобы перевербовал его.
Но он с трудом мог поверить в версию, содержащуюся в файле документов толщиной в несколько дюймов, который он в конце концов получил от ЦРУ на основании Закона о свободе информации. Гарблер был изумлен, узнав из этих документов, что попал под подозрение еще и потому, что играл в теннис с Джорджем Блейком.
«Когда я находился в Корее, — вспоминал Гарблер, — там до июня 1950 года существовала дипломатическая миссия Великобритании. Советником миссии был сэр Вивьен Холт, один из немногих кавалеров креста ордена Виктории. Флоренс и я подружились с Холтом, эксцентричным холостяком. В его подчинении были два сотрудника: Сидней Фейтфул и Джордж Блейк. Дьявол появляется всегда внезапно. Моим ближайшим соседом был один армейский майор, и мы с ним играли парные партии в теннис против Фейтфула и Блейка. Когда се-верокорейцы начали свое наступление, Холт заявил: «Я никуда не уеду, это — моя миссия и английская территория. Если потребуется, я буду сражаться своим мечом». На каминной полке у него хранился меч, которым он часто размахивал. Он, Фейтфул и Блейк были захвачены и помещены в тюрьму. Скорее всего, именно тогда и был завербован Блейк»[250].
С точки зрения контрразведки то факт, что Гарблер являлся теннисным партнером Джорджа Блейка, имел зловещее значение. Сотрудники контрразведки в конце концов получают зарплату за выявление подозрительных признаков. Их профессиональная слабость заключается в том, что они замечают эти признаки там, где, как в случае с Гарблером, их нет[251].
К своему ужасу, Гарблер также выяснил из документов, что ЦРУ просило ФБР приступить к изучению его личной жизни, проверке его родственников и счетов в банке. «ФБР ни разу не вызывало меня», — сказал Гарблер. Досье на него более не существовало. «После получения документов из ЦРУ я с отвращением сжег их где-то в 1979 или 1980 году. Меня просто тошнило от всего этого».
Размышляя о своем деле, Гарблер возмущается ролью Ричарда Хелмса. Можно предположить, что Гарблер не интересовал Хелмса. Они могли встречаться в спортивном зале, расположенном в подвальном помещении, куда оба ходили для занятий бегом. Хелмс приветствовал Гарблера кивком головы, но никогда не вступал в беседу
Но почему же, удивлялся Гарблер, Хелмс никогда не пытался прийти на помощь? «Он должен был знать, что я был благонадежным и способным сотрудником, который желал служить нашей «фирме» и своей стране». Но Хелмс ни разу не вмешался. «Он бросил меня на произвол судьбы».
В конце 1977 года Федеральный суд признал Хелмса виновным в том, что он ввел в заблуждение конгресс относительно роли ЦРУ в Чили. Но для ветеранов ЦРУ Хелмс оставался героем за свое поведение в конгрессе. Как и многие сотрудники ЦРУ, Гарблер являлся членом Ассоциации бывших сотрудников разведки, штаб-квартира которой расположена в Маклине (штат Вирджиния). Спустя несколько месяцев после выступления Хелмса в суде и примерно в тот период времени, когда Гарблер получил от ЦРУ свое досье, ассоциация организовала для своих членов ленч. «Когда в помещение вошел Хелмс, — вспоминал Гарблер, — все встали и долго аплодировали. У некоторых на глазах выступили слезы. Весь зал аплодировал стоя». Но не Пол Гарблер. «С какой стати? — спросил он. — Он бросил меня на погибель».
ГЛАВА 19
Сын «Саши»
В середине апреля 1987 года исполнился только месяц, как Джеймс Энглтон дал интервью Дэвиду Биндеру из «Нью-Йорк тайме». Хотя пятью месяцами раньше у бывшего шефа контрразведки обнаружили рак легких, в течение всей беседы он курил сигареты с фильтром[252].
Хотя Энглтон заявил корреспонденту газеты, что не хотел бы обсуждать вопросы разведки, он не смог устоять, когда разговор зашел о «кротах». Было ясно, что по прошествии времени Энглтон утешал себя тем, что по крайней мере одного «крота» он выявил.
Энглтон не назвал его имени, тем не менее было очевидно, что он говорил об Игоре Орлове, который, по его убеждению, и был тот «Саша», о котором сообщил Голицын. Он сказал Биндеру, что «речь идет о том случае, когда Советы внедрили своего человека в ЦРУ».
В статье слова Энглтона были приведены в пересказе: «В соответствии с тщательно разработанным хитрым планом во время второй мировой войны он был заброшен за линию немецкого фронта. Немцы схратили его, перевербовали, сделав двойным агентом. Но в действительности он сохранял верность русским. После войны его наняло ЦРУ, он работал под прикрытием в советских эмигрантских организациях, базировавшихся в Берлине, и в конечном счете был принят на службу». В статье прямо цитируются слова Энглтона: «…как состоявшийся офицер разведки»[253].
Говоря о Голицыне без упоминания его имени, Энглтон сказал, что один высокопоставленный сотрудник КГБ, перешедший на Запад, предупредил американскую контрразведку, и та пришла к убеждению, что оперативный работник ЦРУ, о котором идет речь, является советским агентом. Далее в интервью слова Энглтона вновь приводятся в пересказе: «В итоге из-за рада «неуклюжих бюрократических действий» подозреваемый сумел уклониться от судебной ответственности и, насколько известно Энглтону, спокойно проживает в районе Вашингтона. «Это был гениальный человек», — сказал Энглтон с истинно профессиональным уважением».
Ссылка на «неуклюжие бюрократические действия», возможно, была использована Энглтоном как способ сообщить, что ФБР не смогло выстроить дело против Игоря Орлова или арестовать его. Его убежденность в виновности Орлова, несомненно, усилилась благодаря информации, предоставленной американской разведке в 1985 году сомнительным перебежчиком Виталием Юрченко.
Юрченко, высокопоставленный сотрудник КГБ, ответственный за операции в США и Канаде, бежал в августе 1985 года. Прежде чем он вновь перебежал в Советский Союз, Юрченко дал большое количество информации ЦРУ и ФБР, при этом некоторые сведения оказались точными. Он идентифицировал Орлова как советского агента. Более того, в одном из своих заявлений, ошарашивших оба ведомства, он сообщил, что Орлов привлек одного или обоих своих сыновей к шпионской деятельности на СССР.
В воскресенье, 9 января 1988 года, все новое поколение агентов ФБР, из которых никто не помнил о расследовании 23-летней давности, нагрянуло в галерею Орлова в Александрии. Одновременно другие агенты ФБР в Чикаго и Бостоне распределились на группы и заявились к двум сыновьям Орлова, Джорджу и Роберту, в их загородные дома.
Джордж Орлов, младший из сыновей Орлова, помнил, как в тот день, после обеда, агенты пришли к нему в дом в Хинедейле (штат Иллинойс). В то время Джордж Орлов, физик и инженер-атомщик, некогда имевший допуск категории «Q», работал частным консультантом по атомным электростанциям.
«Они постучали в дверь, поскольку звонок не работал, сразу после полудня, — сказал он. — Их было двое — Винсенте Росадо, кубинец, и Стивен Васс. Они предъявили свои удостоверения и заявили: «ФБР. Мы хотели бы поговорить с вами»».
«Я ждал вас», — ответил Орлов[254].
«Я предложил им войти в дом, они сказали, что хотели бы задать мне несколько вопросов, но не здесь. «У нас есть место, где мы можем поговорить». Мы сели в их маленький синий автомобиль «селика» и направились в «Хайатт Ридженси» в Оук-Брук, где прошли в симпатичный номер. ФБР снимало несколько номеров. В отеле они сказали, что считают меня советским агентом. На что я ответил: «Тогда почему я работаю консультантом по менеджменту, вместо того чтобы трудиться в технической, ракетной или какой-то иной области, которая могла бы представлять интерес для русских?»» И Джордж, и Роберт, эксперт по вычислительной технике, окончили Массачусетсский технологический институт, но в 1988 году ни тот, ни другой не работали в военной области.
Агенты ФБР продолжали расспрашивать Джорджа.
«Мне предложили ленч, я заказал себе салат. Они сказали: «Мы хотим показать вам кое-что». Это была копия записи показаний Юрченко, в которых он заявил, что мой отец завербовал нас с братом.
Показания были на пяти страницах. В них говорилось: «Русский агент, работавший на нас, Игорь Орлов, имеет мастерскую по изготовлению рам для картин. У него два сына, обучались в северо-восточной части страны, имеют техническое образование; он завербовал их и они работают на нас». Дано смутное описание, чем занимались Роберт и я. Юрченко сообщил, что я часто нахожусь в поездках[255].
Затем они включили магнитофон. Он (Юрченко) изъяснялся на ломаном английском с бесконечными запинками и паузами, поэтому мне дали эту запись, чтобы я мог следить за тем, что он говорил. Не знаю, был ли это Юрченко, но они утверждали, что это так.
Не знаю, отвисла ли у меня челюсть, думаю, что да. Я посмотрел на них с недоверием и сказал, что этот парень несет бог знает что, это ошибка. Я сделаю все возможное, чтобы прояснить этот вопрос.
Тогда агенты ФБР спросили меня, почему же Юрченко дал такую информацию? «Возможно, по двум причинам, — ответил я — чтобы занять ФБР расследованием семьи, в которой не было агентов. Может быть, чтобы отвлечь его от реальных шпионов». Я немного читал об
Энглтоне 60-х годов, знал, как несколько слов можно увязать в единый узел и таким образом запутать дело.
У них были вопросы. Зачем я ездил в Канаду в 1978 году? — Планировался эксперимент на исследовательском реакторе. Зачем я ездил в Институт перспективных исследований в Принстоне? — Навещал родственников со стороны жены, они живут в Принстоне. Это было в середине 80-х годов. По-видимому, они следили за мной и по пути моего следования обнаружили красные и синие нейлоновые ленты, привязанные к заборному столбу».
«ФБР заподозрило, что эти ленты являлись сигналом, оставленным мною советскому агенту.
— Это вы их там привязали? — спросили они.
— Нет.
— Разве вы не знали, что в одном из этих зданий находился советский ученый по имени такой-то?
— Нет.
Они сказали, что по пути к Хинсдейлу я пересек мост через какую-то речушку, и они обнаружили на этом мосту несколько отметин, сделанных белым мелом. В ФБР провели химический анализ и вообразили, что это мел, которым пользуются контролеры, а поскольку в то время я работал на строительном объекте одной атомной электростанции, они подумали, что эти пометки сделал я. Разумеется, наши контролеры пользуются краской».
Кульминацией интервью явилось объяснение Джорджа в «получении условного сигнала от агента КГБ». Это случилось, когда Джордж отправился в восточную часть страны навестить свою мать. «Прибыв на машине в Вашингтон, я поднялся на третий этаж галереи. Они наблюдали, как я подходил к окну всегда в одном и том же красном тренировочном костюме. Агенты ФБР сообщили мне, что они выследили какого-то русского шпиона из посольства, который прогуливался взад-вперед по улице, тем самым подавая мне условный сигнал. Я спросил, что это значит. Мне объяснили, что этот человек давал мне знать: «Мы здесь, мы все еще здесь». Мне показали фотографию этого русского — не видел ли я его когда-либо прежде? — Нет. Они сочли, что моя манера вождения автомобиля подозрительна. Я то и дело отрывался от них — таким методом обычно пользуются профессионалы, обученные уходить от наружного наблюдения. В то время у меня был «порш каррера-911» и я отчаянно гонял на нем. Я не знал, что за мной следят.
Меня спросили, был ли мой отец шпионом. Я сказал, что не знаю. Мне показали множество фотографий людей, которые, как они считали, посещали галерею. Известны ли мне эти люди? Я ответил, что нет.
Спустя 20 лет после того, как ФБР провело первый обыск в галерее, они все еще пытались найти людей, которые бывали там. Они спросили: «Кто были друзья отца, знакомые?» В сущности, по их словам, они и сегодня еще разыскивают людей, которые были связаны с моим отцом или которых он мог привлечь на свою сторону. Они были твердо уверены, что я русский агент, завербованный собственным отцом».
Сотрудники ФБР задали также вопрос Джорджу Орлову о его поездке в Сан-Диего, в штаб-квартиру корпорации «Сайенс Аппликэйшнз, инк», где он работал семь лет назад. «Эта корпорация осуществляет руководство военными контрактами. В начале 80-х годов она являлась основным подрядчиком для СОИ, программы «звездных войн»».
Конечно, у ФБР практически не было выбора, как всерьез принять информацию Юрченко. Высокопоставленный перебежчик, должностное лицо КГБ, ведающее операциями по Северной Америке, он заявил, что Игорь Орлов, человек, который двадцать лет тому назад оказался в эпицентре охоты на «кротов», развязанной ЦРУ, являлся советским шпионом и завербовал одного или двух своих сыновей. Как только Юрченко заявил об этом, ФБР было вынуждено допросить сыновей Орлова.
Не вызвал удивления интерес ФБР к прежней работе Джорджа Орлова, так как после окончания института в 1977 году он некоторое время работал в одной фирме, которая являлась подрядчиком министерства обороны и разрабатывала аппаратуру для измерения точности баллистических ракет[256].
После воспроизведения магнитофонной записи беседы с Юрченко и допроса Джорджа Орлова агенты ФБР спросили Орлова, согласен ли он пройти проверку на детекторе лжи. Орлов согласился. «Мы прошли в другую комнату, где находились два специалиста из Вашингтона. Меня подключили к аппаратуре и начали задавать вопросы. Говорю ли я по-русски? Я сказал, что знаю только «да», «нет» и еще «до свидания» — это все мои знания русского языка. Они снова и снова задавали одни и те же восемь вопросов, но в разном порядке. «Ваше имя Джордж Орлов? Вы работаете на советское правительство? Вы когда-нибудь передавали секреты русским? — Нет. Один вопрос возмутил меня: «Вас завербовал ваш отец?» Они задавали его снова и снова. Я отвечал «нет». Проверка длилась полтора часа. Мне сообщили, что я прошел ее по семи вопросам из восьми. Но на вопрос, не завербован ли я собственным отцом, ответ был получен аномальный. Я ответил, что для меня этот вопрос оскорбителен. Мой отец не сделал бы этого, если он любил меня, он, конечно, никогда не сделал бы этого. Он всегда говорил мне, чтобы я никогда не связывался с правительством, с ЦРУ. Американское ЦРУ — это скопление никчемных, непрофессиональных людей. «Приготовишки», «ковбои без чести и совести». Когда он узнал, что после окончания колледжа я подал заявление в Разведывательное управление министерства обороны, то сказал: «Ты же не хочешь там работать, как и в любой другой разведывательной службе».
Вербовать меня! Какой же любящий отец будет вербовать собственных детей и толкать их на опасный путь? Это невероятно. Росадо (агент ФБР) рассказывал мне, что его отец убежал с Кубы от Кастро. Я спросил его: «Как бы вам понравилось, если бы я сказал, что ваш отец, коммунист, завербовал вас для работы на Кастро?» — «Да я бы плевал на эти слова», — ответил он. Мне сказали, что результаты проверки они увозят в Вашингтон и со мной свяжутся.
В тот вечер мы пошли пообедать. Они разыгрывали роль хорошего парня и плохого парня. Росадо был хорошим парнем, он казался искренне дружелюбным. После всего того, что они думали о моей деятельности, я полагаю, они поняли, что я не был гадким советским агентом. Поначалу они были готовы упрятать меня в тюрьму».
Его отец, продолжал Джордж, голосовал за Никсона. В разговорах, происходивших за столом, он придерживался консервативных взглядов. Он работал по 12–16 часов в день. Он считал, что свои деньги надо отрабатывать и не надеяться на подаяния. Как можно быть республиканцем? Моя жена, выпускница Гарварда, — либералка, я — консерватор. Консервативнее самого гуннского предводителя Атиллы.
Игорь Орлов, по словам Джорджа, никогда не говорил с ним о Советском Союзе. «Он никогда не рассказывал мне о своей жизни там или о войне. До сегодняшнего дня я не знаю, кто мои дед и бабка по отцовской линии. Сам я не видел, но моя мать говорила мне, что мое свидетельство о рождении — фальшивое, изготовленное в ЦРУ. Что я родился под чужим именем».
«Я не собираюсь вам рассказывать о том, был или не был мой отец шпионом, я не знаю этого. В 1963 году мне было шесть лет от роду и у меня не было оснований считать, что он шпион. Как, впрочем, и впоследствии. Он редко покидал мастерскую, никогда ни с кем не встречался. Знаю, что у него было мало друзей, скорее его можно назвать затворником. Я не видел, чтобы он кого-нибудь вербовал или обрабатывал».
Роберт Орлов, проживавший со своей женой в Сад-бэри (штат Массачусетс), отказался делать какие-либо комментарии по поводу беседы с представителями ФБР, но Ричард Лоран, близкий друг, выросший с ним в Александрии, сказал, что виделся с Робертом в период допроса в ФБР и тот выглядел «почти свихнувшимся», поскольку расследование отнимало много времени и энергии.
Он вспомнил, что Роберт Орлов с подозрением относился к расположенному поблизости пустующему дому, явно считая, что оттуда за ним наблюдают. Лоран рассказал, что Роберт включал стереомагнитофон, чтобы они могли разговаривать. «Он полагал, что они могли использовать направленные подслушивающие устройства».
Роберт Орлов рассказал ему о некоторых вопросах, которые задавали сотрудники ФБР, сообщил Лоран.
— Вы фотограф, не правда ли?
— Да.
— Не правда ли, вы еще и летчик?
— Да.
— Тогда что вам мешает произвести съемки с воздуха военно-морской базы в Портсмуте, в Нью-Гэмп-шире?
Они задавали ему этот вопрос снова и снова. В один из моментов он сказал им: «Неудивительно, что это отлично удавалось уокерам и поллардам, поскольку вы тратили время на то, чтобы следить за мной, но не за настоящими шпионами».
Что касается Элеоноры Орловой, то для нее визит ФБР в 1988 году явился всего лишь повторением пройденного. Теперь она уже имела опыт в подобных расследованиях. «Они пришли в субботу, 9 января 1988 года, около пяти часов вечера, — сказала она. — Два агента ФБР предъявили свои удостоверения: Стефания Глисон и Чарльз Шиарини. Женщине — около 25 лет, мужчине — около 29 лет. Это были молодые, дружелюбно настроенные люди. Они заявились и передали, что сообщил Юрченко. Я не могла поверить в это. Ордера у них не было. Они попросили разрешения обыскать дом». Агенты, вспоминала она, «сказали, что они ищут крупную сумму денег и аппаратуру. Коротковолновый радиопередатчик. Я сказала, что у нас был только радиоприемник «Грюндиг», но он сгорел во время пожара в январе 1987 года.
Они пытались перерыть весь задний двор.
— Ваш муж когда-нибудь копал на заднем дворе? — спросили они. — Для чего он это делал?
— Чтобы посадить дерево, похоронить кошку.
— Где?
— Смотрите, вот же дохлая кошка.
Было уже 11 часов вечера. Обыск продолжался уже пять часов, они открывали все ящики, нашли его бумажник, кредитные карточки — все унесли с собой. Взяли также и папку мужа с уроками английского языка. Учебник грамматики. Они ушли за полночь.
На следующее утро позвонил Джордж из Чикаго и рассказал о посещении агентов ФБР. Он посоветовал: «Скажи им все, что ты знаешь о папе. Ведь ты знаешь, что они могут сделать со мной. Они могут упрятать меня в тюрьму на двенадцать лет, и никто даже не услышит обо мне».
Когда сотрудники ФБР явились к Роберту, продолжала г-жа Орлова, он спросил:
— У вас есть ордер?
— Нет.
— Урегулируйте этот вопрос.
— Мы можем войти, — сказали они, — это вопрос национальной безопасности.
Они остановили его на улице. Он возвращался с дочерью домой с прогулки. Они катались на санках. Он попросил разрешения позвонить своему конгрессмену. Ответа не последовало».
В воскресенье утром Элеонора Орлова позвонила своему старому другу Фреду Тэнси, бывшему агенту ФБР. «Я позвонила мистеру Тэнси и сказала, что я не уверена, что эти люди действительно агенты. Не мог бы он проверить это. Через пять минут он был здесь. Он посадил меня в свою машину. Мы ехали часа два. Он сказал: «Самое лучшее — позвонить этим двум агентам и еще раз поговорить с ними. Ты должна убедить их в том, что дети не являются агентами. Забудьте о своем муже, что бы он ни сделал, он оплатил все тысячу раз». Он позвонил в ФБР из автомобиля. Было воскресенье. Он попросил Глисон и Шиарини. Те были в церкви, но их вызвали, и они вскоре перезвонили. Он сказал: «Я друг Элеоноры Орловой. Нахожусь на стоянке недалеко от здания суда в Александрии в черной машине. Пожалуйста, подъезжайте ко мне и предъявите ваши удостоверения». Через полчаса Шиарини приехал в большом фургоне, в котором еще находилась детская коляска. Он вышел из машины и сказал: «Я Шиарини, работаю в ФБР». Тэнси сказал: «Если вы еще когда-нибудь придете в этот дом, она подаст на вас в суд. Вы наносите непоправимый ущерб их бизнесу. Вы уже это сделали 25 лет назад. Если у вас возникнет желание поговорить с г-жой Орловой, отправляйтесь в отель или любое другое место, но не к ней в дом».
Они заказали номер в гостинице «Холидей». Я пришла в отель. Глисон и Шиарини встретили нас с Фредом и начали спрашивать меня о Берлине, с кем я встречалась. Они показывали фотографии — встречала ли я когда-нибудь из изображенных на них людей? Они показали мне фото супругов Козловых. После стольких лет я не узнала их. Я работала с Козловой в отделе цензуры, но это было тридцать лет тому назад. Они подробно расспрашивали о Козлове. Я знала только, что мой муж ненавидел его, — это все, что я могла сказать.
Они явились опять во вторник, прошли в цокольный этаж и просмотрели все детские вещи. Одеты они были в джинсы, так как я предупредила их, что в помещении полно сажи и масла после пожара. Они осмотрели игры, игрушки. Упаковали все в большие коробки. Я получила американское гражданство в 1976 году, а Саша стал гражданином США примерно в 1971 году. Они сказали, что ордера на обыск не требуется. Речь идет о национальной безопасности.
Было жутко. Как в кошмарном сне. Они спросили, делал ли мой муж новые деревянные перекрытия во время реставрации этого дома. Он мог оборудовать там какие-то тайники. Я спросила: «Мог? Но для чего?» — «Для денег, которые он получал от русских». Они сказали, что ищут место, куда Саша мог спрятать сотни тысяч долларов. «Ищите, — сказала я. — Может, мне помочь вам? Для кого он их спрятал? Он бы сказал мне, он знал, что умирает».
Они приходили в галерею два раза в неделю в течение трех месяцев. Но ФБР не обнаружило ни денег, ни тайника — ничего. В конце концов я согласилась на проверку на полиграфе. И тут они мне сказали: «Если вы пройдете проверку на детекторе лжи, мы оставим ваших сыновей в покое на двадцать лет». — «А если нет?» Они только улыбнулись. Но я уловила смысл.
Впервые я прошла такую проверку тридцать лет назад в Германии, до того, как приступила к работе в качестве переводчика писем, когда я впервые поступила на работу в ЦРУ. Мне задали шесть вопросов, которые взволновали меня. Но я поставила одно условие — никаких вопросов о сексе.
Проверка проводилась в отеле «Моррисон Хаус» в Александрии. Присутствовали на ней оператор из Нью-Йорка, Глисон и Шиарини. Аппаратура была установлена в спальне, и проверка длилась пять часов с 18.00 до 23.00. Глисон и Шиарини все это время находились в гостиной. Было задано 27 вопросов. «Был ли ваш муж советским шпионом?», «Имел ли он связи с КГБ?», «Почему Роберт обучался водить самолет?» и т. д. Я ответила, что ему нравилось это».
Потом все закончилось так же внезапно, как и началось. ФБР исчезло, сыновья Орлова вернулись к нормальной жизни. Элеонора вновь занялась своей галереей. Она была при деле, но иногда в сумерки, когда уходил последний покупатель и она оставалась в компании кошек, у нее было время задуматься над тем, а знала ли она когда-нибудь правду о человеке, которого встретила много лет назад в Швабинге в трамвае № 8.
Энглтон никогда не любил вспоминать второе, окончившееся провалом, расследование дела «Саши», ставшее для него возмездием. Утром И мая 1987 года он скончался от рака легких в госпитале «Сибли мемориэл» в Вашингтоне в возрасте 69 лет.
Он был оплакан друзьями, если не врагами. Но да-же те, кто более всего восхищался им, а их было немало, казалось, осознавали, что его навязчивая идея «кротов» и его очарование Анатолием Голицыным обернулись роковой ошибкой.
Рольф Кингсли, возглавлявший советский отдел в разгар охоты на «кротов», ценил свои тесные отношения с Энглтоном и восторгался им как человеком эпохи Возрождения. Но даже он видел предел его возможностей. «Джим был одним из самых блестящих офицеров, с которыми я когда-либо работал, пока не появился Голицын, — сказал он. — Больше я ничего не скажу».
Миссис Энглтон разделяла точку зрения Кингсли. Бывшему начальнику одной из резидентур ЦРУ, хорошо знавшему ее мужа, она сказала, что отчасти она винит Ричарда Хелмса: «Для Джима самое худшее, что могло произойти, стало появление Голицына. Почему Дик не убрал его от себя?»
Панихида состоялась в пятницу 15 мая в церкви конгрегации Рок-спринг в Арлингтоне. Лились песнопения, читали священное писание, поэт Рид Уитмор, старый друг Энглтона и товарищ по учебе в Йельском университете, читал Т. С. Эллиота. В заключение прозвучал гимн «Моя страна, это о тебе».
Дэниел Шорр, интервьюировавший Энглтона в течение четырех часов 13 лет назад и с тех пор поддерживавший контакты с бывшим шефом контрразведки, решил присутствовать на службе. Его поразил тот факт, что ни слова не было сказано ни о жизни, ни о работе Энглтона.
По окончании службы, проходя между рядами, Шорр заметил, ни к кому конкретно не обращаясь: «Вот так-так! Никакого надгробного слова!»
Кто-то, идущий впереди, обернулся и резко оборвал Шорра: «Это секретные сведения».
ГЛАВА 20
Триумф
Надежда никогда не покидала Карлоу.
В возрасте сорока двух лет он был вынужден уйти из ЦРУ, когда его карьера разведчика закончилась крахом в результате охоты на «кротов». Тем не менее он не оставлял попыток реабилитировать себя. То был медленный и вызывающий одни разочарования процесс. Из Лэнгли не было и намека на поддержку.
В 70-х годах Карлоу несколько раз беседовал с шефом контрразведки Джеймсом Энглтоном после увольнения последнего из ЦРУ. Карлоу считал, что Энглтон владеет ключом к разгадке и мог бы прояснить некоторые моменты, лишь бы его удалось каким-то образом вызвать на откровенность. Дважды он сумел поговорить с Энглтоном, когда они оба еще работали в Управлении. Именно в своем кабинете шеф контрразведки предупредил Карлоу держать язык за зубами о своем деле. Позднее, при встрече в коридоре, Карлоу сделал еще одну попытку. «Я задавал все больше и больше вопросов по этому поводу, — сказал он, — и считаю, что все сказанное этим перебежчиком никак не может относиться ко мне». Энглтон отреагировал решительно и ответил: «Никому ни слова об этом — дело слишком секретное».
«Я веду свой собственный список лиц, с кем я беседовал, — продолжал Карлоу, — и вы можете ознакомиться с ним». Энглтон выразил согласие, но больше так и не заговаривал об этом.
Вскоре после увольнения Энглтона в 1974 году Карлоу встретился с ним на одном из коктейлей в Джорджтауне. Они разговорились о прошлом, и Энглтон заявил Карлоу, что тот являлся главным подозреваемым. Карлоу вновь столкнулся с Энглтоном на приеме в южноафриканском посольстве и пригласил его на ленч. К его удивлению, тот согласился.
Они встретились в небольшом, не бросающемся в глаза французском ресторанчике «Эскарго» в верхней части Коннектикут-авеню, который являлся одним из излюбленных мест Энглтона. Последний вновь подтвердил, что Карлоу являлся главным подозреваемым. «Неужели возможно, чтобы какой-то советский перебежчик с такой легкостью смог подставить кадрового офицера ЦРУ? — спросил Карлоу. — Почему бы нам не проделать что-нибудь подобное с КГБ, просто пустив какой-нибудь слушок? Как я предполагаю, Голицын просто начал выдыхаться и, чтобы подогреть к себе интерес, втянул в это дело и меня».
Карлоу показалось, что у Энглтона совесть нечиста, однако тот отказался признать за собой какую-либо вину. «Энглтон ни разу не выразил никакого сожаления. Он настаивал на своей полной непричастности к моему увольнению, которое не входило в сферу его компетенции. Он объяснил, что с точки зрения контрразведки полезнее было бы не увольнять подозреваемого, а оставить его на месте. По его словам, вся проблема заключалась в том, что я нарушил правила конспирации».
Разумеется, это была чистая демагогия, поскольку шеф контрразведки и управление безопасности работали заодно. Управление безопасности ухватилось за ничтожные нарушения режима, чтобы завести дело против Карлоу только потому, что Энглтон заподозрил, что он — советский агент. Если бы ЦРУ не удалось доказать, что Карлоу — шпион, его просто выкинули бы на основании какого-нибудь менее значительного обвинения. Двум смертям не бывать, а одной не миновать[257].
Встречи Карлоу с Энглтоном носили необычный характер. Встречались уволенные из ЦРУ охотник за «кротами» и преследуемая им добыча и пререкались друг с другом над тарелками с гусиным паштетом. Однако здесь действовал вовсе не стокгольмский синдром. Карлоу давно знал Энглтона и даже пытался помочь ему в разработке методов обнаружения советских подслушивающих устройств. Однажды вечером где-то в конце 50-х годов Энглтон пришел к Карлоу на обед, за которым они обсуждали различные технические средства, используемые для шпионажа. Жена Карлоу, Либби, не выдержала и в полночь отправилась спать, а два разведчика продолжали беседу до четырех утра, пока усталый шеф контрразведки наконец не ушел домой.
Расспрашивая Энглтона, Карлоу пытался собрать доказательства, говорящие в его пользу; он все еще надеялся каким-то образом обелить свое имя. Во время второго ленча в одном из ресторанов города Александрия они вновь углубились в ту же самую тему. «Наш разговор напоминал действия кораблей, которые разминулись в ночной тьме, — рассказывал Карлоу. — Я старался использовать удобный случай в своих интересах, а Джим продолжал питать меня пустой информацией.
Энглтон подтвердил историю с буквой «К». Он объяснил мне, что, по логике, этим человеком мог быть только я: я работал в Германии, мое имя начиналось с этой буквы, и я также бывал в Восточном Берлине. У меня был доступ практически ко всему».
Однако Энглтон все-таки проговорился об одном важном факте. Карлоу не знал, что его помимо прочего подозревали в том, что он сообщил Советам о попытках ЦРУ скопировать потайной микрофон, обнаруженный в гербе в американском посольстве в Москве. Не знал он также, что Питер Райт из МИ-5 проинформировал Энглтона, что источником утечки этих сведений был Джордж Блейк. Эта информация из МИ-5 сняла бы с Карлоу несправедливое обвинение, но Энглтон так и не раскрыл ее ни за этим ленчем, ни в другое время[258].
Карлоу постоянно добивался от бывшего шефа контрразведки ответа, как все это могло произойти, как случилось, что под подозрением оказалось столько честных сотрудников ЦРУ? Энглтон сказал: «Поднялась буквально паника, когда Голицын сообщил, что среди нас имеется «крот». Мы и так были под постоянным давлением после предательства Бёрджеса и Маклина»[259].
Когда Карлоу встречался с Энглтоном, он работал в Вашингтоне уже как директор по международным связям в корпорации «Монсанто». Вначале, после увольнения из ЦРУ, Карлоу, имевший жену и двоих детей, переживал трудные времена. Зачастую для кадровых сотрудников секретных служб очень тяжело начинать новую для них жизнь в частном секторе. Из-за секретного характера прежней деятельности у них постоянно возникает деликатная проблема в написании автобиографии при поступлении на работу.
«В течение года я еле-еле сводил концы с концами, — рассказывал Карлоу, — наконец получил работу в корпорации «Монсанто». Мне платили больше, чем на государственной службе, предоставили право купить акции по льготной цене, а через полгода повысили в должности». Карлоу несколько лет работал в «Монсанто» в Сент-Луисе, а в 1970 году руководство корпорации направило его в Вашингтон. В качестве руководящего сотрудника корпорации, входившей в список пятисот крупнейших компаний США журнала «Форчун», Карлоу, можно сказать, преуспевал.
Однако рост его банковского счета не смог смягчить болезненные воспоминания об уходе из ЦРУ. Его супруга Либби умерла в 1976 году, так и не узнав окончания этой истории.
Карлоу ушел на пенсию из «Монсанто», но остался в Вашингтоне в качестве консультанта корпорации по международным делам. Полный решимости восстановить свое доброе имя, он начал разговоры с юристами, включая давнего друга из УСС Эдвина («Неда») Патцела-младшего.
«Я должен добраться до сути дела, — заявил Карлоу, — что именно произошло и кто в ответственности за это».
В сентябре 1980 года Карлоу затребовал свое полное досье из ЦРУ на основании законов о невмешательстве в частную жизнь и о свободе информации. В октябре 1980 года в конгрессе прошел закон о выплате компенсации лицам, незаконно пострадавшим от обвинения в шпионаже, который касался и Карлоу, а два месяца спустя, 18 декабря, Патцел официально уведомил адмирала Тэрнера о подаче иска на основании нового закона. Тогда же Карлоу со своим адвокатом встретился с должностными лицами ЦРУ и потребовал незамедлительных действий по своему делу.
Но так уж получилось, что одногодичный просвет, открывшийся в октябре 1980 года для истцов, предъявляющих претензии согласно «Закону о пособиях «кротам"», растянулся на время правления двух администраций. В январе 1981 года после инаугурации президента Рейгана в ЦРУ пришла новая команда. Делу Карлоу пришел конец на столе Уильяма Кейси.
Новый директор ЦРУ поручил своему Генеральному юрисконсульту Стэнли Споркину разобраться в деле. Негласно была создана комиссия из трех человек, включая Споркина. В своем меморандуме для Кейси Споркин сделал заключение, что выявленные факты заставляют рассматривать дело Карлоу «в несколько ином свете», чем дела Ковича и Гарблера, которым была выплачена компенсация[260].
Далее в меморандуме Споркина описывался предположительный ход событий. В декабре 1961 года перебежчик из КГБ Голицын заявил, что Советы проникли в ЦРУ. «Перебежчик не был в состоянии предоставить точное описание внедренного агента, но сообщенные им сведения до такой степени совпадали с данными по мистеру Карлоу, что он попал под серьезное подозрение и по нему было начато расследование, которое, однако, не смогло доказать, что именно Карлоу являлся этим внедренным агентом…»
Затем в секретном меморандуме последовали совершенно неожиданные выводы. Поскольку доказательства, что Карлоу является тем самым «кротом», не было обнаружено, пишет Споркин, может показаться, что он заслуживает компенсации. «Однако выявленные в ходе расследования факты привели к решению, что он должен быть уволен по причине нарушения режима секретности, независимо от обвинения… в сотрудничестве с чужой разведкой»[261]. Комиссия, добавил Споркин, пришла к выводу, что иск Карлоу следует отвести.
Управление выдвинуло все те же старые доводы: Карлоу, дескать, неясно указал место рождения отца, туманно объяснил, где он пребывал в определенные дни, однажды оставил открытым свой сейф и так далее.
Но официальные документы сплошь и рядом не в состоянии представить полную картину событий. Для Споркина и других должностных лиц ЦРУ, изучавших досье спустя почти два десятилетия, возможно, оказалось затруднительным ухватить суть дела — что как только Карлоу был заподозрен в шпионаже в пользу враждебной державы, Управление стало добиваться избавления от него любыми путями. Если нельзя было уличить его в предательстве, то в ход пошли другие основания. Один из старших должностных лиц ЦРУ, осведомленный о событиях 1963 года, утверждал: «Они использовали секретный материал, чтобы сфабриковать дело против Карлоу, навесив на него все это дерьмо».
Карлоу пока ничего не знал о меморандуме Споркина. В октябре 1981 года, после того как прекратил свое действие «Закон о пособиях, кротам»», Кейси послал Карлоу письменное объяснение причин отвода его иска. Карлоу, вторично женившийся в том же году на Каролине, уважаемой сотруднице администрации одного из колледжей, решил не складывать оружие и нанял адвоката Стэнли Гэйнса, который до этого удачно представил Ричарда Ковича.
Гэйнс пытался доказать сенатскому комитету по разведке, что правосудие допустило ошибку в случае с Карлоу, но было слишком поздно. Управление сумело убедить членов комитета, что для отвода иска Карлоу имелись достаточно веские, хоть и несколько туманные и трудные для понимания, причины.
Карлоу, обычно сдержанный по характеру человек, на этот раз не смог сдержать хлынувших от разочарования через край эмоций. «Я считаю, тут имеет место преднамеренная подтасока фактов или тайный сговор, — заявил он Гэйнсу. — Управление по каким-то соображениям делает из меня козла отпущения»[262].
В октябре 1986 года Карлоу получил свой первый шанс. К тому времени он переехал на север Калифорнии, где продолжал работать консультантом по международному бизнесу. Прибыв в Вашингтон на симпозиум, посвященный Управлению стратегических служб, Карлоу выступил с речью перед своими коллегами военного времени. Выступил и Кейси, который служил в УСС в Лондоне.
Позднее им удалось побеседовать. «Кейси подошел ко мне, — вспоминает Карлоу, — и спросил: „Черт побери, что они там возятся с твоим делом?“».
Капризный, вспыльчивый, непостоянный, Кейси вместе с тем был вполне доступен и при всех своих недостатках не обладал предвзятостью мнения. Через несколько дней после разговора с Карлоу Кейси лично распорядился о пересмотре дела. Он позвонил Карлоу в Калифорнию и попросил его поработать с новым Генеральным юрисконсультом Дэвидом Дохерти, чтобы подготовить новые рекомендации относительно возмещения нанесенного Карлоу ущерба. В это время более 150 документов по его делу были неожиданно рассекречены и переданы Карлоу.
Однако оставался один решающий факт, о котором ЦРУ ни разу не упоминало и который оно не решилось раскрыть Карлоу даже теперь. Он состоял в том, что в 1963 году ФБР сняло с Карлоу все подозрения.
Бывший агент ФБР, возглавлявший расследование, подтвердил это. Куртленд Джонс рассказал, что допрашивавшие Карлоу агенты поняли, что он не тот человек, описание которого представил Голицын. Два агента ФБР, оба первоклассные специалисты, Морис («Гук») Тэйлор и Обри («Пит») Брент в течение пяти дней подвергали Карлоу жесткому, беспощадному допросу, но в конце концов оставили его в покое, убежденные в том, что он невиновен. Джонс весьма уверенно; говорил об этом, так как хорошо запомнил реакцию Тэйлора, который выразил свое удовлетворение тем, что очистил человека, который был запачкан грязью подозрений. «Наше расследование, — добавил Джонс, — полностью оправдало Карлоу»[263].
По словам Джонса, такой документ обычно отправлялся региональным отделом ФБР, проводившим допрос, в штаб-квартиру ФБР, а оттуда в ЦРУ. Было ли это сделано в случае с Карлоу? «Конечно», — подтвердил Джонс. Однако никакого подобного документа Карлоу никогда не получал ни от ЦРУ, ни от ФБР.
На основании Закона о свободе информации Карлоу в конце концов заполучил меморандум Споркина, который буквально потряс его. Из него он впервые узнал о фальшивом утверждении ЦРУ, что его уволили совершенно по другим причинам, а отнюдь не по обвинению в шпионаже в пользу другой страны.
Меморандум, написанный в 1963 году юристом ЦРУ Лоуренсом Хьюстоном, как раз когда Карлоу выставили на улицу, утверждал абсолютно обратное: хотя не было доказано, что Карлоу является "кротом", его полезность сочли исчерпанной именно в силу этого обвинения. К ужасу Карлоу, ЦРУ поначалу не могло даже отыскать меморандум Хьюстона, который затерялся в море других бумаг.
По просьбе Генерального юрисконсульта Карлоу составил детальное опровержение меморандума Споркина и прежних обвинений. Когда юристы ЦРУ вновь изучили дело, им сразу же бросился в глаза тот факт, что мелкие нарушения режима, упоминание о которых появилось в процессе расследования обвинения Карлоу в шпионаже, в действительности отнюдь не являлись причиной его увольнения. Теперь стало ясно, что Управление допустило промах, когда отвергло иск Карлоу, поданный им на основании "Закона о пособиях "кротам"".
Однако оставалась одна проблема: действующий в течение года закон утратил свою силу пять лет назад. ЦРУ уже не имело юридических полномочий компенсировать причиненный Карлоу ущерб.
Более того, дело Карлоу вскоре было забыто, когда хлынула волна скандала "Иран-контрас". В тот месяц, когда Кейси приказал пересмотреть дело Карлоу, он по уши погряз в новом скандале. К ноябрю на поверхность всплыли невероятные факты. Рональд Рейган, непримиримый враг Ирана и аятоллы Хомейни, оказывается, тайно переправлял в эту страну оружие в надежде добиться освобождения американских заложников, а миллионные прибыли от его продажи незаконно направлялись на поддержку "контрас" в Никарагуа. Имя Оливера Норта, адъютанта Белого дома, подполковника морской пехоты, было у всех на устах. Для администрации Рейгана, ЦРУ и лично Кейси эти разоблачения явились страшным ударом.
15 декабря Кейси работал в своем кабинете, готовясь к очередному заседанию сенатского комитета по разведке по делу "Иран-контрас", когда с ним случился удар. Он перенес хирургическую операцию на мозге в связи со злокачественной опухолью и уже больше никогда не возвратился к исполнению своих обязанностей. Он скончался 6 мая 1987 года, за пять дней до смерти Джеймса Энглтона.
Роберт Гейтс, заместитель директора ЦРУ, был назначен исполняющим обязанности директора, пока Кейси лежал в госпитале, а 2 февраля Рейган предложил на обсуждение сената кандидатуру Гейтса на пост директора ЦРУ. Но Гейтсу, который также был замешан в скандале по поводу обмена оружия на заложников и помогал все это держать в тайне от конгресса, предстояло выдержать нелегкое сражение с сенаторами по поводу своего утверждения. В марте Гейтса не утвердили, и Рейган, выдвинул другого кандидата на пост директора ЦРУ — Уильяма Уэбстера[264].
У Карлоу вся эта цепь событий, свалившаяся на него как снег на голову после столь многообещающей встречи с Кейси на симпозиуме в Вашингтоне, должна была бы вызвать горькую иронию типа «но почему же мне так упорно не везет?». Совпадение по времени решения его проблемы и скандала «Иран-контрас» действительно обернулось жестокой шуткой. «Они собирались уладить мое дело, — заявил Карлоу. — Но после смерти Кейси Гейтс отказался заниматься им, а Уэбстер стал тянуть с решением».
Но Уэбстер, бывший федеральный судья, освоившись в своем новом кресле, изменил точку зрения. По словам Карлоу, Уэбстер пригласил на работу в ЦРУ целую группу помощников из ФБР, которые изучили его дело, и Уэбстер согласился, что Карлоу здорово наказали.
Юристы Управления рассчитали размер компенсации за ущерб, причиненный Карлоу в результате разрушения его карьеры 25 лет назад. Они также решили проблему, каким образом выплатить ему деньги. Руководству ЦРУ следует тихонько обратиться в конгресс с просьбой провести снова закон о компенсации несправедливо обвиненным в шпионаже лицам, на этот раз персонально для Питера Карлоу.
15 сентября 1988 года конгресс принял Закон об ассигнованиях на разведку на 1989 финансовый год. В недрах его статей и положений затерялся раздел 501(a), сформулированный аналогично закону от 1980 года. Двумя неделями позже президент Рейган подписал законопроект, и закон о компенсации лицам, незаконно пострадавшим от обвинений в шпионаже, 1988 года получил официальный статус[265].
Пресса проморгала незаметную, маловразумительную статью закона и не потрудилась поинтересоваться, для кого же этот закон был принят. А поскольку ЦРУ не опубликовало никакого публичного извещения о новом законе и не предприняло никаких попыток оповещения своих бывших сотрудников, которых этот закон мог касаться, ни одна другая жертва охоты на «кротов» не дала о себе знать.
Уильям Уэбстер утвердил это решение. В начале 1989 года Питер Карлоу прилетел в Вашингтон, и в штаб-квартире ЦРУ, в кабинете генерального юрискон-сульта, ему вручили чек на сумму около 500 тысяч долларов.
Карлоу отказался обсуждать с кем-либо сумму компенсации. Единственным комментарием было, что она не превышает миллиона. Карлоу отправился в деловую часть Вашингтона, чтобы отыскать банк, куда бы он мог положить этот чек. Возможно, по иронии судьбы, он оказался на К-стрит, главной деловой улице города.
«Я испытывал несколько странные чувства, когда стоял на К-стрит в три часа пополудни с чеком на огромную сумму и раздумывал, что мне делать с ней». Карлоу разыскал банк, который, к счастью, работал до четырех и в котором с радостью приняли такой вклад.
Компенсация была достаточно щедрой, но, по мнению Карлоу, не хватало еще чего-то, что возместило бы ему те 20 лет, в течение которых он считался предателем. Ему хотелось бы иметь какой-нибудь наглядный символ, чтобы повесить его на стенку в подтверждение своей реабилитации. С согласия Уэбстера Карлоу получил приглашение вновь посетить Лэнгли весной.
ЦРУ пожелало наградить его медалью.
ГЛАВА 21
Наследие
Ричард Хелмс без сожаления оглядывался на эру охоты на «кротов». В его кабинете в центре Вашингтона душно, но во время разговора он предпочитает оставаться в своем элегантном пиджаке.
Энглтон, возможно, и являлся ключевой фигурой, но именно Хелмс возглавлял Управление в период охоты на «кротов» — сначала в качестве заместителя директора по планированию с 1962 года, затем в качестве директора Центральной разведки с 1966 по 1973 год. В этот период очень немногие важные мероприятия могли проводиться без его личного одобрения.
В ретроспективе что он может сказать о проведении расследований по подозрению в шпионаже? «Их следовало проводить, — сказал Хелмс. — Одним из реальных кошмаров, которые переживает директор Центральной разведки, является постоянное ожидание, что кто-то войдет в его кабинет и скажет: «Мы обнаружили агента проникновения». Каждый директор, достойный своей должности, обязан обращать внимание на любые заявления и разбираться в них. Нам приходилось проверять такие вещи. Я это понимал и тогда, и теперь.
Когда я был директором, я отказывался подписывать документы только ради того, чтобы избавиться от кого-то, до тех пор пока не было четко доказано, что такой человек действительно внедрившийся агент». Но, согласился он, некоторых сотрудников «попридерживали» на время проверки таких заявлений.
«А что делать с такими людьми в течение проверки?
Подвесить к потолку? Когда такие дела всплывали, именно Энглтон поднимал вопрос о возможностях подобных фактов, но расследования приходилось проводить управлению безопасности, но не Энглтону».
— Сколько сотрудников ЦРУ стали объектами расследований?
— Я не знаю точной цифры, — сказал Р. Хелмс.
— И ни одного не обнаружили?
— Я в этом не уверен.
Любая крупная организация основывается на доверии, иначе она не сможет функционировать. Среди членов такой организации существует понятие презумпции лояльности организации, ее общим целям и друг другу. Роберт Кроули, ветеран секретных служб, изложил эту мысль следующим образом: «При проведении операции следует себя спрашивать: „А хотел бы ты иметь этого парня у себя за спиной?“»
ЦРУ тоже базируется на доверии, но допускает предательство. Это его постоянная проблема.
Эпоха охоты на «кротов» внесла в отточенную схему потенциальную угрозу, возникающую для любой организации, которая включает в свою основную структуру могущественное подразделение, наделенное полномочиями подозревать всех и вся. Управление паранойи — вот что это было.
Джеймс Энглтон, возглавлявший контрразведку в течение 20 лет, последние 13 лет пребывания на этом посту посвятил поиску «крота» или «кротов» в Управлении. В ЦРУ Энглтон стал капитаном Ахабом, постоянно преследовавшим огромного белого кита. Ему так никогда и не удалось приблизиться к нему достаточно близко, чтобы бросить гарпун.
Заманчиво, но слишком просто назвать Энглтона параноиком. Согласно определению, приведенному в словаре, для параноика «характерна сверхподозрительность, грандиозная мания величия или преследования»[266].
Хотя трудно, а возможно, и несправедливо представлять дело так, что Энглтон страдал паранойей. Его подозрения имели под собой рациональную основу. «Кроты» и предатели были и в других разведывательных ведомствах, например в МИ-6. Даже в ЦРУ всплывали «кроты» и предатели (хотя ни одно из дел в ЦРУ не имело места или, по крайней мере, не было раскрыто в период пребывания там Энглтона). Некоторые дела, возможно, остались неопубликованными, потому что этого хотело ЦРУ, но известный список довольно длинный:
Эдвин Гиббонс Мур II, бывший сотрудник ЦРУ, державший дома сотни грифованных документов и предложивший их Советам за 200 тысяч долларов. В 1977 году признан виновным и приговорен к 15 годам тюремного заключения.
Уильям Кампайлс, бывший сотрудник охраны ЦРУ, получивший от Советов три тысячи долларов за экземпляр справочника по спутнику-шпиону КН-11. В 1978 году признан виновным и приговорен к 40 годам лишения свободы.
Дэвид Барнетт, бывший оперативный сотрудник ЦРУ в Индонезии, продавший секреты Управления Советам за 92,6 тысячи долларов. В 1980 году признан виновным в шпионаже и приговорен к 18 годам лишения свободы.
Карл Кохер, служащий ЦРУ, работавший по контракту переводчиком с 1973 по 1975 год, одновременно являясь агентом чешской разведки. Арестован в 1984 году, признан виновным в шпионаже. В 1986 году передан в рамках обмена заключенными между Востоком и Западом.
Шарон Скрейнейдж, клерк ЦРУ в Гане, передавала секреты Управления своему любовнику, агенту разведывательной службы Ганы. В 1985 году арестована, признана виновной в разглашении закрытой информации и приговорена к пяти годам лишения свободы.
Ларри У Дайцзынь, бьюший радиокомментатор, передававший секреты китайской разведке в течение 33 лет, за что получил 140 тысяч долларов. Арестован в 1985 году, в следующем году признан виновным, совершил самоубийство в феврале 1986 года, находясь в тюрьме в ожидании приговора.
Эдвард Ли Говард, оперативный работник ЦРУ, готовился для работы в Москве, но не прошел проверки на полиграфе и был уволен. После чего Говард продал КГБ секреты об операциях ЦРУ в Москве, а полученные деньги положил в швейцарский банк на секретный счет (около 150 тысяч долларов). Еще десять тысяч долларов зарыл в пустыне штата Нью-Мексико. В 1985 году ушел из-под наблюдения ФБР, получил политическое убежище в СССР.
Этот список служит достаточным доказательством существования «кротов» и предателей, которых, по логике вещей, необходимо преследовать и, если возможно вообще, обнаруживать. «Сегодня, — утверждает Сэм Папич, — в каждом ведомстве, включая ФБР, есть «кроты». Глупо было бы отметать эту мысль».
Но, как и многое другое в демократической системе, искоренение шпионов требует искусного сбалансированного сочетания безопасности и свободы. ЦРУ не является исключением из надлежащего процесса. Оно — часть американского правительства. Управление свободно применять против других стран весь свой арсенал «грязных приемов», подпадающих под определенные минимальные ограничения, налагаемые президентом и конгрессом, но, по логике вещей, оно не может — по крайней мере в отношении собственных сотрудников — действовать вне демократических норм системы, на защиту которой оно претендует. Оно не может попирать ценности, для защиты которых создано, не заплатив за это дорогой ценой.
Если Энглтон и был выдающимся человеком, как утверждают его почитатели, он был также и предвзятым в своих суждениях, как заявляют его недоброжелатели, исковерканной и искаженной личностью, которая рассматривала заговор и обман как естественное явление. Его ум и его внутренний мир представляли собой безнадежное переплетение ложных следов и ретроспекций, запутанный лабиринт без выхода. В итоге он действительно затерялся в «бесконечности зеркальных отражений».
Бывший оперативный работник, белобородая старая мудрая сова, который покинул Управление много лет назад и поселился в скалистых предгорьях Колорадо, возможно, лучше выразил эту мысль: «Бесконечность зеркальных отражений? Многие нашли свой путь именно в этой бесконечности, а не вне ее. Есть что-то негуманное в складе ума контрразведчика, в манипулировании людьми. Сотруднику контрразведки всегда заманчиво взять какое-то дело и утюжить его взад и вперед. Это-то и приводит к «бесконечности зеркальных отражений»».
И добавил: «Многими неприятностями, в которые мы попадали, мы обязаны скорее глупости, чем злому умыслу, диверсии или предательству. Обычно это глупость.
Хороший действенный контроль за контрразведкой — это прекрасно. Если он не срабатывает, то его следует снять. Я уж не говорю о том, что его следует снять, если он наносит ущерб карьерам людей. Это оборачивается военными потерями».
Он стал пристально всматриваться в окно, на подступающие горы. Легкий ветерок шевелил кроны деревьев. «Следовало бы установить контроль за Энглтоном, — сказал он. — Мы не можем подвергаться риску взвинтить целую организацию. Энглтон переступил черту».
Бывший шеф советского отдела, хотя и восхищался личными качествами Энглтона, согласился с этим. Защита от агентов проникновения — «абсолютно элементарна», сказал он, но вопрос состоит в применяемых методах. «Это вопрос апеллирования к фактам, но не к теориям. Если намерен действовать, то надо иметь веские доказательства».
Но основной конфликт между доверием и предательством, приведший к охоте на «кротов», развернувшейся внутри ЦРУ, был гораздо шире и выходил за рамки отдельно взятой личности. Проблема была и остается эндемического характера.
В конечном счете Энглтон имел большую власть над пятью директорами — Уолтером Беделлом Смитом, Алленом Даллесом, Джоном Маккоуном, Уильямом Рэйборном и Ричардом Хелмсом. Энглтон не мог сосредоточить в своих руках такой власти, если бы ЦРУ как организация не хотело этого. Он действовал в постоянно подпитываемой среде, а не в вакууме.
Охота на «кротов» разрушила карьеры лояльных сотрудников, разбила жизни и семьи, а также парализовала Управление, приостановив операции против Советского Союза в разгар «холодной войны», в период, когда они являлись смыслом существования ЦРУ.
Леонард Маккой, сотрудник советского отдела, занимавшийся анализом донесений позднее — заместитель начальника реорганизованного отдела контрразведки, так и заявил в статье, ходившей по рукам среди бывших служащих ЦРУ. Он писал: «Отрицательный эффект эпохи Голицына на управление операциями советского отдела фактически явился опустошающим — неизбежной кульминацией давно бытовавшего мнения, что у ЦРУ не могло быть ни одной настоящей операции по Советскому Союзу. Потенциальные объекты вербовки были отвергнуты, реализуемые операции — сочтены вводя-щими в заблуждение (включая и Пеньковского), а перебежчики, сообщавшие информацию в поддержку Носенко… рассматривались как подосланные КГБ»[267].
Другой ветеран ЦРУ, Марк Уайатт, давая интервью для фильма Би-би-си, посвященного делу Носенко, изложил эту мысль еще более сжато: «Из-за этого дела и его многочисленных ответвлений рушились карьеры, операции против Советского Союза были парализованы, а отношениям с некоторыми дружественными разведывательными службами был нанесен урон»[268].
Охота на «кротов» захватила и некоторых других западных союзников, вылившись в особо разрушительный и безрезультатный поиск предателей в высшем эшелоне руководства британской разведки. Она привлекала к ответу невинные жертвы и в других странах, например Ингеборг Лигрен в Норвегии. И порождала атмосферу страха в ЦРУ.
Такая атмосфера не являлась новостью. В начале 50-х годов пышным цветом процветала развязанная сенатором Джозефом Маккарти охота на коммунистов в американском обществе. То, что случилось в ЦРУ в 60-е годы, сродни маккартизму, пустившему ядовитые корни в Америке десятилетием ранее. По иронии судьбы, именно ЦРУ являлось одной из мишеней сенатора от штата Висконсин и его опустошительной «охоты на ведьм». Теперь время как бы обернулось вспять и захлестнуло ЦРУ, изолированное в стенах своей секретности, и оно переживало собственную «охоту на ведьм», сродни той, что за несколько лет до этого охватывала более широкие слои общества[269].
Подобно локомотиву, несущемуся без тормозов, охота на «кротов» набирала свои обороты, пока полностью не сошла с рельсов, чего и следовало ожидать.
«Война перебежчиков», конфликт по поводу Голицына и Носенко — центральное событие в охоте на «кротов», расколовшее Управление на два лагеря, шрамы от которого пришлось залечивать еще не одно десятилетие.
Нанесенный ущерб был настолько велик, что Управление даже согласилось на принятие конгрессом закона о выплате компенсаций жертвам охоты на «кротов», хотя само не выступило с инициативой попытаться исправить совершенные им ошибки. Но выплаты Карлоу, Гарблеру и Ковичу, сколь значительными они ни были, не компенсировали ущерба, нанесенного этим лицам и десяткам других лояльных сотрудников, которые и по сей день не подозревают, что стали жертвами.
Подобно змее, пожирающей свой хвост, в итоге охотники на «кротов» пожрали друг друга. Охота на «кротов» перекинулась на ее участников и привела к тому, что обвинение пало на начальника советского отдела, шефа контрразведки и директора ЦРУ. Дэвид Мэрфи, Джеймс Энглтон и Уильям Колби — всех коснулся перст подозрения. Операции советского отдела фактически были свернуты.
Самое смешное, что прямым следствием охоты на «кротов» явилось сокращение отдела контрразведки ЦРУ, его размеры, влияние и эффективность значительно снизились. Когда в 1973 году Уильям Колби стал директором ЦРУ, он был справедливо убежден в том, что Энглтон стал разрушительной силой в Управлении. Уверенность контрразведки в том, что все советские перебежчики или добровольцы являлись подставой, а в само Управление глубоко проникли «кроты», заморозила все операции ЦРУ против Советского Союза в различных районах мира. Решив изменить создавшееся положение и ловкостью добиться устранения Энглтона из Управления, Колби демонтировал его империю, части которой уже никогда не были вновь собраны воедино[270]. «Контрразведка, — сказал Сэм Папич, — так и не была восстановлена».
С присущим ему чрезмерным усердием Энглтон преуспел в уничтожении всего созданного им. Мир контрразведки очень похож на пещеру, столь глубокую и темную, что фактически невозможно заглянуть во все ее расщелины. Но основная задача контрразведки ЦРУ состоит в том, чтобы предотвращать проникновения в Управление и способствовать обнаружению иностранных шпионов.
Хотя работу контрразведки трудно измерить именно потому, что она ведется тайно, одним из приемлемых критериев может служить количество дел о шпионаже, всплывающих на поверхность в какой-то данный период. А быстрое увеличение количества дел о шпионаже в середине 80-х годов — от Эдварда Ли Говарда в ЦРУ и Рональда Пелтона в АНБ до Джона Уокера-младшего и его сообщников в ВМС, Ричарда Миллера в ФБР и Клайда Ли Конрада в армии США — дает основание
полагать, что с контрразведкой в США что-то неладно.
Действительно* не одно официальное расследование пришло к подобному выводу. В 1988 году подкомитет комитета по разведке палаты представителей провел расследование по национальным ведомствам контрразведки. Подкомитет обрушил шквал критики на действия ЦРУ в деле Эдварда Ли Говарда, первого сотрудника Управления, перешедшего на сторону Советского Союза. В своем докладе комитет палаты представителей назвал это дело «одной из наиболее серьезных потерь в истории разведки США»[271].
Он содержал выдержки из секретных свидетельских показаний Гарднера («Гэса») Хатауэя, тогдашнего шефа контрразведки ЦРУ, который впервые признал, что «то, что сделал Говард, имело для нас разрушительные последствия», и что Говард раскрыл русским «некоторые из наиболее важных операций, которые мы когда-либо проводили в Советском Союзе». Хатауэй также признал, что в деле Говарда «Управление действовало не должным образом»[272]. Проанализировав проблемы контрразведки, с которыми столкнулись США, комитет палаты представителей пришел к выводу: «…что-то в корне неправильно»[273].
В том же году в отчете конференции представителей сената и палаты представителей отмечались «существенные недостатки» в аппарате национальной безопасности. Разведывательное сообщество было названо в нем «слабо организованным, укомплектованным, обученным и оснащенным, чтобы противостоять постоянным контрразведывательным вызовам»[274].
В 1985 году вскрылось так много дел о шпионаже, что он получил название «Год шпиона». Сразу же вслед за этими делами и переходом и возвращением в СССР сотрудника КГБ Виталия Юрченко директор ЦРУ Уильям Уэбстер полностью реорганизовал отдел контрразведки Управления, заменив его новым центром контрразведки, понизив ранг его начальника до уровня помощника заместителя директора по операциям по вопросам контрразведки. Еще предстояло посмотреть, не были ли все эти изменения лишь некой бюрократической уловкой.
«Скотти» Майлер, бывший заместитель Энглтона, сокрушался, что вслед за отставкой Энглтона и его собственным уходом из ЦРУ контрразведке, по его мнению, пришел конец. Но Майлер, который не один год входил в состав группы специальных расследований и занимался поиском «кротов» (правда, так ни одного и не обнаружил, за исключением, быть может, лишь Игоря Орлова), понимал, что контрразведка — не точная наука. Он любил цитировать замечание бывшего директора ЦРУ по планированию: «Десмонд Фитцджеральд однажды сказал, что контрразведка — это не что иное, как пара парней в лаборатории, исследующих цыплячьи внутренности».
В конечном счете Энглтон сам себя уничтожил. Он заворожил нескольких директоров ЦРУ, последовательно сменявших друг друга на этом посту, и здесь уместна аналогия с «Волшебником Изумрудного города». Но когда Управление оказалось в затруднительном положении, он более не мог пользоваться своим особым даром.
Как охарактеризовал это Джон Денли Уокер, бывший начальник резидентуры, столкнувшийся с ним в Израиле, «Энглтон стал похож на паука-короля, он никогда не знал, что было в сетях паутины. Колби был довольно близок к истине».
Дэвид Бли, один из преемников Энглтона на посту начальника контрразведки, понял проблему очень хорошо. Он возглавлял отдел в течение семи лет. «В контрразведке, — сказал он, — мы все параноики. Если бы мы ими не были, мы не смогли бы делать нашу работу».
Другой бывший шеф контрразведки ЦРУ, не пожелавший назвать своего имени, удивительно откровенно высказался о подстерегающих опасностях. «Подобно скандинавскому витязю ты неистово уходишь в эту работу. Совершенно теряешь ориентацию. С ума сходишь. Повсюду ищешь шпионов». Может быть, неплохая идея, добавил он, ограничить срок пребывания на должности начальника контрразведки ЦРУ до одного года.
Глубоко засевшая уверенность Энглтона в том, что после Анатолия Голицына все советские добровольные информаторы или перебежчики были подставой, изживалась с трудом даже после ухода самого Энглтона. Некоторые бывшие сотрудники ЦРУ утверждают, что Управление быстро избавилось от этой точки зрения.
Но в 1976 году, спустя два года после ухода Энглтона, Адольф Толкачев, советский научный сотрудник, работавший в обла и авиационной технологии «Стеле», стал оставлять записки в машинах американских дипломатов вблизи посольства США в Москве. Толкачев, опасаясь наружного наблюдения КГБ, сам не отваживался приблизиться к зданию посольства. Московская резидентура ЦРУ сообщила об этих подходах в Лэнгли.
Трижды, как можно судить, ЦРУ отворачивалось от Толкачева из опасения, что тот может оказаться подставой. Наконец Управление решило воспользоваться случаем и начало принимать материалы от советского научного сотрудника в военной области. На протяжении почти десяти лет Толкачев оставался самым ценным агентом ЦРУ в Советском Союзе, его существование являлось тщательно охраняемой тайной. Из-за своей первоначальной подозрительности Управление чуть было не потеряло его богатый улов советских секретов. В конечном итоге Толкачева схватили, почти наверняка он был выдан Эдвардом Ли Говардом[275].
В конце концов все восходило к предательству. Необходимость доверия, реальность предательства превосходят проблему, с которой столкнулись ЦРУ и охотники на «кротов» в 60-е годы. Эти два фактора лежат в основе любых человеческих отношений.
С одной стороны, захватившая Энглтона навязчивая идея поиска «кротов» явилась поиском зла внутри организации. Явная параллель с поведением человека. В определенном смысле Энглтон и его группа охотников на «кротов» занимались изгнанием духов. В конечном счете они добились не меньших успехов, чем те, кто пытался заняться этим трудным ремеслом.
Джон Денли Уокер, видевший все это изнутри, но сумевший сохранить чувство сбалансированности, кратко охарактеризовал это таким образом: «Охота на «кротов», вероятно, все же больше способствовала защите советского агента, если таковой был, чем его разоблачению. В то же время, когда по каждому проводилось расследование, против каждого выдвигалось обвинение, настоящий «крот» посиживал да посмеивался».
Эпилог
26 мая 1989 года Питер Карлоу вместе со своей женой Каролиной прибыл на церемонию в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли.
Она проходила в зале совещаний на седьмом этаже рядом с кабинетом Уильяма Уэбстера, директора Центральной разведки, который наблюдал, как Ричард Штольц-младший, заместитель директора по операциям, вручал Карлоу медаль за особые заслуги.
Штольц, руководитель всех тайных операций ЦРУ, был ничем не выделяющимся человеком в очках в массивной роговой оправе. В своем темно-синем костюме и красном галстуке он мог бы сойти за директора страхового агентства, вручающего золотые часы служащему по случаю его ухода на пенсию[276].
Вместе с небольшой бронзовой медалью Карлоу вручили большую синюю папку из искусственной кожи с золотым гербом ЦРУ на лицевой стороне. Внутри на двух страницах помещался текст, прилагаемый к вручаемой медали. Над гербом ЦРУ с изображением орла и щита значилось: «Соединенные Штаты Америки». И далее: «Доводится до сведения всех, кто увидит эту награду: Настоящим удостоверяется, что директор Центральной разведки наградил медалью за особые заслуги Сержа Питера Карлоу за безупречную службу». Текст гласил, что «медаль вручается Карлоу в знак признательности за его более чем двадцатидвухлетнюю преданную службу в Центральном разведывательном управлении. Он отличался, занимая все более ответственные посты в штаб-квартире и за рубежом. На протяжении всей своей карьеры г-н Карлоу демонстрировал вдохновенные качества руководителя, оперативную мудрость и здравомыслие, отражающие его собственную репутацию, репутацию Центрального разведывательного управления и Федеральной службы».
Под текстом стояла подпись Уильяма Уэбстера.
Карлоу помнил Штольца: «Он был младшим офицером, когда я работал в Германии». И хотя Штольц никогда публично не фотографировался, в тот день присутствовал фотограф, чтобы запечатлеть церемонию. Позднее он напишет на цветном снимке: «Питеру Карлоу, в знак скромного признания выдающейся профессиональной карьеры замечательного джентльмена. Дик Штольц, 26 мая 1989 года». Карлоу повесил этот снимок на стену.
Помимо Штольца присутствовало новое поколение действующих лиц ЦРУ. Никого из должностных лиц, которые 26 лет тому назад изгнали Карлоу из Управления, на церемонии не было. Все они давно ушли.
Однако один из преемников Энглтона на посту начальника контрразведки, Гарднер («Гэс») Хатауэй, явился. «Думаю, он хотел посмотреть на меня, — сказал Карлоу. — Мы перебросились несколькими словами. Я испытал смешанное чувство, увидев его на церемонии»[277].
Затем состоялся вечер в Международном клубе в Вашингтоне на К-стрит, на который пришли многие старые друзья и коллеги Карлоу, уже вышедшие в отставку. Здесь были Траппер Драм из отдела технических служб, Рейд Денис с берлинской «базы», Питер Хейманн из Бонна и Ричард Хелмс.
«Каждый из них вздохнул с облегчением», — сказал Карлоу. Многие из его бывших коллег отказывались верить, что он нелоялен, но сомнения все же оставались до тех пор, пока директор ЦРУ не распорядился вручить Карлоу медаль.
Улыбаясь, один из людей ЦРУ поднял бокал и сказал, обращаясь к Карлоу: «Вы победили, вы одолели их».
Но в действительности Карлоу испытывал нечто другое. Не было ни горечи, ни гнева, но он 26 лет ждал этого дня. Когда в 1963 году он ушел из ЦРУ, ему исполнилось 42 года, а когда вернулся туда в 1989-м, ему было уже 63. Конечно, он добился успеха в частном бизнесе, да и ведомство выплатило компенсацию. Но охота на «кротов» украла у него целую жизнь, разрушила его карьеру, обвинила его в предательстве. Она лишила его возможности заниматься любимой работой, полезной для его страны, защищая которую он лишился левой ноги, но этого оказалось недостаточно. Питеру Карлоу пришлось пожертвовать еще и своей репутацией, и лучшими годами своей жизни.
Для Нью-Мексико характерен пустынный ландшафт. Холмистая большая пустыня к северу от Альбукерке отличается специфической красотой, красотой запустения. Среди бесплодных холмов лишь изредка встречаются кусты можжевельника да колючие кактусы.
У «Скотти» Майлера, живущего здесь, вдали от Лэнгли, была масса времени, чтобы окинуть взглядом прошлое. Он закурил сигарету и глубоко затянулся. «Хотелось бы, чтобы правительству каким-то образом удалось похоронить все это, потому что это несправедливо, — произнес он. — Если идешь работать в разведку, надо быть готовым к подобным расследованиям в отношении себя, поскольку не исключены какие-то заявления».
Не так-то просто приходилось и охотникам на «кротов». «Даже когда я вел расследование в отношении этих людей, я был обязан иметь с ними дело в повседневной практике». Это создавало «определенное неудобство».
Теперь, в ретроспективе, как он расценивает ущерб, нанесенный жизням и карьерам людей, которые были у него в руках?
«Прискорбно. Беспокоит, справедлив ли ты был. Прискорбно, что такое случается. Но приходится действовать целенаправленно, если есть достаточные основания для подозрений…Пытаешься защитить нечто большее, чем отдельную личность. Усваиваешь только одно — нет уверенности в том, кто может оказаться шпионом».
Майлер загасил сигарету и поднял глаза, «Насколько нам известно, никто из людей, в отношении которых мы проводили расследование, не оказался шпионом».
Значило ли это, что «крота» не было?
«Нет, я не сказал этого, — ответил Майлер. — Это значит, что мы не нашли такого».
Терраса дома «Скотти» Майлера смотрит на запад, в сторону Аризоны. На севере на горизонте вырисовываются горы Сангре-де-Кристо. В Нью-Мексико Майлер с женой приехал из Вашингтона в 1976 году, «чтобы скрыться от длинных рук комитетов по расследованиям».
На террасе дома Майлеры оборудовали кормушки для колибри, наполнив их подслащенной водой. Они любили наблюдать за этими крошечными созданиями, похожими на воздушных акробатов, которые быстро и шумно сновали вверх и вниз вокруг террасы. Но в 1988 году жена Майлера умерла, и он остался один в доме со своими воспоминаниями и колибри.
Сейчас колибри стало меньше, но они все еще прилетают к кормушке. «В хороший день, — сказал он, — их можно увидеть до двадцати пяти».
Примечание автора
Почти десять лет тому назад мне довелось завтракать, как подобает, в неприметном ресторанчике в Вашингтоне с бывшим сотрудником секретных служб ЦРУ, с которым я познакомился и к которому проникся симпатией. Я уважал этого человека в силу многих причин, немаловажной среди которых была та, что он ни разу не сказал мне ничего такого, что могло бы оказаться неправдой.
Однако в тот день я подумал, что его безупречная правдивость, возможно, напускная до предела. Во время ленча он рассказывал мне, что некий советский перебежчик сообщил, что в ЦРУ действует проникший агент, фамилия которого начинается с буквы «К», и что этот факт бросил тень на многих сотрудников, причем один из них был вынужден подать рапорт.
Сотрудник ЦРУ уволился потому, что его фамилия начиналась с буквы «К»?
Мой друг кивнул головой. Ясно, он говорил серьезно. Столь же ясно, как я осознал, что именно об этом мне следует написать. Понизив голос, он сообщил мне по секрету фамилию этого человека: «Питер Карлоу».
Другие планы не позволили мне приступить к работе, тем не менее я был решительно настроен в один прекрасный день вернуться к теме охоты на «кротов» в ЦРУ и найти человека, которого я представлял себе как «Мистера К». Прошло почти пять лет, прежде чем я нашел его. Большую часть этого времени он работал в Вашингтоне — по иронии судьбы, в конторе, расположенной на К-стрит. Хотя он переехал в Калифорнию, но согласился встретиться со мной в свой следующий приезд в Вашингтон.
Несколько недель спустя солнечным весенним днем я сидел напротив Питера Карлоу в столичном ресторане на открытом воздухе. Он сказал, что все, что я слышал о нем, соответствует действительности. Он мог бы рассказать мне эту историю. Но, как оказалось, Карлоу был скромным человеком и не хотел, чтобы книгу писали только о нем. Он подчеркнул, что все случившееся было лишь частью более грандиозного плана.
И я понял, что он прав. К тому моменту я уже прочитал новаторскую книгу Дэвида Мартина «Эффект бесконечности зеркальных отражений» и, ознакомившись с этим и другими источниками, отдавал себе полный отчет в том, что охота на «кротов», парализовавшая ЦРУ, переплелась с «войной перебежчиков» — разногласиями Анатолия Голицына и Юрия Носенко, — а также с десятком секретных операций, которые Соединенные Штаты и Советский Союз предпринимали друг против друга в разгар «холодной войны».
Я шагнул в лабиринт, и друзья из мира разведки предостерегали меня о возможности потеряться в этой «бесконечности отражений». Действительно, тропинки, казалось, разбегались в сотни направлений. История была запутанной, но, как оказалось, в пределах досягаемости.
Примерно в то же время, когда я познакомился с Питером Карлоу, я начал встречаться с Полом Гарблером. Поначалу я был озадачен. Он тоже стал главным подозреваемым, хотя его фамилия не начиналась с буквы «К».
Я брал интервью у Гарблера в его кабинете в Тусоне, когда меня осенило. Я понял, что Игорь Орлов, жена которого по-прежнему держала мастерскую по изготовлению рам для картин в Александрии, был ключом к разгадке этой тайны, но куда отнести его самого? Когда Гарблер сообщил, что агент, которого он вел в Берлине, был Орлов, меня охватило все возрастающее волнение и я понял, что близок к цели. Затем он подошел к книжному шкафу и снял с полки книгу, которую Орлов надписал и подарил ему в качестве прощального подарка в Берлине 33 года тому назад. На ней стояла подпись — «Франц Койшвиц».
Оперативный псевдоним Орлова начинался с буквы «К»! Вот недостающее звено, объяснявшее, как широко распространилась охота на «кротов», не ограничившись только Карлоу. Каждое звено начинало вставать на свое место.
Чтобы собрать материал для написания данной книги, я провел 650 бесед с более чем двумястами людей. Хотя я работал над книгой более десяти лет, большая часть работы была проделана в течение последних двух лет. Значительная часть исследования построена на интервью, но в работе имеются дополнительные ссылки на книги, материалы слушаний в конгрессе и другие документы, включая досье ЦРУ и ФБР; указанные источники приводятся в ссылках в конце исследования.
Книга о секретных операциях и ведомствах сталкивается с особой проблемой компетентности. Где это возможно, источники названы по имени и непосредственно цитируются. Но в рей также содержится информация, приписываемая бывшим сотрудникам разведки, которые, учитывая характер их работы и тот факт, что свою жизнь они прожили анонимно, предпочли не раскрывать своих имен. Я учел их желание.
Каждый писатель бьется над разрешением этой проблемы. В конечном счете мне представлялось более важным использовать материал из рук бывших сотрудников ЦРУ и ФБР, позволить заговорить им собственными голосами, чем пожертвовать информацией только потому, что они не пожелали быть названными. Многие из бывших сотрудников считали, что эти факты должны стать достоянием гласности, но не хотели подставлять себя под огонь критики со стороны своих коллег за нарушение обета молчания. Всем этим мужчинам и женщинам я выражаю свою благодарность и глубокую признательность. Они знают, о ком я говорю.
Многие бывшие и некоторые нынешние сотрудники и должностные лица разведки, как и другие источники, изъявили желание дать интервью, предназначенное для опубликования. Слишком длинный список не позволяет мне назвать всех, поэтому я особенно признателен некоторым бывшим сотрудникам ЦРУ, включая С. Питера Карлоу, Пола Гарблера, Джорджа Кайзвальтера, Ньютона Майлера, Роберта Кроули, Теннента Бэгли, Уильяма Колби, Ричарда Хелмса, Джона Денли Уокера, Джорджа Голдберга, Дональда Джеймсона, Фрэнка Фрайберга,
Клэра Эдварда Петти, Джозефа Эванса, Уильяма Джонсона, Ф. Марка Уайтта, Томаса Брэйдена, Стивена Ролла, Питера Сайчела, Юджина Бергсталлера, Джорджа Кэри, Дэвида Бли, Джеймса Критчфилда, Рольфа Кингсли, Энтони Лафема, Белу Хершега и Стенли Гейнса, а также Джозефу Детрани — начальнику и Э. Питеру Эрнесту — заместителю начальника отдела ЦРУ по связям с общественностью.
Среди многих бывших должностных лиц ФБР особое чувство благодарности я испытываю к Джеймсу Нолану-младшему, Дональду Мору, Сэму Папичу, Юджину Петерсону, Куртленду Джонсу, Филиппу Паркеру, Джеймсу Гиру, Эдварду О’Малли и Александру Нилу-младшему. Кроме того, я признателен за оказанную помощь французу графу Александру де Мараншу, бывшему начальнику службы внешней документации и контрразведки, и Марселю Шале, бывшему начальнику Управления по наблюдению за территорией.
Нельзя обойти вниманием и других. Джон Абидян терпеливо объяснял свою роль в проверке тайника Олега Пеньковского в Москве, Элеонора Орлова не жалела своего времени и всегда терпеливо выслушивала мои нескончаемые вопросы, как, впрочем, и ее сын Джордж Орлов. Уильям Миллер помог мне воссоздать историю принятия «Закона о пособиях „кротам“». Вера Коннолли любезно поделилась воспоминаниями о своем брате Эдгаре Сноу, я не смог бы воспроизвести необычайную историю семьи Янковских без помощи Анастасии Соколовской. Кроме того, я признателен Джозефу Миану, Эрлу Эйзенхауэру, Спенсеру Дэвису, Айрин Томпсон, Филипу Шабо-младшему, Г. Роберту Блейки, Джорджу Пинтеру, Николасу Доумэну, Виктору Гундареву и д-ру Джону Уэлшу.
Многие писатели и коллеги в прессе также проявили великодушие, и прежде всего Симор Херш; Эндрю Гласс, руководитель Вашингтонского бюро изданий Кокса; Пер Хегг, вашингтонский корреспондент издаваемой в Осло газеты «Афтенпостен»; Дэниел Шорр, ведущий политический комментатор национальной государственной радиовещательной компании; Дэвид Мартин из Си-би-эс; Томас Мур; Фрэнсис Лейра; Билл Уоллис из «Сан-Франциско кроникал»; Элизабет Банкрофт, редактор «Сурвейлант»; Майкл Эванс, военный корреспондент лондонской «Таймс»; Роберт Донован; Том Ламберт; Дон Кук; Марианн Шегеди-Машак; Арно де Боршграв из «Вашингтон тайме»; Уильям Корсон; Аслак Бонд из норвежской радиовещательной корпорации; Джон Костелло; Генри Херт; Эрон Лейтем; Роберт Фелпс; Юкка Рислакки из «Хельсингин саномат»; Дин Биби, редактор новостей галифакского бюро канадской прессы; Майкл Литтлджоне, бывший руководитель корпункта «Рейтер» при ООН; Джон Скали из «Новостей Эй-би-си»; Кэтти Фоли, заместитель руководителя исследовательского центра «Вашингтон пост»; Дэвид Биндер из вашингтонского бюро «Нью-Йорк тайме», и Бэркли Уэлш, научный руководитель бюро, а также Камилла Суини, бывший научный обозреватель «Нью-Йорк тайме мэгэзин».
Особую признательность хочется выразить Кэрол Монако, которая собирала материал для данной книги с большим терпением и избирательностью, позволившими ей преодолеть многие преграды, встретившиеся нам в процессе работы. Я также благодарен Уильяму Уайзу, оказавшему помощь в проведении дополнительных исследований; ему-то и посвящается эта книга. Не могу не поблагодарить Кейт Сойер, которая любезно помогла мне вести досье периодической печати.
Ни один из бывших и нынешних должностных лиц ЦРУ и ФБР, как и никто из других лиц, которым я выразил здесь свою благодарность, никоим образом не несет ответственность за выводы, содержащиеся в книге. Безусловно, они отражают исключительно точку зрения автора.
Те, кому приходится жить под одной крышей с писателями, поистине великодушные люди, и моя семья не является исключением в этом смысле. Без их любви и поддержки я бы не осмелился пытаться преодолеть многочисленные трудности, с которыми я столкнулся в ходе работы над книгой «Охота на, кротов»». Как всегда, я многим обязан Джоан, Кристоферу и Джонатану.
ДЭВИД УАЙЗ
Вашингтон, округ Колумбия
19 июня 1991 года
Дэвид Уайз является ведущим американским писателем, специализирующимся на теме разведки и шпионажа. Уроженец Нью-Йорка, он окончил Колумбийский колледж, возглавлял пресс-службу газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» г. Вашингтоне и писал политические статьи для многих национальных журналов.
Его перу принадлежат три романа: «Шпион, который бежал», «Американское полицейское государство» и «Полити ка лжи». В соавторстве с Томасом Россом он написал «Истэблишмент шпионажа», «Дело У-2» и «Невидимое правительство» — бестселлер, получивший широкое признание, поскольку вызвал переоценку роли ЦРУ в демократическом обществе.
«Охота на «кротов»» — последний роман Д. Уайза в этом жанре.