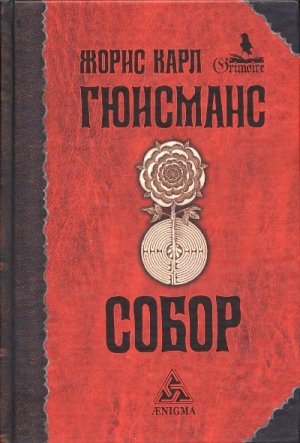
В. Каспаров
Камень, кружево, паутина
О. Мандельштам
- Я ненавижу свет
- Однообразных звезд,
- Здравствуй, мой давний бред,
- Башни стрельчатый рост!
- Кружевом, камень, будь
- И паутиной стань,
- Неба пустую грудь
- Тонкой иглой рань.
Сведущие люди говорят, что конец света уже наступил — в шестнадцатом веке, мы просто не знаем этого и думаем, что живем. Невидимая трещина, прошедшая через плоть и кровь, через звезды и минералы, разделила мир на храм и не-храм — храм, где человек оправдан, и не-храм, где ему уже не оправдаться.
Незаметно для человеческого глаза храм постоянно пульсирует, перемещаясь из бытия в небытие и обратно, насыщаясь благодатной энергией. Подобно тому как мир держится молитвами праведников, само присутствие на земле храмов — готических, неготических, — их пульсации обеспечивают истечение любви к нам сюда. И если какая-нибудь девочка любит, не задумываясь об этом, ей простится — она так молода. Мы же, остальные, да сохраним это в памяти.
А теперь длинная цитата: «Иаков же вышел из Вирсавии… и пришел на одно место и остался там ночевать… И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем… Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные.
И встал Иаков рано утром, взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей на верх его. И нарек имя месту тому: Вефиль (Дом Божий)… в знак того, что камень, который он поставил памятником, будет Домом Божиим…»
Камень, которому предстояло стать кружевом и паутиной.
А посему камень — образ храма, храм же — врата небесные, за которыми лестница, по ней душа возносится на встречу с Божественным.
В то же время храм — мы сами, а так как деление мира на внешнее и внутреннее — иллюзия, следствие греха, то, минуя королевский портал Шартрского собора, как и любые врата в любой другой храм, мы вступаем в самих себя и принимаемся отыскивать в себе ту самую лествицу.
«Я есмь Дверь, ведущая в жизнь вечную», — сказал Христос, потому королевский портал в Шартре есть воистину Христос. Впрочем, подробнее об этом в самом романе Гюисманса, который романом можно назвать лишь условно, поскольку герой там один — Шартрский собор, а люди — свита, играющая короля. По сути, мы имеем дело с церковно-католической мистикой, которая кому-то с непривычки может показаться сухой, начетнической, утопающей в подробностях. Однако недаром поэт сказал, что «жизнь, как тишина осенняя, подробна». Требуется усилие, чтобы понять: собор — квинтэссенция жизни, подробная подробность.
Каждая ступень лествицы Иакова соответствует определенному изменению внутреннего сознания, происходящему до момента встречи твари, восходящей к Богу, и Бога, нисходящего к твари. Это «место единения, священной взаимности, где божественная (духовная) любовь и человеческая любовь становятся единым целым в существе любящего» (К. Бамфорд). Место, где это единение осуществляется, — по определению храм, видимый плотским взором или нет. Есть уровни, где храм везде. Не обладая возможностью постоянно пребывать на этом уровне в силу своей немощности, мы нуждаемся в храме рукотворном.
Храм — земное воспроизведение модели высшего мира, копия небесного архетипа. Зодчий, приступая к строительству храма, испытывает мощное воздействие высших сил, а завершая строительство, становится неотличим от своего творения. Чтобы светское здание не могло разрушить время, обращались к строительной магии, вмуровывали в стену человека, жизнь которого перетекала в камень, а живой камень не умирает. Чтобы не обрушились стены собора, молящиеся должны были отринуть свою плоть и кровь, вмуровать их в стены, завершив таким образом постройку.
С наступлением второго тысячелетия началась — пусть не сразу — новая пора. Души в необъяснимом порыве воспылали к Богу. Одна за другой возводились новые церкви, перестраивались старые, даже те, которые в этом особо не нуждались. Благородное соперничество, ристалище, на котором состязаются бегуны, — кто быстрее достигнет вечной жизни.
В начале двенадцатого века средневековые каменщики сделали великое открытие — нашли способ удерживать потолочные своды на широких опорах. Прежние, тяжелые своды и их перекрытия всею мощью давили на стены, из-за чего приходилось прибегать к массивным колоннам. Появление ребристого свода, арочные балки которого поддерживали сводчатый потолок из тонких каменных панелей, было сродни чуду. Не будем вдаваться в технические подробности, скажем лишь, что нововведение во многом освобождало стены от несущих функций, они становились тоньше, украшались окнами, стала возможной постройка очень высоких зданий с тонкими шпилями. Земные существа устремились ввысь. Готические церкви вырастали одна за другой. Аббатство Сен-Дени в Париже, Нотр-Дам де Пари, соборы в Лионе, Страсбурге, Реймсе, Амьене, Кельне, Ульме, Леоне… Все не перечислишь. Одно из первых мест в этом ряду занимает главное действующее лицо романа Гюисманса — собор в Шартре, освященный в 1260 г. (строили его 26 лет) и способный вместить 18 тысяч верующих, при том что в самом городе Шартре проживает сегодня немногим более 39 тысяч жителей.
А потом, на рубеже XIII–XIV вв., в мире, чьей проекцией является наш земной мир, что-то случилось, и это событие ударило по нам. Дети стали рождаться реже. Один за другим поднимались бунты. В 1284 г. обрушились своды собора в Бове, достигавшие 48 метров. Прекратилось строительство соборов в Нарбонне, Кельне, Сиене. О новых соборах уже не думали. Недород, голод. Ангелы, покидая наш мир, отряхивали пыль со своих ног. Улицы заполонили слепцы с бельмами или дырами вместо глаз (Брейгель ничего не сочинял), калеки, горбуны, хромые, паралитики. Наконец, в 1348 г. пришла черная смерть — чума. Далеко на горизонте замаячила эпоха Возрождения, когда человек обожествил самого себя, эпоха с инквизицией (почему-то думают, что людей жгли в «мрачную эпоху средневековья»), папами-отравителями и тому подобными прелестями.
Однако не будем о грустном. В конце концов Божьей милостью нам дано выбирать время, в котором нам жить, поэтому вернемся к нашим соборам. Так вот, конструкция готического собора такова, что по мере восхождения находящихся в нем он утончается сначала в кружево, потом в паутину. Кружево — воистину красота, «начало того ужасного, которое еще способна вынести наша душа». Но еще более утончаясь, красота рождает священный трепет, паутину с пауком в центре. Паук с его непрерывным плетением паутины и стремлением к убийству обеспечивает «непрерывную жертву, которая является формой непрерывной трансмутации человека на всем протяжении его жизненного пути» (Х. Керлот), когда человек перематывает нити своей судьбы, — сматывает прежнюю жизнь и прядет новую, потому боящийся смерти, по существу, боится новой жизни, на пороге которой он находится.
Получается, что незримый храм почти всегда пуст, в зримом же постоянно толкутся мнози. «Ужас овладевает мной при виде нечестивых, оставляющих закон твой» (Пс. 118, 53).
Страшен жребий не живущих для вечности. Они пища для нездешних сущностей, в некоторых традициях именующих себя богами, — чудовищ, скрытых до поры до времени от нашего взора. Как свиней в загоне, как кур, вскармливают они свои жертвы.
Вот и японец говорит:
Только живущий для вечности несъедобен. Его благоухание отпугивает чудовищ.
Конец света — безусловная катастрофа для тех, кто живет во времени. Рецепт спасения единственный — постепенно переносить тяжесть (или легкость) своего «я» сначала на душевный, а потом на духовный план. Для этого обретают в себе храм, «ковчеже, позлащенный духом», делают его явленным.
«Опыт — критерий истины» — сказано правильно. Опыт подсказывает нам, что не каждый человек обладает душой. Душа — жемчужина, которая есть в раковине или которой нет. Чтобы убедиться в этом воочию, осторожно приоткрываешь створки. И радуешься или в страхе убегаешь. Потому что человек (именно человек, а не, допустим, собака, с которой все не так просто), не обладающий душой, — существо чрезвычайно опасное.
С духом сложнее. Он подобен саду (райский сад — аналог духа), его взращивают. И тут — хорошо это или плохо, судить не берусь, — нужны единомышленники. Один сажает, другой поливает, третий окучивает. Нужна церковь уже не как здание, а невидимая Церковь истинно верующих. «Я ходил в твой храм, Господи», — скажут многие, когда придет время. «Изыдите, не видел я вас в Храме своем», — проречет Господь.
Перефразируя древнее изречение, скажем: жизнь — ложь, смерть — неправда, но за пределами жизни и смерти есть выход. Другими словами, за пределами жизни и смерти существует некий источник бытия, для приобщения к которому необходима метанойя — изменение сознания. Цель — достижение состояния, когда вопрос о вечной жизни лишается смысла, поскольку преодолевается само противопоставление жизни и смерти. Христос победил смерть не как один силач другого, а как большее объемлет, вбирает в себя меньшее. «Обретенье смелости Божью зреть лазурь» приходит через осознание того, что
Даже успех в том, что мы полагаем приближением к Богу.
Входя в обитель Бога, мы вступаем в полумрак, который путем внутреннего усилия или насилия над собой следует преобразовать в полную тьму. Достигается это через любовь к Богу, который предполагается несуществующим. «Через воздействие темной ночи Он удаляется от нас, чтобы Его не любили той любовью, которой скупой любит свое сокровище… Если мы любим Бога, считая Его несуществующим, Он проявит свое существование» (С. Вейль).
Первый шаг на пути обретения духовной жизни — нисхождение в ад, «нигредо» в алхимической терминологии, погружение в космическую ночь, в чрево земли. Здесь зарождается «тело славы»— «атрибут существа высшего порядка».
Пусть никого не смущает обращение к алхимическому языку применительно к нашей теме. Давно показано, что язык готических соборов есть в первую очередь язык алхимии. Фулканелли само выражение art gothique (арготик — готическое искусство) возводит к слову «арго». Арго — «особый язык для тех, кто хочет обменяться мыслями, но так, чтобы окружающие их не поняли». Арго — одна из производных форм Языка Птиц, праязыка, основы всех других. Тогда получается, что готический собор — произведение готического искусства — есть произведение на арго. Соборы в плане имеют форму креста, но крест, как отмечает Фулканелли, — алхимический иероглиф тигля. «В тигле первоматерия, подобно Христу, претерпевает мучения и умирает, чтобы воскреснуть очищенной, одухотворенной, преображенной». В тигле нашего внутреннего собора преображается наша душа. Или не преображается и навеки уже пребывает в аду. Впрочем, пребывание в аду лучше дурного небытия (по аналогии с дурной бесконечностью). Многие живут в аду — и ничего, притерпелись.
Для трехчастного человека, состоящего из тела, души и потенциально духа, вступление во мрак — самоистребление, уподобление себя черному остатку на дне алхимического сосуда. Многим сходящим в ад кажется, что они спускаются туда добровольно. Пусть так, лишь бы это не приводило к гордыне, однако даже Данте нуждался в Вергилии.
Хуан Креста различает ночь чувств и ночь духа. И если вступить в ночь чувств относительно просто, то ночь духа для не взрастившего дух гибельна, и многие почитатели священного знания гибли или сбивались с пути в самом его начале.
«Божественный Мрак, — пишет Дионисий Ареопагит, — это тот неприступный Свет, в котором, как сказано в Писании, пребывает Бог. А поскольку невидим и неприступен Он по причине своего необыкновенного сверхъестественного сияния, достичь его может только тот, кто, удостоившись боговедения и боговидения, погружается во Мрак, воистину превосходящий ведение и видение, и, познав неведением и невидением, что Бог запределен всему чувственно воспринимаемому и умопостигаемому бытию, восклицает вместе с пророком: “Дивно для меня ведение Твое, не могу постигнуть Его”».
С появлением витражей потоки света хлынули внутрь готических соборов, и этот свет воспринимался не как свет звезд («я ненавижу свет однообразных звезд») и не как свет солнца, а как свет метафизический. Разрабатывается средневековая метафизика света. Красота воспринимается как запредельный свет, как знак благородства. Собор как бы делал видимым Божественный Мрак Дионисия Ареопагита. И у Данте рай — это восхождение к Свету.
Элиаде называет этот процесс спонтанной люминофанией. Погружение в сверхъестественный свет преображает любое живое существо. Оно достигает иного уровня существования и получает доступ к высшим мирам.
Теперь мы приближаемся к деликатной теме, деликатной для всех почитателей Девы Марии, к которым автор статьи причисляет и себя. Дело в том, что одна из священных реликвий Шартрского собора, главного героя романа Гюисманса, один из древнейших объектов паломничества — подземная Дева Мария, одна из так называемых Черных Мадонн. Собственно, в Шартрском соборе две Черные Мадонны, одна из которых находится в крипте, потому и называется подземной, другая снаружи. Черные мадонны встречаются, пусть редко, по всей Европе, больше всего их на юге Франции. Эти статуи соответствуют всем канонам изображения Богоматери и отличаются только цветом. Хронисты свидетельствуют, что Шартрская Богоматерь изначально была старинной статуей Исиды, изваянной еще до Иисуса Христа. Впрочем, ту статую разбили и заменили новой.
Дева — шестой знак Зодиака. У египтян он отождествлялся с Исидой и являлся символом души. Как отмечает в «Словаре символов» Керлот, она часто изображалась в виде «печати Соломона (два треугольника, представляющих огонь и воду, наложенных друг на друга и пересекающихся таким образом, что они образуют шестиконечную звезду). В мифологии и религиозных учениях вообще данный символ ассоциируется с рождением бога». И Мария, и Исида равно символизируют Деву, рождающую Бога. Надпись «Virgini partiturae» (Деве, имеющей родить) встречается под скульптурными изображениями и одной и другой.
Комментируя начало католического гимна, Ф. Шуон пишет: «Мария есть чистота, красота, доброта и скромность католической субстанции: микрокосмическим отражением этой субстанции является душа в состоянии благодати… Эта чистота — состояние Марии — является существенным условием… для духовной актуализации реального присутствия Слова».
Эти слова православного акафиста, обращенные к Пресвятой Богородице, суть не поэтические метафоры, а определения предмета, по природе своей не поддающегося определению. Это описание мира, где «камень, напоивший жаждущия жизни», есть в то же время «корабль хотящих спастись».
Христиане многое заимствовали из иконографии Исиды для изображения Богоматери. Это утверждение вызывает злорадную ухмылку одних и яростное неприятие других. Последние полагают, что они защищают Божью Матерь, вряд ли нуждающуюся в их защите. Невозможно оспорить, что изображение матери и младенца утвердилось в культе Исиды, что Звездою моря и Царицей неба прежде называли Исиду, что сперва Исиду, а потом уже Марию изображали стоящей на полумесяце или со звездами в волосах. Предлагают роман Гюго переводить по-другому, не «Собор Парижской Богоматери», потому что Notre-Dame на самом деле не мать Христа.
Позволю себе заметить, что «самого дела» на самом деле никогда не было, что приведенные выше рассуждения ничуть не умаляют Деву Марию, что женское начало мира принимает различные образы, так как в силу своей немощи мы нуждаемся в образах, и Богоматерь — прекраснейший из них, ведь «Бог есть красота, и Бог любит красоту».
Мария — луч света, по которому мы карабкаемся вверх, где Марии уже нет. Как, впрочем, и Исиды. Но потерявший Марию Марию в конце концов обретает. Или Беатриче. «Что в имени тебе моем?»
Чем еще знаменит Шартрский собор, так это своим лабиринтом. С лабиринтом вообще все не так просто. Лабиринт связан с символикой инициатических организаций, создававших соборы. Задача лабиринта — указать путь в центр мира избранным, обладающим знанием, и создать препятствие на этом пути людям случайным, лишенным достоинств, необходимых для победы над смертью.
Идея прохождения лабиринта, как отмечал Генон, сродни идее паломничества к духовному центру, который является Святой Землей в широком смысле слова. Часто, однако, символический язык заменялся буквальным. Так, в Аррасе верующие ползли по лабиринту на коленях с молитвами на устах, пока не добирались до цели, так что весь их путь занимал около часа.
Лабиринты встречаются не только в церквах, но и в алхимических манускриптах и являются «частью мистических традиций, связанных с именем Соломона». Тот факт, что с XVIII и до конца XX в. лабиринт в Шартрском соборе был заставлен стульями как нечто второстепенное, наглядно свидетельствует о глухоте современного человека к традиционной символике.
Шартрский лабиринт самый крупный, его диаметр — около 12 метров. Лабиринт насчитывает одиннадцать концентрических кругов, общая длина пути по лабиринту — приблизительно 300 метров. В его центре цветок с шестью лепестками, контуры которого напоминают розы собора. Другое название для окна-розы — Rota, или колесо, а колесо, согласно Фулканелли, алхимический иероглиф времени, необходимого для варки философской материи — процесса, представленного, в частности, на северном портале Шартрского собора. В то же время эти окна — блестящий пример концентрических мандал, которые через определенные ментальные состояния приводят к созерцанию и концентрации. По сути дела, мандала — аналог лабиринта, она одновременно и путь к центру, и сам этот центр. Неудивительно, что в Шартрском соборе она представлена лабиринтом внутри лабиринта. В то же время роза как таковая — символ скрытого центра, находящегося за пределами нашего мира. Визуализация этого центра как цели путешествия способствует его обретению, упорядочению Хаоса посредством любви как единственного созидательного начала.
В США, в Нью-Хармоне, штат Индиана, возвели гранитную копию лабиринта Шартрского собора в натуральную величину. В соборе в Шартре убрали наконец стулья. Появилось много книг о лабиринтах (так, название одной из них: «Священная дорожка: новое обращение к лабиринту как инструменту духовного совершенствования»). Того и гляди, толпы неофитов поползут к центру Мира, что не может не настораживать.
Автор «Собора» Гюисманс — писатель удивительный. Его произведения — своеобразные энциклопедии, где каждая тема, к которой он обращается, рассматривается подробно, со всей дотошностью. Настоящий компедиум знаний, характерный, скорее, для времени Исидора Севильского, Климента Александрийского. Для нового времени редкость.
Желающий просветить себя во всем, что касается символики драгоценных камней, литургического садоводства, мистического значения запахов, может смело обращаться к «Собору».
«Во всех минералах заключен знак и смысл, а другими словами, символ, — пишет Гюисманс, затрагивая одну из таких тем в предисловии к новому изданию романа «Наоборот». — Под этим углом зрения их и воспринимали с самых давних времен. Правда, в наши дни образный язык гемм, составлявший неотъемлемую часть христианской символики, напрочь забыт и мирянами, и монахами. Я попытался в общих чертах восстановить его в книге о Шартрском соборе».
Собственно, вся книга посвящена благородной цели восстановления утраченного знания, которое современный человек бездумно выбрасывает за борт на своем пути в никуда. Так, обращаясь к литургическому садоводству, Гюисманс, как крупицы золота, вкрапляет в свой труд сведения из не самых популярных сегодня источников — трудов святой Хильдегарды, святого Мелитона, святого Евхерия.
Раскрывает Гюисманс и мистическое значение запахов, подробно останавливаясь на церковных благовониях — ладане, миро, фимиаме, описывая, в частности, приготовление фимиама в библейской книге Исхода. Оказывается, «приготовляется он из стакти, халвана душистого и ониха». На случай, если кто-нибудь из читателей по рассеянности запамятовал, что такое оних, Гюисманс заботливо поясняет, что это не что иное, как оперкула (кто бы сомневался!), «хрящик, служащий для того, чтобы закрывались створки моллюска». Моллюск этот (естественно!) «из семейства иглянок и обитает в индийских водоемах».
После выхода романа «Наоборот» проницательный Барбе д’Оревильи заметил, что после такой книги автору остается одно из двух — либо удавиться, либо уверовать. Гюисманс не удавился. Судьба свела его с траппистами, монахами Нотр-Дам де ля Трапп, аббатства в Нормандии, основанного бенедиктинцами — монахами ордена с весьма строгим уставом. Орден проповедует молчальничество, созерцание, простоту жизни, вегетарианство и уделяет большое значение литургической молитве.
Гюисманс долгое время живет послушником вблизи бенедиктинского монастыря. Создает романы «На пути», «Собор» и, наконец, «Историю святой Лидвины».
Перед смертью Гюисманс претерпел много страданий, у него была редкая болезнь — рак языка, который в конце концов и свел его в могилу.
Мы же, пока живы, отнесемся к его трудам с должным вниманием.
В. Каспаров
Жорис Карл Гюисманс
СОБОР[1]
Роман
J.-K. H.[2]
- Patri, amico, defuncto
- Gabrieli Ferret presbyt. s. s.
- Moeste filius, amicus
I
В Шартре, на углу маленькой площади, где вечно метет пыль сердитый равнинный ветер, в тот миг, когда вступаешь под величественную сень теплого леса, тебя обдувает тихий, еще умягчаемый нежным, придушенным запахом елея, дух подземелья.
Дюрталь хорошо знал этот дивный момент, когда переводишь дыхание и не можешь оправиться, потому что в воздухе пронзительный ледяной ветер внезапно сменяется бархатной лаской. Каждое утро в пять часов он выходил из дома, и путь его к подножью диковинной чащи лежал через эту площадь; в одних и тех же улицах каждый раз мелькали фигуры одних и тех же людей: монашки склоняли головы под взлетающими и хлопающими накидками, все нагибались вперед, еле придерживали надутые ветром юбки; проходили под бичующими шквалами какие-то сморщенные, сгорбленные женщины, обхватившие себя руками, чтобы не парусила одежда.
В такой час он ни разу не видел никого, кто держался бы с достоинством, шел бы, не вытянув шею и не опустив лица. В конце концов все эти женские фигуры соединялись в две цепочки: одна сворачивала налево и скрывалась из виду за освещенными воротцами, стоявшими ниже уровня площади; другая тянулась прямо вперед, проходя через невидимую черную стену.
В конце колонны поспешали припозднившиеся клирошане — одной рукой подхватив вздувшиеся, как воздушные шары, подолы, другой придерживая шляпы, они приостанавливались, чтобы подхватить выскользнувший из-за пазухи служебник, вытирали лицо, засовывали книгу обратно и вновь устремлялись головой вперед против рожна северного ветра; уши их покраснели, глаза слезились; в дождь они отчаянно цеплялись за зонтики, а те рвались вверх, чуть не отрывали их от земли, крутили и волочили во все стороны.
В это утро идти было еще трудней обычного: буря из тех, что проносятся через Бос, не имея перед собой препятствий, уже много часов завывала без перерыва: шел дождь, под ногами хлюпали лужи, ничего не было видно; Дюрталю казалось, что он никогда не доберется до туманной массы стены, перегораживающей площадь, и не толкнет калитку, за которой начинался укрывавший от ветра диковинный лес, приятно пахнувший ночником и склепом.
Он облегченно вздохнул и пошел по широченному проходу, тянувшемуся в полутьме. Дорогу он знал, но по аллее меж огромных деревьев, чьи вершины терялись в высоте, ступал осторожно. Казалось, ты в оранжерее, под глухим куполом черного стекла: идешь по каменной мостовой, а над тобой ни просвета, ни ветерка. Даже несколько звездочек, мерцавших вдалеке, не имели отношения к небосводу: они трепетали над самой дорогой, фактически на земле.
В этой тьме и слышен был только тихий звук шагов, и видны лишь безмолвные тени, рисовавшиеся на сумеречном фоне темными линиями ночи.
В конце концов Дюрталь доходил до другой большой просеки, наперерез прежней. Там стояла скамейка, прислоненная к древесному стволу; он опирался на нее и ждал, когда проснется Матерь Божья, когда возобновится сладостное присутствие, прерванное с темнотой накануне.
Он помышлял о Богородице, Чье неусыпное попечение столько раз удерживало его от неосторожного риска, от соблазнительных ошибок, от грандиозных падений. Не Она ли Кладезь добра бездонный, Подательница даров терпения, Привратница затворенных сухих сердец; не Она ли прежде всего наша Матерь деятельная и благодеющая?
Всегда склонясь над убогим ложем душ, Она омывает язвы, перевязывает раны, укрепляет немощь и томление кающихся. В веках Она остается молящейся и молимой, милостивой и благодарной: милостивой к облегчаемым Ею злополучьям, но им же и благодарной. Ведь Она и вправду в долгу у грехов наших, ибо, не согреши человек, Христос не родился бы в зраке раба и Она не стала бы Пренепорочной Матерью Божьей. Наша беда для Нее была начальной причиной Ее радостей, и это, несомненно, самое поразительное чудо: высшее Благо, исшедшее из самой безудержности Зла, трогательная, однако непостижная связь, соединяющая нас с Нею: ведь благодарность Ее могла бы показаться излишней; ведь и милости Ее неистощимой было бы довольно, чтобы навеки нас к Ней привязать.
А затем в прещедром Своем смирении Она предала Себя множествам людей; в разные времена Она являлась в самых разнообразных местах, то возникая как бы из-под земли, то проносясь над безднами, спускаясь с неприступных горных вершин; за Ней влеклись толпы, и Она исцеляла их; потом, словно утомившись от посещения множества мест поклонения, Она, видимо, пожелала установить одно-единственное, и все прежние Ее уделы почти опустели ради Лурда.
Этот город в XIX веке стал Ее второй остановкой во Франции. Первая была в Ла-Салетт{1}.
Так много с тех пор воды утекло… 19 сентября 1846 г., Ей посвященный, Пресвятая Дева явилась на горе двум детям; была суббота — день поминовения Богородицы, а в тот год еще и постный по случаю начала осени. Еще одно совпадение: то был день перед праздником Божьей Матери Семи Скорбей, и как раз начиналась первая праздничная вечерня, когда Дева Мария возникла над землей, облеченная светом.
Она явилась средь этой пустынной природы, на непреклонных скалах, на печальных горах, как Мадонна Плачущая; рыдая, Она произносила слова упреков и угроз, и с той поры источник, с незапамятных времен пробивавшийся лишь при таянье снегов, течет непрерывно.
Отзыв на это явленье был огромен; множества людей в исступленье карабкались по страшным тропам на высоту такую, где уже и деревья не растут. Бог знает как, туда над бездной препровождали караваны недужных и умирающих, что пили эту воду, и под пенье псалмов покалеченные члены срастались, опухоли рассасывались бесследно.
Затем состоялись невнятные прения некрасивого судебного процесса, и постепенно, не сразу, мода на Ла-Салетт пошла на убыль; паломников стало меньше; чудеса случались все реже и реже. Словно Богородица ушла оттуда, словно Ей надоел этот источник милости и самые эти горы.
Сейчас туда почти никто не ходит, кроме жителей Дофине да туристов, заплутавших в Альпах, да еще больные, приехавшие по соседству на Мотские минеральные воды, совершают восхождения в Ла-Салетт; обращений и духовных даров там и теперь довольно, но исцелений почти не бывает.
В общем-то, размышлял Дюрталь, явление в Ла-Салетт прославилось, но непонятно, каким, собственно, образом. Можно так себе это представить: сначала слух утвердился в деревушке Кор у подножья горы, распространился по всему департаменту, заполонил окрестные провинции, оттуда проник во всю Францию, выплеснулся за границу, растекся по Европе и, наконец, пересек океан и достиг Нового Света, который тоже поколебался и двинулся в горную пустыню воззвать к Приснодеве.
А условия для паломничества там таковы, что и самый упорный может отчаяться. Чтобы добраться до гостиницы, прилепившейся к церкви, приходится часами терпеть неспешный шум колес, то и дело пересаживаться, целыми днями томиться в дилижансах, ночевать в харчевнях, кишащих блохами, а затем, исколов всю спину железными гребнями чудовищных тюфяков, приходится спозаранок начинать безумное восхождение пешком или верхом на муле по извилистым дорогам над пропастями; когда же дойдешь до места, не найдешь ни сосенки, ни лужка, ни ручья: ничего, кроме полной тишины, не тревожимой даже птичьими криками — на такую высоту уже и птицы не залетают!
Что за места! — раздумывал Дюрталь, припоминая свою поездку туда по возвращении от траппистов вместе с аббатом Жеврезеном и его домоправительницей. Он вспомнил, как перепугался по дороге между Сен-Жорж-де-Комье и Ла-Мюр, как чуть с ума не сошел, увидев, что вагон медленно катится прямо по краю бездны.
Внизу в бездонные колодцы уходила тьма, закручиваясь спиралями; вверху, куда ни кинешь взгляд, поднимались к небу горные кряжи.
Поезд шел в гору, пыхтел, закручивался волчком, спускался в туннели, зарывался в землю, словно проталкивая вперед себя дневной свет, выныривал под кричащее солнце, возвращался назад, погружался в новую дыру, опять выскакивал, пронзительно свистя и оглушительно грохоча колесами, бежал по желобку, пробитому прямо в скале на горном склоне.
И вдруг остроконечные вершины расступились, огромный просвет затопил поезд яркими лучами; со всех сторон явился поразительный страшный вид.
— Глядите: Драк! — воскликнул аббат: на дне пропасти виднелась колоссальная текучая змея; она ползла, извиваясь, меж скал, как меж челюстей бездны.
И впрямь иногда змея словно поднималась, набрасывалась на утесы, а те хватали ее клыками, и вода, отравленная укусами, совершенно менялась: из стальной становилась белесой, пенистой, как мучной отвар; потом Драк вновь бежал быстрее, прорывался через темень ущелий, отдыхал, развалясь, на солнышке, вскакивал опять; от него отлетали чешуйки, похожие на радужную пенку застывающего свинца; он пластал свои кольца все дальше и дальше, затем наконец пропадал, сбросив кожу, оставив за собой на земле белую шелуху камней да выползину высохшего песка.
Перегнувшись через вагонную дверцу, Дюрталь свешивался прямо над провалом; поезд полз по узкой одноколейке, одним боком прижимаясь к каменным глыбам, другим накренясь над пустотой. Господи, думал Дюрталь, а вдруг он сойдет с рельс? — мокрого же места не останется!
Когда же поднимешь голову, не меньше чудовищной глубины бездны устрашал вид вершин, бешено, отчаянно наперегонки гнавшихся ввысь. Решительно ты был подвешен между небом и землей, а почвы, по которой ехал, видно не было: вся она скрывалась под габаритами вагона.
Так он и катился по воздусем на головокружительной высоте, по нескончаемым балконам без парапета; внизу утесы сваливались лавиной, обрывались, отвесные, нагие, без травинки, без деревца; по временам они казались прорубленными в буреломе каменного леса, иногда же вырезанными в безлиственных сланцевых кучах.
А кругом открывался амфитеатр бесконечных гор, закрывавших небо, громоздившихся друг на друга, перегораживавших путь облакам, тормозивших поступь неба.
Одни, с зубчатыми серыми гребнями, напоминали громадные кучи устричных раковин; пирамидальные вершины других, зеленых до пояса, пузырились, как спекшиеся угольные отвалы. На них топорщились хвойные леса, нависавшие над пропастями, перерезанные белыми крестами дорог, там и сям усеянные, словно елочными игрушками, деревеньками с красными кровлями и овчарнями, что неведомо как держались на склоне, готовые сорваться кубарем вниз, в беспорядке разбросанные по зеленым коврам, привешенным к склонам. Были и такие горы, что торчали подобно огромным окаменелым скирдам; их полупотухшие кратеры еще грезили пожарами, курились большими тучами, словно вырывавшимися прямо из остроконечных вершин.
Зловещий вид… Глядя на него, становилось не по себе — оттого, быть может, что он извращал заложенную в нас идею бесконечности. Небесная твердь становилась лишь приложением, отбрасывалась, как хлам, к ненужным вершинам гор, бездна же становилась всем. Она уменьшала, съеживала небо, подменяла сияние вечных пространств великолепием своей глубины.
И вправду: глаза раздраженно отворачивались от неба, утратившего бездонность, ибо горы доставали до него, проникали в него, несли его на себе; они рвали его в клочки, перепиливали щербатыми зубьями верхушек, от голубизны оставляли одни лишь крохотные лоскутки, от облаков одни ошметки.
И взор поневоле притягивался пучиной, и тогда голова кружилась, пытаясь исследовать эти безмерные провалы в ночь. И превращение бесконечности, убранной сверху и перенесенной вниз, становилось ужасно!
«Драк, — рассказывал аббат, — один из самых опасных горных потоков во Франции; теперь мы видим его спокойным, почти пересохшим, но когда приходит время ураганов и снежных бурь, он просыпается, бурлит серебристой лавой, свистит, волнуется, пенится и скачет, поглощая хутора, срывая запруды».
Он отвратителен, подумал тогда Дюрталь; эта река желчи, должно быть, рождает лихоманку; гнилая река, порченая: взять и эти мыльные лужи, и стальной ее отлив, и обрывки радуги, свалившиеся в грязь.
Теперь Дюрталь оживлял в памяти все подробности, закрыв глаза, вновь видел перед собой и Драк, и Ла-Салетт. О, думал он, есть за что похвалить паломников, дерзающих отправиться в эти унылые места помолиться на самом месте явления; ведь там их сбивают в кучу на площадке величиной не больше площади Сен-Сюльпис; с одной стороны стоит церковь из неотесанного мрамора, обмазанная горчично-желтой шпаклевкой из Вальбонне, с другой кладбище. Виды? — лишь сухие пепельные конические пики, камни, ноздреватые или покрытые коротенькой травкой; выше — вечные снега, остекленевшие ледяные глыбы; идешь по выщипанной лужайке, словно молью траченной, с песчаными пятнами; одним словом, про эти места можно сказать: парша природы, прокаженный пейзаж!
Что же касается искусства, на этом крохотном пространстве, возле источника, забранного в трубы с водопроводными кранами, стоят три бронзовые статуи. Первая: Богородица в нелепом платье, с прической, похожей на кондитерскую формочку, с индейской повязкой на голове, стоит на коленях и плачет, закрыв лицо руками. Другая: та же женщина стоит, по-монашески спрятав руки в рукава, и обращается взором к двум детишкам: Максимен пострижен, как пудель, вертит в руках дурацкую шляпу в виде каравая хлеба, Мелани в чепце с рюшами неловко жмется, рядом с ней щенок с бронзового пресс-папье. Наконец, еще раз эта женская фигура, одиночная, стоит на цыпочках и мелодраматически закатывает глаза, обращенные к небу.
Нигде жуткая страсть к безобразию, позорящая Церковь наших дней, не утверждала себя так решительно, как в этом месте; душа стенала от неизбывного унижения перед негодными группами, выдуманными неким мещанином Барремом из Анжера и отлитыми на паровозном заводе в Ле-Крёзо, а тело страдало на горном плато, задыхаясь под массами, заслонявшими взор.
Первое, величайшее из чудес, совершенных в Ла-Салетт, — как удалось заполнить толпами эти альпийские обрывы: здесь все создано, чтобы люди сюда не ходили?!
Но они приходили годы и годы, пока ими не завладел Лурд. С нового явления Богородицы начался упадок этих мест.
Ибо через двенадцать лет после событий в Ла-Салетт Мадонна явилась уже не в Дофине, а в гасконской глуши. Та была Матерью слез, Божьей Матерью Семи Скорбей, здесь же предстала Богоматерь умиления, Божья Матерь Непорочного Зачатия, Владычица преславных радостей; Она также открыла маленькой пастушке источник, исцеляющий болезни.
И тут начинается совсем непонятное. Лурд, можно сказать, во всем противоположен Ла-Салетт: виды там великолепные, окрестности утопают в зелени, подниматься по возделанным горам легко; повсюду тенистые аллеи, большие деревья, веселые ручейки, пологие склоны, широкие, безопасные, всем доступные дороги; там пустыня — здесь город, где предусмотрено все необходимое для больных. Приезжая в Лурд, не окунаешься в клоповники, не проводишь ночи в деревенских трактирах, не трясешься днями напролет в крестьянских колымагах, не карабкаешься по краю бездны: сошел с поезда — и сразу на месте.
Так что этот город и без того изумительно расположен, чтобы собирать толпы людей, а значит, вроде бы нет необходимости в таком могучем вмешательстве Провидения, чтоб их туда привести.
А Бог, явивший Ла-Салетт, не прибегая к путям мирской гласности, на сей раз выбрал новую тактику: в Лурде огромную роль играет реклама.
Вот это и смущает: Христос соглашается прибегать к жалким хитростям человеческой коммерции, идет на отвратительные уловки, которыми пользуемся мы, чтобы запустить новый продукт или дело!
Можно задуматься: не самый ли это суровый урок смирения, что был дан людям, не горчайший ли упрек американскому похабству наших дней… Богу опять и опять приходится опускаться до нас, говорить нашим языком, использовать наши изобретения, чтобы мы Его услышали, Его послушались. Бог уже даже не пробует заставить нас понять Его Самого в судах Его, возвысить нас до Себя!
В самом деле: совершенно поразительно, каким образом Спаситель стал преподавать людям милости, открывшиеся в Лурде.
Чтобы их получили многие, Ему уже недостаточно разносить славу о Своих чудесах только из уст в уста; нет, создается впечатление, что Ему было труднее возвеличить Лурд, чем Ла-Салетт, — и Он сразу же прибегает к сильным средствам. Он вдохновляет человека, чья книга, переведенная на все языки, донесет до самых дальних стран новость о явлении Божьей Матери и подтвердит истинность исцелений, совершившихся в Лурде.
Чтобы это сочинение подняло массы, писателю, к тому предназначенному, нужно было быть умелым компилятором и вместе с тем вовсе не иметь ни собственного стиля, ни собственных идей. Словом, нужен был бездарный литератор: оно и понятно, потому что с точки зрения понимания искусства католическая публика на десять голов ниже светской. Господь и с этим справился: Он избрал Анри Лассера.
Вследствие этого желанный взрыв произошел: души раскрылись, толпы устремились в Лурд.
Прошли годы; репутация святого места укрепилась; происходили неоспоримые исцеления, свершившиеся сверхъестественным путем и подтвержденные клинически, неоспоримые и для здравого смысла, и для науки. Лурд на вершине славы, и вот понемногу, хотя паломничества не прекращаются, разговоры о пещере идут на спад. Шум стихает не в церковной среде, но в неизмеримо более обширном мире безразличных и колеблющихся, которых должно убедить. И Господь подумал: хорошо бы вновь привлечь внимание к щедротам Матери Его.
Теперь Лассер уже не был человеком, способным обновить полуиссякшую моду на Лурд. Его книгой публика пресытилась, обсосала со всех сторон, во всех видах; ее цель была исполнена; этого протоколиста чудес, что прежде был необходимым инструментом, следовало списать в тираж.
Нужна была другая, совершенно непохожая книга: такая, чтобы могла подействовать на ту огромную часть публики, до которой проза деревенского пономаря не доходила. О Лурде должны были заговорить в слоях менее податливых и более глубоких, среди публики не столь плоской и не столь неразборчивой. Итак, необходимо было, чтобы такое сочинение написал человек с талантом, но не настолько изысканный по стилю, чтобы отпугнуть людей. Лучше всего было бы для пользы дела, чтобы это был очень известный писатель, огромные тиражи которого могли бы сравниться с лассеровскими.
А во всей литературе имелся лишь один человек, удовлетворяющий этим настоятельным требованиям: Эмиль Золя. Другого и искать не стоило. Только он с его внушительной внешностью, немыслимыми продажами и мощной рекламой мог возобновить моду на Лурд.
Раз так, не имело уже значения, что Золя отрицал сверхъестественные явления и пытался объяснить необъяснимые исцеления самыми шаткими предположениями; не имело значения, что свои жалкие посылки он скреплял раствором, замешанным на медицинском перегное всяческих Шарко: было лишь важно, что вокруг его романа начались громкие споры и более ста пятидесяти тысяч экземпляров произведения разнесли имя Лурда по всему миру.
И наконец, сбивчивость его аргументов, ссылка на «дыхание, исцеляющее толпы», выдуманное вопреки всем фактам той самой положительной науки, за которую он так цеплялся, чтоб уяснить для себя необычайные исцеления, которые видел сам и не смел отрицать их реальность и многочисленность, — разве все это наилучшим образом не убеждало непредвзятых, добросовестных людей в достоверности чудес, ежегодно совершаемых в Лурде?
Само признание в действительности этих невероятных событий уже давало массам новый толчок. Следует также заметить, что в книге не проявлено и никакой вражды к Богородице: Золя говорит о Ней лишь в достаточно почтительных выражениях; а если так, не позволительно ли думать, что шум, поднявшийся вокруг этого сочинения, пошел на пользу?
Словом, можно утверждать, что и Лассер, и Золя оказались нужными орудиями; первый, не имея таланта, именно потому и поднял глубокую целину простонародья; второго, напротив, прочла более образованная, более интеллигентная публика ради великолепных страниц, на которых проходят пламенные толпы процессий, где из урагана скорбей восстает торжествующая вера белоснежных верениц людей.
О, Приснодева дорожит своим Лурдом, лелеет его! Кажется, будто Она соединила в нем все свои силы, все милости; прочие ее святилища доживают век, чтобы жило это.
Почему же?
А главное, почему Она создала Ла-Салетт, а потом словно принесла его в жертву?
Отчего Она пришла туда — понятно, размышлял Дюрталь в ответ себе. В Дофине Богоматерь почитают еще больше, чем в других провинциях; церквей и часовен в Ее честь в тех краях множество, так что Она, быть может, захотела вознаградить такое усердие своим появлением.
С другой стороны, Она явилась там специально, с определенной, точно указанной целью: проповеди покаяния всем людям, а особливо священству. Истинность миссии, порученной Мелани, Она подтвердила чудесами, а затем, когда эта миссия была выполнена, потеряла интерес к местам, где, очевидно, никогда и не собиралась пребывать.
А собственно, продолжил он, на минуту прервав раздумья, можно ведь допустить и более простое объяснение. Вот такое:
Дева Мария соизволила явить себя в разных видах, чтобы удовлетворить вкусы и требования души каждого из нас. В Ла-Салетт, где, открывшись в слезах среди угрюмой природы, Она свидетельствовала о Себе лишь некоторым: скорей всего, душам, исполненным скорби, тем, кто жаждет таинственно пережить муки Страстей и пойти за Матерью душераздирающим крестным путем. Там Она не столь привлекательна для черни, которая не любит горестей и слез, а, кстати, еще того менее любит укоры и угрозы. Уже своим поведением, содержанием своих речей Ласалеттская Божия Матерь не могла стать популярной, а вот Лурдская явилась с улыбкой и без пророчеств о катастрофах; Она легко нашла путь к надеждам и радостям толпы.
Одним словом, в этом уделе пребывает Богородица общенародная, а не Мадонна мистиков и художников, Мадонна для избранных, как в Ла-Салетт.
Что за чудо — прямое деяние Самой Матери Божией в нашем мире! — думал Дюрталь.
Если подумать, продолжал он, можно заметить, что и основанные Ею храмы можно разделить на две явно различные группы.
В одних Она являлась людям; там пробились источники, совершались исцеления: таковы Ла-Салетт, Лурд.
В других люди или никогда не видели Ее, или видения относились к незапамятным временам, к давно протекшим эпохам. В этих храмах действует одна лишь молитва, которую Приснодева возбуждает без помощи каких-либо вод; там Она преподает не столько телесные, сколько духовные исцеления: таковы Божья Матерь Фурвьерская в Лионе, Божья Матерь Подземелья в Шартре, Нотр-Дам де Виктуар в Париже.
Откуда такая разница? Никто не понимает и никто, конечно, никогда не узнает. Можно разве что помыслить, что, сжалившись над вечной смутой наших ничтожных душ, устающих все время молиться и ничего не видеть, Она пожелала укрепить в нас веру и ради увеличения паствы явить Себя.
Нельзя ли в этой неизвестности, продолжал Дюрталь, нащупать хоть какие-то невнятные ориентиры, хоть скромные правила?
Вглядевшись в мрак, ответил он себе, можно заметить два просвета.
Вот первый. Она является лишь бедным и смиренным, обращается прежде всего к простым людям, продолжающим, так сказать, исконное дело библейских патриархов: чаще всего Она дает себя видеть деревенским детям, пастухам и девочкам, стерегущим стада. И в Ла-Салетт, и в Лурде Она выбрала себе в доверенные маленьких пастушек, и это можно объяснить: поступая таким образом, она подтвердила всем известную волю Сына — ведь и в Вифлееме Младенца Иисуса первыми увидели в яслях пастухи, и апостолов Себе Христос выбирал среди людей самого низкого разбора.
А вода, служащая средством исцеления, разве не имеет прообраза в Святом Писании? В Ветхом Завете это Иордан, очистивший от проказы Нахмана, в Новом — целебная купель, возмущаемая ангелом.
И вот еще какой закон казался вероятным. Богородица, насколько возможно, отдает должное темпераменту и сложению того, с кем общается. Она приспосабливается к уровню его понимания, воплощается в той и только той материальной форме, которая ему доступна. Она являет себя в том неуклюжем облике, который любят простые люди: соглашается носить белое или голубое платье, короны и розовые венцы, бусы и четки, побрякушки первого причастия, самые безобразные украшения.
В общем-то, и не было примеров, чтобы пастухи описали Ее иначе, нежели как «Прекрасную Даму», как в образе Богородицы с деревенского алтаря, Мадонны из квартала Сен-Сюльпис, Царицы Небесной с перекрестка.
И эти два правила почти не знают исключений, думал Дюрталь. Сын же, кажется, теперь не желает являться народу в телесном облике. После явления блаженной Марии-Маргарите{2}, которой Он воспользовался как посредником для разговора с народом, Он отошел и уступил место Своей Матери.
Правда, Он оставляет за Собой жилище в потаенных закромах, в запретных владениях, в замках души, как называет их святая Тереза{3}, но там Он присутствует незримо и, по большей части, недоступен для чувственного постижения.
Дюрталь прервал мысль и покачал головой, отдав себе отчет в слабости подобных рассуждений, в неспособности человеческого разума проникнуть неисповедимые пути Господни; и вновь на ум ему пришло неотвязное воспоминание о поездке в Дофине.
Все-таки, все-таки, думал он, эти хребты Высоких Альп, эти горы вокруг Ла-Салетт, эта большая белая гостиница, эта церковь, обмазанная цементом цвета гусиного помета, не то византийская, не то романская, эта келейка с гипсовым Христом, прилепленным на кресте черного дерева, крохотная комнатка, беленная известью, такая тесная, что шага негде ступить ни вперед, ни вбок, — как во всем этом запечатлелась Она!
Несомненно, Она туда возвращалась укреплять паломников, хотя, по видимости, и оставила это место. Ты понимал, что Она, внимающая и сострадающая, совсем близко от тебя, по вечерам, оставшись один при свече, когда душа лопалась, будто стручок, выбрасывая семена грехов и зерна неправды, раскаяние же, на которое так долго ты не решался, приходило столь властно, столь несомненно, что ты падал на колени перед ложем и, рыдая, зарывался головой в простыни.
Эти вечера были так смертельно унылы, но с тем вместе так сладки! Ты выпалывал себя, трепал себе все фибры души, но рядом с собой ощущал Богородицу, и столько в Ней было материнского сострадания, что после кризиса Она брала твою окровавленную душу на руки, и баюкала ее, укачивала, словно больного ребенка…
А днем убежищем против одолевавших приступов головокружения была церковь; взор, терявшийся среди окружавших пропастей, шалевший от туч, вдруг собиравшихся над головой и курившихся белыми хлопьями по склонам гор, успокаивался в укрытии меж стен капеллы.
Наконец, как ни ужасны были тамошние окрестности и статуи, как ни смешна гостиничная прислуга с бородами лопатой и в детских костюмчиках: кепи, серые подпоясанные блузы, короткие черные дерматиновые штаны, как у воспитанников парижского сиротского дома, — удивительные, божественно простые души в Ла-Салетт могли раскрыться.
Дюрталь припомнил, как однажды утром увидел там чудное зрелище.
Он сидел на площадке в ледяной тени храма, глядя на кладбище прямо перед собой, на застывшую горную зыбь. Где-то далеко в небе на каемку дороги, обрамлявшую бездну, одно за одним высыпались зернышки. Поначалу они были темными, потом проявлялись светлые оттенки платьев, обозначались цветные колокольчики с белыми круглыми навершниками; наконец, все зерна соединились в цепочку крестьянок в белых колпаках.
Так, гуськом, они и дотянулись до места.
Перекрестились на кладбищенский вход, подошли испить водицы из источника, потом обернулись, и вот что увидел Дюрталь, сидевший прямо напротив:
Впереди шла женщина лет ста, не меньше, очень высокая, еще не сгорбленная; ее голову покрывал капюшон, из-под которого железной стружкой падали вниз спутанные волнистые седые волосы. Лицо у нее было сухое и бурое, как луковая чешуя, а сама она так худа, что кожа, если посмотреть сбоку, просвечивала насквозь.
Она преклонила колени перед первой статуей; ее спутницы, все по большей части лет восемнадцати, у нее за спиной сложили руки, закрыли глаза и стали преображаться.
Под дуновением молитвы душа, погребенная под пеплом земных забот, воспламенилась, и раздувавший ее ветер, словно огнем изнутри, освещал матовую кожу щек, все их тусклые черты.
У старух озарившаяся душа разглаживала сеть морщин, у молодых смягчала вульгарность потрескавшихся розовых губ, просветляла непропеченно-мучнистые лица, прорывалась в улыбке губ, приоткрывавшихся в немом моленье, в поцелуях, робких, но совсем простодушных, совсем чистосердечных, без сомнений, в невыразимом притяженье данных ими Младенцу, которого они столько баюкали с младенчества, который вырос в голгофских муках и стал их страждущим Женихом!
Быть может, они разделяли услады, назначенные Пречистой — Матери, и Супруге, и восторженной Рабе Господней.
Тогда в тишине раздался голос, исходивший из дали веков, и старица произнесла: «Отче наш…», и все повторяли за ней молитву, и, влачась на коленях, поднимались по ступеням крестного пути, размеченного четырнадцатью столпами с литыми медальонами, змейкой расставленными от статуи к статуе; они двигались, оставаясь на каждой новой ступеньке, чтобы прочитать «Аве», а после, опершись на руки, переползали на следующую. Когда же неточный круг молитв исчерпался, старуха поднялась на ноги, и все медленно проследовали за ней в церковь, где долго молились, пав ниц перед алтарем; потом предводительница, встав у дверей, окропила спутниц святой водой, отвела всех к источнику, где девушки вновь испили из ковшика, и, ни словом не перекинувшись, они отправились обратно, поднялись гуськом по узкой тропке, и наконец, как появились, так и исчезли черными горошинками за горизонтом.
— Они идут по горам уже два дня и две ночи, — сказал священник, подошедший к Дюрталю. — Отправились из савойской глуши, шли почти без передышки, чтоб провести здесь несколько минут; вечером они устроятся на ночлег где-нибудь в первом попавшемся хлеву или пещере, а завтра чуть свет снова двинутся в тяжелый путь…
Дюрталь не мог прийти в себя, видя такое блистание веры. Значит, могут и не в затворе, не в монастыре, а в окруженье ущелий и скал, среди сурового, неотесанного крестьянства жить такие души: вечно молодые, вечно свежие, навеки детские, неусыпно бдящие. Эти женщины, сами того не зная, шли путем умной молитвы и, перекапывая мотыгой чахлые поля на горных склонах, духом соединялись с Богом. Они были и Лиями, и Рахилями, и Марфами, и Мариями; и верили они наивно, простодушно, как веровали в Средние века. И чувства их были грубы, и понятия не обделаны, они едва умели выразить мысли, навряд ли — читать, и они плакали от любви к Неприступному, Которого своим смирением, своим целомудрием принудили явиться и показаться им.
По всей справедливости Пречистая их утешила, избрала их из всех, сделав своими любимицами!
Да, это потому, что они избавлены от ужасного груза сомнений, что обладают почти совершенным неведением зла; но разве не бывает душ, слишком, увы, искушенных в греховной культуре, но все равно обретших у Нее благодать? Разве нет у Богородицы святых мест не столь известных, не столь посещаемых, но все же не сносившихся от времени, выдержавших в течение веков перемены моды — очень древних церквей, где Она принимает тех, кто любит Ее сам по себе, без лишнего шума? И здесь, в Шартре, оглядываясь, он видел людей, в теплых сумерках непроглядной чащи ожидавших пробуждения Богородицы, чтобы поклониться Ей.
Начинал брезжить рассвет, и с ним лес храма, под деревьями которого сидел Дюрталь, становился совсем смутным. Проявившиеся было формы вновь искажались во мраке, где все линии сливались и затухали. Внизу рассеивалось облако, из которого вырастали, словно из колодцев, стиснутые их узкими горловинами, небывалые белые деревья; у земли ночь была почти белой, но выше мрак сгущался и обрезал деревья там, где начинались сучья: их не было видно.
Подняв голову к небу, Дюрталь погрузился в глубокий мрак, не освещаемый ни звездами, ни луной.
Глядя по-прежнему прямо перед собой, он в сумеречной дымке увидел уже освещенные мечи — огромные клинки без рукояток и гард, сужавшиеся к остриям; они воздымались на огромной высоте, пронзали полумрак, и в этом полумраке казалось, что они покрыты неясными насечками или расплывчатыми рельефами.
Оглядываясь же налево и направо, Дюрталь останавливал взгляд на гигантских круглых щитах, подвешенных высоко-высоко на стенах тьмы, колоссальных, изрешеченных выемками, и на каждом из них — пять широких шпаг без эфесов, по всей длине покрытые неясным рисунком, еле различимой чернью.
Робкое солнце неверной зимы потихоньку пробивалось через дымку, которая голубела и растворялась; тогда щит, висевший слева от Дюрталя, с северной стороны, ожил первым; розовые искры и огоньки голубого пунша зажглись в его лунках, а ниже, на среднем клинке под стального цвета стрельчатой аркой, явилась гигантская фигура негритянки в зеленом платье и буром плаще. Голову, обернутую голубым платком, окружал золотой нимб; она величаво и дико смотрела прямо перед собой вытаращенными белыми глазами.
Эта загадочная черная фигура держала на коленях маленького негритенка с глазками, выступавшими на черном лице, как снежки.
Вокруг медленно освещались другие клинки, еще неясные, и кровь потекла с их побагровевших кончиков, словно сейчас приносилась жертва; средь пурпурных потоков обозначились фигуры людей, прибывших, должно быть, с берегов далекого Ганга: с одной стороны некий царь играл на золотой арфе, с другой — владыка держал большой скипетр, завершавшийся лепестками небывалой бирюзовой лилии.
Дальше, слева от царя-музыканта, стоял еще один бородатый человек с лицом, написанным ореховой краской, с пустыми орбитами глаз под стеклами круглых очков, с головой, увенчанной тиарой и диадемой, в руках держащий чашу и дискос[3], кадило и хлеб. По правую руку от другого государя, того, что держал древо скипетра, от голубоватой поверхности меча отделилась еще более непонятная фигура: какой-то бродяга, сбежавший, видно, из эргастула в Сузах или Персеполе: бандит в ярко-красной шапочке, похожей на перевернутый горшок для варенья, с желтыми полями, одетый в рубаху цвета дубленой кожи с белой оторочкой внизу; в руках у этого дикого, неуклюжего человека были зеленая ветвь и книга.
Обернувшись, Дюрталь вгляделся в сумерки позади себя; на горизонте, на головокружительной высоте, и там блестели клинки. Абрисы, которые в темноте можно было принять за чеканенные по металлу рельефы, превратились в изображения людей, облаченных в долгие складчатые платья, а в самой высокой точке небосвода, в мерцании рубинов и сапфиров, парила бледнолицая женская фигура в венце, одетая, как и мавританка в северном проходе, в монашеский коричневый и зеленый цвет; она также протягивала на руках младенца, только этот был белой расы; в одной руке младенец крепко сжимал шар, а другой благословлял.
Наконец осветилась и самая темная, запоздавшая за небом сторона, справа от Дюрталя: конец южной аллеи, все еще прятавшийся в неиспарившейся рассветной дымке; щит напротив северного сверкнул огнем, а под ним в резном поле клинка, прямо против меча с царственной негритянкой, появилась мулатка — женщина с неопределенно-смуглым цветом лица, в светло-зеленом и коричневом, как и другие две, со скипетром в руке и также с младенцем.
Вокруг нее обозначались мужские фигуры, еще неясные, словно скакавшие тесной толпой и то и дело сталкивавшиеся друг с другом.
Еще с четверть часа ничто не становилось яснее, а затем проявились истинные формы. В центре клинков, которые на самом деле были стеклянными полосами, изображение явилось в ярком свете; повсюду, в середине каждого стрельчатого окна, пламенели бородатые лица, бесстрастные среди горящих углей; и как в Неопалимой Купине на Хориве, где Бог явился Моисею, из огненных зарослей в недвижной позе властной любви и печальной милости возникала Пресвятая Дева, немая и строгая, с золотым венцом на голове.
Она умножалась; Она спускалась с эмпиреев в нижние сферы, чтобы приблизиться к пастве своей; наконец Она останавливалась в месте, где можно было почти что облобызать Ей стопы: на углу вечно сумрачной галереи; и там Она открывалась в новом виде.
Она виднелась посередине оконного переплета, подобно большому голубому цветку, а то, что казалось темно-красными листьями этого цветка, держалось на черных железных подпорках.
Ее чуть-чуть желтоватое, почти китайское лицо с длинным носом, слегка раскосыми глазами, обрамленное черным чепцом и лазоревым нимбом, смотрело прямо перед собой; нижняя часть лица со скошенным подбородком и ртом, очерченным двумя глубокими складками, давала Ей вид скорбный, даже угрюмый. Она носила странное имя Богоматерь Прекрасного Витража и также держала на руках младенца в рубашке цвета изюма, еле видимого в нагромождении темных тонов вокруг фигуры.
Та, к Которой все взывали, наконец пришла.
II
Дюрталь жил в Шартре уже три месяца.
Вернувшись от траппистов в Париж, он долго оставался в состоянии жуткой духовной анемии. Душа недужила, просыпалась еле-еле, дни проводила развалясь, дремала в расслабляющей теплой ванне, убаюкиваемая гулом одними губами произносимых молитв, катившихся, будто сломанная машина, что сама собой сходит со стопора и сама по себе крутится в пустоте.
Правда, несколько раз он восставал, и тогда ему удавалось держаться, останавливать разлаженный ход часов своих молений; тогда он пытался испытать себя, посмотреть на себя немного с высоты, единым взором оглядеть смутные дали своего существа.
Тогда, видя затерянные в дымке жилища души, он размышлял, как странно перекликаются откровения святой Терезы с повестями Эдгара По.
Покои его душевного замка были пустынны и холодны; их, подобно залам дома Эшеров, окружал пруд, чьи туманы проникали внутрь, разъедая ветхую оболочку стен. Одинокий, встревоженный, скитался он по этим заброшенным руинам, чьи ворота были наглухо заперты и больше не открывались; таким образом, пространство его прогулок внутри самого себя было резко ограничено, а панорама, которую он мог наблюдать, решительно ужималась, сводилась почти на нет. Впрочем, он прекрасно знал, что комнаты вокруг центрального жилья, принадлежащего Самому Хозяину, были закрыты на все замки, затянуты тугими болтами, забиты тройными брусьями и доступа туда нет. Так что приходилось ему слоняться по окрестностям и прихожим.
В Нотр-Дам де л’Атр ему случалось пройти и дальше, заглянуть в затворенный сад, окружающий жилище Христово; он разглядел на горизонте границы мистики и упал, не в силах идти далее. Теперь все было как нельзя хуже, ибо, как указывает святая Тереза, «на пути Духа не идти вперед значит идти назад». И он действительно возвращался обратно, лежал навзничь, полупарализованный, даже не в передних комнатах своих владений, а на дворе.
Пока что все явления, описанные несравненной аббатисой, наблюдались в точности. Замки души Дюрталя были необитаемы, как после долгого траура, но в тех покоях, что еще оставались открыты, скиталась, словно сестра Эшера из страшного рассказа{4}, тень поведанных грехов и усопших прегрешений.
Подобно изнервленному больному у Эдгара По, Дюрталь с ужасом слышал, как шаркают шаги на лестнице, как раздаются жалобные крики за дверями…
Впрочем, призраки старых злых дел являлись лишь в смутных образах, не сгущались, не обретали тел. Самый назойливый из всех грехов, столько мучивший Дюрталя, грех плотский, наконец притих и оставил его в покое. Аббатство вырвало корни прежнего разврата; воспоминанье о нем, о том, что там было самого прискорбного и подлого, иногда еще привязывалось, но оно приходило и уходило, а Дюрталь, с безмолвным сердцем, удивлялся, как это он так долго поддавался на эти грязные происки, и даже не понимал уже силы этих миражей: иллюзии оазиса похоти в пустыне бытия маячили где-то в безлюдной дали да в книгах.
Воображение еще могло ему докучать, но по возвращении из обители ему без всяких усилий, без борьбы, одной божественной благодатью удавалось обходиться без дурных приключений.
Но зато, хоть он и плевал, так сказать, на прошлое, хоть от самых тяжких скорбей и был избавлен, но видел, как в нем прорастают новые плевелы, прежде замаскированные густой порослью прочих грехов. Поперву он счел себя не столь покорным греху, не столь низким; а на самом деле был все так же прикован ко злу; только природа и качество этих уз переменились, стали иными.
Было состояние сухосердия, от которого он, войдя в храм или дома преклонив колени, ощущал, как холод леденит ему душу и замораживает молитву, а кроме того он мог разглядеть тайные приступы, немые нападения смехотворной гордыни. Как он ни остерегался, всякий раз они его заставали врасплох, и он даже не замечал, как это начиналось.
Сначала они прикрывались самыми спокойными, невинными размышлениями.
Если, к примеру, он оказывал услугу ближнему в ущерб себе или не делал ничего плохого человеку, на которого имел зуб, которого не любил, в него тотчас прокрадывалось некое чувство довольства, мелкое тщеславие, приводившее к нелепому заключению, что он-де лучше многих других; а на это подленькое самолюбование накладывалась еще гордость от добродетели, которую он и вовсе не своей заслугой обрел — превозношение целомудрием, такое коварное, что большинство людей предаются ему, даже не подозревая о том.
И лишь с запозданием, когда эти атаки обозначались ясно, когда он забывался до того, что поддавался им, осознавал он их цель; и отчаивался оттого, что раз за разом попадал все в одну ловушку, и говорил себе, что малая толика добра, которую удалось ему стяжать, и та списана со счетов его жизни из-за бесстыдного расточения пороков…
Он выбивался из сил, подводил аргументы под свое старое безумие и, потеряв терпенье, восклицал про себя: обитель сломала меня; она спасла меня от похоти, но сколько недугов, неизвестных прежде, на меня навалилось после этого хирургического вмешательства! Обитель, сама столь смиренная, умножила мое тщеславие и удесятерила гордыню; я слаб и устал, как никогда, я не смог превозмочь это сверхистощение, не смог полюбить таинственной перестройки, а ведь она мне необходима, если я не хочу умереть для Бога!
И в сотый раз он спрашивал себя: стал ли я счастливее после обращения? Между тем, не солгав себе, он не мог не ответить: да, стал; он жил теперь, в общем, по-христиански, молился дурно, но зато непрестанно, только… только вот… до чего же ветха, до чего бесплодна была нищая храмина его души! И он с тоскою спрашивал себя: вдруг она, как родовое гнездо у Эдгара По, в роковой день разом рухнет в черные воды грехов, подмывающие стены!
Дойдя до этой точки пустомыслия, он неизбежно должен был обходить стороной аббата Жеврезена, который понуждал Дюрталя причащаться, хоть ему и не хотелось. После возвращения из Нотр-Дам де л’Атр его отношения со старым священником стали еще теснее, совсем дружескими.
Теперь он знал и домашний быт священнослужителя, эмигрировавшего из современности в самое настоящее Средневековье. Прежде, позвонив ему, он не обращал никакого внимания на служанку — пожилую женщину, с поклоном молча отворявшую дверь.
Теперь он бывал у этой необычайной, добрейшей домоправительницы.
Впервые они повстречались, когда он отправился проведать больного аббата. Служанка сидела возле постели, сосредоточенно сдвинув очки на кончик носа, и одну за другой целовала священные изображения в книге, обернутой черной материей. Она и Дюрталя пригласила сесть, закрыла книгу, надвинула очки на глаза и вступила в их разговор. Дюрталь вышел, потрясенный этой старушкой, которая аббата называла «батюшкой», а сама просто, как о чем-то очень обыкновенном, рассказывала о своих разговорах с Христом и святыми; она, кажется, была с ними в прекрасных отношениях и говорила о них как о добрых знакомых, с которыми можно поболтать запросто.
Да и внешность этой женщины, которую аббат представил Дюрталю как госпожу Селесту Бавуаль, никак нельзя было назвать обыкновенной. Она была худощава, стройна, но мала ростом. Ее профиль с горбатым носом и строго сжатым ртом был похож на затвердевшую маску мертвого римского цезаря, но в фас суровость профиля размывалась крестьянской дружелюбностью, растворялась в благодушии добросердечной монашки, совершенно не сочетавшихся с высокоторжественной силой ее черт.
Казалось, с этим властным носом, правильным лицом, ровными белыми зубами, черными, светящимися, подвижными, любопытными, словно мышиными глазами под великолепными ресницами, она и в свои годы должна была оставаться красавицей; по крайней мере, соединение таких элементов должно было бы отметить это лицо какой-то особенной печатью, дать ему поистине благородное выражение. Ничуть не бывало; общее впечатление не сходилось с предпосылками; целое не складывалось из сочетания частей. Понятно, думал Дюрталь, что это происходит из-за других особенностей внешности, противоречащих согласию основных черт лица: прежде всего, из-за тощих, усеянных крапинками уютных веснушек, щек цвета старых бревен, затем из-за седых кос, уложенных поперек под чепцом с рюшами; наконец, из-за скромной одежды: черного платья дурного вкуса, гофрированного у ворота, из-под которого выглядывала арматура корсета, на спине рельефно отпечатывающегося под материей.
Может быть, в ее внешности не столько черты лица не сочетаются друг с другом, сколько решительно физиономия контрастирует с туалетом, лицо — с фигурой.
В общем, пытаясь свести ее облик воедино, он ощущал в нем и церковный, и деревенский налет. Она вела себя и по-монашески, и по-крестьянски. Да, похоже, но все же не совсем так, продолжал он свою мысль; в ней меньше достоинства, но и меньше вульгарности, она и хуже, и лучше. Если посмотреть сзади, она больше похожа на церковную сторожиху, чем на монашку, спереди же гораздо благородней крестьянки. Еще надо отметить, что, творя хвалу святым, она возвышается и становится иной; тогда она взметается вспышкой души; впрочем, все это пустые предположения, заключал он, ибо что же можно сказать о ней по краткому впечатлению, по беглому взгляду? Одно видно сразу: она совсем не похожа на аббата, но, как и он, переменчиво двоится. У него глаза невинные и взгляд, как у девицы при первом причастии, а улыбка часто горькая, стариковская; она с виду горделива, а душой смиренна; и у обоих эти несхожие признаки, несочетаемые черты дают один результат, одно и то же соединение отеческой снисходительности с добротой зрелого возраста.
И Дюрталь стал часто заходить к ним. Его встречали всегда одинаково. Г-жа Бавуаль приветствовала гостя неизменной фразой: «А вот и друг наш», а аббат, смеясь одними глазами, пожимал ему руку. Когда бы Дюрталь ни видел г-жу Бавуаль, она молилась: у плиты ли, за штопкой, вытирая ли пыль, открывая дверь — всегда и везде, непрестанно, она перебирала четки.
Ее главной, но почти невысказанной радостью было славить Матерь Божью, Которую служанка особенно почитала; кроме того, она читала на память отрывки из довольно необычайной мистической писательницы XVI века Жанны Шезар де Матель, основательницы ордена Воплощенного Слова, того, где инокини носят яркую одежду: белое платье с пунцовым кожаным поясом на талии, красную мантию и наплечник цвета крови, на котором синим шелком вышито имя Господне в терновом венце, пламенеющее сердце, пронзенное тремя гвоздями, и притом еще слова: amor meus[4].
Сначала Дюрталь решил, что г-жа Бавуаль не совсем в себе, но видел, как аббат, когда она излагала очередной кусочек из Жанны де Матель о святом Иосифе, не шевелил даже бровью.
— Но значит, госпожа Бавуаль святая? — спросил его Дюрталь, когда однажды они остались наедине.
— Наша дорогая госпожа Бавуаль — столп молитвы, — очень серьезно ответил священник.
В один прекрасный день, когда уже аббата не было дома, Дюрталь разговорился со служанкой.
Она рассказала ему про свои долгие паломничества по всей Европе, в которых провела много лет, пешком, питаясь подаянием по дорогам.
Где бы ни обретался храм Богородицы, она отправлялась туда с узелком белья в одной руке, зонтиком в другой, жестяным крестом на груди и четками, подвешенными к поясу. Г-жа Бавуаль вела каждодневные записи, и получалось, что она прошагала пешком около сорока тысяч километров.
Наконец подошли годы; по ее собственному выражению, «в ней добра-то поубавилось». Прежде через ее внутренний голос Вышняя воля говорила, когда ей отправляться в путь; теперь таких повелений не было. Бог послал ее на отдых к аббату Жеврезену, но образ жизни ей был предуказан раз навсегда: на ночь соломенный тюфячок на голых досках, еда такая же крестьянско-монашеская, как она сама: молоко, мед, хлеб, а во время поста молоко ей приходилось заменять водой.
— И вы никогда ничего больше не едите?
— Нет, никогда. Ах, друг наш, это мне Всевышний епитимью положил, — сказала она, весело посмеиваясь над собой и своими повадками: — Видели бы вы меня, когда я возвращалась из Испании, от Божьей Матери дель Пилар в Сарагосе{5}: я была как негритянка; на груди большой крест с Распятием, платье, как у монахини, и все кругом пальцем показывали: что за пустосвятка такая? Я походила на угольщицу в воскресном наряде: чепец, манжеты да ворот белые, а все остальное, лицо, руки, юбка — все черное.
— А не скучно вам было путешествовать в одиночку?
— О нет, друг наш, меня же святые всю дорогу не оставляли; они показывали мне дом для ночлега, и я уже наверняка знала, что меня там хорошо примут.
— И никогда вам не отказывали в приюте?
— Никогда, нет; правда, мне много и не нужно; в пути я просила только кусок хлеба да стакан воды, да еще охапку соломы в хлеву, чтобы вздремнуть.
— А как вы познакомились с батюшкой?
— О, это целая история. Представьте себе: однажды Бог в наказание лишил меня причастия на год и три месяца, день в день. Я исповедалась одному аббату и рассказала ему про свои разговоры с Господом Иисусом, с Богородицей, с ангелами. Он меня счел полоумной, а может, и бесом одержимой и не отпустил грехи. Еще хорошо, что прямо с первых же слов не захлопнул окошечко исповедальни.
Я думала, что умру от огорчения, но тут Господь сжалился надо мной. Однажды в субботу я была в Париже и Он направил меня в Нотр-Дам де Виктуар, где батюшка служил очередным священником. Он меня выслушал, долго и тяжко испытывал, а потом допустил к причастию. Потом я опять часто приходила к нему на таинство покаяния, а потом его племянница, что раньше вела его хозяйство, поступила в монастырь, я заняла ее место и вот уже больше десяти лет служу у него…
Свои рассказы она повторяла с дополнениями много раз. Перестав странствовать по свету, она ходила на паломничества к Божьей Матери в самом Париже. Г-жа Бавуаль перечисляла самые посещаемые алтари: Нотр-Дам де Виктуар, Нотр-Дам де Пари, часовня Богоматери Доброй Надежды в Сен-Северене, Всепомощницы в Лесном аббатстве; Богоматерь Мира у инокинь на улице Пикпюс; Богоматерь Болящих в церкви Святого Лаврентия; Богоматерь Благого Избавления, черная мадонна из церкви Сент-Этьен де Гре ныне у монахинь Сен-Тома де Вильнев на улице Севр, а помимо самого Парижа — в пригородных храмах: Богоматерь Чудотворная в Сен-Море, Богоматерь Ангелов в Бонди; Богоматерь Добродетелей в Обервилье; Благая Хранительница в Лонпоне; храмы Богородице в Спире, в Понтуазе и прочие…
Как-то раз, когда Дюрталь усомнился, действительно ли Христос предписал ей соблюдать столь суровый устав, она возразила:
— А припомните, друг наш, что случилось с великой служительницей Господней, с Марией Агредской{6}; однажды она, тяжко заболев, уступила настояниям своих духовных дочерей и пососала куриную ножку; и Иисус Христос ее тут же отчитал; Он сказал ей: «Мне невесты неженки не нужны». Так может быть, и меня Он так же упрекнул бы, если бы я съела кусочек мяса, выпила бы глоточек кофе или вина!
Нет, думал Дюрталь, совершенно очевидно: эта женщина не сумасшедшая. Она вовсе не бредит и совсем не похожа на истеричку; она, правда, сухонькая, хрупкая, но почти совершенно спокойна и чувствует себя, несмотря на скромные трапезы, очень хорошо, никогда даже легко не болеет; к тому же она человек очень здравый и прекрасная хозяйка. Чуть свет, сходив в церковь и причастившись, она сама стирает и гладит белье, шьет простыни и сорочки, штопает сутаны, живет сама невероятно экономно, притом заботится, чтобы хозяин ни в чем не нуждался. Это мудрое понимание практической жизни никак не вяжется с психозом и горячкой. Еще он знал, что она ни за что не желала брать жалованья. Конечно, в глазах света, где только и думают, как бы урвать безнаказанно кусочек, уже одно ее бескорыстие может быть свидетельством безумия, но Дюрталь, вопреки установившимся предрассудкам, вовсе не считал пренебрежение деньгами признаком душевного расстройства, и чем больше он думал о г-же Бавуаль, тем больше приходил к мысли, что она святая: святая без ханжества, терпимая, веселая!
Вот еще, что он мог заметить и что было ему очень лестно: когда он вернулся из аббатства, г-жа Бавуаль, как только могла, помогала ему: подбадривала в печали и, как он ни протестовал, внимательно осматривала его одежду при малейшем подозрении, что разошелся шов или отрывается пуговица.
Дружба стала еще теснее с тех пор, как все трое жили общей жизнью в путешествии в Ла-Салетт, куда Дюрталь отправился с аббатом и его служанкой по их настойчивым просьбам. И вдруг оказалось, что это задушевное общение обрывается: аббат собрался уехать из Парижа.
В Шартре скончался епископ, а его преемником стал старый-старый друг Жеврезена аббат Ле Тиллуа де Моффлен. В самый день хиротонии он слезно просил Жеврезена переехать к нему. Старому аббату тяжело было решиться. Он чувствовал себя хворым, усталым, ни на что не способным; собственно, ему уже не хотелось никуда ехать, а с другой стороны, не было духа и отказать монсеньеру де Моффлену в своем скромном содействии. Он пытался разжалобить прелата своими преклонными годами, но тот не желал ничего слушать и соглашался сделать лишь одну уступку: назначать старого друга не генеральным викарием, а простым каноником. Жеврезен все так же тихонько качал головой… Наконец епископ одолел, воззвав к милосердию аббата и заявив, что он должен принять этот пост хотя бы как епитимью, в покаяние.
Когда же отъезд был решен, уже аббат начал уговаривать Дюрталя решиться оставить Париж и поселиться у него в Шартре.
Тот, хотя и был донельзя огорчен его отъездом (против которого, впрочем, возражал, как только мог), артачился, не желая похоронить себя в маленьком городке.
— Но послушайте, друг наш, — сказала ему г-жа Бавуаль, — я просто не понимаю, почему вы так упорно хотите окопаться в Париже; вы же все равно живете тут в совершенном уединении со своими книгами, и там будете жить так же.
Не находя больше доводов, Дюрталь бегло выложил все, что можно сказать против провинции, и наконец произнес:
— Ну а в Париже есть набережные, Сен-Северен, Нотр-Дам, есть очаровательные монастыри…
Аббат возразил:
— Это есть и в Шартре: там самый прекрасный в мире собор{7}, монастыри как раз такие, как вы любите, а что до книг, ваша библиотека так хорошо подобрана, что вы, кажется мне, едва ли сможете увеличить ее, бродя по набережным. Да вы и сами лучше меня знаете, что книг такого рода, как вам нужны, в ящиках букинистов не найти. Они попадаются только в каталогах книготорговцев, а им ничто не мешает высылать книги вам, где бы вы ни жили.
— Не спорю… но на набережных есть ведь не только книги: можно разглядывать всякие вещички, есть сама Сена, вид на город…
— Ну что ж, если вы так уж стоскуетесь по этой прогулке, садитесь на поезд и ходите себе целый день вдоль реки; из Шартра в Париж доехать просто; утром и вечером ходит экспресс, а идет он из конца в конец меньше двух часов.
— Да что, — воскликнула г-жа Бавуаль, — о том ли вообще речь! А речь о том, что вы уедете из города самого обыкновенного и поселитесь на собственной земле Матери Божьей. Подумайте только: ведь Богоматерь Подземная — самый древний храм Девы Марии во Франции; представьте себе: там живут подле Нее, в гостях у Нее, и Она осыплет вас щедротами!
— И наконец, — снова вступил аббат, — вашим художественным планам это не помешает нисколько. Вы собирались писать жития святых; так не лучше ли вам работать в провинциальной тишине, чем в парижском гвалте?
— Провинциальном… то-то и оно! — воскликнул Дюрталь. — От провинции мне вчуже тяжко. Если бы знали, с какими впечатлениями она для меня связана, как я представляю себе ее атмосферу, какой аромат воображаю! Скажем, вы знаете в старых домах большие двустворчатые стенные шкафы, оклеенные внутри вечно отсыревшей синей бумагой? Так вот, при едином слове «провинция» я будто раскрываю такой шкаф и мне в лицо ударяет застоявшаяся гниль! И еще продолжу сравнение: а на вкус и на запах ни дать ни взять жую такую галету, которые нынче делают бог знает из чего, которые пахнут рыбьим жиром и отсыревшим творогом с плесенью! Как представишь себе, что жуешь эту гадкую холодную массу, что нюхаешь затхлый запах из шкафа, так и видишь себя в каком-нибудь захолустье! И Шартр ваш наверняка такой же!
— Ой-ой-ой, — воскликнула в ответ г-жа Бавуаль, — откуда же вам знать? Вы ведь никогда не бывали в этом городе!
— Ничего-ничего, — посмеялся аббат, — он еще откажется от своих предубеждений. — И продолжал: — Ну объясните такое противоречие, будьте добры: парижанин вовсе не любит родной город, из-за этого выбирает для жилья самый тихий, самый заброшенный угол, самый похожий на провинцию. Он терпеть не может бульваров, многолюдных мест, театров, забивается в свою дыру и уши затыкает, чтоб не слышать шума кругом; а когда представляется случай приблизить образ жизни к совершенству, вынашивать свои мысли в подлинном уединении, удалившись от толпы, перевернуть понятие о своей жизни и превратиться из парижского провинциала в провинциального парижанина, он фыркает и возмущается!
На самом-то деле, размышлял Дюрталь, оставшись один, на самом деле столица мне вовсе ни к чему. Я теперь и так ни с кем не вижусь, а когда уедут мои друзья, останусь в полнейшем одиночестве. Собственно говоря, в Шартре мне будет ничуть не хуже; буду там заниматься своими делами сколько угодно в спокойной обстановке, рядом с собором куда интересней парижского, а к тому же… К тому же есть еще один вопрос, о котором аббат Жеврезен не говорит, но меня-то он беспокоит. Если я останусь здесь один, мне придется искать нового духовника, скитаться по церквам, как в обыденной жизни я скитаюсь в поисках ресторанов и кухмистерских. Нет-нет, хватит с меня перебиваться со дня на день духовно и телесно — устрою душу в подходящий пансион, да там и останусь!
И наконец, вот еще довод. В Шартре жизнь будет дешевле; там я смогу с теми же тратами, что здесь, устроиться комфортабельно, сидеть развалясь у камина, иметь наконец-то прислугу!
Кончилось тем, что он решился поехать вслед за своими друзьями, снял довольно большую квартиру прямо напротив собора — и Дюрталь, вечно теснившийся в крохотных комнатках, наконец наслаждался провинциальной радостью жить просторно, удобно расставив книги вдоль стен.
Г-жа Бавуаль нашла ему служанку, бесцеремонную и болтливую, но, в сущности, добрую богобоязненную женщину. И Дюрталь начал новую жизнь, не переставая восхищаться необычайным храмом, единственным, которого он не знал — потому, понятно, что он находится рядом с Парижем, а Дюрталь, подобно всем парижанам, выезжал из города лишь куда-то очень далеко. Сам же город показался ему совсем неинтересным; для одиноких прогулок там было всего одно место: короткая набережная в нижнем предместье, где распевали прачки, мыля белье и расцвечивая воду пеной радужных шариков.
Так что Дюрталь принял решение выходить из дома лишь утром на рассвете или же вечером; так он мог спокойно размышлять, бродя по городу, который после обеда почти вымирал.
Аббат и его служанка устроились прямо в епископском доме, под самой соборной абсидой. Они занимали весь второй и последний этаж над заброшенной конюшней; квартира состояла из ряда холодных комнат, выложенных плиткой; епископ велел их отремонтировать.
Вскоре после переезда Дюрталь увидел, что настроение у аббата неважное; тот сказал ему:
— Да, конечно, теперь у меня время нелегкое; приходится разрушать предвзятость к себе… впрочем, я ожидал этого, и по этой причине также не хотел уезжать из Парижа… Но Матерь Божья милостива, все уже идет на лад.
Дюрталь попросил пояснить.
— Вы же понимаете, — ответил Жеврезен, — что местному клиру не по душе пришлось назначение каноника со стороны. Собственно, недоверие к незнакомому священнику, которого привозит с собой новый епископ, вполне естественно; понятно, что все боятся, как бы он не играл при владыке явную или тайную роль доверенного лица. Поэтому все настораживаются, следят за малейшим словом, обдумывают малейший поступок.
— А к тому же, — сказал Дюрталь, — разве это не лишний рот на жалкое пособие от государства?
— Вот этого как раз нет. Я не получаю жалованья, следовательно, не ущемляю ничьих интересов, да я бы и не согласился на это. Единственная льгота, которую я имею от близости к его преосвященству, — не плачу за жилье, потому что квартирую бесплатно в епархиальном доме.
Да я и не мог бы иметь оклада, потому что содержание каноникам от правительства не существует с тех пор, как законом от 22 марта 1885 года постановлена постепенная отмена этих выплат. Отныне бюджетные средства на содержание служителей культа выделяются лишь тем, кто был назначен на свою должность до принятия закона; они понемногу уходят из жизни, и уже недалеко время, когда ни одно духовное лицо не будет получать денег от государства. В некоторых диоцезах вместо этих субсидий выплачивают деньги от благотворительных учреждений или, если угодно, пребенд. В Шартре таких нет. Хорошо еще, что капитул располагает кое-какими средствами, которые делятся между заштатными клириками; выходит на круг (год на год не приходится) около трехсот франков на душу, вот и все.
— Что же, с треб каноники не получают?
— Нет.
— Тогда я не понимаю, на что они живут.
— Если у них нет собственных средств, они живут беднее последнего рабочего в Шартре. Большинство тянет кое-как; некоторые служат в деревенских церквах или духовниками при монастырях, но это не дает почти ничего — франков двести, двести пятьдесят от силы. Есть один исполняющий должность генерального епархиального секретаря; это дает ему квартиру и жалованье франков до шестисот. Есть еще распорядитель Гласа Матери Божьей, местного праздника, он же и регент хора; некоторые, наконец, служат писцами в епархиальной канцелярии. В общем, каждый как-то умудряется обеспечить себе жилье и хлеб насущный.
— А что такое, собственно, каноник — каковы его обязанности, откуда взялась эта должность?
— Откуда взялась? Она была с незапамятных времен. Предполагают, что коллегии каноников существовали еще при Пипине Коротком; по крайней мере, известно, что в правление этого короля святой Хродеганг, епископ Метцский, собрал весь клир своей церкви, повелел им жить вместе в общем жилище, как в монастыре, и дал устав, включенный затем Карлом Великим в его капитулярий. Обязанности? Отправлять торжественные службы и возглавлять процессии. По-настоящему, все каноники обязаны прежде всего проживать там, где расположена церковь, в которой они служат, затем присутствовать на всех совершаемых там богослужениях и, наконец, по временам участвовать в собраниях капитула.
Правду сказать, их роль ныне сведена почти к нулю. Тридентский собор называл их Senatus Ecclesiae — церковным сенатом; тогда это был непременный совет при епископе. Теперь епископы их вообще ни о чем не спрашивают. Лишь когда архипастырская кафедра становится вакантной, у каноников появляется частичка прежних прерогатив.
В этих случаях капитул замещает епископа, но его права чрезвычайно ограничены! Не имея сам епископского достоинства, он не имеет и полномочий, с ним сопряженных. Вследствие этого он не может совершать таинств рукоположения и миропомазания.
— А если вакансия долго не закрывается?
— Тогда капитул просит соседнего епископа рукоположить семинаристов или конфирмовать детей. Словом, как видите, каноник не великая фигура!
Само собой, я сейчас не говорю о почетных канониках. У таковых нет никаких особенных обязанностей; они просто носят этот почетный титул, позволяющий им, с разрешения епископа (в том случае — что бывает часто, — когда они сами подчинены другой епархии), носить фелонь.
Что касается собственно шартрского капитула, он был основан в VI столетии святым Любеном. Тогда он насчитывал семьдесят два каноника; потом их становилось больше: перед революцией каноников было семьдесят шесть, в том числе семнадцать должностных лиц: старейшина, вице-старейшина, регент, вице-регент, великий архидиакон Шартрский, архидиаконы Бос-ан-Дюнуа, Дрё, Пенсере, Вандома и Блуа, казначей, канцлер, прево Нормандии, прево Мезанже, прево Энгре, прево Анвера и каноник капитула. Эти пастыри, по большей части благородного происхождения и богатые, были питомником епископата и владели всеми домами вокруг собора; они жили сами по себе своим общежитием, занимались историей, богословием, каноническим правом… А ныне все в полном упадке…
Аббат умолк, покачал головой и продолжил:
— Что ж, вернусь к тому, с чего начал. Естественно, мне было не по себе от недружелюбия, которое мне выказали, как только я приехал. Как я уже говорил вам, мне пришлось умирить много предубеждений. Кажется, мне это удалось. И еще я благодарю Бога, что послал мне чудесного помощника — соборного викария; он мужественно защищал меня пред своими собратьями. Аббат Плом — вы знакомы?
— Нет.
— Это умнейший, образованнейший человек, почитающий мистику и превосходно знающий собор; он от него без ума, изучил в нем каждый уголок.
— Вот как? Тогда этот викарий мне очень любопытен. Погодите, быть может, он в числе тех, кого я уже приметил? Как он выглядит?
— Маленького роста, молодой, бледный, немножко рябой, волосы расчесаны на пробор; он носит очки, приметные по такой черте: дужка на носу у них в форме коромысла или, лучше сказать, похожа на ноги всадника.
— Знаю, знаю такого!
Оставшись один, Дюрталь неспешно думал о викарии; он часто видел его и в храме, и на площади.
Конечно, размышлял он, судя по внешности, всегда рискуешь ошибиться, но до чего же эта избитая истина верна, когда имеешь дело с духовными лицами!
Этот аббат Плом похож на испуганного дьячка; вечно мечтает невесть о каких небесных мигдалах; такой неуклюжий, такой растяпистый… А он, оказывается, ученый, любит мистику и влюблен в собор!
Нет, священника никогда нельзя оценивать по лицу. Теперь мне предопределено жить в этом кругу; значит, надлежит отбросить все предвзятые мнения; сначала местных пастырей надо узнать, а уж потом позволять себе суждения про них.
III
На самом деле, размышлял про себя Дюрталь, задумчиво сидя на маленькой площади, никто не знает точно, откуда произошла форма готических соборов. Тщетно археологи с архитекторами перебирали одну гипотезу, одну систему за другой; они согласны, что существовало восточное влияние на романский стиль, и это действительно можно доказать. С тем, что романское искусство восходит к латинскому и византийскому, с тем, что оно, по формулировке Кишра, «стиль, который перестал быть римским, хотя удержал в себе много римского, и еще не стал готическим, хотя в нем уже есть нечто готическое», я соглашусь. Кроме того, если изучить капители, зарегистрировать их контуры и рисунок, можно заметить, что они гораздо больше похожи на ассирийские и персидские, нежели на римские, византийские и готические; но с утверждениями относительно предков самого стрельчатого стиля дело обстоит совсем иначе. Одни уверяют, что остроконечная арка существовала в Египте, Сирии и Персии, другие рассматривают ее как ответвление сарацинского и арабского искусства, и при том, несомненно, нет ничего менее доказанного.
Потом надо сразу сказать: стрельчатая или, вернее, остроконечная арка, которую почему-то считают основным признаком этой архитектурной эры, совсем таковым не является, как очень четко объяснил Кишра, а вслед за ним Лекуа де ла Марш. В этом пункте Школа Хартий расправилась с редутами архитекторов и уничтожила общие места старых ученых шишек. Впрочем, доказательств тому, что стрельчатая арка при строительстве романских храмов систематически употреблялась наряду с полукруглым сводом, множество: в соборах Авиньона, Фрежюса, Арльской Божьей Матери, церквах Сен-Фрон в Перигё, Сен-Мартен д’Эне в Лиони, Сен-Мартен-де-Шан в Париже, Сент-Этьен в Бове, в Леманском соборе, в Бургундии: в Везле, Боне, церкви Сен-Филибер в Дижоне, — в Шарите-Сюр-Луар, в Сен-Ладр в Отёне, в большинстве базилик клюнийской монашеской школы.
Но все это не говорит ровным счетом ничего о происхождении готики: оно по-прежнему темно, быть может, потому, что слишком ясно. Не будем насмехаться над теорией, видящей в этом вопросе чисто материальную, техническую проблему устойчивости и сопротивления материала: дескать, в один прекрасный день монахи обнаружили, что своды их церквей будут намного прочнее, если выкладывать их не полукругом, а в форме стрельчатой митры; но мне сдается, что романтическая теория, идея Шатобриана, над которой много издевались, на самом деле самая естественная, очевидная и справедливая.
Для меня почти несомненно, продолжал свою мысль Дюрталь, что образ храмовых нефов и стрельчатых сводов, о которых столько спорят, человек обрел в лесу. Самый поразительный собор, построенный самой природой, со множеством ломаных арок, находится в Жюмьеже. Там, возле великолепных руин аббатства, где остались нетронутыми две башни, а раскрытый сверху корабль, вымощенный цветами, переходит в листвяной клирос и абсиду деревьев, тянутся три огромные прямые аллеи вековых стволов. Одна, средняя, очень широка, две другие, по бокам, поуже; они представляют собой совершенно точный образ главного нефа и двух боковых, опирающихся на черные столбы и перекрытых купами листьев. Сходящиеся ветви ясно рисуют стрельчатые арки, а толстые стволы, столь же ясно, — колонны, из которых они вырастают. Надо видеть это зимой, когда арки запорошены снегом, стволы стоят белые, как березы, и тогда поймешь первоначальную идею, закваску искусства, на которой в душе архитекторов взошли такие же широкие просеки; они стали постепенно утончать романский стиль и наконец полностью заменили круглую арку свода остроконечной.
И в любом парке, если только он не намного моложе леса в Жюмьеже, с тою же точностью воспроизводятся те же контуры; но вот глубокой науки символов, безоглядной и кроткой мистики верующих людей, возводивших соборы, природа дать не могла. Без людей задуманные природой неустроенные храмы были бы бездушными набросками, рудиментами, эмбрионами настоящей базилики, меняющимися вслед за временами дня и года, живыми, но недвижными; их одушевлял бы только ревущий орган ветров; подвижная кровля ветвей становилась бы другой при малейшем дуновении, была бы зыбкой, по большей части немой, беспрекословной рабой бурь, покорной служанкой дождей; ее бы освещало только солнце, процеженное через ромбики и сердечки листьев, как через зеленую сетчатую кольчужку. Человек своим гением собрал этот рассеянный свет, сконцентрировал его в розетках и мечевидных окнах, направил в аллеи высоких белых стволов, и его витражи даже в самые пасмурные дни сверкали, улавливая все лучи, вплоть до последних закатных, одевали наичудеснейшим сиянием Христа и Матерь Его, переносили на землю единственное одеяние, приличное прославленным телам, — переливчатые пламенеющие мантии!
Как, подумаешь, нечеловечны, поистине божественны эти соборы!
В наших краях они ушли от романской крипты, от свода, осевшего, как душа, под грузом смиренья и страха, склонившегося перед безмерным Величеством, Которому и хвалу петь едва смели, и стали свободными; они нарушили правильную форму полукруглого свода, вытянули его в миндалевидный овал, взорвались фонтаном, подняли кровли, выпустили вверх нефы, заговорили тысячами скульптур вокруг клироса, обратили к небу, как молитвы, безумные выплески своих шпилей! Они стали символом задушевного разговора с Богом, стали более доверчивыми, более непринужденными, более дерзновенными с Ним.
Вырвавшись из унылого костяка, утончаясь, все они начали улыбаться.
Дюрталь перевел дух и продолжал:
— Романский стиль, как я себе представляю, родился уже старцем. По крайней мере, он так навсегда и остался боязливым и сумрачным.
Даже достигая великолепного размаха, как, например, в Жюмьеже с его огромной двойной аркой, гигантским порталом, открытым небу, он все равно печален. Ведь полукруглый свод склонен к земле, у него нет острия, возносящего вверх готическую арку…
О как плачут и жалобно шепчут его толстые стены, его закопченные потолки, его низкие арки, тяжко давящие толстые столбы, его почти немые каменные блоки, его скупые украшения, в немногих словах доносящие свои символы! Романский стиль — траппистская обитель архитектуры; сразу видно, как в нем находят приют ордена сурового устава, сумрачные монастыри, монахи, склонившиеся во прахе и, опустив головы, скорбно поющие покаянные псалмы. В его массивных подземельях — страх греха, но и страх Божий, страх гнева, утоленного лишь пришествием Сына. По наследству от Азии романский стиль обрел нечто от эры до Рождества Христова; в нем молятся не столько любящему Младенцу и милосердной Матери, сколько неумолимому Адонаи. В храме готическом меньше страха, он больше захвачен любовью к двум другим Лицам Троицы и к Приснодеве; в готических строениях селятся менее суровые, более артистические ордена; в нем пораженные грехом восстают, опущенные очи поднимаются горе, замогильные голоса превращаются в ангельские.
Одним словом, романский храм указывал на уход души в себя, в готическом она раскрывается. Вот точное значение этих двух стилей, по крайней мере для меня, заключил Дюрталь.
Но это не все, продолжал он. Из этих наблюдений можно вывести и такое определение: романский стиль — аллегория Ветхого Завета, готический — Нового.
В самом деле, если подумать, сходство совершенно точное. Библия, жестоковыйная книга Иеговы, ужасный кодекс Отца выражается жестким романским стилем, а утешительное, сладостное Евангелие — готикой, исполненной сердечности и ласки, исполненной смиренной надежды.
Если символика такова, то кажется, что очень часто время служит основой человеческой мысли для выражения идеи во всей ее полноте, для соединения двух стилей так, как в Святом Писании соединены два Завета, и тут некоторые соборы показывают нам любопытнейшее зрелище. Иные из них при рождении были суровы, но, будучи завершены, веселеют. Типично с этой точки зрения то, что осталось от старой церкви аббатства Клюни. Несомненно, она, наряду с полностью сохранившимся храмом в Паре-ле-Моньяль, осталась одним из великолепнейших образчиков бургундского романского стиля, который со своими каннелированными пилястрами, к сожалению, свидетельствует о прискорбной живучести греческого искусства, ввезенного во Францию римлянами. Но если, следуя теории упоминающего их Кишра, принять, что в основе своей эти базилики, восходящие к XI–XII векам, чисто романские, то их очертания становятся уже смешанными; по крайней мере, там зарождается ликование готических арок.
Совсем не то в храме Богоматери Великой в Пуатье: там оба крыла миниатюрного, украшенного гирляндами романского фасада фланкированы коротенькой башенкой, накрытой тяжелым конусом из камней, обтесанных фасками, как ананас. В Паре нет ни ребяческого украшательства, ни тяжелой роскоши Пуатье. Вместо варварского наряда для крохотной игрушечной церковки, как в Богоматери Великой, здесь саван плоской стены, но экстерьер с его торжественной простотой форм от этого не становится менее впечатляющим. Не изумительны ли эти две квадратные башни, в которых пробиты узкие окна, а выше их башня круглая с галереей колонн, объединенных серповидным сводом, на которой так кротко и твердо стоит благородная и вместе с тем мужицкая, веселая и сильная колокольня?
Величественная простота внешнего вида находит отзвук и в интерьере, в архитектуре церковных нефов.
Впрочем, там романский стиль уже утратил страдальческий облик подземного храма, мрачную физиогномию персидского погреба. И могучая арматура та же, и капители все так же еще окружены мусульманскими листьями, в них тот же восхитительный ассирийский изгиб; все по-прежнему напоминает об азиатском искусстве, призванном на нашу землю, но уже сочетались оконные и дверные проемы разных форм, колонны стали мощнее, столбы выше, большие арки гибче, их полет стремительней и дольше, а в боковых стенах, огромных и уже легких, на колоссальной высоте устроены три световых отверстия.
В Паре полукруглый свод уже гармонизируется со стрельчатой аркой, которая утверждается в верхних точках здания и, в общем-то, возвещает начало эры душ не столь слезных, более сердечное, если и не менее жесткое, представление о Христе, уже готовящее, уже открывающее милосердную улыбку Матери Его.
Однако, вдруг сказал себе Дюрталь, если моя теория верна, то лишь та архитектура могла бы символизировать католическую веру в целом, которая выражала бы всю Библию, оба Завета, а это либо романский стиль со стрельчатыми арками, либо переходная, полуроманская, полуготическая, архитектура.
Тьфу ты! — проговорил он, придя к столь неожиданному заключению. — Да ведь, может быть, совсем не обязательно, чтобы параллелизм имел место в самой церкви, чтобы Святое Писание издавалось в одном томе; так вот и здесь, в Шартре, целостность соблюдена, поскольку готический собор стоит на древней крипте, а она романская.
Так даже, некоторым образом, символичнее; это подтверждает идею местных витражей, на которых пророки держат на плечах четырех евангелистов: таким образом, Ветхий Завет вновь и вновь служит базой, подножием Новому.
Но сколько мечтаний возбуждает романский стиль! — вернулся к прежним мыслям Дюрталь. Быть может, он, кроме прочего, — закопченная рака, темный киот для черных Мадонн? Такое сравнение тем более не покажется неуместным, что на всех цветных статуях Богородицы бывают полные и коренастые, а отнюдь не тростинки, как белые Девы готических храмов. Византийская школа видела Марию всегда только смуглой, «с кожей цвета блестящего серого эбена», как пишут древние Ее историки; вот только изображали ее греки, вопреки Песне Песней, черной, но не слишком красивой. В таком понимании это Дева угрюмая, вечно печальная, в согласии с подземельями, которые Она населяет. И тогда вполне естественно, что такая статуя стоит в шартрской крипте, но в самом соборе, где такая же есть на одном из столбов, она, пожалуй, странна: такая Богородица здесь, под летящими белыми сводами, не в своей среде.
— Что, друг наш, задумались?
Дюрталь вздрогнул, как будто его разбудили.
— А, это вы, госпожа Бавуаль!
— Ну да, была на рынке и заходила к вам домой.
— Ко мне домой?
— Да, заходила пригласить вас днем зайти покушать. У аббата Плома нынче нет служанки, уехала, и он сегодня обедает у нас; вот батюшка и подумал, что это как раз случай вас с ним познакомить.
— Премного ему благодарен; только вот надо зайти сказать мамаше Мезюра, чтобы не разогревала мне котлету.
— Не нужно, я госпоже Мезюра уже все сказала. Кстати, вы ею по-прежнему довольны?
Дюрталь засмеялся:
— Когда-то у меня в Париже смотрел за хозяйством некто сьер Рато, чистопородный пропойца; он все переворачивал, а с мебелью обращался как с противником на войне; теперь эта славная женщина — она действует совсем иначе, а результат такой же. У нее все лаской, все потихоньку; она не опрокидывает стулья, не рычит, когда выбивает тюфяки, не кидается на стены с метлой наперевес — нет, она спокойно, любовно сметает пылинки, сгребает в кучки, а кучки заметает в углы; постель она не взбивает колтуном, а просто погладит ее двумя пальчиками, помнет подушки да так и оставит со вмятинами. Тот все громил, а она вообще ничего не трогает!
— Ну что вы говорите, она очень достойный человек!
— Конечно, и я, при всем том, очень рад, что она у меня.
За разговором они подошли к решетке епископского дома. Пройдя через калитку рядом с будкой привратника, они попали в большой двор, посыпанный речными камешками, в дальнем конце которого стояло большое строение XVII века. На здании не было ни орнаментов, ни скульптур, не было украшенного подъезда — лишь простой фасад из кирпича и выщербленного песчаника: нагое, холодное, заброшенное сооружение с большими окнами, за которыми виднелись полузакрытые, крашенные в серый цвет ставни. Вход был через второй этаж; туда вели две лестницы по бокам крыльца; внизу, в нише, виднелась застекленная дверь, через которую можно было рассмотреть комли стволов, обрезанных рамкой стекла.
Во дворе стояла навытяжку шеренга высоких тополей, которую прежний епископ, бывавший в Тюильри до войны, со смехом называл «изгородью сотни часовых».
Г-жа Бавуаль с Дюрталем прошли через двор направо к крытому черепицей флигелю. Там, на втором этаже, под чердаком, освещенным тремя овальными окнами, и жил аббат Жеврезен.
Они поднялись по узкой лестнице со ржавыми железными перилами. Сырость струилась по стенам, выходила наружу, проступала каплями цвета черного кофе; ступени были истоптаны, с углублениями посередине, как ложки; лестница вела к двери, выкрашенной охрой, с темно-черной чугунной круглой ручкой. Шнурок звонка болтался на медном кольце, на ветру колотившемся о стенку с потрескавшейся штукатуркой. На лестничной площадке стоял какой-то непонятный запах гнилых яблок и стоячей воды; внизу под лестницей была маленькая прихожая, выложенная кирпичами, поставленными на ребро и пористыми, как губка, а на потолке дождевые подтеки, похожие на пятна мочи, казались изображениями морей на географической карте.
В маленькой квартире аббата, оклеенной дурными новыми обоями в красную клеточку, пахло могилой; сразу было понятно, что в тени собора, падавшей на этот флигель, солнце никогда не заглядывало просушить стены: внизу у плинтусов они крошились и пыль, похожая на сахарный песок, потихоньку сыпалась на холодные натертые полы.
Какое убожество! И ведь здесь живет старик, измученный ревматизмом! — думал Дюрталь.
Правда, когда они вошли в комнату аббата, оказалось, что она немного согрета теплом камина. Священник читал служебник, закутавшись в ватное пальто; он сидел у окна, отдернув занавеску, чтобы разглядеть буквы.
В комнате стояла маленькая железная кровать с белыми ситцевыми занавесками и красными кретоновыми подхватами; напротив нее стол, накрытый скатертью, на нем письменный прибор; рядом со столом — молитвенная скамеечка, а над ней Распятие, прибитое гвоздями к стене; всю остальную комнату занимали книжные полки до потолка да еще три кресла, какие теперь можно встретить только в монастырях да в семинариях: ореховые, с соломенными сиденьями, как у церковных стульев; одно стояло у стола, два других по обеим сторонам камина, по бокам от которого висели круглые спартри[5]; на камине стояли две пузатые вазы, из которых торчали бледные стебли сухого камыша, а над ним висели стенные часы в стиле ампир.
— Подойдите поближе, — пригласил аббат. — Я топлю, но все равно холодно.
Дюрталь что-то сказал Жеврезену про его ревматизм; тот выслушал и развел руками:
— Епископский дом весь такой. Монсиньор сам еле ходит, а не смог найти во всем здании ни одной сухой комнаты. Господи прости, мне кажется, что его квартира еще более сырая; на самом деле надо бы повсюду поставить калориферы, но на это ни за что не пойдут: дорого.
— Но монсиньор хотя бы мог поставить кое-где по комнатам жаровни.
— Монсиньор? — засмеялся аббат. — Да у него денег и вовсе нету; он за все про все получает жалованье в десять тысяч франков: церковных доходов в Шартре нет, а сборы с актов канцелярии ничего не дают; в этом городе богатые люди в церковь не ходят и помощи от них ждать нечего, а он еще на свой счет содержит садовника да привратника, а кухарку и прачку из экономии должен брать из монастыря. Да к тому же у него нет средств на собственный выезд и для пастырских поездок ему приходится арендовать берлину. Ну как вы думаете, много ли ему остается на жизнь, а ведь еще и милостыню надо вычесть. Полно, монсиньор беднее нас с вами.
— Так выходит, что в Шартре священство как в пустыне безводной!
— Это вы верно сказали; здесь и епископы, и каноники, и простые пастыри — все в нужде.
Прозвонил звонок; г-жа Бавуаль ввела в комнату аббата Плома. Дюрталь узнал его; у него был вид еще более перепуганный, чем обычно; он кланялся, пятясь назад, и засовывал в рукава руки, видимо не зная, куда их девать.
Но через полчаса разговора он пришел в себя, расплылся в улыбках и наконец разговорился; тогда Дюрталь с удивлением понял, что аббат Жеврезен говорил правду. Новый знакомый оказался очень умен и сведущ, а больше всего, пожалуй, нравилось в нем то, что он нисколько не был скован узкими идеями, пустым ханжеством, из-за которых духовным лицам так трудно бывает получить хороший прием в образованном обществе.
Они сидели в столовой, такой же сумрачной, как и прочие комнаты в квартире, но потеплее, потому что там ворчала фаянсовая жаровня, выбрасывая через душники дымовые клубы.
До закуски, на которую подали яйца всмятку, разговор шел о разных предметах, а потом сосредоточился на соборе.
— Это пятое здание, выстроенное здесь над пещерой друидов, — сказал аббат Плом. — Необыкновеннейшая история!
Первый храм в апостольские времена возвел епископ Авентин; его разрушили до основания. Новый построил прелат по имени Кастор; эту церковь наполовину сжег герцог Гунальд Аквитанский; Гидескальд восстановил ее, норманнский вождь Гастингс опять сжег, Гислеберт вновь построил, а норманский герцог Ричард, взявший город на приступ, разрушил окончательно.
Об этих базиликах у нас нет вполне достоверных документов; мы знаем только, что самую первую из них полностью уничтожил римский губернатор здешней округи; он перебил множество христиан, в том числе собственную дочь Модесту, и бросил их трупы в колодец близ пещеры, с тех пор получивший название колодца Святых Крепких.
Третий храм, построенный епископом Вульфардом, был снесен в 1020 году епископом Фульбертом, заложившим четвертый собор. В 1194 году его уничтожила молния, пощадившая только две колокольни и крипту.
Наконец, пятый собор, возведенный в царствование Филиппа Августа, когда епископом Шартра был Регинальд Монтионский, — тот, что мы видим сегодня; он был освящен 17 октября 1260 года, но непрестанно страдал от больших пожаров. В 1506 году молния ударила в северный шпиль, конструкции которого были сделаны из дерева, обитого свинцом; страшная буря, бушевавшая от шести часов вечера до четырех утра, так раздула огонь, что шесть колоколов расплавились, как восковые. В 1539, в 1573, в 1589 годах молния поражала вновь отстроенную колокольню. Прошло лет сто с небольшим, и все началось снова: в 1701 и в 1740 годах молния била все в тот же шпиль.
До 1825 года он оставался невредим, а в том году гром сокрушил его на второй день Пятидесятницы, во время пения Песни Богородицы на вечерне.
Наконец, 4 июня 1836 года разразился жуткий пожар, случившийся из-за неосторожности двух рабочих, чинивших водостоки на крыше. Пожар не утихал одиннадцать часов и погубил все перекрытия, все деревянные части здания; чудо, что в этой замятне[6] не погиб весь храм.
Согласитесь сударь: эта череда катастроф впечатляет.
— Верно, — сказал аббат Жеврезен, — и что самое странное — с какой яростью низвергается на храм огонь небесный.
— Как же это объяснить? — спросил Дюрталь.
— Автор «Партении» Себастьен Руйяр думает, что эти бедствия были попущены во искупление неких грехов и осторожно предполагает, будто причиной пожара третьего собора было бесчинное поведение паломников, которые в те времена спали в самом нефе, мужчины вперемежку с женщинами. Другие считают, что Сатана, который в некоторых случаях бывает соразмерен молнии, возжелал во что бы то ни стало разрушить сей храм.
— Но отчего же тогда Пресвятая Дева не защитила его?
— Обратите внимание: Она не раз не давала обратить его в пепел, хотя оттого случай не менее удивителен. Вспомните, что Шартр — первое место поклонения Божьей Матери во Франции. Оно предзнаменовано еще до Спасителя, ибо задолго до того, как родилась дочь Иоакима, друиды устроили в пещере, где теперь наша крипта, алтарь «Девы рождающей», Virginae pariturae. Некоей благодатью они предчувствовали рождение Спасителя, Мать Которого будет непорочна; таким образом, Шартр, по-видимому, связан с Девой Марией столь давними узами, как ни одно другое место; неудивительно, что диавол так упрямо старается их разорить.
— Знаете ли, — сказал Дюрталь, — что эта пещера имеет прообраз в человеческом, но почти официальном прибавлении к Ветхому Завету? Замечательная прозорливица Екатерина Эммерих в «Жизни Господней» сообщает{8}, что поблизости от горы Кармель есть пещера и колодец, где пророк Илия видел Деву; она говорит, что иудеи, ожидавшие пришествия Мессии, несколько раз в год совершали туда паломничества.
Это ли не образ Шартрской пещеры и колодезя Святых Крепких?
С другой стороны, заметьте, что громы всегда выбирают не старую колокольню, а новую; как я думаю, никакая метеорологическая причина не может объяснить такое предпочтение, но когда внимательно рассматриваю оба шпиля, бываю поражен, как изящен кружевной орнамент со стороны грациозной, элегантной новой башни. На другой же нет ни орнамента, ни кружев, одна чешуйчатая кровля, как на воине в доспехах; она скромна и сурова, горделива и мощна. Поистине можно сказать, что одна башня женственна, другая же принадлежит к мужскому полу. А если так, не может ли одна символизировать Богородицу, другая же Сына? В этом случае мой вывод не отличается от того, что изложил сейчас господин аббат: виновник пожара — Змий, ярящийся на Ту, что имеет власть стереть его главу.
— Попробуйте филейчика, друг наш, — сказала г-жа Бавуаль, войдя с бутылкой в руках.
— Нет, благодарю.
— А вы, господин аббат?
Аббат Плом поклонился и покачал головой:
— Вы же совсем ничего не едите!
— Как ничего не ем! Признаюсь вам, мне даже немного стыдно, что я так хорошо отобедал, а ведь только сегодня утром я читал в житии святого Лаврентия, архиепископа Дублинского, что у него на трапезу всего-то и было что кусок хлеба, омоченный в щелоке.
— Зачем?
— Чтобы говорить, подобно царю Давиду, что он питается пеплом, ведь в щелоке есть угольная пыль. Вот пиршество кающегося; оно совсем не похоже на то, что было сегодня у нас, — со смешком закончил речь аббат.
— Что ж, дорогая госпожа Бавуаль, вы смущены? — сказал аббат Жеврезен. — Значит, еще не привыкли к настоящему сладострастию строгого поста; вы у нас лакомка, вам подавай воды или молока, чтобы размочить сухарик.
— Помилуйте, — серьезно добавил Дюрталь, — святые еще и не так гуляют. Помнится, я читал в житии блаженной Екатерины Кордовской, что она щипала траву без помощи рук вместе с ослами.
Г-жа Бавуаль, словно не понимая, что ее друзья шутят, ответила:
— Мне Господь никогда не велел посыпать галетки пеплом или щипать траву… Если Он скажет, я так, конечно, и буду делать… однако…
У нее было такое кислое лицо, что все расхохотались.
— Словом, — вернулся к разговору аббат Жеврезен, — нынешний собор построен в XII–XIII веке, не считая, конечно, новой башни и многих деталей.
— Да-да.
— А имена зодчих, его построивших, неизвестны?
— Как и почти всех строителей древних храмов, — ответил аббат Плом. — Можно, впрочем, предположить, что в XII–XIII веке работами в нашем храме руководили бенедектинцы из аббатства Тирон, ведь в 1117 году этот монастырь открыл подворье в Шартре; кроме того, мы знаем, что в обители было тогда больше пятисот монашествующих, наученных всем ремеслам, что там было много скульпторов и иконописцев, каменотесов и каменщиков. Так что вполне естественно думать, что именно монахи, выселенные в Шартр, начертили план собора Богоматери и привели с собой артели художников, изображение которых мы видим на одном из витражей абсиды: люди в мохнатых колпаках, похожих на рукавные мешки, вытесывают и отделывают статуи царей.
В начале XVI века их работу продолжил Жеан Ле Тесье по прозвищу Жеан из Боса: он автор северной, так называемой Новой, колокольни и убранства той части внутри храма, что заключает в себе скульптурные группы вокруг клироса.
— И что же, никто и никогда так и не выяснил имени одного из первых архитекторов, первых скульпторов, первых витражистов этого собора?
— Искали много; я лично могу вас уверить, что не жалел ни времени, ни трудов, но все напрасно. Вот что мы знаем: на верхушке южной колокольни, так называемой Старой, возле проема, выходящего прямо на шпиль Новой башни, разобрали такую надпись: «Арман, 1164». Чье это имя: архитектора, рабочего или ночного сторожа, стоявшего на посту в тот год? — теряемся в догадках. Кроме того, Дидрон на пилястре западного портала, над разбитой головой мясника, убивающего быка, прочел имя «Рогерус», выцарапанное почерком XII века. Кто он был: архитектор, скульптор, жертвователь на этот фасад, мясник? Еще одна подпись, «Робир», также выбита на цоколе статуи, на северном портале. Что за Робир? Никто не знает ответа.
С другой стороны, Ланглуа упоминает стекольщика XIII века Клемана из Шартра: он прочел его подпись Clemens vitrearius Carnutensis на одном из окон Руанского собора; да, конечно, родился он в Шартре, но до заключения, к которому склоняются некоторые, что именно этот Клеман расписал витражи собора Божьей Матери, еще далеко. Во всяком случае, у нас нет никаких данных ни о его жизни, ни о работе в нашем городе. Еще мы можем указать, что на одном из стекол нашего храма значится «Петрус Бал». Кто он — донатор или художник? Сокращенное это имя или полное? Мы и здесь должны сознаться, что ничего не знаем.
Еще добавим, что обнаружили двух товарищей Жеана из Боса: Тома Ле Вассера, который помогал ему строить новый шпиль, и некоего сьёра Бернье, имя которого значится в старых счетах; что из старинных контрактов, отрытых г-ном Лекоком, мы знаем, что лучшие из групп, украшающих крышу над алтарем, изваял парижский мастер Жеан Сула; упомянем вслед за этим изумительным скульптором других, уже не столь замечательных, ибо у них уже вновь проявляется дух язычества и начинается пошлость: орлеанского мастера Франсуа Маршана и Никола Гибера из Шартра, и это примерно все свидетельства о настоящих художниках, работавших в Шартре с XII по первую половину XVI века, которые заслуживают упоминания.
— Ну да, после их мастеров имена дошедших до нас ремесленников только вгоняют в краску: какой-то Тома Буден, Легро, Жан де Дьё, Беррюе, Тюби, Симон Мазьер посмели продолжать работу Сула! Луи, архитектор герцога Орлеанского, опошливший и обезобразивший клирос; омерзительный Бридан, к презренной радости кое-каких каноников поставивший здесь напыщенную, никуда не годную глыбу «Успения»!
— Увы! — вступил в разговор аббат Жеврезен. — И каноники же сочли нужным разбить два древних витража клироса, заменив их простыми стеклами, чтобы группа этого Бридана лучше освещалась!
— Вы есть больше не хотите? — спросила г-жа Бавуаль.
Гости покачали головами; она убрала сыр, варенье и принесла кофе.
— Я вижу, вам очень нравится собор; что ж, буду рад помочь вам его осмотреть подробно, — предложил Дюрталю аббат Плом.
— С превеликим удовольствием, господин аббат; он и впрямь буквально преследует, сводит меня с ума! А вы, конечно, знаете теорию Кишра о готике?
— Знаю, и думаю, что она верна. Я тоже убежден, что особенность и сущность романского стиля в первую очередь — свод, заменивший кровлю на стропилах, а отличительная черта готики не стрельчатая арка, а аркбутан[7].
Я несколько сомневаюсь в справедливости тирады Кишра: «История средневековой архитектуры — не что иное, как история борьбы архитекторов с напором и тяжестью сводов»: ведь в этом искусстве есть нечто и помимо материального производства, но при всем том он, несомненно, прав почти по всем пунктам.
Теперь мы можем принять за основной принцип, что, употребляя слова «стрелка свода» и «готика», мы произносим термины, чей истинный смысл извращен: ведь готы не имеют никакого отношения к архитектуре, названной их именем, а слово «стрелка» первоначально как раз относилось к перекрестию полукруглых сводов и никак не может обозначать заостренной арки, которую столько лет считали основой стиля или даже самим стилем.
В общем, — продолжал аббат, помолчав, — как можно судить о творениях былых времен, даже если не обращать внимания на арки, устроенные в контрфорсах, на своды в форме ручек корзин или печных сводов; ведь все они искорежены временем или не достроены. У собора Шартрской Божьей Матери должно было быть девять колоколен, а есть только две; в храмах Парижа, Реймса, Лана следовало построить шпили на башнях — где же они? Так что мы не можем в точности дать себе отчет, какой эффект рассчитывали произвести архитекторы. С другой стороны, соборы строились так, чтобы восприниматься в разрушенной ныне раме, в несуществующей среде; их окружали дома, чей облик согласовался с собором, а ныне возле них торчат казармы в шесть этажей, мрачные, безобразные исправительные дома! И повсюду расчищают пространство, а ведь они отнюдь не предназначены стоять одиноко на площади; вокруг совершенно не чувствуется теплоты обстановки, в которой они возводились, атмосферы, в которой они жили; некоторые детали больших храмов, которые нам сейчас кажутся необъяснимыми, несомненно, появились вследствие требований формы, нужд окружающей среды; в сущности, мы идем наощупь, наугад, ничего не знаем… совсем ничего.
— По крайней мере, — заметил Дюрталь, — археологи и архитекторы выполнили только второстепенную часть работы: они открыли нам лишь организм, тело соборов, а кто расскажет нам об их душе?
— Что вы понимаете под душой? — осведомился аббат Жеврезен.
— Я не говорю о душе памятника в тот момент, когда его, с Божьей помощью, создал человек: этой души мы никак не знаем, хотя для Шартра многие ценные свидетельства о ней рассказывают; а вот о той душе, которая в них жива теперь, которую мы помогаем сохранять, усерднее или хуже молясь в них, чаще или реже причащаясь, больше или меньше бывая?
Возьмем Нотр-Дам де Пари; он весь от фундамента до крыши перелицован и переделан; скульптуры если не совсем новые, то подновленные; несмотря на все дифирамбы Гюго, этот собор все-таки второго сорта; но там сохранился неф и чудный трансепт[8]; там есть даже статуя Девы Марии, перед которой много раз преклонял колени Олье{9}; ну и что же? В этом храме пытались оживить почитание Богородицы, сделать его местом паломничества, но там все мертво! Души в соборе не осталось, это недвижный каменный труп; попробуйте там выслушать мессу, подойти к причастию — вы почувствуете, что на вас свалилась ледяная глыба. Отчего это: от небрежности, от сонных богослужений, от разудалых песенок, которые там поют, оттого, что вечерами храм спешат закрыть, а просыпается он поздно, намного позже рассвета? А может, оттого, что туда допускают бесстыжих туристов, хамов из Лондона, которые при мне разговаривали там вслух и, против простейших приличий, сидели напротив алтаря, когда благословляли Святые Дары? Не знаю, но могу удостоверить, что Богородица там не живет ни днем ни ночью, как в Шартре.
А возьмите Амьен: прозрачные окна, плоский свет, капеллы забраны высокими решетками, тишина, службы редки, никого нет… И этот собор пуст; для меня он почему-то, не знаю, отдает старым янсенистским духом; там неуютно, там плохо молиться, а ведь неф его великолепен и скульптуры обходной галереи даже лучше, чем в Шартре — они, можно сказать, единственные в своем роде!
Но души нет и в нем.
То же самое и Лаонский собор, голый и холодный, безвозвратно умерший. Иные находятся в промежуточном состоянии, агонизируют, но еще дышат: Реймс, Руан, Дижон, Тур, Ле-Ман, Бурж с его пятью устьями, от которых уходят вдаль пять неоглядных проходов, с огромным, пустынным внутренним пространством, и меланхолический Бове, где от тела остались лишь голова и в отчаянье воздетые руки, как вечно неуслышанный призыв к небу, хоть что-то сохранили от средневековых токов. Там можно сосредоточиться, но нигде так хорошо себя не чувствуешь, так славно не молишься, как в Шартре!
— Не в бровь, а в глаз! — воскликнула г-жа Бавуаль. — За такие слова вы получите рюмочку хорошей настойки!
Конечно, конечно, — продолжала она, обернувшись к смеющимся священникам. — Друг наш прав. В других местах, кроме Нотр-Дам де Виктуар в Париже, а особенно Нотр-Дам де Фурвьер в Лионе, Пречистую ждешь, сидишь в передней, когда Она появится, а Она часто и не выходит, а у нас в соборе принимает вас сразу же, запросто. Да я уже другу нашему сказала, пусть пойдет к ранней мессе в крипту, тогда увидит, как Матушка наша принимает своих посетителей!
— Шартр, — сказал аббат Жеврезен, — поразительное место; в нем две черные статуи: Богоматерь У Столпа в самом соборе и Богоматерь Подземная внизу, в пещере, из которой произрос собор. Думаю, ни в одном другом храме нет двух чудотворных образов Девы Марии, не говоря уже о древней реликвии, известной как туника или срачица Приснодевы!
— А из чего же, по-вашему, складывается душа нашего собора? — спросил аббат Плом.
— Ну, явно не из душ городских мещанок и осевших в нем ктиторов; нет, его животворят сестры, крестьянки, монастырские пансионерки, семинаристы, а больше всего, пожалуй, мальчики из хора, лобызающие святой столп и преклоняющие колени пред Черной Мадонной. А набожное мещанство — да от него же ангелы бегут в ужасе!
— За немногими исключениями из этой касты и впрямь выходят чистейшие фарисейки, — сказал аббат Плом и добавил полушутливо, полуогорченно: — А я служу при этих душах унылым садовником!
— Так вернемся к началу, — перебил аббат Жеврезен. — Где же родилась готика?
— Во Франции. Лекуа де ла Марш прямо об этом заявляет: «Аркбутан как общая основа стиля появился в первые годы царствования Людовика Толстого в области, находящейся между Сеной и Эной». Согласно ему, первым опытом такой архитектуры был Лаонский собор; другие, напротив, утверждают, что он унаследовал черты более ранних базилик; называют церкви Сен-Фрон в Перигё, в Везеле, в Сен-Дени, в Нуайоне, бывшую церковь коллегиума в Пуасси — и никак не могут прийти к общему мнению. Точно одно: готика — искусство севера Франции, проникло в Нормандию, а оттуда в Англию; затем, в XII веке, она завоевала берега Рейна, а в начале XIII — Испанию. На Юге готические церкви — всего лишь импортные изделия, очень плохо сочетающиеся с живущим там народом и с буйно-синим небом, которое они портят.
— А в наших краях, — заметил Дюрталь, — она не согласуется с прочими аспектами мистики.
— То есть?
— Ну как же: ведь из всего духовного искусства Франции досталась лишь архитектура. Припомните примитивы в живописи. Эти живописцы, да и скульпторы тоже, все итальянцы, испанцы, фламандцы, немцы. Те, кого нам пытались выдать за соотечественников, — либо фламандцы, переехавшие в Бургундию, либо скромные французские ученики, чьи произведения вторичны и несут чисто фламандский отпечаток. Посмотрите на тех, кого называют нашими примитивистами, в Лувре, а в особенности посмотрите в Дижоне, что осталось от времен, когда Филипп Отважный насадил северное искусство в своей провинции. Сомневаться не придется: все из Фландрии. Жан Перреаль, Бурдишон, Боневё и даже Фуке — все, что хотите, только не изобретатели нового направления искусства в Галлии. То же самое и с мистическими писателями. Стоит ли перечислять национальности, к которым они принадлежали? Испанцы, немцы, итальянцы, фламандцы, но француза ни одного.
— Простите, друг наш, — воскликнула г-жа Бавуаль, — простите, есть приснопамятная Жанна де Матель; она родилась в Роанне.
— Да, но ее отец итальянец, уроженец Флоренции, — сказал аббат Жеврезен. Он услышал, что звонят к девятому часу, и сложил салфетку.
Все стоя прочли благодарственные молитвы, и Дюрталь назначил с аббатом Пломом встречу, чтобы осмотреть собор. По дороге домой он все обдумывал это странное разделение искусства Средних веков — верховенство, данное Франции в архитектуре, когда в прочих искусствах она настолько ниже других.
Надо признать, решил он наконец, что и это превосходство она потеряла, ибо уже давным-давно не родила ни одного архитектора; люди, которые так себя называют, — просто вахлаки, мастеровые, не имеющие ни личности, ни умения. Они даже не способны ловко передирать у предшественников! В кого они превратились, что делают? — пекут как блины часовенки, берут в перелицовку церковки; сапожники, бездари!
IV
А г-жа Бавуаль была права. Чтобы хорошо понять, как Царица небесная принимает приходящих к Ней, надо пойти к ранней мессе в крипту, а главное — там причаститься.
Дюрталь проделал этот опыт; однажды в день, когда аббат Жеврезен благословил его приступить к Дарам, он последовал совету его домоправительницы и с рассветом спустился в подземелье.
Туда вела лесенка, освещенная маленькой лампочкой с потрескивающим фитильком, наполнявшим дымом все стекло; спустившись по ступенькам до конца, вы шли в темноте, забирая налево; кое-где на повороте краснели кинкеты, указывая путь в этом чередовании света и тьмы; наконец, вы более или менее начинали понимать форму подземного храма.
Он почти в точности походил на половину колесной ступицы, откуда во все стороны расходились спицы к ободу колеса. Посетитель шел круговым проходом, от которого веером отходили коридоры; в конце каждого коридора можно было разглядеть туманное окошко, казавшееся почти прозрачным в сравнении с непроглядной ночью стен.
Так, идя по кругу, Дюрталь и дошел до зеленой железной дверцы. Толкнул ее и вошел сбоку в широкий проход, кончавшийся полукруглой площадкой, занятой главным алтарем. По обе стороны от него две узенькие галерейки изображали ветви креста трансепта. По обе стороны большого прохода (это был неф) стояли стулья, между которыми оставалось немного места, чтобы подойти к алтарю.
Тот был еле виден: храм освещался лишь ночниками, висевшими под потолком, отливавшими красноватой сангиной и мутным золотом. В подвале тянуло неожиданным теплом и разливался странный запах; в нем через оттенок влажной земли различался горячий воск, но это была, так сказать, лишь основа, канва запаха: она терялась для обоняния под покрывавшими ее вышивками, под потемневшей позолотой масла, которое, должно быть, смешивали с очень старыми ароматами, в котором растворяли редкие благовония. Запах был таинственный и противоречивый, как и сама крипта с ее проблесками света и пятнами тьмы: она звала и к покаянию, и к покою, она была необычна.
По главному проходу Дюрталь подошел к правой ветви креста и сел; в этой стороне трансепта располагался еще один алтарь с рельефным греческим крестом на пурпурной сфере. Над головой нависал огромный выгнутый свод, до того низкий, что можно было достать до него, подняв руку; свод был черный, как задняя стенка камина, словно прокаленный пожарами, уничтожавшими соборы над ним.
Стал раздаваться стук деревянных башмаков, потом приглушенные шаги монахинь; настала тишина; потом несколько человек нарушили ее, высморкавшись, и все окончательно стихло.
Через дверцу в другом крыле трансепта вошел пономарь, зажег свечи на главном алтаре, и по всем стенам засверкали гирлянды вермелевых сердечек, отражавших свечные огоньки и ореолом окружавших строгую, темную статую Божьей Матери с Младенцем на коленях. Это и была знаменитая Богоматерь Подземная, верней, ее копия, потому что оригинал в 1793 году санкюлоты с плясками сожгли у большого соборного портала.
Появился мальчик-алтарник, за ним старый священник, и Дюрталь в первый раз увидел, как на самом деле готовится месса, понял, какая невероятная красота рождается от продуманного соблюдения чина таинства.
Мальчик стоял на коленях, напрягши душу и сложивши руки, и громко, медленно, с таким тщанием, таким благочестием произносил репонсы псалма, что Дюрталю вдруг открылся восхитительный смысл литургии, который ныне уж не поражает нас, потому что мы уже давно слышим ее не иначе как говоримую торопливым бормотаньем.
Священник же, быть может, бессознательно, волей или неволей, следовал тону, взятому мальчиком, сообразовывался с ним, говорил с расстановкой, не одними губами произносил свои возгласы, а прерывал дыханье, захваченный, словно на первой своей мессе, величием совершающегося действа.
Да, Дюрталь слышал, как дрожит голос предстоятеля, стоявшего перед алтарем, словно сам Сын, образом Которого он и был, молил Отца простить все грехи мира, принесенные им в надежде и скорби своей, а в помощь ему была невинность мальчика, чьи страх и любовь были не так обдуманны и не так живы, как у пастыря.
И когда священник произносил отчаянные слова: «Господи, Господи, что унывает душа моя и для чего смутил Ты меня?»[9], — он был воистину подобен Иисусу, страждущему на Лобном месте, но и человек оставался жив в предстоятеле — человек, обратившийся к себе и, естественно, вследствие своих личных грехов, собственных своих неправд приложивший к себе всю скорбь, запечатлевшуюся во вдохновенном стихе псалма.
Маленький же министрант укреплял его, побуждал к надежде; и священник, тихо прочтя исповедание грехов перед народом, также очистившимся таким же точно признанием в своих прегрешениях, поднялся по ступеням алтаря, и месса началась.
В этой атмосфере молитв, ударявшихся о тяжкий потолок, среди коленопреклоненных жен и сестер, Дюрталь поистине получил представление о первоначальном христианстве, хоронившемся в катакомбах; тут было то же самозабвенное умиление, та же вера; могло даже показаться, что молящиеся опасаются, как бы их не застали, желают утвердить свою веру перед лицом опасности. В этом Божьем погребе, словно на стертом оттиске, различалась неясная картина собрания неофитов в римских подземельях.
Месса продолжалась; Дюрталь любовался, как мальчик, закрыв глаза, попятившись на шаг от смиренного смущенья, поцеловал сосуды для вина и воды, когда подавал их священнику.
Больше Дюрталь ни на что не хотел смотреть и, когда предстоятель вытер руки, постарался уйти в себя: только стихами службы вполголоса он и мог сейчас по совести молиться Богу.
Больше у него ничего не было, но было вот это: страстная любовь к мистике и литургии, к древним распевам и соборам! Без всякой лжи и без заблужденья он мог совершенно спокойно воскликнуть: «Господи! возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей»[10]. Только это он мог предложить Отцу Небесному в воздаяние за свои прегрешения и беззакония, за уклонения и падения. Ах! — думал он, — как бы мне повторять непрестанно все эти готовые моленья, что произносят прихожане, как говорить Богу, называя Его Иисусом возлюбленным, что Он любовь сердца моего, что я твердо решил вовек одного Его любить, что лучше умереть, чем Его огорчить? Одного Его любить! Монаху, пустыннику это возможно, но в мирской жизни?.. Да и кто, кроме святого, предпочтет смерть малейшему прегрешению? Нет, подумал Дюрталь, помимо собственных наших с Ним сношений, встреч наедине, когда мы дерзаем говорить Ему все, что придет нам в голову, только литургические молитвы могут каждым из нас повторяться неосужденно, потому что их дух в том и состоит, что они приспособлены к каждому душевному состоянию, к каждому возрасту. А так, если еще вычесть усвоенные Церковью молитвы некоторых святых, которые все, в общем, суть прошения о помощи и прощении, призывания к милосердию, жалобы, то останутся те, что вышли из холодных и плоских молелен XVII столетия или, еще того хуже, изобретены в наше время мелочными торговцами благочестия, что всучивают прихожанам побрякушки с улицы Бонапарта; всех этих лживых и самодовольных обращений к Богу должны бежать грешники, если желают, не имея прочих достоинств, быть хотя бы искренними!
И только этот необычайный мальчик, быть может, способен без лицемерия так нести Господа, вернулся он к прежним мыслям, глядя на маленького министранта и впервые на самом деле понимая, что такое невинное детство, безгрешная, белоснежная маленькая душа. Церковь ищет для предстояния алтарю совершенно непорочных, совершенно чистых существ, и вот наконец ей удалось тут, в Шартре, формировать души, превращать обыкновенных мальчишек, едва они попадают в храм, в изящных ангелочков. И действительно, наряду с особенным воспитанием необходима благодать, особая воля Матери Божией, чтобы вырастить этих ребят, предназначенных служить ей, чтобы они стали непохожими на других, чтобы в конце XIX века они вернулись к пламенному целомудрию, к первоначальной ревностности Средних веков.
Служба продолжалась медленно, поглотившись приземленным молчанием присутствующих. Мальчик, еще более напряженный и настороженный, чем прежде, позвонил, и словно сноп искр брызнул под дымовыми клубами свода; и за коленопреклоненным министрантом, одной рукой державшим ризу священника, склонившегося над алтарем, тишина стала еще глубже; и гостия вознеслась под серебристые вспышки звонков; а потом над склоненными головами под ясный перезвон колокольчиков явился серебряный тюльпан чаши; торопливо прозвучал последний звонок, алый цветок опустился, а павшие ниц тела поднялись.
Дюрталь смутно размышлял:
О если бы Тот, Кому мы отказали в приюте, когда рожала Мать, носившая Его, теперь находил теплый прием в наших душах! Но, увы, кроме этих монахинь, этих детей, этих пастырей, кроме этих крестьянок, поистине возлюбивших Его, сколько же есть подобных мне, кого смущает Его приход, кто, во всяком случае, не способен приуготовить Ему то жилище, которого Он ожидает, принять его в чистой горнице, в убранной храмине?
Подумать только: ничего не меняется, все повторяется снова и снова! Наши души все те же лукавые синагоги, предавшие Его, и мерзкий Каиафа, живущий в нас, грозно вопит каждый миг, когда мы желали бы смириться и полюбить Его, молясь Ему! Боже мой, Боже мой, не лучше ли мне отойти, нежели влачиться так непотребно перед Тобой? Ведь сколько бы ни твердил мне батюшка, что надо причащаться, он не во мне живет, отец Жеврезен, нет, не во мне; он не ведает, что бродит в этих трущобах, что волнуется в этих развалинах! Он воображает, будто это просто вялость, леность; если бы! там сухость, бесплодие, холодность, которые даже не без раздражения, не без бунта противятся тому, что он велит мне.
Миг причащения приближался; мальчик осторожно откинул покров на другую сторону стола, и монашки, бедные женщины, крестьяне — весь смиренный народ двинулся к нему, опустив головы и сложив крестообразно руки; а мальчик взял факел и пошел перед священником, также смежив веки, чтобы не взирать на Тело Христово.
Дюрталь увидел в этом малыше такой подъем любви и благоговения, что раскрыл рот от удивления и простонал от страха. Он ничего не мог объяснить, но во тьме, спустившейся в нем, в смутных желаньях, в волнах ощущений, пробегающих через человека и не выразимых никакими словами, он испытал и порыв к Господу Иисусу и тут же отпрянул.
Ему властно явилось сравнение собственной его души с душой этого ребенка. Ему надо приобщаться Таинств, а не мне! — воскликнул он мысленно; и его существо рухнуло навзничь, прижав руки к груди; он не знал, на что решиться, моля и страшась; но тут его тихонько подтолкнули к столу, и он причастился. Он хотел прийти в себя, молиться, но в то же время, в тот же миг испытывал болезненные содрогания, зыбящие нутро, дающие телесное чувство нехватки воздуха — то странное чувство, когда голова кажется пустой, мозг не работает, вся жизнь хоронится в сердце, а сердце раздувается и душит вас, — а духовно, когда немного воспрянешь и оправишься, сможешь заглянуть в себя, кажется, что ты в жуткой тишине стоишь, склоненный над черной дырой.
Он с трудом встал на ноги и, пошатываясь, дошел до места. О нет, никогда, даже в Шартре, ему не удавалось избежать оцепенения, что охватывало его в момент причастия. То было истощение всех сил, остановка всех душевных способностей…
В Париже в глубине свернувшейся, как куколка, души, оставалось сопротивление, стеснение подойти к Христу и принять Его, а еще изнеможенье, которое ничем не взбодрить. И все это застывало в каком-то холодном тумане или, лучше сказать, в пустоте вокруг тебя, в обмороке рухнувшей на ложе души, забывшей себя.
В Шартре эта фаза уничтоженности никуда не девалась, но рано или поздно тебя охватывала и согревала милостивая ласка; душа возвращалась домой не одна: ей помогала, видимо споспешествовала, оживляла ее Богородица, а в крипте это ощущение передавалось и телу; ты уже не задыхался от нехватки воздуха, а, напротив, облегченно вздыхал от полноты, от переполненности даже, постепенно испарявшейся и долго еще позволявшей вольно дышать.
И Дюрталь с облегчением уходил. В этот час, с рассветом, подземелье было уже светлее; коридорчики, в конце которых виднелись алтари около витражных окон, оставались темны, уж так они были расположены, однако в конце каждого довольно отчетливо виднелся золотой крест, то поднимавшийся, то опускавшийся вместе со священником, на спине у которого был он вышит, а по сторонам от него две бледные мерцающие звездочки над жертвенником; третья же, ниже и с более теплым огоньком, освещала миссал[11] и льняные покровы.
После этого Дюрталь пошел подумать в епископский сад, где ему дозволялось бродить, когда вздумается.
Сад был очень тихий; аллеи как на кладбище, газоны вытоптаны, почти убиты. Ни цветочка: собор убивал все вокруг себя. Его огромная пустынная абсида[12] без единой статуи возвышалась над садом, окруженная выводком разлетающихся аркбутанов, выступивших, подобно гигантским ребрам, под напором молений на бока храма; повсюду кругом она распространяла темноту и сырость; в этой мрачной ограде, где и деревья зеленели только поодаль от храма, виднелись еще два прудика, как два колодезных жерла, один до самого фисташкового бережка покрыт ледяными чешуйками, другой наполнен чернильно-черным настоем, в котором мариновались три красные рыбки.
Дюрталь любил это уединенное место, где пахло склепом и болотом, а еще отдавало диковатым запахом молодого кабанчика, который идет от земли, пропитавшейся листвяным перегноем.
Он бродил вдоль и поперек по этим аллеям, куда никогда не выходил епископ и только детишки из церковного хора бегали в часы досуга, вытаптывая остатки лужаек, уцелевших в соборной тени.
На каждом шагу под ногами трещали черепицы, сорванные бурями с крыш и упавшие на дорожки; их треск, перекликаясь, тревожил тишину парка.
Дюрталь подошел к террасе, нависавшей над городом, и облокотился на балюстраду из серого, сухого, пористого камня, похожего на пемзу, расцвеченного оранжевыми и бледно-желтыми лишайниками.
Под ним тянулась долина, вся полная крыш с дымящимися трубами, из-за которых верхняя часть города была вся покрыта синеватой дымкой. Ниже было неподвижно, безжизненно: дома спали беспробудно, даже редких вспышек света, какие бывают, когда открывают фрамугу, не было видно; ни одного красного пятнышка, которых столько бывает на улице в провинции, когда перкалевый пуховик вывесят на подоконнике; все закрыто, все бесцветно, все молчит — не слышно даже глухого пчелиного гула, который всегда стоит над населенным местом. Разве что прокатится вдалеке тележка, щелкнет бич, залает собака, а больше ни звука: город оцепенел, окрестности вымерли…
А на другом берегу, над долиной, еще немей и мрачней; сколько хватает глаз, расстилаются неулыбчивые равнины Боса под равнодушным небом, испорченным гнусной казармой, построенной прямо напротив собора.
Тоска луговин тянулась и тянулась — ни бугорка, ни деревца! Смотришь и понимаешь; за горизонтом она все так же бежит, все такая же плоская; только там к однообразию пейзажа еще добавляется резкое бушеванье ветров, завывающих бурей, выметающих склоны холмов, срезающих все верхушки, слетающихся к этому храму, что стоит на самой высоте и много столетий отражает усилья стихий. Чтобы выдрать его, нужно было, чтоб молния запалила его башни, но и соединенными усилиями ураганы и молнии не сумели убрать старый корень, после каждого разоренья вновь крепившийся в почве, вновь и вновь зеленевший все более сильными побегами!
В то утро, в Шартре, на рассвете дождливого дня, прохваченный ветром, Дюрталь почувствовал себя плохо и, подрагивая, сошел с террасы, укрылся в аллеях потише, а потом спустился и еще ниже, в другие сады, где от ветра худо-бедно укрывали густые кусты; сады беспорядочно рассыпались по склону; заросли шелковицы кошачьими когтями своих стеблей цеплялись за кустарники, все ниже и ниже спускавшиеся по холму.
Становилось понятно, что уже в стародавние времена епископы за безденежьем перестали заниматься садовыми культурами. Из всех старых огородов, заполоненных ежевикой, только один был кое-как расчищен; рассада шпината и моркови торчала там вперемежку с обындевевшими широкими вазами капусты.
Дюрталь уселся на бревно, остаток бывшей скамейки, и постарался заглянуть в самого себя, но и в душе тянулись босские равнины; казалось, этот монотонный холодный пейзаж отражался в нем, как в зеркале, вот только буря там больше не бушевала — дул упрямый сухой ветерок. Дюрталю было скверно, он мучил себя; никак не получалось увещевать себя спокойно: совесть теребила его, затевала брюзгливую перебранку.
Гордость! Как ее хотя бы приглушить, пока не получается свести совсем на нет? Она втирается в тебя так коварно, так лукаво, что, глядишь, уже всего повязала, а ты еще и не подозревал, что она тут; к тому же у меня несколько особый случай, который трудно лечится теми средствами, что обычно употребляет Церковь. Ведь у меня, думал он, не наивная, внешне выраженная гордость, не такое превозношение, что не сознает само себя, зато является всем вокруг; нет, мое тщеславие — это именно то, что простодушно назвали этим словом в Средние века, «тщетная слава», эссенция гордыни, растворенная в суетности, что испаряется внутри меня в мимолетных помыслах, в совершенно незаметных размышлениях. Поэтому мне не подходит средство для гордецов откровенных: следить за собой и стараться побольше молчать. Ведь и вправду, когда говоришь, сейчас и начнется благовидное самохвальство, прикровенное хвастовство; это еще как-то можно заметить, а тогда, если есть воля и терпенье, ты властен остановиться и заткнуть себе рот; но мой-то порок немой и подпольный; он не выходит наружу, я не вижу его и не слышу. Он течет и подползает потихоньку, а потом набрасывается прежде, чем я замечу, что он уже здесь!
Хорошо аббату говорить мне на это: хранитесь молитвой; оно бы лучше и желать нечего, только средство это неверное, сухосердие и развлечения не дают ему действовать.
Развлечения! Да тут и развлечений не надо; стоит мне стать на колени, просто попытаться сосредоточиться, как я тут же рассеиваюсь. Только подумаю, что сейчас буду молиться, и словно камень бросили в стоячую воду: все сейчас же забурлит и всплывет.
Нецерковные воображают, что помолиться ничего не стоит. Попробовали бы сами, тогда бы убедились, что суетные помыслы, которые в другое время их и не тревожат, внезапно, сами по себе, возникают во время молитвы!
Да что об этом рассуждать? Когда рассматриваешь старые грехи — будишь их. И он подумал о теплой шартрской крипте. О да, конечно, она, как и все строения романской эпохи, воплощает дух Ветхого Завета, но она не просто темна и печальна, а еще и обворожительна, и скромна, и до того благодушна, до того приятна! И если даже согласиться, что это образ Пятикнижия в камне, то не так же ли великие молитвенницы в Писании прообразуют Божию Матерь? Быть может, на ее каменных страницах записаны прежде всего библейские страницы, посвященные славным женам, которые, так сказать, пророчески воплощали новую Еву?
Если так, то крипта воспроизводит самые утешительные, самые героические страницы Библии, ибо в этом Божьем подземелье надо всем властвует Богородица: дерзну сказать, что он принадлежит не гневному Адонаи, а Ей.
Притом это совсем особая Богородица, неизбежно сохранившая связь с окружающей Ее средой: черная, приземистая, шероховатая, как и заключающая Ее рака из песчаника.
И тогда Она, конечно, связана с той же идеей, которая и Христу велела быть черным и некрасивым, ибо Он взял на Себя грехи мира: таков был Христос первых веков Церкви, смирения ради принявшей самые низкие обличья. В таком случае Мать выносила Сына по подобию Своему: и Она из смирения, из благости пожелала родиться некрасивой и незнатной, чтобы лучше утешать обездоленных, чей образ приняла Она.
Дюрталь думал дальше: много ли найдется таких часовен, где много веков подряд бывали коронованные особы? Филипп Август и Изабелла Геннегауская, Бланка Кастильская и Святой Людовик, Филипп Валуа, Иоанн Добрый, Карл V, Карл VI, Карл VII, Карл VIII и Анна Бретонская, а затем Франциск I, Генрих III и Луиза де Водемон, Екатерина Медичи, Генрих IV, короновавшийся в этом соборе, Анна Австрийская, Людовик XIV, Мария Лещинская… и многие, многие другие… и вся французская знать, и Фердинанд Испанский, и Лев Лузиньян, последний армянский царь, и Петр Куртене, император Константинополя… все они коленопреклоненно, как нынешние бедняки, возносили мольбы Божьей Матери Подземной.
Что еще интересней — Пресвятая Дева в этом месте совершила много чудес. Она спасла детей, упавших в колодец Святых Крепких, хранила от гибели людей, сберегавших Ее священное одеяние, когда у них над головой пылал собор, в Средние века исцеляла толпы, обезумевшие от спорыньи, не скупясь, расточала милости.
Теперь времена сильно изменились, но жаждущая паства, распростертая перед статуей, вновь связала расторгнутые временем узы, уловила, так сказать, Царицу Небесную в сети своих молитв, и Она поселилась в Шартре, а не бежала, как из других мест.
В неисповедимой милости своей Она вытерпела оскорбление декадными праздниками, поношение, когда на Ее алтаре водрузили богиню Разума, перенесла кощунственную литургию непристойных песенок, возносившуюся в зловонном каждении порохового дыма. Она, должно быть, простила это ради той любви, что показали Ей поколения былых времен, ради несмелого, истинного поклонения малых сих, которые после смуты вновь пришли к Ней.
Подземелье было полно воспоминаний. Налет на этих стенах, конечно, образован не столько свечной копотью, сколько испарениями душ, эманациями скорбей и исполненных надежд; и что за глупость расписывать эту крипту пошлыми пародиями на живопись катакомб, марать славную тень этих камней красками, которые все равно исчезают, оставляя на святой саже сводов только следы, оскребки с палитры!
Выходя из сада, Дюрталь как раз обдумывал эти мысли, как встретил аббата Жеврезена, гулявшего, читая бревиарий. Аббат осведомился, причащался ли он.
Поняв, что духовный сын никак не избавится от стыда за свою косность, за болезненное отупление, в которое погружал его страх перед таинством, старый священник сказал:
— Об этом вам нечего заботиться; молитесь только как умеете, а прочее мое дело; пусть не слишком блестящее состояние души удерживает вас хотя бы в смирении, а больше вас ни о чем не прошу.
— Какое смирение! Да я похож на горгулью[13]: как у нее через все поры выходит вода, так у меня тщеславие!
— Это ничего, раз я вижу, что вы сами это замечаете, — улыбнулся в ответ аббат. — Хуже было бы, если бы вы этого не знали: имели бы гордыню, но не сознавались в этом.
— Но что же, наконец, мне делать? Вы советуете мне молиться, но тогда научите, каким образом не распыляться всеми моими чувствами; ведь едва я хочу собраться, как тотчас распадаюсь; так в постоянном распаде и живу; это очевидный факт: как только соберусь закрыть клетку своих мыслей, они из нее разлетаются и щебечут так, что ничего не слышно.
Аббат подумал.
— Знаю, — произнес он, — нет ничего труднее, чем освободить ум от преследующих его образов, но сконцентрироваться все же можно, соблюдая три следующих правила.
Прежде всего, надо смириться, размышляя о бренности своего разумения, которое не может не рассеяться перед Богом; затем, не следует сердиться на себя и беспокоиться: так вы только взболтаете отстой, а с ним на поверхность поднимутся прочие развлечения; наконец, пока не окончена молитва, не должно разбираться в природе смущающего ее рассеяния. Так вы только его продлеваете и, в какой-то мере, принимаете, да еще, в силу закона ассоциации идей, рискуете вызвать новые помыслы, так что никогда из этого не выберетесь.
Исследовать причину полезно будет позже. Поступайте по этому способу, и все будет хорошо.
Все это прекрасно, думал Дюрталь, но применить его советы на практике — совсем другое дело! Похоже на какой-то простонародный рецепт, на благочестивый декокт: то ли поможет, то ли нет?
Они шли молча и через двор епископского дома дошли до квартиры аббата. Внизу у подъезда стояла г-жа Бавуаль, засунув обе руки в бак со стиркой.
Не переставая тереть белье, она пристально посмотрела на Дюрталя и сказала, словно прочла его мысли:
— А почему, друг наш, такой похоронный вид, вы же ведь утром причащались?
— А вы знаете, что я причащался?
— Да я ведь во время мессы заходила в крипту и видела, как вы подходили к святой трапезе. Так вот что я вам скажу: не умеете вы разговаривать с нашей Матушкой!
— Ох!
— Да-да, Она уж и не знает, как вам сделать лучше, а вы все стесняетесь; жметесь к стенке, а надо идти к Ней прямо главным проходом. А иначе к Ней и не подойдешь!
— А если нечего Ей сказать?
— Тогда надо лепетать, как младенец; это лучше всяких слов, и Она будет довольна! Ну как же вы, мужчины, не умеете ухаживать, почему у вас никогда не найдется ни ласковых слов, ни хорошего лукавства? Ничего-то вы от себя не можете придумать, так послушайте, что другие говорят. Вот как писала преподобная Жанна де Матель:
«Пресвятая Дева, бездна тьмы и беззакония призывает бездну силы и света, чтобы сказать о Твоей пречестной славе». Не правда ли, недурно сказано? Так попробуйте, скажите это Божьей Матери, и Она разрешит вас, а там уже молитвы сами придут на ум. С Ней можно пускаться на хитрости, и нужно иметь смирение, не превозноситься, думая, что сможете без этого обойтись!
Дюрталь не удержался от смеха.
— Вы из меня хотите сделать какого-то духовного ловчилу, проныру!
— Так что ж за беда? Разве Господь Бог видит в этом зло? Или Он не смотрит на намерение? Да вы сами разве оттолкнете того, кто вам скажет комплимент, хоть и неловкий, только от одной мысли, что он этим хочет вам понравиться?
— Вот еще что, госпожа Бавуаль, — вставил аббат, слушавший их со смехом. — Утром я видел преосвященного; он удовлетворил вашу просьбу и благословил вас делать грядки в саду там, где заблагорассудится.
— О! — сказала она и обратилась к Дюрталю, смеясь над его удивлением: — Ну а как же: вы могли сами видеть, что, кроме одного клочка земли, где садовник сажает морковку и капусту к столу монсиньора, весь сад совсем не возделан; добро пропадает без всякой пользы. Теперь его преосвященство благословил меня копать его угодья, так я и буду сама выращивать овощи, чем покупать на рынке; я и вашу экономку к этому делу приставлю.
— А вы умеете огородничать?
— Я-то? Да я же природная крестьянка! Я всю молодость прожила в огороде да в поле, это самое мое дело! А если будет какая трудность, так с неба друзья непременно придут мне помочь!
— Необычайный вы человек, госпожа Бавуаль, — ответил Дюрталь. Что ни говори, а его озадачили слова кухарки, которая вот так запросто болтала с силами небесными.
V
Дождь лил без передышки. Дюрталь питался под усердным надзором своей кухарки г-жи Мезюра. Она была из тех женщин, что могут переодеться в мужское платье, и никто не заметит: так они высоки и во всем похожи на мужчин. У нее был грушевидный череп, морщинистые вислые щеки, огромный крючковатый нос почти до самой нижней губы, оттопыренной, словно полочка, и дававшей всему лицу вид брезгливо-упрямый, хотя на самом деле она такой совсем не была. В общем, г-жа Мезюра нелепым образом напоминала какого-то гордого и смешного Мальбрука, переодетого горничной.
Она готовила всегда одно и то же мясо в одном и том же незнатном соусе и, поставив блюдо на стол, вставала рядом на пост, осведомляясь, вкусно ли получилось.
Она была властной и преданной, вынести ее не было сил. Дюрталь весь горбился, изо всех сил удерживался, чтобы не послать ее грубо на кухню, наконец, зарывался в книгу, чтоб только не видеть ее и не отвечать ей.
В тот день, утомившись молчанием, г-жа Мезюра отдернула занавеску и тихонько проговорила, чтобы сказать хоть что-нибудь:
— Господи, ведь бывает же такая погодка!
И в самом деле небо исходило горючими слезами без надежды утешиться. Потоки дождя изливались непрерывно; нити его полоскались на ветру. Собор, весь в тумане, вставал из озера грязи, по которому хлестали и барабанили с отскоком шустрые капли; оба шпиля на вид казались совсем близко друг к другу, почти сливались, сшитые редкими нитями воды. Все время казалось, что и воздух какой-то заплатанный, желтенький; что небо и земля скреплены большими стежками, как платье перед первой примеркой, но стежки эти совсем не держат: нитки то и дело рвались порывами ветра и разлетались во все стороны.
Решительно, наш осмотр собора с аббатом Пломом срывается, подумал Дюрталь, да и аббат в такую пору никуда не пойдет.
Он был у себя в кабинете; обыкновенно он закрывался один именно в этой комнате. Там он поставил диван, прочий старый скарб, привезенный из Парижа, развесил картины, а на стеллажах у стен разместились несколько тысяч книг. Он жил там, напротив соборных башен, слыша только крики ворон да башенные часы, с расстановкой отбивавшие время в тишине пустынной площади. Там же, у окна, стоял и его письменный стол; там Дюрталь молился, мечтал, делал выписки.
Баланс, который он мог подвести на счет себя самого, сводился к внутреннему раздору и непокою; душа была пришиблена и бестолкова, ум же все так же страдал и все так же изнемогал. С тех пор как Дюрталь жил в Шартре, рассудок словно притупился. Жизнеописания святых, которые он планировал составить, покоились в виде набросков и улетучивались, как только он пытался закрепить их. В общем-то, он теперь интересовался одним собором; собор преследовал его неотступно.
Да и то сказать, жития святых в том виде, как их записали старые болландисты{10}, были способны вовсе отвратить от святости. Этот книжный обоз, собиравшийся то одним, то другим издателем, то в Париже, то в провинции, тащил сначала один тяжеловоз, отец Жири, потом к нему в помощь пристегнули еще аббата Герена; впрягшись в один хомут, они вдвоем тянули тяжеленный воз по разбитой дороге душ нашего времени.
Стоило взять наугад с тележки тяжелой прозы хоть что-нибудь, и сразу наткнешься на фразу такого стандарта: «Имярек родился от родителей, славных не менее родом, нежели благочестием», — или наоборот: «Родители его не были славны родом, однако блистали всеми возможными добродетелями, каковой блеск был ему много предпочтительнее». А далее начинались такие зубодробительно кутейнические обороты:
«Историк его нимало не затруднится сказать, что можно было бы принять его за ангела, когда бы недуги, его посещавшие, не напоминали, что он человек». «Бес, не могучи потерпеть, что он поспешно шагал по пути совершенства, использовал многоразличные способы, дабы остановить его благополучное следование по сему направлению». Перевернешь еще пару страниц, и прочтешь в истории некоего избранника, оплакавшего свою мать, такую высокопарную перифразу в оправдание его слабости: «Отдав справедливым требованиям натуры все, чего не запрещает боголюбие в подобном случае…»
Такие смешные напыщенные выражения там повсюду: вот, например, в житии Сезара де Бюс{11}: «После пребывания в Париже, каковой есть в той же мере престол порока, что и столица государства»… — и так в двенадцати, в пятнадцати томах все тем же вычурным языком, и все для того, чтобы выстроилась шеренга единообразных добродетелей, казарма глупейшего благочестия. Временами упряжные вдруг оживлялись и начинали скакать повеселей — должно быть, тогда, когда упоминали умилявшие их детали; они согласно восхваляли набожность Екатерины Шведской{12} или Роберта из Каза-Деи, которые, едва родившись, требовали себе непорочных кормилиц, желая сосать исключительно набожные сосцы, или восхищались сведениями о целомудрии Иоанна Молчальника{13}, никогда не мывшегося в бане, чтобы не смущать, как сказано в тексте, «своих стыдливых очей», и Людовика Гонзаго, который так боялся женщин, что из страха дурных помыслов не смел взглянуть на собственную мать{14}!
Обессилев от всей этой пошлой дребедени, Дюрталь хватал жития блаженных жен, не столь известные, но и там все та же солянка из общих мест, месиво стилей, елейный клейстер! Поистине прокляты Богом были эти старые церковные перечницы, так и не научившиеся держать в руках перо. Их чернила тотчас превращались в замазку, в битум, в пек, все заливавший и склеивавший. О бедные отцы пустынники, о злосчастные жены непорочны!
Его размышления прервал звонок в дверь. Неужели это аббат Плом пришел, невзирая на ливень?
Точно так: г-жа Мезюра ввела молодого священника.
— Ничего, — сказал он Дюрталю, пожаловавшемуся на дождь, — скоро уже прояснится; так или иначе, встреча наша не отменялась, и я постарался не заставлять вас ждать.
Они стали беседовать у камелька; квартира аббату явно понравилась: он устроился непринужденно, развалился в кресле, засунув руки за пояс. Спросил Дюрталя, не скучно ли ему в Шартре, а когда тот ответил: «Здесь я живу неторопливее, но все-таки не так противен себе», — аббат сказал:
— Важней всего для вас должно быть отсутствие умственного общения; в Париже вы жили в литературном мире, как же теперь вам удается терпеть провинциальную дремоту?
Дюрталь рассмеялся:
— В литературном мире! Нет, господин аббат, вот уж об этом я никак не могу жалеть, потому что оставил его за много лет до того, как переехал сюда; к тому же, знаете ли, ходить по литературным притонам и не замараться — невозможно. Тут уж надо выбирать: или с писателями, или с порядочными людьми; ведь они, как никто, удалят вас от любых человеколюбивых понятий, а прежде всего, не успеете глазом моргнуть, исцелят от дружеских чувств.
— Неужели?
— Да-да, причем подражая гомеопатической аптеке, где используется всякая гадость: кровь пиявок, змеиный яд, выделения хорька, гной из оспин; все это разводится в молоке и сахаре для приличного вида и запаха; так и литературный мир изготовляет растворы самых низменных предметов, чтобы их можно было проглотить без тошноты; там только и занятий, что местечковые свары да бабьи пересуды, но все это вкладывается в пилюлю хорошего тона, чтобы замаскировать их вкус и запах.
И когда достаточно наглотаешься этих навозных скрупул, они действуют на душу как слабительное, очень скоро изгоняя из нее всякую доверчивость; я довольно испытал эту методу, она даже чересчур хорошо подействовала, и я счел за благо больше так не лечиться.
— Однако, — улыбнулся аббат, — в церковной среде тоже не без сплетен.
— О да, я знаю, набожность не всегда освежает ум, но все-таки…
Дюрталь подумал и продолжал:
— Дело в том, что усердное исполнение церковных обязанностей всегда оказывает на душу глубокое влияние. Только влияние это бывает двух сортов. Либо религия ускоряет болезненное гниение и вырабатывает в душе ферменты, от которых она окончательно протухает, либо очищает ее, делая безупречной: свежей и прозрачной. Она образует либо ханжей, либо прямых, святых людей, а середины, в общем-то, не бывает.
Но когда божественная культура полностью преображает душу, до чего же она становится ясна и чиста! Я даже не говорю об избранных, о таких, что я видал в обители траппистов, а просто о юношах-послушниках и мальчиках-семинаристах, которых мне случалось знать. Глаза их были словно окна, не замутненные никаким грехом, а заглянув туда поближе и поглубже, можно было разглядеть их открытую душу, пылающую в бушующем пламенном венце, белым огненным нимбом окружающем улыбающийся Лик!
Словом, внутри них все место занято Иисусом Христом. Эти малыши — не кажется ли вам, сударь? — живут в своем теле как раз настолько, чтобы пострадать и искупить грехи других? Сами о том не догадываясь, они были созданы добрыми прибежищами Господу, постоялыми дворами, где Христос отдыхает после тщетных странствий по заснеженным степям прочих душ.
— Это верно, — сказал аббат, сняв очки и протирая их, — однако сколько покаяния, сколько постов и молитв требовалось от поколений, породивших подобных людей, чтобы получились души такого качества? Те, о ком вы упомянули, — цвет на стебле, долго питавшемся почвой Церкви. Разумеется, Дух дышит, где хочет, и может из семьи безразличных вывести на свет святого, но такой образ действий проявляется лишь как исключение. У знакомых вам послушников несомненно были матери и бабушки, часто велевшие им становиться на колени и молиться вместе с ними.
— Не знаю точно… мне неизвестно, как росли эти юноши… но чувствую, что вы совершенно правы. Ведь и в самом деле дети, что с малых лет без поспешности взращивались укрытые от мира, в сени такого святилища, как в Шартре, должны давать исключительную поросль!
Дюрталь рассказал аббату, какое впечатление на него произвел на днях ангелоподобный прислужник на мессе, и тот улыбнулся:
— Наши дети, конечно, не исключительные, но таких, во всяком случае, немного; здесь их школит Сама Богородица; и заметьте: тот, кого вы видели министрантом, не прилежней и не озабоченней прочих; они все такие: с одиннадцати лет их приставляют к богослужению, и, постоянно с ним соприкасаясь, они вполне естественно приучаются жить духовной жизнью.
— Но как же организовано их воспитание?
— Благотворительное учреждение Клириков Божией Матери было основано в 1853 году — вернее, возобновлено, потому что в Средние века оно уже существовало, — аббатом Ишаром. Он имел целью увеличить численность духовенства, а для того дал возможность бедным мальчишкам поступить в школу. Туда принимают всех смышленых и благочестивых детей, в какой бы стране они ни родились, если у них можно заподозрить призвание к монашеству. До третьего класса они растут в церковном хоре, а потом их, уже более зрелыми, собирают в семинарии.
На какие средства это все? По человеческим понятиям, средств нет; в сущности, чтобы удовлетворить нужды восьмидесяти воспитанников, у нас есть только вознаграждение за разные обязанности, исполняемые этими мальчиками при соборе, плюс к этому доход от ежемесячного журнальчика под названием «Голос Пресвятой Богородицы» и, наконец и более всего, подаяния прихожан. Все это не Бог весть какая сумма, но до сих пор денег хватало всегда!
Аббат встал и подошел к окну.
— Нет, дождик так и не пройдет, — сказал Дюрталь. — Очень боюсь, господин аббат, что сегодня нам с вами не удастся посмотреть соборные порталы.
— А торопиться некуда; может быть, прежде чем разглядывать храм во всех подробностях, лучше оглядеть его в целом, проникнуть в общий смысл, а уж потом перебирать детали?
В этом здании, — продолжал он, обведя собор широким жестом, — в этом здании в общих чертах подытожено все: Писание, богословие, история человеческого рода; благодаря науке символов, из груды камней стало возможным воссоздать макрокосм.
Да, повторяю: в сем корабле содержится все, даже наша физическая и нравственная жизнь, наши добродетели и пороки. Зодчий берет нас, начиная с появления на свет Адама, и ведет до конца времен. Храм Шартрской Богоматери — самый колоссальный из существовавших реперториев неба и земли, божественного и человеческого.
Всякое изображение в нем — слово, всякая группа — фраза; непросто только прочитать их.
— Но возможно?
— Конечно. В наших версиях бывают некоторые разногласия, охотно соглашусь, но в конечном счете этот палимпсест[14] поддается расшифровке; ключ к нему — знание символов.
Аббат убедился, что Дюрталь внимательно его слушает, сел обратно в кресло и сказал:
— Что такое символ? По словарю Литтре, это «фигура или образ, употребляемый как знак иной вещи». Мы, католики, даем более точное определение, указывая, вслед за Гуго Сен-Викторским{15}, что «символ есть аллегорическое представление предмета христианского учения в чувственной форме».
Но символика существует от начала века. Все религии пользовались ею, она выросла в первой главе книги Бытия вместе с древом добра и зла и пышным цветом цветет в последней главе Апокалипсиса.
Ветхий Завет прообразовательно выражает события, о которых повествует Новый; Моисеева религия аллегорически содержит в себе то, что христианская показала нам в действительности; история народа Божьего, его деятели, обстоятельства, события, даже второстепенные детали, которыми она окружена, — это собрание образов; все происходило с евреями как образы, сказал апостол Павел[15]. Господь наш не преминул несколько раз напомнить об этом ученикам Своим и Сам, обращаясь к народу, почти всегда прибегал к притчам, то есть к одному из способов указывать на одну вещь, чтобы ею обозначить другую.
Итак, символика происходит из божественного источника; теперь же скажем еще, что с человеческой точки зрения эта форма отвечает одной из самых бесспорных потребностей человеческого разума, который испытывает некоторое удовольствие, давая доказательство сообразительности, разгадывая предложенную загадку и запечатлевая разгадку в зримой формуле, в долговечных очертаниях. Блаженный Августин об этом прямо сказал: «вещь, обозначенная аллегорией, несомненно более выразительна, более приятна, более многозначительна, чем та, которую обозначают специальными терминами».
— Так же полагал и Малларме; такое совпадение поэта со святым в аналогичной и притом совершенно различной материи по меньшей мере любопытно, — подумал Дюрталь.
— Кроме того, — продолжал аббат, — люди во все времена использовали неодушевленные предметы, животных и растения, чтобы представить душу и ее атрибуты, ее радости и скорби, достоинства и пороки; мысль материализовали, чтобы лучше ее зафиксировать, сделать не столь мимолетной, чтобы она стала ближе к нам, зримой, едва ли не осязаемой.
Отсюда эмблемы жестокости и хитрости, добродушия и милосердия, воплощенные в тех или иных животных, олицетворенные теми или иными растениями, отсюда духовные смыслы, приписанные самоцветам и краскам. Еще скажем, что во времена гонений, в первые века христианства, этот тайный язык позволял посвященным общаться, передавать друг другу опознавательные знаки, пароли единства, непонятные для врагов; отсюда изображения, обнаруженные в катакомбах: агнец, пеликан, лев, пастырь, обозначавшие Сына; рыба — Ichtys, слово, буквы которого по-гречески служат аббревиатурой фразы «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель», но вместе с тем, напротив, применяется к верующему, к стяженной душе, выловленной в море язычества Спасителем, сказавшим двум из Своих апостолов, что они будут ловцами человеков.
Эпоха, в которую мы жили ближе всего к Богу, — Средние века — не могла не следовать традиции, открытой Господом Иисусом и не выражаться на языке символов, особенно когда надлежало говорить о Духе, о Сущности, о том неисповедимом и не имеющем имени Существе, которое есть наш Бог. В то же время Средневековье нашло здесь и практический способ быть понятным. Оно писало книгу, доступную для непонятливых, заменяло текст изображением и так учило невежд. Собственно, эту самую мысль высказал собор в Аррасе 1025 года: «То, чего неграмотные не могут понять из Писания, да будет им преподаваемо живописанием».
Одним словом, Средневековье переводило на язык изваянных или рисованных линий Библию, богословие, жития святых, апокрифические евангелия, легенды; оно делало их общедоступными, пересоздавало их в знаках остававшимися как бы непреходящей сердцевиной, концентрированным экстрактом его чтений.
— Итак, оно преподавало взрослым детям катехизис каменным языком своих порталов! — воскликнул Дюрталь.
— Да, именно так. А теперь, — продолжил аббат, помолчав, — прежде чем прямо приступить к символизму в архитектуре, нам надобно принять за основу положение, что Сам Господь положил ему начало, когда, во второй главе Евангелия от Иоанна, заявил, говоря о Иерусалимском храме, что, если иудеи разрушат его, Он в три дня воздвигнет его вновь, этим иносказанием имея в виду не что иное, как Свое тело.
Так Он показал грядущим поколениям, какую форму должны иметь храмы после крестной казни.
Этим объясняется крестообразное расположение наших нефов, но внутренность церквей мы рассмотрим позже; пока поглядим, какой смысл имели наружные части собора.
Башни, колокольни, по теории Дуранда, епископа Мендского, жившего в XIII веке, считались как бы проповедниками и прелатами, а их вершины суть анагогия совершенства, которого стремятся достичь восхождением души этих людей. Согласно другим символистам: псевдо-Мелитону, епископу Сардскому, и кардиналу Петру Капуанскому, — башни представляют собой либо Деву Марию, либо Церковь, бдящую о спасении паствы.
Одно несомненно, — продолжал аббат. — В Средние века место колоколен не было установлено раз навсегда, значит, в зависимости от местоположения они могли получать разные толкования. Но самая тонкая, хитроумная, самая изящная идея — та, что была, к примеру, у зодчих Сен-Маклу в Руане, Нотр-Дам в Дижоне, собора в Лане, собора в Антверпене: они возвели башню над трансептом базилики, то есть в том месте, где в нефе покоится грудь Христова, причем свод еще наращен фонарем и часто завершается снаружи длинным тонким гребнем, выходящим, так сказать, из самого сердца Христа и возносящимся к Отцу, стремящимся острой стрелкой к небу, словно выпущенный аркой кровли.
Вместе со зданиями, увенчанными ими, они почти всегда стояли на господствующей над городом высоте и разбрасывали кругом, как семена на пажить душ, благовонные звуки своих колоколов, четками перезвонов, воздушной проповедью напоминая христианам, какие молитвы им надлежит читать, какие обязанности исполнить, а при нужде восполняли перед Богом человеческое безразличие: колокола свидетельствовали, что хоть они-то Его не забыли, простертыми руками башен и своими медными языками молили его, замещая, как могли, моления человеческие, хотя бы те и больше имели силы!
— Корабельный изгиб этого собора, — задумчиво проговорил Дюрталь, подойдя к окну, — приводит мне на память недвижно стоящее судно: шпили — его мачты, а паруса — облака, которые ветер в иной день распускает, в другой убирает; он навеки пребывает образом ладьи святого Петра, которую Христос вел в бурю!
— А также Ноева ковчега — ковчега, вне которого нет спасения, — добавил аббат.
Теперь взгляните на церковь во всех подробностях. Ее кровля — символ милости, покрывающей множество грехов; черепицы на ней — воины и всадники, защищающие святыню от неверных, карикатурно представленных грозами; сложенные вместе камни, согласно святому Нилу, выражают союз верных душ, а по рационалию Дуранда Мендского скопище верующих, причем самые крепкие камни являют собой наиболее продвинутые по пути совершенства, не дающие более слабым братьям, представленным малыми камнями, отторгнуться из стены и упасть; но для Гуго Сен-Викторского, монаха обители того же имени, жившего в XII веке, такое смешение означает просто совокупность мирян и клириков.
С другой стороны, булыжники неравного размера скреплены раствором, значение которого указывает Дуранд Мендский. Раствор, пишет он, составлен из извести, песка и воды; известь — это пламенная любовь, а посредством воды, то есть разума, она сочетается с песком, с делам земными.
Сложенные таким образом камни образуют четыре больших стены собора — четырех евангелистов, как утверждает Пруденций из Труа; согласно другим литургистам, они запечатлевают в камне четыре основные церковные добродетели: Справедливость, Мужество, Благоразумие и Умеренность, представленные также четырьмя стенами Града Божьего в Апокалипсисе.
Как видите, каждый предмет может быть взят в разном применении, но всегда возникает одна общая идея.
— А окна? — спросил Дюрталь.
— Как раз хотел об этом сказать: они суть эмблема наших чувств, которые должны быть закрыты для суеты мира сего и открыты дарам небесным; кроме того, в окнах есть стекла, пропускающие лучи Солнца истинного — Бога; однако дом Виллет изъяснил этот символ понятнее.
Стекла, пишет он, суть книги Писания, приемлющие солнечный свет и отражающие ветер, снег и холодный дождь, подобие лжеучений и ересей.
Что касается контрфорсов[16], они служат подражанием крепости духа, хранящей нас от искушений; они же суть надежда, животворящая и утешающая душу; иные видят в них образ земных властей, призванных поддерживать Церковь, а некоторые, обращая внимание прежде всего на аркбутаны, своим полетом спорящие со сводами, утверждают, что их очертания — руки погибающих, в опасности схватившиеся за спасительный ковчег.
Наконец, перед главным входом, перед почетным порталом некоторых храмов, таких, как Везеле, Паре-ле-Моньяль, Сен-Жермен Осеррский в Париже, строилось крытое преддверие, нередко довольно протяженное и нарочито неосвещенное, называвшееся нартекс[17]. Прежде под этой кровлей находился баптистерий[18], место ожидания и прощения, образ чистилища; это прихожая Царства Небесного, в котором пребывали кающиеся и новообращенные, ожидая, когда их допустят во святилище.
Таковы вкратце аллегории частей храма; если же мы вернемся теперь к целому, то заметим, что храм стоит на крипте — изображению жизни молитвенной, а также гроба, в котором был похоронен Христос, а середина заалтарного обхода должна указывать на место, где восходит солнце в равноденствие, чтобы свидетельствовать, говорит епископ Мендский, что Церкви надлежит поступать с умеренностью как в победах своих, так и в невзгодах; абсиду подобает направлять на восток, чтобы молящиеся во время службы обращали взор на колыбель нашей веры; это правило было непременным и столь угодным Богу, что Он пожелал утвердить его с помощью чуда. Болландисты сообщают, что, когда святой Дунстан, епископ Кентерберийский{16}, увидел церковь, построенную иначе, он одним движением плеча поставил ее на должное место, развернув к востоку.
Далее, как правило, у церкви три портала в честь Пресвятой Троицы; портал главного, центрального портала, именуемый Царским, разделен надвое простенком, столбом, на котором покоится статуя Господа, сказавшего о Себе в Евангелии: «Аз есмь дверь», или Богоматери, если храм ей посвящен, или даже святого, во имя которого освящена церковь. Этим разделением портик указывает на два пути, между которыми человек волен выбирать.
Кроме того, в большинстве соборов этот символ дополняется изображением Страшного суда, помещаемым над наличником.
Таковы порталы в Париже, в Амьене, в Бурже. Но в Шартре, как и в Реймсе, взвешивание душ перенесено на тимпан[19] северного портала; впрочем, та же тема развернута в розетке Царского портала, вопреки принятой в Средние века системе повторять в витражах сюжеты портиков, над которыми они находятся, что позволяло давать на одной стене одни и те же аллегории: внутри, в расписном стекле, и снаружи, в камне.
— Прекрасно, но как же при помощи троического принципа, применяемого почти повсюду, объяснить странность собора в Бурже, где не три нефа и не три портала, а пять?
— Очень просто: никак. В крайнем случае можно было бы предположить, что неведомый зодчий буржского собора хотел этим числом напомнить о пяти язвах Господних, но тогда следовало бы объяснить, почему он расположил Христовы язвы на одной линии: ведь у этого храма нет трансепта, то есть нет перекладины, по краям которой, как обычно, можно было бы обозначить прободения на руках.
— А как же антверпенский собор, где прибавлены еще два нефа?
— Эти семь проходов, несомненно, означают семь даров Святого Духа. Но раз уж мы заговорили о числах, придется мне рассказать вам о нумерологическом богословии — особой составляющей, также включаемой в разнообразнейшую тематику символизма, — заметил аббат. — Аллегорическая наука о числах существовала издавна. Ее разъясняли святые Исидор Севильский и Августин{17}. Мишле, всегда терявший рассудок при виде собора{18}, ставил в укор средневековым зодчим их веру в значение цифр. Он обвинял их, что в расположении некоторых частей здания они следовали мистическим правилам: например, ограничивали количество окон или ставили столбы и дверные проемы согласно арифметическим комбинациям. Он не понимал, что смысл есть у каждой детали базилики, что все они символы, и не мог представить себе, насколько важен для этих символов счет: ведь он мог изменить их значение, иногда сделать его совершенно другим. Например, один столб не обязательно обозначал апостолов, но если столбов двенадцать, они получает именно то значение, которое давал им строитель: указывают число апостолов Христовых.
Правда, иногда, чтобы ошибки быть вовсе не могло, вместе с задачей давали и ее решение. Такова старая церковь в Этампе, где я на каждой из двенадцати романских лопаток в форме греческого креста прочел имя одного из апостолов.
В Шартре и более того: у всех столпов нефа стояли статуи двенадцати апостолов, но в революцию эти статуи возмущали чернь и их все разбили.
В общем, внимательно изучая систему эмблем, мы не можем не исследовать явления чисел; невозможно раскрыть секреты храмов, не принимая во внимание, что таинственная сущность единицы — единство и Сам Бог, что двойка указывает на две природы Сына, два Завета, а кроме того, по Блаженному Августину, выражает любовь, а по Григорию Великому — двойную заповедь любви к Богу и к ближнему; тройка — число божественных ипостасей и богословских добродетелей; четверка олицетворяет главные добродетели, четырех великих пророков и Евангелия; пятерка — число ран Христа и наших чувств, прегрешения которых Он искупил равным количеством язв; шестерка напоминает о времени сотворения мира Богом, определяет число заповедей церковных и, по святому Мелитону, выявляет совершенство деятельной жизни; семерка — священное число Моисеева закона; это число даров Святого Духа, таинств, слов Спасителя на кресте, канонических часов и возложений рук на посвящаемого при хиротонии; восьмерка — по святому Амвросию символ возрождения, по Августину — воскресения, это же память и о восьми блаженствах; девятка говорит о числе чинов ангельских, количестве особых дарований Духа по исчислению апостола Павла, а также цифра часов, на протяжении которых испускал дух Иисус Христос; десятка дает число заповедей Иеговы, Закона страха, но Блаженный Августин разъясняет десятку иначе, говоря, что она есть свидетельство богопознания, поскольку раскладывается таким образом: три — символ Бога в трех лицах, семь — день отдыха после сотворения мира; одиннадцать, по свидетельству того же святого есть образ превосхождения Закона, щит от греха; двенадцать — число мистическое по преимуществу, число патриархов и апостолов, колен Израилевых, малых пророков, добродетелей, плодов Святого Духа, членов Символа Веры. И так можно было бы продолжать до бесконечности. Стало быть, совершенно очевидно, что в Средние века художники к смыслу, который они приписывали некоторым существам и вещам, прибавляли еще смысл их количества; тем самым они подчеркивали или затушевывали первоначальное значение, а иногда возвращались к основной идее, высказывали ее повторно на другом языке или выражали одним кратким сильным знаком. Так у них получалось целое, красноречивое для зрения и в то же время синтезирующее в простой аллегории все содержание догматики.
— Да, но как же лаконичен этот герметизм! — воскликнул Дюрталь.
— Бесспорно; хотя с первого взгляда беспорядочное множество людей и предметов сбивает с толку.
— А не полагаете ли вы, что, вообще говоря, высота, длина и ширина собора также выражает особое намерение, некую специальную цель зодчего?
— Да, но тут же соглашусь и с тем, что ключ к этой духовной арифметике утерян. Сколько археологи, усердно пытавшиеся его найти, ни складывали метры нефов и пролетов, им так и не удалось дать нам ясно понять, какую идею они ожидали бы обрести в результате этих вычислений.
Надо признаться, в этом предмете мы полные невежды. Да ведь и система мер сильно менялась с течением времени. Тут все примерно так же, как и с ценностью средневековых денег: мы в этом ничего не можем разобрать. Итак, хотя в этой области интересные работы проводили аббат Кронье в связи с приоратом Сен-Жиль и аббат Девуку в связи с отёнским собором, я по-прежнему отношусь к их выводам скептически; по-моему, они очень изобретательны, но не слишком надежны.
Нумерологическая метода превосходно себя показывает лишь в отношении подробностей, например столпов, о которых я говорил вам только что; она применима также, когда речь идет об одном числе, постоянно повторяющемся во всем здании: скажем, в Паре-ле-Моньяль все выстроено тройками. Там зодчий не просто воспроизвел священное число в общем плане церкви, но и применил его в каждой из частей. В храме три нефа, в каждом нефе три пролета, каждый пролет образован аркадой из трех арок и имеет три окна. Короче, здесь троическое начало, напоминание о Святой Троице проведено последовательно от начала до конца.
— Превосходно, но не полагаете ли вы, господин аббат, что помимо таких бесспорно ясных случаев в символике встречаются и очень темные, притянутые за уши объяснения?
Аббат улыбнулся:
— Знакомы ли вам мысли Гонория Августодунского{19} о кадиле?
— Нет.
— Вот они. Вначале он вполне справедливо определяет натуральный смысл этого сосуда, изображающего Тело Христово, ладан же — Божество, огнь, Духа Святого, в нем пребывающего, а затем говорит о различных применениях к металлам, из которых он делается. Он учит, что когда кадило золотое, то это означает совершенство Божества в Христе, когда серебряное — несравненную святость Его смирения, медное — уязвимость Его плоти, сотворенной нашего ради спасения, железное — воскресение плоти, победившее смерть.
А далее он переходит к цепочкам, и тут его символика действительно становится несколько слабоватой и натянутой. Если кадило о четырех цепочках, пишет он, они указывают на четыре основных добродетели Господа, а та, которой приоткрывают крышку сосуда, обозначает душу Христа, разлучающуюся с телом.
Если же кадило подвешено на трех цепочках, то потому, что Личность Христова состоит из трех элементов: человеческого организма, души и Божества Слова, кольцо же, к которому крепится цепочка, заключает Гонорий, — Вечность, заключающая в себе все это.
— Ну и путаница!
— Еще не такая, как теория Дуранда Мендского о нагарных щипцах; расскажу вам о ней и, с вашего позволения, на том остановимся.
Он утверждает: щипцы, чтобы снимать нагар с паникадил, суть «божественные словеса, которыми мы обрезаем буквы Закона и тем открываем блистающий разум»; и далее: «ведерки, в которых гасят свещные огарки, суть сердца верующих, буквально соблюдающих заповеди».
— Это уже не символизм, а безумие!
— По крайней мере, мелочность, дошедшая до крайности; но хотя так толковать щипцы по меньшей мере странно, а теория кадила в целом может показаться довольно зыбкой, признайте все же, что она непринужденна и очаровательна, да и образно точна, когда богослов говорит о цепочке, поднимающей крышку с кадильницы, выпуская облачко дыма и тем подражая вознесению Господа на облаках.
Трудно было, чтобы не случилось некоторых преувеличений на пути иносказаний, но… но зато о каких чудесах аналогий, о каких чисто мистических понятиях говорят смыслы, приданные в литургическом обиходе некоторым из священных предметов!
Вот, послушайте, свеча… Петр Эсквилинский объясняет нам значение трех ее составных частей: воск — пречистое Тело Христово, рожденное от Девы; фитиль, закатанный в этот воск — пресвятая Душа Его, скрытая под завесой тела, свет же — эмблема Его Божества.
А возьмите вещества, употребляемые Церковью при разных случаях: воду, вино, золу, соль, елей, миро, ладан.
Помимо того, что ладан уподобляется Божеству Сына Божия, он также служит символом наших молитв, thus devotio orationis, как отзывается о нем майнцский епископ IX столетия Рабан Мавр{20}. По поводу этого благовония и сосудика, в котором его возжигают, мне приходит еще на память стих, который я некогда прочел в «Иноческих понятиях» неизвестного английского автора XIII века, где их определения разобраны лучше, чем я мог бы сказать вам. Вот оно:
Вода, вино, зола и соль служат для изготовления драгоценного состава, применяемого епископом при освящении храма. Их амальгаму используют, чтобы оросить алтарь и окропить нефы; вино и вода означают две соединенные природы Христа, соль — премудрость Божию, зола — воспоминание о Страстях Господних.
Бальзам же, символ добродетели и доброславия, сочетают с елеем — миром и благоразумием для приготовления священного мира.
Наконец, вспомните о пиксидах[20], в которых сохраняется хлеб претворенный, Святая Гостия: обратите внимание, что в Средние века они делались в виде голубине, содержали облатку в самом образе Святого Духа и Пресвятой Девы; это уже немало, но вот что еще замечательней. В те поры ювелиры обтачивали слоновую кость и давали дарохранительницам вид башни: не в точности ли тело Господа нашего Иисуса Христа покоится в лоне Матери Его, именуемой в литании Башней из слоновой кости? И не в самом ли деле это вещество более всего подходит как вместилище пречистой, пребелой плоти Евхаристии?
— Да уж, это совсем не та мистика, что в нынешних посредственных сосудах, в вермелевых, серебряных и алюминиевых чашах?
— И надо ли напоминать вам, что литургика приписывает всем церковным одеяниям и украшениям особый смысл, смотря по их форме?
Так, например, стихарь[21] означает невинность, веревка, подпоясывающая наши чресла, — скромность и целомудрие, омофор — чистоту тела и сердца, шелом спасения, о котором говорит апостол Павел; орарь — добрые дела, бдение, слезы и пот, проливаемые священником ради стяжания и спасения душ; епитрахиль{21} — послушание, одеяние бессмертия, даваемое нам крещением; подрясник[22] — праведность, которую мы должны доказать своим служением; риза[23] или фелонь — единство веры, нераздельность ее, а также иго Христово…
Но дождь тем временем не унимается, а мне, однако, пора идти: меня ждет духовная дочь на исповедь. Будьте добры, не придете ли вы ко мне послезавтра часа в два; надеюсь, погода не помешает тогда осмотреть храм снаружи.
— А если будет дождь?
— Все равно приходите, — ответил аббат, пожал Дюрталю руку и поспешно удалился.
VI
Да-да, я помню: когда я сказал госпоже Бавуаль (нашей дорогой госпоже Бавуаль, как называет ее аббат Жеврезен), что еще не решил, историю какого святого мне написать, она воскликнула: А житие Жанны де Матель? Но эта биография не из податливых по своему предмету, не так-то легко с ней управиться! — восклицал про себя Дюрталь, приводя в порядок накопленные мало-помалу заметки об этой преподобной жене.
Он задумался. Здесь непонятно было вот что: несоразмерность между обетованиями, которые давал ей Христос, и результатами, которые она получила. Никогда, почти уверен, при основании нового ордена не было видано столько препон и треволнений, столько неудач. Жанна целые дни проводила в дороге, носилась из монастыря в монастырь, но сколько ни убивалась, чтобы поднять целину монашества, дело ни с места. Она даже облачение своего ордена смогла надеть лишь на несколько минут перед кончиной, потому что прежде не могла бы странствовать по всей Франции иначе, как в одеянии света, который она ненавидела и тщетно умоляла как-то заинтересоваться ее новорожденными обителями. И она, несчастная, по рассказам ее исповедника отца де Гибалина, уверявшего, что не видел более смиренной души, отправлялась ко двору, как другие идут на мученическую смерть.
А между тем Господь определенно предписал ей создать орден Слова Воплощенного, Сам очертил его план, оговорил устав, описал одежды, изъяснил символику, сказав, что белое платье ее сестер выразит почитание Того, Кого в насмешку одели в такую хламиду у Ирода, красный плащ будет напоминать, что Его обрядили в багряницу у Пилата, а пурпурные капюшон и пояс приведут на память древеса и бечевки, окрашенные Его кровью. Бог словно посмеялся над ней!
Он прямо заверил, что после тяжких испытаний она пожнет богатую жатву инокинь; Он нарочно ей объявил, что она станет сестрой святой Терезе и святой Кларе{22}; сами эти святые явились своим присутствием подтвердить Его обетования, когда же блаженная Жанна, теряя силы, разрыдалась, Господь спокойно ответил ей, что подобает молчать и терпеть.
И она жила, жила в хаосе угроз и упреков. Священство ее преследовало, архиепископ Лионский кардинал Ришелье только о том и думал, как бы помешать распространению ее аббатств; даже ее же монахини, которыми она не могла руководить, скитаясь в поисках покровителя или помощника, разделились, и их непослушание дошло до того, что Жанне пришлось впопыхах воротиться и изгнать сестер-раскольниц из обителей. Едва она построила монастырскую ограду, как та дала трещину и фундамент поколебался. В общем, конгрегация Слова Воплощенного родилась рахитичной, а умерла недомерочной. При всеобщем равнодушии она влачила существование до 1790 года, а там ее похоронили. В 1811 году некто аббат Дени возродил ее в Азерабле, в департаменте Крёза, и с того времени она кое-как перебивается, рассыпавшись по полутора десяткам обителей, часть которых переселилась в Новый Свет, в Техас.
Ничего не скажешь, далеко отсюда до сильных побегов, привитых святыми Терезой и Кларой к вековым стволам их деревьев!
Уж не считая того, думал дальше Дюрталь, что Жанна Матель, которая, в отличие от своих двух сестер, не канонизирована и имя ее неизвестно большинству католиков, должна была основать и мужской орден, но этого ей так и не удалось, а попытки осуществить этот замысел, предпринятые в наше время аббатом Комбало, также сорвались!
В чем тут дело? В том ли, что в Церкви слишком много всяких духовных обществ, но каждый день придумываются новые, и возрастают? В бедности монастырей? Однако лишения — лучшая гарантия успеха; ведь опыт показывает, что Бог благословляет обители только в нужде, а прочие оставляет. Или в суровости устава? Но он очень мягок; это устав святого Августина, где дозволены любые послабления, где при необходимости учитываются любые нюансы. Монахини вставали в пять утра; на трапезе были отнюдь не только постные блюда, и, за исключением предпасхального времени, строгий пост был положен лишь раз в неделю, да и то обязательный лишь для тех сестер, кому был по силам. Так что нет объясненья этим постоянным неудачам.
А ведь Жанна де Матель была святой, одаренной редкой энергией, и ее поистине вел Господь! В своих творениях она явилась красноречивым тонким богословом, пламенным и возвышенным мистиком, действующим на слушателя при помощи метафор, гипербол, сравнений с материальным миром, страстных восклицаний, обращений; она идет и от святого Дионисия Ареопагита, и от святой Маддалены Пацци{23}: от святого Дионисия по сути, от святой Маддалены по форме. Без сомнения, как писательница она не превосходней других, подчас нищета ее принужденного стиля утомляет, но надо учесть, что, живя в XVII веке, она, по крайней мере, не бормочет бесцветных молитв, как большинство церковных сочинителей ее времени.
Впрочем, с ее сочинениями случилось почти то же, что и с учреждениями: в большинстве они остались неизданными. Элло{24}, знакомый с ними, сумел извлечь оттуда лишь очень-очень слабую выборку; другие, как то князь Голицын и аббат Пено, исследовали ее рукописи лучше, напечатали самые возвышенные, самые пылкие отрывки.
А у этой аббатисы поистине вдохновенных страниц хватало!
Да, но при всем том я не представляю, какую книгу мог бы сам о ней написать, шептал Дюрталь. Нет, как ни хотелось бы угодить дорогой госпоже Бавуаль, нет у меня никакого желания браться за это дело.
Если подумать хорошенько и если бы мне были не так противны поездки, если бы хватило духу отправиться в Голландию, я постарался бы восславить в теплой, благоговейной книжке блаженную Лидвину{25}: ее из всех святых я более всего желал бы сделать известной, но чтобы хоть попытаться восстановить среду, в которой она жила, нужно поселиться в ее родном городе, в Схиедаме.
Даст Бог века, я, конечно, осуществлю этот план, но сейчас он еще не созрел; так что оставим это. А поскольку Жанна де Матель меня, напротив, нисколько не вдохновляет, пожалуй, лучше было бы заняться какой-нибудь другой инокиней, еще менее известной, прожившей жизнь в более тихом страдании, не столь непоседливой, более сосредоточенной и, во всяком случае, более пленительной.
Причем ведь биографию такой монахини нынче не узнаешь иначе, как из книжечки какого-нибудь анонима, бессвязной, написанной языком, пропахшим насквозь лампадным маслом и золой, так что никому никогда не по силам будет познакомиться с ней. Поэтому интересно так переписать ее, чтобы ее прочли.
И, перелистывая свои бумажки, он подумал о матери Ван Валькениссен, в монашестве Марии-Маргарите от Ангелов, основательницы кармелитского приората в Ойрсхоте, что в голландском Брабанте.
Эта инокиня родилась 26 мая 1605 года в Антверпене, во времена опустошавших Фландрию войн, в тот самый момент, когда город захватил Мориц Нассауский. Едва она научилась азбуке, родители поместили ее в пансион при доминиканском монастыре, находившемся неподалеку от Брюсселя. Отец ее умер, мать забрала девочку из обители и передоверила ее воспитание белым урсулинкам в Лувене, а там и сама преставилась; пятнадцати лет от роду Мария-Маргарита осталась сиротой.
Опекун перевел ее в новый монастырь, к кармелиткам в Малине, но распря испанцев и фламандцев приблизилась к тем местам, что орошает Диль, и девушку в очередной раз взяли из монастыря: отправили к канониссам в Нивеле.
В общем, все ее детство прошло в переездах из обители в обитель.
Ей нравилось жить в них, особенно у кармелиток; там она надевала власяницу и покорялась самому суровому образу жизни, какой только бывает. Но вот Мария-Маргарита выходит из строгого затвора и попадает в самую что ни на есть мирскую среду. Капитул канонисс, который должен был бы подготовить ее к пути мистики, оказался из числа учреждений гибридных, не белых и не черных — помесью обмирщенного монашества со светской набожностью. Члены капитула подбирались только из числа богатых и благородных дам, а настоятельница, назначавшаяся самим государем и носившая титул княгини Нивельской, жила двойственной, легкомысленно-церковной жизнью. Мало того, что эти полумонахини имели право выходить в город когда заблагорассудится: им дозволялось некоторое время проводить в кругу семьи и даже выходить замуж, получив разрешение настоятельницы.
По утрам те, кто желал остаться в аббатстве, надевали на время службы монашеское облачение; когда же духовные занятия заканчивались, они снимали монастырское платье, меняя его на бальные платья, корсеты и банты, модные фижмы и брыжи, и отправлялись в светские салоны или сами принимали гостей.
Бедная Мария терпеть не могла эту рассеянную жизнь, которая не давала ей оставаться наедине с Богом. Она глохла от женской болтовни, ей было стыдно рядиться в противные ей туалеты; она переодевалась прислугой и шла молиться подальше от гомона, в тихую церковь; наконец, она в Нивеле совсем затосковала, чуть не умерла от печали.
В это время в город приехал Бернар де Монгайар, аббат Орвальский из цистерцианского ордена. Мария бросилась к нему, умоляла спасти ее, и монах, просвещенный Духом Божиим, понял, что она создана быть искупительной жертвой, на которой возмещаются кощунства, совершаемые в храмах со Святыми Дарами; он утешил ее и благословил на вступление в кармелитский орден.
Она уехала в Антверпен, повстречалась там с матерью Анной от Святого Варфоломея, которая была святой; та, получив предуведомление об ее приезде от святой Терезы, приняла девушку в кармелитскую обитель, где была викарной приоршей.
Тогда начались диавольские обстояния. Вернувшись к опекуну в ожидании пострига, Мария-Маргарита внезапно свалилась в параличе, потеряв разом слух, зрение и речь. Однако ей удалось дать понять, чтобы и в этом состоянии ее перенесли в монастырь и оставили там полумертвую. В обители же она поверглась к стопам матери Анны, а та благословила ее и подняла на ноги исцеленную. Началось послушание.
Несмотря на хрупкое сложение, Мария-Маргарита соблюдала самые строгие посты, самые тяжкие бичевания, стягивала грудь веригами, унизанными шипами, питалась объедками, вынутыми изо рта на тарелку, пила воду, которой мыли посуду, зимой мерзла так, что ноги коченели.
Тело ее было одной сплошной раной, но душа сияла; она жила в Боге, Который осыпал ее милостями и ласково разговаривал с ней; срок послушания кончался, и прямо перед постригом Мария-Маргарита тяжело заболела. Стали сомневаться, постригать ли ее, но тут вновь явилась святая Тереза и велела приорше принять ее в орден.
Она облачилась в рясу, и на нее напало искушение отчаянием, смущавшее многих святых; затем последовало удручающее сухосердие, продолжавшееся три года, но она держалась стойко, претерпевала скорби мистического замещения, переносила самые мучительные, самые отвратительные недуги ради спасения других душ. Наконец Богу стало угодно прервать ее скорби; Он дал ей передышку, и этим затишьем воспользовался бес, чтобы явиться собственной персоной.
Сатана представал перед инокиней в облике грозных чудовищ, все в келье ломал и убегал вон клубами вонючего дыма; меж тем некий благочестивый человек Сильвестр Линдерманс пожелал основать монастырь кармелиток в своем поместье Ойрсхот в Голландии. Как всегда при основании новой обители, возникло множество помех, да и время отправлять монахинь во враждебный католикам город через места, кишевшие вооруженными бандами протестантов, было неблагоприятное. И вот когда настоятельница выбрала Марию-Маргариту, чтобы возглавить новое приорство, та умоляла дозволить ей тихо молиться в своей келейке, но вмешался Сам Господь и велел монахине отправляться в путь. Она послушалась, потащилась в дорогу, бессильная и недужная, и добралась вместе с сестрами до Ойрсхота, где кое-как устроила монастырское жилище в доме, вовсе не предназначенном для монастыря.
Ее назначили викарной приоршей, и она проявила себя как необыкновенная духовная руководительница. В суровой кармелитской жизни, которую для себя она еще устрожала жестокими испытаниями, она была терпима к другим, и хотя про себя могла прошептать (до того терзало ее собственное тело): «До Страшного суда никто не узнает, как я страдаю», оставалась всегда весела и в церкви обращалась к сестрам с такими словами: «Пусть люди, во грехе живущие, печалуются, а мы должны сугубо делить радость ангелов: ведь мы, как и они, исполняем волю Господа нашего, да еще терпим за Него то, чего они не могут терпеть».
Не было наставницы снисходительней и деликатней. Чтоб только не задеть подчиненных изъявлением власти, она никогда не отдавала распоряжений в повелительной форме, не говорила: «сделай так», но только «сделаем так-то», а каждый раз, как она не могла уклониться и не наказать монахиню, мать Мария-Маргарита в трапезной целовала ноги другим сестрам и молила их ради ее смирения отхлестать ее по щекам.
Но было бы слишком хорошо, если бы она с ангельским стадом, ею предводимым, могла покойно жить внутренней жизнью и безмятежно погрести себя в Боге. Кюре Ойрсхота терпеть ее не мог и, неизвестно почему, разнес о ней дурную славу по всему городку. Бес тоже не сидел без дела — с шумом, рушившим стены и сотрясавшим кровли, он возникал в виде огромного ростом эфиопа, задувал огни, пытался душить инокинь. Большая часть их была ни жива, ни мертва от страха, но между тем Бог во искупление их скорбей укреплял их непрестанными чудесами.
Монахини Ойрсхота могли на себе поверить истинность невероятных историй, читанных ими за трапезой в житиях святых. Их матушка имела дар билокации: являлась в нескольких местах одновременно — повсюду, где проходила, оставляла благоуханный след, исцеляла больных одним крестным знамением, чуяла и поднимала, как охотничья собака, невидимую дичь грехов, читала в душах.
Дочери ее обожали, плакали, видя ее жизнь, превратившейся в одно нескончаемое мученье; из-за сильных холодов ее поразил острейший ревматизм: ведь если в Испании устав святой Терезы, дозволяющий разводить огонь лишь в кухне, еще переносим, в ледяном французском климате он поистине смертоносен.
В общем, заключал Дюрталь, пока что течение ее жизни не слишком отличалось от других монастырских насельниц; но вот когда подошла ее кончина, тогда-то исключительная краса этой души утвердилась столь особенным образом, при таких необычайных знамениях, что подобных не найти во всех минеях[24].
Состояние ее здоровья становилось все тяжелее; к парализовавшим матушку ревматизмам прибавились желудочные боли и ничем не укротимые колики. Ко множившимся недугам прицепились также ишиас и частая в обителях строгого устава болезнь — водянка.
Ноги вздувались, не желали носить настоятельницу, и она неподвижно пухла на ложе. Тогда сестры милосердия, ходившие за ней, открыли секрет, который она всегда из смиренномудрия скрывала: заметили, что руки ее усеяны розоватыми проколами, окруженными синеватым ореолом, а ноги, также пронзенные, сами собой, если их не держать, укладываются одна на другую. В конце концов она призналась, что уже много лет Христос отметил ее стигматами Своих Страстей, поведала, что эти язвы днем и ночью жгут ее, подобно раскаленному железу.
А между тем боли становились все тяжелее. Почувствовав наконец, что умирает, она вспомнила, какие безжалостные истязания на себя налагала, и с поистине трогательной простотой попросила прощения у несчастного своего тела за то, что так истощила его силы, что, быть может, не дала ему таким образом дольше прожить, чтобы больше пострадать.
При том она повторяла самую необычайную в своем умилении, безумно страстную молитву, какую когда-либо святая жена обращала к Богу.
Она так любила Святые Дары, так желала у ног Спасителя искупить то, чем прогневляли Его людские грехи, что приходила в отчаянье от мысли, что после смерти оставшееся от нее уже не сможет молиться.
Мысль, что труп ее сгниет бесполезно, что последние ошметки несчастной плоти исчезнут, ничем не послужив во славу Господа, огорчала ее, и тогда она стала молить Его, чтобы Он дал ей раствориться, растечься жидким елеем, который можно будет потребить перед жертвенником в алтарной лампаде.
И Христос даровал ей это невероятное отличие, какого не встречается больше в житийных анналах, так что в миг кончины она потребовала у сестер, чтобы ее тело, выставленное, по обычаю, в монастырской капелле, не погребали еще несколько недель.
Здесь нет недостатка в подлинных источниках; были проведены самые скрупулезные исследования; отчеты медиков столь подробны, что мы день за днем можем проследить состояние тела матери Марии-Маргариты, пока оно не обратилось в елей и не было собрано в сосуды, из которых, согласно ее пожеланию, каждое утро наливали ложку масла в лампаду, висящую перед алтарем.
Когда святая умерла, а ей шел тогда пятьдесят третий год, из которых тридцать три года она провела в монашестве и четырнадцать в приорстве над Ойрсхотом, ее лицо преобразилось, и, несмотря на зиму столь суровую, что Шельду можно было переехать в экипаже, тело осталось мягким и гибким, но при этом вздулось. Хирурги осмотрели покойницу и вскрыли ее при свидетелях. Они ожидали, что все чрево наполнено водой, но оттуда вытекло едва с полпинты, а тело нисколько не опало.
Анализ при вскрытии дал также необъяснимое открытие: в желчном пузыре обнаружились три гладко шлифованных гвоздя из неизвестного материала: два весом в половину французского золотого экю без семи гранов, а третий, величиною с мускатный орех, весил пятью гранами больше.
Потом доктора набили ее внутренности тряпками, вымоченными в полынной настойке, и зашили туловище иголкой. И до, и во время, и после этих операций покойная не только не издавала никакого запаха тления, но, как и при жизни, продолжала распространять не поддающееся определению чудное благоухание.
Прошло около трех недель; нарывы образовались и лопнули, и из них изошли кровь и вода; потом кожа покрылась желтыми пятнами, сочение язв прекратилось, и тогда проступил елей: белый, прозрачный, душистый, который потом темнел и становился цветом подобен амбре. Его удалось разлить более чем на сто бутылочек вместимостью по две унции каждая, многие из которых и до сих пор хранятся у бельгийских кармелиток, и лишь после этого захоронили останки, ничуть не разложившиеся, а лишь приобретшие коричневатый цвет финика.
Из жития этой славной жены и впрямь можно сотворить славную книжку, раздумывал Дюрталь. А какой сноп изумительных инокинь окружал ее! Монастыри Антверпена, Малина, Ойрсхота изобиловали затворницами. При Карле Пятом у кармелитов во Фландрии возобновились мистические чудеса, совершавшиеся четырьмя веками ранее, в Средние века, у доминиканок Унтерлинденского монастыря в Кольмаре.
О, эти женщины приводят вас в изумленье, в опешенье! Какая же крепость души была у этой Марии-Маргариты, какою благодатью была она поддержана, если могла так отрешиться от естественного соблазна своих чувств, если так бодро, так весело противостояла самым изнурительным недугам!
Итак, что же, запрячься в жизнеописание этой преподобной? Да, но тогда нужно достать том Жозефа де Луаньяка, первого ее биографа, записку Пустынника из Марлени, брошюру монсеньора де Рама, отчет Папеброха; важней всего было бы иметь перед собой перевод этой фламандской рукописи, выполненный в кармелитском монастыре Лувена еще при жизни матушки ее духовными дочерьми. Где же все это раскопать? Во всяком случае, искать придется долго. Ну так отложим этот замысел: он несбыточен.
Собственно, я ведь хорошо знаю, что мне делать: мне бы следовало завершить статью о картине Беато Анджелико в Лувре, которую я четыре месяца назад, если не больше, обещал в «Ревю»; с меня ее каждый Божий день требуют письмом. Стыдно: как я уехал из Парижа, так и бросил работать, и извиниться мне нечем; ведь подряд этот мне интересен, он дает случай изучить рациональную систему символики тонов в Средние века.
Примитивы и красочные молитвы их картин! Мечта, а не тема! Но сейчас не время размышлять об этом предмете, а пора идти к аббату Плому; притом погода снова портится: мне решительно не везет.
Проходя через площадь, он вновь унесся в мечтаниях, вновь его захватила тяга к соборам, и он думал, глядя на шартрские шпили: сколько же разнообразия в неисчислимом готическом семействе, нет двух одинаковых храмов!
Башни и колокольни тех, что ему были известны, предстали перед ним, как на тех планах, где памятники собраны, не обращая внимания на расстояния, теснятся все в одной точке для наилучшей демонстрации.
И в самом деле, думал Дюрталь, у каждой базилики свои башни. Нотр-Дам де Пари: там они тяжеловесны и темны, какие-то слоновьи; рассеченные почти во всю длину неуклюжими проемами, они восходят к высоте медленно и тяжело, с остановками; на них как будто давит груз грехов, их словно удерживают пороки лежащего на земле города; усилие их подъема очень ощутимо, и грустно становится созерцать плененные массы, еще того более омраченные безнадежной окраской карнизов. В Реймсе, напротив, колокольни распахнуты сверху донизу, как удлиненные ушки иголок, тянутся длинными тонкими арками, на просвет кажущимися спинным плавником огромной рыбы или гигантским гребешком с двойными зубьями. Они возносятся воздушной пеной, истончаются филигранью, и небо входит в их пазы, пробегает по их импостам[25], скользит по граням, проходит голубыми тесемками сквозь неисчислимые стрелки, сосредотачивается, лучится через маленькие трилистники, проделанные над окнами. Те башни могучи, эти экспансивны, те огромны, эти легки. Насколько парижские башни немы и недвижны, настолько реймсские говорливы и оживленны.
В Лионе они особенно необычны. Из-за множества колоночек, то выдвинутых, то отодвинутых, они похожи на кое-как нагроможденные друг на друга этажерки, причем самая верхняя кончается простой плоской крышей, из-под которой свесились шеи мычащих быков.
Две амьенские башни построены, как и в Руане, и в Бурже, в разное время и друг с другом не согласуются. Они разнятся по высоте и словно идут по небу, прихрамывая; еще одна колокольня, поистине великолепная в своем одиночестве, на фоне которой еще нагляднее видно убожество двух шпилей, недавно построенных по сторонам от фасада, — это норманнская башня в Сент-Уане с верхушкой, увенчанной короной. Это старейшина всех башен, многие из которых сохранили крестьянский облик — простоволосые, или в длинных чепчиках, вытянутых, подобно свистульке, как башня Сен-Ромен в Руане, или в остроконечных мужицких колпаках, как у церкви Сен-Бенинь в Дижоне, или с чем-то вроде зонтика, вроде того, что накрывает лионский собор Иоанна Крестителя.
И все-таки одна башня, без утончающего ее шпиля, еще не устремлена в небосвод. Она поднимается тяжело, с одышкой на ходу, и, утомленная, засыпает. Это рука без кисти, культя без ладони и пальцев, обрубок; это и неотточенный карандаш с плоской оконечностью, неспособный написать Царству Небесному земные молитвы; словом, такая башня навек недвижна.
Чтобы обрести настоящий символ жарких молитв, водометными струями пронзающих облака, надо увидеть шпили, каменные стрелы.
И какое разнообразие в семействе стреловидных построек! Нет двух подобных!
Одни у основания окружены ожерельем башенок, обведены диадемой восточного царя с прямыми зубьями — такова колокольня в Санлисе. Другие баюкают детей, рожденных по образу и подобию своему, — крохотные шпили вокруг себя; иные усеяны бородавками, шишками, кабошонами, иные — сетчатые, как шумовка или решето, пробиты трилистниками и четырехлистниками, словно долотом обработаны; эти сделаны шероховатыми, все в зубчиках, как терка, иссечены выемками или ершатся иголками; те выложены чешуей на рыбий манер (старая колокольня Шартра, к примеру); а есть и такие, как в Кодбеке, что воздымаются в виде тиары — трехъярусной папской короны.
При том, что общие очертания предписаны почти что настрого, по типу пирамиды или перечницы, рукавного фильтра или свечного гасильника, готические зодчие придумывали самые хитроумные комбинации, до бесконечности двигали в разные стороны свое искусство.
И какой же тайной покрывают базилики свое происхождение! Большинство художников, их построивших, неизвестно; даже возраст этих стен не слишком достоверен: ведь они по большей части сложились из напластований разных времен.
Почти везде скачки на два, три, четыре интервала по сотне лет. А растянуто их строительство от начала XIII века до первых лет XVI.
Оно и понятно, если вдуматься.
Как справедливо подмечено, XIII век — эра расцвета соборов. Именно тогда почти все они были задуманы; потом же, едва им положили начало, рост их остановился примерно на двести лет.
Ведь XIV столетие сотрясали страшные смуты. Началось оно с мерзких раздоров Филиппа Красивого с Папой; оно разожгло костер тамплиеров, на котором потом жарило в Лангедоке бегардов и полубратьев, прокаженных и евреев, и наконец утонуло в крови после разгромов при Кресси и Пуатье, бешеных бесчинств Жакерии, майотенов{26} и разбоев тардвеню[26], после чего приподнялось в бреду, отразив себя в неисцелимом безумии короля.
Закончилось оно так же, как начиналось — в страшных религиозных судорогах: римская тиара столкнулась с авиньонской, и Церковь, одна возвышавшаяся над развалинами, также пошатнулась, сотрясенная Великим западным расколом.
XV век явился полоумным с самого рождения. Казалось, что сумасшествие Карла VI распространяется, как зараза: тут и английское вторжение, и грабеж Франции, и свирепые схватки бургиньонов с арманьяками, мор и голод, разгром при Азенкуре, Карл VII, Жанна д’Арк, освобождение и успокоение страны энергичным врачеванием Людовика XI.
Все эти события затормозили работы на соборных стройках.
В общем, XIV век лишь продолжал здания, начатые в предшествующем столетии. И лишь в конце XV, когда Франция наконец передохнула, можно видеть новый подъем зодчества.
Добавим, что частые пожары не раз и не два пожирали целые части храмов, которые нужно было перестраивать; иные, как в Бове, совсем рухнули, и пришлось возводить их заново или же, за недостатком денег, просто укрепить и заткнуть дыры.
За исключением немногих, как в Сент-Уане или в Руане, редком примере храма почти целиком выстроенного в XIV веке, кроме башен и западного фасада, совершенно новых, а также собора Реймсской Божьей Матери, архитектоника которого, вероятно, без особенных разрывов воспроизводилась по первоначальному плану Юга Либержье или Робера де Куси, ни один из наших соборов не воздвигался как целое, следуя указаниям зодчего, их задумавшего, и ни один не остался нетронутым впоследствии.
Таким образом, большинство соборов сводят воедино усилия многих богобоязненных поколений, но можно утверждать и следующее: невероятно, но факт, до наступления Ренессанса гений строителей, сменявших друг друга, оставался на одном уровне; если они и вносили изменения в планы своих предшественников, им удавалось так внести личные свои находки, и превосходные, чтобы ничем не повредить целому. Свой гений они прививали к гению первых мастеров; получалось непреложное хранение святых останков изумительного замысла, непрестанное дуновение Святого Духа. Лишь в обманную эпоху торжества сумасбродного и легкомысленного искусства язычества угасло чистое пламя, иссякло светоносное целомудрие Средневековья, когда Бог запросто, по-домашнему жил в душах, и абсолютно божественное искусство сменилось совершенно земным.
С тех пор как явилось роскошество Ренессанса, Дух Святой исчез, и смертный грех в камне мог утверждаться, как ему угодно. Грех изуродовал законченные при нем здания, опорочил их чистые формы, и это, наряду с развратом скульптуры и живописи, привело к совершенному вырождению храмов.
Матери Заступницы не стало, и все обрушилось. Возрождение, столь превозносимое историками с легкой руки Мишле, стало концом мистической души, концом монументального богословия, смертью духовного искусства и всякого великого искусства во Франции!
Стоп, где же это я? — вдруг осекся Дюрталь, вглядываясь в плохо мощенные переулки, уходившие от соборной площади в Нижний город.
Он понял, что за мечтаньями миновал дом аббата.
Дюрталь поднялся обратно, остановился у старенького домика и позвонил. Медная заслонка в двери отворилась, закрылась вновь, служанка, затопотав старыми башмаками, приоткрыла дверь, и Дюрталь вместе с уже поджидавшим его аббатом вошел в комнату, загроможденную статуэтками. Статуэтки были повсюду: на комоде, на столе, на маленьком столике.
— Не обращайте внимания, — сказал аббат Плом, — и не смотрите на них; вовсе не я подбирал этот ужас, но поневоле разделяю стыд за эту пошлятину: все это подношения прихожанок!
Дюрталь посмеялся, но ему все же стало не по себе от этих наполнявших комнату немыслимых обломков католического идеала.
Там было все: черные луженые медью рамки с гравюрами Богородицы, исполненными Бугро и Синьолем, «Се человек» Гида, Пиеты, святые Филомены; еще — собранье статуэток раскрашенных: Марии, расписанные в мерзло-зеленый цвет цукатов и розовый — английских конфет; Мадонны, глуповато уставившиеся на собственные ноги, и расставившие в стороны руки, из которых веером торчали желтые лучики; Жанна д’Арк, присевшая, как курица на яйцах, возведя к небу белые шары глаз и прижимая знамя к бюсту, закованному в гипсовые латы; святые Антонии Падуанские, бодренькие, прилизанные, с иголочки одетые; Иосифы, не то чтобы плотники, но уж никак не святые; Магдалины, у которых катились из глаз серебряные пилюльки, словом, целая куча ханжеских побрякушек высшего ремесленного качества, принадлежащая к разряду так называемых «вещей в мюнхенском вкусе», что продаются в магазинах с улицы Мадам.
— О, как страшны ваши дарительницы, господин аббат! Но почему бы вам нечаянно, по неосторожности не ронять каждый день на пол по одной такой штучке?..
Аббат в отчаянье махнул рукой.
— Так других нанесут! — вскричал он. — Однако что ж, если не возражаете, давайте сейчас же бежать отсюда, а то, если задержусь, ко мне, пожалуй, опять пристанут.
По дороге они заговорили о соборе, и Дюрталь воскликнул:
— Не чудовищно ли, что среди совершенства Шартрского собора я не могу услышать настоящего хорального пения; я вынужден ходить в храм лишь в часы без служб, пустые, а главное, никоим образом не могу присутствовать на большой воскресной мессе, до того меня возмущает непристойная музыка, которую там исполняют! Что же, никак нельзя добиться, чтобы органиста выгнали, капельмейстера и учителей пения в хоре вычистили, а толстых хористов с пропитыми голосами отослали орать в кабаки? Ох уж эти кружевные мотивчики, серебристо-хрустальные переливчики мальчишеских голосов, ох эти площадные припевы, отрыгающиеся внезапной дрожью колеблемых светильников да шумной икотой басов! Что за стыд, что за гадость! Как только епископ, кюре, каноники не запретят подобного злодейства?
Я, конечно, знаю, что монсеньор стар и болен, но каноники?.. Правда, и у них такой утомленный вид… посмотришь, как они бормочут службу, сидя в своих креслах, и подумаешь, понимают ли они сами, кто они и где они; мне кажется, они всегда как будто не совсем в сознании…
— Ветры из Боса надувают летаргию, — со смехом ответил аббат. — Но позвольте мне объявить вам: если в соборе григорианское пение презирают, то у нас же в Шартре, в малой семинарии, в церкви Нотр-Дам де ла Бреш, в женском монастыре Святого Павла поют по солемским распевам, так что вы можете чередовать посещения собора с этими храмами.
— Разумеется, но не жутко ли думать, что караибский вкус нескольких горланов и нескольких ветеранов может до такой степени докучать Богородице музыкальными поношениями? А вот и дождь снова пошел, — прибавил с досадой Дюрталь, немного помолчав.
— Так и мы уже пришли; укроемся теперь в соборе Божьей Матери и рассмотрим спокойно его внутренний вид.
Они преклонили колени перед Черной Богоматерью у Столпа, потом уселись в пустынном храме и аббат сказал вполголоса:
— На днях я объяснял вам символику внешнего вида базилик; не угодно ли, теперь я в двух словах введу вас в курс аллегорий, содержащихся внутри?
Дюрталь кивнул, и священник продолжал:
— Как вам хорошо известно, почти все наши соборы имеют крестообразную форму; правда, в первоначальной Церкви вы найдете и некоторое количество храмов, построенных в виде ротонды и увенчанных куполом, но в большинстве своем они не были строены отцами нашими: это бывшие языческие капища, кое-как приспособленные католиками к своим нуждам, или подражания им, пока не явился святой романский стиль.
Так что мы могли бы и вовсе не искать там специального литургического смысла, ведь круговая форма храма не была создана христианами; однако Дуранд Мендский в своем рационалии утверждает, что округлость здания означает распространение Церкви по всему кругу вселенной; другие добавляют к этому, что купол есть венец Царя Распятого, а малые купола, часто его окружающие, — огромные шляпки гвоздей. Но оставим эти объяснения; я полагаю, что они придуманы задним числом, и перейдем к кресту, который здесь, как и в других соборах, образован трансептом и нефом.
Заметим мимоходом, что в некоторых церквах, например в Клюнийском аббатстве, крест в плане повторяет не латинский крест, а лотарингский, с добавочными крестиками над каждой из ветвей. А теперь посмотрите на все вместе, — шепотом продолжал аббат, обводя рукой внутренность шартрского храма.
Христос умер; голова Его — алтарь, распростертые руки — два прохода трансепта, пронзенные ладони — двери; Его ноги — тот неф, где мы находимся, а прободенные стопы — тот портал, через который мы вошли. Теперь посмотрите: ось храма всегда несколько отклонена; это отклонение подражает положению изнуренного Тела на древе казни, причем в некоторых соборах, как в Реймсе, теснота, ущемление алтаря и клироса относительно нефа особенно хорошо изображает шею и упавшую на плечо голову человека, испустившего дух.
Это искривление в церквах встречается почти повсюду: в Сент-Уане, в Руанском соборе, в соборе Иоанна Крестителя в Пуатье, в Туре, в Реймсе; бывает даже (впрочем, это наблюдение еще нужно доказать), что зодчий вместо Страстей Господних изображает мученичество того святого, имени которого церковь посвящена, и тогда в искривленной оси церкви святого Савена, к примеру, можно опознать обод колеса, раздавившего того мученика.
Но это все вам, очевидно, известно, а вот о чем знают меньше.
До сих пор мы обращали внимание лишь на образ неподвижного, мертвого Спасителя, представленный в нефах; теперь я вам расскажу о случае не совсем обычном; о церкви, воспроизводящей не очертания божественного трупа, но вид Его еще живого тела, о церкви, наделенной подвижностью, что пытается вместе с Христом шевелиться на кресте.
И действительно представляется доказанным, что некоторые зодчие в архитектонике своих соборов пытались подражать организму человека, воспроизвести движение склоняющегося живого существа, словом, одушевить камень.
Такая попытка осуществилась в церкви аббатства Прейи-сюр-Клез в Турени. Снятый план и фотографии этого храма иллюстрируют интереснейшую книгу, которую я вам потом дам; ее автор, аббат Пикарда, — настоятель той самой церкви. И вы сможете без труда понять, что расположение этой базилики в точности такое же, как у тела, вытянутого вкось, целиком подавшегося и наклонившегося на одну сторону.
Притом это тело движется соответственно произвольному перемещению оси, искривление которой начинается с первого прохода, постепенно увеличиваясь, пересекает все нефы, клирос и абсиду, у завершения которой сходит на нет, производя впечатление качающейся головы.
Скромное здание, возведенное бенедиктинцами, имен которых мы не знаем, извивом своих линий, убеганием колонн, склонением сводов лучше, чем в Шартре, в Реймсе или в Руане, дает портрет Спасителя на кресте. Во всех же остальных церквах зодчие так или иначе передавали трупное окоченение, посмертный наклон головы, а вот монахи в Прейи остановили тот незабвенный миг, который в Евангелии от Иоанна протекает между «Жажду» и «Совершилось».
Итак, старая туренская церковь — изображение Иисуса Христа распятого, но еще живого.
Ну, чтобы вернуться к нашему разговору, рассмотрим внутренние органы наших храмов; отметим мимоходом, что длина храма славит долготерпение Церкви к заблудшим, ширина — милосердие, расширяющее души, высота — надежду на будущее воздаяние, и перейдем к подробностям.
Клирос и жертвенник символизируют небо, а неф — эмблема земли, а поскольку лишь через крест можно преодолеть расстояние, разделяющее эти миры, прежде существовало обыкновение (увы, оставленное) в навершии грандиозной арки, соединяющей неф с алтарем, помещать огромное Распятие: отсюда имя «триумфальной арки», данное гигантскому проему, открывающемуся перед алтарем; отметим еще, что в храме есть решетка или балюстрада, разделяющая две его области: святой Григорий Назианзин{27} видит в ней черту, проведенную между частью Божеской и частью человеческой.
Но вот другое толкование алтарной части, клироса и нефа, Ричарда Сен-Викторского{28}. Согласно ему, они воспроизводят: алтарь — непорочных дев, клирос — чистые души, а неф — супругов. Что же до собственно алтаря или престола, как именуют его древние литургисты, то это Сам Христос, место, где покоится Его глава, стол Тайной Вечери, древо, на которое Он пролил Свою кровь, гроб, заключивший Его тело; кроме того, это Церковь духовная, а четыре угла алтаря — четыре конца мира, которым Церковь должна владеть.
Позади же алтаря располагается абсида, форма которой в большинстве соборов — полукруг, исключая соборы Пуатье, Лаона и Нотр-Дам дю Фор в Этампе, где, как и в древних гражданских базиликах, стена остается прямоугольной, стоит прямо, а не рисует тот своеобразный полумесяц, смысл которого — одна из лучших находок символизма.
Ведь это полуциркульное завершающее углубление, абсидная конха[27], с ее капеллами, венцом окружающими клирос, — копия с тернового венца, окружающего главу Христову. За исключением тех храмов, которые целиком посвящены Божьей Матери: этого собора, парижского и еще некоторых, — одна из капелл, а именно средняя, самая большая, посвящается Деве Марии, свидетельствуя самим своим расположением, что Она — последнее прибежище грешникам.
Ее же личность символизируется и ризницей, откуда священник — викарий Христов — выходит, облаченный в священные одеяния, как Иисус вышел из лона Матери Своей, облекшись одеждой плоти.
Приходится непрестанно повторять: всякая часть церкви, всякий материальный предмет, служащий культу, есть выражение одной из богословских истин. В архитектуре от Писания все память, все отголосок и отражение, все связано с другим.
Так, алтарь этот, образ Господа нашего, покрыт белым покровом в воспоминание о плащанице, которой Иосиф Аримафейский обвил Его тело{29}, и покров этот должен быть соткан из чистых нитей, конопляных или льняных. Чаша, берущаяся, согласно текстам, упомянутым в солемском «Спицилегии»[28], то как выражение сияния, то как знак унижения, по наиболее принятой теории должна считаться иным видом Гроба Господня, и тогда дискос получается закрывшим его камень, а антиминс[29] — самой плащаницей.
И если я вам еще скажу, — продолжал аббат, — что по святому Нилу столпы означают божественные догматы, а согласно Дуранду Мендскому — епископов и учителей Церкви, что капители суть слова Евангелия, что пол в храме — основание веры и смирение, что амвон и кафедра, почти везде разрушенные, — место евангельской проповеди, гора с которой говорил Христос; что семь светильников, возжигаемых перед Святыми Дарами — семь даров Святого Духа, ступени алтаря — степени совершенства; если я укажу вам, что два чередующихся хора олицетворяют лик ангельский и лик праведников, соединенные, чтобы своими голосами славить Всевышнего, то я более или менее поведаю вам общий и подробный смысл внутреннего помещения собора, в том числе Шартрского.
Теперь заметьте одну здешнюю особенность, повторяющуюся и в Манской базилике: боковые нефы в той части, где находимся мы, одинарные, обходы же вокруг алтарной части сдвоены…
Но Дюрталь его уже не слушал; он и думать забыл про всю эту монументальную экзегезу, а просто любовался поразительным храмом, даже не пытаясь его анализировать.
Из тайны своего полумрака, затуманенного дождем, базилика тянулась вверх, становясь тем светлей, чем выше поднималась к белоснежному небу своих нефов, возрастая, как душа, очищающаяся вознесением в свет, проходя пути мистического подвига.
Прислоненные друг к другу колонны собирались тонкими пучками, мелкими снопиками, такими, что словно подуй ветерок — и они пригнутся к земле; лишь на головокружительной высоте их стебли склонялись и соединялись друг с другом, перекидываясь через весь собор, над пустым пространством, сцеплялись, сплетали отростки и наконец выпускали, словно из корзины, позолоченные некогда цветы замковых камней свода.
Этот храм был предельным усилием материи облегчиться, сбросить, как балласт, груз истонченных стен, замененных менее тяжким и более светлым веществом, ставя на место плотной непроницаемости камня прозрачную кожицу витражей.
Устремляясь к Господу, чтобы соединиться с Ним, базилика одухотворялась, вся превращалась в душу, в молитву; легкая и грациозная, почти невесомая, она была наивеликолепнейшим выражением красоты, бегущей от земной оболочки, — красоты воангеляющейся, хрупкой и бледной, как Мадонны Рогира ван дер Вейдена, — столь утонченной, столь невесомой, что улетела бы к небу, не держи ее, некоторым образом, парча и шлейф платья своим весом. И тут то же мистическое понятие тела, вытянутого в длину, пылающей души, которая хоть и не может совершенно избавиться от тела, но стремится очистить его, сведя к минимуму, убрав все возможное, сделав чуть ли не текучим.
Церковь ошеломляла страстным порывом сводов и безумным сиянием витражей. Несмотря на пасмурную погоду, на стрелках арок, в углубленных полушариях роз полыхал пожар самоцветов.
Высоко в пространстве, подобные саламандрам, на огненной тверди жили человеческие фигуры с пламенеющими лицами и пылающими одеждами; но все пожары были замкнуты в очертания несгораемых рамок стекла более темного; они останавливали юную светлую радость пламени той особенной меланхолией, той серьезностью и взрослостью, что исходят от мрачных тонов цвета. Звонкая ярость красного, нерушимая чистота белого, хвала Богу, возносимая желтым, слава Приснодеве, воздаваемая голубым, — весь трепещущий очаг цветных стекол потухал, приближаясь к этой оторочке, окрашенной в железно-ржавые, сангвинно-рыжие, каменисто-лиловые, бутылочно-зеленые, трутово-бурые, сажисто-черные, пепельно-серые оттенки.
И так же, как в Бурже, где витражи относятся к тому же времени, на огромных окнах Шартрского собора очевидно сказалось восточное влияние. Мало того, что изображенные лица имели высокоторжественный облик, величественно-варварский вид азиатских памятников, но и обрамления своим рисунком, компоновкой своих тонов вызывали в памяти персидские ковры, несомненно служившие образцами для живописцев, ибо из «Книги ремесел» известно, что в XIII веке во Франции, даже в самом Париже, ткали ковры в подражание тем, что вывезли из Леванта крестоносцы.
Но даже не говоря о сюжетах и обрамлениях, все колеры на витражах были, так сказать, лишь толпой присутствующих, слугами, призванными вознести один лишь цвет — синий, лучезарно-синий, подобный мерцающему сапфиру, архипрозрачный — ясный, острый синий цвет, блиставший повсюду, искрившийся, как камешки в крутящемся калейдоскопе, в розах трансепта, в окнах царского портала, где под черными железными решетками возгоралось подкрашенное лазоревым сернистое пламя.
В общем, тоном камней и виражей Шартрская базилика Божьей Матери была голубоглазой блондинкой. Она представлялась некоей бледной феей, высокой тоненькой Мадонной с большими широко раскрытыми лазурными глазами — светящимися розами; то была Богородица Севера, Мать Христа фламандских примитивов, восседавшая в недоступных занебесных краях и окруженная стеклянными восточными коврами, как трогательным напоминанием о Крестовых походах.
И эти прозрачные ковры также были букетами; они пахли ароматом сандала и перца, благоухали тонкими пряностями стран волхвов на Востоке; эти цветы пахли тонкими запахами, добытыми — ценой такого множества крови! — на лугах Палестины, и Запад, привезя их, поднес Приснодеве в холодном воздухе Шартра, в память о тех солнечных странах, где Она жила, где Сын Ее благоволил родиться.
— Где найти для Матери нашей киот роскошнее, ларец великолепнее? — вопросил аббат, обведя рукой здание храма.
Этот возглас вывел Дюрталя из задумчивости; он прислушался к аббату, а тот говорил так:
— В ширину этому собору равных нет, зато он, хотя и весьма высок, не достигает безмерной высоты сводов в Бурже, в Амьене и особенно в Бове, где арки сведены в сорока восьми метрах над землей. Впрочем, там на все были готовы, чтобы превзойти соборы-братья.
Этот храм был возведен одним махом в воздухе, над бездной, зашатался и обрушился. Вы знаете, какие именно части пережили крушение этой безумной церкви?
— Знаю, господин аббат: алтарная часть и абсида, узкие, сжатые; там колонны жмутся друг к другу, а свет пролетает, как мыльные пузыри, через совершенно стеклянные стены; все это вас ошеломляет и обезоруживает, как только вы туда входите. Чувствуешь какую-то тревогу, что-то вроде дурного предчувствия, смятения; дело же в том, что в храме этом нет ни внешнего, ни внутреннего здоровья; он держится лишь на подпорках и прочих уловках; хочет быть непринужденным, а все в нем нарочито; вытягивается в струну, а изящным не становится; у него, как бы сказать? — кость широкая. Припомните хоть его столпы, подобные гладким и толстым буковым стволам, но с колкими, острыми, как у тростника, краями. Какая разница с лирными струнами — воздушной оссатурой[30] Шартрского собора! Нет, что ни говори, собор в Бове, как и в Париже, как и в Реймсе, — жирный собор. Нет в этих храмах изысканной худощавости, вечного отрочества форм, всего патрицианского, что есть в Амьене и особенно в Шартре!
И потом, господин аббат: не поражает ли вас постоянное заимствование у природы, к которому прибегал человеческий гений, строя средневековые базилики. Почти точно можно сказать, что лесные просеки были отправной точкой для таинственных улиц наших нефов. А посмотрите на столпы. Я только что говорил вам про столпы в Бове, восходящие к букам и тростнику; теперь вспомните столпы в Лаоне: на них во всю долготу ствола узлы, до неразличимости похожие на периодические вздутия стеблей бамбука; взгляните также на каменную флору капителей и, наконец, на замковые камни, к которым сходятся длинные нервюры[31] стрельчатых арок. Здесь зодчих, очевидно, вдохновляло животное царство. И вправду, не диковинная ли перед нами паучиха, чье туловище — замок, а ребра, бегущие по своду, — лапки? Подобие настолько явно, что прямо напрашивается. Но что же тогда за чудо — эта гигантская арахнида[32], тело которой, ограненное, как драгоценный камень, и обложенное золотом, несомненно, и выткало огонь трех стеклянных роз!
— Постойте, — сказал аббат, когда они вышли из храма и углубились в улочки, — я и забыл рассказать вам о шифре, повсюду записанном в Шартре. Он таков же, как и в Паре-ле-Моньяль: здесь также все в троическом ритме. У нас три нефа, три входа, и у каждого входа по три двери; окна также тройные, и над каждым по три розетки. Как видите, собор Божьей Матери весь проникнут воспоминаниями о Святой Троице!
— К тому же это великий живописно-скульптурный реперторий[33] Средних веков.
— А еще, как и прочие готические соборы, это самое полное, самое достоверное повествование о символике, ибо аллегории, которые мы вроде бы расшифровываем в романских храмах, в общем, нередко натянуты и сомнительны, да оно и понятно. Романский стиль — новообращенный, язычник, ставший монахом. Он, в отличие от стиля стрельчатого, не родился в католицизме, а стал католическим через крещение, данное ему Церковью. Христианство увидело его в римской базилике, подстроило под себя и использовало, так что происхождение его языческое, и, лишь возрастая, впоследствии он сумел выучить язык и выразить формы наших эмблем.
— Но, по-моему, он сам в целом представляет собой символ: ведь это окамененный образ Ветхого Завета, изображающий сокрушение и страх.
— И не только: еще и мир душевный, — заметил аббат. — Уверяю вас, чтобы правильно понять этот стиль, надобно взойти к его истокам, к первым временам монашества: он их совершенное выражение, а стало быть, перенестись мысленно к Отцам Церкви, к инокам-пустынножителям.
Каков же совершенно особый характер этой восточной мистики? Спокойствие в вере, любовь, пламенеющая сама собой, боголюбие без блеска, горячее, но внутреннее.
Ведь вы не найдете в книгах египетских отшельников бурного пыла Маддалены Пацци и Екатерины Сиенской{30}, нет там и страстных возгласов святой Анджелы. Ничего подобного: никаких любовных восклицаний, никакого трепета, никаких жалоб. Они видят в Спасителе не оплакиваемую жертву, а посредника, друга, старшего брата. Для них он прежде всего, по слову Оригена, «мост, переброшенный от нас к Отцу».
Когда эти тенденции перенеслись из Африки в Европу, они сохранились; первые западные монахи следовали примеру своих предшественников и по их подобию приспосабливали или возводили церкви.
Много, много покаяния, сокрушения, страха под этими темными сводами, под тяжелыми столпами, в этой крепости, где избранный затворяется, чтобы сопротивляться осаде мира, все это несомненно — но кроме того романская мистика внушает нам и мысль о вере твердой, о терпении мужеском, о благочестии крепком, как ее стены.
Конечно, нет в ней пламенных экстазов мистики готической, находящей выражение во всевозможных каменных изысках; но зато романский стиль живет сосредоточенный в себе, в усердии собранном, зреющем в самой глубине души. Он выражен во фразе святого Исаака: In mansuetudine et in tranquillitate, simplifica animam tuam[34].
— Признайтесь, господин аббат, у вас к этому стилю слабость.
— Может быть; в том отношении, что он менее беспокоен, более смиренен, менее женствен и более сообразен монашеству, нежели готика.
В общем, — произнес священник, подойдя к двери своего дома и пожимая руку Дюрталю, — в общем, это символ духовности, образ иноческого жития; словом, это настоящая монастырская архитектура.
Правда, подумал Дюрталь, в том лишь случае, когда храм не подобен собору Божьей Матери в Пуатье, где весь интерьер размалеван детскими картинками с грубыми тонами: ведь тогда создается впечатление не отречения, не покоя, а ребяческой веселости старого дикаря, впавшего в детство, который смеется оттого, что его татуировки раскрасили, да и всю кожу разрисовали в яркие цвета.
VII
— А сколько собор может вместить молящихся?
— Около восемнадцати тысяч, — ответил аббат Плом. — Но вы и без особых рассуждений поймете, что он никогда не бывает полон и даже во время паломничеств его не наполняют те бесчисленные толпы, что были в Средние века. О, Шартр, мягко говоря, отнюдь не благочестивый город!
— Если он и не враждебен религии, то уж точно равнодушен, — вставил аббат Жеврезен.
— Житель Шартра алчен, апатичен и похотлив, — сказал в ответ аббат Плом. — Прежде всего алчен: ведь страсть к наживе, скрытая маской бездеятельности, здесь ужасна. Честное слово, я по собственному опыту жалею каждого молодого священника, которого при начале служения посылают просвещать Бос.
Он приезжает с горячим желанием самоотверженной деятельности, полон иллюзий, мечтает об апостольских победах, а ему приходится утопать в тишине и пустоте. Хоть бы его гнали, он бы чувствовал, что живет; а его встречают не руганью, но улыбкой, что гораздо хуже; и вдруг он отдает себе отчет, что все дела его бессмысленны, усилия ничтожны, и приходит в отчаянье!
Священство здесь, можно сказать, отборное, составлено из святых людей, но почти все они прозябают, поглощенные бездействием: не читают, не трудятся, костенеют и умирают от скуки в этой провинции.
— Только не вы! — засмеялся Дюрталь. — У вас ведь работы хватает: не вы ли мне рассказывали, что особо ухаживаете за душами прекрасных дам этого города, еще снисходящих до интереса к Иисусу Христу?
— Жестокая у вас шутка! — возразил аббат. — Уверяю вас, если бы мне выпало быть духовником у горничных и девушек из народа, я бы не жаловался: в простых душах есть добрые качества, есть стремление к Богу, но среди мелкой буржуазии и богатых людей… Да вы не представляете себе, каковы эти женщины! Если только они ходят в церковь по воскресеньям и отмечают Пасху, то думают, что все им позволено, и тут они самым серьезным образом думают не о том, чтобы не прогневить Господа, а чтобы Его ублажить самыми пошлыми уловками. Они злословят, тяжко оскорбляют ближнего, отказывают ему в помощи и сочувствии и относятся к этому всему как к пустячным грешкам. Но откушать скоромного в пятницу — о, это дело другое; они убеждены, что если какой грех и не прощается, то именно этот. Для них Святой Дух — чрево, а значит, главное дело — лукавить и мошенничать вокруг этого греха, никогда его не совершать, притом все время крутясь вокруг соблазна и не лишая себя удовольствия. О, сколько красноречия они рассыпают передо мной, чтобы уверить в безгрешности водяной курочки!
Во время поста все они одержимы страстью давать обеды и всячески исхищряются подать гостям постное, с виду не похожее на постное, и без конца препираются, скоромны ли утки-мандаринки, утки-лысухи и всякая дичь с холодной кровью. Им бы к зоологу с этим обращаться, а не к священнику!
Ну а на Страстной седмице своя катавасия: то сходили с ума по водяной дичи, а теперь озабочены гоголем-моголем. Простит ли Бог, если откушаешь гоголя-моголя? Он же из яиц, но яйца совсем взбитые, от них ничего-ничего не осталось, так что еда получается прямо-таки аскетическая. И начинаются всякие кулинарные соображения, так что исповедь превращается в буфетную, а священник в кухмистера.
Ну а, собственно, в грехе чревоугодия, они полагают, что совсем не повинны. Так ли, дорогой собрат?
Аббат Жеврезен кивнул.
— Конечно, — сказал он, — это все души пустые, а хуже того — непроницаемые. Они закрыты наглухо для всякой доброй мысли, считают, что отношения с Господом просто подобают им по положению, что это хороший тон, но нисколько не стараются подружиться с Ним, а только отдают визиты вежливости по тем или иным поводам.
— Как к дядюшкам и тетушкам ходят с визитами на Новый год! — воскликнул Дюрталь.
— Только на Пасху, — уточнила г-жа Бавуаль.
— И среди таких прихожанок, — продолжал аббат Плом, — всегда найдется жена депутата, который неправильно голосует, а на упреки жены говорит: да если посмотреть, я христианин получше тебя!
Всегда, на каждой исповеди она начинает заново рассказывать, какой хороший человек ее муж в домашней жизни, и жаловаться, как плохо он себя ведет в общественной; и эти нескончаемые разглагольствования непременно подводят к похвальному слову самой себе, так что она от нас чуть ли не извинений просит за всю головную боль, которую имеет от Церкви!
Аббат Жеврезен, улыбнувшись, сказал:
— Когда я служил в Париже в одном приходе Левого берега, где находится большой модный магазин, я часто встречал женщин некоего особого рода. Иногда, особенно в те дни, когда магазин объявлял большие выставки новинок или устраивал распродажи, в ризницу набивались дамы в прекрасных туалетах.
Жили они все по ту сторону реки; очевидно, эти женщины приезжали к нам в квартал за покупками, видели, что возле прилавков с товарами слишком людно, и дожидались, пока толпа не схлынет, чтобы вольготнее повыбирать свои наряды; заняться им нечем, и они шли в церковь, а там их мучило желание поболтать; чтоб утолить это желание, они подходили к дежурному священнику и болтали в исповедальне, как в гостиной, убивая таким образом время.
— Мужчины пошли бы в кафе, а им нельзя, — сказал Дюрталь, — вот они и идут в храм.
— Правда, может быть, — заметила г-жа Бавуаль, — они хотели поверить незнакомому священнику такие грехи, в которых своему духовнику тяжело признаться.
— Да, — воскликнул Дюрталь, — это новая тема: влияние универсальных магазинов на покаянную дисциплину!
— А также вокзалов, — продолжил аббат Жеврезен.
— Вокзалов? Как это?
— Да так: в церквах, расположенных близ вокзалов, есть своя клиентура: приезжие дамочки. Вот там-то замечание, которое сейчас сделала дражайшая госпожа Бавуаль, полностью подтверждается. Многие провинциалки, приглашающие своего кюре к себе на обед, не решаются рассказывать ему про свои прелюбодеяния: слишком легко догадаться, кто любовник, и священник, бывающий в доме, попадет в неловкое положение; вот, бывая в Париже, по случаю или нарочно под каким-нибудь предлогом, они открываются другому аббату, незнакомому. И вообще, как правило, если женщина начинает исповедь с того, что жалуется на кюре: он-де неумен, необразован, не способен понимать и направлять души, — можете быть уверены, что признание в грехе против седьмой заповеди не за горами.
— Так ли, иначе ли — хватает же нахальства у этих людей ошиваться около Господа! — воскликнула г-жа Бавуаль.
— Несчастные созданья, к своим обязанностям и своим порокам подходящие с самой грубой стороны. Но оставим это, поговорим кое о чем поважнее. Принесли ли вы нам обещанную статью про Беато Анджелико? Прочтите-ка ее.
Дюрталь вынул из кармана только что законченную рукопись, которую в тот же вечер должен был отправить в Париж.
Он уселся в соломенное кресло посредине комнаты и начал…
Композиция этой картины напоминает о древе Иессеевом, где на каждой ветви сидит по человеческой фигуре, а сами ветви раскидываются, распахиваются, как створки веера, по обе стороны трона, где наверху на одиноком отростке расцветает лучистый образ Приснодевы.
В «Увенчании Богоматери» Беато Анджелико справа и слева от древесной купы, где Христос, сидящий на резном каменном престоле под балдахином, возлагает обеими руками корону на склоненную главу Своей Матери, густой тесной порослью тянутся, как шпалеры, святые и патриархи, восходя от нижнего края картины, наверху же с обеих сторон расцветая ярким букетом ангелов, блистающих на фоне небесной лазури своими солнечно-озаренными головами с нимбами.
Вот как задумано расположение этих персонажей:
Слева, у подножья престола, на кресле готического стиля, молятся коленопреклоненные: святой епископ Николай Мирликийский{31} в митре, крепко сжимающий посох, на рукояти которого, как красное знамя, развевается орарь; святой король Людовик в короне; святые монахи Антоний, Бенедикт, Франциск, Фома, указывающий на раскрытую книгу, где написаны первые строчки Te Deum; святой Доминик с лилией в руке, святой Августин с пером; далее вверх апостолы Марк и Иоанн, держащие свои Евангелия, Варфоломей, показывающий нож, которым с него содрали кожу, Петр, Андрей, Иоанн Креститель; далее, еще выше, патриарх Моисей; наконец, тесная вереница ангелов, чьи головы на лазоревом небосводе окружены золотыми ореолами.
Справа, внизу, повернутая спиной, рядом с неким монахом (возможно, святым Бернардом), стоит на коленях Мария Магдалина у сосуда с ароматами, в пунцово-красном платье; далее, позади нее, святая Цецилия, венчанная розами; святая Клара или же Екатерина Сиенская в голубом чепце, усеянном звездами; святая Екатерина Александрийская, опирающаяся на колесо — орудие своей казни; святая Агнесса, гладящая ягненка у себя на руках; святая Урсула{32}, мечущая стрелу, и другие, чьих имен мы не знаем; каждая из святых стоит прямо напротив одного из королей, отшельников, основателей орденов; далее, все выше по ступеням трона, — святой Стефан с зеленой пальмовой ветвью мученика, святой Лаврентий с решеткой, святой Георгий в латах и каске, святой Петр Доминиканец{33}, которого можно узнать по расколотому черепу; затем еще выше апостолы Матфей, Филипп, Иаков Старший, Иуда Алфеев, Павел, Матфий, царь Давид; наконец, напротив левой группы ангелов — тоже ангелы, лица которых, обрамленные золотыми кругами, выделяются на чистом ультрамариновом горизонте.
Несмотря на повреждения при реставрациях, эта картина, с ее рельефной и процарапанной позолотой, блистает первозданной свежестью своей темперной живописи.
В целом она представляет собой зрительную лестницу, если можно так выразиться — лестницу с двойными перилами и великолепными голубыми ступенями, выстланными золотыми коврами.
Впечатление первой ступени создает лазоревый плащ святого Людовика, а выше друг за другом поднимаются другие, мнимо изображенные то приоткрывшимся кусочком ткани, то одеждой апостола Иоанна, а еще выше, совсем немного не достигая ляписной глади небосвода, — одеждой первого ангела.
Справа первая ступенька — мантия святой Цецилии, дальше корсаж святой Агнессы, складки платья святого Стефана, туника пророка, а еще выше, немного не достигая аквамаринового небесного окошка — одежда первого ангела.
Таким образом, доминирующий в картине голубой цвет выстроен правильно, постепенно, почти единообразными полосами с обеих сторон престола. Эта лазурь, разлитая по одеждам, складки которых едва намечены белилами, необычайно светла, беспримерно чиста. Именно она с помощью позолоты, лучами своими окружающей головы, пробегающей и завивающейся на бурых монашеских рясах, рисующей зигзаг на одежде святого Фомы, солнышком или, вернее, мохнатыми хризантемами блещущей на мантиях святых Антония и Бенедикта, звездами — на чепце святой Клары, ажурными кружевами, письменами, составляющими имена, пластинами латных ошейников на одеяниях других святых жен — лазурь и золото рождают душу колорита этого произведения. В самом же низу сцены там и тут находит отклик великолепный удар красного — платье Марии Магдалины, перекликающееся с пламенным цветом одной из ступеней престола; красный цвет приглушается случайно висящими краями одежд или прячется под золотыми ветвями, как на облачении святого Августина; он, подобно трамплину, способствует разрешению дивного аккорда.
Прочие цвета, кажется, играют лишь роль необходимого наполнения, неизбежной подпоры; впрочем, они по большей части удручающе вульгарны и безобразны. Взгляните на этот зеленый: он варьируется от цвета отвара цикория до оливкового и становится совершенно ужасен на двух ступенях трона, разрезающих полотно подобием двух пучков шпината, оброненных на мостовую. Сносен только зеленый цвет на плаще святой Агнессы — пармская зелень, сильно насыщенная желтым, который на приоткрывшейся подкладке плаща еще более ярок из-за соблазнительного соседства оранжевого.
Теперь взгляните на синий цвет: в тонах небесных сфер Анджелико столь роскошно им владеет, но едва делает его темнее, как тот теряет размах и становится почти матовым, как цвет чепца святой Клары.
Но самое поразительное — насколько тот же самый художник, что был так красноречив, пользуясь голубым, становится косноязычен, касаясь другого ангельского цвета: розового. Этот колер у него не легок, не целомудрен; он невнятен, подобен цвету крови, смытой водой, или английской тафте, а то и смахивает на винный осадок: таков оттенок, отливающий на рукаве Христа.
Еще тяжелее этот цвет на щеках у святых: здесь он, так сказать, застыл, подобно корке на марципане, отдает малиновым сиропом в растертом яичном желтке.
Собственно, этими только цветами фра Беато и пользуется: великолепный небесно-голубой и пошлый темно-синий, посредственный белый, сияющий красный, пасмурный розовый, светло-зеленый, темно-зеленый и золото. Ни светло-желтого иммортелевого, ни сияющего палевого — разве что тяжелый желтый цвет без рефлексов на волосах святых; вовсе нет откровенного оранжевого, фиолетового — ни слабого, ни насыщенного, кроме полускрытой подкладки мантии и еле видимого плаща одного из святых, срезанных каймою рамки; не выставлен напоказ и коричневый. Как видим, палитра художника ограничена.
И если вдуматься, она символична: мастер, бесспорно, строил свой колорит таким же точно образом, как и все произведение. Его картина — гимн целомудрию, и он собрал вокруг Господа и Матери Его тех святых, в которых более всего сосредоточилась на земле эта добродетель: Иоанна Крестителя, обезглавленного сотрясенною скверною Иродиады; святого Георгия, что избавил деву от нечистого змия; таких непорочных святых, как Агнесса, Урсула и Клара; таких основателей монашеских орденов, как святые Бенедикт и Франциск; такого короля, как святой Людовик; такого епископа, как Николай Мирликийский, не давший некоему отцу избавления от глада ради отдать своих дочерей в блудилище. Все до малейших деталей, от атрибутов изображенных до ступеней престола, числом совпадающих с девятью ангельскими чинами, в этом творении символично.
Следовательно, можно думать, что и цвета художник подбирал ради изображаемых ими аллегорий.
Белый — символ Высшего Существа, Абсолютной Истины, употребляемый Церковью в облачениях своих на праздники Господни и Богородичные, ибо он свидетельствует о милости, девстве, любви, сиянии, премудрости Божией, величаясь чистым блеском серебра.
Голубой, ибо он передает непорочность, целомудрие, чистосердечие.
Красный в работах примитивов — цвет одеяния Иоанна Крестителя, как голубой — Девы Марии; красный — украшение служб Святому Духу и Страстям Господним, ибо он выражает милосердие, страдание и любовь.
Розовый — любовь извечной Премудрости, а также, согласно святой Мехтильде{34}, скорбей и мук Христовых.
Зеленый — цвет, употребляемый в богослужениях во время паломничеств; видимо, любимый цвет святой Бенедиктины, которая придает ему значение свежести душевной и вечного плодоношения; в герменевтике цветов зеленый служит знаком надежды твари возрожденной, желанием вечного покоя, а также приметой смирения, по одному английскому анониму XIII века, и созерцания, согласно Дуранду Мендскому.
Напротив того, Беато Анджелико сознательно воздержался от применения оттенков, означающих дурные качества, кроме, разумеется, принятых для монашеских одеяний, где смысл этих цветов совершенно переменен.
Черный цвет, цвет неправды и небытия, подписание смерти, в Церкви, по свидетельству сестры Эммерих, служит образом оскверненных и растраченных даров Божиих.
Коричневый, по той же сестре, тождествен неупокоенности, бесплодию, сухости, небрежению; коричневый цвет составлен из красного и черного — дыма, затмевающего Божий огонь, а потому это дьявольский цвет.
Серый — пепел покаяния, признак несчастий, по епископу Мендскому; знак неполного траура во время Великого Поста, в парижском чине в недавнее время замененный лиловым — сочетание белого и черного, радости и горя, зеркало души не дурной и не доброй, существа среднего, теплохладного, которого Бог изблюет из уст Своих[35]; к серому цвету лишь примешивается немного чистого, голубого; впрочем, сдвигаясь к перламутровому, этот цвет может стать и богоугодным — шагом к небу, продвижением на первых мистических путях.
Желтый цвет — сестра Эммерих смотрит на него как на знак лени, страха перед страданием; в Средние века он часто приписывался Иуде, будучи печатью предательства и зависти.
Оранжевый являет себя как откровение Божьей любви, союз человека с Богом, смешивая греховный желтый тон с кровью Любви, но может быть взят и в дурном значении: в смысле лжи и отчаяния, а вдаваясь в рыжину, свидетельствовать о поражении души, не выдержавшей своих прегрешений, ненависть к любви, презрение к благодати, конец всему.
Цвет опавшего листа являет нравственное падение, духовную смерть, навек утраченную зеленую надежду.
Наконец, лиловый, в который Церковь облачается по воскресным дням Рождественского и Великого постов, а также для покаянных служб. То был цвет погребального покрова французских королей; в Средние века он служил знаком скорби и навсегда остался мрачным одеянием экзорцистов.
Труднее, надо сказать, объяснить следующее: узкий выбор типов лиц, излюбленных художником: ведь здесь символика вовсе ни при чем. Вот вглядитесь в его мужские фигуры. Из бородатых патриархов ни у кого нет плоти, подобной светящейся гостии, не видно костей, пронзающих сухую, прозрачную, как тот лунообразный цветок, что и зовется лунником, кожу; у всех лица правильные, любезные, все жизнерадостны и в добром здравии, сосредоточенны и благочестивы; у монахов его также полные лица и розовые щеки; никто из этих святых не схож обликом с отцами-пустынниками, изнуренными постами, не имеет изможденной худобы аскета; у всех отдаленно похожие друг на друга черты, подобное телосложение, одинаковый цвет лица. На этой картине они стоят, как мирное собрание очень симпатичных людей.
Так, по крайней мере, кажется с первого взгляда.
И жены также всё того же семейства: все схожи почти совершенно, как сестры; все белокуры, свежи, с ясными светло-карими глазами, тяжелыми веками, круглыми лицами; все эти несколько вяловатые фигурки служат свитой Пресвятой Деве с длинным носом и птичьей головкой, преклонившей колени у ног Христа.
В общем, на всех изображенных едва наберется четыре различных типа, если только принять во внимание возраст персонажей, отличия, связанные с прической, бородой или ее отсутствием, положением анфас или в профиль.
К этому почти единообразному ансамблю не принадлежат лишь бесполо-юные ангелы, все одинаково прелестные. Они несравненно чисты, сверхчеловечески невинны, одеты в голубые, розовые, зеленые платья с золотыми цветочками, у них светлые либо рыжие волосы, тяжелые и воздушные вместе, целомудренные взоры опущены, тела белы, как свежая древесина. Важные, восторженные, они играют на анжеликах и теорбах, виоль-д’амурах и гудках, поют вечную хвалу Пресвятой Матери.
Словом, с точки зрения изображенных типов выбор Беато Анджелико так же ограничен, как и с точки зрения колорита.
Так что же — картина, не считая очаровательной группы ангелов, монотонна и плоска, это столь хвалимое произведение переоценено?
Нет, ибо «Увенчание Богоматери» — шедевр, превосходящий все восторженные слова, про него сказанные; ведь он вообще выходит за пределы живописи, достигает тех пределов, куда никогда не проникали мистики художественной кисти.
Это уже не ручная работа, пусть самая совершенная, и не труд духовный, истинно благочестивый, как было у Рогира ван дер Вейдена и Квентина Метсю{35}, но нечто совсем иное. У Анджелико на сцену является неведомое: душа мистика, достигшая жизни молитвенной и разлившаяся в ней, на этом полотне видна, как в ясном зеркале.
Душу монаха необыкновенного, душу святого видим мы в этом расцвеченном зеркале, где она раскрывает себя в живописных созданьях. И по творению, отразившему эту душу, можно судить, насколько она продвинулась по пути совершенства.
Живописец доводит ангелов и святых своих до степени жизни соединительной — высшей степени мистики. Там нет уже скорбей медленного восхождения, но лишь полнота тихих радостей, мир человека обоженного; фра Беато — живописец души, погруженной в Бога, живописец внутренних душевных пейзажей.
Только монах мог дерзнуть на такую живопись. Конечно, такие, как Метсю, как Мемлинг, Дирк Боутс, Герард Давид{36}, Рогир ван дер Вейден, были люди почтенные и богобоязненные. Они запечатлели на своих картинах отблеск небес; они также отразили душу свою в изображенных ими образах, но, хотя оставили на них мощный отпечаток искусства, могли представить лишь вид души новоначальной в христианском подвиге, изобразить лишь людей, оставшихся, как и сами они, в первых покоях замка души, о котором поведала святая Тереза, а не в той зале, где, сияя, восседает Христос.
По моему мнению, они были более наблюдательны и глубоки, более учены и умелы, чем Анджелико, были даже лучшими живописцами, но слишком озабочены ремеслом, жили в миру и частенько не могли удержаться, чтобы не дать своим Богородицам позы изящных дам; их обступали воспоминания о земном; работая, они не поднимались над своим повседневным бытом — словом, оставались людьми. Они восхитительны, выразили побуждения самой пламенной веры, но не имели того особого воспитания, которое дается лишь в мире и безмолвии монашеских келий. И вот, они не могли перейти порога областей серафических, в которых парил простодушный инок, лишь для живописания растворявший молитвенно затворенные очи, никогда не смотревший наружу, но всегда видевший лишь то, что было в нем.
Сведения о его жизни подтверждают, что именно так он и должен был писать. Фра Анджелико был монах смиренный и умильный, всегда творил молитву, берясь за кисть, и не умел написать Распятие, не излившись слезами.
Проницая слезный покров, взор его становился ангельским, разливался в сиянье восхищения и создавал лики, имевшие лишь образ человеческий, земную кору нашего тела, но душой возлетавшие далеко за пределы своих телесных клеток. Исследуйте внимательно его картину и посмотрите, как происходит неведомое чудо вознесения души.
Типы лиц апостолов и святых, как мы сказали, невыразительны. Но сосредоточьтесь на лицах этих людей и попробуйте разглядеть, как, в сущности, мало они замечают в сцене, которую видят; какую бы позу ни придал им художник, они все внутренне собранны и созерцают происходящее очами не телесными, но духовными. Все они наблюдают себя самих; Христос живет в них, и они лучше видят Его во глубине души своей, нежели на этом престоле.
То же и святые жены. Я утверждал, что они невзрачны; так и есть, но как же и их черты преображаются, исчезая под печатью Божества! Они живут, поглощенные пламенною любовью, неподвижные, устремляются к небесному Жениху. Лишь одна не вполне отделилась от своей земной оболочки: Екатерина Александрийская с млеющими глазами цвета морской волны; она не проста, не невинна, как ее сестры; она еще видит человеческий образ Христа, она еще женщина; можно сказать, она — грех этой картины!
Но все духовные ступени, облеченные в человеческие фигуры, в этой картине суть, можно сказать, лишь аксессуары. Они помещены там посреди царственно возносящегося золота и целомудренно восходящей лазури, чтобы лествицей чистых радостей вывести к вершине, где высится группа: Спаситель и Матерь Его.
И тут, в созерцании Матери и Сына, восхищенный художник преисполняется вдохновением. Можно подумать, что Господь, вплавившись в него, перенес его за чувственные пределы, ибо любовь и целомудрие воплотились в его картине превыше всех выразительных средств, имеющихся у человека.
Ведь ничто не могло бы выразить почтительной предупредительности, послушливого расположения, отеческой и сыновней любви Христа, с улыбкой венчающего Свою Мать, Она же еще более несравненна. Здесь изнемогают реченья лести; незримое является под видом красок и черт. Чувство бесконечного послушания, напряженного, но скромного богопоклонения проистекает и распространяется от этой Девы, сложившей руки на груди крестообразно, вытянувшей вперед, потупив взор, голубиную головку с длинноватым носом, накрытую платом. Она похожа на апостола Иоанна, стоящего позади Нее, кажется его дочерью; Она приводит в смущение, ибо от этого тонкого ласкового лица, которое у любого художника было бы всего лишь прелестно-пустым, исходит неповторимая чистота. Она уже не во плоти; ткань, облекающая Ее, чуть-чуть развевается под дуновением флюида, форму которому придает Она; Дева Мария живет в неземном, прославленном теле.
Можно понять некоторые подробности из писаний аббатисы Агредской, открывшей, что Она не имела нечистоты, присущей женам; понимаешь и святого Фому Аквината, уверяющего, что Ее красота очищала, а не смущала чувства.
Возраста нет у Нее: Она не женщина, но уже и не ребенок. Но едва ли скажешь и то, что Она подросток, девочка, едва подошедшая к зрелости: столь Она возвышенна, надчеловечна, внемирна, пречиста и присноблаженна!
Ничего в живописи нельзя уподобить Ей. Все остальные Мадонны рядом с Нею вульгарны — они, во всяком случае, женщины; лишь эта — белейший стебель Божьего хлеба, пшеницы Таин Христовых; лишь эта поистине — пренепорочная Дев Царица молитвословий; притом Она так юна, так невинна, что Сын, кажется, венчает Матерь, еще и не зачавшую Его!
Вот тут-то и раскрывается сверхчеловеческий гений кроткого монаха. Он писал под наитием благодати, как другие говорили; писал то, что видел в себе, так же точно, как святая Анджела из Фолиньо пересказывала в себе услышанное. И тот, и та были мистиками, растворившимися в Боге, а живопись Беато Анджелико — живопись Святого Духа, просеянная через решето очищенного искусства.
Если вдуматься, у него душа скорей святой, чем святого: в самом деле, обратитесь к иным картинам, к той, например, где он пожелал передать Страсти Христовы. Здесь не найдешь многолюдных повествований Метсю или Грюневальда{37}, ни жесткой мужественности их, ни мрачной силы, ни трагического смятения; наш художник плачет с отчаяньем горюющей женщины. Это не инок, а инокиня в искусстве, и от этой влюбленной чувствительности, в державе мистики оставленной преимущественно женскому полу, он смог извлечь трогательные моленья и нежные стоны своих творений.
И не из этого ли женственного духовного склада сумел он извлечь, под наитием Духа Святого, чисто ангельскую радость, поистине сияющий во славе апофеоз Господа и Матери Божьей, написанной так, как в «Увенчании Богоматери», многие века почитавшемся в церкви Святого Доминика во Фьезоле, ныне же вызывающей восторг в маленьком зале итальянской школы в Лувре?
— Ваш этюд очень хорош, — отозвался аббат Плом, — но можно ли с той же точностью установить и у других художников принципы богослужебного употребления цветов, что вы рассмотрели у фра Анджелико?
— Нельзя, если брать точно такие цвета, которые перенял Анджелико у своих предтеч в монашестве, у иллюминаторов[36] древних миссалов, примененные им в самом обычном и точном употреблении. Можно, если принять закон противопоставлений, правило контрастов, если мы знаем, что символика эту систему контрастов утверждает, позволяя обозначать некоторыми из цветов, указывающих на добродетели, также и обратные им пороки.
— Словом, цвет незапятнанный может быть взят в извращенном значении и наоборот, — сказал аббат Жеврезен.
— Именно так. Светские и благочестивые художники говорили, как правило, на другом языке, нежели монахи. Выйдя из келий, литургический язык красок изменился, потерял первоначальную жесткость, стал гибче. Анджелико буквально следовал обычаям своего ордена; столь же скрупулезно он соблюдал и уставы церковного искусства, действовавшие в его время. Он не преступил бы их ни за что на свете, ибо полагал столь же канонически обязательными, сколь и установленный текст службы, но как только художники-миряне эмансипировали область искусства, то предложили нам более трудные варианты, более сложные смыслы, так что символика цвета — если они в своем творчестве с ней вообще считались — стала необычайно размытой, почти невозможной для истолкования.
Вот возьмем один пример: в Антверпенском музее есть триптих Рогира ван дер Вейдена под названием «Таинства». На центральной створке, посвященной Евхаристии, жертва Спасителя совершается в двух видах: кровавого распятия и мистически в виде бескровного приношения на алтаре; позади креста, у подножья которого рыдают Дева Мария, апостол Иоанн и жены-мироносицы, священник возносит гостию на мессе в соборе, служащем как бы задником всей картине.
На левой створке представлены сцены таинств крещения, миропомазания и покаяния, на правой — рукоположения, брака и соборования.
Эта на редкость прекрасная картина, наряду со «Снятием с креста» Квентина Метсю служит основанием славы бельгийского музея, но я не буду утомлять вас ее описанием, опущу размышления, вызванные превосходным искусством живописца, а остановлюсь теперь только на том, что в его произведении относится к символике цвета.
— Но уверены ли вы, что Рогир ван дер Вейден приписывал своим краскам какой-то особый смысл?
— Тут не может быть сомненья: ведь он присвоил каждому из таинств свой геральдический цвет, изобразив над каждой изображающей их сценой ангела в одежде цвета, соответствующего природе этой божественной тайны. И вот какие цвета дает он источникам благодати, установленным для нас Господом:
Причащение — зеленый, крещение — белый, миропомазание — желтый, покаяние — красный, рукоположение — фиолетовый, брак — голубой, соборование — темно-лиловый, почти черный.
Признайтесь же: не так легко дать комментарий к этой священной палитре.
Живописное выражение крещения, соборования и священства ясно; брак, представленный голубым, для простых душ также можно понять; еще легче растолковать зеленую финифть для Евхаристии: ведь зеленый — цвет жизненной крепости, смирения, эмблема силы, возрождающей нас; но исповедь, пожалуй, следовало передать лиловым, а не красным, и уж как объяснить, почему миропомазание обозначено желтым?
— В самом деле, цвет Святого Духа красный, — отозвался аббат Плом.
— Так что уже между фра Анджелико и Рогиром ван дер Вейденом есть расхождения в понимании цветов, хотя они жили в одно время, но авторитет монаха мне кажется надежнее.
— А я, — сказал аббат Жеврезен, — все думаю о лицевой и оборотной стороне цветов, про что вы только что говорили. Знаете ли вы, что правило противоположностей относится не только к употреблению красок, а едва ли не ко всей символической науке? Посмотрите, как похоже в репертории животных: орел олицетворяет то Христа, то сатану; змей — один из известнейших обликов диавола, но он же, как медный змий Моисея, может быть и провозвестником Мессии{38}.
— Прообразом христианской символики был языческий двуликий Янус{39}, — со смехом заметил аббат Плом.
— Так или иначе, аллегории палитры могут переворачиваться как угодно, — продолжил беседу Дюрталь. — Вот, скажем: красное — мы видели, что более всего общепринято считать его синонимом любви и страдания. Это лицевая сторона, а изнанка, по толкованию сестры Эммерих, — тяжесть, привязанность к стяжанию в мире сем.
Серый — эмблема покаяния, печали, теплохладности души, но в новом истолковании он вдруг является образом Воскресения: белое проникает в черное, то есть свет во гроб, и получается новый оттенок — серый, смешанный, еще отягощенный мраком воскресающей смерти, но постепенно просветляющийся белизной ясных лучей.
Зеленый, столь отличенный мистиками, в некоторых случаях приобретает страшный смысл. Он может означать нравственное падение, принимая это печальное значение у увядающего листа; это цвет бесовских тел в «Страшном суде» Стефана Лохнера{40}, в адских сценах на церковных витражах и холстах примитивов.
Черный и коричневый, указующие на врагов человеческих, на смерть и ад, меняют смысл, как только основатели орденов взяли их для тканей монашеских одежд. В таком случае черный, по Дуранду Мендскому, напоминает нам об отречении, покаянии, умерщвлении плоти, а коричневый и даже серый вызывают в памяти бедность и смирение.
Далее, желтый, столь дурно трактуемый в списке сравнений, превращается в знак милосердия, если верить одному английскому монаху, писавшему около 1220 года, а золотистый оттенок возвышается до символа любви Божьей, до сияющей аллегории Превечной Премудрости.
Словом, кроме белого и голубого, я не вижу неизменных значений.
— По Иво Шартрскому{41}, — сказал аббат Плом, — в Средние века епископское одеяние было не лиловым, а голубым, чтобы научить прелатов, что они должны заботиться о благах небесных, а не земных.
— Но как же все-таки случилось, — спросила г-жа Бавуаль, — что этот цвет — весь непорочность, весь чистота, цвет Самой Матери нашей, — исчез из числа богослужебных?
— В Средние века голубой цвет употреблялся для богородичных служб, — ответил аббат Плом, — и был оставлен латинской Церковью, за исключением Испании, только в XVIII веке, восточные же православные церкви и поныне в него обряжаются.
— Отчего же его забыли у нас?
— Не знаю, и не знаю, почему многие цвета, прежде существовавшие в литургике, потеряли значение. Где оттенки старого парижского миссала: шафраново-желтый, предназначенный для праздника ангельского собора, пепельный, по иным дням употреблявшийся вместо лилового, угольно-черный вместо простого черного?
И есть еще у нас очаровательный цвет, который, впрочем, еще остается в гамме римского обряда, но отставлен почти во всех церквах: так называемый оттенок засохшей розы, средний между лиловым и пурпурным, между печалью и радостью, своего рода компромиссный, уменьшительный колер, которым Церковь пользовалась в третье воскресенье рождественского поста и в четвертое воскресенье великого. Он свидетельствовал об окончании времени покаяния и начале духовного веселья при приближении праздников Рождества и Пасхи.
Он выражал идею занимающейся зари духа, и принятый ныне лиловый цвет не может передать этого особого впечатления.
— Да, жаль, что розовый и голубой исчезли из западных храмов, — сказал аббат Жеврезен. — Но вот что скажу про монашеские одеяния, избавившие от дурной репутации бурые, серые и черные тона: не думаете ли, что с точки зрения говорящей эмблематики самой красноречивой была одежда ордена Благовещенья? Ризы этих монахинь были серо-бело-красные — цвета Страстей Господних, а к ним надевался голубой подрясник и черное покрывало — память о скорби Матери нашей.
— Образ вечной Страстной седмицы! — воскликнул Дюрталь.
— А вот другой вопрос, — вмешался аббат Плом. — На картинах примитивов подолы плащей, обернутых вокруг Пречистой Девы, апостолов и святых, почти всегда искусно приподняты так, что виден цвет подкладки. Она, разумеется, отлична от лицевой стороны, как и вы сейчас заметили нам по поводу плаща святой Агнессы на картине брата Анджелико. Как вы полагаете, не хотел ли монах, помимо контраста тонов, нужного ради технических требований, выразить таким противоположением некую особенную идею?
— На палитре символов наружный цвет должен означать человека материального, а цвет изнанки — морального.
— Прекрасно; что же тогда означает зеленый плащ с оранжевой подкладкой у святой Агнессы?
— Боже мой, — ответил Дюрталь, — зеленый — свежесть чувства, сила добра, надежда, а оранжевый, взятый в благом применении, может быть выражением действия, которым Бог соединяется с человеком; и конечно, из того и другого можно вывести, что святая Агнесса достигла жизни соединительной, совершенного обладания себя Богом, благодаря силе своей невинности и жару стремлений. Словом, это образ желающей и утоленной добродетели, вознагражденной надежды.
Теперь я должен признаться, что в аллегорической науке о цветах еще много пробелов, много неясностей. На луврской картине, к примеру, все еще непонятны ступени трона с прожилками, с натяжкой играющие роль мраморных. Они располосованы резким красным, едким зеленым, желчно-желтым; что же говорят эти ступени, которые числом своим, повторюсь, возможно, указывают число ангельских чинов?
Во всяком случае, мне кажется, трудно допустить, что монах хотел обозначить легионы небесной иерархии этими полосками, грязными и грубыми движениями кисти.
— А была ли когда-либо сформулирована раскраска ступеней в каталоге символов? — спросил аббат Жеврезен.
— Святая Мехтильда утверждает, что да. Так, говоря о трех приступках перед алтарем, она заявляет, что-де первая ступень должна быть выкрашена золотом во свидетельство тому, что к Богу нельзя прийти помимо милости, вторая в лазоревый, указывая на размышления о божественном, третья в зеленый, удостоверяя живость надежды и хвалы Господу.
— Боже милостивый, — заметила г-жа Бавуаль, которую все эти разглагольствования начали понемногу утомлять, — я никогда ничего такого не видала. Я знаю, что красный цвет для всех людей обозначает огонь, синий — воздух, зеленый — воду, а черный — землю; вот это я понимаю: всякая вещь изображается своим природным тоном; но и думать не думала, что все это так сложно, что в картинах живописцев столько разнообразных намеков.
— Некоторых живописцев, только некоторых! — воскликнул Дюрталь. — Потому что с концом Средневековья учение о красочной эмблематике умерло. В наше время художники, приступающие к религиозным темам, не знают даже первых основ символики цвета, как и архитекторам неведомы первоначала мистической монументальной теологии.
— На многих картинах примитивов в изобилии видны драгоценные камни, — сказал аббат Плом. — Они вставлены в оторочку риз, в ожерелья и кольца святых, рассыпаются огнистыми треугольниками в диадемах, которыми художники былых времен венчали Богородицу. Логически рассуждая, мы должны поискать предназначения каждого из этих камней, как мы поступили с красками.
— Конечно, — ответил Дюрталь, — вот только символика самоцветов очень смутна. Мотивы, по которым решался выбор тех или иных камней чистой воды, которые цветом или блеском обозначали ту или иную добродетель, натягивались так издалека, так слабо доказаны, что можно, кажется, один камень заменить другим, и значение аллегории, о которой они говорят, от этого не изменится. Это синонимический ряд, так что их можно подставлять на место друг друга разве что с некоторыми нюансами.
Кажется, что в описании стен града Апокалипсиса они взяты если не в самом верном, то в самом величественном и широком значении: здесь экзегеты отождествляют каждый самоцвет с одной из добродетелей, а также с лицом, одаренным этой добродетелью. Эти библейские ювелиры придумали и нечто лучшее: наделили каждый камень двойным назначением, велели ему воплощать в одно и то же время как новозаветного, так и ветхозаветного персонажа. Таким образом, следуя параллелизму двух частей Писания, каждый символизирует одного из патриархов и одного из апостолов, представляя их через достоинства, особливо свойственные каждому из них.
Так, аметист, зеркало смирения и детской простоты, в Библии прилагается к Завулону, послушному и не гордому, а в Евангелии к апостолу Матфею — также кроткому и простодушному человеку; халкидон, печать милосердия, отдан Иосифу, столь милостивому и жалостливому к братьям, и Иакову Старшему, первому из апостолов, принявшему мученичество ради любви к Христу. Далее, яшма говорит о вере и вечности; ее ассоциируют с Гадом и Петром; сердолик — веру и мученичество — с Рувимом и Варфоломеем; сапфир — надежду и боговидение — с Неффалимом и апостолом Андреем, а иногда, согласно Арете, с Павлом; берилл — правое вероучение, наука и великодушие — с Вениамином и Фомой, и так далее. Впрочем, существует таблица соответствий между самоцветами, патриархами, апостолами и добродетелями, составленная г-жой Фелисией д’Эйзак, которая написала весьма ученое исследование о тропологии[37] драгоценных камней.
— Но те же говорящие минералы можно было бы представить и образами других персонажей священных книг, — заметил аббат Жеврезен.
— Разумеется, и я сказал с самого начала: все это аналогии очень отдаленные. Герменевтика самоцветов очень неточна; она основана лишь на произвольно найденных сходствах, на кое-как подысканных соглашениях идей. В Средние века к ней обращались в основном поэты.
— А значит, доверять ей не стоит, — сказал аббат Плом, — ведь у большинства из них все толкования языческие. Вот пример: Марбод{42}, который, хотя и был епископом, очень, очень во многих местах оставил нам нечестивые толкования значений камней.
— Вообще говоря, мистические лапидарии больше всего изощрялись в толкованиях камней с ефода Ааронова{43} и тех, что сияют в основании Нового Иерусалима, описанного апостолом Иоанном; впрочем, стены Сиона сложены из тех же самоцветов, что носил брат Моисея, только в Исходе упомянуты карбункул, лигурий, агат и оникс, а в тексте Апокалипсиса — халкидон, сердолик, хризопраз и гиацинт.
— Именно, а ювелиры символов кроме того хотели сковать диадемы, украшенные драгоценностями, чтобы венчать ими чело Божьей Матери, но их стихи мало отличаются друг от друга: почти все восходят к «Венцу Пресвятой Девы», книге, приписываемой святому Ильдефонсу{44} и некогда знаменитой среди иноков.
Аббат Жеврезен встал и снял с полки старый том.
— Вспомнилась тут мне, — сказал он, — одна стихотворная секвенция, сложенная в честь Богородицы немецким монахом XIV века Конрадом Гайнбургским.
— Вот представьте себе, — продолжал аббат, листая книгу, — литанию самоцветов, где в каждой строфе одеваются камнем добродетели Матери нашей.
Предваряет молитву минералов обращение человека: славный инок, преклонив колени, начинает: «Радуйся, Пречестная Дева, невестой Царя Всевышнего быть сподобившаяся; прими кольцо сие в залог союза Твоего, Мария».
Он показывает ей перстень, медленно поворачивая его в пальцах, и толкует для Владычицы смысл каждого из камней, сияющих в золоте оправы. Начинает он с зеленого ясписа, символа той Веры, которой благодаря Приснодева так благочестиво приняла слово архангела-возвестителя. Далее следуют: халкидон, преломляющий огонь милосердия, которым полна душа Ее; смарагд, блеск которого означает непорочность; сардоникс, сияющий ясным пламенем, совместным с кротостью и невинностью ее девства; красный сердолик, отождествляемый с кровоточащим сердцем Ее на Голгофе; хризолит, чьи блестки зеленеющего золота напоминают о Ее бесчисленных чудесах и премудрости; вирилл, открывающий Ее смирение; топаз, удостоверяющий глубину Ее молитвы; хризопраз — ревность о Боге; гиацинт — Ее любовь; аметист, с его смешением розового и голубого, — ту любовь, что дарят ей Бог и человеки; жемчуг, смысл которого в этом стихотворении остается без определенного соответствия с какой-либо добродетелью; агат, объявляющий о Ее стыдливости; адамант — сила Ее и терпение в тяготах; карбункул же — око, сияющее в ночи, повсюду возглашает о Ее вечной славе.
Далее приноситель указывает Божьей Матери на значение иных веществ, также вделанных в оправу кольца и считавшихся в Средние века драгоценными: таковы хрусталь, отражающий чистоту души и тела; лигурий, подобный янтарю, особенно удостоверяющий такое качество, как умеренность; магнит, который притягивает железо, как Она смычком благости своей касается струн кающейся души.
Монах кончает свое моление такими словами: «Это колечко, самоцветами усеянное, ныне нами Тебе приносимое, прими, Супруга преславная, с милостью. Аминь».
— Очевидно, если так толковать значения драгоценных камней, их можно почти точно сопоставить с последовательностью молений литании, — заметил аббат Плом и вновь открыл книгу, закрытую было его собратом. — Смотрите, до чего точны соответствия между именованиями литании и качествами, приписанными самоцветам. Разве смарагд, что в этой секвенции — знак нерушимой чистоты — не отражает в искристом зеркале своей чистой воды обращение «Матерь Пречистая»?
Хризолит, эмблема мудрости, не выражает ли совершенно точно «Премудрых Седалище»?
Гиацинт, атрибут милосердия и помощи грешным — «Христианам вспоможение» и «Грешным прибежище»?
Адамант, сила и терпение — «Дева всемощная»?
Карбункул, слава — «Дева прехвальная»?
Хризопраз, ревность о Господе — «Боголюбия сосуд преизящный»?
И вполне возможно, — заключил аббат, отложив том, — что мы, потрудившись немного, обнаружили бы в этом ожерелье камней те четки молитв, что чередою возносим во славу Матери нашей.
— Особенно если мы не ограничим себя рамками одного этого стихотворения, — добавил Дюрталь, — потому что справочник монаха Конрада неполон и словарь аналогий у него сокращен. Пользуясь применениями других символистов, мы могли бы изготовить перстень такой же, как у него, но все же несколько иной, ибо на камнях были бы другие девизы. Так, для Брунона из Асти, старого аббата Монте-Кассино, яшма олицетворяет Иисуса Христа, ибо она вечно зелена, не имеет пятен и бессмертна, изумруд по той же самой причине отражает жизнь праведных, хризопраз — добрые дела, алмаз — нерушимые души; сардоникс, подобный кровавому гранатовому зерну, — милосердие; гиацинт, переливающийся оттенками голубого, — удаление святых от мира; вирилл, подобный бегущей волне на солнце, — Писания, просвещенные Христом; хризолит — прилежание и мудрость, ибо принимает золотой цвет, мешающийся с ним и дающий ему свой смысл; аметист — лик дев и детей, ибо голубой цвет, слившийся в нем с розовым, внушает нам мысль о невинности и стыде.
С другой стороны, если мы возьмем идеи о тайном языке самоцветов у Папы Иннокентия III, то узнаем, что халкидон, бледнеющий на свету и жарко сверкающий ночью, — синоним смирения, топаз — то же, что целомудрие и заслуги добрых дел, а хризопраз, царь минерального мира, внушает мысль о мудрости и бдении.
Подойдя ближе к нашему времени и остановившись в конце XVI века, мы найдем у Корнеля да ла Пьера в его комментарии на книгу Исхода новые толкования: ониксу и карбункулу он приписывает чистосердечие, вириллу — героизм, бледно-лиловому мерцающему лигурию — презрение к сокровищам на земле и любовь к сокровищам на небесах.
— А святой Амвросий утверждает, что этот камень — эмблема самих Святых Даров, — проронил аббат Жеврезен.
— Да, но что такое вообще лигурий? — спросил Дюрталь. — Конрад Гайнбургский изображает его подобным янтарю, Корнель де ла Пьер считает фиолетовым, а святой Иероним{45} дает понять, что лигурий вообще не какой-то особенный камень, а иное имя, под которым кроется гиацинт — образ благоразумия с его небесно-голубой водой и переменчивыми оттенками. Как в этом разобраться?
— Кстати, о синих камнях: не забудем, что святая Мехтильда почитала сапфир за самое сердце Божьей Матери, — вставил аббат Плом.
— Еще добавим, — продолжал Дюрталь, — что и в XVII веке еще продолжали давать новые толкования самоцветам: прославленная испанская аббатиса Мария Агредская относила достоинства камней, о которых Иоанн Богослов говорит в двадцать первой главе Апокалипсиса, к Пресвятой Деве. По ее учению, сапфир относится к Ее безмятежности, хризолит говорит о Ее любви к Церкви воинствующей и особенно к заповедям спасения, аметист — о могуществе Ее против адских полчищ, яшма представляет непобедимую верность, жемчуг — неизмеримое величие…
— А святой Эвхер, — перебил аббат Плом, — смотрит на жемчуг как на совершенство, целомудрие, евангельское учение.
— При всем том, вы совсем забыли о значении прочих редких камней, — воскликнула г-жа Бавуаль. — Что же, рубин, гранат, аквамарин для нас немы?
— Вовсе нет, — отозвался Дюрталь. — Рубин возвещает о покое и терпении; гранат, по Иннокентию III, отражает милосердие; согласно святому Брунону и святому Руперту, аквамарин собирает в зеленоватой ясности своих огней богословскую науку. Остаются еще два камня: бирюза и опал. Первая, редко упоминаемая мистиками, говорит, должно быть, о радости. Второе же название вовсе не встречается в лапидариях; это не что иное, как халкидон, который описывается как род агата неясной, облачной окраски, искрящегося в полумраке.
Чтобы покончить с этой символической гранильней, скажем еще, что есть ряд камней в воспоминание об ангельских чинах, но и тут применения исходят из довольно натянутых сближений, довольно запутанных мысленных нитей. Так или иначе, сердолик напоминает о серафимах, топаз — о херувимах, яшма — о престолах, хризолит — о господствах, сапфир — о силах, оникс — о властях, вирилл — о началах, рубин — об архангелах, изумруд — об ангелах.
— Вот что любопытно, — заметил аббат Плом. — Если животные, цвета, цветы берутся символистами то в добром, то в дурном значении, драгоценные камни, и только они, значения не меняют: они всегда означают только добродетели, никогда пороки.
— Почему же?
— Видимо, причину подобного постоянства указывает святая Хильдегарда{46}: говоря в четвертой книге своей «Физики» о самоцветах, она говорит, что сатана их ненавидит, боится и гнушается ими, ибо вспоминает, что блеск их сиял внутри него самого до его падения, а еще потому, что иные из них произведены огнем, а огонь — его мука.
Святая пишет еще: Бог, отвративший его от драгоценных камней, не позволил их достоинству потеряться, но пожелал, чтобы они всегда почитались и употреблялись медиками, чтобы исцелять болезни и утешать беды.
И в самом деле, в Средние века камни премного почитали и пользовались ими при лечении.
— Ну и вернемся к картинам примитивов, где Богородица вырастает, подобно цветку, из многоцветной кипы минералов, — вновь вступил в разговор аббат Жеврезен. — В общем, можно утверждать, что горящий костер самоцветов передает в зримых чертах достоинства Той, кому они принадлежат, но нелегко точно определить намерение художника, помещающего этот или иной камень на то или другое место венца или одеяния. Это, конечно, дело гармонии и вкуса, а вовсе не символики.
— Вне всякого сомнения, — ответил Дюрталь, раскланиваясь с отцами: заслышав звон из собора, г-жа Бавуаль уже подавала им служебники и шляпы.
VIII
Внезапно состояние несколько меланхолического покоя, в котором Дюрталь с тех пор, как поселился в Шартре, так и оставался, оборвалось. Разом нахлынула и поселилась тоска, черная тоска, не позволявшая ни работать, ни читать, ни молиться; такая тоска до того лишает сил, что вы не знаете, что делать, куда податься.
Долгие, мрачные дни он влачил в библиотеке, перелистывая какой-нибудь том, закрывая его, открывая другой, глядел туда и не понимал ни слова; потом он пытался убежать от тяжести пустых часов, выходя из дома, и наконец решился поближе познакомиться с Шартром.
Он нашел в нем глухие переулочки, головокружительные спуски, как, например, с холма Святого Николая, где от верхнего города стремительно сбегает череда ступенек; дальше начинался бульвар Дочерей Божьих с аллеями, обсаженными деревьями, совсем безлюдный, стоивший того, чтобы на нем задержаться. От площади Друэз выходишь на мостик там, где соединяются два рукава Эры; справа, над поворотом речки, над ветхими домишками, толпящимися вдоль берега, шел вверх Старый город, над которым воздымался собор; слева, вдоль набережной, напротив забора из больших тополей, овевавших строй водяных мельниц, лесопилок и лесных складов, устраивались прачки, стоя на коленях в коробах, выстланных соломой; вода вокруг них пенилась, чертила чернильные круги, которые пролетавшие птички кропили прозрачными капельками с крыл.
Этот рукав реки протекал по рвам старых городских стен, окружал нижнюю часть Шартра и был оторочен с одной стороны деревьями проспекта, с другой лабиринтом хибарок и садиков, сбегавших до самой Эры, через которую на другой берег были перекинуты дощатые мостики на сваях и подвесные чугунные.
Возле же ворот Гийом стояли, поднимая кверху зубчатые пироги башенок, дома, словно задравшие рубахи, подобно бездельникам, что в прежние времена валялись около парижской богадельни; видны были распахнутые подполья у самой воды, мощенные плитами погреба, в глубине которых в темничном сумраке различались ступени каменной лестницы; если же перейти горбатый каменный мостик ворот, на своде которых сохранились еще желоба для подъемной решетки, которую некогда закрывали на ночь, прекращая доступ в эту часть города, попадешь к другому рукаву речки, и здесь омывающей подножья зданий, игриво прячущейся во дворах, лениво текущей вдоль стен — и тотчас неотвязно вспоминалась другая речушка, очень похожая, цвета отвара из ореховой кожуры, кипящая пузырьками; это воспоминание об унылой Бьевре подкреплялось, усиливалось резким и грубым, горячим и словно чуть уксусным запахом дубилен, дымившимся над соком мушмулы с мякотью, что наполнял русло Эры. Теперь в Париже Бьевра забрана в трубу, а здесь она, казалось, вырвалась из темницы, убежала из столицы на свежий воздух сюда, к улицам Сукновальной, Дубильной, Скотобойной, где только и теснились что мастерские кожевников да фабрики торфяных брикетов.
Правда, в этом городе не было парижского пейзажа, тревожного и скупого, трогающего выражением немого страдания; впечатление от этих улиц было гораздо проще: город больной, город бедный. Бьевре-второй не хватало очарования истомленности, грации увядающей парижанки; не было в ней прелести, составленной из жалости и раскаяния, не было очарования вырождения…
Но только по этим улочкам, завивавшимся спиралью вокруг холма, над которым высился собор, и было действительно любопытно ходить в Шартре.
Там Дюрталю не раз удавалось уйти от самого себя, мечтать над усталой, унылой водой и забывать о собственном отчаянье; потом наступило утомленье и от упорных прогулок все по одному кварталу, и он принялся бродить по городу из конца в конец, пытался доставить себе удовольствие, глядя на ветхие жилища, на башенки домов королевы Берты и Клода Юве, на другие здания, пережившие катастрофы веков, но изучение этих руин, отмеченных расчетливым энтузиазмом путеводителей, ненадолго захватило внимание Дюрталя; тогда он стал искать рассеянья в храмах. Хотя собор подавлял все вокруг себя, церковь Святого Петра, бывшая аббатская бенедиктинского монастыря, превращенная в казарму, великолепием витражей с портретами епископов и аббатов с посохами в руках, сурово глядевших на вас, заслуживала того, чтобы в ней задержаться. Необычайны были и окна, сильно пострадавшие от времени: стрельчатые проемы с прозрачными стеклами рассекались лезвиями мечей без острия, и на этих прямоугольных клинках на ясном бесцветном фоне ярко выделялись пламенеющие одежды святых Бенедикта и Мавра, апостолов и Пап, прелатов и подвижников.
Поистине самые прекрасные витражные мастерские в мире находились в Шартре, и каждый век накладывал на его святилища свою горделивую печать: XII, XIII и даже XV — в базилике, XIV — в церкви Святого Петра; в церкви Сент-Эньян, где своды размалеваны живописцами нашего времени в тона пряников с анисом, сохранилось и несколько образцов (к несчастью, рассеянных и переставленных в полном беспорядке) стекол, расписанных в XVI веке.
Дюрталь убил в этих церквах несколько дней, но затем интерес к их изучению пропал и сплин вернулся пуще прежнего.
Аббат Плом, чтобы развлечь писателя, вывез его за город, но Бос настолько однообразен и плосок, что даже дорожного происшествия не могло случиться. Тогда аббат повел его на прогулки в другие районы города. Иногда кое-какие памятники обращали на себя их внимание — скажем, дом смирения на улице Святой Терезы рядом с Дворцом Правосудия. Конечно, эти здания были не слишком внушительны, но происхождением своим могли давать толчок старым мечтам. В стенах тюрьмы, высоких и строгих по форме, четких и аккуратных на вид, было нечто напоминавшее стены монастыря, выстроенного кармелитами, и действительно это здание некогда населяли монахини молитвенного ордена. Дальше в нескольких шагах была видна бывшая обитель якобинцев, ставшая материнской для большой шартрской общины милосердных сестер апостола Павла.
Аббат Плом сводил Дюрталя в этот монастырь, и у него осталось радостное воспоминание о прогулке на ветру вокруг старых стен. Монахини сохранили обходную дорогу, тянувшуюся длинной узкой аллеей, с обоих концов выводившей к статуе Мадонны: с одной стороны, Непорочного Зачатия, с другой — Богоматери с Младенцем. Эта аллея, посыпанная речной галькой и обсаженная цветочными лужайками, с одной стороны шла вдоль стен аббатства и новициата, с другой же нависала над бездной, затем ныряла в широкую улицу Холма Угольщиков, продолжавшуюся улицей Короны; за ними убегали газоны садов Сен-Жан, колея железной дороги, рабочие хибарки, монастыри…
— Гляньте-ка, — говорил аббат, — вон там, за насыпью Западной линии, обитель сестер Божьей Матери и кармелиток, а здесь, ближе к нам, по сю сторону путей, живут полусестры ордена Бедных…
Монастырей в городе вообще было множество: в общежитиях вокруг Шартра жили сестры Визитации{47}, сестры Провидения, сестры Благопомощницы, инокини Сердца Христова. Гул молитв доносился отовсюду, благовонным дымом благих душ поднимался над городом, где во славу Божию не читали ничего, кроме сводок цен на зерно и котировок лошадиных рынков, по известным дням собиравших в кафе на площади всех окрестных барышников.
Кроме прогулки у стен, монастырь апостола Павла нравился еще покоем и чистотой. В тихих коридорах виднелись спины монахинь, пересеченные белыми треугольниками накидок, слышалось пощелкивание больших черных четок на медных цепочках, стукавшихся о подвешенные к поясу связки ключей. Монастырская церковь отдавала своим временем — веком Людовика XIV, — была чересчур холодна от золота и чересчур блестела навощенным паркетом, но имела одну интересную деталь: у входа вместо стен стояли стекла — не зеркала, а цельные стекла, так что зимой больные могли в теплом помещении сидеть у стеклянной перегородки, смотреть, как совершается служба, и слушать солемское хоральное пение: у монахинь хватило вкуса выучить эти распевы.
Посещение монастыря утешило было Дюрталя, но он поневоле сравнил покойные часы, протекшие в нем, с другими, и город стал ему еще отвратительней: эти жители, эти широкие улицы, пресловутая площадь Эпарс, играющая в маленький Версаль — кругом напыщенные особняки, посередине нелепая статуя Марсо…
И до чего же расслаблен был этот городишко, еле-еле просыпавшийся с восходом солнца и засыпавший с первыми сумерками!
Только раз Дюрталь видел его бодрым: в день интронизации монсеньора Ле Тиллуа де Моффлена. Тут вдруг в гальванизированном городе пробудились самые разные планы, стали собираться установленные корпорации, люди, годами сидевшие по домам, вышли на улицы.
У каменщиков отобрали все шесты для лесов, к их концам привесили голубые и желтые орифламмы[38], перевязали эти мачты гирляндами хмеля, сшив его шишки между собой белыми нитками.
На этом Шартр утомился и тяжко вздохнул.
Пораженный неожиданным парадом, необычайным призраком оживления, Дюрталь прошел на встречу епископа к улице Сен-Мишель. Там посреди большой площади возвышался гимнастический турник без колец и трапеций в венке из еловых веток, цветов золоченой бумаги; наверху расходился веером пучок трехцветных флажков под расписанным красками щитом. Получилась эдакая триумфальная арка; учащиеся духовных заведений должны были провезти под ней епископскую колесницу.
Процессия направилась за епископом в приют Святого Брикия, где он по многовековой традиции ночевал в день приезда в епархию; она потянулась под мелким дождичком песнопений, прерывавшимся ливневым шумом медной фанфары, громко дудевшей во славу Божию.
Медленно, шаг за шагом кортеж продвигался между стенами толпы, собравшейся на тротуарах; из-за рам, разукрашенных флажками, повсюду гроздьями высовывались лица и свешивались по пояс обрезанные подоконниками тела.
Впереди, за тяжелыми спинами разодетых швейцарцев, двумя лентами во всю ширину извилистых улиц проходили девочки из монастырских школ в ярко-синих платьях и белых вуалях, за ними делегации монахинь всех орденов, пребывавших в департаменте Эры; сестры Визитации из Дрё, дамы Сердца Христова из Шатодена, сестры Непорочного Зачатия из Ножана-ле-Ротру, послушницы затворнических обителей в самом Шартре, далее сестры святого Винцента де Поля и клариссы{48}, резко выделявшиеся на фоне черных одежд других инокинь своими рясами, голубовато-серыми и землисто-бурыми.
Но любопытней всего было разнообразие головных уборов.
Одни носили чепчики мягкие, гладкие; другие — гофрированные и накрахмаленные хитроумными составами; лица одних были видны лишь через белую трубку, у других же, напротив, выдавались вперед из овальной плоеной рамки, зато на затылке у них возвышались пирамиды из жесткого полотна, отглаженные тяжелыми утюгами. Глядя на пространство, усеянное монахинями, Дюрталь припомнил вид парижских крыш, где печные трубы выглядят так же, как чепцы на этих черницах и жандармские шляпы на этих швейцарцах.
Позади же вереницы темных юбок гремели горнами багряные одежды соборного хора. Дети шли, потупив глаза, скрестивши руки на красных пелеринках, отороченных горностаем, а за ними, в нескольких шагах перед другими группами, ярко светились две белые рясы с капюшонами: ряса пикпюсианца и ряса трапписта, капеллана малой траппистской обители в Кур-Пейтраль.
Наконец, топали черной массой большая шартрская семинария и малая сен-шеронская, за ними духовенство, а далее на белоснежной колеснице под малиновым бархатным балдахином с пучками белоснежных перьев по углам шествовал, в митре и с посохом, монсеньор Ле Тиллуа де Моффлен.
Едва епископ благословил улицу, восстали неизвестные Лазари, воскресли неведомые мертвецы. Его Преосвященство превзошел в чудотворстве Христа: расслабленные старцы, горбившиеся в креслах на пороге у дверей или возле окошек, на мгновенье оживлялись и находили в себе силы перекреститься! Люди, которых многие годы уже и в живых едва числили, чуть ли не улыбались. Изумленные очи престарелых младенцев следили за лиловым крестом, очерченным в воздухе перчаткой прелата. Шартр, бывший некрополем, превращался в родильный дом; в порыве радости город возвращался в детство.
Но как только проехал епископский балдахин, все переменилось. Дюрталь в ужасе застонал. Началось нечто безумное.
За епископом тянулся Двор чудес; покачиваясь на дрожащих ногах, проходила колонна старых хрычей, одетых словно в обноски из морга; они держали друг друга под руки, опирались друг на друга. На них, вместе с ними, сопровождая все их движения, болталось всякого платье из лавок старьевщика двадцатилетней давности; штаны с клапанами, брюки расклешенные, панталоны с буфами и в обтяжку, из тонких и тянущихся материй никак не хотели доходить до ботинок, открывали ноги, так что мелькали штрипки, похожие на мелких паразитов, из-под носков как будто выползали чернильно-черные червячки; пиджаки на стариках были лысые, выцветшие, кроенные из бильярдного сукна, из потертого брезента, из обрезков парусины, рединготы как будто из толя, лоснящиеся на локтях и пониже спины, жилеты бутылочно-зеленые в цветочек на толстых белых пуговицах; но все это еще ничего — поистине потрясающей, превосходящей всякое воображение, по-настоящему безумной была коллекция шляп на макушках этих оборванцев.
Здесь собрали все образцы исчезнувших, затерявшихся во мраке лет головных уборов; самые заслуженные ветераны носили цилиндры-муфты и цилиндры-трубы, другие выставляли напоказ белые цилиндры, подобные опрокинутым ночным горшкам или большим пробкам с дыркой внизу; еще некоторые украшались фетровыми шляпами, похожими на греческие губки, мохнатыми колючими боливарами, котелками с плоскими полями, подобными пирогам на тарелке; были, наконец, такие, что гордились шапокляками, вздувавшимися и складывавшимися гармошкой, а каркас их просвечивал сквозь шелк.
Эти бредовые раскладушки превосходили всякое вероятие. Были среди них очень высокие, вверху расходившиеся шире, как кивера наполеоновских вольтижеров, были и очень низкие, завершавшиеся широкими культяпками, блинами, как у русских шапок, или похожие на детские горшки.
А из-под этого шляпного бедлама гримасничали морщинистые старческие лица с жидкими колбасками бакенбард по щекам и щеточками усов на губах.
Глядя на такой карнавал инвалидов, Дюрталь содрогнулся от неудержимого смеха, но вскоре осекся: он увидел двух нищенствующих полусестер, сопровождавших этот лицей ископаемых, и все понял. Одежду на этих людей собирали как милостыню, для них выгребали из чуланов то, чего никто уже не носил, и, если это понять, нелепость их костюма становилась трогательной: сестрам, должно быть, пришлось нелегко пустить в дело эти отходы благотворительности, а старые дети, не слишком сведущие в модах, задирали нос от гордости, что их так нарядили.
Дюрталь прошел вместе с ними до собора. Дойдя до маленькой площади, кортеж, подхваченный порывом ветра, понесся вперед, вслед за хоругвями, надувшимися, как паруса, и увлекавшими за собой людей, цеплявшихся за древки. Наконец народ кое-как втиснулся в храм. Мощный органный поток разнес по базилике Te Deum. В этот миг казалось, что церковь, вознесенная великолепным песнопением, отчаянным броском взлетела в воздух и поднималась все выше; отовсюду доносилось эхо победного гимна, столько раз звучавшего под ее сводами; ныне единственный раз музыка была в согласии со строением, говорила на языке, знакомом собору с детства.
Дюрталь забылся в восторге. Ему казалось, что Божья Матерь в огнистых витражах улыбалась, взволнованная звуками, которые Ее возлюбленные святые создали, чтобы раз и навеки заключить в одной мелодии и в неповторимом тексте рассеянные по миру хвалы верующих, несказанную радость народных множеств.
Но вдруг упоенье схлынуло: Te Deum окончился; в трансепте раздались барабанная дробь и звон рогов. Покуда шартрский духовой оркестр сотрясал стены своими снарядами, он удрал, чтобы вздохнуть подальше от толпы, не заполнившей, впрочем, неф целиком, а после церемонии побывал еще на процессии корпораций, наносивших прелату визиты в епископском дворце.
Тут-то он повеселился без всякого стыда. Двор перед зданием наполнился священством; группы викариев и кюре, избранных собраниями старейшин архидиаконств Шартрского, Шатоденского, Ножанского, Дрёсского, прошли за решетку парадных ворот и толпились теперь вокруг зеленого газона.
Власти предержащие в городе, ничуть не менее смешные, чем пенсионеры нищенствующих полусестер, широким потоком вливались туда же, расталкивая на аллеях духовенство — паноптикум первейшего разбора! Ползли люди-чудища, проходили головы в виде яиц и пушечных ядер, серия лиц, искаженных кривыми зеркалами, видимых через бутылку, вырвавшихся на волю из фантастических альбомов Редона{49}: музей ходячих монстров! Тупая привычка к однообразным ремеслам, передававшимся в мертвом городе от отца к сыну, замораживала лица, а праздничная веселость этого дня прививала к их наследственной уродливости еще и нелепость.
Воздух наполнился всеми черными одеждами города Шартра. Одни, времен Директории, обволакивали шею, подползали к самому затылку, вздувались пузырем, охватывали голову до ушей. Другие, напротив, в комодах сели, их короткие рукава чуть не лопались, сжимая подмышки хозяев, а те и пошевелиться не смели.
Над собравшимися витал запах бензина и камфары: так воняли костюмы, которые супруги магистратов только нынешним утром достали из хранилищ и протерли. В тон были и огромные цилиндры. В шкафах они сами собой подросли и, колоссальные, высились на головах; из-под их картонных колонн пробивалась реденькая травка волос.
Все эти люди общались, поздравляли друг друга, пожимали друг другу руки в белых перчатках, отчищенных керосином, оттертых ластиком и хлебным мякишем. Вдруг в толпе духовных и светских лиц произошло движение; все выстроились, сняв шляпы, перед старым ландо похоронного вида, запряженным полудохлой клячей с каким-то мужиком на козлах: лица кучера не было видно под зарослями, торчавшими на щеках и изо рта, из ушей и из носа. Повозка остановилась у крыльца; из нее вышел толстяк, надутый, как пузырь, втиснутый в шитый серебром мундир, а за ним господин потоньше в сюртуке с синими и голубыми нашивками; все поклонились господину префекту, прибывшему со свитой из трех советников префектуры.
Начальники приподняли треуголки с плюмажами, кое с кем обменялись рукопожатиями и скрылись в передней. Вслед за ними тотчас явилась и армия, представленная кирасирским полковником, артиллерийским офицером, несколькими пехотными унтерами в красных штанах и жандармом.
И вот все; через час после приема утомленный город уснул, не найдя даже сил убрать флаги; Лазари вернулись во гробы, воскресшие старцы вновь пали замертво; улицы опустели; Шартр на многие месяцы изнемог от излишеств этого дня и залег.
— То-то захолустье, то-то дыра! — восклицал Дюрталь.
Бывало, по вечерам ему надоедало сидеть, зарывшись в книги, или высиживать часы в храме, слушая, как каноники у клироса лениво перекидываются мячиками псалмов, ворчливо отбивая каждый стих на другую сторону, и он после ужина выходил выкурить сигарету на площадь. В Шартре восемь вечера — все равно что в другом городе три часа ночи: все погашено, все закрыто.
Духовенство, торопясь отойти ко сну, уже в семь часов запирало Приснодеву на замок. В соборе ни молитв, ни благословений — ничего. Тех мигов, когда преклоняешь колени в полумраке и веришь, что Матерь наша ближе, реальнее подошла к тебе, тех минут доверья, когда не так страшно поведать ей о своих ничтожных скорбях — ничего этого в шартрском храме не было. О, ночей напролет в молитве тут не проводили!
Войти в храм Дюрталь не имел возможности, но мог бродить вокруг. Еле освещенный неверным светом редких фонарей по углам площади, собор принимал необычайный облик. Его порталы зияли пещерами, полными мрака, а наружная стена храма, от башен до апсид, с еле проглядывающими в темноте контрфорсами и аркбутанами, высилась, как утес, источенный невидимым морем. Казалось, будто перед тобой гора с вершиной, изломанной бурями, а внизу проточенная исчезнувшими океанами, изрытая глубокими гротами; подойдя же ближе, различишь в темноте неясные обрывистые тропы вдоль утеса, террасами петляющие между скал; кое-где на этих черных дорогах возникали в лунных лучах белеющие статуи епископов, тревожные, словно призраки этих руин, благословляющие проходящих воздетыми каменными перстами.
Прогулка вокруг собора, легкого и летучего днем, во мраке же тяжелевшего и становившегося грозным, никак не могла рассеять меланхолии Дюрталя.
Вид пробоин, оставленных молнией, и пещер, покинутых зыбями, погружал его в новые раздумья и в конце концов возвращал к себе, так что из блужданий мысли он приходил вновь к своим собственным развалинам — вновь и вновь исследовал свою душу и пытался немного привести в порядок мысли.
Тоска хоть волком вой, размышлял он, а отчего? Анализируя свое состояние, он приходил к такому выводу: моя тоска не простая, а двоякая, а если и не совсем двоякая, то в ней есть две весьма различные части. Есть тоска от самого себя, не зависящая от окружения, жилища, чтения, а есть совсем особенная, местная, шартрская тоска.
Тоска от себя — куда ж от нее деваться! Мне надоело до смерти следить за собой, пытаться угадать секрет своих просчетов и недовольств. Как подумаю о своей жизни, так приду только вот к чему: прошлое мне представляется ужасным, настоящее слабым и унылым, будущее же меня устрашает.
Он прервался и продолжил мысль: в первые дни здесь я обольщался мечтами, возбужденными этим собором. Думал, он станет реактивом моей жизни, населит пустыню, которую я ощущал в себе, словом, станет подмогой в этой провинциальной атмосфере. Но — я заблуждался. Да, он все еще нависает надо мной, еще обволакивает меня теплым сумраком своей крипты, но я уже рассуждаю, уже разбираю его детали, уже пытаюсь говорить с ним об искусстве и теряю в этих разысканиях безотчетное чувство его среды, молчаливое очарование целого.
Теперь меня возбуждает не столько его душа, сколько тело. Я пожелал изучить археологию — презренную анатомию зданий, по-человечески влюбился в его очертания: божественное бежало от меня, оставив место земному. Увы, я пожелал увидеть, и вот я проклят: вновь и вновь вечный символ Психеи{50}!
А потом… вот еще: нет ли в этом унылом утомлении вины и аббата Жеврезена? Он предписал мне частое причащение и тем истощил для меня мирную, но отвлекающую силу Святых Даров; самый очевидный результат такого режима в том, что душа моя рухнула плашмя и не имеет сил подняться.
Нет-нет, подумал он, помолчав, это я все роюсь в вечном своем превозношении, в неустанных сомнениях; вот и к аббату я опять несправедлив. Он же не виноват, что от частого повторения причащение мое сделалось холодно; я ищу от него приятных ощущений, а надо было прежде убедить себя, что такое желание недостойно, что, именно потеряв теплоту, причащение стало лучше, большей заслугой. Да, сказать-то так легко, но где найдешь католика, который холодное причащение предпочтет горячему? Среди святых, конечно, но ведь и святые страдают! Ведь так естественно просить у Бога немножко радости, ожидать от союза с Ним, что Он позовет тебя ласковым словом, знаком, чем-то неуловимым, показывая, что думает о тебе!
Как ни трудись, нельзя переживать без боли мертвое вкушение живых опресноков! И нелегко признать, что Господь не без причины не показывает нам, от каких скорбей хранят и куда ведут нас Его Дары, ибо иначе мы могли бы остаться без обороны против нападений себялюбия и приступов тщеславия, без укрытия от себя самих.
В общем, какова бы ни была тому причина, в Шартре мне не лучше, чем в Париже, заключил он. И когда подобные рассуждения, особенно по воскресеньям, осаждали его, он жалел, что дал аббату увлечь себя в эту провинцию.
В Париже в этот день он хотя бы мог занять время, посещая богослужения. Утром можно было бы побывать на мессе у бенедиктинок или в Сен-Северене, а вечером отслушать вечерню и повечерие в Сен-Сюльписе.
А здесь нет ничего, хотя где же и подобрать лучше исполнителей для грегорианского обихода, как не в Шартре?
Если не считать нескольких лающих басов, которых совершенно необходимо выгнать вон, здесь есть обильный сноп чистых звуков, певческая школа для сотни детей, которые чистыми голосами могли бы развить широкие мелодии древних хоралов.
Но идиот капельмейстер в этом злосчастном соборе использовал как литургические распевы набор площадных мотивчиков; по воскресеньям он их отпускал на свободу, чтобы скакали макаками по столбам и по сводам. И к этому-то музыкальному обезьяннику приноравливали невинные голоса певчих! К несчастью, в Шартре было решительно невозможно бывать на воскресной мессе.
Другие службы были не лучше, так что слушать вечерню Дюрталю приходилось в нижнем городе, в церкви Божьей Матери у Пролома — капелле, где священник, друг аббата Плома, ввел солемское пение и с великим терпением составил небольшую команду певчих из верующих рабочих и набожных детишек.
Голоса у них, особенно у мальчишек, были так себе, но все-таки настоятель — искушенный музыкант — подогнал и отшлифовал их и, в общем, ему удалось утвердить бенедиктинское искусство у себя в храме.
Вот только храм этот был до того безобразен и до того неудачно украшен картинами, что нельзя было в нем находиться, не закрывая глаз!
И, качаясь в зыби размышлений о душе своей, о Париже, о причащении, о музыке, о Шартре, Дюрталь в конце концов переставал соображать, где он и что он.
Впрочем, иногда ему выдавалась минутка покоя, и тогда он самому себе удивлялся, самого себя не понимал.
Я жалею о Париже? — думал он. — С какой стати, разве та моя жизнь хоть чем-нибудь отличалась от здешней?
Разве там храмы, взять для примера хоть собор, не опоганены кощунственными попевками так же, как и собор в Шартре? Притом же я почти не выходил гулять по роскошным улицам, да и в гостях, собственно, бывал только у аббата Жеврезена с г-жой Бавуаль — так к ним я и здесь хожу, даже чаще прежнего. А кроме того, на новом месте я обрел такого ученого и любезного приятеля, как аббат Плом, — чего же еще надо?
В одно прекрасное утро, совершенно неожиданно для него, все объяснилось. Он очень ясно понял, что шел по неверному пути, а теперь нечаянно попал на нужный след.
Чтобы разобраться, почему он все хочет не знамо чего, по какой непонятной причине ему всегда не по себе, надо было только, припоминая свою жизнь, дойти до обители траппистов. В общем, все шло оттуда. Остановившись в этой высшей точке своего попятного хода, он мог, словно с моста, единым взглядом охватить, как с той поры, когда он оставил обитель, года спускались по склону. И ныне в накренившейся панораме прожитых дней Дюрталь видел вот что.
С самого возвращения в Париж влечение к монастырскому затвору охватило его и не отпускало; мечта уйти от мира и жить в тихом уединении близ Бога преследовала его неотступно.
Конечно, выражалась она только в бесплодных пожеланьях и сожаленьях: Дюрталь прекрасно знал, что для заточения у траппистов и тело его недостаточно крепко, и душа не довольно тверда, но, вылетев с этого трамплина, воображенье парило уже в свободном полете, преодолевало препятствия, разносилось волнами мечтаний: он видел себя монахом в нестрогом монастыре какого-нибудь мягкого ордена, где страстно любят литургию и искусство.
Придя в себя, приходилось пожимать плечами и улыбаться обманчивым загадкам, выдуманным в часы унынья, но на смену жалости к себе как к человеку, пойманному на бреде, все равно приходила надежда не совсем потерять все хорошее, что есть в благом обмане, и Дюрталь начинал нестись на другой химере, по его сужденью, более благоразумной, приходя в конце концов к чему-то среднему, к компромиссу, полагая, что идеала легче достигнуть, если урезать его.
Он говорил себе: раз не получится действительной монастырской жизни, то, быть может, удастся сотворить себе ее удовлетворительную иллюзию, если убежать от парижского кавардака и забиться в какую-нибудь дыру.
Тут он замечал, как ошибался, думая, будто принял решение оставить Париж и перебраться в Шартр, сдавшись на доводы аббата Жеврезена и настояния г-жи Бавуаль.
Было ясно, что, не признаваясь в том себе, для самого себя необъяснимо он действовал под наитием своей неотступной любимой мечты. Что такое Шартр, как не та монастырская гавань, не та обитель нестрогой жизни, в которой он полагал сохранить себе всю свободу и не отказаться от благосостояния? Так или иначе, разве это не было пастбище, предложенное ему взамен недостижимого затворничества, не тот последний спокойный приют, к которому он стремился, вернувшись от траппистов, если только перестать требовать слишком много?
А между тем ничего не свершилось; то же впечатление, будто он не на своем месте, испытанное в Париже, сохранялось и в Шартре. Он чувствовал себя на кочевье — словно летел и присел на ветку, словно не жил дома, а задержался в меблированных комнатах, откуда рано ли, поздно придется съезжать.
Словом, он обманывал себя, воображая, будто уединенную комнату в тихой округе можно уподобить келье. Набожная жизнь в провинциальной атмосфере не имела ничего общего с монастырским окруженьем; никакой полуобители в реальности не существовало.
Когда он убедился наконец в этой неудаче, сожаленья его стали еще сильнее, и боль, бывшая в Париже смутной, затаенной, в Шартре дала себя знать ясно, отчетливо.
Началась беспрестанная борьба с самим собой.
Он спрашивал совета у аббата Жеврезена, но тот лишь улыбался и обращался с ним так, как обращаются в новициате или семинарии с молоденьким послушником или студентом, признавшимся в сильной меланхолии и непроходящем утомлении. Там прикидываются, что беду его всерьез не принимают, говорят, что и все его товарищи терпят такие же искушения, те же потуги, и отсылают утешенным, хотя с виду над ним просто посмеялись.
Но через какое-то время эта метода перестала действовать. Тогда аббат вступил с Дюрталем в поединок; однажды в ответ на стенанья своего пациента он сказал:
— Это кризис, который надо перенести, — и после паузы небрежно добавил: — А сколько их еще будет!
Дюрталь на эти слова вскипел, однако аббат загнал его в угол, показывая, как нелепы его боренья.
— Вас преследует наважденье монашеской жизни — так что же вам мешает ее испробовать? Почему вы не заточите себя у траппистов?
— Вы же знаете, что я недостаточно крепок, чтобы вынести такой образ жизни!
— Ну так станьте живущим при монастыре, поселитесь в Нотр-Дам де л’Атр вместе с господином Брюно.
— Нет-нет, ни в коем случае! Жить при траппистской обители — это тот же Шартр, это среднее состояние, ни то ни сё! Господин Брюно ведь так и останется вечным гостем, никогда не став монахом. В общем-то, он терпит только недостатки общежительного устава без его преимуществ.
— Но монастыри бывают не только траппистские, — ответил аббат. — Станьте бенедиктинцем-чернецом или живущим в такой обители. Устав у них положен нестрогий; будете жить в мире ученых и писателей, чего вам еще и желать?
— Не спорю, однако…
— Однако что?
— Но я же их совсем не знаю!
— Познакомиться с ними проще простого. Аббат Плом очень дружен с насельниками Солема. Он даст вам в этот монастырь какие угодно рекомендации.
— О! надо подумать… я поговорю с аббатом, — сказал Дюрталь, встал и раскланялся со старым священником.
— Друг наш, одолевает вас лукавый! — бросила словечко г-жа Бавуаль, слышавшая мужской разговор из соседней комнаты, дверь в которую не была закрыта.
Она вошла с молитвенником в руках и продолжала, глядя на Дюрталя, приподняв очки:
— Вы что ж, думаете: перенеся душу в другое место, вы ее перемените? Ваше уныние не в воздухе, не вокруг вас: оно в вас; честное слово, послушать вас, можно поверить, будто, переехав из одного города в другой, можно убежать от собственных настроений, избавиться от них? Это же совсем не так — спросите батюшку…
Когда же Дюрталь, смущенно улыбнувшись, ушел, она спросила аббата:
— Так что же с ним на самом деле?
— Искушение сухосердием сокрушает его, — отвечал священник. — Испытание над ним творится мучительное, но не опасное. Пока он не теряет влечения к молитве и не пренебрегает никакими церковными заповедями, все в порядке. Это пробный камень, дающий возможность понять, от Бога ли такое влечение…
— Но может быть, батюшка, все-таки надобно как-то помочь ему?
— Я ничего не могу сделать, только молиться за него.
— И вот еще: нашего друга так уж приворожили монастыри; может, вам бы стоило послать его туда?
Аббат замахал руками.
— Сухосердие и мечтания, которые оно порождает, — еще не знак монашеского призвания. Скажу больше: в обители они скорее усилятся, чем ослабеют. И с этой точки зрения монашеская жизнь может быть ему вредна… а впрочем, дело же не только в этом… вот же еще что важно… Да и как знать?
Он помолчал и промолвил:
— Все может быть, дражайшая госпожа Бавуаль. Подайте-ка мне шляпу, пойду поговорю о Дюртале с аббатом Пломом.
IX
Беседа с духовником пошла Дюрталю на пользу: она увела его от абстракций, которые писатель все крутил в голове с той поры, как приехал в Шартр. Аббат куда-то направил его, показал ему ясный достижимый ориентир, указывающий путь к определенной цели, к ведомой всем пристани. Некий монастырь, пребывавший в сознании Дюрталя как-то смутно, вне времени и пространства, не взяв из пережитого в Нотр-Дам де л’Атр ничего, кроме воспоминаний о святости траппистских порядков, а далее тотчас присоединявший к ним мечту о каком-то более литературном и художественном аббатстве, живущем по более мягкому уставу и в более приятной местности, — этот идеальный монастырь, сшитый из кусочков действительности на живую нитку фантазии, приобрел реальные черты. Аббат Жеврезен завел речь о вправду существующем ордене, назвал его по имени, указал даже конкретную обитель его подчинения и тем дал страсти Дюрталя к резонерствующей болтовне существенную пищу: отныне ему не надо было пережевывать пустоту.
Окончилось состояние зыбкой неопределенности; он увидел конец своим недоумениям; выбор стал ограничен: оставаться в Шартре или отправиться в Солем, — и Дюрталь, не мешкая, принялся перечитывать творения святого Бенедикта и размышлять о них.
Этот устав, состоящий в основном из отеческих наставлений и полных любви советов, оказался чудом благодушия и тактичности. Все потребности души там были означены, все телесные скорби предусмотрены. Он требовал многого, но при том так искусно не спрашивал чересчур, что поддавался, не ломаясь, требованиям самых разных эпох и в XIX веке оставался тем же, что в Средние века.
И до чего же мудрым, человеколюбивым был он, говоря о немощных и недужных! «За болящими ходи, как за Самим Христом», — говорит святой Бенедикт, а его забота о своих сынах, требовательные указания настоятелям любить их, посещать, все делать неукоснительно для облегчения их страданий, показывает истинно трогательную материнскую сторону натуры Патриарха…
Так то так, шептал про себя Дюрталь, но есть в этом уставе и другие статьи, не столь приятные маловерам вроде меня, к примеру вот эта: «Никто да не дерзает давать или принимать что-либо без благословения настоятеля, иметь что-либо в своей собственности, будь то книга, таблички или стилос, — словом, ничего решительно, ибо им не дозволено иметь своим ни тело, ни волю».
Ужасен этот приговор отречения и послушания, вздохнул он. Впрочем, этот закон строго управляет жизнью священномонахов и рясофоров, но так ли он строг для живущих — лазарета бенедиктинской армии, в который и я могу записаться? — в тексте о них ничего не сказано… Там увидим… Да надо бы и знать, как это правило применяется: ведь устав в целом так ловок и гибок, так широк, что может быть и очень мягким, и очень суровым по желанию.
Скажем, у траппистов его требования столь тесны, что задохнешься; у бенедиктинцев, напротив, они дают душе достаточно свежего воздуха. Одни скрупулезно держатся буквы, другие же вдохновляются более духом святого отца.
И прежде чем направить себя на эти рельсы, надо поговорить с аббатом Пломом, заключил Дюрталь. Он пошел было к викарию, но тот оказался в отлучке на несколько дней.
Во избежание праздности, в качестве меры духовной гигиены, Дюрталь решил вновь устремиться к собору и прочесть каменную книгу в таком состоянии, когда мечтания меньше докучают.
Текст, который ему предстояло понять, был не то чтобы совсем неразборчив, но смущал неожиданными интерполяциями, повторениями, выброшенными и оборванными фразами — проще говоря, некоторой бессвязностью, впрочем легко объяснявшейся тем соображением, что это произведение создавалось, изменялось и дополнялось многими художниками на протяжении двух с лишним столетий.
Оформители XIII века не всегда принимали во внимание идеи, уже выраженные их предшественниками; они подхватывали их и передавали на собственном своем языке, дублируя, к примеру, знаки зодиака и времен года. Скульпторы XII века изобразили на царском фасаде каменный календарь; ваятели следующего столетия выбили другой в правом проходе северного портала; такое повторение одного сюжета в одном храме, очевидно, оправдывалось тем, что зодиак и времена года с точки зрения символики могут иметь несколько значений.
Согласно Тертуллиану{51}, в круге умирающих и возрождающихся лет усматривали образ Воскресения при конце света. По другим версиям, солнце, окруженное двенадцатью звездными знаками, представляет Солнце Правды в окружении двенадцати апостолов. Аббат Бюльто, в свою очередь, признает в этих каменных альманахах перевод места из апостола Павла, утверждающего в послании к Евреям, что «Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же»[39], а аббат Клерваль дает более простое объяснение: все времена принадлежат Господу и должны славить Его.
Но это лишь одна из деталей, размышлял про себя Дюрталь; в двойственности целого можно убедиться и по самой архитектонике собора.
Говоря в общем, архитектурное сооружение в Шартре снаружи делится на три основные части, отмеченные тремя большими порталами. Западный, или Царский, портал — торжественный вход в храм между двумя башнями; северный портал примыкает к епископскому двору и завершается новой башней, портал южный фланкирован старой башней.
Так вот: об одних и тех же сюжетах рассказано и на Царском, и на южном портале: оба хвалят Бога Слово во славе, с той разницей, что на южном входе Господь возвеличен не только Сам, как на западном, но также вместе со святыми и праведными.
Если к этим двум сюжетам, которые можно свести к одному (Спаситель, прославленный в Одном своем Лице и вместе со Своими людьми), прибавить панегирик Матери Божьей, возглашаемый северным порталом, мы приходим к такому итогу: эта поэма, воспевающая хвалу Матери и Сыну, сообщает о причине самого бытия Церкви.
Сравнив подробнее западный и южный порталы, можно заметить, что там и там Христос одним и тем же жестом благословляет землю, оба почти исключительно ограничиваются иллюстрированием Евангелия, относя изложение Ветхого Завета на северную сторону, однако многим отличаются друг от друга, а также непохожи на порталы других соборов.
Вопреки мистическому служебнику, принятому почти везде (взять хоть соборы в Париже, Бурже, Амьене), по которому картина Страшного суда украшает главный вход, в Шартре она отнесена на тимпан южных врат.
То же и с древом Иессеевым: в Амьене, в Реймсе, в Руанском соборе оно произрастает на Царском портале, здесь же прозябло на Северном; а сколько еще можно отметить перестановок! Но не менее странно, что параллелизма сцен, часто видимого на лицевой и внутренней сторонах одной стены в одном месте, снаружи выточенного в камне, внутри написанного в стекле, в Шартре, как правило, нет. Например, родословное древо Христа помещено на внутреннем витраже Царского портала, а в скульптуре его аналог раскинул ветви на простенках северного портика. Сюжеты на лицевой и оборотной стороне одного листа не всегда совпадают, но зато они часто дополняют или развивают друг друга. Так, снаружи на Царском портале Страшный суд не проходит, но он сияет внутри, в большой розетке, пробитой в той же стене. В таких случаях происходит не совмещение, а поддержка: история начинается на одном наречии, а договаривается на другом.
Наконец, над всеми этими согласиями и разноречиями доминирует главная идея всей поэмы, изложенная как рефрен после каждой каменной строфы: мысль о том, что собор принадлежит Матери нашей; храм остается верен своему тезоименитству, предан своему посвящению. Повсюду Приснодева — Владычица. Она занимает все внутреннее пространство, а снаружи на тех двух входах, западном и южном, которые не Ей посвящены, Она также является в каком-нибудь уголке: в навершии врат, в капителях, над фронтоном, в воздухе. Ангельская хвала искусства беспрерывно повторяется в изображениях всех времен. Эта богоугодная нить нигде не прерывается. Базилика Шартра — поистине удел Матери Божьей.
В общем, думал Дюрталь, несмотря на разночтения между некоторыми текстами, уразуметь собор можно.
Он содержит пересказ Ветхого и Нового Заветов, а помимо Святого Писания еще и апокрифов, относящихся к Богоматери и святому Иосифу, житий святых, содержащихся в «Золотой легенде» Иакова Ворагинского{52}, и святых, в Шартрском диоцезе просиявших. Это огромный словарь средневековой науки о Боге, Богородице и о святых.
Так что Дидро, быть может, близок к истине, говоря, что собор — декалькомания тех больших энциклопедий{53}, что создавались в XIII веке; только тот тезис, который он подкрепляет этим верным наблюдением, перекошен и становится неточным, едва он начинает его развивать.
Тут он доходит до представления, будто бы шартрский храм — не что иное, как переложение Speculum universale, «Зерцала мира» Винцента из Бове{54}, что он так же, как и этот сборник, дает очерк практической жизни и пояснения к истории человеческого рода во все века. Выходит, думал Дюрталь, сходивший за «Христианской иконографией» этого ученого в библиотеку, словно наши каменные странички якобы должны переворачиваться вот как: открываться северной главой, кончаться южными абзацами. И тогда, если его послушать, получается такой рассказ: сперва о книге Бытия, о библейской космогонии, сотворении мужа и жены, об Эдеме, затем, когда первочета изгнана, идет повествование о ее искуплении и страданиях.
«Поэтому, — уверяет автор, — скульптор воспользовался случаем, чтобы научить босских жителей работать руками и головой. Итак, справа от Адама, прямо перед глазами он изваял для всеобщего наставления каменный календарь со всеми сельскими трудами, далее ремесленный катехизис с городскими работами и, наконец, руководство по свободным искусствам для интеллектуальной деятельности».
И, научившись таким образом, люди жили из поколения в поколение, пока свет стоит, справляясь с картиной на южной стене.
В таком случае скульптурный реперторий становится памятной запиской по естественной истории и науке, словарем морали и искусства, панорамой целого мира. Следовательно, это и будет изображение «Зерцала мира», каменный экземпляр сочинения Винцента из Бове.
Все хорошо, да вот беда: во-первых, сочинение этого доминиканца писано несколькими годами позже, чем возведен собор, во-вторых, Дидрон в своих тезисах не уделяет никакого внимания значимости отдельных скульптур и расстояниям между ними. Фигурке, затерянной в поясе на вуте[40], он приписывает такую же цену, что и большим статуям, сопровождающим рельефы Спасителя и Божьей Матери, стоящим на виду. Можно даже сказать так: об этих-то статуях он и забывает; кроме того, Дидрон пропускает весь западный портал, который ему никакими силами не удалось втиснуть в свою систему.
В основе своей соображения археолога весьма шатки. Он подчиняет главное второстепенному и приходит к своеобразному рационализму, нисколько не соотносящемуся с мистикой того времени. Он клевещет на Средневековье, низводя божественное на уровень земного, давая Божье человеку. Молитва статуй, воспетая веками веры, в предисловии к его опусу становится всего лишь энциклопедией заурядных промышленных и нравственных советов.
Надо это обдумать потщательнее, продолжал Дюрталь, выходя выкурить сигаретку на площадь. Царский портал, размышлял он по дороге, — вход с почетного фасада, через него входили короли. Это же и первая глава каменной книги, да и все здание вкратце заключено в нем!
Как же все-таки нелепы выводы, предваряющие посылки, заключение, помещенное в начало труда, хотя по здравой логике оно должно было бы находиться на апсиде, в конце.
В сущности, подумал он, даже если это все оставить в стороне, главный портал занимает в храме такое же место, как вторая из учительных книг в Библии. Он соответствует Псалтыри, а Псалтырь — это своего рода краткое изложение, сумма всех книг Ветхого Завета и, следовательно, кроме того, пророческое мементо всей религии откровения.
Такова же и часть собора, расположенная на Западе, только в ней — компендиум Писания не Ветхого лишь, но также и Нового Завета; это эпитома[41] Евангелия, сжатый свод книг синоптиков[42] и Иоанна Богослова.
Но не это одно сотворил XII век, построив это сооружение. Славя Христа, он добавил новые подробности, проследив их по Библии от Рождества, начиная и заканчивая уже после Его смерти явлением во славе, возвещенным Апокалипсисом; он дополнил писание апокрифами: поведал нам историю святых Иоакима и Анны, поверил многие эпизоды бракосочетания Девы Марии с Иосифом; это все извлечено из евангелия Рождества Богородицы и протоевангелия от Иакова Младшего{55}.
Впрочем, все прежние святилища прибегали к этим преданиям, и, упуская их из виду, не прочтешь ни одной церкви.
Надо сказать, в смешении истинных Евангелий с баснями нет ничего удивительного. Не признавая за евангелиями Рождества, Детства от Фомы, от Никодима, книгой Иосифа Плотника, протоевангелием Иакова Младшего канонической достоверности, богодухновенности, Церковь не имела в виду отбросить их целиком и полностью, приравнять к вороху неправд и наваждений. Невзирая на то что иные из этих историй по меньшей мере смехотворны, в текстах апокрифов можно найти и точные данные, подлинные рассказы, которые евангелисты, столь скупые на подробности, не сочли уместным передавать.
Таким образом, когда Средние века оценивали эти чисто человеческие книги как правдоподобные повести, считали их важными для благочестивой памяти, в том не было никакой ереси.
В общем, думал дальше Дюрталь, подойдя к вратам, расположенным меж двух башен, к Царскому входу, в общем, этот огромный палимпсест с его 719 фигурами, нетрудно расшифровать, если воспользоваться тем ключом, что применил в своей монографии о соборе аббат Бюльто.
Идя вдоль фасада, начиная от новой башни и кончая старой, мы листаем историю Иисуса Христа, изложенную приблизительно двумя сотнями статуй, спрятанными в капителях. Она восходит к предкам Спасителя, дает как введение житие Иоакима и Анны, в микроскопических изображениях представляет апокрифы. Быть может, из почтения к богодухновенным книгам эта история тянется вдоль стен, делается как можно меньше, чтобы не быть слишком заметной, словно украдкой доводя до нас забавную мимику отчаявшегося Иоакима, когда некий храмовый писец именем Рувим упрекает его в отсутствии потомства и отвергает его жертвоприношения именем Бога, не благословившего его; и огорченный Иоаким оставляет жену, вдали от всех оплакивает поразившее его проклятье; и ангел Божий, явившись, утешает его, велит ему вернуться к супруге, которая от него зачнет дочь.
Дальше черед Анны, в одиночестве скорбящей о бесплодии и вдовстве своем; и ангел посещает ее, наказывает идти к мужу, которого она встречает у Золотых ворот. Они бросаются друг другу на шею, вместе возвращаются домой, и Анна рожает Марию, которую они посвящают Господу.
Проходят годы; наступает пора обручения Богородицы. Первосвященник призывает всех взрослых и неженатых, происходящих из дома Давидова, с жезлом в руке подойти к алтарю. Чтобы узнать, за кого же из претендентов выдать Деву Марию, верховный иерей Авиафар обращается к Всевышнему, Который повторяет Исайино пророчество, возвещающее, что произойдет отрасль от корня Иессеева, и почиет на ней Дух Господень.
И тотчас жезл одного из явившихся, Иосифа Плотника, расцвел, и голубь, сойдя с неба, угнездился на нем.
Итак, Мария была отдана Иосифу, и сыграли свадьбу; родился Мессия, Ирод изничтожил младенцев; на том кончается евангелие Рождества, передавая слово Святому Писанию, говорящему об Иисусе далее, следуя за Ним до Его последнего явления после смерти.
Эти сцены служат обрамлением большой страницы, простирающейся между двумя башнями, над тремя дверями.
Именно там расположены скульптуры, своими ясными, зримыми образами соблазняющие множество людей, там вовсю сияет общая тема портала, выделяя отдельные сцены Евангелия, доходя до той цели, ради которой существует сама Церковь.
Слева — Вознесение Христово, поднимающегося во славе на облаках, представленных по византийскому образцу волнистой лентой, которую держат за концы два ангела; внизу апостолы, воздев главы, смотрят на Вознесение, а другие ангелы, парящие над апостолами, указывают им Господа перстами, уставленными в небо.
Стрельчатая же рамка арки заключает каменный календарь и зодиак.
Справа — торжество Божьей Матери; перед Ней два архангела с кадилом, Она сидит на престоле, сжав скипетр в руке, и держит Младенца, благословляющего мир; внизу — краткое изложение Ее земной жизни: Благовещение, встреча с Елисаветой, Рождество Христово, Поклонение волхвов, принесение Иисуса во храм; вута, изгибаясь остроконечной митрой над образом Богоматери, украшена двумя поясами: один с фигурами архангелов-кадилоносцев с перегородчатыми, словно черепицей выложенными крыльями; другой населен подобиями семи свободных искусств{56}; каждое из них представлено двумя малыми скульптурами: аллегорией и древним персонажем — изобретателем или образцом для этого искусства; здесь та же система выражения, что в Лаонском храме, художественная парафраза схоластического богословия, скульптурная версия текста Альберта Великого{57}, в перечислении достоинств Богоматери утверждавшего, что Она в совершенстве знала семь искусств: грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрологию и музыку — всю науку Средних веков.
Наконец, посередине — центральный портал, содержащий тот сюжет, к которому только и тяготеют хроники при других дверях: Иисус Христос во славе, как Он явился на Патмосе Иоанну Богослову; заключительная книга Библии — Апокалипсис — растворена в возглавии базилики, над почетным входом в собор.
Господь сидит на престоле; глава Его окружена крестчатым нимбом; на Нем льняной хитон и мантия, ниспадающая каскадом частых складок, босые ноги стоят на скамеечке (такую эмблему Исайя приспособил к земле). Одной рукой Он благословляет мир, другой держит книгу, запечатанную семью печатями. Вокруг Христа, в окружающем Его овале — тетраморф, четыре евангельских животных с чешуйчато-рябчатыми крыльями: оперенный человек, лев, орел и бык, символы евангелистов Матфея, Марка, Иоанна и Луки.
Ниже двенадцать апостолов воздымают над собой свитки и тома.
И дополняется апокалиптическая сцена на кордонах вут: двенадцать ангелов и двадцать четыре старца, описанные Иоанном, облаченные в белое и в золотых венцах играют на музыкальных инструментах, в непрестанном поклоненье (что лишь немногие души, затерянные в безразличье нашего века, могут подхватить) поющие славу Всевышнему, падая ниц, когда на пламенные и многоторжественные молитвословия Земли евангельские животные голосами, подобными громовым раскатам, отвечают одним-единственным словом, в двух слогах и пяти буквах которого заключен весь долг человека перед Богом: смиренным и послушливым, покорным «Аминь».
Изображения очень близко следуют тексту, за исключением тетраморфа: там не хватает одной детали — животные не исполнены мириадами очей, о которых говорит пророк.
В общем и целом картина построена как триптих, имеющий: на левой створке Вознесение в обрамлении символов Зодиака, посередине Христа во славе по рассказу ученика Его и на правой створке торжество Девы Марии в сопровождении некоторых из Ее атрибутов.
Все вместе составляет ту программу, которую осуществил архитектор: слава Богу Слову. Ведь, как говорит в своей небольшой, но ценной книжке о Шартре аббат Клерваль, «сцены жизни Его готовят Его славу; здесь и собственно Его явление во славе, и вечное прославление ангелами, святыми и Пресвятой Девой».
С точки зрения фактуры это творение ясно и великолепно в основной части, темно и изуродованно в побочных. Панно с Богоматерью сильно пострадало; то же и с Вознесением, на редкость грубым и варварским, сильно уступающим центральному изображению, где видим самого живого, самого неотвязно преследующего нас Христа на свете.
Ведь нигде в скульптурном наследии Средних веков Спаситель не является таким меланхоличным и милосердным, нигде Ему не дано вида столь значительного. В профиль, с волосами, ниспадающими назад, прямыми, разделенными пробором, с чуть вздернутым носом, волевыми губами, короткой сбившейся набок бородкой, длинной шеей, он, несмотря на застывшую позу, напоминает не византийского Христа, которого писали и ваяли художники того времени, а Христа примитивов фламандского происхождения, а то и из Голландии родом; в нем есть этот неясный местный привкус, который потом, не столь чистый по типу, появится на картине Корнелиса ван Остзанена{58} из Кассельского музея.
Господь в Своем величии является перед нами едва ли не печальным, без всякого возмущения, с умиленным покорством благословляющим дефиле грешников, что семьсот лет уже без любви, из одного любопытства смотрят на Него, проходя по площади, и все от Него отворачиваются, не особо задетые таким Спасителем, не похожим на известный им портрет: Он мил им только с овцеподобным черепом и приятными чертами лица, вроде, надо прямо сказать, красавчика из Амьенского собора, перед которым так и млеют любители пошловатой красоты.
Над этим-то Христом пробиты три окна, не глядящие наружу, а над ними большая мертвая роза, подобная глазу с бельмом: лишь внутри и она, и витражи в простенках горят ясным пламенем и бледным отсветом сапфиров, вделанных в каменную оправу; наконец, над розой тянется галерея царей Иудейских, а над галереей высится треугольный щипец[43] между двумя башнями.
Колокольни же мечут в небо острия своих стрел; старая, сложенная из мягкого известняка, чешуящаяся черепичками, взлетает единым порывом, сходится кверху конусом, вдувает своим острием в облака дым молений; новая, ажурная, словно кружевная, прочеканенная, как драгоценное украшение, усыпанная фестонами листьев и виноградных побегов, поднимается не спеша, с лукавством, чтобы дополнить душевный порыв и смиренную мольбу своей старшей сестры дополнить благодушным молитвословием, непринужденной улыбкой, склонить к себе Отца веселым детским лепетом.
Но вернемся к Царскому порталу, думал далее Дюрталь. Как ни значима его главная страница, повествующая о вечном торжестве Слова, художники поневоле больше интересуются нижней частью здания, где, зажатые между базами двух башен, вдоль стены и в сходящихся проемах трех дверей вырываются в пространство девятнадцать колоссальных каменных статуй.
Вне всякого сомнения, прекраснейшие в мире скульптуры находятся именно здесь. Композиция включает в себя семерых царей, семерых пророков и пять цариц. Некогда статуй стояло двадцать четыре, но пять пропало совершенно бесследно.
Все они имеют нимбы, кроме трех первых, помещенных близ новой колокольни, все устроились под просвечивающими сводами с очертаниями домиков и церковок, мостов и амбаров, создающих образ крохотного городка, Сиона для младенцев, лилипутского небесного Иерусалима.
Все статуи стоят, утвердясь на гильошированных столпах, на цоколях, граненных под миндаль, под алмаз или под ананасную кожуру, с рельефными меандрами, зубчатыми зигзагами, молниями, с орнаментами в виде шахматной доски, клетки которой то выбиты, то выпуклы, с подобиями мозаики или маркетри[44], заставляющими, как и обрамления витражей в церкви, припомнить мусульманское ювелирное искусство, выдавая происхождение форм, принесенных в Европу из Крестовых походов.
Впрочем, три первые статуи в левом проходе, со стороны нового шпиля, не покоятся на украшениях, позаимствованных у неверных, а попирают ногами некие немыслимые существа. Один из них — царь, голова которого потеряна и заменена головой какой-то царицы, — ступает по человеку, обвитому змеями; другой государь давит ногой женщину, которая одной рукой схватила за хвост некоего гада, а другой гладит сама себе прядь волос; наконец, для третьей фигуры, царицы с простым золотым обручем вокруг головы, с торчащим животом беременной, с приятным, но простонародным лицом няньки, подножием служат два дракона, мартышка, жаба, собака и василиск с обезьяньей мордой. Что означает этот ребус? Никто не знает; впрочем, неизвестны и имена остальных шестнадцати статуй, выстроенных вдоль портала.
Иные хотят видеть в них предков Мессии, но это утверждение не основано ни на каких доказательствах; другие полагают, что тут можно разобрать смесь ветхозаветных персонажей и благотворителей собора, но и такое предположение равно иллюзорно. Истина в том, что все эти люди держат в руках скипетры и свитки, ленты и требники, однако ни у одного нет какого-либо из персональных атрибутов, по которым они распознаются в духовной номенклатуре Средних веков.
В лучшем случае одно безголовое туловище можно было бы наречь именем Даниила: ведь под ним извивается нечто вроде дракона — эмблема дьявола, побежденного пророком в Вавилоне.
Изумительней всего из этих фигур статуи цариц.
Первая из них, та самая брюхатая коронованная неряха, вполне заурядна; у последней, с противоположной стороны от этой государыни, у старой колокольни, лицо наполовину отбито, а сохранившийся кусок нисколько не чарует, но три остальных, близ главного входа, под центральной аркой, несравненны!
Первая — длинная, вся вытянутая ввысь; ее голова увенчана короной, покрыта платом, волосы, расчесанные на две стороны, прядями падают на плечи, нос немного вздернут почти по-деревенски, склад губ благоразумный и решительный, подбородок волевой. Выглядит она уже не молодо. Зажатое, скованное тело скрыто под просторным плащом с широкими рукавами, заключено в ювелирный футляр платья, через который не пробивается никаких женских признаков. Эта фигура — прямая, бесполая, плоская; нитевидная талия подпоясана узловатой францисканской веревкой. Чуть опустив голову, она смотрит куда-то, к чему-то прислушивается и ничего не видит. Достигла ли она совершенного отрешения от внешнего? Живет ли соединительной жизнью за пределами миров, в отсутствие времен? Можно и так предположить, если обратить внимание, что, несмотря на царские регалии и великолепную пышность одежд, она хранит сосредоточенную позу и суровый вид монашки. В ней не придворный, а монастырский дух. В таком случае встает вопрос, кто поставил ее на часы к этим дверям и почему, верная одной лишь ей ведомому приказу, она день и ночь издали созерцает площадь, недвижно ожидая кого-то, кто за семьсот лет так и не пришел?
Она похожа на образ Адвента, слушающего, слегка склонившись, доносящиеся с земли скорбные взывания человека; в ней вечно звучит напев rorate{59}; в таком случае, это, может быть, одна из цариц Ветхого Завета, скончавшаяся задолго до рождения Мессии и, возможно, предвозвестившая Его.
Поскольку она держит книгу, аббат Бюльто считает возможным, что это портрет святой Радегонды{60} во весь рост. Но были и другие канонизированные королевы, которые также держат книги; впрочем, иноческий облик этой государыни, ее изможденные черты и взгляд, блуждающий по внутренним пространствам, довольно точно можно приписать супруге Хлотаря, постригшейся в монахини.
Но чего же она ожидает — страшится приезда короля, желавшего вытащить ее из ее аббатства в Пуатье и вернуть на трон? Наверняка мы ничего не знаем, и всякая догадка останется тщетной.
Вторая статуя также изображает монаршую жену с книгой в руках. Она помоложе, не носит ни плаща, ни плата; груди приподняты, поддержаны тесным корсажем, сильно затянутым, прилегающим к бюсту, словно мокрое белье, собранным в мелкие морщинистые складочки; этот корсаж похож на каролингский рок, застегивающийся на пряжку сбоку. Волосы частью уложены в две косы на лбу, закрывая уши, частью падают перевитыми прядями с тонкими жгутиками на концах.
Лицо у нее живое, волевое, немного высокомерное. Она глядит не в себя, а в мир; она красива человеческой красотой и знает это. «Святая Клотильда{61}?» — решается предположить аббат Бюльто.
Да, правда, эта благоверная королева не всегда была образцом милости; трудно назвать ее приятным человеком. Пока не спохватилась и не покаялась, Клотильда является в истории мстительной, безжалостной, кровожадной. Тогда это Клотильда до покаяния, королева, не ставшая еще святой.
Но она ли это? Это имя приписано статуе потому, что другая скульптура того же времени, похожая на эту, некогда принадлежавшая церкви Божьей Матери в Корбее, числилась под ним. Но затем было установлено, что это царица Савская. Так что же — перед нами эта государыня? Тогда откуда нимб, если она не записана в Книге Жизни?
Весьма вероятно, что это и не жена Хлодвига, и не подруга Соломона — странная эта княгиня, что выглядит и более плотяной, и более призрачной, нежели ее сестры: время изуродовало ее, сморщив ее кожу, подбородок изрыв оспинами, губы изломав, нос проев, всю источив, как дуршлаг, превратив это живое лицо в образ смерти.
Что же до третьей, она вытянута изящным веретеном, истончается грациозной свечкой, подсвечник для которой словно вычеканен, выгравирован, вырезан в самом воске; она стоит величаво, одетая в жесткое, складчатое, желобчатое, как стебель сельдерея, платье. Корсаж у нее оторочен тесьмой, вышит мелкими стежками; талию охватывает свободно висящее узловатое вервие; голова увенчана короной, обе руки отбиты: одна прежде покоилась на груди, другая держала скипетр, остатки которого видны и теперь.
И эта прелестная девушка смеется невинно и шаловливо. Большими широко открытыми глазами под очень высокими бровями она смотрит на приходящих. Никогда, ни в какие времена человеческий гений не изваял столь выразительного лица; это шедевр детской грации и святой непорочности.
В мечтательной архитектуре XII века, посреди всех этих сосредоточенных статуй, символизирующих, так сказать, наивную любовь тех веков, смущенную затем страхом вечных мук, она словно стоит перед воротами в дом Господень как милосердный образ отпущения грехов. Устрашенным душам усердных прихожанок, после беспрестанных падений не смевших уже переступать церковный порог, она являлась благорасположенной, изгоняла нерешительность, побеждала бесплодные сожаления, дружеской улыбкой усмиряла кошмары.
Это старшая сестра блудного сына: евангелист не говорит о ней, но если бы такая была, она бы сердечно заступилась за беглеца и упрашивала отца заколоть упитанного тельца, когда брат вернется.
Но не в этом милосердном облике известна она Шартру; по местному преданию ее считают Бертой Большеногой{62}, но мало того, что это отождествление не опирается ни на какие аргументы — оно неправомерно потому уже, что статуя имеет кольцо нимба. Но знак святости не может окружать голову матери Карла Великого, имя которой неизвестно агиологиям Церкви Торжествующей.
Стало быть, полагают археологи, во всем великом скульптурном славословии видящие предков Спасителя, это одна из библейских цариц, но которая? Как справедливо замечает Элло, в Писании часто говорится о слезах, но смех весьма редок, так что врезается в память смех Сарры, поневоле развеселившейся, когда ангел возвестил ей, что она зачнет, невзирая на глубокую старость{63}. Тщетно ученые разыскивают, к кому из лиц Ветхого Завета относится невинная радость этой царицы.
Истина в том, что навек останется таинственным это ангельское невесомое существо, достигшее, несомненно, чистых радостей души, парящей в Боге; а вместе с тем она так любезна, так благопослушна, что создается иллюзия, будто благословляет влекущихся к ней, направляет их на путь спасения. Ведь ее правая рука отбита у запястья, кисть не сохранилась, но если вглядываться нарочно, кажется, что она существует как тень, как отсвет: она очень ясно означена легким выступом груди, подобным впадине ладони, складками корсажа, отчетливо воспроизводящими четыре пальца, вытянутых вместе, и отставленный большой палец, так что для нас очерчивается крестное знамение.
Какой чудный прообраз Преблаженной Матери — эта царственная хранительница порога, эта государыня, зовущая заблудших вернуться в церковь, приблизиться к двери, которую хранит, Она сама — одна из эмблем Ее Сына! — воскликнул Дюрталь и охватил единым взором противостояние трех столь различных жен: одна не столько царица, сколько монахиня, слегка наклонила голову; другая, царица и только царица, голову держит высоко; третья, святой подросток, с шеей не склоненной и не поднятой, но находящейся в естественном положении, умеряет величественную царскую осанку смиренной улыбкой праведницы.
И может быть, подумал он затем, есть смысл видеть в первой образ жизни молитвенной, другая тогда воплощает жизнь деятельную, а третья и ту и другую, подобно библейской Руфи?
Что до других статуй: пророков в еврейских ермолках в рубчик и царях с молитвенниками или скипетрами в руках — они также не поддаются расшифровке; одна из них, возвышающаяся в центральной арке, справа у самой двери, отделенная статуей некоего царя от мнимой Берты, особенно заинтересовала Дюрталя: она была похожа на Верлена. Правда, этот пророк не был лыс, но имел такое же необычное лицо: чуть расширенное книзу, шишковатый череп, встрепанные волосы, добродушный простонародный облик.
Предание приписывает этому изображению имя апостола Иуды, и тогда многозначительно, что черты самого малопочитаемого у всех христиан Господня ученика, которому в течение веков так мало молились, что вдруг убедились: он менее других исчерпал кредит свой перед Богом, и тогда стали к нему обращаться в безнадежных, отчаянных делах, — что они таковы же, как у поэта, столь совершенно неведомого этим самым католикам или столь глупо опозоренного ими, который им же принес единственные мистические стихи, расцветшие со средневековых времен!
Два неудачника: святой и поэт, завершил свою мысль Дюрталь и отступил назад, чтобы лучше рассмотреть весь фасад.
Невыразим был вид его с веточками растений, нарисованными морозом на окнах, с его церковными покровами, тонко вывязанными стихарями, гипюрами en fils de la Vierge{64}, спускающимися до второго яруса, служащими ажурным обрамлением главным сюжетам порталов. И тот же фасад по-отшельнически, неприукрашенный, с колоссальным мертвым глазом розы, восходил вверх, окруженный двумя башнями: одна, как портал, узорчатая, с прорезями окон, другая обнаженная, как ярус над входным проемом.
Но овладели Дюрталем, поглощали его внимание все-таки статуи цариц.
В конце концов он уже не обращал внимания ни на что другое, лишь упивался божественным красноречием их худощавости, видел в них лишь долгие стебли, погруженные в узорчатые каменные трубчатые вазы, распускающиеся охапками фигур, издающих аромат непорочности, запах чистосердечия — а Христос, умиленно и с печалью благословляющий мир, склоняется с престола над ними, вдыхая то нежное благоухание, что испускают сосуды устремленных к Нему душ!
Какой неодолимой силы чародей, мечтал Дюрталь, мог бы пробудить дух этих царственных окаменелостей, заставить их говорить, позволить нам присутствовать при беседе, которую они, быть может, ведут по вечерам, когда статуи словно уходят вглубь, прячась за завесой тьмы?
О чем говорят они меж собой — они, видевшие, как проходят мимо них святой Бернард, святой Людовик, святой Фердинанд, святой Фульберт, святой Ивон, Бланка Кастильская{65} и столько других избранных, — войдя в звездоносный мрак храма? Беседуют ли о гибели своих подруг, пяти статуй, навек исчезнувших из их кружка? Слушают ли, как за засовами затворенных дверей ветер отчаянно воет стихи псалмов и дует, подобно большим органным трубам? Слышат ли они бесстыдные восклицания туристов, смеющихся над ними, долговязыми и недвижными? Чуют ли, как святые, запах грехов, дух грязи в душах, соприкасающихся с ними? Если так, на них и смотреть-то страшно… Но Дюрталь все смотрел, не в силах от них отстать; они не отпускали его непрекращающимся очарованием своей загадки; в общем, вновь начал размышлять писатель, это неземные существа в телесном обличье. Их тел не существует, душа живет прямо в ювелирной оболочке платьев; они живут в полном согласии с собором, который сам расстался с плотью своих камней и в экстатическом полете взвивается над землей.
Главные творения мистического зодчества и ваяния — здесь, в Шартре; самое надчеловеческое, самое возвышенное искусство, когда-либо существовавшее, расцветало здесь, в низменной области Бос.
Теперь, рассмотревши фасад в целом, он вновь приблизился, чтобы высмотреть одну за одной все его наималейшие подробности, самые крохотные детали, разглядеть в упор убранство каменных цариц; и он убедился: там не было двух одинаковых облачений; одни слегка морщинились без грубых складок, подобные поверхности вод, подернутой рябью, на других вертикальные выпуклости шли параллельно, слегка выделяясь, как на стеблях дудника, и твердая материя покорялась требованиям создателей одеяний, становилась гибкой, походя то на узорчатый креп, то на бумазею или чистое льняное полотно, утяжелялась ради парчи и золотых оторочек; все здесь имело свое назначение: ожерелья были чеканные, веревки на поясе переплетены так естественно, что узлы, казалось, можно развязать, браслеты и короны просверлены и обработаны молотом, на них виднелись драгоценные камни, вделанные в оправу как будто бы настоящими золотых дел мастерами.
Притом цоколь, статуя и свод над ней были вытесаны из одного камня, одного куска! Каковы же были те люди, что изваяли такие творенья?
Можно думать, что они жили в монастырях, потому что художественным ремеслом тогда занимались только в уделах Божьих. В те времена искусства процветали в Иль-де-Франсе, в Орлеанэ, Мэне, Анжу, Берри: в этих провинциях встречаются статуи в таком роде, но все они, надо прямо сказать, слабее шартрских. В Бурже, например, такие же пророки и подобные же царицы предаются грезам в одном из странных боковых выступов, напоминающих своим видом арабский трефовый крест{66}. В Анжере эти статуи сильно поломаны, почти разбиты, но можно судить о том, как они умалились, стали чисто человеческими: то не жительницы горних селений с целомудренно вытянутыми туловищами, а просто царицы. В Ле-Мане, где статуи сохранились лучше, они тщетно пытаются вырваться из своих жестких ножен, но все равно остаются приплюснутыми, обездушенными, обедненными, почти вульгарными. Нигде нет такой души, запечатленной в камне, как в Шартре, и когда изучишь фасад леманского собора, задуманного так же, как фасад шартрской базилики с благословляющим Христом во славе на престоле в окружении тетраморфа, убедишься, насколько там он не досягает божественной высоты! Все там обужено, все с натугой. Спаситель почти не отшлифован и вышел угрюмым. Несомненно, эти порталы украшали бездарные ученики великих мастеров Шартра.
Была ли то артель художников, собратьев в святом искусстве, бродившая из города в город, приданная монахами в помощь вольным каменщикам — рабочим, строившим жительство Господу Богу? Быть может, они выходили из бенедиктинского Тиронского аббатства, основанного в Шартре возле рынка святым аббатом Бернардом, имя которого в синодике собора Божьей Матери есть среди благотворителей храма? Никто не знает. Они просто работали, смиренно и безымянно.
Но что за души были у этих художников! Ибо мы знаем: они занимались делом, лишь будучи в благодатном духе. Чтобы возвести этот великолепный храм, требовалась чистота жизни даже для разнорабочих.
Это было бы невероятно, если бы подлинные документы, надежнейшие свидетельства не подтверждали этого.
У нас есть послания того времени, попавшие в анналы бенедиктинцев, письмо некоего аббата из Сен-Пьер-сюр-Див, обнаруженное Леопольдом Делилем в Национальной библиотеке в рукописи номер 939 из французского фонда, латинская книга о чудесах Богоматери, найденная в Ватиканской библиотеке и переведенная на французский язык поэтом XIII века. Все они рассказывают, как был заново отстроен храм Черной Мадонны, разрушенный пожарами.
То, что случилось тогда, было вершиной подвигов. Такого крестового похода люди еще не видели. Но эти крестоносцы шли не отбивать Гроб Господень из рук неверных, не биться на поле брани с оружьем в руках, а победить Самого Господа в твердыне его, штурмовать небо, торжествовать благодаря любви и покаянию. И небо признало, что проиграло, ангелы с улыбкой сдались, Бог капитулировал и в радости от своего поражения настежь открыл сокровищницу Своей милости на разграбление.
К тому же в этом сраженье на строительных лесах против материи под водительством Духа Святого народ желал любой ценой помочь бесприютной Приснодеве, как в день, когда родился Ее Сын.
Вифлеемские ясли стали кучкой золы. Марии приходилось блуждать по ледяным равнинам Боса. Не таковы ли и за двенадцать веков до того были бессердечные семьи, негостеприимные постоялые дворы, переполненные комнаты?
Тогда во Франции Мадонну любили так, как любят собственную родную мать. При вести, что Она, изгнанная пожаром, бродит в поисках пристанища, все, потрясенные, исполнились слез, и не только в окрестностях Шартра, но и в Орлеане, в Нормандии, в Бретани, в Иль-де-Франсе, на Севере население прервало свои труды, покинуло жилища и поспешило Ей на помощь. Богатые приносили деньги и драгоценности, наряду с бедными тащили на себе повозки, подвозившие пшеницу, масло, вино, лес, известь — все, что служит для питания работников и для самой стройки.
То было беспрерывное переселение, народ сам по себе собирался в путь. Все дороги были запружены паломниками; мужчины и женщины без разбора волокли целые стволы деревьев, катили возы бревен, подталкивали стенающие тележки с недужными: то была священная фаланга, ветераны страдания, непобедимые легионы скорбящих, ехавшие помочь осаде небесного Иерусалима как арьергард, чтоб своими молитвами усилить и подкрепить натиск штурмующих.
Ничто: ни болота, ни овраги, ни чащи без дорог, ни реки без гатей — не могло сдержать порыва шагающих толп, и одним прекрасным утром они со всех сторон света сошлись в виду Шартра.
Тогда началась осада. Пока больные проводили первые параллели молитв, здоровые ставили шатры; лагерь раскинулся на несколько лиг кругом; привезли большие возы свечек, и каждый вечер Бос расцветал звездным полем.
Невероятно, а между тем подтверждено всеми документами того времени, что в этих ордах старых и малых, мужеска пола и женска дисциплина наладилась во мгновение ока; а ведь они принадлежали ко всем слоям общества: среди них были рыцари и знатные дамы, но любовь к Богу была так сильна, что стерла расстояния и упразднила касты; сеньоры вместе с простолюдинами впрягались в повозки, набожно исполняя роль вьючных животных; патрицианки помогали крестьянкам месить раствор и вместе с ними кухарничали; все жили в небывалом отсутствии предрассудков; все соглашались стать простыми разнорабочими, машинами, гужами и руками, безропотно давали собой командовать, подчиняясь зодчим, ради руководства этим делом вышедшим из своих монастырей.
Никогда не бывало столь простой и продуманной организации; монастырские келари, ставшие, так сказать, интендантами этой армии, следили за чистотой биваков и за здоровьем в лагере. И женщины, и мужчины превратились в покорные орудия в руках десятников, которые сами были избраны и подчинялись монашеским артелям, а те, в свою очередь, какой-то выдающейся личности, гениальному незнакомцу, который придумал план собора и руководил всеми работами.
Чтобы достичь такого результата, в этом множестве людей поистине должна была жить поразительная душа: ведь на тяжелый, неблагодарный труд мешальщика извести или носильщика всякий, благородный и вилан, смотрел как на подвиг отречения и покаяния, но также и как на великую честь; и никто не дерзал коснуться материалов, назначенных Богородице, не примирившись с врагами и не исповедавшись. Те, кто медлил исправить свои прегрешения и приступить к Святым Дарам, вычеркивались из списков, изгонялись, как нечистые животные, и товарищами, и даже собственными семействами.
Каждый день с утра начиналась работа по заданиям мастеров. Одни долбили старый фундамент, разбирали руины, раскидывали обломки, другие массой направлялись к карьерам в Бершер-Левек в восьми километрах от Шартра и там высекали огромные глыбы камня такой тяжести, что подчас тысячи рабочих было мало, чтобы извлечь эту глыбу из ложа и поднять на вершину холма, на которой должен был вознестись будущий храм.
Когда же эти безмолвные стада, изнеможенные и промокшие, заканчивали работу, сразу же в полный голос звучали молитвы и пение псалмов; иные стенали о грехах своих, умоляли Божью Матерь о сострадании, били себя в грудь, рыдали на руках у священников, а те их утешали.
По воскресеньям текли процессии с орифламмами перед народом, и боевые кличи песнопений проносились по издалека видимым улицам, обозначенным свечками; часы все люди выслушивали на коленях, болящим с великой пышностью показывались мощи святых…
Тем самым тараны молитв, катапульты славословий потрясали укрепления Божьего града, живая сила армии сосредотачивала весь удар в одной точке, чтобы взять крепость штурмом.
И тогда, побежденный толиким смирением и таковым послушанием, пораженный толь многою любовью, Иисус Христос сдался, передал Свои полномочия Матери, и повсюду разразились чудеса. Еще немного, и встал на ноги весь род больных и увечных; слепые прозрели, раздутые водянкой похудели, расслабленные встали и пошли, страдавшие сердцем побежали бегом.
Рассказ о чудесах, повторявшихся ежедневно, происходивших иногда даже прежде, нежели паломники достигали Шартра, сохранен для нас латинской рукописью из Ватикана.
Вот жители Шато-Ландона тащат за собой телегу с провизией. Доехав до Шантрена, они видят, что еды не осталось, обращаются за помощью к несчастным, которые сами в крайней нужде. Является Богородица, и умножается хлеб для голодных. А вот люди, выехавшие из Гатине с фурой камня. Выбившись из сил, они делают дневку возле Пюизе; жители села выходят к ним и предлагают отдохнуть, они же сами потащат груз; те отказываются. Тогда крестьяне из Пюизе предлагают им вина, наливают его в бочку и грузят ее на воз. На это паломники соглашаются, чувствуют себя отдохнувшими и продолжают путь. Но чудо останавливает их; они убеждаются, что пустая тара сама собой наполнилась замечательным вином. Все пьют его, и больные исцеляются.
Еще история: некий житель Корбевиля-на-Эре, подрядившийся нарубить подводу леса, отрубил себе три пальца на руке; они держатся на ниточке; бедняга страшно кричит. Товарищи советуют ему отрубить пальцы до конца, но не дает священник, провожающий их до Шартра. Обращаются с молитвой к Деве Марии: рана заживает, рука остается невредимой.
Или вот: бретонцы, заблудившиеся ночью в босских полях, внезапно видят огненные факелы, которые ведут их на дорогу: это Сама Приснодева после повечерия снизошла в Свой храм, уже почти отстроенный, и осветила его ослепительным светом…
Сколько же таких страниц, одна за другой… О, понятно, размышлял Дюрталь, почему этот храм так полон Ею; ее признательность за усердие предков наших еще чувствуется… и вот Она теперь благоволит не показывать слишком Своего гнушения, на многое закрывать глаза…
Но насколько же иначе строят храмы нынче! Как подумаю о парижской Сакре-Кёр — этом тяжелом, беспомощном здании, возведенном людьми, красными буквами написавшими свои имена на каждом камне! И как только Бог терпит такую церковь, где все стены сложены из булыжников суетности, скрепленных раствором гордыни, где на самом видном месте читаем имена известных коммерсантов, словно рекламу! Не проще ли было поставить церковь не столь пышную и не столь уродливую, только чтоб не селить Господа нашего в монументе греха! О, толпам добрых людей, тащивших сюда с молитвой эти камни, и в голову бы не пришло эксплуатировать любовь, привязывать ее к своей потребности в роскоши, к своей жажде разврата!
Дюрталь почувствовал руку на своем плече: то был аббат Жеврезен, который подошел, пока он размышлял перед собором.
— Я на секундочку, — сказал старый священник, — меня ждут. Просто раз уж я вас увидел, то скажу заодно: я получил письмо от аббата Плома.
— Правда? Где же он сейчас?
— В Солеме, послезавтра вернется. Кажется, наш друг набрал много нового о жизни бенедиктинцев!
Аббат улыбнулся и завернул за новую колокольню, а Дюрталь, не совсем понимая, в чем дело, смотрел ему вслед.
X
Однажды утром Дюрталь пошел повидаться с аббатом Пломом. Ни дома, ни в соборе он его не застал и по совету церковного сторожа отправился в домик на углу улицы Акаций, где помещался церковный хор.
Через приоткрытые ворота он вошел во двор, заваленный дырявыми ведрами и строительным мусором. В глубине стояло здание, пораженное тяжелой кожной болезнью: изъеденное проказой, изрисованное лишаями, все потрескавшееся, как глазурь на старом горшке. Засохшая виноградная лоза во все стороны раскинула по фасаду заломленные черные руки. Дюрталь посмотрел внутрь через окошко и увидел дортуар с рядами белых топчанов и ночных горшков; он удивился, так как никогда еще не видал таких маленьких кроватей и таких больших ваз.
В комнате оказался один мальчик; Дюрталь постучал ему в окошко и спросил, здесь ли еще аббат Плом; служка кивнул и провел Дюрталя в зал ожидания.
Комната напоминала вестибюль богомольческой гостиницы низшего разряда. В ней стоял стол семужно-розового цвета, на нем кашпо без цветов; кресла с подголовниками, как у консьержки, камин с засиженными мухами статуэтками святых и бумажным экраном с росписью, изображавшей явление Богоматери в Лурде. На стене черная деревянная доска с ключами на гвоздиках под номерами, а напротив олеография, на которой Христос, любезно улыбаясь, выставлял напоказ недоваренное сердце, истекавшее ручьями желтого соуса.
Но больше всего каморку привратника, справляющего Пасху, там напоминал невыносимый тошнотворный запах — запах теплого касторового масла.
Дюрталю от этой вони стало дурно; он хотел уже бежать, но тут вошел аббат Плом, взял его под руку, и они вышли вместе.
— Итак, вы только что из Солема?
— Да, из Солема.
— Довольны поездкой?
— Чрезвычайно. — Аббат улыбнулся, уловив в тоне Дюрталя нотку нетерпения.
— Что же вы думаете об этом монастыре?
— Думаю, что там очень интересно побывать с точки зрения знакомства как с монашеством, так и с искусством. Солем — большой монастырь, материнская обитель бенедиктинского ордена во Франции, при нем процветающий новициат. Но, собственно, что именно вы хотели бы узнать?
— Что? Да все, что знаете вы!
— Если так, скажу вам прежде всего, что в Солеме поражает церковное искусство, достигшее своей высшей точки. Никто не может представить себе истинного блеска литургии и хорального пения, если не побывал в Солеме; если есть особый храм у Божьей Матери — Покровительницы искусств, то он там, будьте благонадежны.
— Древняя ли там церковь?
— Старая сохранилась отчасти, в том числе знаменитые скульптуры «Солемских святых», относящиеся к XVI веку; к сожалению, теперь в апсиде омерзительные витражи, Богородица со святыми Петром и Павлом; продукция нынешних стеклодувов во всем ее кричащем бесстыдстве! Но где же и раздобыть настоящий витраж?
— Нигде; как посмотришь да подумаешь, какие картины вставляют в переплеты рам новых церквей, только в том и убедишься, что в непроходимой глупости художников, рисующих картоны для витражей как эскизы для картин — да какие эскизы, каких картин!
И все это потом лепится дюжинами на самых скверных стекольнях, так что тоненькие стеклышки раскидывают по храму конфетти, весь пол заваливают разноцветным монпансье.
Если на то пошло, не проще ли взять цистерцианскую систему некрашеных стекол с рисунком, образованным переплетением оправ, или же копировать прекрасные гризайли, от времени ставшие жемчужными, что еще сохранились в Бурже, в Реймсе да и в этом соборе?
— Несомненно; но вернемся к нашему монастырю. Нигде, повторяю вам, службу не служат с такой пышностью. На большой праздник — о, это надо видеть! Представьте себе: над алтарем, там, где обычно сияет дарохранительница, к золотому кресту подвешен голубь с расправленными крыльями, парящий в облаках ладана; монашеское воинство проходит торжественным, четким маршем, а аббат стоит перед ними в митре с драгоценными камнями, держит посох из белой и зеленой слоновой кости, за ним тянется шлейф, который на ходу поддерживает послушник, а золотое облачение так и горит в отблесках свечей, а бурный поток органа, увлекая все голоса, до самых сводов возносит кличи скорби и радости, раздающиеся в псалмах!
Это дивно; это не то что покаянная суровость службы, какая бывает у францисканцев или траппистов; это роскошество во имя Божье, красота, Им сотворенная, Ему служащая и ставшая сама по себе хвалой и молитвой… Но если вы хотите услышать во всей славе пресветлое церковное пение, отправляйтесь прежде всего в соседнее аббатство, к монахиням святой Цецилии.
Аббат приумолк, шевеля губами, погрузившись в воспоминания, потом задумчиво продолжал:
— Ведь что ни говори, в любом монастыре женские голоса, по самой природе этого пола, сохраняют в себе некое томление, склонность к воркующим переливам и нередко, скажем прямо, некое любование своим звуком, когда поющая знает, что ее слушают; поэтому инокини никогда не исполняют грегорианский хорал в совершенстве. Но у бенедиктинок святой Цецилии уловки мирской суетности пропали совершенно. Их голоса уже не женские, а вполне серафические и мужественные. У них в церкви, слыша их пение, отодвигаешься куда-то в глубь веков или устремляешься во времени вперед. У этих монахинь есть и душевный порыв, и трагические паузы, и нежный шепот, и страстные возгласы, иногда же они словно бросаются на приступ и берут иные псалмы на штыки. Поверьте, у них получается самый стремительный бросок по землям беспредельного, о котором только можно мечтать!
— Так это не похоже на пение бенедиктинок с улицы Месье в Париже?
— Даже сравнивать нельзя. Я не хочу сказать ничего обидного про музыкальные качества тех славных монашек; они поют вполне приемлемо, но по-человечески, по-женски; можно утверждать, что нет у них ни такой выучки, ни такой душевной тонкости, ни таких голосов… Как сказал один молодой монах, тому, кто слышал солемских инокинь, парижские покажутся… провинциальными.
— А аббатису святой Цецилии вы видали? Постойте, ведь это же… — Дюрталь порылся в своей памяти. — Не она ли автор того «Трактата о молитве», который я читал когда-то у траппистов, но который, я полагаю, не очень хорошо приняли в Ватикане?
— Она самая; но вы находитесь в полнейшем заблуждении, полагая, что ее книга могла не понравиться в Риме. Да, ее, как и все сочинения такого рода, рассматривали под микроскопом, просеивали через мелкое сито, прочесывали строчка за строчкой, крутили и вертели со всех сторон, но в результате богословы, ведающие этой Божьей таможней, признали и подтвердили, что это произведение, замышленное согласно надежнейшим основаниям мистики, сознательно, решительно и бесповоротно правоверно.
Прибавлю, что этот том, напечатанный госпожой аббатисой при помощи нескольких инокинь на маленьком ручном прессе, который есть в монастыре, не был выпущен в продажу. В двух словах, это резюме ее учения, квинтэссенция наставлений, и предназначена книга прежде всего тем ее дочерям, которые не могут слушать ее слова и уроки, ибо проживают далеко от Солема, в других основанных ею аббатствах.
Теперь учтите, что бенедиктинки десять лет учат латынь, многие из них переводят с древнееврейского и греческого, владеют искусством экзегезы; есть такие, которые рисуют карандашом и в красках на страницах богослужебных книг, возобновляя истощившееся искусство древних иллюминаторов; иные, и среди них мать Хильдегарда, — перворазрядные органистки… И вы, конечно, понимаете, что женщина, которая ими управляет, ведет их, женщина, создавшая в своих обителях школы практической мистики и церковного искусства, — личность совершенно выдающаяся, и, признаемся себе, в наше время легкомыслия в богопочитании и невежества в благочестии, единственная!
— Это же одна из великих аббатис Средних веков! — воскликнул Дюрталь.
— Это шедевр дом Геранжера, который принял ее почти ребенком, размял и долго чистил ей душу, затем пересадил в особую теплицу, день за днем наблюдая за ее возрастанием в Господе, и вот вы видите результат этого интенсивного земледелия.
— Так; и тем не менее есть люди, для которых монастыри — прибежища безделья и вместилища глупости; подумать только, невежественные болваны пишут в своих листках, что монахини ни слова не понимают на латыни, когда читают! Им бы самим такими латинистами стать!
Аббат улыбнулся.
— Вообще говоря, — заметил он, — в том и состоит секрет грегорианского пения. Чтобы хорошо исполнить псалмы, надо не только понимать их язык, но также улавливать смысл, в переводе Вульгаты нередко темный. Без душевного рвения и учения голос ничего не значит. В пьесах светской музыки он может быть великолепным, но когда приступаешь к божественным строкам хорала, становится пустым и никчемным.
— А чем занимаются отцы?
— Они прежде всего взялись за восстановление литургического чина и церковного пения, затем разыскали и собрали в «Специлегии» и «Аналектах»[45] с подробнейшими комментариями забытые тексты тонких символистов и прилежных подвижников. Сейчас же они готовят к печати и выпускают в свет музыкальную палеографию, одно из самых ученых и добросовестных изданий нашего времени.
Но было бы неверно создавать у вас впечатление, будто миссия бенедиктинского ордена — исключительно копаться в старых манускриптах да переписывать ветхие антифонарии[46] и древние хартии[47]. Конечно, монах, имеющий талант к какому-либо искусству, этим искусством и занимается, если аббат того пожелает, и устав это говорит совершенно определенно. Однако настоящая истинная цель сына святого Бенедикта — петь или читать нараспев хвалу Господу, учиться на этом свете тому, что он будет делать на том — славить Бога словами, Им Самим внушенными, на языке, которым Он Сам говорил голосами Давида и пророков. Семь раз в день бенедиктинцы исполняют обязанность небесных старцев Апокалипсиса, которых показал нам Иоанн Богослов; изображения этих старцев, играющих на арфе, находятся здесь же, в Шартре.
Одним словом, их особенная задача — не зарываться в пыль веков, не брать на себя чужие грехи и скорби, как в чисто покаянных орденах, таких, как кармелиты и клариссы. Они призваны совершать ангельское богослужение, делать дело мира и веселья, при жизни принять радостное наследство жизни вечной; это дело ближе всего к делу горних духов и вообще самое возвышенное, какое есть на земле.
Чтобы достойно исполнять эту обязанность, помимо горячего благочестия требуется глубокое знание Писания и утонченное эстетическое чувство. Истинные бенедиктинцы должны быть и подвижниками, и учеными, и художниками.
— А какой в Солеме распорядок дня? — спросил Дюрталь.
— Очень методический и простой: утреня и час первый в четыре часа утра — в девять часов час третий, монашеская месса и час шестой — в полдень дневная трапеза — в четыре часа час девятый и вечерня — в семь часов вечерняя трапеза — в половине девятого повечерие и общий покой. Как видите, между службами и трапезами есть время сосредоточиться и поработать.
— А живущие?
— Живущие? В Солеме я таких не видел.
— Правда? Но… если есть такие, они следуют тому же распорядку, что отцы?
— Разумеется, кроме, быть может, некоторых послаблений, зависящих от доброй воли аббата. Вот что могу вам сказать: в других известных мне бенедиктинских аббатствах принята такая формула: живущий берет из устава то, что может взять.
— Но он, я полагаю, свободен в своих передвижениях и поступках?
— С того момента, как он принес обет послушания и, после должного времени испытания, надел монашеское облачение, он такой же монах, как и все, и, покидая монастырь, уже ничего не может делать без благословения отца-настоятеля.
— Тьфу ты! — тихонько сказал Дюрталь. — Словом, если бы это привычное в мире глупое сравнение, уподобление монастыря могиле, было точно, то и жизнь при монастыре была бы такой же могилой, разве что стенки гроба потоньше да приоткрыта крышка, так что виден лучик света.
— Можно сказать и так, — со смешком ответил аббат.
За этими рассуждениями они подошли к епископскому дому, вошли во двор, сразу увидели аббата Жеврезена, который направлялся к саду, и нагнали его. Старый священник пригласил их вместе с собой в огород, где он собирался посмотреть, какие овощи посадила г-жа Бавуаль, чтобы сделать ей приятное.
— А ведь и я давно уже обещал посмотреть на ее рассаду! — воскликнул Дюрталь.
Они прошли по старым аллеям и вошли во фруктовый сад на нижней террасе; увидев их, г-жа Бавуаль сразу же встала на караул, как принято у огородников: воткнула лопату в землю и наступила на штык.
Она гордо указала на ровные грядки моркови и капусты, лука и гороха, объявила, что как раз собиралась пройти на баштан, увлеченно заговорила об огурцах и тыквах, наконец, заметила, что в дальнем конце огорода оставила место для цветов.
Все уселись на холмик, насыпанный вроде скамейки.
Аббат Плом, желая подшутить, приподнял очки с высокой аркой над носом и, потирая руки, очень серьезно заговорил:
— Госпожа Бавуаль, совсем не в том дело, вкусны ли и красивы ваши цветы да овощи; выбирая, что сажать, вы должны руководиться только символикой пороков и добродетелей, приписанных растениям. А я, кажется, вижу, что ваши питомцы по большей части добра не сулят.
— Не понимаю я вас, отец викарий!
— Ну как же, посмотрите: те культуры, за которыми вы сейчас ходите, все знаменуют дурное. Вы чечевицу сеяли?
— Да.
— А у чечевицы зерна темные, мрачные. Артемидор в «Толковании сновидений» уверяет{67}, что приснившаяся чечевица к смерти; лук и латук тоже предвещают катастрофы. У зеленого горошка репутация получше, но Боже сохрани вас, как от чумы, от кориандра, у которого листья пахнут клопами: все зло от него!
Зато, согласно Мацеру Флориду, чабрец исцеляет змеиные укусы, укроп помогает женщинам в кровотечениях, а чеснок, если есть его натощак, хранит от порчи, которую могут на вас навести, когда вы пьете воду неизвестного происхождения или переезжаете на новое место. Итак, госпожа Бавуаль, сажайте целые поля чеснока!
— А батюшка его не любит!
— Еще надобно, — с серьезным видом продолжал аббат Плом, — наставляться классическими трудами святых Фомы Аквинского и Альберта Великого, который в сочинении о свойствах трав, чудесах мира и тайнах женщин, ему приписанном (но, без сомнения, ложно), дает кое-какие замечания, которые, по моему разумению, не должны пропадать втуне.
Не он ли утверждает, что корень подорожника — превосходное средство против головной боли и гнойных язв, что омела с дуба открывает любые замки, что чистотел, положенный больному на голову, поет, если недужный при смерти, что, натерев руки соком очитка, можно браться за раскаленное железо и не обжечься, что миртовый лист, свернутый кольцом, уменьшает апостемы[48], что, если девушка съест лилию, растертую в порошок, можно проверить, невинна ли она, ибо, если это не так, порошок, едва она его проглотит, тотчас вызовет неудержимое мочеиспускание…
— Я не знал такого свойства за лилиями, — засмеялся Дюрталь, — но знал, что сам же Альберт Великий в другом месте приписывал его мальве; только ее надо не есть, а просто подержать у испытуемой над головой; впрочем, чтобы опыт был совершенно надежен, мальва должна быть засушенная.
— Ну и бред! — воскликнул аббат Жеврезен.
Служанка, совсем опешив, уставилась в землю.
— Не слушайте его, госпожа Бавуаль! — сказал Дюрталь. — У меня есть другая идея, не медицинская, а духовная: сажать цветы, принятые в богослужении, и эмблематические овощи, создать такой сад с огородом, что будут славить Бога, молиться Ему за нас на своем наречии, словом, подражая трем отрокам в пещи огненной, призывать всю природу, от дуновения бури до семян, сокрытых в полях, да благословит Господа!
— Оно недурно, — ответил аббат Плом, — но для этого нужно очень много места, ибо в Писании поименовано не менее ста тридцати названий, а тем, которым приписывался определенный смысл в Средние века, и числа нет!
— Не говоря о том, — вставил аббат Жеврезен, — что подобало бы этому саду, относящемуся к собору, воспроизвести флору его стен.
— А она изучена?
— Для нее не составлен еще каталог, как для каменных растений в Реймсе — там минеральный гербарий был тщательно собран и расписан г-ном Собине; но обратите внимание: на всех соборных капителях растенья примерно одни и те же. Во всех храмах XIII столетия вы найдете листья виноградные, дубовые, розовые, хмелевые, ивовые, лавровые и папоротниковые, а также землянику и лютики. Ведь почти везде скульпторы высекали растения местные, те, что встречаются в краях, где они работали.
— А не хотели они венками и корзинками капителей выразить какую-либо особенную мысль? Например, в Амьене гирлянда листьев и цветов, бегущая по аркадам главного нефа, обвивающая все здание и обозначающая контуры столпов, вероятно, сделана, чтобы разделить храм в высоту пополам и дать отдых глазу, но также, скорей всего, и с другой целью: нет ли там конкретной идеи, не содержит ли она какого-либо высказывания, относящегося к Божьей Матери, Которой посвящен и весь храм?
— Не думаю, — ответил викарий. — Полагаю, что художник, выбивавший этот узор, имел в виду просто украсить собор, а вовсе не рассказать нам на герметическом языке краткую повесть в похвалу нашей Матери. Впрочем, если мы согласимся, что в XIII веке ваятели изображали акант из-за связанной с ним идеи мягчительной кротости, дуб затем, что он выражал силу, кувшинку потому, что ее широкие листья подобны христианской любви, то надо предположить, что и в конце XV века, когда символика в искусстве еще не совсем была утрачена, цикорий, цветная капуста, репейник, многочастные кусты, что в церкви Бру растут в озере любви, тоже имели какой-то смысл. Но совершенно несомненно, что эти растения избирались из-за напряженного изящества своего строения, хрупкой и беспокойной грации форм. Иначе говоря, мы можем быть уверены, что эти орнаменты рассказывают совсем не ту историю, что ботанический мир соборов в Реймсе и Амьене, Руане и Шартре.
Вообще-то на капителях нашего собора, а они далеко не самые разнообразные по флоре, чаще всего встречается молодой побег папоротника, похожий на епископский посох.
— Так-то так, но разве же папоротник не употреблялся в символическом значении?
— Вообще предполагается, что это символ смирения, что объясняется его манерой жить по возможности вдали от дорог, в лесной глуши, но если посмотрим руководство святой Хильдегарды, узнаем, что это растение, которое она называет «фару» — магическое.
«Как солнце разгоняет мрак, — говорит аббатиса Рупертсбергская{68}, — так и фару прогоняет наваждения. Бес бежит от него, а гром и град весьма редко попадает в место, где он произрастает; наконец, человек, носящий на себе папоротник, укрывается от порчи и чародейства».
— Разве же святая Хильдегарда занималась естественной историей с медико-магической точки зрения?
— Занималась, только ее книга почти неизвестна, потому что до сих пор не переведена. Некоторым представителям флоры она подчас приписывает весьма необычные талисманические свойства. Хотите примеров?
Вот, скажем: она утверждает, будто подорожник исцеляет человека, съевшего или выпившего колдовское зелье, и теми же качествами обладает кровохлебка, если носить ее на шее.
Мирру нужно нагревать на парном мясе, пока не станет мягкой; после этого она разрушит все чародейное искусство, избавит от наваждений, станет противоядием от ведьмовского пития. Кроме того, если положить ее на грудь и живот, она рассеивает похотливые помыслы, вот только вместо мыслей о разврате она наводит уныние и иссушает сердце, а потому без крайней необходимости прибегать к ней не следует, замечает святая.
Впрочем, чтобы отогнать уныние, навеянное миррой, можно использовать «ключик небесный» — это, наверное, а может и в самом деле, аптекарский первоцвет, дикий нарцисс, желтые пахучие соцветия которого раскрываются в непросохших лесах и на лугах. Это цветок теплый, он берет свою силу у света. Вот поэтому он изгоняет меланхолию, которая, как уверяет святая Хильдегарда, делает человека нестойким и внушает ему хульные словеса на Бога; слыша их, духи злобы поднебесной слетаются к говорящему и окончательно лишают его рассудка.
Мог бы рассказать вам еще и о мандрагоре, теплом, водянистом растении, которое похоже на уродливого человечка и бывает знаком человека вообще; поэтому она более всех прочих испытывает действие демонских сил, но лучше я вам расскажу один ученый рецепт Хильдегарды.
Вот что она учит делать с лилией: возьмите кончик ее корня, нарежьте и размешайте в прогорклом жире, нагрейте снадобье, разотрите больного белой или красной проказой, и он тотчас исцелится.
Ну, теперь оставим эти прадедовские амулеты и наставления, перейдем собственно к символике растений.
Вообще говоря, все цветы суть эмблема Добра. Согласно Дуранду Мендскому, они, как и деревья, представляют собой благие поступки, имеющие добродетель корнем; по Гонорию Отшельнику, зеленые травы — люди добронравные, цветущие — возрастающие в Боге, плодоносящие — совершенные души; наконец, по утверждениям старых трактатов по символическому богословию, растения аллегорически возвещают о Воскресении, а в особенности понятие вечности связывается с виноградом, кедром и пальмою…
— Не забудьте, — прервал аббат Жеврезен, — что в Псалтири пальма уподобляется праведнику и что, по толкованию Григория Великого, она под шершавой корой скрывает крестообразную сердцевину, а золотые грозди ее фиников жестки на ощупь, но сладки для тех, кто знает в них вкус.
— Все-таки, — спросил Дюрталь, — предположим, г-жа Бавуаль решила завести литургический сад; какие же породы она должна для него выбрать?
Можно ли хотя бы составить словарь растений — смертных грехов и обратных им добродетелей, подготовить почву для действий, по определенным правилам подобрать материалы, которые должен использовать мистический садовод?
— Не знаю, — ответил аббат Плом, — но на первый взгляд мне это кажется возможным; однако надо бы восстановить в памяти названия растений, которые могут служить более или менее точными эквивалентами достоинств и пороков. Фактически вы просите меня перевести на язык растений наш катехизис; что ж, попробуем.
Для гордыни у нас есть тыква, некогда почитавшаяся в городе Сикионе как богиня. Она являет образ то плодовитости, то гордости: плодовитости из-за множества семечек и быстрого роста, который монах Валафрид Страбон восхваляет в целой главе пышных гекзаметров{69}; гордости из-за огромной пустой головы и надутого вида; есть еще кедр, который, согласно святому Мелитону и Петру Капуанскому, считается превозносящимся.
Для скупости я, признаюсь, не вижу отражения в растительном мире; пойдем дальше, а к этому греху вернемся потом.
— Простите, — заметил аббат Жеврезен, — святой Эвхер и Рабан Мавр образом богатств, копящихся на погибель душе, полагают терновник. Ну а святой Мелитон заявляет, что смоковница — это жадность.
— Бедная смоковница, — ответил, смеясь, викарий, — под какими только соусами ее не подавали! Рабан Мавр и Клервоский аноним почитали ее за неверующего иудея, Петр Капуанский сравнивал с крестом, святой Эвхер с премудростью, и это далеко не все. Постойте-ка, забыл, на чем мы остановились. Ах, да, на сладострастии! Тут уж есть из чего выбирать. Кроме целого ряда фаллообразных деревьев, есть цикламен, он же свинячий хлеб, который, как еще в древности писал Феофраст{70}, эмблема сластолюбия, потому что из него делают приворотные зелья; крапива, что по Петру Капуанскому обозначает позывы необузданной плоти; затем еще тубероза, растение более новое, но в XVI веке уже известное, привезенное во Францию одним отцом миноритом; ее хмельной, раздражающий нервы запах, кажется, приводит в смятение и чувства.
Для зависти у нас чертополох и чемерица — та, правда, скорее, заключает в себе клевету и злоязычие, — да еще крапива, но по другому толкованию, Альберта Великого, крапива напускает храбрость и прогоняет страх. Чревоугодие? — Викарий не сразу нашелся. — Видимо, плотоядные растения вроде венериной мухоловки или болотной росянки…
— А почему не такой простой полевой цветок, как повилика, пиявка растительного царства, которая пускает свои тоненькие, как ниточки, стебельки на другие растения, цепляется за них крохотными присосками и хищнически питается их соками? — предположил аббат Жеврезен.
— Гнев, — продолжал аббат Плом, — символизируется тем прямым деревом с розоватыми цветками, что в народе прозван сапожничьим померанцем, и базиликом, который в Средние века позаимствовал у сходного с ним по имени василиском дурную славу жестокости и бешеного нрава.
— Как же так! — воскликнула г-жа Бавуаль. — Им же и фарш посыпают, и мясо приправляют.
— С точки зрения кулинарной гигиены это грубая душевредная ошибка, — улыбнулся младший аббат и продолжал: — Кроме того, грех гнева можно приписать бальзамину, который в первую очередь — образ нетерпения из-за раздражительности его коробочек, при малейшем прикосновении с треском лопающихся и далеко разбрасывающих семена. Наконец, леность олицетворяется снотворным семейством маковых.
Что же касается добродетелей, противоположных этим порокам, тут потребные толкования понятны ребенку.
Для смирения у нас есть папоротник, иссоп, вьюнок, фиалка, которая, по Петру Капуанскому, этим свойством своим как раз и подобна Христу.
— А согласно святому Мелитону, она близко походит на исповедников, следуя же святой Мехтильде — на вдовиц, — добавил аббат Жеврезен.
— Для отречения от благ земных возьмем лишайник — образ уединения; для целомудрия — флердоранж и лилию; для любви — кувшинку, розу и, как говорят Рабан Мавр и Клервоский аноним, шафран; для воздержности — латук, что означает также и пост; для кротости — резеду; для бодрствования — бузину, что прежде всего символизирует молитвенное усердие, или тимьян, острые буйные соки которого обозначают деятельность.
Так уберем грехи — им нечего делать в палисаднике, посвященном Матери Божией, — и засеем свои цветники семенами цветов богоугодных.
— Как же это сделать? — спросил аббат Жеврезен.
— Что ж, есть два способа, — ответил Дюрталь. — Можно взять план настоящей недостроенной церкви, заменив статуи цветами (так было бы лучше с точки зрения искусства), а можно возвести храм целиком из цветов и трав.
Он подобрал с газона палочку и продолжал:
— Вот, глядите, как мы будем строить нашу базилику. — Дюрталь начертил на земле главные оси церкви. — Я полагаю, мы начнем ее строить с конца, с апсиды; разумеется, как и в большинстве соборов, мы поместим там капеллу Богородицы. Растений, служащих атрибутами Царицы Небесной, множество.
— Мистическая роза литаний! — воскликнула г-жа Бавуаль.
— Ох, — вздохнул Дюрталь, — роза порядком скомпрометирована. Во-первых, это одно из эротических растений язычества, а во-вторых, во многих городах этот цветок в знак бесчестья заставляли носить жидов и блудниц!
— Так, — живо сказал аббат Плом, — но ведь Петр Капуанский считает ее олицетворением Приснодевы, поскольку у розы есть значение любви и милости! С другой стороны, святая Мехтильда утверждает, что розы представляют собой мучеников, а в другом месте своей книги «Благодать особенная» она отождествляет этот цветок с добродетелью терпения.
— И Валафрид Страбон в своем «Малом саду» уверяет, что роза есть кровь святых, принявших мучение, — негромко заметил аббат Жеврезен.
— Rosae martyres, rubore sanguinis: это из «Ключа» святого Мелитона, — подтвердил викарий.
— Ну что ж, посадим розовый куст! — воскликнул Дюрталь. — Дальше там будут лилии.
— Тут я вас прерву! — вмешался аббат Плом. — Ведь прежде всего надо ясно понимать, что лилия в Писании совсем не тот цветок, что мы знаем под этим именем, как обыкновенно думают. Лилия обыкновенная, растущая в Европе и ставшая в Церкви даже прежде Средневековья эмблемой девства, вероятно, никогда не произрастала в Палестине; и когда Песнь Песней сравнивает губы возлюбленной с лилией, очевидно, что восхищение относится не к белым губам, а к красным.
Растение, именуемое в Библии лилией долин и лилиями полевыми, — не что иное, как анемон; это доказал аббат Вигуру.
Он во множестве растет в Сирии, близ Иерусалима, в Галилее, на горе Елеонской — высокая трава с очередными перистыми листьями роскошного темно-зеленого цвета; этот цветок похож на изящный, тоненький дикий мак и напоминает благородную девицу, маленькую принцессу, нежную и чистую, в изысканном убранстве.
— Одно безусловно, — сказал Дюрталь. — Невинность лилии совсем не очевидна: ведь, если подумать, ее запах не целомудрен, а как раз напротив. Это смесь меда с перцем, нечто сладковато-жгучее, бледное и сильное; в ней есть что-то и от возбуждающих восточных снадобий, и от эротических индийских варений.
— Но постойте, — заметил аббат Жеврезен. — Положим (так ли это?), что в Святой Земле лилий не было; но оттого не менее общепризнанно, что в Средние века этот цветок был источником целого ряда символов.
Откройте, скажем, Оригена: для него лилия есть Христос, ибо Господь Сам указал на Себя, говоря: «Я нарцисс Саронский, лилия долин»[49]; в этом стихе поля, то есть земли возделанные, представляют собой народ еврейский, наставленный самим Богом, а долины, земли целинные — невежд, иными словами, язычников.
Теперь почитайте Петра Певчего. У него лилия — дочь Иоакимова из-за ее белизны, запаха, приятнейшего из всех, целебных свойств и, наконец, потому, что растет на невозделанной земле, как Богородица произошла от иудейских предков.
— Что касается качеств медицинских, упомянутых Петром Певчим, — сказал аббат Плом, — надо добавить: согласно одному английскому анониму XIII века, лилия — наилучшее средство от ожогов, а потому она — образ Матери нашей, также исцеляющей ожоги или, иначе говоря, пороки грешников.
— А еще, — продолжал аббат Жеврезен, — обратитесь к святому Мефодию, святой Мехтильде, к Петру Капуанскому, к тому английскому монаху, которого вы сейчас упоминали, и вы найдете, что лилия — атрибут не только Девы Марии, но также всех дев и девства вообще.
Наконец, щепотка смысла, найденная святым Эвхером: он сближает белизну лилии с непорочностью ангелов; еще одна — от Григория Великого, сопоставляющего ее благоухание с благоуханием святых; толкование Рабана Мавра, по мнению которого лилия — небесное блаженство, сиянье святости, Церковь, совершенство, невинность плоти…
— Не считая того, что, по разъяснению Оригена, лилия среди тернов отражает Церковь среди гонителей, — вставил аббат Плом.
— Итак, лилия — Иисус Христос, Матерь Его, ангелы, святые, Церковь, добродетели, девы — всё сразу! — воскликнул Дюрталь. — Даже и не поймешь, каким образом садовникам от мистики удавалось вместить столько значений в один-единственный цветок!
— Вы же видите: помимо аналогий и подобий, которые можно установить между формой, запахом и окраской цветка с тем, что связывают с ним символисты, эти люди комментировали Библию, изучали в ней места, где упоминается имя того или иного дерева либо травы, и квалифицировали растения согласно тому значению, которое дается или подразумевается в тексте; то же самое они делали с животными, красками, камнями и всем остальными предметами, коим присваивали смыслы; в сущности, это очень просто.
— И довольно запутанно. Черт, где я остановился? — переспросил Дюрталь.
— В капелле Богородицы; вы посадили там анемоны и розы; добавьте еще букс — образ Марии по анониму Клервоскому и воплощения Слова по анониму из Труа, и грецкий орех, плоды которого епископ Сардиса берет в том же значении.
— А еще резеду, — воскликнул Дюрталь, — ведь сестра Эммерих говорит о ней много раз и весьма многозначительно. Она говорит, что этот цветок совершенно особенным образом связан с Девой Марией: Она ее растила и много для чего применяла.
И еще один куст, кажется мне, сюда предназначен: папоротник — не из-за тех качеств, которые дает ему святая Хильдегарда, а потому что он есть образ самого потаенного, самого сокровенного смирения. В самом деле, возьмите один из его крепких стеблей и срежьте наискось, как свисток: вы ясно увидите геральдическую фигуру лилии, тисненную на черном, словно горячей печатью. Она лишена запаха, а потому мы можем принять ее как символ смирения столь совершенного, что открывается лишь после смерти.
— Смотрите-ка, а друг наш не так несведущ во всяких деревенских делах, как я думала, — сказала г-жа Бавуаль.
— Ну, мальчишкой-то я же бегал по лесам…
— Про алтарную часть, полагаю, и говорить нечего, — продолжил разговор аббат Жеврезен. — Там могут быть лишь евхаристические сущности: виноград и пшеница.
О винограде Господь Сам сказал: «Аз есмь истинная виноградная лоза»[50]; он же и эмблема приобщения к восьмому блаженству; пшеница, как вещество, служащее для великого таинства, в Средние века была предметом обильного попечения и почитания.
Припомните торжественные церемонии в некоторых монастырях при печении хлеба для освящения.
В канском монастыре Святого Стефана иноки умывали себе лицо и руки, читали, преклонив колени перед престолом святого Бенедикта, повечерие, семь покаянных псалмов и литанию всем святым; потом один из братьев-послушников показывал всем жаровню, в которой выпекались сразу две гостии, когда же приходила пора потреблять эти опресноки, те, кто участвовал в их производстве, трапезовали вместе, и трапезу им подавали такую же, как отцу-настоятелю.
Так же было и в Клюни: три иеромонаха или иеродиакона, после строгого поста прочитав те молитвы, что я уже называл, облачались в белые одежды и брали себе в помощь несколько послушников. Они разводили холодной водой самую мелкую муку из зерен, по одному отобранных новоначальными, и один из братьев, надев перчатки, пек облатки на жарком огне дров из виноградных побегов в железной жаровне, украшенной фигурами.
— Тут я припоминаю, — сказал Дюрталь, закуривая, — о мельнице для жертвенной муки.
— Таинственное точило я знаю, — возразил аббат Жеврезен, — его очень часто изображали витражисты пятнадцатого — шестнадцатого веков; собственно, это парафраза текста пророка Исайи: «Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною»[51]. Но таинственная мельница — признаюсь, это мне неизвестно.
— Я однажды обратил внимание на такую в Берне, на витраже пятнадцатого века, — объявил аббат Плом.
— А я ее видел в Эрфуртском соборе, не на стекле, а на дереве. Это картина неизвестного художника, датированная 1534 годом; вижу ее как теперь:
Вверху Бог-Отец, благодушный старец с белоснежной бородой, величавый и задумчивый; потом мельница, похожая на кофейную, стоит на краю стола, ее нижний ящичек приоткрыт. Евангелические животные вываливают в ее жерло из больших белых мехов ленты, на которых написаны тайносовершительные слова; эти ленты спускаются в чрево машинки, затем выходят через ящичек и падают в чашу, которую держат преклонившие перед столом колени кардинал и епископ.
Слова превращаются в благословляющего младенца, а в углу картины четыре евангелиста крутят длинную рукоять.
— Тут много странного, — заметил аббат Жеврезен. — Изображены слова, совершающие пресуществление, а не сами пресуществляемые вещества; евангелисты представлены дважды, в животном и в человеческом обличье; они и вертят машиной, и ведают помолом. Кроме того, здесь нет святого приношения, оно заменено живой плотью.
На самом деле все верно: как только сказаны освящающие слова, хлеб уже не хлеб. Все-таки необычен план, по которому в видимом сюжете, в сцене на мельнице пшеница вообще убирается с глаз: и как зерно, и как мука, и как гостия; должно быть, художник принял решение отказаться от материи, от внешнего и заменить ее реальностью, недоступной для чувств, с тем, чтобы потрясти массу, утвердить действительность таинства, сделать его видимым для толпы. Но вернемся к нашему церковному строительству. На чем мы остановились?
— Вот здесь, — ответил Дюрталь и показал веточкой на песке на продольные проходы храма. — Что ж, боковые капеллы мы можем устроить по нашему выбору. Одну, само собой, посвятим Иоанну Крестителю. Чтобы отличить ее от остальных, у нас есть хмель и гвоздичное дерево, которым он дал и свое имя, а главное полынь, которую собирают накануне его праздника и вешают в комнате от злого глаза и чародейства, от молнии и привидений. Заметим еще, что это прославленное в Средние века растение применялось против эпилепсии и пляски святого Вита — болезней, при которых необходимо заступничество Предтечи.
Другую капеллу посвятим апостолу Петру. На его алтарь мы также можем положить пук трав, которые наши предки называли в его честь: подснежник, кустистую жимолость, горечавку и мыльнянку, постенницу и повой, и много других, все не упомню.
Но прежде всего, не правда ли, подобает возвести приют для Божьей Матери Семи Скорбей{71}, который есть во многих церквах.
Ясно нам указана удивительная пассифлора, синий, в лиловый вдающийся цветок; завязь ее подражает кресту, столбик цветка гвоздям, тычинки молоткам, волокнистые органы терновому венцу: словом, в ней заключены все орудия Страстей Господних. Если угодно, прибавьте к ней иссоповую ветвь, посадите кипарис — образ Спасителя по святому Мелитону и смерти по г-ну Олье, мирт, который, по одному из текстов Григория Великого, утверждает сострадание, а главное, не позабудьте крушину или терние: ведь из ветвей именно этого кустарника иудеи сплели венец, возложенный на голову Христа; вот капелла и готова.
— Да, — сказал аббат Жеврезен, — Руо де Флери уверяет, что именно колючими ветвями крушины венчали главу Сына Человеческого, и тут поневоле задумаешься: вспоминается, что в Ветхом Завете, в главе девять Книги Судей, все великие деревья Иудеи поклонились Царю, пророчески представленным этим невзрачным кустом.
— Это так, — ответил аббат Плом, — но вот еще что любопытно: сколько совершенно различных смыслов приписывают тернию древние символисты. Святой Мефодий приноравливает его к девству, Феодорит к греху, святой Иероним к дьяволу, святой Бернард к смирению.
Заметьте также, что в «Символическом богословии» Максимилиана Сандея это растение названо прелатом, в мире живущим, в то время как маслину, виноград и фиговое дерево, сравнивая с ним, автор именует монашескими молитвенными орденами. Тут он, конечно, намекает на шипы, которыми епископы, бывало, не упускали случая колоть скорбящие главы обителей.
Еще в геральдике своей капеллы вы позабыли тростник — скипетр, в насмешку вложенный в руки Сына Божия. Но тростник точно так же, как и терние, куда хочешь, к тому приложишь. Святой Мелитон дает значение: Воплощение и Святое Писание; Рабан Мавр: проповедник, лицемер, язычники; святой Эвхер: грешник; Клервоский аноним: Христос; прочее позабыл.
— Для одной породы и того хватит, — сказал Дюрталь. — Теперь надо устроить еще несколько капелл для святых; нет ничего проще: возьмем только тех, чьими именами названы травы.
Вот, к примеру, валериана, прозванная травой святого Георгия, белый цветок с трубчатым стеблем, растущий во влажных местах; его прозванье вполне понятно, ибо его применяли при леченье нервных болезней, от которых этому святому и молились.
Трава, или, вернее, травы, святого Роха: болотная мята, два сорта девясила, из которых один, с золотисто-желтыми цветами, служит слабительным и исцеляет паршу; прежде в день памяти этого подвижника освящали пучки этой травки и подвешивали в хлевах, чтобы охранить скот от эпизоотий.
Трава святой Анны — унылая вьющаяся постенница, эмблема бедности.
Трава святой Варвары — гулявник, невзрачное крестоцветное растеньице, помогающее от цинги, по-нищенски пластающееся вдоль дорог.
Трава святого Фиакра — коровяк, отварные листья которого ставят как припарки: они служат мягчительным и лечат от колик, а святой этот, как считается, тоже снимает боль в животе.
Трава святого Стефана — цирцея, скромная травка с гроздьями красноватых цветков на мохнатом стебельке. Да сколько их еще!
Что же до крипты, а мы ее выкопаем, там непременно должны расти деревья Ветхого Завета, в память о котором и устраивается эта часть храма. Поэтому, невзирая на климат, там надобно выращивать виноград, пальмы — знак вечности, кедр, который, благодаря своей не поддающейся порче древесине иногда связывается с мыслью об ангелах, а еще маслины, фиги — образ Святой Троицы и Бога Слова, ладан, кассию, мирру или алой, символ совершенного человечества Иисуса Христа, и теревинфы — а они что, собственно, означают?
— По Петру Капуанскому, Крест и Церковь; святых, по святому Мелитону; учение иудеев и еретиков, по Клервоскому анониму; что же до капель их сока, то это слезы Христовы, если верить святому Амвросию, — разъяснил аббат Плом.
— Много уже сделано, а церковь все не завершена; мы идем ощупью, без всякой последовательности. Мне бы хотелось, чтобы у входа в храм на месте чаши со святой водой рос очищающий иссоп. Но из чего делать стены, если мы отказались от использования реальной, но недостроенной базилики?
— Возьмите значение самих стен и переведите его на язык растений, — сказал аббат Плом. — Четыре стены изображают четырех евангелистов. Можете это передать?
Дюрталь, покачав головой, ответил:
— Вот в мистической фауне евангелисты представлены — это тетраморф; двенадцать апостолов имеют единозначные соответствия среди камней, и в их числе, естественно, евангелисты: Иоанн связан с изумрудом, знаком непорочности и веры, Матфей с хризолитом, отметиной мудрости и бдения, но ни деревья, ни цветы, кажется, на их место не подставляются… а впрочем, нет. Апостол Иоанн изображается гелиотропом, что служит аллегорией богодухновенности: на витраже церкви святого Ремигия в Реймсе евангелист изображен с круглым нимбом, над которым высятся два стебля этого растения.
И у апостола Марка было растение, которому в Средние века присвоили его имя: танезия.
— Танезия?
— Такая горькая пахучая трава с медно-красными цветами, что обильно растет в каменистых местностях и употребляется в медицине как антиспазматическое. Как и трава святого Георгия, она в числе прочих лечит нервные заболевания, а при них заступничество святого Марка, по-видимому, всего важнее.
Что до Луки, его можно помянуть букетами резеды, ибо сестра Эммерих рассказывает, что, когда он был врачом, этот цветок был его главным снадобьем. Он смешивал резеду с пальмовым маслом, освящал и помазывал крестообразно чело и уста болящих; бывало и так, что он делал настой на сухой траве.
Остается апостол Матфей; вот тут я сдаюсь: не вижу ни одного растения, которое можно разумным образом приписать ему.
— Ну вот вы сразу и лапки кверху, по-простому говоря! — вскричал аббат Плом. — А средневековая легенда нам сообщает, что его гроб источал бальзам, поэтому на иконах его писали с ветвью киннамона, символом благоухания добродетелей у святого Мелитона.
— И все равно лучше было бы взять остов настоящей церкви, воспользоваться тем, что грубая работа сделана, а из герменевтики цветов взять только подробности.
— Ну а ризница? — спросил аббат Жеврезен.
— Что ж, раз по «Рационалию» Дуранда Мендского ризница есть лоно Богоматери, мы изобразим ее девственными травами, как анемон, таким деревом, как кедр, который сопоставляет с Богородицей святой Ильдефонс{72}. Теперь если хотим поместить туда священные предметы, то в богослужебном чине и в очертаниях некоторых растений найдем едва ли не точные указания. Например, необходим лен, из которого ткутся антиминс и напрестольные покровы. Нам предписаны маслина и бальзамический тополь, дающие бальзам и елей, ладанное дерево, дающее слезы ладана. Для чаш мы можем выбирать из цветов, служивших образцами золотых дел мастерам: белый вьюнок, хрупкий колокольчик и даже тюльпан, хотя из-за связи с магией у этого цветка дурная слава; очертания дарохранительницы передаст подсолнечник…
— Простите, — перебил аббат Плом, протирая очки, — но это же фантазии, выведенные из одних только вещественных подобий; это символика Нового времени, в сущности, и вовсе не символика. И не то же ли самое отчасти относится к некоторым толкованиям, которые вы берете у сестры Эммерих? Она же преставилась в 1824 году.
— Вот это неважно! — решительно возразил Дюрталь. — Сестра Эммерих — душа средневековая, ясновидящая; в наши дни жило только тело ее, а дух был далеко; она принадлежит не столько нашему времени, сколько старинному христианству. Можно даже сказать, что она во времени поднялась еще выше, жила еще раньше: фактически она современница Господа, жизнь Которого в своих книгах шаг за шагом и проследила.
Так что никак нельзя обойти ее мысли о символах; для меня ее свидетельства по авторитету равны свидетельствам святой Мехтильды, а та ведь родилась в первой половине века тринадцатого!
В самом деле, и та и другая черпали ведь из одного источника. А что такое пространство, время, прошлое, настоящее, когда говорим о Боге? Они были лужайкой, на которой пестрели цветы благодати; коли так, какое мне дело, вчера или сегодня изготовлены ими орудия толкования! Слово Христово превыше всех эонов; Дух Его веет где хочет; не правда ли?
— Соглашусь.
— Много сказано, но вы и не подумали в своем сооружении об ирисе, который моя любезная Жанна де Матель называет образом мира.
— Найдем, найдем и ему место, дражайшая госпожа Бавуаль; а есть и еще растение, которое не подобает забывать: клевер; ведь скульпторы в изобилии сеяли его на своих каменных лугах; клевер, как и миндаль, форму которого принимают нимбы святых, — символ Пресвятой Троицы.
Что ж, подведем итог.
В глубине строения, в раковине апсиды, перед полукругом высоких папоротников, тронутых осенней рыжиной, видим пламенеющую стену вьющихся роз, окаймляющих партер из красных и белых анемонов, внутри которого пробивается скромная зелень резеды. Для разнообразия добавим сюда вперемежку такие подобия смирения, как вьюнок, фиалка, иссоп, и у нас составится корзинка, смысл которой согласуется с совершенными добродетелями Царицы Небесной.
Дальше, — опять наставил он свою веточку на план собора, начерченный на земле, — вот алтарь, перевитый красными виноградными листьями, темно-синими и черными виноградными гроздьями, окруженный снопами золотых колосьев… Да, надо же на алтаре водрузить крест!
— Это нетрудно, — ответил аббат Жеврезен. — Тут выбор простирается от горчичного зерна, в котором все символисты видят один из образов Христа, до сикомор и теревинфов, так что вы, смотря по вашему желанию, можете поставить и еле видимый крестик, и грандиозное Распятие.
— Тут же вдоль проходов, — продолжал Дюрталь, — растет клевер и поднимаются из земли самые разные цветы; рядом капелла Божьей Матери Семи Скорбей, которую легко узнать по страстоцвету, растущему на ветвистом стебле с усиками, в глубине же ее изгородь из тростника и терния; их тягостное значение умеряется сострадательностью миртов.
Дальше ризница, где на легких стебельках весело качаются голубые цветочки льна, собрались купами колокольчики и повои, сияют большие подсолнухи и, коли угодно, высится пальма: ведь мне припомнилось, что сестра Эммерих толкует это дерево как образ целомудрия, потому что, говорит она, мужские цветки у нее отделены от женских, причем те и другие скромно прячутся. Вот и еще версия насчет пальмы!
— Но постойте, постойте, друг наш, — вскричала г-жа Бавуаль, — вы, верно, бредите! Все это никуда не годится; все растения ваши растут в разных климатах, а если бы и не так, они наверняка не могут цвести все разом, в одно время; следовательно, как только вы посадите один цветок, другой умрет. Растить их рядом друг с другом у вас никак не получится.
— Что ж, это символ соборов, которые так долго не удавалось завершить, чье строительство переходило из века в век, — ответил Дюрталь и сломал свою веточку. — Знаете ли, кроме фантазий, есть нечто, чего еще нет в церковной ботанике и богоугодных гербариях, но что стоило бы создать.
Это был бы литургический сад, настоящий бенедиктинский, с рядом цветов, подобранных по их связи с Писанием и агиологией. И разве не прелестно было бы сопровождать литургию молитвословий литургией растений, проносить их перед храмом, украшать алтарь букетами, у каждого из которых свое значение, в определенные дни и по известным праздникам, словом, сочетать все самое чудесное, что имеет флора, со священнодействием?
— О, конечно! — разом воскликнули оба священника.
— А пока вся эта красота не свершится, я буду просто мотыжить свой огородик ради доброго жаркого с овощами, чтобы вас угостить, — сказала г-жа Бавуаль. — Вот это стихия моя, а в ваших подражаниях церкви я что-то путаюсь…
— А я пойду поразмыслю о символике продуктов, — откликнулся Дюрталь, вынув из кармана часы. — Уже и обед скоро.
Он пошел к себе, но аббат Плом окликнул его и со смехом сказал:
— Вы в своем соборе забыли назначить нишу для святого Колумбана{73}; может быть, получится обозначить его аскетическим растением из Ирландии, где родился этот монах, или хотя бы из ближних к ней мест.
— Чертополох, символ поста и покаяния, напоминание об аскезе, цветок с шотландского герба, — ответил Дюрталь. — Но почему вы так хотите поставить алтарь именно святому Колумбану?
— А потому, что это самый забытый из святых, которому меньше всего молятся как раз те из наших современников, которые должны были бы всего более к нему взывать. По толкованиям былых времен это покровитель дураков.
— Ох! — воскликнул аббат Жеврезен. — Помилуйте, ведь если кто из людей выказывал превосходное разумение всех вещей божеских и человеческих, так именно этот великий аббат, основатель множества монастырей!
— Нет-нет, это вовсе не значит, что сам святой Колумбан имел слабый ум, а почему именно ему, а не кому другому, поручено опекать большую часть человечества, я не знаю.
— Может быть, потому, что он исцелял безумцев и бесноватых? — предположил аббат Жеврезен.
— Как бы то ни было, — произнес Дюрталь, — посвящать ему часовню — пустое дело, туда никто никогда не придет. Никто не помолится этому бедному святому: ведь главное свойство дурака — считать себя умным!
— Выходит, это такой святой, у которого нет работы? — спросила г-жа Бавуаль.
— И не скоро будет, — сказал Дюрталь и распрощался.
XI
Дюрталь попросил свою служанку г-жу Мезюра отнести кофе в рабочий кабинет. Он надеялся, что хоть так она не будет все время торчать перед ним: весь обед домоправительница простояла напротив, поминутно осведомляясь, хороша ли баранья котлетка.
И хотя мясо отдавало байковой фуфайкой, Дюрталь изобразил какой-то кивок: он прекрасно знал, что, стоит ему позволить себе хоть малейшее замечание, потом придется в тысячный раз выслушивать бессвязную ругань по адресу всех мясников города.
Так что едва раболепно-деспотичная домоправительница поставила чашку на стол, как Дюрталь уткнулся в книгу, да так сгорбился, что она поневоле ушла.
Листал он том, который знал чуть ли не наизусть, потому что часто читал его, сидя в соборе в часы, когда не было службы; своей наивной верой, простодушным стремлением к Богу эта книжка так великолепно вписывалась в храмовую обстановку, что казалась родимым голосом самой Церкви.
То было собрание молитв Гастона Феба, графа де Фуа, жившего в XIV веке. У Дюрталя было два издания: одно без перемен на подлинном языке, по старой орфографии, изданное аббатом Мадоном, другое поновленное, но очень умело, под редакцией г-на де Лабриера.
Наугад переворачивая страницы, Дюрталь задерживался на таких смиренно-скорбных молитвах: «Боже, во чреве матери моей зачавший меня, не дай мне погибнуть… Господи Царю, исповедую тебе скудость мою… совесть моя угрызает меня, кажет мне тайные сердца моего. Алчность утесняет меня, сладострастие сквернит меня, маловерие сокрушает меня, леность гнетет меня, лицемерие в обман меня вводит… Вот, Господи Царю, товарищи мои от юности моей; вот друзья, с которыми водился, и господа, которым служил…»
И дальше такое восклицание: «Грех ко греху всегда прилагал, и те грехи, что делом не мог совершить, совершал помышлением…»
Дюрталь закрыл книгу и горько задумался о том, что католики ее совсем не знают. Все они только и делают, что жуют выдохшееся сено, помещенное в начале или в конце молитв на каждый день, лакают молоко высокопарных речей, порожденных тяжелой фразеологией XVII века, прошений, в которых не увидишь ни единого искреннего тона, ни одного идущего от сердца призыва, ни одного богобоязненного вопля!
До чего далеки все эти рапсодии, отлитые в одной опоке, от покаянного и простого языка, от непринужденного, откровенного разговора души с Богом! Дюрталь листал сборник дальше, натыкаясь время от времени на такие места:
«Боже мой милостивый, смущает молитву мою срам нечистой совести моей… дай очам моим потоки слезные, рукам моим щедрость даяния… дай мне веру достодолжную, надежду и любовь непреходящую… Господи царю, никем Ты не гнушаешься, кроме безумца, рекшего, яко нет Тебя… Боже, Боже мой, дар спасения моего, приемлющий лепту мою, согрешил Тебе и потерпел Ты!»
Перевернув еще несколько страниц, он в конце тома дошел до текстов, обнаруженных г-ном де ла Бриером, среди прочих до мыслей о Евхаристии, извлеченных из одной рукописи XV века.
«Мясо сие не всякому приходится впрок; есть такие, что его не разжевывают, а второпях глотают. Надобно же укусить его как можно глубже зубами разумения, дабы сладость вкуса его выразилась и изошла из него. Вы слышали, что в природе все размельченное лучше насыщает; суть же глубокие и проницательные размышления о самом великом таинстве растирание его зубами».
Далее, изъясняя особый смысл каждого зуба, автор говорит о пятнадцатом: «Плоть Христова на алтаре не просто мясо, нас насыщающая и веселящая, но и к обожению нашему служащая».
«Господи, — шептал Дюрталь, закрывая книгу, — Боже мой, если бы сейчас кто позволил себе такие материальные сравнения, говоря о Теле Твоем пречестном, какой бы гвалт подняли бакалейщики из Тампля вкупе со священным полком богомолок, у которых и роскошные молитвенные скамеечки, и в доме Твоем абонированные места ближе к алтарю, словно в театре ближе к сцене!»
Дюрталь вновь и вновь передумывал размышления, которые накатывали на него всякий раз, когда он проглядывал какой-нибудь клерикальный листок или сочинение, снабженное, словно пропуском, санитарным сертификатом епископа.
Он не переставал изумляться немыслимому невежеству, инстинктивной ненависти к искусству, страху перед мыслями, ужасу перед новыми терминами, столь свойственным католикам.
Отчего это? Ведь нет же никаких причин верующим быть глупее и необразованней всех прочих; должно было бы быть как раз наоборот…
С чем связано это чувство униженности? И Дюрталь сам себе отвечал: с системой образования, с курсами умственной робости, с уроками страха, преподаваемыми в глухом погребе, вдали от повседневной жизни и света дневного; там будто нарочно изнеживают души, кормя их одним сухим овощным рагу, белым мясом словесности, словно сознательно уничтожают в учащихся всякую независимость, всякую умственную инициативу, выдавливают их, прокатывают всех через одни валки, стесняют круг их мыслей, заведомо оставляют в неведении насчет литературы и искусства.
И все это, чтобы избежать соблазнов запретного плода, образ которого вызывают якобы с тем, чтобы его боялись. Эта игра приводила к тому, что желанье узнать неизвестное, о котором всегда говорилось фразами тем более опасными, что они производили эффект полупрозрачных, но неясных вуалей, смущало умы и возбуждало чувства; воображенье лишь пуще грызло любопытство, смешанное со страхом, и было готово расстроиться от малейшего словечка.
Коли так, самое невинное произведение становилось пагубным уже потому, что в нем говорилось о любви и женщина в нем описывалась в привлекательном виде; а этим все и объясняется: присущее католикам невежество, потому что его расхваливали как профилактику от соблазнов; инстинктивная ненависть к искусству, поскольку все написанное или нарисованное уже по этой одной причине для насмерть перепуганных душ становилось транспортным средством греха, эксципиентом неправды!
А на самом деле не лучше ли, не умней ли было бы отворить окна, проветрить комнаты, обращаться с душами по-мужски, научить их не трепетать так перед плотью, внушить им дерзновение, твердость, потребные для сопротивления; ведь это как собака: если ей показать, что боишься ее, побежишь от нее, она будет на вас прыгать и хватать за штаны, а если пойти прямо навстречу с готовностью дать отпор, убежит сама.
Так или иначе, образ преподавания в духовных заведениях привел к тому, что, с одной стороны, большинство воспитанных так людей получается одержимо плотью и затем бросается в разнузданную жизнь, а с другой стороны, пышным цветом расцветают страх и глупость, территория разума очищается без боя, все силы католицизма капитулируют, без единого выстрела сдаваясь перед наступлением светской литературы, утверждающейся на позициях, которые ей даже завоевывать не пришлось.
Подумать только! Церковь, создавшая и много веков питавшая искусство, Церковь, из-за трусости сынов своих, оказалась списана в резерв; все крупнейшие течения, сменявшие друг друга в нашем столетии: романтизм, натурализм — создавались без нее или против нее!
Стоило произведению искусства не ограничиться пересказом простеньких анекдотов или приятных небылиц, где в конце порок наказан, а добродетель торжествует, как тут же начинала во все горло голосить благочестиво-стыдливая братия!
В тот день, когда роман, самая гибкая и просторная форма современного искусства, взялся за сцены реальной жизни, обнажил столкновения страстей, стал психологическим исследованием, школой анализа, армия святош отступила по всему фронту. Католическая партия, казалось бы, более всякой другой готовая бороться на поле, которое столь долго возделывало богословие, бежала в беспорядке, прикрывая ретираду лишь тем, что из древних колесных аркебуз палила по сочинениям, которые не она вдохновляла и обдумывала.
С опозданием на несколько эпох, много столетий уже не следя за эволюцией стиля, она повернулась к мужикам, еле обученным читать, не понимавшим половины слов, употребляемых писателями, превратилась, скажем так, в военный лагерь неграмотных; не умея отличить хорошее от дурного, она огульно осудила и порнографические помои, и произведения искусства; словом, в конце концов она стала позволять себе такие ляпсусы, изрекать такие чудовищные глупости, что потеряла остатки кредита и уже не принималась в расчет.
А ведь так нетрудно было поработать, постараться быть в курсе событий, понять, проверить, в каком произведении автор воспевает, возвеличивает, восхваляет, наконец, похоть, а в каких, напротив, показывает ее лишь для того, чтобы возненавидеть и обличить; следовало бы убедиться, что нагота бывает сладострастной, а бывает и целомудренной, что, следовательно, не все картины, изображающие нагое тело, постыдны. А в первую очередь следовало принять тезис, что пороки следует выставлять напоказ и описывать, чтобы вызвать к ним отвращение, возбудить перед ними ужас.
Ведь в конце-то концов именно таков был преимущественный взгляд Средних веков, метод скульптурного богословия и литературной догматики монахов того времени; вот почему существуют статуи и скульптурные группы, до сих пор возмущающие мелочную стыдливость наших ханжей. Таких неприличных сцен, картинок разврата полно в Сен-Бенуа-сюр-Луар, в соборах Реймса, Ле-Мана, в крипте Буржа, везде, где храмы стоят; а там, где их нет, они были раньше, ибо чистоплюйство, особенно расцветающее в нечистые времена, разбило их камнями, разрушило во имя морали, противоположной той, которой учили святые в Средние века!
Уже давно эти картинки стали потехой вольнодумцев и несчастьем католиков; одни видели в них сатиру на нравы епископов и монахов, другие огорчались, что подобные пошлости сквернят церковные стены. Между тем, дать объяснение этих сцен было легко; надо было не искать извинений терпимости Церкви, попустившей их, а восхититься широтой ее духа и откровенностью. Действуя таким образом, она свидетельствовала о решимости вооружить детей своих, представив им, как смешны и безобразны осаждающие их пороки; говоря школьным языком, это была демонстрация доказательства на доске, а вместе с тем — призыв исследовать совесть прежде, чем вступить в храм, предваряемый перечнем грехов, подобно памятной записке на исповеди.
Этот план входил в церковную систему воспитания, ибо она собиралась формировать души мужественные, а не те мелкие душонки, что лепят духовные ортопеды нашего времени; она обличала и бичевала порок там, где обнаруживала, без колебаний провозглашала равенство людей перед Богом, требовала, чтобы павшие епископы и монахи выставлялись на церковных порталах, как у позорного столба, и даже прежде всего именно они, для примера прочим.
В общем, все эти сцены были глоссами на седьмую заповедь, скульптурной парафразой катехизиса; то были претензии и назидания Церкви, выставленные напоказ, всем доступные.
И эти упреки, эти советы Мать-Церковь высказывала не на одном лишь языке; она повторяла их, взяв себе наречия и других искусств, а литература и проповедь неизбежно служили ей средствами осуждения масс.
И они были не трусливей, не стеснительней скульптуры! Стоит только открыть святые книги, начиная от Писания, от Библии, которую ныне смеют читать лишь в ослабленных французских переводах (ибо какой пастырь посмеет предложить обессиленному слуху своей паствы чтение 16 главы Иезекииля или Песнь Песней, эпиталаму Христа и души!), до отцов и учителей Церкви, чтобы убедиться, какими сильными выражениями она пользовалась, разоблачая плотские грехи.
Как бы осудили наши новые фарисеи непреклонность святого Григория Великого, который возглашал: «Говорите правду, соблазн лучше лжи», и прямоту святого Епифания, спорившего с гностиками, перечисляя все злодеяния этой секты, и спокойно говорившего слушателям: «Зачем мне бояться называть вам то, что вы не боитесь делать? Говоря так, хочу внушить ужас перед мерзостями, которые творите».
Что бы они сказали о святом Бернарде, который в 3-м размышлении опирается на жуткие физиологические подробности, чтобы показать тщету наших телесных вожделений и недостоинство наших радостей? О святом Венсане Ферье, свободно говорившем в своих проповедях об онановом пороке и о содомском грехе, применявшем самые материальные выражения, уподоблявшем исповедь лекарству, заявлявшем, что священник должен рассматривать мочу души и ставить ей клистир? Какое возмущение вызвало бы восхитительное место из Одона Клюнийского, приведенное Реми де Гурмоном в «Мистической латыни», то место, где этот грозный монах берет женские прелести, свежует их, обдирает и кидает перед слушателем, словно кроличью тушку на прилавок, или вот эти слова Кирилла Александрийского{74}, весь вопрос изложившего в одной фразе:
«Без стыда называю те части тела, где образуется и питается зародыш, да и что мне стыдиться называть их, если Бог не постыдился их создать?»
Никто из великих церковных писателей не был ханжой. Столь давно оглупляющая нас ложная стыдливость восходит именно к эпохам нечестивым, к тому времени язычества и возвращения поврежденного классицизма, которое назвали Возрождением; и как же она развилась с той поры! Самую плодородную почву она нашла в пышно-похотливые годы так называемого Великого века; вирус янсенизма, старый протестантский яд проник в кровь католиков да так и остался там.
«Ну и впрямь до чего же дошли с этим триппером благопристойности!» — и Дюрталь расхохотался, припомнив, что сделали в Шартрском соборе.
Слезай, приехали, думал он: дальше благочестивая глупость не заберется. Среди скульптур алтарной ограды этого храма есть изображение Обрезания Господня: святой Иосиф держит младенца, Богородица готовит пеленки, а первосвященник подходит, чтобы совершить операцию.
И нашелся же полоумный причетник, что нашел эту сцену неприличной и приклеил Младенцу Христу на животик бумажку!
Бога сочли непристойным, новорожденного младенца соблазнительным — дожили!
Черт возьми, спохватился он, я тут сижу и размышляю, а время идет, аббат ждет меня. Он опрометью кинулся вниз по лестнице и подбежал к собору. Аббат Плом прогуливался около северного портала, читая молитвы из служебника.
— Сторона храма, отведенная бесам и грешникам, это и сторона Божьей Матери, бесов сокрушающей, грешным же помогающей, — сказал он. — Северные порталы во всех базиликах обычно самые насыщенные действием, но здесь черти изображены с полуденной стороны, тем более что это часть сцены Страшного суда, представленного на южном входе, а то бы в Шартре, в отличие от его собратьев, и не было бы картин такого рода.
— Что же, в XIII веке было правилом помещать Пресвятую Деву на севере?
— Да, ведь для людей того времени полунощный край был образом зимней тоски, меланхолии мрака, бедствий холода; гимн ледяных ветров был для них голосом самого Зла; Север был страной дьявола, адом природы, а Юг — раем.
— Но это же бред! — вскричал Дюрталь. — Самое тяжкое заблуждение из совершенных символикой стихий! Средневековье ошибалось; ведь снега чисты, морозы непорочны! Наоборот, это солнце сильней всего действует, способствуя прорастанию гнилостных спор, закваски порока!
Или тогда забыли, что в 91-м псалме, 3-м псалме повечерия, говорится о бесе полуденном, самом назойливом и опасном из всех; или не приняли во внимание дикие пот и испарину, опасность размягчения нервов, рискованность приоткрытых одежд; или не знали ужаса полотняно-белых облаков и синего неба!
Сатанинские токи — в грозе, в той погоде, когда воздух, вырываясь будто из печных отдушин, гонит на случку и с ревом кружится хоровод падших ангелов.
— А припомните тексты Исайи и Иеремии, где жилищем Люцифера назначаются порывы аквилона. Еще подумайте, что великие соборы строились не на юге, а в центре и на севере Франции; следовательно, усвоив символику времен года и климатов, церковные архитекторы представляли себе людей, отрезанных снегами, мечтающих о лучике солнца и о ясном деньке; они поневоле думали, что Восток наследует древнему Эдему, считали эти страны мягче, милостивее своих родных.
— А между тем такой взгляд опроверг Сам Господь.
— Где же, по-вашему? — воскликнул аббат Плом.
— На Голгофе. Умирая, Христос повернулся спиной к распявшему его Югу и раскинул руки на кресте, чтобы благословить и обнять Север. Он словно отнял Свою благодать у Востока и передал Западу. Так что если есть проклятые места, где живет диавол, то это юг, а не север!
— Вы, кажется, терпеть не можете южные страны с их жителями, — улыбнулся аббат.
— Не люблю, это верно. Эти пейзажи, опошленные прямым светом и пыльными деревьями на фоне такого синего неба, что хоть белье стирай, меня совсем не привлекают; а шумных, волосатых южан, у которых после бритья под носом остается синяя полоса, избегаю…
— Ну что ж, однако факт есть факт, и сколько бы мы ни рассуждали, тут ничего не изменишь. Северный фасад посвящен Деве Марии. С вашего позволения, изучим его сперва в целом, а после в деталях.
Портал, выдвинутый перед входом, как крыльцо под кровлей, своего рода веранда — это аллегория Спасителя, указывающего вход в Иерусалим Небесный; он был начат в 1215 году, при Филиппе Августе, и окончен в 1275-м, при Филиппе Смелом, так что его строительство продолжалось около 60 лет, почти на всем протяжении XIII века. Он делится на три части соответственно трем вратам, которые предваряет; в нем около семисот больших и малых статуй, в большинстве своем изображающих персонажей Ветхого Завета.
Итак, в портале три больших проема, три глубоких горловины.
Сюжет центрального проема, перед которым мы сейчас стоим, — Увенчание Богоматери.
Левый боковой проем посвящен жизни и добродетелям Приснодевы.
В правом боковом проеме — собственно изображения Марии.
По другому толкованию, придуманному аббатом Давеном, тот портал, построенный в те времена, когда святой Доминик ввел молитву розария{75}, воспроизводит и иллюстрирует великие чудеса Богородицы.
По предложенной им системе, левый проход со сценами Благовещения, Посещения Елисаветы и Рождества Христова соответствует чудесам радостным, средний, где показаны Успение и Увенчание Богоматери, чудесам славным, правый проход, имеющий изображение Иова, провозвестителя смерти крестной в Ветхом Завете, таинствам скорбным.
— Есть и третье изъяснение, — заметил Дюрталь, — но совсем абсурдное: концепция Дидрона, который считает этот портал первой страницей книги Шартра. Он раскрывает ее и будто бы убеждается, что скульпторы именно отсюда начали перевод энциклопедии Винцента из Бове: рассказ о сотворении мира; но где же тут прячутся эти пресловутые изображения книги Бытия?
— А вон там, — ответил аббат, указав глазами на ряд маленьких скульптур, затерянных на самом краю портала в кружеве его орнамента.
— Такую важность приписывать крохотным фигуркам, по сути просто закрывающим пустые места и дыры, — это же идиотизм!
— Еще бы! А мы теперь рассмотрим портал поближе.
Прежде всего вы можете заметить, что вопреки чину, принятому в большинстве храмов того времени: в Амьене, Реймсе, Париже, хватит и трех примеров, — на столбе между створками врат стоит не Дева Мария, а святая Анна, мать Ее; то же и на витражах внутри собора, где святая Анна в виде мавританки с белым платом на голове прижимает к груди Марию, также черную ликом.
— Почему же так?
— Потому, конечно, что после взятия Константинополя наш собор получил в дар от императора Балдуина главу прародительницы Господа.
Десять колоссальных статуй в углублениях по обеим сторонам от входа вам хорошо известны: они окружают Богородицу во всех храмах XIII столетия: в Париже, Амьене, Реймсе, Бурже, Сансе. Пятеро стоящих слева имеют знаки, изображающие Сына Божия, а стоящие справа — образ Господа во плоти.
Это персонажи, пророчествовавшие о Мессии, Его пришествии, смерти, воскресении и вечном царстве или прообразовавшие Его; они стоят в хронологическом порядке.
Слева Мелхиседек, Авраам, Моисей, Самуил и Давид.
Справа Исайя, Иеремия, Симеон, Иоанн Креститель и апостол Петр.
— Но почему же, — удивился Дюрталь, — сын Ионин помещен среди ветхозаветных лиц? Его место не здесь, а в Евангелии.
— Верно, однако заметьте, что на портале Петр соседствует с Иоанном Крестителем: статуи стоят рядом, касаются друг друга. А раз так, вы, должно быть, постигнете смысл, на который указывает такое соседство. Один предтеча, другой наместник; Иоанн заложил, а Петр довершил дом Христов. Вполне естественно, что их соединили вместе, что первоверховный апостол представлен как заключающий предвещания остальных, населяющих портал.
И в завершение ряда патриархов и пророков, на входящих углах пилястров по сторонам врат вы можете видеть парные статуи Илии Фесвитянина и Елисея, ученика его.
Первый своим восхищением на небо в колеснице огненной провозвещает вознесение Спасителя нашего; второй воскрешением сына суннамитянки — Христа воскресшего и спасшего мир.
— Что ни говори, — прошептал Дюрталь задумчиво, — а пророческие писания поразительны. Все аргументы раввинов, протестантов и вольнодумцев, все потуги хитроумных немцев найти в них трещины и сотрясти древние устои Церкви оказались тщетными. Они столь очевидны, столь бесспорны, столь явно показывают истину, столь нерушимо монолитны, что дерзнуть отрицать их может лишь совершенно слепой духовно.
— Верно; и чтобы тут никто не заблуждался, чтобы не было возможности утверждать, будто богодухновенные тексты написаны позднее явления возвещенного в них Мессии, для доказательства, что они не придуманы и не отредактированы задним числом, Бог изволил, чтобы они были переведены на греческий язык семьюдесятью толковниками, распространились по всему миру и стали известны более чем за двести пятьдесят лет до Рождества Христова!
— Если предположить немыслимое, что все Евангелия исчезли, — не правда ли, их можно было бы восстановить, вкратце изложить содержащийся в них рассказ о земной жизни Господа по одним лишь мессианским откровениям пророков?
— Вне всякого сомнения; ведь повторим вновь и вновь: Ветхий Завет и есть история Сына Человеческого и установления Церкви прежде Его явления; как уверяет святой Августин, «все управление еврейского народа было непрестанным пророчеством об ожидаемом ими Царе».
Глядите: мало прямых прообразов Спасителя, что в Библии на каждом шагу (наугад назову лишь пятерых: Исаак, Иосиф, Моисей, Давид, Иона); мало и животных или предметов, чья роль в Ветхом Завете — олицетворять Его, как то: пасхальный агнец, манна небесная, медный змий и прочее. Если угодно, мы сейчас, обращаясь только к пророкам, составим общий очерк жизни Еммануила, сведя Евангелие к нескольким страницам. Вот послушайте.
Аббат сосредоточился, прикрыв глаза рукой:
— Его рождество от Девы предсказано Исайей, Иеремией, Иезекиилем; Его явление, предваренное особым посланцем, Иоанном, указано у Малахии, а Исайя Малахию дополняет, уже прямо указывая, что глас Предтечи раздастся в пустыне.
Место его рождения, Вифлеем, дает нам Михей; поклонение волхвов, принесших золото, ладан и смирну, указано Исайей и в так называемых Псалмах Соломоновых.
О юности и служении Его ясно свидетельствует Иезекииль, когда показывает Его ищущим пропавших овец. Исайя, заранее возвестивший совершенные Им чудеса, исцеление слепых, глухих и немых, объявил, кроме того, что Он станет иудеям камнем преткновения.
Но вполне математически четкими и несравненно ясными пророчества становятся тогда, когда доходят до Страстей и смерти Христа. Торжественный въезд в Иерусалим, предательство Иуды и заплаченная цена в тридцать сребреников указаны у Захарии; Исайя же во весь голос повествует об ужасе и позоре Голгофы. Послушайте его:
«Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши… Господь возложил на Него грехи всех нас… за преступления народа Моего претерпел… И не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми… Как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих»[52].
А Давид к этой страшной сцене добавляет новые краски: «Аз же есмь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людий…»[53]
Чем дальше, тем больше подробностей. Вот язвы гвоздинные на руках, они являются у Захарии; вот Давид перечисляет эпизоды Страстей шаг за шагом: пробитые руки и ноги, разделенные ризы, жребий, брошенный об одежде. Злобные крики иудеев, что звали Его спасти себя, если Он Сын Божий, отмечены в главе 2 книги Премудрости и в псалмах Давида; желчь и уксус, данные Ему на кресте, и крик из груди Иисуса, испускавшего дух, также описаны в Псалтыри.
И на том еще не окончено собрание откровений, сообщенных Ветхим Заветом.
Свою пророческую миссию он доводит до конца; предсказано и установление Церкви вместо синагоги (Иезекиилем, Исаией, Иоилем, Михеем); о литургии, евхаристической жертве, недвусмысленно пророчествует Малахия, объявивший, что жертва старого Закона, прежде приносимая в одном Иерусалимском храме, заменится жертвой бескровной, которую будут приносить все народы и по всем местам[54] — иереи, от всех народов избранные, добавляет Исаия, — по чину Мелхиседекову, довершает Давид.
Справедливо утверждал Паскаль: «Исполнение пророчеств — непрестанное чудо, и не нужно иного доказательства, чтобы принять истину христианской веры».
Дюрталь подошел поближе к статуям вокруг святой Анны и пригляделся к первой слева: человек в остроконечном колпаке, напоминавшем папскую тиару, с зубцами в нижней его части, в стихаре, подпоясанном веревкой с узлом, и дождевом плаще с бахромой. Лицо его было сурово, чуть ли не озабоченно; погруженный в думы взор уставлен вдаль. В одной руке человек держал кадило, в другой чашу, накрытую дискосом, а на дискосе хлеб. Этот портрет Мелхиседека, царя Салима{76}, наводил на долгие раздумья.
Ведь мало в Святом Писании столь таинственных лиц, как этот монарх, являющийся в книге Бытия, священник Бога Всевышнего, приносящий жертву хлебом и вином, благословивший Авраама, принявший от него десятину и тотчас же пропавший во тьме истории. Потом его имя неожиданно возникает в одном из псалмов Давида, где о Мессии говорится, что он иерей по чину Мелхиседекову, и вновь исчезает бесследно.
Но вдруг он вновь перед нами в Новом Завете, и сведения, которые приводит о нем апостол Павел в послании к Евреям, делают его еще загадочней. Он говорит, что Мелхиседек не имел ни отца, ни матери, ни родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает первосвященником навсегда. Апостол все делает, чтобы дать понять Мелхиседеково величие… и оттого слабый свет, пролитый им на эту тень, гаснет совсем.
— Признайтесь, никого нет подобного царю Салима. А что о нем думают комментаторы? — спросил Дюрталь.
— Да мало что. Впрочем, святой Иероним замечает, что Павел, употребляя слова «без отца, без матери, без начала и конца»[55], не имел в виду, что Мелхиседек просто сошел с небес или был прямо создан Творцом, как первый человек. Эта фраза означает только, что в рассказе об Аврааме о нем говорится так, что непонятно, откуда он, кто он, когда родился, в какое время скончался.
В общем-то, непонятная роль, которую на страницах священного канона играет этот прообраз Христов, подала повод к самым причудливым легендам и ересям.
Иные утверждали, будто он — Сим, сын Ноев, а другие, что это Хам. По Симону Логофету Мелхиседек был египтянином, а у Свиды он принадлежит к проклятому племени Ханаанскому{77}: потому-де Библия и не говорит о его предках.
Гностики почитали его как Эон, бывший прежде Иисуса{78}, а в III веке Феодор Меняла утверждал, что он не человек, но сила небесная, высшая, чем Христос, потому что священство Того есть лишь повторение Мелхиседекова священства.
Согласно другой секте, то был не более, не менее, как Дух Святой. А скажите, что говорят о нем прозорливцы, помимо Писания? Есть ли о нем что у сестры Эммерих?
— Ничего ясного она не сообщает, — ответил Дюрталь. — У нее это некий ангел священства, приготовляющий великое дело спасения.
— Приблизительно того же мнения были Ориген и Дидим: и они приписывали Мелхиседеку ангельскую природу.
— Кроме того, задолго до переселения Авраама она видела его в разных местах Палестины; он открыл источники иорданские, а в другом месте «Жизни Христа» сестра Эммерих делится знанием, что Мелхиседек научил евреев возделывать пшеницу и виноград. Словом, и она не может распутать эту нерешаемую загадку.
Теперь посмотрим с точки зрения искусства, — продолжал Дюрталь. — Мелхиседек — одна из лучших статуй этого портала, но что за странная маска у Авраама рядом с ним: лицо повернуто в три четверти, волосы как полегшая трава, борода как-то струится, длинный нос сливается с линией лба без всякого шва и висит между глаз, будто хобот тапира; на щеках словно флюс, и весь вид — как бы сказать? — как у какого-то фокусника, который где-то спрятал голову своего сына.
— Дело в том, что он внимает ангелу, которого мы не видим. Обратите внимание: внизу, на постаменте, овен в кустах; и символика сразу становится ясна.
Это Отец Небесный, приносящий Сына Своего в жертву, а Исаак, приносящий дрова на собственный костер, как Иисус нес Свой крест — образ Сына; сам баран, предназначенный для всесожжения, становится образом Спасителя, а куст, в котором он запутался рогами, уподобляется терновому венцу. Но если бы надо было, изображая этот сюжет, извлечь из него весь сок нравоучений, следовало бы где-нибудь на цоколе поместить и жен патриарха, Агарь и Сару, а также его другого сына, Измаила.
Ведь вы знаете, что две Авраамовы супруги — эмблемы: Агарь Ветхого Завета, а Сара Нового; первая отходит, уступая место второй, ибо Ветхий Завет лишь приготовление к Новому; два же потомка от двух браков по аналогии символизируют детей той и другой книги, так что Измаил представляет собой ветхий Израиль, а Исаак христиан.
Вслед за Авраамом, отцом верующих, перед нами Моисей, аллегория Христа, ибо избавление Израиля — предвестие того, как Спаситель избавил всех людей от диавола, а переход через Чермное море — обетование крещения. Пророк держит скрижали Закона и столп, вокруг которого обвился медный змий. Далее Самуил, предвосхищающий Господа Иисуса во многих отношениях, основатель царственного священства и священного царства; наконец, Давид держит копье и венец Голгофы. Вам не нужно особо напоминать, что царь-пророк предсказал страдания Христа, а еще, для вящего сходства с Ним, он имел своего Иуду, Авессалома, который, подобно другому предателю, повесился.
— Но признайте, — сказал Дюрталь, — эти статуи, перед которыми историографы собора так и млеют, хором объявляя их шедевром ваяния тринадцатого века, несравненно ниже статуй века двенадцатого, украшающих Царский портал. Как чувствуется, насколько измельчало здесь все божественное! Конечно, движения здесь раскованнее, одежды развеваются свободнее, складки тканей шире, в них есть изгиб; но где же изящество душевное, изваянное на статуях главного портала? Все эти скульптуры с огромными башками немы и неуклюжи, не пронизаны жизнью; это работы благочестивые, если угодно, они хороши, но без проникновения в потустороннее; это искусство, но уже не мистика. Взгляните-ка на святую Анну — унылый вид, неприятные, страдающие черты лица; как она далека от мнимой Радегунды или мнимой Берты!
Кроме двух, стоящих у самого прохода, Иоанна Крестителя и Иосифа Прекрасного, все остальные нам знакомы. Они есть и в Амьене, и в Реймсе, а припомните-ка Симеона, Богородицу, святую Анну из Реймса! Богоматерь с невинной, безупречной прелестью подает Младенца кроткому и задумчивому Симеону в облачении первосвященника; у святой Анны (ее фигура в том же роде, что святой Иосиф и один из ангелов того же Царского портала рядом со статуей святого Никазия с разбитой головой) — у святой Анны лицо веселое, хитроватое, хотя и немолодое; острый подбородок, большие глаза, заостренный нос — она похожа на дуэнью, лукавую и симпатичную. Да и вообще скульпторам удавались неопределенные, необычные выражения лиц. Вы, я думаю, помните парижскую Богоматерь, которая младше этих, видимо, на столетие? Она почти некрасива, но так незаурядна веселая улыбка на ее грустных губах! Если глядеть с одной стороны, она ласково и почти насмешливо улыбается Младенцу. Как будто Она ждет, когда Он пролепечет что-то забавное: это молодая мать, еще не привыкшая к ласкам сына. Взгляните с другой стороны, и улыбка, готовая явиться, исчезает. Рот кривится, словно вот-вот Она заплачет. Быть может, скульптор, которому удалось передать на лице Богоматери противоположные чувства безмятежности и страха, желал выразить для нас и радость о Рождестве, и прозрение скорбей Голгофы. Итак, в едином образе запечатлены и Матерь Скорбящая, и Матерь Веселия, предвосхищены, не зная о том, Богоматерь Ла-Салетт и Богоматерь Лурдская.
Но все это не стоит живого и гордого, столь личностного и вместе с тем столь мистического искусства XII столетия — искусства Царского портала собора в Шартре!
— Кто-кто, а я не стану с вами спорить, — сказал аббат Плом. — Что ж, мы познакомились с преобразовательными фигурами по левую руку от святой Анны; перейдем теперь к пророкам по ее правую руку.
Первый здесь Исаия, стоящий на пьедестале в виде спящего Иессея, и побег древа Иессеева, коренящийся здесь, проходит между стопами пророка, а ветви предков Девы по плоти и по духу, подымаясь и расширяясь, заполняют все четыре кордона центрального архивольта[56]. Рядом с ним Иеремия, помышляющий о Страстях Господних, сложивший горестную жалобу, читаемую в пятом чтении второго ночного канона Страстной субботы: «Проходящие путем! взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь?..»[57]; далее Симеон с Младенцем Иисусом на руках: старец предвидел и Его приход, и страдания Богородицы на Лобном Месте; Иоанн Креститель и, наконец, апостол Петр, на одежду которого стоит обратить внимание: он скопирована с папского одеяния XIII века.
С каким тщанием выделаны эти аксессуары! Оцените, как переданы сандалии, перчатки, шитый саккос, стихарь, епитрахиль, мантия, омофор с шестью крестами, тиара, ее конусовидный шелковый верх с золотым шитьем, нагрудник; все отчеканено и гильошировано, будто ювелиром.
— Да, конечно, но насколько же превосходит всех своих сородичей с этого портала Иоанн Креститель! Какое мастерство в его впалых щеках, изможденном лице, настолько же выразительном, насколько невнятны все прочие! Это уже не условность, не повторение пройденного. Он стоит дикий и кроткий; борода, как зубцы погнутой вилки, сам тощ, одет в верблюжью шкуру; мы слышим его речь; он прижимает к груди агнца с копьевидным крестом и нимбом вокруг головы, и тем говорит. Статуя превосходна; очевидно, что она принадлежит не тому же скульптору, что изваял Авраама или даже его соседа по пьедесталу — Самуила. Самуил словно передает ягненка, понурившего голову, равнодушному Давиду; это какой-то мясник, показывающий товар лицом, взвешивающий его, предлагающий пощупать, выжидающий продать подороже. Какая разница с Предтечей!
— Тимпан над вратами нас не особенно порадует, — продолжал свою речь аббат. — Об Успении, Вознесении и Увенчании Девы Марии приятней читать в «Золотой легенде», а не по этим барельефам: они просто краткий ее пересказ.
Перейдем к левому боковому проему.
Он сильно испорчен, находится в весьма плачевном состоянии, почти разрушен. Большая часть его главных скульптур утрачена. Кажется, здесь, как в Париже на Царском портале и в Реймсе на южном, были изображения Церкви и Синагоги, а также Лия и Рахиль, жизнь деятельная и молитвенная; эпизоды, с ними связанные, мы увидим на архивольте.
Из сохранившихся лиц три: Богородица, Елизавета и пророк Даниил — считаются шедеврами.
— И не по заслугам! — воскликнул Дюрталь. — Они угрюмы, драпировки холодны, одежды исполнены как греческие пеплумы; от них уже слегка попахивает Возрождением.
— Как вам будет угодно. Но что вправду захватывает, так это сюжеты, представленные на арках третьего яруса этого проема. Сам по себе тимпан с изображениями Рождества Христова, пробуждения пастухов в Вифлееме, сновидения и поклонения волхвов, попорчен и развалился от времени, да и не такой он мастерский, чтобы об этом много тосковать.
Но рассмотрите внимательно дуги архивольта: они образованы четырьмя рядами изображений. Раньше всего, на первой дуге, цепочка из десяти ангелов, несущих роги; далее: на второй притча о мудрых и безумных девах; на третьей сцены психомахии, то есть сражения пороков с добродетелями; на четвертой двенадцать цариц, символизирующих двенадцать плодов духовных. Теперь задержимся перед нервюрой, обрамляющий самый верхний свод портала; полюбуйтесь чудными маленькими скульптурками, изображающими занятия жизни деятельной и жизни молитвенной.
Слева жизнь деятельная, представленная в облике добродетельной жены из последней главы Притчей. Она моет шерсть в корыте, рвет и треплет лен, чешет его, прядет веретеном, сматывает в клубок.
Справа жизнь молитвенная: женщина молится с закрытой книгой, раскрывает ее, читает, закрывает и размышляет, учит наизусть, входит в экстаз.
Наконец, вот тут, в последнем ряду резьбы, протянувшемся снаружи вдоль аркады портала, самой близкой к нам, лучше всего видимой, четырнадцать статуй цариц, опершихся на щиты; раньше у них были и знамена. О смысле этих фигурок долго спорили, особенно о второй слева, отмеченной надписью, выбитой в камне: Libertas. Дидрон видел в них добродетели домашние и добродетели гражданские или общественные, но окончательно решила этот вопрос самая ученая и остроумная из современных исследователей символики, г-жа Фелиси д’Эйзак; в очень полезной брошюре об этих статуях и животных тетраморфа, вышедшей в 1843 году, она неопровержимо доказала, что эти государыни не что иное, как четырнадцать небесных блаженств по описанию святого Ансельма: Красота, Свобода, Честь, Радость, Наслаждение, Поспешение, Сила, Согласие, Дружество, Долголетие, Могущество, Здоровье, Надежность, Благоразумие.
В общем, не правда ли: этот усеянный скульптурами проем — одна из самых изобретательных, самых интересных с точки зрения богословия и мистики композиций?
— Да и с точки зрения искусства тоже; вы совершенно правы: эти работающие и молитвенно размышляющие женщины так изящны, так живы, что прямо жаль, отчего они запрятаны в полумрак грота. Каковы были художники, сделавшие такую работу во славу Божью и свою собственную, творившие эти чудеса, зная, что никто их не увидит!
— И в них не было тщеславия, влекущего оставить подпись: они хранили анонимность!
— О, это были не такие люди, как мы… совсем другие души, по-иному гордые и по-иному смиренные.
— И по-иному святые, — прибавил аббат. — Не угодно ли перейти к иконографии правого проема? Она не столь повреждена, и ее можно описать в нескольких фразах.
Эта пещера с рельефными лентами посвящена, как вы знаете, прообразам Девы Марии, но, пожалуй, точнее было бы сказать, что в ней представлены предварившие Христа: ведь в этом проеме, как, впрочем, и в двух других, ваятели XIII столетия нарочито отождествляют Господа с Матерью Его.
— Во всяком случае, большинство персонажей, проходящих перед нами, соотносимы с Мессией. Каковы же ветхозаветные прообразы, прямо относящиеся к дщери Иоакима, как они изложены в камне на этой странице?
— Аллегорий Богородицы в Писании бессчетное множество. Целые книги, такие, как Песнь Песней и Премудрость Соломона, каждой фразой намекают на Ее благость и мудрость. Неодушевленные символы, относящиеся к Ее личности, вам известны: Ноев ковчег, в котором укрылся Спаситель; радуга, знак союза Всевышнего и земли; Неопалимая Купина — огненный куст, из которого прозвучало имя Божие; сияющий облак, ведший народ в пустыне; жезл Ааронов, который один из двенадцати жезлов колен Израилевых, предводимых Моисеем, расцвел; ковчег завета; руно Гедеона; затем целых ряд других, если возможно, еще более общеизвестных: башня Давидова, престол Соломона, вертоград заключенный и источник запечатленный из Песни Песней; ступени Ахаза, спасительное облако Илии, врата Иезекииля; я говорю вам только о толкованиях, удостоверенных подписанием отцов и учителей.
Что же до существ одушевленных, предварявших Пречистую Деву в еврейских книгах, то их также очень много; вообще заметьте, что большинство прославленных женщин Библии — не что иное, как ранняя тень Ее благодати: Сарра, которой ангел предсказал рождение сына (и сам этот сын соотносится с Сыном Человеческим); Мариам, сестра Моисея, освободившая евреев, спася своего брата из воды; дочь Иеффая; пророчица Дебора; Иаиль, прозванная, как и Богородица, «благословенной в женах»; Анна, мать Самуила, песнь славы которой кажется первой редакцией Песни Богородицы; Иосавефа, спасшая Иоаса от гнева Гофолии, как потом Дева Мария избавила Господа от ярости Ирода; Руфь, воплощающая как молитвенную, так и деятельную жизнь; Ревекка, Рахиль, Вирсавия — мать Соломона, мать Маккавеев, видевшая казнь своих сыновей, а кроме того еще те из прообразов Богоматери, что выбиты на этих сводах: Юдифь и Эсфирь; одна из них воплощает смысл непорочности и отваги, другая милости и правосудия.
Но, чтобы не сбиться, последуем порядку статуй в нишах стен близ двери; увидим с каждой стороны по три. Слева: Валаам, царица Савская и Соломон; справа: Иисус Сирах, Юдифь или Эсфирь и Иосиф Прекрасный.
— Валаам — это тот симпатичный крестьянин с посохом в руке и в круглой шляпе, добродушный, сладенький, что смеется себе в бороду, а царица Савская — чуть наклонившаяся вперед женщина, как будто допрашивает преступника и препирается с ним. А какое отношение эти два лица имеют к жизни Пресвятой Девы?
— Но ведь Валаам — один из провозвестников пришествия Мессии, именно он указал, что «восходит звезда от Иакова и восстанет жезл от Израиля». А что до Царицы Савской, то она, по учению Отцов, есть образ Церкви, супруги Соломона, как Церковь супруга Христова.
— Что ж, — негромко сказал Дюрталь, — и тут не XIII столетию давать нам портрет этой владычицы, которую тогда представляли безумно разодетой, качающейся на спине верблюда по пустыне, идущей во главе каравана под пламенным небом, в пожаре песков. Она, царица Балкида, Македа или Кандавла, соблазнила многих писателей, и не маленьких, назвать хоть Флобера, но в «Искушении святого Антония» ей пришлось остаться нелепой бесцветной картинкой для детей, подпрыгивающей сюсюкающей марионеткой. Собственно говоря, один Гюстав Моро, художник, писавший Саломею{79}, мог бы изобразить эту девственно-похотливую, учено-кокетливую женщину; он один мог бы под расцвеченным каркасом платьев, под сияющим ошейником драгоценностей сделать живой пряную плоть ее, необычайное лицо под диадемой, улыбку наивного сфинкса, прибывшего издалека, чтобы задать царю загадки и зачать на его ложе. Это слишком сложно для простодушного искусства и для души Средних веков.
Ну и произведение нашего скульптора ничуть не загадочно, в нем ничто не смущает. Эта царица, только что недурная собой, стоит в почтительной позе просительницы. Соломон же напоминает мне веселого дядечку; две другие статуи, по другую сторону от входа, может быть, и остановили бы на себе внимание, если бы их совершенно не подавляла третья. Вот еще вопрос: по какому праву к этому сонму причтен автор чудесной книги поучений?
— Иисус, сын Сирахов, предвозвещает Спасителя как пророк и учитель. Фигура же рядом с ним может быть как Юдифью, так и Эсфирью: ее идентификация сомнительна, для нее нет никаких положительных оснований.
Во всяком случае, как я только что пояснял вам, обе они — предвестницы Пресвятой Девы в Ветхом Завете. Ну а Иосиф, гонимый, проданный, плененный, а затем промыслительно ставший спасителем своего народа, предваряет Самого Христа.
Дюрталь помедлил перед этим безбородым юношей с курчавыми, стриженными в кружок волосами. Он был одет в курточку с шитой пелериной на плечах и без всякого движения держал в руках скипетр. Его можно было бы принять за смиренного и простого молодого монаха, столь продвинувшегося на духовном пути, что и сам этого не знает. Статуя, несомненно, была портретной; можно быть уверенным, что моделью художнику служил какой-то скромный, чистый душой послушник; это было творение веселой целомудренной души, не похожее на остальные.
— Восхитительно, еще лучше Иоанна, не правда ли? — обратился Дюрталь к аббату.
Тот кивнул и продолжал объяснение:
— Ряды рельефов на архивольте нам недоступны: шею сломаешь, чтобы их разглядеть, да и искусство там не высшей пробы. Интересны только сюжеты. Не считая ангелов, зажигающих звезды и светильники, там изображены пророческие деяния Гедеона, житие Самсона, плененного в ночи, но выломавшего ворота Газы и вышедшего из города, так же, как Христос разрушил врата смерти и вышел живым из гроба; история Товии, божественного образца милости и терпения; наконец, в этом уголке, аналогично Царскому порталу, мы найдем знаки зодиака и каменный календарь.
Тимпан портала, как вы видите, делится на две части.
На одной суд Соломона, прообразующего Солнце Правды, Христа.
На другой Иов, один из самых известных прототипов Спасителя, лежит на гноище, а Господь с двумя ангелами дает ему пальмовую ветвь.
Чтобы завершить обозрение символики этих порталов, всю иконографию фасада, нам остается лишь бросить взгляд на три арки над крыльцом. Здесь расположены главным образом благотворители собора и местные святые; вместе с ними включены еще некоторые пророки, которым не хватило места в проходах у врат. Это преддверие — своего рода послесловие, приложение к целому.
Мы сейчас в правой арке; здесь изображены святой Потенциан, апостол Шартра, и святая Модеста, дочь градоначальника Квирина, убившего ее за отказ отречься от Христа; вон там Фердинанд Кастильский; он дал собору витраж, опознаваемый по его гербу: золотой замок в червленом поле, а рядом лазоревый щит с французскими лилиями; это большое окно северного трансепта. Умное, волевое лицо рядом с ним — это судья Варак; а вот и святой Людовик, босоногий, с тяжелым мешком кающегося паломника на плечах; он основал собор и осыпал его милостями.
Под центральной аркой два пустых постамента, на которых некогда стояли Филипп-Август и Ричард Львиное Сердце, два самых знатных покровителя храма. Другие постаменты заняты и теперь: это граф Булонский и его жена, бойкая тетка с мужеподобным лицом и с шапочкой на голове; пророк, неизвестно точно какой, но, должно быть, Иезекииль, поскольку среди пророков портала его нет; Людовик VIII, отец святого Людовика; наконец, сестра короля Изабелла, основавшая аббатство в Лоншане по уставу святой Клары. Она одета по-монашески; рядом с ней, в тени, священник еврейского Закона, держащий кадило, подобно Мелхиседеку. Смотрите, какая гордая у него поза: это Захария, отец Иоанна Крестителя, песнь которого «Благословен Господь Бог Израилев» предвещает пришествие Спасителя.
Вот мы и закончили осмотр этого поразительного изборника из Ветхого Завета, а также исторического помянника благотворителей, щедростью своей давших возможность осуществить перевод Писания на язык камня.
Дюрталь закурил, и они стали прохаживаться вдоль решетки епископского дома.
— Если забыть об искусстве, — сказал Дюрталь, — то во всей веренице предков Господа Иисуса меня поистине поражает один: Давид; он самый непростой из всех: и величественный, и ничтожный; от него не совсем по себе.
— Отчего же?
— Вообразите только жизнь человека, который побывал пастухом, воином, главой изгнанников, всемогущим царем, бездомным беженцем, великим поэтом и необычайным, чрезвычайно прозорливым пророком; а разве характер этого государя не еще более загадочен, чем его биография?
Он был кроток и готов к прощению, не мстителен и не злобен, но бывал и жесток. Вспомните участь, которую он уготовал аммонитянам; месть его была ужасна; он велел распиливать их, обложив досками, терзать железными боронами, разрубать косами, поджаривать в печах. Он был верен слову и совершенно предан Господу; и совершил грех прелюбодеяния, велев при том убить обманутого мужа. Удивительные контрасты!
— Чтобы понять Давида, — ответил аббат Плом, — его нельзя отделять от своей среды и выбрасывать из времени, в которое он жил; иначе вы будете судить его по понятиям нашей эпохи, а это нелепо. В представлениях же азиатского царя для существа, которое подданные считали сверхчеловеком, адюльтер почти что и не был грехом, да и женщина считалась чем-то вроде скота и как деспоту, верховному владыке, уже почти что принадлежала ему. Как прекрасно показал г-н Дьёлафуа в своем исследовании об этом монархе, он пользовался правом царя. Далее, его обвиняют в кровавых казнях, но ими же полон весь Ветхий Завет! Сам Иегова проливал потоки крови, истреблял людей, словно мух. Не надо забывать, что тогда люди жили под законом страха. И нет ничего особенно удивительного, что для устрашения врагов, чьи нравы были не мягче его собственных, Давид перебил жителей Раввы и поджаривал аммонитян.
Но свои насилия и грехи он искупил, а вы посмотрите только, как благородно вел себя этот муж по отношению к Саулу, как удивительны великодушие и милосердие того, кого ренанисты представляют нам как вожака разбойников и бессовестного бандита! Подумайте также о том, что он научил мир, не знавший добродетелей, заповеданных впоследствии Христом, смирению, да еще самому трогательному, покаянию, да еще самому суровому. Когда пророк Нафан обличил его в человекоубийстве, Давид, заплакав, признал грехи свои и отважно принял жесточайшую епитимью; кровосмешение и убийство в семье, бунт и смерть сына, предательство, разорение, безоглядное бегство в леса. И каким голосом молит он о прощении в псалме «Помилуй мя, Боже»![58] С какой любовью и сокрушением просит милости у Господа, Которому согрешил!
У этого человека были пороки: небольшие, не часто проявлявшиеся, если сравнить его с другими царями его времени, добродетели же его изумительны, изобильны в сравнении с государями любых времен, любых эпох. И разве после этого не понятно, что Бог выбрал его из всех и возвестил о его потомстве? Иисус Христос пришел разрешить грешников от клятвы, взял на себя все зло мира; разве не естественно, что Его прообразом был человек грешный, как и все другие?
— В самом деле, это верно.
На пороге собора Дюрталь распрощался с аббатом, а вечером, лежа на кровати, перебирал в уме теорию библейских персонажей и скульптуры портала.
Вспоминаю этот северный фасад, шептал он про себя, и нет никакого сомнения: это краткая история издавна готовившегося Спасения, сводная таблица Священной истории, резюме Моисеева Закона и вместе с тем эскиз закона христианского.
Все предназначение еврейского народа раскрывается под троицей порталов: миссия, проходящая от Авраама до Моисея, от Моисея до пленения Вавилонского, от пленения до Христовой казни; она делится на три периода: образование Израиля — независимость народа — его жизнь среди язычников.
И как же мучительно долго совершалась эта переплавка массы людей! С какой убылью, каким количеством шлака! Сколько человек надо было перерезать, чтобы приучить к порядку хищных кочевников, подавить в этой расе жадность и ненасытное сластолюбие! — Одну за другой он видел безумные картины: как в Иудее вырвались на поверхность буйные, грозные наби[59], как они обличали преступления царей и злодейства удобопревратного народа, вечно соблазняемого сладострастными азиатскими культами, вечно ропщущего, готового сломать железную узду, которую наложил на него Моисей.
И в этой толпе громогласных борцов за справедливость возник Самуил, человек противоречий, идущий, куда Бог толкает его, исполняющий дела, которые должен был бы разрушить, основавший монархию, которую осуждал, помазавший в цари бесноватого, полоумного, что прошел тенью за стеклом истории, совершая безумные поступки и грозя врагам; и подобало Самуилу добить его тяжкими проклятьями и объявить царем Давида, которому другой пророк в лицо сказал о его преступлениях; и эти вдохновенные мужи сменяли друг друга, из года в год исполняя ту же роль стражей души общества, надзирающих над совестью судей и царей, бессменных часовых, выкликавших над толпой божественные повеления, возвещавшие катастрофы, часто кончавших мученической смертью, выстроившихся вдоль всего церковного месяцеслова, гибнувших, как Иоанн, обезглавленный Иродиадой.
И был Илия, проклявший культ Ваала, боровшийся с ужасной Иезавелью, — Илия, бывший первым основателем монашества, единственный, наряду с Енохом, человек в Ветхом Завете, который не умер. И был Елисей, ученик его, и великие пророки Исайя, Иезекииль, Иеремия, Даниил, и ряд меньших, извещавших о пришествии Сына, восстававших с обвинениями и со слезами, грозивших народу и утешавших его.
Вся история Израиля громыхала в вихрях укорений, в потоках крови и реках слез!
Наконец, невеселый этот парад доконал Дюрталя. Лежа с закрытыми глазами, он вдруг увидел, как один из патриархов остановился прямо перед ним, и он со страхом узнал Моисея — старца с раздвоенной бородой, развевающимися прядями волос, рабочего мастера, чьи могучие руки перемяли жестоковыйных евреев и кристаллизовали их нестройные орды; словом, он был отцом и законодателем этого народа.
И сцена Синая вставала лицом к лицу со сценой Голгофы: одна открывала, другая завершала великую хронику нации, рассеянную своим преступлением, нации, самая цель существования которой была втеснена в пространство, заключенное между двух гор.
Ужасная картина! Моисей, один, на дымящейся вершине, когда зарницы прорезают тучи и гора содрогается при звуках невидимых труб. Внизу убегает потрясенный народ. А Моисей, недвижимый среди раскатов грома и непрестанных ударов молний, внимает Сущему, Который диктует ему условия завета с Израилем; и, просветлев ликом, Моисей спускается с Синая — горы, по Иоанну Дамаскину символизирующей лоно Богородицы, дым же, от Синая исходящий, — ее стремление к Богу и огонь Святого Духа.
Но вдруг зрелище это померкло, и рядом с Патриархом показался тот, кого скульпторы пропустили в перечне, запечатленном на наружной странице портика, но стекольщики на витраже того же портала изобразили: великого кагана Аарона, первого священника истинного Бога, рукоположенного самим Моисеем.
И эта церемония, на которой Моисей в лице и потомстве своего старшего брата установил священство, также встала перед Дюрталем во всем страшном величии. Он припомнил прочитанные некогда подробности хиротонии, продолжавшейся семь дней. После омовения тела и помазания елеем началась жертва всесожжения. Мяса шипели на кострах, и черный дым вонючего жира смешивался с синими испарениями ладана; и Патриарх обмазал кровью ухо, большой палец и правую стопу Аарону и сынам его; потом, взяв жертвенное мясо, вложил его в руки новых служителей Божьих, а те стояли сначала на одной ноге, потом на другой, словно баюкая приношение над алтарем.
Затем все преклонили головы, и законодатель обильно оросил их елеем, смешанным с кровью. Они стали похожи разом на мясников с бойни и на фонарщиков, все покрытые пятнами красной жижи, на которых блестели золотые глазки.
Как в стекле волшебного фонаря при перемене картинки, эта дикая сцена, грубый символ утонченной и блестящей литургии, слова которой тогда выдыхали хриплым шепотом, пропала, уступив место созерцанию левитов и священников, процессией проходивших по храму под водительством Аарона. Первосвященник в тюрбане с золотыми обручами, в фиолетовой тоге, на подоле которой видны пунцовые и синие гранаты, звенят золотые колокольцы, великолепен; на нем льняной эфод, опоясанный гиацинтово-малиново-пурпурным поясом{80}, вверху держащийся на наплечниках с сардониксовыми застежками, грудь горит огнем, переливается на ходу искорками двенадцати камней нагрудника.
И снова все меркнет. Воздвигается непостижимый уму дворец, где под головокружительными сводами вокруг теплых бассейнов растут деревья с тропическими цветами; скачут обезьяны, висят гирляндами на деревьях, а струнные инструменты наигрывают вкрадчивые мелодии, а бубны гремят так громко, что дрожат голубые распущенные хвосты павлинов.
В этом удивительном питомнике, где выросли грозди женщин и цветов, в огромнейшем этом гареме, где прозябают семьсот жен и триста наложниц, Соломон{81} смотрит на вихри плясок, разглядывает живые изгороди женских тел на фоне сусального золота стен, прикрытые лишь прозрачной вуалью дыма благовоний, курящихся на треножниках.
Этот царь является нам как типичный восточный монарх, как некий халиф, султан, раджа из волшебных сказок — царь дивный, безудержный многоженец, страстно жаждущий роскоши, и вместе с тем ученый и художник, миротворец и мудрейший из людей. Опережая понятия своего времени, он был величайшим строителем своей расы, и торговлю Израиля создал именно он. Он остался со славой мудреца и праведного судьи, но в конце жизни прослыл за колдуна и чародея. Уже Иосиф Флавий{82} рассказывает, что он составил магическую книгу заклинаний, чтобы вызывать духов зла; в Средние века Соломону приписывали обладание волшебным кольцом, амулеты, сборники заговоров, тайны изгнания бесов; в преданиях его фигура становится смутной.
Он бы так и остался персонажем из «Тысячи и одной ночи», если бы на закате его славы с ним вместе не восстал грандиозный образ тоски существования, тщетности радости, ничтожности человека.
Его старость была мрачна. Истощенный и обладаемый женами, он отрекся от своего Бога и поклонился кумирам. В нем стали видны огромные душевные пробелы, обширные пустыри. От всего освободившись, устав от веселья, упившись грехами, он написал потрясающие страницы, предвосхитил самый черный пессимизм нашего времени, выразил в формулах, не подлежащих обжалованию, страдания существа, избывающего неизбежную казнь бытия. Что за скорбь в книге Экклезиаста! «Все дни человека — скорби и труд его — беспокойство…» «день смерти лучше, чем день рождения…» «все суета и томление духа…»
После кончины старый царь остался такою же загадкою. Искупил ли он свое отступление и свое падение? Был ли вместе с отцами своими принят в лоно Авраамово? Величайшие писатели Церкви не знают ответов.
Согласно святым Иренею, Гиларию, Кириллу Иерусалимскому, Амвросию и Иерониму, он покаялся и спасся.
Согласно Тертуллиану, святым Киприану, Августину и Григорию Великому, он не обратился к правде и погиб.
Дюрталь повернулся на другой бок; больше ему уже ничего не хотелось знать. Все в голове смешалось, и он заснул смутным сном, перемежаемым кошмарами; он видел г-жу Мезюра на постаменте вместо царицы Савской; ее уродство бесило Дюрталя, но тщетно он умолял соборных каноников убрать с пьедестала кухарку и вернуть царицу…
XII
Та самая символика храмов, та психология соборов, то изучение души церквей, о которой совершенно забывали археологи и архитекторы — профессора монументальной физиологии, была Дюрталю настолько интересна, что с ней ему на несколько часов удавалось забывать о своих духовных неурядицах и внутренних распрях, но едва он переставал домогаться реального смысла видимых предметов, все возобновлялось. Тот способ устроиться, который ему так резко предложил аббат Жеврезен, чтобы забыть о своей неуверенности, чтобы так или иначе определиться, не давал ему покоя, потому что наводил страх.
Монастырская келья! Снова и снова надо было подумать, чтобы решиться посадить себя под ее замок! Все «за» и «против» в нем попеременно прогоняли друг друга.
Я теперь таков же, как перед поездкой к траппистам, говорил себе Дюрталь, но решение мне предстоит принять более тяжкое: Нотр-Дам де л’Атр было лишь временным приютом; отправляясь туда, я знал, что навсегда не останусь; пришлось пережить неприятные минуты, но только минуты, а сейчас речь идет о приговоре бесповоротном, и если я заключу себя в это место, то уже до смерти: это будет пожизненное заточение без пересмотра дела, без права на помилование; а аббат говорит об этом как о чем-то очень простом!
Что же делать? Отказаться от всякой свободы, превратиться в простую машину, вещь в руках совершенно незнакомого человека? Боже мой, да сколько угодно! Но для меня есть и более неприятные вопросы: прежде всего литература. Ничего не писать, отказаться от того, что было занятием и целью моей жизни — тяжело, но на эту жертву я бы согласился; но писать… писать и знать, что твой язык будет ощипан, промыт в дистиллированной воде, обесцвечен кем-то другим, быть может, святым и ученым, но не имеющим, в отличие от святого Иоанна Креста{83}, никакого чувства прекрасного, вот это уже очень тяжко! Я понимаю, что там перебирают, как крупу, ваши идеи с богословской точки зрения; иначе и быть не может; но стиль! А в монастыре, насколько я знаю, ничто не отдается в печать без прочтения аббатом, а тот имеет право все пересмотреть, все переделать, все, что ему угодно, выкинуть. Ясно, что лучше было бы перестать писать, но и тут у меня не будет выбора: из послушания надо будет покориться ордену, излагать тот предмет и таким образом, как потребует аббат.
Вот это барьер так барьер, если только мне не попадется какой-нибудь необычайный наставник! Ну и, кроме этого вопроса, который меня беспокоит больше всего, есть и другие, над которыми стоит подумать. Судя по тому немногому, что мне рассказали два здешних священника, благодетельного цистерцианского безмолвия у черных монахов нет{84}. Но как ни совершенны эти чернецы, они все же люди; иными словами, там сталкиваются в непрерывной борьбе группировок симпатии и антипатии, причем ограничение узким кругом предметов, незнание того, что делается во внешнем мире, неизбежно превращает болтовню в склоку;
в конце концов, в этой среде начинают интересоваться лишь пустяками, чушью, которая превращается в важные события.
Там старой девой станешь, и как же должны вскоре наскучить эти разговоры, в которых все заранее известно!
Наконец, есть еще и проблема здоровья. В монастыре всем правят рагу да салаты; желудок в самый короткий срок расстраивается, не высыпаешься, сокрушительной телесной усталостью пренебрегаешь… Веселого мало, да и прельститься нечем! Как знать, вдруг после нескольких месяцев такого физического и умственного режима впадешь в безвыходное уныние, вдруг скудость монастырского карцера вскоре доконает, доведет до полной неспособности думать и работать?
И Дюрталь приходил к выводу: о монастырской жизни и мечтать сумасшествие; лучше уж остаться в Шартре; но едва он решал, что никуда не поедет, как медаль обращалась к нему другой стороной.
Монастырская келья! Да ведь нет же другого логического, другого чистого образа жизни! И нечего за сердце хвататься, это все пустяки. Прежде всего, что здоровье? Разве он не помнил, что было у траппистов, где и питание гораздо постнее, и режим гораздо строже![60] Так и тут к чему заранее беспокоиться?
Взглянем с другой стороны, разве он не понимал необходимости бесед, мудрости расчета, благодаря которому одиночество кельи нарушается как раз в тот момент, когда одолевает скука? Это и есть профилактическое средство от душевных пустопорожних терзаний, а общие прогулки обеспечивают гигиену души и тонизируют тело; ну а если и допустить, что монастырские разговоры пусты, разве трепотня в миру дает больше? Наконец, разве посещения монахов не намного предпочтительней встреч с людьми всякого состояния, всякой породы, всякого разбора, которые приходится терпеть во внешней жизни?
А кроме того, чего стоят эти мелочи, бирюльки среди великолепного целого монастыря? Что весят ничтожные пустяки в сравнении с миром и весельем души, воспаряющей в радости богослужений, в исполнении молитвенного долга? Или волна литургии не все смывает, не уносит, как соломинки, малые пороки людей? Разве не так, с переменой ролей, в притче о сучке и бревне[61] замечаются малейшие недостатки других, когда ты сам намного ниже их?
И вот заключение моих рассуждений: что ни говори, смирения мне недостает, думал Дюрталь. Мысль его прервалась. Сколько сил, раздумывал он дальше, нужно, чтобы соскрести коросту грехов! Быть может, в монастыре я и отчищусь от этой ржавчины. Он мечтал о жизни очищенной, о душе, омытой молитвой, отдыхающей вместе с Христом, который, быть может, тогда, не слишком запачкавшись, войдет в ее глубину и там останется жить. «Только о такой судьбе и можно мечтать! — безмолвно кричал он. — Решайся!»
Но тут приходила новая мысль и окатывала ушатом холодной воды. Это ведь опять начнется жизнь в коллективе, лицей; в монастыре придется наново привыкать к казарме!
Он падал навзничь, потом пробуждалось желание противодействия, и он терял терпение. В конце концов, бурчал он, в монастырь заточаются не для того, чтоб там было уютно, это тебе не курорт духовный; туда, надобно думать, отправляются во искупление прегрешений своих, чтобы приготовиться к смерти; а коли так, что толку болтать о том, какого рода неудобства придется там вытерпеть? Надо решиться принять их и не ослабевать, вот и все!
Но действительно ли он желал скорбей и покаянья? Дюрталь трепетал и не решался ответить. Из глубины сознанья поднималось робкое «да», но тотчас же заглушалось воплями боязни и кошмаров. И что ж тогда ехать?
Он явно путался, а когда кавардак укладывался, думал об отсрочке, о компромиссе, о каких-то безобидных хлопотах, о заботах настолько терпимых, что это уже как бы и не заботы.
Я совсем дурак, думал он наконец; я же барахтаюсь в пустоте, хлопочу о словах и обычаях, которые мне неизвестны. Первым делом следовало бы отправиться в бенедиктинский монастырь, а то и в несколько, для сравнения, и представить себе, как же, собственно, там живут. Наконец, надо выяснить вопрос о живущих при монастыре; если верить аббату Плому, участь живущего зависит от доброй воли отца-настоятеля, который может стать удавкой, а может дать дышать, смотря по тому, насколько властный у него характер; но полно, так ли это? И в Средние века были живущие; значит, они подчиняются светским установлениям!
И вообще все это низко и не по-божески! Нечего копаться в текстах, разбирать, насколько снисходительны разные формулы; надобно согласиться на все безусловно, смело броситься в воду; надо всего себя отдать Богу, вот что! Иначе монастырь получится мещанским домом, а это вздор. Все мои опасения, колебания, компромиссы — постыдны!
Так-то оно так, но где же взять силу, чтобы вымести из себя всю душевную пыль? В конце концов, когда стремление, чередующееся со страхом, чересчур досаждало ему, он искал убежища у Божьей Матери Подземелья. После полудня капеллы закрывались, но он проходил туда через дверцу у входа в ризницу в самом соборе и спускался в кромешной темноте.
Добравшись до крипты, став рядом с алтарем, он вновь ощущал неверный умиротворяющий запах сводов, закопченных восковыми свечками; он шел посреди мягкого теплого запаха ладана и подземелья. Света было еще меньше, чем поутру, ибо горели только маленькие лампадки, словно сквозь тонкую апельсиновую кожуру освещая багрово-позолоченным светом сажу на стенах.
А если он поворачивался к алтарю спиной, перед ним бежала прямо вперед низкая аллея нефа, в конце которой, как в конце туннеля, виделся дневной свет, и это было жаль, потому что при нем становились видны и отвратительные картины в честь важных событий церковной жизни Шартра: посещение собора Марией Медичи и Генрихом IV, Людовик XIII с матерью{85}, г-н Олье подносит Богородице ключи от семинарии Сен-Сюльпис и шитое золотом платье; Людовик XIV на коленях перед Божьей Матерью Подземелья; остальные фрески, слава Богу, казались утраченными: они все-таки терялись в тени.
Но поистине чудесно было вот что: встретиться наедине с Пречистой Девой, глядевшей на тебя выступавшим из мрака темным лицом, на котором играли краткими вспышками пламени лампадные фитильки.
На коленях перед Нею Дюрталь решался говорить с Ней, и вот что он говорил:
— Я страшусь будущего, оно пасмурно; страшусь и себя самого, ибо распадаюсь в унынии и увязаю в суете. Ты всегда до сей поры вела меня за руку; не оставь меня, доверши дело Твое. Знаю, что безумно заботиться о завтрашнем дне, ибо Сын Твой сказал: «довлеет дневи злоба его»[62], но это же у кого какой темперамент; что одним легко, другим куда как трудно; у меня ум беспокойный, вечно в тревоге, вечно настороже; что б я ни делал, он всегда наугад улизнет да и заблудится. Приведи его, удержи его на привязи близ Себя, Матерь Всеблагая, и дай мне прибежище после всех трудов моих!
О хоть бы не рваться так, не делиться на части, иметь душу настолько умаленную, чтобы и скорби, и радости принимать лишь от службы Божией! Каждый день быть призванным только Иисусом Господом, только Тобой, только Вашей жизнью жить, протекающей в годовом круге богослужений! Радоваться на Рождество, смеяться на Пасху Цветную, плакать на Страстной неделе, ко всему прочему, быть равнодушным, ни на что для себя не рассчитывать, нимало своей персоной не интересоваться — вот блаженство! Как просто тогда было бы найти убежище в келье!
Но возможно ли это кому-либо, кроме святых? Насколько же для этого душа должна отрешиться от всех мирских понятий, от всех земных образов; какая покорность при этом требуется от воображения, которое станет совсем ручным, будет идти одной и только одной дорогой, а не блуждать где попало, как у меня!
А прочие люди и не нужны никому, ибо напрасно на земле все, что не имеет доли на небесах! Правда, но когда доходит до того, чтобы эту мысль применить на деле, артачится кобыла моей души, упирается, как я ее ни тяну, а вперед ни шагу!
Пресвятая Богородица, не к тому это, чтобы оправдывать немощи и грехи мои, но честно признаюсь Тебе: тошно, в унынье приводит, когда ничего не видишь, не понимаешь. Шартр, где я теперь прозябаю, — что это, дневка, остановка на пути из монастыря в монастырь, мост между Нотр-Дам де л’Атр и Солемом либо другим аббатством? Или же эта остановка — конечная и Ты желаешь, чтобы на ней я и слез? Но тогда в жизни моей нет больше смысла, и связи никакой нет; она построена на песке и движеньем песков разрушится. К чему, если так, эти желанья монашеской жизни, призывы к иной судьбе, к чему такая уверенность в том, что я застрял на полустанке, не доехав до места моего назначенья?
И если бы все было как когда-то, когда я чувствовал Тебя рядом с собой, когда я спрашивал Тебя, и Ты отвечала; если бы все было как в бернардинской обители, а ведь и там я тяжко страдал! Но нет, теперь я Тебя не слышу, а Ты меня не слушаешь.
Дюрталь прервался, потом продолжил:
— Не должно мне так говорить с Тобой; Ты держишь нас на руках лишь тогда, когда мы не можем сами ходить; Ты баюкаешь и ласкаешь бездну души, рожденную в покаянии, а когда она уже в силах стоять на своих ногах, ставишь ее на землю, и тогда пускай душа справляется своими силами.
Так нужно, так правильно, но в какое отчаянье приводит память о небесных заботах, об утраченной нежности первых времен!
Пресвятая Дева, Матерь Божья, смилуйся над рахитичными душами, которым так тяжело ковылять по земле, выйдя из-под края покрова Твоего; смилуйся над душами скорбящими, для которых всякое усилие больно, над душами, всем отягощенными и никаких льгот не имеющими! Смилуйся над душами неприкаянными, душами бродячими, неспособными собраться и остановиться, смилуйся над душами вялыми и изнуренными, смилуйся над всеми душами, подобными моей, помилуй мя!
И часто прежде, чем распрощаться с Девой Марией, ему хотелось посетить Ее в самом укромном месте, куда прихожане больше не ходят с самых Средних веков. Тогда он зажигал огарок свечи, выходил из крипты, по стенке кривого коридора доходил до ризницы подземелья, где в конце прохода в толстой стене была проделана дверь, забранная железной решеткой. По маленькой лестнице он спускался еще глубже, туда, где прежде была подземная часовня, в которой военным временем хранили ризу Богородицы. В центре этого колодца стоял алтарь во имя святого Любена. В крипте еще был слышен дальний гул колоколов, глухие шорохи в раскинувшемся над ней соборе; здесь тишина, как в могиле. К сожаленью, ужасные квадратные колонны, выбеленные известкой, на которых держалась группа Бридана в соборном алтаре, портили варварский облик этого тайника, затерянного в глубине земли и в ночи веков.
И все же оттуда он выходил с облегченьем, упрекал себя в неблагодарности, не понимал, как это он мечтал уехать из Шартра и удалиться от Богоматери, с Которой здесь мог так свободно разговаривать наедине, если пожелает.
В другие дни, если погода была хорошая, он ходил прогуляться в другой монастырь, который ему показала г-жа Бавуаль. Однажды после обеда Дюрталь повстречал ее на площади, и старая служанка сказала:
— Я иду к Младенцу Иисусу Пражскому здесь у кармелиток; не пойдете ли со мной, друг наш?
Дюрталь не особенно любил такие благочестивые прогулочки, но предоставилась возможность побывать в кармелитской церкви, которую он не знал, и он пошел со старой служанкой. Она повела его по улице Жюбелин за пристанционным шоссе, как только минуешь вокзал. Надо было пройти по мосту, где грохотали тяжелые поезда, и повернуть направо на зигзагом вьющуюся тропку между железнодорожной насыпью и рядом халуп под соломенными крышами, заброшенных амбаров и домов не столь жалкого вида, но с самого утра закрытых на все засовы. Г-жа Бавуаль довела его до конца улочки, туда, где громоздится арка другого моста. По нему проходила дорога в депо с круглыми и квадратными, красными и желтыми семафорами, лесенками из чугунных балок; один паровозик то пыхтел на месте, то, свистя, чуть продвигался задом наперед.
Г-жа Бавуаль остановилась в тупике перед калиткой под аркой в огромной стене, упиравшейся в насыпь, сложенной из песчаника цвета жареного миндаля, вроде того, из которого сделаны парижские городские цистерны: там-то и имели пребывание инокини святой Терезы.
Как человек, к монастырям привычный, г-жа Бавуаль толкнула калитку; перед Дюрталем оказалась мощеная аллея с бордюром из речных камней, рассекавшая сад, усаженный фруктовыми деревьями и геранью. Из-за двух ив, подстриженных в виде шаров с крестом на вершине, этот садик провинциального священника попахивал кладбищем.
Аллея шла вверх, кое-где со ступеньками; поднявшись вместе со служанкой аббата, Дюрталь увидел оштукатуренное кирпичное здание; окна были забраны черными решетками, в серой двери глазок, а над ним надпись белыми буквами: «Мария, непорочно зачатая, моли Бога о прибегающих к Тебе».
Удивляясь, что никого не видно и ничего не слышно, он стоял и смотрел, но г-жа Бавуаль поманила его рукой, обошла дом, провела в своего рода преддверие, обвитое виноградом и отгороженное марлевой сеткой, а оттуда в маленькую церковку, где и преклонила колени на каменном полу.
Дюрталю было не по себе; он вбирал в себя меланхолию этого нагого храма.
Они стояли в здании конца XVIII века; посередине находился деревянный, натертый воском алтарь в виде гробницы, к которому вели восемь ступеней; при нем жертвенник, накрытый расшитым шелковым покровом с картиной Благовещения, вялой по колориту, в золотой рамке. Справа и слева от алтаря парные рельефные медальоны: с одной стороны святой Иосиф, с другой святая Тереза, а над картиной, под самым потолком, хорошо был виден резной герб кармельского ордена: щит с крестом и звездами под короной маркиза, на которой изображена рука, потрясающая мечом; щит держали пузатые ангелочки, которыми кишела скульптура того времени; в воздухе под ним висела лента с девизом ордена: Zelo, zelatus sum, pro Domino Deo exercitium[63].
Наконец, справа от алтаря в стене, выложенной в форме стрельчатой арки, виднелась черная железная решетка прохода в кельи, а на ступенях алтаря, по сю сторону от врат причастия, под золотым балдахином стояла препротивная статуя Младенца Христа в короне; в одной руке Он держал шар, другую поднял, как будто просил внимания: статуя жонглера-вундеркинда из раскрашенного гипса; в честь нее в безлюдной часовне стояли два горшка гортензий и горела лампадка из красного стекла.
До чего все-таки рококо безжизненно и холодно! — думал Дюрталь. Он встал на колени на стуле, и понемногу его впечатление стало меняться. Этот храм, сверхнасыщенный молитвами, растапливал собственный лед, становился теплым. Казалось, что молитвы просачивались через решетку и, как клубы дыма, расходились по помещению. На душе теплело, и уединение начинало казаться уютным, как дома.
Вот только и в этой тиши, в отдаленье от всех, ты с удивлением слышал свистки маневровых и стук колес.
Дюрталь вышел, когда г-жа Бавуаль откладывала последние зерна на четках. Над дверью, прямо напротив, виднелся вдалеке силуэт собора, но лишь с одной колокольней: старая башня пряталась за новой. В легком тумане еще более тонким казался на небосводе серо-зеленый шпиль на башне, строенной словно из пемзы, под покрывшейся патиной медной кровлей.
Удивителен! — думал Дюрталь, припоминая, как по-разному выглядит собор в разные времена дня и года. — Как же он умеет менять цвет кожи!
Когда он виден весь на ясном небе, серый камень его серебрится, а если его освещает солнце, светлеет и золотится; при близком взгляде его оболочка, известняк, проеденный дырами, похож на обглоданный сухарь; а бывает, на закате солнца он багровеет и возвышается, как чудовищно-изысканный саркофаг, розовый с зеленым, в сумерках же голубеет, затем постепенно лиловеет и будто испаряется.
А порталы его! — продолжал Дюрталь. Царский всех устойчивей по колеру; он так и остается по пояс светло-коричневым, выше пемзяно-серым; южный портал, больше всех поросший мхом, вдается в зелень; арки северного, между тем, где камень выщерблен, где из него торчат ракушки, неотличим от морской пещеры, только на сухом месте.
— О чем задумались, друг наш? — тронула его г-жа Бавуаль за плечо. — Вот смотрите, у этих кармелиток монастырь очень суровый; не сомневайтесь, там дары благодати в изобилии!
Дюрталь негромко произнес:
— Какой контраст между этим мертвым местом и вечной суетой железной дороги вдоль него!
На что г-жа Бавуаль воскликнула:
— Вы думали так: вот рядом друг с другом стоят символы жизни деятельной и жизни молитвенной?
— Да, но что должны думать монахини, непрестанно слыша сигналы, зовущие в мир? Тем, что в монастыре состарились, очевидно, не страшны эти призывы, приглашения в жизнь; покой их души только растет от знания, что они навек укрыты от бед, которыми день и ночь ежечасно грозит тяжелошумная гонка поездов; они тем больше чувствуют склонность молиться за тех, кого превратности бытия закинули в Париж или выкинули из этого города обратной волной в провинцию. Но как быть послушницам и новоначальным? В моменты сухости сердца, когда обстоят сомнения в верности монашеского призвания, разве не ужасно это вечно обновляемое напоминание о семье, о друзьях, обо всем, что оставила, дабы навек затвориться в келье?
Для тех, кто духовно еще не слишком здоров, разбит усталостью, ощупью допытывается, выдержит ли пост и бдения, разве это не постоянный соблазн отказаться живой замуровать себя в гробнице?
А еще я думаю о том, как похожи стены этого монастыря на цистерны. Сравнение точное: ведь обитель и есть резервуар, куда Бог погружает и вылавливает затем оттуда и дела любви, и слезы, чтобы восстановить равновесие в мире, столь отягощенном грехами!
Г-жа Бавуаль заулыбалась.
— Пару месяцев назад, — сказала она, — тут преставилась одна очень старая инокиня, которая поступила в обитель, когда железной дороги еще не придумали. Она никогда не выходила за ограду и никогда не видала ни вагона, ни паровоза. Как же она могла себе представлять поезда, если все время слышала их стук и рев?
— Не иначе как в виде бесовском: ведь эти повозки везут к беззакониям и веселым грехам городов, — с улыбкой ответил Дюрталь.
— Впрочем, заметьте вот что: эта сестра могла подняться на чердак, что выше насыпи, и оттуда один-единственный разок увидать поезд. Ее на то благословили, но она сама себе этого не разрешила именно потому, что ей до смерти этого хотелось; такую она на себя наложила епитимью.
— Женщина смогла наказать себя за лишние желания и одолеть свое любопытство? Ничего себе!
Дюрталь немного помолчал и переменил разговор:
— А вы всегда запросто разговариваете с небесами, госпожа Бавуаль?
— Нет, — печально ответила она. — У меня больше не бывает ни разговоров, ни видений. Я ослепла и оглохла. А Бог замолчал.
Она покачала головой, тоже помолчала и продолжала, обращаясь к самой себе:
— Немного нужно, чтоб ты Господу перестал нравиться. Стоит Ему лишь заподозрить гордость в душе, которую Он освещает, и Он отойдет. А мне батюшка сказал: раз я рассказываю об особых милостях Господа Иисуса ко мне, значит, уже нет смирения; впрочем, да будет воля Его! А вы, друг наш, еще не раздумали поступить в бенедиктинское аббатство?
— Ох, у меня и ум уже отбой трубит, и душа всмятку!
— Так вы, должно быть, не прямым путем идете; вы с Ним словно торгуетесь, так дело не делается!
— А что бы вы делали на моем месте?
— Я бы своего не искала, сказала бы Ему: вот я, да будет мне по слову Твоему; иду за Тобой без всяких условий; одного прошу: помоги мне любить Тебя!
— А вы думаете, я себя не упрекал за сердечное скряжничество?
Дальше они пошли молча. У собора г-жа Бавуаль предложила навестить Божью Матерь у Столпа.
Они уселись в темноте задней стороны клироса, чьи непрозрачные витражи еще и закрывались дрянными деревянными панелями, из которых была сделана ниша, а в ней на столбе, обвитом гроздьями металлических сердец, окруженном лампадками, свисавшими на цепочках с потолка, помещалась Божья Матерь — черная, как и подобная ей Божья Матерь Подземелья. Частокол свечек вспыхивал выстрелами огоньков; молились женщины, пав ниц и обхватив голову руками или обратившись к затененному, недосягаемому для лучиков света лику.
Дюрталю показалось, будто скорби, что поутру еще сдерживаются, ввечеру вольно разливаются; сюда приходят молиться уже не только ради Нее, но и ради себя; каждый приносит и разворачивает сверток своих бед. Печальны опустошенные души лежащих на каменном полу, печальны эти женщины, в прострации опершиеся на решетку, отгораживавшую столб, к которому все, уходя, прикладывались!
А черная статуя, изваянная в самом начале XVI века, не открывая лика, слушала все одни стоны, все одни жалобы, переходившие из поколения в поколение, слышала все те же вопли, повторявшиеся из эпохи в эпоху, — обличение жестокости жизни и при том жадное желание, чтобы она продлилась дольше!
Дюрталь посмотрел на г-жу Бавуаль: она молилась, закрыв глаза, откинувшись на пятки, сцепивши кисти опущенных рук. О как она была счастлива, что могла так забыться!
А он хотел принудить себя проговорить хотя бы короткую молитву, чтобы сказать ее всю, не рассеиваясь, и начал было Sub tuum: «Под твой покров прибегаем, Пресвятая Матерь Божия, не презри…» Собственно, вот на что надо получить благословение отца-настоятеля того монастыря, где он будет жить: привезти в аббатство свои книги и оставить в келье хоть несколько мелких вещей духовного обихода; да, но как же объяснить, что в монастыре необходимы светские книги, что с точки зрения искусства никак нельзя не окунаться вновь в прозу Гюго, Бодлера, Флобера… Ну вот, опять я заблудился помыслами, резко прервал себя Дюрталь. Он попытался избавиться от рассеяния, начал опять: «Не презри мольбы наши о нуждах наших, Тебе воссылаемые…» — и вновь безоглядно унесся в свои мечтания: положим, это предложение еще и не вызовет затруднений, но ведь надо еще и рукописи давать на просмотр, получать имприматур[64]; вот этот вопрос как разрешить?
Г-жа Бавуаль поднялась и тем прервала его грезы. Он пришел в себя, поспешно закончил молитву: «но ото всех бед наших избави нас, Дева преславная и благословенная, аминь»; и, расставшись со старой служанкой на пороге храма, он, сердясь на разнузданность своего воображения, отправился домой.
Там он нашел письмо директора «Ревю», который взял его этюд о фра Анджелико в Лувре и заказал новую статью.
Новый поворот его обрадовал; он подумал, что за работой, быть может, перестанет все время бредить о том, до чего тоскливо в Шартре и хочется ли ему в монастырь.
А что им дать? — думал он. — Им нужно прежде всего церковное искусство: я мог бы для них написать несколько обзоров о немецких примитивах. У меня есть подробные заметки, сделанные на месте, в немецких музеях, пересмотрю их. Он пролистал свои тетрадки; один из блокнотов с путевыми записями проглядел внимательнее: его задержали заметки про кельнскую художественную школу.
На каждой странице дневника все более сильными словами проявлялось его удивление, насколько ложны были принятые мысли, множество лет распространяемые предубеждения об этих живописцах.
Все, кто о них писал, наперебой приходили в восторг от чистого, истинно религиозного искусства этих примитивов, говорили о них как о серафических художниках, писавших сверхчеловеческие лики, утонченных, белых, одухотворенных Мадонн, подобных небесным видениям на золотом фоне.
Дюрталя, правда, настораживало единодушие в этих общих местах, но он ожидал увидеть белокурых, почти неосязаемых ангелов, фламандских эфирных Мадонн, отрешившихся от земной оболочки, нечто зыбкое, как у Мемлинга, но с еще более ясными глазами и совсем исчезающими телами… И он теперь еще вспоминал, как был обескуражен, войдя в залы кельнского музея.
По правде говоря, разочарования начались, едва он сошел с поезда; за одну ночь перенесясь из Парижа в немецкий город, он прошел по невзрачным улочкам, где из каждого подвала несло кислой капустой, и вышел к знаменитому собору на главную площадь, украшенную эмблемами рода Фарина; ему пришлось признаться себе, что весь его внешний вид — перелицовка и обман. Все было переделано, все новое; под его отдушинами не стояло ни единой статуи; эта базилика была симметрична, выстроена по шнурку; она оскорбляла глаз своими сухими контурами, жесткими линиями.
Внутри храм был лучше, несмотря на фейерверк-перестрелку пошлейших современных витражей; именно там в одной из капелл близ клироса небезвозмездно показывалась прославленная картина немецкой школы; «Соборная картина» Стефана Лохнера, триптих, изображающий Поклонение волхвов на центральной створке, святую Урсулу на левой и святого Гереона на правой.
И тут недоумение Дюрталя превзошло пределы возможного. Работа была выполнена вот как: фон золотой; Богородица в короне, рыжая, круглоголовая, в синей драпировке держит на коленях Младенца, благословляющего волхвов. Двое из них стоят на коленях по сторонам трона: один — старик с бородкой отставного офицера, с буклями на ушах, роскошно облачен в шитый золотом красный бархат; руки его молитвенно сложены; другой — длинноволосый и длиннобородый красавчик — одет в златотканый зеленый кафтан, отороченный мехом; в руке он держит золотой сосуд. За каждым из них стоят еще люди, поднявшие вверх штандарты и пики, в горделиво-рыцарственных позах; они позируют перед публикой и гораздо больше помышляют о посетителях, чем о Пресвятой Деве.
Так вот каковы эти кельнские мадонны-паутинки, возвышенные их Богоматери! Эта оказалась одутловатой, толстощекой, дебелой; у нее была шея нетели и плоть цвета свежей сметаны, дрожащая, если до нее дотронуться. Иисус тоже был дряблым и тучным, хотя Его выражение лица только и было интересно в картине: личико маленького человечка выдавало серьезность, притом оставаясь вполне детским. Вся сцена происходила на лужайке, покрытой цветами — подснежниками, фиалками, земляникой, — изображенными в манере миниатюристов маленькими мазочками.
В этой картине было все что угодно: гладкое, отшлифованное искусство, живое по колориту, но внутри холодное; это было произведение мастерское, блестящее, но нисколько не духовное; оно отдавало декадансом, вылизанностью, красивостью, виртуозностью, но не было примитивом.
Заурядная, коренастая Богородица эта была всего лишь доброй немкой, хорошо одетой, с приличным положением, но ни за что не могла быть восторженной матерью Бога! Далее, люди эти, что коленопреклоненные, что стоявшие, не молились; в картине вовсе не было сосредоточения; все они думали о чем-то другом и, скрестив руки, глядели на рисующего их художника. Что же до боковых створок, о них и вовсе лучше умолчать. Что это за святая Урсула, у которой лоб выпуклый, как медицинская банка, живот как у беременной, а рядом еще какие-то существа стоят, как и она сама, враскоряку, с пузырями белого жира вместо лиц, из которых торчат носы картошкой?
И это же отчетливое впечатление мистического нечувствия Дюрталь раз от разу получал в городском музее. Там он изучал предшественника Лохнера, мастера Вильгельма, как считается, первого из немецких примитивов, известного по имени; в нем Дюрталь нашел такие же зализанность и принужденность, что и в «Соборной картине». Богоматерь Вильгельма была не так вульгарна, как в соборе, но по замыслу пошла, зализанна, еще более откровенно прихорошена; то был триумф изысканного кокетства; она напоминала театральную субретку, особенно завитой челкой на лбу, а Младенец был вывернут в неестественной позе, поворачивая головку в нашу сторону, чтобы Его лучше разглядели.
Словом, такая Богородица была не божественной и не человеческой; в ней даже не было чрезмерной реалистичности Лохнера, но она так же не могла быть Матерью Господа, как и та.
Что же это за удивительные примитивы такие, которые начинают там, где живопись кончается, ласками да карамельками, что за люди, которые с первого дня начинают сластить кислое вино, у которых в работе не бьет ни сила, ни напор, ни наивность, ни простота, ни вера! Они идут наперекор всем школам; ведь повсюду: в Италии, Фландрии, Голландии, Испании, Бургундии — картины сперва бывают неловки и грубоваты, зато пылки и боголюбивы!
Рассмотрев другие полотна этого музея: массу анонимных холстиков, картины, известные под именем Мастера Страстей из Люверсберга и Мастера святого Варфоломея, Дюрталь пришел к выводу, что кельнская школа получила чувство мистики, лишь испытав влияние фламандцев. Нужны были Ван Эйк{86} и особенно дивный Рогир ван дер Вейден, чтобы вдохнуть в этих художников душу небесную. Тогда их манера изменилась; они стали подражать скромной строгости фламандских мастеров, усвоили их нежную набожность и сами стали славить в кротких гимнах славу Матери, оплакивать муки Сына.
Вот что можно в двух словах сказать о кельнской школе, произнес Дюрталь: невоздержность шелковистости и атласности, апофеоз ловкости и пышнотелости, но ничего общего с настоящим мистическим искусством здесь нет.
Если хочешь по-настоящему представить себе личный, целостный темперамент немецкой религиозной живописи, смотреть нужно не эту школу, хотя нам о ней одной твердят, ее одну хвалят. Искать надо среди мастерских поновее, франконских и швабских; вот там наоборот: искусство отрывисто, сурово, но в нем есть трепет; оно плачет, даже рычит, но молится! Нужно отправиться к гениальным дикарям, таким, как Грюневальд, у которого смятенный и свирепый Спаситель стискивает зубы чуть не до хруста, или Цейтблом{87}: его Нерукотворный Спас в Берлинском музее неприятен, у ангелов на груди черные кирасы, а голова Христа страшна и жестока, но и он, что ни говори, так энергичен, так решителен, так непосредствен, что и в самом уродстве поддаешься обаянию его искренности!
В общем, продолжал Дюрталь, если угодно, можно даже и оставить таких гордых мастеров, как Грюневальд: кельнским цукербродам я предпочитаю даже неизвестных художников с талантом отнюдь не выдающимся, писавших картины скорее странные, чем прекрасные, но все-таки, все-таки мистические! Таков аноним, которого видишь в Готе в герцогском музее, нарисовавший одну из странных месс, которые в Средние века неизвестно почему называли мессами святого Григория.
Порывшись в блокноте, Дюрталь нашел подробное описание этой работы, которое помнилась ему как записка о боголюбивой грубости.
Картина была скомпонована также на золотом фоне. Немного выше алтаря, но едва видимый за ним, стоял деревянный гроб, что-то вроде квадратного бассейна с доской, соединявшей края; на этом мостке бочком сидел Христос (ног его не было видно) с крестом в руках. Лицо Его было исхудалое, впалое, на Нем венец из зеленого терна, а истерзанное тело все в крапинках от ударов бичей. Вокруг него в воздухе носились орудия Его мук: гвозди, губка, молоток, копье; еще левее крохотные бюсты Иисуса и Иуды на постаменте с тремя параллельными линиями серебряных монет.
Перед алтарем же этому поистине жуткому Спасителю, изображенному по провозвестиям Исайи и Давида, поклонялся коленопреклоненный и молитвенно сложивший руки святой Папа Григорий; рядом с ним важный кардинал с руками под мантией и стоящий суровый епископ в темно-зеленой мантии с золотым шитьем, с крестом в руках.
Это было загадочно, зловеще, но эти властные суровые лица жили. Дух веры, неприглаженной и упрямой, исходил от этих лиц; это терпко на вкус, это молодое вино мистики, но уж никак не сахарный сироп первых кельнских живописцев!
О, мистическое веянье, благодаря которому душа художника воплощается на холсте, в камне, на письме и разговаривает с душами зрителей, умеющих понять, — многие ли им обладали? В Германии оно проявилось у бандитов от живописи; в Италии, если оставить в стороне последнего средневекового живописца Фра Анджелико с его учеником Беноццо Гоццоли — Анджелико, чьи творения отражают внутренний мир святого, переносят в красках на холст; если вынесем за скобки еще его предшественников: Чимабуэ, холодные останки византийской школы, Джотто, разморозившего эти неподвижные, неясные фигуры, Орканью, Симоне ди Мартино, Таддео Гадди (это настоящие примитивы) — сколько ж там ловких подделок великих живописцев, обезьянничающих на голос духовности, лукаво подражающих ему так, что примешь и за правду!
Итальянцы Возрождения, как никто, преуспели в этом искусстве обмана, и не так еще много таких, которым, как Боттичелли, хватало честности признать, что их Мадонны — Венеры, а Венеры — Мадонны. Это видно в Берлинском музее, где Боттичелли представлен превосходными, шедевральными полотнами; там картины двух родов находятся рядом.
Одна — изумительная обнаженная Венера; она придерживает рукой на животе волосы чистого золота; ее белое тело светится на иссиня-черном фоне; она глядит на нас серыми глазами, утонувшими за нечистой влажной поволокой, из-под кроличьих, розоватых, век. Должно быть, она много плакала, и этот безутешный взгляд, эта скорбная поза навевают смутные мысли о неутоленной усталости чувственности, о безмерной тоске ничем не насыщаемых гнусных желаний.
Неподалеку от нее — Мадонна, похожая на нее: это она и есть, тот же чуткий чуть вздернутый нос, тот же рот в форме свернутого клеверного листа, желтоватые глаза, золотые волосы, хлорозный цвет лица, крепкое тело и сильные руки. Одинаковы и выраженья их лиц, скорбно-утомленные; очевидно, что для обеих моделью была одна женщина. Обе они язычницы: Венера — понятно, а Мадонна?..
Можно определенно утверждать и то, что гирлянда ангелочков на этом полотне делает сюжет, если это возможно, еще менее христианским: ведь эти прелестные существа с двусмысленными улыбками и слишком гибкой грацией обладают опасными чарами ангелов падших. Это Ганимеды, происходящие из мифологии, а не из Библии.
Как далеки мы от Бога с этим язычеством Боттичелли! — думал Дюрталь. — Какая разница между этим художником и Рогиром ван дер Вейденом, чье Рождество блистает в соседней зале великолепного собрания старого Берлинского музея!
Что за Рождество!
Оно написано как триптих; на правой створке несколько восхищенных стоящих людей и павший ниц старец, кадящий Богородице, которая видна через открытое окно; за ней уходящий вдаль пейзаж, вьющиеся до бесконечности аллеи; женщина с восторженным лицом в остроконечной шапке, чуть ли не в тюрбане, одной рукой прикасается к плечу старца, а другую воздела в непередаваемом жесте удивленной радости. На левой створке три волхва на коленях с протянутыми руками и глазами, воздетыми к небесам, созерцают Младенца, сияющего в звезде; ничего нет прекраснее этих преображенных лиц; уж эти люди молятся от всего сердца, а до нас им вовсе дела нет!
Но обе эти части лишь побочные, а центральный сюжет, которому они служат, исполнен вот как.
В центре, перед каким-то полуразрушенным дворцом, своего рода хлевом с колоннами и разобранной крышей, Божья Матерь молится на коленях перед Младенцем; справа на Иисуса смотрит шевалье Бладлен, заказчик картины, тоже на коленях, а слева святой Иосиф со свечкой в руке. Прибавим шесть ангелочков: три снизу, у входа в хлев, и три в воздухе. Так составлена вся сцена в целом.
Нужно тотчас же заметить, что никакого золота, ярких красок восточных ковров, парчи, подбитой мехом и усеянной самоцветами, что так любили использовать для одежд донаторов и Мадонны Ван Эйк и Мемлинг, нет на этой картине. Ткани прекрасного качества, но нет в них блеска брюггского шелка или персидской шерсти. Рогир ван дер Вейден явно стремился свести декор к простейшей форме, но при этом ему удалось, употребляя краски скромные, не навязывающие себя, шедевр ясного, светлого колорита.
Мария без диадемы, без ожерелья, без браслета, без всяких украшений, лишь с простым ореолом из нескольких золотых лучей вокруг головы, облачена в белое платье с закрытым воротом, лазоревый плащ, волнами спускающийся до земли, рукава же Ее верхней одежды, суженные на запястьях, цвета лилового с сильной примесью синего, ближе к черному, нежели к красному. Лицо непередаваемое по выражению, нечеловеческой красоты окружено длинными рыжими волосами; лоб высокий, нос прямой, губы сильные, подбородок маленький, но слова тут бессильны: нельзя описать оттенка невинности и меланхолии, потока любви, бьющего из этих опущенных глаз на крохотного неуклюжего Младенца, голова которого окружена розовым нимбом с золотыми звездами.
Ни одна Богородица не была такой неземной и такой земной. Ни Ван Эйк со своими несколько простонародными и, во всяком случае, некрасивыми типами, ни Мемлинг, более нежный и изысканный, однако закосневший в мечте о женщине с выпуклым лбом, треугольным лицом, широким сверху, узким снизу, не достигали того тонкого благородства форм, той женской чистоты, которую Любовь делает божественной и которая, даже вне привычной среды, даже без атрибутов, по которым ее узнают, может быть только Матерью Бога.
Рядом с Нею погрузился в созерцание, унесся от всего шевалье Бладлен, весь в черном, с лошадиным лицом, бритыми щеками, похожий и на священника, и на принца. Как он молится! — а святой Иосиф, в пандан к нему, изображенный, как обычно, лысым старцем с короткой бородой и в алом плаще, совершенно такой же, как написал Мемлинг на «Поклонении волхвов», которым владеет больница Иоанна Крестителя в Брюгге, подходит к Богоматери, пораженный своим счастьем, не веря, что наступило наконец время поклониться рожденному Мессии; он улыбается с таким почтением, такой кротостью; он идет неуверенно, почти неловко — добрый старик, который очень хочет быть полезен, но боится помешать.
Наконец, в завершенье всей сцены, над головой Пьера Бладлена раскинулся чудесный пейзаж, пересеченный главной улицей города Мидделбурга, основанного этим сеньором; вдоль улицы стоят замки с зубчатыми стенами, шпили церквей, затем она теряется в полях, освещенных веселым небом, прозрачным светом голубой весны; над святым Иосифом — лужайка и леса, овцы, пастухи и три превосходных ангела в хитонах оранжево-розовом, светло-лиловом и чуть зеленовато-лимонном: три существа поистине бесплотных, не имеющих ничего общего с извращенно-наивными пажами, изобретенными Ренессансом.
Если выразить впечатление от этого творения одним словом, то очевидно и неизбежно приходишь к выводу, что в триптихе Рогира ван дер Вейдена Пречистая Дева, оставаясь еще на земле, не переходя целиком в небеса, как было угодно сделать Фра Анджелико в «Увенчании Богоматери», являет собой самую чистую хвалу Богу в красках, какая только была в живописи. Никогда еще Епифания не славилась так великолепно и, можно также сказать, не передавалась так наивно и просто; шедевр на тему Рождества Христова — в Берлине, а шедевр на тему Снятия с Креста — в Антверпене: скорбно-великолепное повествование Квентина Метсю!
Фландрские примитивы, думал Дюрталь, — величайшие художники в мире, и Рогир ван дер Вейден, иначе Роже де ла Пастюр, как некоторые называют его, задавленный славой Ван Эйка и Мемлинга, как после него были Герард Давид, Гуго ван дер Гус{88}, Йост Гентский, Дирк Боутс, по мне так превосходит всех этих живописцев.
Но зато после них, если исключить последних мастеров голландской готики, очаровательного Мостерта, у которого два эпизода из «Жития святого Бенедикта» славят музей в Брюсселе, какое падение! Театрализованные распятия, тучные мяса Рубенса, которые Ван Дейк силился сделать поприличнее, убавить жира… Чтобы обнаружить мистический отпечаток, приходится перебраться в Голландию: там он является у одного оевреившегося протестанта, и в таком загадочном, таком причудливом свете, что, не ущипнув себя, не поверишь, не ошибся ли ты, приняв эту живопись за духовную.
И чтоб убедиться в правильности своего впечатления, вовсе не обязательно добираться до Амстердама. Достаточно поглядеть на «Путников в Эммаусе» из Лувра.
Дюрталь, все дальше забираясь в свой предмет, принялся размышлять о странной концепции христианкой эстетики у Рембрандта. Ясно, что, изображая евангельские сцены, этот художник больше всего дышит воздухом Ветхого Завета; даже церковь, если бы он вздумал написать ее такой, какова она была в его время, оказалась бы синагогой: до того сильно в его произведениях воняет еврейской селедкой; его манят к себе прообразы, пророчества, все грандиозно-варварское в Востоке. И это легко понять, если знать, что он бывал у раввинов, портреты которых оставил нам, был другом Менашше бен Исраэля{89}, одного из ученейших людей того времени; с другой стороны, можно допустить, что на фоне иудейских церемоний и каббалистической науки у этого протестанта ощущается усердное изучение, вдумчивое чтение Ветхого Завета: у него была своя Библия, проданная вместе с мебелью в уплату долгов с молотка.
Так объясняется выбор его сюжетов да и самое исполнение этих полотен, но оттого не менее загадочно, как художник, которого не вообразишь ведь молящимся перед написанием картины, как Анджелико или Рогир ван дер Вейден, добился таких результатов.
Но как бы оно там ни было, а своим визионерским взглядом, верующим и вдумчивым искусством, гениальной способностью конденсировать, концентрировать солнечную эссенцию в темноте, он достиг грандиозных эффектов, и в библейских сценах говорит на таком языке, на котором до него никто даже не лепетал.
И не типичны ли в этом смысле «Путники в Эммаусе»? Разложите это произведение на составные части, оно покажется плоским и монотонным, предстанет глухим. Не бывало на свете другой такой вульгарной композиции: какой-то погреб из тесаных камней, прямо перед нами стол, за которым Христос с босыми ногами, землистыми губами, грязным цветом лица, розовато-серым цветом одежд преломляет хлеб; справа один апостол, сжав в руке салфетку, смотрит на него и как будто узнает, а другой апостол, слева, узнал Учителя и молитвенно сжал руки; этот человек так кричит от радости, что вопль его мы слышим! Наконец, четвертый персонаж, повернутый в профиль, с умным лицом, ничего не видит и прилежно прислуживает за трапезой.
Это ужин бедняков в тюрьме; цветовая гамма сводится к уныло-серому и коричневому; не считая человека, скрутившего салфетку, рукава которого написаны пастозными мазками сургучно-красного, остальные исполнены как будто раствором пыли и смолы.
Все эти подробности совершенно верны, однако все это неправда, ибо все преображено. Христос, просто подняв глаза, осветился и просиял; бледный ореол от него расходится по комнате. Он некрасив, похож на покойника, его губы мертвенно бледны, а в одном движении, в незабываемо прекрасном взоре виден распятый Сын Божий!
И ты стоишь ошеломленный, даже не пытаясь ничего понять, ибо это сверхреалистическое творение становится вне и выше художества, и никто не может его скопировать, передать…
После Рембрандта, думал дальше Дюрталь, после Рембрандта религиозное воображение в живописи безвозвратно пало. XVII век вообще не оставил ни одной картины, где можно было быть уверенным в чистопробной мужественной вере художника, за исключением Испании времен святой Терезы и святого Иоанна Креста: мистический натурализм ее художников породил дикие, пламенные произведения. Дюрталь припомнил картину Сурбарана, которой он некогда любовался в Лионском музее: святой Франциск Ассизский, во весь рост, в серой рясе, с капюшоном на голове, руки спрятаны в рукава.
Его лицо, казалось, было вылеплено из пепла, бесцветные губы раскрыты, а глаза, закаченные в экстазе, белы, словно дыры. Было непонятно, как этот труп, от которого остались одни кости, держится на ногах, и страшно становилось при мысли о невообразимых истязаниях, страшных лишениях, которые покаяния ради истощали это тело, сотворили скорбно-восхищенные черты этого лица.
Эта живопись явно происходила от горькой, ужасающей мистики святого Иоанна Креста; то было искусство палача, белая горячка божественного упоения: все так, но какое поклонение Богу, какой клич любви, заглушаемой страхом, исходил от этого полотна!
Ну, а XVIII веком не стоило и заниматься; то было время рюшечек и ракушечек, которое и к богослужению обратившись делало из чаши для святой воды умывальную раковину.
В наше время искать тоже нечего: все эти Овербеки, Энгры, Фландрены были тощими одрами, по заказу тащившими телеги священных сюжетов; Делакруа в церкви Сен-Сюльпис одолел всех мазил кругом него, но чувства католического искусства в нем нет ни капли.
То же и наши нынешние художники, которым все равно, что писать, Юнон или Богородиц, которые расписывают то плафоны дворцов и трактиров, то церкви; почти ни у кого из них нет веры, а мистического чутья ни у кого вообще.
Так нечего и говорить об этих поденщиках; точно так же нечего принимать в расчет розенкрейцерские небескорыстные шуточки и картинки для олухов, и уж вовсе не стоит упоминать мелочь всяких молодых проходимцев или честных добряков, полагающих, что если они написали вытянутую женскую фигуру, так уж и мистики.
Итак, ограничив разыскания патентованными церковными живописцами, что найдем? Увы, в общих чертах положение таково: Синьоль умер, но жив еще Оливье Мерсан — ничтожество по всей форме. Лучше было бы просто промолчать, да только одному благонамеренному издателю пришло в голову мобилизовать силы клерикальной партии и объявить художником христианского возрождения Джеймса Тиссо, а ничего менее духовного, чем его картины из жизни Спасителя и быть не может. Ведь его Христос отдает каким-то протестантским запахом, какой-то затхлостью кирхи, и даже хуже: ведь в этих работах Он только человек. Нам явно не то подсунули; этим акварелям и рисункам надо бы иллюстрировать «Жизнь Иисуса» Ренана, а вовсе не Евангелие.
Изобразив под предлогом реализма детали, взятые на месте действия и подлинные костюмы (что уже спорно: предполагается, что за девятнадцать столетий в Палестине ничего не изменилось), г-н Тиссо дал нам самый гадкий маскарад, который когда-либо смели предпринимать по поводу Писания. Гляньте на эту толстуху, на девку с улицы, которой так надоело выкликать свой товар, что стало уже дурно: это «Величит душа моя», это Пречистая Дева; привидения вокруг медиума, впавшего в транс, призраки, будто вызванные колдовскими заклинаниями или спиритическими пассами — то ангелы, служащие Спасителю. Посмотрите на «Крещение Господне», на «Притчу о мытаре и фарисее», на «Избиение младенцев», на пошлую мелодраму его Голгофы — да на все эти листы; ничто не сравнится с ними в пошлости, вялости, бессилии таланта; они рисованы черт знает чем, раскрашены навозом, асфальтом, соусом-мадерой!
Издательство Мам (пора уж его и назвать), своими деньгами способствовавшее пропаганде тупой болтовни этого художника, в очередной раз показало безнадежное непонимание искусства…
Так, значит, в Церкви больше нет ничего живого! — воскликнул про себя Дюрталь. Впрочем, несколько опытов аскетической живописи было и в нашем столетии. Несколько лет тому назад бенедиктинская конгрегация в Бойрене, в Баварии, попыталась обновить церковное искусство; Дюрталю помнилось, что ему попадались на глаза репродукции фресок, написанных этими монахами на одной из стен Монте-Кассино.
Фрески отсылали к образам Египта и Ассирии: Бог в тиаре, ангелы в шапках, как на сфинксах, с крыльями, сложенными веером над головой, старцы с завитыми бородами, играющие на струнах и органах; позже бойренские монахи оставили этот гиератический жанр, в котором, надо признать, особого дарования не показали, и в новых произведениях, особенно в «Крестном пути», что опубликован в альбоме, изданном во Фрейбурге-в-Брейсгау, усвоили странное сочетание других стилей.
Римские солдаты на этих листах оказались жалкими пожарниками, восходящими к школе Герена и Давида, но через несколько страниц, там, где представлялись Мария Магдалина и жены мироносицы, вдруг виделись более новые рецепты, где в банальные группы вмешивались женские фигуры ренессансного греческого типа — красивые, элегантные, явно сошедшие с полотен прерафаэлитов, особенно Уолтера Крана.
Таким образом, идеал Бойрена получался сплавом французского искусства Первой империи с современным английским.
Некоторые из этих картонов были почти что смешны, скажем, Девятая остановка: Христос лежит во весь рост на животе, Его связанные руки подтягивают веревкой вверх — кажется, Он учится плавать. Но сколько бы ни было там слабого и банального в целом, неловких и неинтересных деталей, до чего же вдруг любопытные получались кусочки! Вероника на коленях перед Иисусом была по-настоящему прекрасна, по-настоящему замирала от любви и скорби; копии, наброски других персонажей забывались, и даже на самых неоригинальных листах неприятный, тяжелый рисунок монахов начинал говорить едва ли не красноречиво, потому что от произведения исходили мощная вера и ревность о Боге. По этим лицам пробегало дуновение Духа и животворило их; глубокое чувство, молитвенный отпечаток оживлял молчание трафаретных фигур; монашеское благочестие вносило сюда неожиданный элемент, утверждало таинственную мощь, что появляется в ней, когда оно в картину, которой без нее и не было бы, вносит личный привкус, особенный аромат. Эти бенедиктинцы в большей степени, чем художники другого закала, наводили на мысль о коленопреклоненной молитве, напоминали о евангельском благоухании.
Вот только их попытка оказалась тупиковой и сейчас их почти прекратившая существование школа производила только слабенькие картинки для святош, нарисованные какими-то послушниками.
Да и как она могла бы родиться на свет дееспособной? Идея сделать для Запада то, что сделал Мануил Панселинос для Востока: уничтожить этюды с натуры, потребовать единообразного последования красок и линий, принудить все художественные темпераменты отлиться в единую форму — выдало бы в том, кто рискнул бы на такое предприятие, полное непонимание искусства. Эта система привела бы живопись к анкилозу, к параличу, да и на самом деле результат получился точно такой.
Почти в одно время с бойренскими чернецами один никому не известный художник, живший в провинции и никогда не выставлявшийся в Париже, по имени Поль Борель, писал картины для церквей и монастырей, работал во славу Божию и не соглашался ни на какую плату от священников и монахов.
На первый взгляд в его работах не было ни свежести, ни приятности; некоторые выражения его художественного языка наводили улыбку на людей, одержимых модернизмом; кроме того, чтобы справедливо судить о его искусстве, следовало часть его решительно отбросить, оставив лишь то, что удалялось от истрепанных формул расхожей елейности, — и оставалось такое мужеское боголюбие, такое пылкое благочестие, что искусство это возносилось высоко.
Его главное творение хоронилось в капелле доминиканского коллежа в Уллене, глухом уголке лионских предместий. Среди десяти произведений, украшавших здание, были: «Моисей, исторгающий источник из скалы», «Ученики в Эммаусе», «Исцеление бесноватого», «Исцеление слепорожденного», «Исцеление Товии». Но, несмотря на кроткую энергию этих фресок, нельзя было не посетовать на тяжеловесность целого, на сонный, устарелый колорит. Только войдя в алтарь, зайдя за скамью для причащения, можно было полюбоваться произведениями, совсем другими по замыслу, особенно великолепными портретами святых ордена братьев-предикантов, удивительных по силе молитвы и мощи святости, сиявших от них.
Там же были и две большие композиции: Богородица, передающая четки для молитвенного правила святому Доминику, и еще картина, изображающая святого Фому Аквинского на коленях перед алтарем, Распятием, которое излучает сияние, — никогда от самого Средневековья никто так не понимал и не писал монахов, никогда под грубой корой их черт никто не показывал столь могучее движение сил души. Борель был живописцем монашеской святости; его искусство, обыкновенно чересчур неспешное, воспаряло, едва он обращался к ним.
Пожалуй, еще лучше, чем в пансионе воспитанников Уллена, составить себе представление о честном, глубоко богобоязненном искусстве Бореля можно в Версале.
При входе в версальскую капеллу августинцев, где он расписывал нефы и клирос, бросается в глаза Клара из Монтефальконе, аббатиса XIV столетия: во весь рост, в черном одеянии августинского ордена; за ней каменные стены кельи, стол с раскрытой книгой и медной лампой.
В лице, склоненном к Распятию, которое она подносит к губам, в его кротком и алчущем выражении, в движении рук (одна приложена к груди, другая поднята к устам), где сама собой, положением кистей, рисуется фигура креста, есть и восхищенное самоотречение супруги, и всепоглощающая радость любви, и нечто от беспокойного чувства матери, баюкающей Господа, как больное дитя: она целует Его — и словно качает на коленях.
И вся композиция очень проста: без театральных поз, без преувеличенной жестикуляции. Святой Кларе, как и святой Маддалене Пацци, не свойственны порывы и возгласы, она не возлетает в полете священного транса. Охваченность Богом в ней проявляется в безмолвии; ее исступленье сдерживается, упоенье строго: оно не изливается наружу, а уходит в глубину, и снисходящий к ней Христос отмечает в ней некий уголок, наносит, как чеканом, удар по сердцу тем Распятием, которое она держит в руках, и после смерти оттиск Креста действительно нашли, вынув ее сердце.
Вот самая захватывающая религиозная живопись наших дней; художник пришел к ней, не переписывая примитивов, без трюков с неуклюжими телами, стиснутыми железными нитями, без уловок и вычур. Но каким молитвенным католиком, каким влюбленным в Бога человеком должен был быть художник, написавший такую картину!
После него все смолкло. Среди нынешней церковной молодежи не видно никого, кому по плечу справляться с духовными сюжетами; разве что один подает некоторые надежды, задумчиво проговорил Дюрталь; он выделяется среди своих собратьев по крайней мере дарованием. И он стал перелистывать свои альбомы, разглядывая литографии Шарля Дюлака.
Этот художник стал заметен серией вымышленных пейзажей, еще неуверенных, где повсюду изображены большие бассейны и высокие прямые деревья с листвой, словно всклоченной порывами ветра; потом он предпринял трактовку «Хвале Солнцу» и «Хвале творениям», где в девяти листах, выпущенных в разных тоновых состояниях, дал излиться мистическому чувству, которое в первом собрании было еще скрыто и невнятно.
Выражение «пейзаж — состояние духа» несколько вымученно, но к этим работам вполне подходило; художник пропитал своей верой эти места, видимо списанные с натуры, но прежде всего увиденные помимо телесного зрения влюбленной душой, на вольной воле распевающей песнь Даниила и псалмы Давида, перепетые святым Франциском; и сама эта душа вслед за ними повторяла, что все стихии должны петь славу Создавшему их.
Среди литографий были две бесспорно выразительные, одна озаглавленная Stella matutina[65], другая Spiritus sancte Deus[66]. В третьей же, самой обдуманной, самой простой из всех, той, что значилась под титулом Sol Justitiae[67] индивидуальность художника выражалась лучше всего.
Замысел ее был такой:
Белый, ясный прозрачный пейзаж уходил в бесконечность — вид мыса, пустынной воды, отороченной пляжами, языками земли, усаженными деревьями, которые отражались в гладком зеркале озер; на заднем плане сиял над водной скатертью солнечный диск, рассеченный горизонтом: все было само спокойствие, тишь; необычайная насыщенность исходила от этого вида. Идея Правды, которой неизбежным отголоском сопутствует идея Милости, символизировалась светлой важностью пространств, освещенных нежаркими лучами погожего вечера.
Дюрталь отступил, чтобы лучше разглядеть вещь в целом. Ничего не скажешь, заключил он, у этого художника есть такт, чутье воздушных пространств и больших поверхностей: как он понял спокойно текущие волны под необозримыми небесами! К тому же от этой картины исходят токи души верующего католика, понемногу в нас проникающие…
Но при всем при том, продолжал он, закрыв папку, очень я отдалился от своего предмета, и статьи для «Ревю» никак не вижу. Сочинить очерк о немецких примитивах — да, это бы им подошло, но сколько возни! Мне пришлось бы расширить мои заметки и вслед за мастером Вильгельмом, Лохнером, Грюневальдом, Цейтбломом коснуться Бернарда Штригеля, мастера почти неизвестного, затем Альбрехта Дюрера, Гольбейна, Мартина Шонгауэра, Ганса Бальдунга, Бургмайера и скольких еще! Пришлось бы объяснить, что в Германии могло остаться от правоверного восприятия мира после Реформации, поговорить, по крайней мере, о Кранахе с точки зрения лютеранства: об этом поразительном художнике, у которого Адам всегда выходил бородатым краснокожим Аполлоном, а Ева худощавой толстощекой куртизанкой, круглоголовой, с глазками креветки, губами, вылепленными из розовой помады, грудями у самой шеи, длинными, тонкими, расхлябанными ногами, высоко сидящими икрами и толстыми, сильными, плоскими лодыжками. Такая работа завела бы меня слишком далеко. Об этом приятно думать, но не писать; лучше поищу другой предмет, покороче, не столь всеохватный, но вот какой? Там видно будет — и он встал, потому что г-жа Мезюра весело объявила, что ужин подан.
XIII
Однажды, солнечным деньком, Дюрталь для разнообразия зашел на окраине Шартра в маленькую церковку Сен-Мартен-о-Валь. Она была построена в X веке и была монастырской сначала в бенедиктинском монастыре, а потом в обители капуцинов. Ее подновили без особенных ересей, и теперь она была частью богадельни; в нее проходили через двор, где в тени редких деревьев дремали на скамейках слепые в бумажных колпаках.
Церковь по всему была чисто романская: крошечный приземистый портал, три колоколенки для гномиков; так же как в церкви святой Радегунды в Пуатье и в манском храме Богоматери у Портных, из самого нефа под очень высоко поднятым алтарем была видна крипта, освещенная амбразурами в боковых стенах. Грубо вытесанные капители ее колонн напоминали идолов с дальних океанских островов; под плитами и в саркофагах крипты почивало несколько шартрских епископов, а вновь назначенным прелатам полагалось первую ночь по приезде в диоцез провести в молитве перед этими гробницами, проникаясь добрыми делами своих предшественников и прося их о помощи.
Что бы духу древних епископов, с тоской подумал Дюрталь, внушить их нынешнему преемнику монсеньору де Моффлену решение очистить дом Богородицы и выгнать вон скверного гудошника, по воскресеньям превращающего место святое в кабак! Но увы, ничто не переможет бездеятельность этого архипастыря, старого и больного; его и не видно вовсе — ни в саду, ни в соборе, ни в городе. А ведь это куда как лучше любых вокальных упражнений церковного хора! И Дюрталь стал слушать колокола, нарушившие молчание и святой водой своих голосов окроплявшие город.
Ему вспомнилось, какой смысл давали колоколам символисты. Дуранд Мендский сравнивал твердость их металла с крепостью проповедника и полагал, что язык с той целью бьется о колокол, чтобы показать, что говорящий в церкви должен бить сам себя, исправлять сначала свои пороки, а потом уже упрекать других. Деревянная перекладина, на которой подвешен колокол, формой своей напоминает крест Господень, а веревка, за которую тянет звонарь, связана с евангельским учением, от креста исходящим.
По Гуго Сен-Викторскому, язык колокольный есть язык духовный, ибо, сталкиваясь с двумя сторонами чаши, он возвещает истину Ветхого и Нового Заветов. Наконец, для Фортуната Амалария тело инструмента — уста литургии, а било, опять же, язык.
Словом, колокол — вестник Церкви, ее внешний голос, а священник — голос внутренний, заключил Дюрталь.
Углубившись в эти размышления, он вернулся обратно к собору и в сотый раз залюбовался нимало не наскучившим видом его могучих контрфорсов, из которых изогнутыми линиями полета ракеты выстреливались полукруглые аркбутаны; он всегда изумлялся размаху этих парабол, изяществом их траекторий, спокойной энергией упругих опор. Вот только, думал он, разглядывая балюстраду, что тянулась над ними во всю длину крыши, вот только архитектор всего лишь проделал в каменном парапете тройные арки, словно пробойником; он был не столь сведущ, как другие мастера — каменщики и зодчие, умевшие устраивать при обходах вокруг церковных кровель картины Писания или символы. Таков был строитель базилики в Труа, где в проемах верхней галереи цветы лилии чередуются с ключами святого Петра; так в Кодебеке мастер разукрасил эту ограду готическими, прелестными с виду буквами, воспроизведя молитвы Божьей Матери: он создал вокруг церкви молитвенный ореол, надел ей на голову белоснежный венец.
От северной стороны собора Дюрталь прошел мимо Царского портала и угла старой колокольни; одной рукой ему приходилось придерживать шляпу, другой застегивать на ходу пиджак, яростно хлеставший его полами по ногам. В этом месте ураган дул всегда. Во всем городе могло не быть ни ветерка, но на этом углу вечно, зимой и летом, шквал задирал подолы и хлестал ледяной плеткой по лицу.
Может быть, именно поэтому статуи Царского портала, непрестанно бичуемые ветром, с виду словно дрожат от холода; и одежды на них узкие и закрытые, и конечности словно приклеены к телу, с улыбкой подумал Дюрталь; такова и эта странная фигура на изъеденной бурями стене старой колокольни, словно равнодушный пастух стоящая между прядущей свиньей (на самом деле хряком) и ослом, играющим на виоле.
Эти звери на веселом языке иллюстрируют народные поговорки: Ne sus Minervam и Asinus ad lyram[68], которые можно передать примерно так: будь каждый при своем — не надо насиловать свои дарованья, а то будешь нелеп, как хрюшка, если захочет рассуждать, или ослик, который тщится играть на лире. Но вот этот-то ангел с нимбом, босоногий, под балдахином, с каменным диском, прикрывающим грудь, — он что тут делает?
Он из рода королев, живущих под Царским порталом: похож на них телом, вытянутым, как веретено в оболочке, исчерченной фибрами; он смотрит поверх нас, и непонятно, совершенно ли он непорочен, крайне ли нечист.
Глаза его простодушны, волосы пострижены в кружок, выражение безбородого лица монашеское, но между носом и губами глубокая впадина, и рот, прорезанный, как сабельным ударом, полуоткрыт в такой улыбке, что, если смотреть долго и внимательно, становится издевательской, нехорошей усмешкой, так что вдруг не скажешь, которого сорта этот ангел.
В нем есть что-то и от дурного бурсака, и от доброго послушника. Если ваятель взял моделью какого-то молодого монаха, то был, конечно, не кроткий новичок вроде того, что, без сомнения, служил образцом скульптору статуи Иосифа на северном портале, а, должно быть, один из тех беспутных иноков, что так тревожили ум святого Бенедикта. Необычный это ангел (брат его есть в Лаоне за собором), за несколько веков предвосхищающий двусмысленные серафические типы Ренессанса!
— Ну и ветрище! — прошептал Дюрталь, поскорее добрался до Царского портала, поднялся по ступенькам и толкнул дверь.
Вход в огромный сумрачный собор всегда казался тесным; под грозно-величавыми сводами человек всегда инстинктивно наклонял голову и ступал осторожно; Дюрталь сразу же застыл, ослепленный светом с хор в контрасте с очень темным проходом нефа, освещенным лишь на перекрестии с трансептом. В Шартре ноги Христа находились во мраке, торс в полутьме, главу же заливали потоки света; Дюрталь созерцал висящие в воздухе ряды недвижных патриархов и апостолов, святителей и подвижников, пылавшие в огне, угасающем в темных витражах, охранявшие труп Господень у своих ног. Они выстроились, вставленные в огромные ланцеты с круглыми окнами над ними, вдоль верхнего яруса и показывали пригвожденному к земле Христу верное войско Его, умноженное Писанием, минеями, мартирологами; в меченосном сонме Дюрталь узнавал святых: Лаврентия, Стефана, Эгидия, Николая Мирликийского, Мартина, Георгия, Симфориана, святую Фуа, святого Ломера и много, много других, имена которых уже не помнил. Он приостановился у трансепта, залюбовавшись на Авраама, в безграничной небесной лазури навек занесшего грозным движеньем над вечно склоненным Исааком светлое лезвие ножа.
Он восхищался и замыслом, и исполнением витражей XIII века, их неумеренным языком, необходимым ввиду большой высоты: они давали возможность легко разбирать на большом расстоянии свои картины, делая их по возможности однофигурными, простыми по контурам, резкими по цветам, так что и снизу их можно было уразуметь с первого же взгляда.
Но высшее торжество этого искусства было не в хорах, не в боковых ветвях собора, не в нефах, а при самом входе в храм, на внутренней стороне той стены, где снаружи в этом месте находились статуи королев. Дюрталь обожал это зрелище, но он еще немножко выждал, чтоб подготовить всплеск радости и насладиться им; это чувство он испытывал всякий раз, и частое повторение никак не разрушало его.
В тот день, в солнечную погоду, все три окна XII века блестели короткими лезвиями мечей, обоюдоострыми, с широкой плоской полосой, под розой, господствующей над главным порталом.
Голубые огоньки, светлее той голубизны, на фоне которой потрясал ножом Авраам, мерцали паутиной искорок; бледная, прозрачная лазурь напоминала пламень пунша, или горящий серный порошок, или еще всполохи, излучаемые сапфирами, но совсем молодыми, еще невинными и дрожащими, если можно так выразиться; и в стеклянной стрелке справа можно было видеть начерченное пламенеющими линиями Иессеево древо; предки Иисуса поднимались по нему чередой в синеющем пожаре облаков; а на стрелках центральной и правой определялись сцены жизни Спасителя: Благовещение, Вход в Иерусалим, Преображение, Тайная Вечеря, ужин с учениками в Эммаусе; наконец, над всеми тремя окнами Христос полыхал в самой середине большой розы, а мертвецы при звуках трубных выходили из гробов, и архангел Михаил взвешивал души!
Как мастера XII столетия, неспешно размышлял Дюрталь, добивались такой голубизны и почему стекольщики уже так давно утратили ее, как и прежний красный цвет? В XI веке художники по витражам употребляли в основном три краски: голубую, тот нетленно-голубой цвет неяркого неба, которым славятся окна в Шартре; красную, глухой и мощный пурпур; наконец, зеленую, не столь высокую по качеству, как два других тона. Вместо белого использовался зеленоватый оттенок. Век спустя палитра стала шире, но тона темнее, да и стекла толще; впрочем, какой мужественно-чистый синий цвет переливчатого сапфира, какой восхитительный красный цвет свежей крови применяли они! Желтый, не столь распространенный, насколько могу судить по одеянию царя рядом с Авраамом в одной из рам возле трансепта, был разнузданным, ярко-лимонным; однако за исключением этих трех красок, трепещущих и сияющих, как песнопения радости, все остальные становятся мрачны; фиолетовый — темно-сливовый или баклажанный, коричневый вдается в жженый сахар, луково-зеленый почернел.
Каких шедевров колорита добивались они сочетанием и столкновением этих тонов; какое во всем согласие, какая ловкость в обращении со свинцовыми нитями, в акцентировке определенных деталей, в пунктуации, так сказать, в разделении пламени чернильными чертами на абзацы!
И вот еще что удивительно: добровольный союз различных работ, существовавших бок о бок, трактовавших одни сюжеты или же друг друга дополнявших, каждое по образу выражения своему, и добивавшихся того, что выходил цельный ансамбль под единым руководством; с какой логикой, как умело каждому отводилось свое место, выделялось свое пространство, согласно средствам его ремесла, требованиям его искусства!
Дойдя до нижней части здания, архитектура уходит из виду, уступает первенство скульптуре, отводя ей лучшее место у входа в здание; ваяние, до того момента пребывавшее невидимым на головокружительной высоте, остававшееся лишь придатком, внезапно становится владыкой. Ему воздается должное там, где его можно разглядеть; тогда оно выходит вперед, а сестра его удаляется, дает ему говорить с народом; и какую великолепную раму она ему предоставляет: сводчатые порталы, имитирующие прямую перспективу рядом концентрических арок, уменьшающихся до самых дверных наличников!
В других случаях архитектура не все отдает одной подруге, а делит щедроты своих фасадов между скульпторами и живописцами; первым она оставляет углы и ниши, куда ставятся статуи, витражистам же назначает тимпан Царского входа, место, где в Шартре ваятель изобразил рельеф Христа во славе. Таковы большие парадные входные проемы в Реймсе и в Туре.
Вот только если барельефы заменяются витражами, есть одна неприятность: снаружи, то есть с изнанки, эти прозрачные митры похожи на пыльную паутину. Ведь под солнечными лучами окна становятся черными или серыми; нужно войти в храм и обернуться, чтобы увидеть, как искрится стекольное пламя; внешний вид приносится в жертву интерьеру — отчего так?
Возможно, ответил себе Дюрталь, это символ души, освещенной в укромных своих уголках, аллегория духовной жизни…
Он обвел одним взглядом все соборные окна и подумал: в них есть, с какой-то точки зрения, нечто от тюрьмы и от парковой аллеи: угли пламенеют за железными решетками, из которых одни пересекаются в клетку, словно прутья в темнице, а другие окружают картину подобно черным ветвям. Стекольное ремесло! Не в этом ли искусстве Бог действует более всего; человек никак не может довести его до совершенства, ибо лишь Небо в силах одухотворить цвета солнечным лучом и вдохнуть в линии жизнь; словом, человек изготовляет оболочку, фабрикует тело и ждет, пока Бог не вдохнет в него душу живу!
Нынче праздник света, и Солнце Правды пришло посетить Матерь Свою, продолжал он думать, от той стороны клироса, что смотрит на южную часть трансепта, переходя к витражу Богородицы Прекрасной Стекольщицы, чья фигура синела на гранатовом, жухло-желтом, табачном, ирисно-лиловом, голубовато-зеленом фоне. Она глядела грустно и задумчиво; это выражение лица было умело воссоздано витражистом нашего времени; Дюрталь вспомнил о том, что некогда люди приходили молиться Ей так же, как он сам молился Богоматери у Столпа и Богоматери Подземелья. Ныне витраж так не почитали; видимо, людям нынешнего века хочется, чтобы Заступница была более осязаема, более материальна, чем это хрупкое, легкое изображение, пасмурным днем еле видимое. Впрочем, некоторые крестьяне сохранили привычку преклонять перед ним колени и ставить свечку; Дюрталь, любивший старых позабытых Мадонн, последовал их примеру и тоже помолился Ей.
Еще два витража потрясли его странностью фигур, изображенных на них; они помещались в самом верху в глубине апсиды, служа пажами Божьей Матери с Младенцем в среднем стрельчатом проеме, царившей над всем пространством собора; в боковых же светлых окошках было по серафиму, нелепому и варварскому, с тощим решительным лицом, с белыми чешуйчатыми, исполненными очей крыльями, в юбках, разрезанных как бы ремнями, цвета пармской зелени, болтавшихся над обнаженными голенями. Вокруг голов у ангелов были нимбы цвета китайского финика, сдвинутые на затылок, словно морские бескозырки; этот лоскутный наряд, перья, приложенные к груди, головной убор, разбитные недовольные лица наводили на мысли, что перед тобой то ли нищие, то ли цыгане, то ли индейцы, то ли матросы.
Что касается других витражей, особенно тех, где было много действующих лиц, которые делились на ряд сцен, то, чтобы разобрать их подробно, пришлось бы, раздобыв подзорную трубу, исследовать их дни напролет. Целого месяца не хватило бы для такого дела: стекла часто чинились, переставлялись, иногда в полном беспорядке, так что понимать их стало совсем уже нелегко.
Было подсчитано число фигур на окнах храма: получилось 3889. В Средние века всякий хотел поднести Пресвятой Деве стекольную картину, так что, кроме кардиналов и королей, епископов и князей, каноников и сеньоров, пламенеющие панно заказывали также и городские корпорации; самые богатые, такие, как цеха суконщиков и меховщиков, ювелиров и менял, передали храму Божьей Матери по пять композиций, а те, что победнее: землекопы и водоносы, носильщики и грузчики — по одной.
Обдумывая эти мысли, Дюрталь ходил туда-сюда по заалтарному проходу, задерживаясь перед маленькой каменной Мадонной, таившейся под лестницей, ведущей в капеллу Святого Пиата, что была сверх общего плана построена за апсидой в XIV веке. Эта Мадонна, того же времени, исчезала, пряталась в тени от взоров, почтительно оставляя парадные места старшим Богородицам.
Она держала малыша, играющего с птичкой, очевидно, в память сцены из апокрифических евангелий Детства Иисусова и от Фомы Израильтянина, где говорится, что Младенец Христос любил лепить глиняных птиц и затем, дунув, оживлять их.
Дюрталь пошел дальше вдоль капелл, остановившись только перед той, где содержались реликвии взаимно обратного назначения: мощи святого Пиата и святого Таурина; первые выставляли напоказ, чтобы унять дождливую погоду, вторые — чтобы вызвать дождь во время засухи. Но весь ряд жалко оформленных приделов был совсем не так забавен, их именования настолько разошлись с первоначальным посвящением, что векового заступничества святых уже не существовало; весь обход был словно для потехи замаран, осквернен, обескровлен.
В 1763 году тогдашний капитул счел за благо искорежить готические колонны, которые какой-то миланский штукатур обмазал желтовато-розовым раствором с серыми разводами; после этого клирики послали в городской музей роскошные фламандские ковры, обрамлявшие внутренние контуры клироса, заменив их мраморными барельефами, сработанными тем жутким каменотесом, что задавил алтарь гигантской статуей Успения, а дальше еще неудача. В 1789 году санкюлоты думали вытащить эту глыбу, но какой-то несчастный болван спас творение Бридана, надев ему на голову фригийский колпак.
Представить только себе, сколько там повыбивали дивных витражей, чтобы лучше освещалась эта жировая масса! О, если бы можно было надеяться в один прекрасный день избавиться от нее! Но увы, желания эти напрасны. Несколько лет назад, при епископстве монсеньора Реньо зашла речь даже не о том, чтобы отправить на свалку окаменевшую глыбу сала, а хотя бы убрать барельефы, но прелат, затыкавший уши ватой из боязни простудиться, воспротивился этому. Теперь придется вечно терпеть святотатственное уродство этого Успения с этими мраморными ширмами!
Но как ни позорен был интерьер храма, скульптурные группы в боковых нефах у апсиды, составлявшие внешнюю ограду алтарной части, стоили того, чтобы остановиться у них.
Эти группы, стоявшие под балдахинами с игольчатой бахромой и башенками, вырезанными Жеаном из Боса, начинаются справа, от входа в южную часть трансепта, идут подковой вокруг алтаря и кончаются у входа в северную часть трансепта, в том месте, где высится на своем столпе Черная Богородица.
Сюжеты здесь те же, что и на малых капителях Царского портала вне храма, над статуями в честь королей, святых и королев: они взяты из апокрифических преданий, евангелия Рождества Богородицы и протоевангелия от Иакова Младшего.
Самые ранние из них вырезаны художником по имени Жеан Сула. Условие от 2 января 1518 года между этим скульптором и уполномоченными от управления по украшению храма сохранилось. Там сказано, что Жеан Сула, мастер-ваятель святых образов, живущий в Париже у кладбища святого Иоанна в приходе святого Иоанна, что на Отмели, подряжается исполнить — причем лучше, нежели образа вокруг клироса собора Божьей Матери в Париже, — из доброго камня тоннерского карьера четыре первые группы, предмет коих ему предписан и описан; торг совершен и условие заключено на сумму 280 турских ливров, кои почтеннейшие члены капитула в Шартре обязаны будут ему выплачивать, покамест будет продолжаться его труд.
Сула, учившийся ремеслу, несомненно, у какого-то фламандского мастера, изваял жанровые картинки, которые своей непосредственностью и живостью разглаживали морщины души, омраченной важностью витражей: ведь в этом месте свет через окна просачивался как через муслин, освещая проход лишь неяркими зайчиками и мглистыми лучами.
Вторая группа, изображающая святую Анну, которой невидимый нам ангел повелевает пойти навстречу Иоакиму к Золотым воротам, — чудо тончайшей наблюдательности и грации. Праматерь Господа внимательно слушает ангела, стоя перед молитвенной скамеечкой, рядом лежит собачка, а служанка с пустым кувшинчиком, повернувшись в профиль, подняла голову и улыбается, подмигивая, с понимающим видом. Когда же в следующей нише супруги обнимаются — трепетно, как это бывает у добрых стариков, — что-то весело бормочут и протягивают друг другу дрожащие руки, та же служанка, уже обращенная к нам лицом, так рада их счастью, что не может сдержаться и притопывает, подхватив краешек юбки, словно готовясь пуститься в пляс.
Немного дальше мастер построил сцену Рождества Богородицы, как истый фламандский живописец поместив в глубине своей рамы постель с занавесками, на которой лежит святая Анна; горничная ухаживает за роженицей, а повитуха с помощницей омывают дитя.
Но еще одна группа, расположенная около часов эпохи Возрождения, прерывает цепь историй, о которых повествует ограда; она всего поразительнее. На ней Мария шьет пеленки и читает книгу, а святой Иосиф спит в кресле, опустив голову меж ладоней, и во сне узнает о грядущем Непорочном Зачатии; у него не просто закрыты глаза: он спит так глубоко, так по-настоящему, что чувствуешь, как вздымается грудь, видишь, как тело, вытянувшись, растворяется в забытьи; а до чего хорошо движутся пальцы будущей Матери в то время, как Она погружена в молитву и уткнулась в молитвенник! Уверен, никогда никто не прикасался так тесно к жизни, не выражал так уверенно и точно природу, застигнутую врасплох, схваченную на лету.
За этой сценой в интерьере и Поклонением пастухов идет Обрезание Господне, где на Младенца стараниями некоего пустосвята надет белый фартучек из бумажки, потом Поклонение волхвов, и на этом Жеан Сула с учениками свою задачу исполнили; их сменили посредственные работяги Франсуа Маршан из Орлеана и Никола Гибер из Шартра, а дальше искусство пошло еще больше на спад, дойдя до пошлости у некоего сьера Будена, которому хватило наглости подписать свои жалкие куколки, и до самого края бездарности в шаблонных поделках Жана де Дьё, Легро, Тюби, Мазьера, в холодных языческих скульптурах XVII и XVIII веков. Оно опять становилось выше в восьми последних группах напротив Богородицы у Столпа — силуэтах, вырезанных учениками Сула, но эти группы, можно сказать, пропадали, ибо были помещены в тени, так что о них никак нельзя судить в этом умирающем свете.
Идя по этому обходу, местами столь милому, а местами такому противному, Дюрталь не мог невольно не припомнить подобное же, но более цельное произведение: оно создавалось не в течение нескольких веков, его не портили диссонансы талантов и эпох. Это творение находилось в Амьене — также наружная ограда алтарной части собора.
Серия позолоченных и раскрашенных групп представляла житие святого Фирмина, первого епископа и небесного заступника города, а также историю обретения и перенесения его мощей святым Сальвом; далее, чтобы занять оставшееся место вокруг алтаря, следовало жизнеописание другого покровителя города, Иоанна Крестителя. В сцене, где Предтеча совершает крещение Иисуса Христа, есть ангел с развернутым полотном в руках; белокурый, невинно-лукавый — одна из самых очаровательных фигур небесного воинства из когда-либо написанных или высеченных фламандским искусством во Франции.
Житие святого Фирмина было, как и предание о Рождестве Богородицы в Шартре, рассказано в кратких каменных главках, над которыми также высятся готические пирамидки и башенки; в том отсеке, где святой Сальв, окруженный народом, видит лучи, исходящие из тучи и указывающие на забытое всеми место, где зарыто тело епископа, бьется о землю человек на коленях со сложенными руками, весь поглощенный молитвой, пламенно ревностный, брошенный вперед скачком души, так преобразившим его лик, что этот простой малый превращается в экстатического святого, живущего уже далеко от земли — в Боге.
Этот молитвенник — шедевр амьенской алтарной ограды, а спящий Иосиф — шедевр шартрской.
Если хорошо разобраться, подумал Дюрталь, то скульптурный ансамбль пикардийского собора яснее, целостнее, разнообразнее и даже красноречивее, чем в базилике Боса. Создавший его неизвестный ваятель был так же, как Сула, одарен тонкой наблюдательностью, добродушием, убедительной и решительной энергией, но сверх того имел что-то более оригинальное и благородное — его работы не ограничиваются изображением двух-трех персонажей: часто на сцену выводятся многоглавые толпы, где каждый мужчина, женщина, ребенок имеет свою индивидуальность, свои отличительные черты, выделяется особенным обликом; вот как четка и насыщенна реальность этих фигурок!
Ну что ж, думал Дюрталь, в последний раз оглядывая алтарную ограду, Сула, пожалуй, уступает амьенскому ваятелю, но это все же тонкий художник, настоящий мастер; уж по крайней мере, его группы утешают по сравнению с гадостью от Бридана и с бездарным оформлением самого клироса!
Затем он преклонил колени перед Черной Мадонной, после чего вернулся в северный трансепт, рядом с которым Она и стоит; там он в очередной раз обомлел перед пылающей флорой его окон. Дюрталя всегда захватывали и волновали эти пять стрельчатых окон под розой: окна, в которых вокруг святой Анны-мавританки виднелись Давид и Соломон, сурово стоявшие в пещи пурпурной, Мельхиседек и Аарон с оливковыми бородатыми лицами, огромными белыми глазами, похожие на разбойников, ясно видимые в потоках света.
Над ними сияла роза: не чрезвычайная по диаметру, как в Нотр-Дам де Пари, не беспримерная по изяществу, наподобие звездчатой розы в Амьене; она была массивнее, меньше, но в ней горели пламенем мерцающие цветы, прораставшие, как огненная камнеломка, через отверстия стены.
Тогда, повернувшись, Дюрталь посмотрел на пять больших проемов под южной розой, прямо напротив северных; и увидел, как по сторонам от Богородицы, сидящей напротив святой Анны, пылают, как торшеры, четыре евангелиста, которых несут на плечах четыре великих пророка: апостол Матфей сидит на Исайе, Лука на Иеремии, Иоанн на Иезекииле, Марк на Данииле; один другого диковинней, со зрачками, похожими на стекла бинокля, свисающими прядями волос, бородами, заплетенными, как древесные корни, кроме Иоанна, которого в латинском мире в Средние века всегда писали безбородым, указывая этим на его девственность. Но самым странным среди всех этих гигантов был, пожалуй, апостол Лука, который сидел верхом на Иеремии и тихонько почесывал ему, как попугайчику, лысую голову, подняв к небу задумчивые скорбные глаза.
Дюрталь сошел опять в темный неф, на его покатый пол: плиты укладывались в Средние века с наклоном, чтобы, когда схлынут ежегодные толпы паломников, их было легче мыть; его глазам открылся выложенный линиями белого камня и полосами синего лабиринт, завивавшийся спиралью, как часовая пружина; в былые времена отцы наши набожно проходили по этом месту; путь по лабиринту длился час, и все это время они читали особые молитвы, совершая таким образом воображаемое паломничество в Святую Землю ради отпущения грехов. Дойдя до порога, он обернулся и перед выходом оглядел сияющий храм весь в целом.
При виде грозного и прелестного собора Богоматери он чувствовал блаженство и ужас, становился не в себе.
Мог ли быть грандиозней и легче этот собор, коли вырос он из усилья души, сотворившей его по своему образу, рассказавшей в нем о восхождении на путях мистики! Вместе с ней он мало-помалу восходил во свете, переступал в трансепте жизнь молитвенную, а дойдя до алтарной части, воспарял в неприступном сиянье жизни соединительной, уже далеко отступив от жизни очистительной — темной дороги нефа. Это вознесение души сопровождали, вторили ему сонмы ангелов, апостолов, пророков и праведников, стоявших во славе, в пламенных телах своих, служивших почетной свитой кресту, что лежал на плитах, и образу Матери Божьей, восставленному на всех высотах этой огромной раки; они приоткрывали стены этого гроба, чтобы показать Ей в нескончаемом пиршественном дне букеты самоцветов, выращенные в огненных теплицах витражей.
Ни в одном другом месте Пречистую Деву так не осыпали хвалами, не лелеяли так, не объявляли самовластной хозяйкой поднесенного Ей удела; была одна подробность, которая это доказывала. Во всех соборах короли, епископы, святые, благотворители почивали в храмовых подземельях, но не в соборе Шартрской Богоматери; никто никогда не похоронил там мертвого тела, никогда эта церковь не становилась кладбищем, ибо, говорит старик Руйар, ее историк, «она имеет преимущественную честь быть ложем или покоем Матери Божией».
Итак, там Она была дома — царица, окруженная двором Своих избранников; и в алтаре особой капеллы, перед которой горели возжженные лампады, она охраняла таинственное Тело Своего Сына, пеклась о Нем, как в детстве Его; на всех скульптурах, на всех витражах Она держала Его на коленях; переходила с яруса на ярус, проходила шпалеры святых и, наконец, уселась на столпе, являясь малым сим и бедным в смиренном зраке жены, загоревшей под солнцем близ зенита, почерневшей от ветров и дождей; затем Она спустилась еще ниже, в самые подземелья Своего дворца и упокоилась в крипте, принимая там нерешительных и боязливых, устрашенных роскошью Ее солнечных парадных зал.
До чего же святилище это, где так и видишь присутствие кроткого и грозного Младенца, ни на шаг не отходящего от Матери, возносит вас над реальностью в тайную радость чистой красоты! И сколько благой воли нужно Ему и Ей, чтобы не покидать этой пустыни, не утомляться, поджидая посетителей! — думал дальше Дюрталь, оглядевшись и увидев, что он один. Не приходи сюда во всякий час славные сельские люди облобызать столп Богоматери, как бесприютно было бы здесь даже по воскресеньям: ведь собор никогда не полон людьми! Впрочем, справедливости ради признаем: на воскресной девятичасовой мессе нижняя часть нефа заполнялась. Он улыбнулся, припомнив, как набиваются в эту часть собора девочки из сестринских пансионов и деревень; им ничего не видно и трудно следить за службой, но они без суеты зажигали огарки свечей и читали подчас по одной книге на несколько человек.
В Шартре эта безыскусность, благочестивая наивность, которую жуткие парижские пономари никак бы не потерпели, были до того естественны, так подходили к простоте, отказу от церемоний, с каким Богородица принимала гостей!
Интересно еще, подумал Дюрталь, в мыслях которого произошел скачок, сохранил ли собор свою оболочку нетронутой, или прежде, в XIII веке, она была изукрашена живописью. Иные утверждают, будто в Средние века расписывались все церковные интерьеры; достоверно ли это? Допустим, для романских храмов это и так, но для готических? Мне, по крайней мере, хотелось бы представлять себе, что Шартрский храм никогда не был обезображен цветными разводами, которые приходится терпеть в парижской Сен-Жермен-де-Пре, в пуатевинском соборе Нотр-Дам-ла-Гранд, в брюггской церкви Христа Спасителя. И если уж так угодно, живопись можно еще представить в очень маленьких церковках, но размалевывать красками стены собора — зачем? Ведь такая татуировка уменьшает пространство, делает ниже своды, утяжеляет колонны; попросту говоря, она изымает таинственную душу нефа, пошлыми зигзагами, меандрами, ромбами, крестами по всем столпам и облитым грязно-желтой, бледно-зеленой, тускло-розовой, базальтово-серой, кирпично-красной красками стенам, всеми тусклыми и банальными оттенками, какие только есть на свете, убивает мрачное величие проходов; не говорю уже о кошмарных сводах, усеянных звездами, словно вырезанными из золотой бумаги и наклеенными на кричаще-синий фон!
Это, пожалуй, можно еще вынести в Святой Капелле: она крошечная, молельня, киот для мощей; это можно понять и в удивительной церкви в Бру, похожей на будуар: ее своды вместе с замковыми камнями многоцветные, позолоченные, а пол был вымощен обливными плитами, отчетливые следы которых сохранились около могил. Под стать этому и кружева на стенах, и прозрачные окна, окруженные пышным каменным геральдическим гипюром: цветочками маргариток, среди которых там и сям выложены девизы, вензеля, вервия святого Франциска, завитки; вся эта косметика подчеркнута алебастром заалтарного киота, черным мрамором надгробий, зубчатыми башенками с флеронами в виде листьев цикория и капустных кочешков; тут ничего не стоит представить себе расписные колонны и стены, отделанные золотом нервюры и рельефы, так что в целом получится гармония, ансамбль, красивая шкатулка, относящаяся, впрочем, больше к ювелирному делу, нежели к зодчеству.
Сооружение в Бру — последний памятник Средневековья, последняя ракета в фейерверке пламенеющей готики, готики обреченной, но не желающей умирать, борющейся против возврата язычества, против нашествия Ренессанса. Эра великих соборов завершилась этим прелестным недоноском, шедевром в своем роде: шедевром красивости, замысловатости, изгиба, изящества. Он символизировал душу XVI века, уже лишившуюся покоя; как и она, чересчур светлый храм рвался наружу, развивался, а не сосредотачивался, не опирался на себя. В каждом шве так и видишь, какой это был храм-игрушка, расписной и вызолоченный, где из крохотных капелл торчат печные трубы, чтобы Маргарита Австрийская за мессой не зябла, где словно разложены благоуханные подушечки и украшения, расставлены сласти, гуляют собачки. Бру — гостиная знатной дамы, а не общий дом. А потому — глянуть хотя бы на бирюльки и фестончики его амвона, раскинувшегося перед алтарем, как резные сени! — он прямо просится, чтоб по его чертам умело прошлись глазурью, подкрасили; это сделает его женственнее, совершенно уподобит его создательнице, принцессе Маргарите, о которой в этой небольшой церкви вспоминаешь больше, чем о Богородице.
Знать бы еще, на самом ли деле были расписаны столбы и стены в Бру: кажется, доказано, что нет; однако этот странный храм не обезобразился бы и под слоем румян, но Шартр совсем другое дело: ему подобает лишь одна окраска — толстая, холодная, серебристо-серая, желтовато-белесая; налет, остающийся от времени, от возраста, и к нему вдобавок конденсированные испарения молитв, дым свечей и кадильниц!
Углубившись в размышления, Дюрталь, как всегда, перешел к раздумьям о себе самом. Кто знает, говорил он себе, не пожалею ли я когда-нибудь горько-горько об этом соборе, о сладких мечтах, которые он навевает; ведь у меня не будет больше радости медленно бродить по нему, не будет этого отдохновенья: затворюсь в монастыре и буду жить по ефрейторским командам колоколов, отзванивающих монастырские послушания!
Как знать: быть может, в тишине кельи мне будет не хватать даже и диких криков неугомонно каркающих галок! — продолжал он, с улыбкой глядя на тучу птиц, опустившуюся на башни. Ему вспомнилась легенда: якобы после пожара 1836 года эти твари каждый вечер точно в тот час, когда загорелся собор, улетали оттуда, ночевали в лесу в трех лье от Шартра и возвращались только утром на заре.
Легенда такая же глупая, как и другая, которую очень любят городские кумушки: пожар будто бы начался от кровавого пятна, которое появляется, если в Страстную пятницу плюнуть на квадратный камень в полу за алтарем, заделанный черной замазкой!
— О, вот и госпожа Бавуаль!
— Да, это я, друг наш; бегала тут по батюшкиным делам, а теперь иду домой варить суп. Ну а вы чемоданы пакуете?
— Какие чемоданы!
— Так что ж вы, и в монастырь не едете? — засмеялась она.
— Да бросьте! — расхохотался и Дюрталь. — Сами посудите: каково это решиться вдруг стать подневольным солдатом в молитвенном строю, этаким рекрутом, у которого даже движения сочтены: не велят держать руки по швам, так велят не вынимать из-под рясы…
— Ай-яй-яй, — перебила служанка, — я ведь вам уже говорила: все вы сквалыжничаете, все торгуетесь с Богом…
— Но надо же взвесить все за и против прежде, чем принять такое решение; в таких случаях вовсе не грех немного и поволокитить в душе.
Она пожала плечами; лицо ее было так спокойно, а под черной водой глаз таился такой огонь, что Дюрталь застыл пораженный, восхищаясь прямотой и чистотой этой души.
— Как же вам хорошо! — воскликнул он.
По лицу г-жи Бавуаль пробежала тень, она опустила глаза:
— Никому не завидуйте, друг наш, у каждого свои недоумения и скорби.
Она ушла, а Дюрталь, направляясь к себе, думал о ее признании: что она потеряла Божью милость, что прекратились ее разговоры с небом, что ее душа, витавшая в облаках, упала на землю. Как ей, должно быть, больно!
Что ж, проговорил он, не все один мед на службе Господней! Почитать хоть жития святых: там сказано, как этих избранных мучили самые ужасные недуги, самые тягостные боренья; видать, не шутка быть святым на земле, да и жить не шутка! Правда, для святых страдания уже здесь, на земле, возмещаются несравненной радостью, но для прочих верующих, для нас — жалких тростинок, сколько в жизни горя, сколько нужды! Вопрошаешь вечное безмолвие, и не получаешь ответа; ждешь, и ничто не приходит; сколько ни убеждаешь себя, что Он есть Бесконечный, Неисповедимый, Неисследимый, что все пути нашего бедного ума тщетны, все равно никак не получается не тревожиться, а наипаче — не унывать! А ведь при том… ведь при том, если подумать, мрак, что нас окружает, не вовсе непроницаем; местами он освещен и можно разглядеть нечто верное…
Бог обращается с нами как с растениями; это в каком-то смысле год души, но такой год, где естественный порядок времен обращен: первое из духовных времен года — весна, за ней идет зима, а потом уже осень и лето. Момент обращения к Богу — весна; душа веселится, Христос сеет в ней семена свои; затем наступают холода и мрак; душа в страхе мнит себя оставленной и жалуется, но незаметно в испытаниях жизни очистительной под снегом прорастают семена; они всходят мягкой осенью созерцания и, наконец, зацветают в летнюю пору жизни единительной.
Это все правда, но каждый должен быть учеником Садовника своей души, каждый должен слушать наставления Учителя, дающего нам дневной урок и руководящего нашими трудами. Увы, мы уже не те смиренные работники Средних веков, что трудились во славу Божию, без спора покоряясь приказам хозяина; у нас, по маловерию нашему, выдохся молитвенный бальзам, иссякло всецелительное снадобье, и все нам кажется несправедливым и тяжким, и мы брыкаемся, требуем залогов, не спешим исполнить дело свое; мы бы хотели платы вперед — вот до какой низости довело нас неверие наше! Господи, Господи, дай нам молиться так, чтобы и в мыслях не иметь просить Тебя о задатке; дай нам послушания и молчания!
А еще, прошептал Дюрталь, улыбаясь г-же Мезюра, открывшей дверь на его звонок, дай мне, Боже мой, милость не выходить из себя от мушиного жужжанья, от вечной болтовни этой славной женщины!
XIV
— Что за муть, что за ералаш этот их зверинец добра и зла! — воскликнул Дюрталь и отложил перо.
С утра он занялся работой о символике фауны в Средние века; с первого взгляда ему казалось, что такое исследование будет поновей и полегче, во всяком случае покороче, нежели задуманная им прежде статья о немецких примитивах; теперь он в ужасе глядел на гору книг и блокнотов, ища путеводной нити, которая в ворохе противоречивых текстов никак не находилась.
Пойдем по порядку, подумал он, если только может быть в этом бедламе какой-то порядок.
В средневековом бестиарии были известны чудовища древности: сатиры, фавны, сфинксы, гарпии, онокентавры, гидры, пигмеи, сирены — все они для христиан были разновидностями злого духа; представления о них можно установить без всяких специальных разысканий: все это просто пережитки прошлого. А истинный источник мистической зоологии не в мифологии, а, конечно, в Библии, которая делит животных на чистых и нечистых, говорит о них, чтобы запечатлеть пороки и добродетели, в некоторых породах видит небесных духов, в других же бесов.
Встав на эту исходную точку, отметим, что литургисты различают живность и зверье: второе понятие обнимает тварей недобрых и диких, первое относится к животным с нравом кротким и боязливым, а также к домашнему скоту.
Заметим еще, церковные орнитологи сходятся в том, что птицы небесные суть праведники, а с другой стороны, Боэций{90}, которого писатели Средних веков часто переписывали, наделяет их непостоянством, святой же Мелитон{91} делает образом то Христа, то Сатаны, то иудеев; добавим также, что Ричард Сен-Викторский, не принимая во внимание эти мнения, видит в пернатых символ духовной жизни, а в четвероногих — телесной… И ничего это нам не дает, прошептал Дюрталь.
Не в этом дело. Нужно найти другую классификацию, более компактную, более четкую.
Естественнонаучная таксономия[69] здесь не поможет: у двуногих и рептилий в символическом репертуаре смысл часто один и тот же; проще всего средневековый зверинец разделить на два главных класса: реальные животные и чудовища; нет ни одного животного, которое не входило бы в одну из этих двух категорий.
Дюрталь подумал и продолжал:
— А впрочем, чтобы целое было яснее, чтобы лучше оценить значение, которое в католической мифографии придается тем или иным семействам, стоит извлечь из общего ряда таких животных, которые выражают мысль о Боге, Божьей Матери и о Сатане, отставить их, чтобы вернуться, когда они будут подтверждать другие комментарии; выделить надо и тех, что соответствуют евангелистам и входят в состав тетраморфа.
Сняв крышу с нашего загона для скота, мы сможем рассмотреть мелочь, описать образный язык, что использовался и для обычных зверей, и для необычных.
Эмблематическая фауна, связанная с Богом, многочисленна; в Писании множеству существ предназначено указывать на Христа. Царь Давид сравнивает Его с пеликаном в пустыне, с совой в гнезде, с одиноким воробьем на крыше, с оленем на водопое; Псалтырь — сборник аналогий Его качествам и именам.
С другой стороны, Исидор Севильский, святитель Исидор, как называли его натуралисты былых времен, воплощает Иисуса в агнце из-за невинности его, в барана, поскольку он вождь стада, и даже в козла по причине подобия Спасителя грешной плоти.
Иные видят Его портрет в быке, овечке, теленке — жертвенных животных; иные в животных — символах стихий: льве, орле, дельфине, саламандре, духах земли, воздуха, воды и огня; иные, как святой Мелитон, усматривают Его в козленке и лани, далее в верблюде, который, впрочем, по другой версии того же автора, персонифицирует любовь к пышности и жажду тщетной славы; есть и такие, что превращают Его в скарабея, как святой Эвхер, в пчелу, которую, однако, Рабан Мавр трактует как злого грешника; некоторые, наконец, в образах феникса и петуха выражают Его воскресение, а в виде носорога и буйвола — Его ярость и силу.
Иконография Богородицы не столь обильна. Дева Мария может славиться во всяком непорочном и благодушном создании. Английский аноним в «Иноческих определениях» именует Ее той самой пчелой, к которой, как мы только что видели, столь дурно отнесся епископ Майнцский, но прежде всего на Нее указывает голубка — птица, которой, пожалуй, более всего привержены творцы средневекового зверинца.
Согласно всем мистикам, голубь — образ Богородицы и Духа Святого. По святой Мехтильде, это простота сердца Иисусова; по Амалату Фортунарию и сому, он являет собой проповедников, деятельную жизнь в Боге, в противоположность горлинке открывающую нам жизнь молитвенную, потому что голубь стонет и летает стаями, а горлинка радуется одна в стороне.
У Брунона из Асти голубка — образец терпения, изображение пророков.
Наконец, адский бестиарий обширен до необозримости; в эту бездну свален весь мир зверей фантастических и зверей действительных: змея, библейский аспид, скорпион, волк, о котором говорит Сам Христос, леопард, обличенный святым Мелитоном как зверь Антихриста; тигр, чья самка воплощает грех гордыни; гиена, шакал, медведь, кабан, в Псалтыри разоряющий виноградник Господень; лиса, которую Петр Капуанский квалифицирует как лицемерного гонителя, а Рабан Мавр как столп ереси. Сюда не отнесены все другие хищники. Далее, свинья, жаба (орудие колдунов), козел — изображение самого Сатаны, кошка, собака, осел, в виде которого дьявол являлся в средневековых ведовских процессах; пиявка, заклейменная Клервоским анонимом; ворон, вылетевший из ковчега и не вернувшийся (он воплощает лукавство, голубь же, который вернулся, — добро, говорит святой Амвросий); куропатка, которая, согласно тому же автору, похищает и высиживает яйца, которых не снесла.
Если верить Теобальду, бес явлен также в пауке, ибо тот боится солнца, как лукавый — Церкви, и плетет свою паутину больше ночью, чем днем, подражая диаволу, который нападает на человека, зная, что тот сейчас спит и не может оборониться.
Наконец, князя тьмы передразнивают лев и орел; в этом случае они трактуются в дурном смысле.
В аллегорической фауне повторяется все то же, что и в символике растений и красок, рассеянно думал Дюрталь: повсюду у медали две стороны — в науке иероглифов постоянно имеется два противоположных значения, кроме, впрочем, раздела драгоценных камней.
Так, например, лев, именуемый святой Хильдегардой «образом ревности о Боге», он же — символ Сына Божия, у Гуго Сен-Викторского становится эмблемой жестокости. Физиологи, основываясь на текстах псалмов, отождествляют его с Люцифером; и действительно, он — тот лев, что ищет погубить души, лев, жаждущий добычи; у Давида его попирают вместе со змием, а Петр в первом апостольском послании говорит о льве рыкающем, ищущем поглотить ученика Христова.
То же и с орлом, из которого Гуго Сен-Викторский сделал эталон гордыни. Бруноном из Асти, святым Исидором, святым Ансельмом эта птица избрана как напоминание о Христе, ловце человеков, ибо он выслеживает с высоты небесной птиц, плавающих в воде, и ловит; между тем уже в Левите и Второзаконии орел упомянут среди птиц нечистых, да и просто как птица хищная он превращается в подобие дьявола, уносящего и рвущего на части души.
Короче говоря, всякое зверье, все плотоядные пернатые, все рептилии — воплощения преисподней, заключил Дюрталь.
Перейдем к тетраморфу. Животные евангелистов известны всем.
Характеристический знак Матфея, который развивает тему Боговоплощения и приводит земную генеалогию Спасителя, — человек.
У Марка, который особенно занят чудотворством Христа и меньше распространяется о Его учении, нежели о чудесах и воскресении, атрибут — лев.
Эмблема апостола Луки, который более всего говорит о добродетелях Христовых, о Его кротости, милосердии и подробней других останавливается на Его казни, — бык или телец.
Апостол Иоанн, возвещающий в первую очередь божество Слова, имеет в гербе орла.
И применения, даваемые быку, льву, орлу, совершенно согласуются с формой и личной целью каждого из Евангелий.
Ведь лев, символизирующий всемогущество, служит также и эмблемой Воскресения.
Все былые физиологи: святой Епифаний, святой Ансельм, святой Ив Шартрский, святой Брунон из Асти, святой Исидор, Адамантий — принимают легенду, согласно которой львенок после рождения три дня остается безжизненным, на четвертый же день пробуждается, слыша рык отца, оживает и выскакивает из логова. Так и Христос воскрес на третий день и вышел из гроба по зову Отца.
Существовало также поверье, что лев спит с открытыми глазами; таким образом он стал примером бдения, а святой Гиларий со святым Августином видели в этой манере отдыха намек на божественную природу, не умершую во гробе, в то время как человечество Господа Иисуса претерпело там истинную смерть.
Наконец, считали фактом, что зверь этот заметает хвостом свои следы в пустыне, а потому Рабан Мавр, святой Епифаний и святой Исидор толковали это как знак Спасителя, скрывшего Свое божество под телесным обличьем.
— О льве много интересного! — воскликнул Дюрталь. Гм, а вот насчет быка, пробормотал он, перелистав свои записи, все гораздо скромнее. Телец — образец силы и смирения; по апостолу Павлу, он воплощает в себе священника, по Рабану Мавру, проповедника, а по Петру Певчему, епископа, так как, пишет сей автор, прелат имеет на голове митру с двумя рогами, подобными бычьим, и служат ему эти рога, сиречь знание Ветхого и Нового Заветов, чтобы забодать еретиков. Но вообще, кроме этих довольно хитроумных толкований, бык всегда остается животным жертвенным, ведомым на заклание.
Что же до орла, то он, как мы уже сказали, есть Мессия, бросающийся на души и улавливающий их, но святой Исидор и Винцент из Бове приводят также другие версии. По их словам, орел, желая испытать своих орлят, цепляет их своими когтями и парит против солнца, приучая птенцов, чьи глазки только начинают открываться, смотреть на раскаленный диск светила. Если орленка ослепляет яркий блеск, отец, отрекаясь, бросает его. Так и Бог отторгает душу, не способную уставить на Него умные очи любви.
Кроме того, птица эта символизирует Воскресение; святые Исидор и Епифаний изъясняют это так:
В старости орел столь близко подлетает к солнцу, что перья его воспламеняются; гонимый огнем, он возвращается к источнику водному, трижды ныряет в него и вылетает омоложенным; не о том ли иными словами говорит и стих псалмопевца: «Обновится яко орля юность твоя»? Наконец, святая Маддалена Пацци смотрит на дело с другой стороны и видит в царе пернатых образ веры, опирающейся на любовь.
Что ж, вздохнул Дюрталь, все эти сведения надо будет поместить в статью. И он переложил выписки в отдельную папку.
Теперь посмотрим на химерическую фауну восточного происхождения, ввезенную в Европу крестоносцами и видоизмененную воображением книжных иллюминаторов и скульпторов.
Главный здесь дракон, который ползает и летает уже и в мифах, и в Библии.
Дюрталь встал и принялся искать на полках «Тератологические предания» Берже де Сивре; в этой книге приведены длинные выписки из романа об Александре, потешавшего взрослых детей в Средние века.
«Дракон, — повествует это сочинение, — больше и длиннее всех змей… Они летают по воздуху, и воздух портится, когда они испускают ядовитое зловоние… Яд их смертелен; итак, если он запятнает и коснется человека, тому покажется, будто горит он на жарком костре и кожа слезает с него большими пластами, словно его поджаривают». И далее: «Море от их яда вздувается».
У драконов есть гребень на спине и острые когти; они сипят, шипят и почти непобедимы. Впрочем, Альберт Великий утверждал, что есть и на них заклинатели; они громко стучат в барабаны, драконы принимают этот грохот за раскаты грома, которого побаиваются, и тогда их можно поймать и приказывать им.
Главный враг летучих рептилий — слон; иногда ему удается их раздавить, навалившись всей тушей, но чаще драконы убивают слонов и питаются их кровью: ее холод умеряет в них невыносимый жар собственного яда.
За этим чудовищем идет грифон, принадлежащий как к четвероногим, так и к пернатым: у него тело льва, а голова и когти орлиные; далее василиск, который считается царем змей: тело его толщиной в четыре фута, а хвост с белыми пятнами — с большое дерево. На голове у василиска хохолок в виде короны; голос у него пронзительный, а взгляд испепеляет. «Столь поражает взгляд его, — говорится в романе об Александре, — что он смертоноснее и пагубнее всех ядовитых и прочих зверей». Впрочем, и дыханье василиска столь же губительно и зловонно: от него «всякая вещь заражается, когда же он умирает и тухнет, воняет так, что все прочие звери бегут от него».
Самый страшный враг василиска — ласка; это «зверек маленький, как крыса», но может его задушить; итак, Бог ничего не создал без причины и без противоядия, заключает благочестивый средневековый автор.
Почему ласка? Об этом никаких сведений. Но наши отцы за такую услугу хотя бы почтили этого зверька благосклонным толкованием? Отнюдь нет.
Ласка — образец скрытности, испорченности, уподобляется скверным лицедеям. Надо еще упомянуть, что этот хищник, как считалось, зачинает через рот, а рожает через ухо, и в Библии причтен к животным нечистым.
Такая зоологическая гомеопатия, пожалуй, несколько непоследовательна, думал Дюрталь. Разве что подобие двух животных может означать вот что: дьявол сам себя пожирает.
Дальше следует феникс, «птица прекрасная перьями, похожая на павлина, жизнь ведет зело одинокую, питается же ясеневым семенем»; еще у феникса есть мантия золоченого пурпура, а поскольку он, как полагали, возрождается из пепла, эта птица неизменно почиталась символом Воскресения Христова.
Затем единорог — одно из самых удивительных созданий мистического естествознания.
«Единорог — зверь зело свирепый с телом большим и дебелым, наподобие коня; обороняется он рогом толстым, длиной в половину туаза, таким острым и твердым, что нет вещи, которой он не проткнет… Кто хочет его поймать, пусть приведет девственницу в известное место, где зверь этот пасется. Едва увидит ее единорог, коли девственна она, ляжет к ней на колени, зла же никакого не сотворит, и там уснет; тогда придут ловцы и убьют его… Коли же не девственна она, единорог нимало не приляжет рядом с ней, но убьет девицу порочную, девства не сохранившую».
Отсюда следует, что единорог относится к соответствиям непорочности, так же как и другое весьма удивительное животное, о котором поведал святой Исидор, — порфирион.
У него одна лапа, как у куропатки, другая же лапчатая, как у гуся; отличается он тем, что оплакивает супружескую измену и так любит хозяина, что, если узнает об измене его жены, от сострадания умирает у него на груди. Вот и вымерла эта порода очень скоро!
— Так-так, — шептал Дюрталь, снова роясь в бумагах, — посмотрим, нет ли у нас еще каких баснословных тварей.
Нашел он вивру, род феи, полуженщину-полузмею, зверя чрезвычайно свирепого, прелукавого и безжалостного, уверяет святой Амвросий{92}; нашел мантикора, у которого человеческое лицо, ультрамариновые глаза, малиновая львиная грива, хвост скорпиона и крылья орла; он ненасытен до человеческой плоти; леонкрот, рождаемый от самца гиены и львицы, имеет тело ослиное, ноги оленьи, грудину хищного зверя и верблюжью голову со страшными зубами; фаранда, по Гуго Сен-Викторскому, ростом с быка, голова у него при виде сбоку оленья, шерсть медвежья, и он меняет окраску подобно хамелеону; наконец, самый нелепый — морской монах: Винцент из Бове учит, что грудь у него покрыта чешуей, а вместо рук плавники, усеянные крючьями, голова с тонзурой, как у монаха, а морда вытянута в рыбью.
Есть в бестиарии и другие выдуманные чудища: взять, к примеру, хоть химер или гаргулий, ублюдочные создания, которые материализуют грехи, изблеванные, исторгнутые из места святого; они напоминают прохожим, изливая на них из глоток водопады грязных стоков, что вне Церкви нет ничего, кроме духовных нечистот и душевной клоаки! Все по верхам, думал Дюрталь, закуривая сигарету, но этого, кажется, хватит; да и вообще с точки зрения символики эта часть зверинца не особенно интересна; все эти монстры — что вивра, что мантикор, что леонкрот, что фаранда, что морской монах — одно и то же: все воплощают злого духа.
Он поглядел на часы. Ну что ж, решил он, до ужина есть еще время проглядеть некоторых настоящих животных. Он стал листать перечень птиц.
Петух, читал он, молитва, бдение, проповедник, Воскресение, потому что он первым пробуждается на заре. Павлин, которому, по словам одного средневекового автора, дан «дьявольский глас и ангельский хвост», допускает самые противоречивые мысли о себе. Он представляет гордыню, по Антонию Падуанскому — бессмертие, а бывает, опять же бдение, благодаря глазкам, которыми усеяны его перья. Пеликан — образ боговидения и милости, а по святой Маддалене Пацци — любви; воробей — уединение в покаянии; ласточка — грех; лебедь по Рабану Мавру — гордыня, а по Фоме из Катенпре — уединение и усердие; на соловья святая Мехтильда указывает как на боголюбивую душу, и та же святая уподобляет жаворонка тем людям, что с весельем творят благие дела; заметим еще, что в Бурже на витражах жаворонок, или джурбай, свидетельствует о вспоможении недужным.
А вот другие птицы, места которым отводит Гуго Сен-Викторский. У него коршун обозначает алчность, ворон — клевету, сова — ипохондрию, филин — невежество, сорока — болтливость, удод — нечистоту телесную и дурную славу.
Все это довольно путано, вздохнул Дюрталь, боюсь, с млекопитающими и с другими зверями будет то же самое.
Он подобрал вместе несколько листков. Бык, ягненок, овца — все они уже пристроены; барашек прообразует кротость, незлобие, а святой Пахомий{93} видит в нем воплощение монаха, точно исполняющего послушание и любящего братьев своих. А вот святой Мелитон приписывает страусу смысл лицемерия, носорогу — могущества века сего, пауку — бренности человеческой; добавим, кстати, что в классе членистоногих рак выражает ересь и синагогу, потому что пятится назад и отступает на пути блага. В ряду рыб кит — символ погребения, а вышедший из него на третий день Иона — символ воскресшего Иисуса Христа; среди грызунов бобр служит образом христианской осмотрительности, ибо, гласит легенда, когда его преследуют охотники, он вырывает зубами из себя карман с бобровой струей и швыряет в неприятеля. По той же причине он выражает собой евангельское изречение, предписывающее вырвать член, соблазняющий тебя и служащий к твоей погибели. Теперь подойдем к клетке с хищниками и задержимся перед ней.
По Гуго Сен-Викторскому, волк есть жадность, а лиса — лукавство; Адамантий видит в кабане ярость, а в леопарде — гнев, коварство и дерзость; гиена, произвольно меняющая пол и в точности подражающая голосу человека, — живой состав лицемерия, ну а барс, как показано святой Хильдегардой, по причине красоты своей пятнистой шкуры служит знаком тщеславия.
Ни к чему сейчас обращать особое внимание на быка, тура и буйвола: все посвященные помещают в них грубую силу и гордость; козел и свинья — ну, это сосуды похоти и всяческой нечистоты.
С ними эту честь делит жаба — мерзкая тварь, одежда дьявола, который принимает ее облик, когда является святым, например, святой Терезе. Что же до ни в чем не повинной лягушки, к ней было такое же дурное отношение, как и к жабе, из-за сходства двух амфибий.
Гораздо лучше репутация оленя: у святого Иеронима и Кассиодора{94} это пример христианину, побеждающему грех покаянием или мученичеством. В псалмах олень — изображение Бога; он же — язычник, желающий святого крещения; наконец, легенда приписывает ему яростную ненависть к змею, то есть к дьяволу: он-де нападает на змей, где ни встретит, и пожирает их, но умирает, если затем три часа останется без питья; поэтому после такой трапезы тотчас же бежит в лес в поисках водного источника, утоляет жажду и становится моложе на несколько лет. На козу подчас смотрели дурно, смешивая с козлом, но чаще козочка обозначала Возлюбленного из Песни Песней, так как с ней Его сравнивает Невеста. Еж, прячущийся в норах, по святому Мелитону, подражает грешнику, а по Петру Капуанскому — кающемуся. Далее, конь отмечен Петром Певчим как существо тщеславное и превозносящееся, в противоположность быку, который весь — серьезность и простота. Но не следует все же забывать, что вопрос этот запутан, потому что святой Эвхер смотрит на коня совсем в другом свете, уподобляя его святому, а вот аноним Клервоский и коня, и быка отождествляет с Сатаной. Ничуть не лучше относится Гуго Сен-Викторский к несчастному ослу: он наделяет его глупостью, Григорий Великий — леностью, а Петр Капуанский обвиняет в похотливости; впрочем, надо заметить, что святой Мелитон по причине ослиного смирения связывает его с Христом, а экзегеты утверждают, что ослятя, на котором Господь въехал в Иерусалим, служит образом язычников, ослица же, родившая его, изображает иудеев.
Наконец, два любезных человеку домашних животных, собака и кошка, мистиками обычно причтены к презренным. Пес — подобие греха, говорит Петр Певчий, зверь свады, животное, возвращающееся на свою блевотину; он обозначает также нечистых из Апокалипсиса, которые не войдут в небесный Иерусалим. Святой Мелитон дает ему имя отступника, а святой Пахомий называет иноком алчным, однако Рабан Мавр несколько смягчает осуждение: он приравнивает пса к исповедующемуся.
Кошка же, которая в Библии появляется лишь раз, в книге Варуха, натуралистами прежних времен отметается неизменно как образец предательства и лицемерия; она обвиняется в том, что продает свою шкуру дьяволу, дабы тот в ее образе являлся колдунам.
Дюрталь перевернул еще несколько страниц; он убедился, что заяц свидетельствует о робости и боязливости в той же мере, как улитка — о лени; выписал мнение Адамантия, который вменяет обезьяне в вину легкомыслие и насмешничество, точку зрения Петра Капуанского и анонима Клервоского, которые твердо убеждены, что ящерица, ползающая по стенам и прячущаяся в щелях, такой же символ зла, что и змея; еще он отметил особый смысл, указанный Христом гадюке, — неблагодарность (ведь именно так он отзывается о роде Израилевом). Второпях одевшись, чтобы не заставлять ждать аббата Жеврезена, у которого в тот день ужинал вместе с аббатом Пломом, Дюрталь сбежал по лестнице — за ним гналась г-жа Мезюра, непременно желавшая лишний раз обмахнуть его платье щеткой, — и пошел к другу.
Г-жа Бавуаль открыла дверь; из-под сбившегося набок колпака торчали растрепавшиеся волосы, рукава на загорелых руках были засучены, щеки разрумянились от кухонного жара. Она призналась, что готовит говядину по-модному, полив ее студнем из телячьей ноги с добавлением умеренной дозы коньяка, и тут же исчезла: ее срочно призывала кастрюлька, из которой уже выкипала вода, да и кот, запрыгнувший на раскаленные камни плиты, яростно орал.
Дюрталь увидел аббата Жеврезена, совсем разбитого ревматизмом, но, как всегда, терпеливого и веселого. Они поговорили о том о сем; заметив, что Дюрталь поглядывает на кусочки какой-то резины, разбросанные по письменному столу, аббат сказал:
— Это ладан из кармельской обители в Шартре.
— Правда?
— Видите ли, у кармелитов обыкновение использовать только настоящий, самородный ладан. Вот я и взял у них эти остатки, чтобы заказать благовоние такого же качества для нашего собора.
— А что, в других местах он поддельный?
— Да-да, ладан бывает в продаже трех видов: мужеский ладан, самый лучший, если только без подмеса; ладан женский, где уже много таких красноватых вкраплений, сухих комочков, так называемых орешков; и порошковый ладан: это по большей части просто смесь плохой резины с бензоем.
— А у вас какой?
— Мужеский. Видите эти продолговатые слезки, почти прозрачные капельки бесцветной амбры; никакого сравнения с тем, которым пользуются в соборе! Тот землистый, ломкий, весь крошится; можно биться о какой угодно заклад, что орешки в нем — не жемчужинки чистой смолы, а зерна извести.
— Знаете ли, — заметил Дюрталь, — эти предметы наводят меня на мысль о символике ароматов: существовала ли такая?
— Думаю, да, но, конечно же, самая простая. Ароматических веществ, которыми пользуются в богослужении, всего четыре: ладан, смирна, бальзам и фимиам, но последнее благовоние, смешанное из нескольких составляющих, совсем вышло из употребления.
К чему они относятся, вы знаете. Ладан есть божество Сына; наши молитвы к Всевышнему исправляются перед ним, яко кадило, говорит псалмопевец. Смирна — это покаяние, страдальческая земная жизнь Христа, смерть Его, а кроме того, по Олье, Богородица, исцеляющая души грешных, как смирна, не дает загнивать ранам. Бальзам то же, что добродетель. Но если запахов литургических мало, то испарения мистические бесконечно многообразны; вот только нам почти что ничего о них не известно.
Знаем мы только то, что запах святости противоположен запаху сатанинскому, что многие избранные при жизни и по преставлении источали ароматы, не поддающиеся анализу, как то: Маддалена Пацци, святой Стефан из Мюре, святой Филипп из Нери{95}, святой Патерниан, святой Омер, достопочтенный Франсуа Олимп, Жанна де Матель и многие-многие другие!
Мы знаем еще, что грехи наши воняют, причем по-разному, смотря по их природе; доказывает это, что святые определяли состояние совести, просто понюхав тело. Припомните святого Иосифа из Купертино{96}, который, встретив грешника, кричал: друг мой, ты очень плохо пахнешь, поди скорей помойся!
Возвращаясь к запаху святости, скажу, что у иных людей он становится почти естественным, очень похожим на известные нам ароматы.
Так, святой Тревир благоухал букетом, составленным из роз, лилий, бальзама и ладана; святая Роза из Витербо{97} пахла розой, святой Гаэтан — флердоранжем, святая Екатерина Риччи — фиалкой, святая Тереза — то лилией, то жасмином, то ирисом, святой Фома Аквинский — ладаном, святой Франсуа де Поль — мускусом; называю вам их наугад, кто припомнился.
— Да-да, а святая Лидвина в болезнях источала запах, связанный также и со вкусом. Язвы ее возгоняли дымок, приправленный пряностями, и выделяли самый главный сок обыденной жизни Фландрии: утонченную эссенцию корицы.
— Напротив того, в Средние века все знали, как воняют колдуны. В этом сходятся все экзорцисты и демонологи; почти всегда сообщается и о том, что в кельях после посещения беса оставался отвратительный запах серы, даже если святому удавалось прогнать его.
Но о самом коренном запахе сатаны повествует житие Кристины Штумбельской. Известно ли вам, каким скатологическим испытаниям дьявол подвергал эту святую?
— Нет, господин аббат, неизвестно.
— Ну так я вам расскажу: полный отчет об этих атаках приведен у болландистов; они включили в свои анналы жизнеописание этой затворницы, написанное ее исповедником доминиканцем Петром Дакийским.
Кристина родилась в первой половине XIII века, кажется, в 1242 году, в Штумбеле, или Штоммельне, под Кельном.
С самого детства злой дух преследовал ее. Он пускался на все хитрости; являлся ей в виде петуха, быка, в образе апостола; напускал на нее вшей, засыпал ее постель червями, бил до крови, но не мог добиться от нее отречения от Бога, и тогда придумывал новые мучения.
Он превращал пищу, которую она подносила ко рту, в жаб, змей, пауков и отвратил ее от всякой пищи, так что она стала чахнуть.
Кристину непрестанно рвало; она взывала к Богу о помощи, но Бог молчал.
Впрочем, для поддержания жизни ей оставалось святое причастие. Враг знал об этом и придумал, как лишить ее этого подспорья: он показывался в виде этих же гадов, сидя на гостии. Наконец, чтобы совсем сломать ее, он решил, превратившись в огромную жабу, угнездиться прямо на груди у девушки. Сначала Кристина от страха лишилась чувств, но тут уже Бог вмешался; по слову Его, она обернула руку рукавом, просунула жабе под брюхо, с силой оторвала от груди и бросила оземь. Жаба, говорит святая, разбилась со звуком старого башмака.
Преследования такого рода продолжались до адвента 1268 года, а начиная с этого времени начались фекальные штуки.
Петр Дакийский рассказывает, что однажды вечером отец Кристины пришел к нему в монастырь в Кельне и умолял пойти скорее с ним: Сатана страшно искушает его дочь. Брат Петр отправился в Штумбель вместе с еще одним доминиканцем, братом Випертом, а там в домике, на который напал бес, они встретили местного приходского священника, бенедиктинского приора из Брунвильре преподобного отца Готфрида и келаря того же монастыря. Все они были в нечистотах, Кристина же, по словам монаха, была вымазана ими с ног до головы; причем, добавляет он, замечалась такая странность: вещество это было теплым, но Кристину жгло до пузырей на коже.
Это испытание продолжалось три дня. В конце концов брат Виперт счел своим долгом прочесть молитвы об изгнании беса, но тут комнату потряс ужасный шум, свечи погасли, а монаху в глаз угодило что-то твердое, так что брат Виперт закричал: «Ой беда, я окривел!»
Его на ощупь вывели в соседнее помещение, где сушилась сменная одежда и все время кипятилась вода для мытья. Доминиканца отчистили, промыли глаз, который, в общем-то, особо не пострадал, и он вернулся в комнату, чтобы вместе с двумя бенедиктинцами и Петром Дакийским служить утреню. Но не началась еще служба, как монахи, подойдя к ложу несчастной, в изумлении молитвенно сложили руки.
Она по-прежнему была покрыта навозом, но все кругом переменилось. Нечеловеческое зловоние превратилось в ангельское благоухание; смирение и святость Кристины одолели мучителя, и все поспешили благодарить Бога. Что скажете про такую историю?
— Повесть, что говорить, поразительная. А есть другие случаи употребления помета адскими силами?
— Да, есть: век спустя аналогичные события случились с Елизаветой из Ройта и с блаженной Бетой. И там сатана шутил над ними подобным же образом: облегчался близ ложа блаженной, забрасывал своим пометом пол и покрывал им стены. Можно и в наше время заметить, что нечто подобное случалось с Арсским кюре…
— Но никакого развития символики запахов я в этом всем не вижу, — перебил Дюрталь. — Во всяком случае, поле здесь тесное или непонятное, а число ароматов, которые можно упомянуть, весьма невелико.
Есть у нас вещества, означенные в Ветхом Завете, прообразующие Богородицу; некоторые из них принимаются и в другом смысле, как то нард, кассия и кинаммон; первый говорит о силе души, вторая — о святом учении, а третий — о благоухании добродетелей; есть еще кедровый запах, в XIII веке отличавший учителей Церкви; три благовония литургических: ладан, смирна, бальзам; наконец, аромат святости, у некоторых святых поддающийся точному определению, и демонская вонь, от животного гниения до тухлых яиц и серы.
Дальше надо было бы проверить, не согласуется ли запах, присущий тому или иному святому, с его достоинствами или делами, им совершенными; кажется, это именно так, если заметить, что Фома Аквинский, сложивший дивную песнь святому причастию, источал аромат ладана, а святая Екатерина Риччи, бывшая примером смирения, пахла фиалкой — эмблемой этой добродетели. Однако…
Тут вошел аббат Плом. Дюрталь вкратце пересказал ему разговор о мистической осмологии, и тот сказал:
— Но, говоря о сатанинских запахах, вы забыли главное.
— Как забыл, господин аббат?
— Ну как же: вы не принимаете во внимание мнимо приятных запахов, распространяемых врагом; ведь его мерзостные вони бывают двух родов: одни отдают испражнениями и гнилостью, другие передразнивают запахи святости приятными испарениями соблазна. Так поступал лукавый, соблазняя Доминика де Гусмана: он окутывал его отборными благовониями, надеясь таким способом внушить ему тщеславные мысли; то же было с Иорданом Саксонским{98}, издававшим приятный запах, совершая литургию. Бог показал ему, что это явление дьявольской природы, и с тех пор оно прекратилось.
Наконец, мне приходит на память занятный анекдот Кверцетана об умершей любовнице Карла Великого. Король обожал ее и все не решался предать земле ее тело, которое, разлагаясь, издавало запах фиалок и роз. Осмотрели труп и увидели, что во рту у нее кольцо. Кольцо вынули — бесовское наваждение тотчас рассеялось; тело провоняло, и Карл позволил похоронить его.
К этому приятному, завлекающему дьявольскому запаху можно прибавить еще другой, который, напротив, зловонен и имеет целью раздражить верующего, помешать ему молиться, удалить от ближнего, а по возможности и заставить впасть в отчаянье; одним словом, вонь, которой проклятый владыка пронизывает организм, относится к разряду запахов соблазна, но внушающих искушаемому не гордыню, а слабость и страх. Ну вот, а между тем у меня для вас кое-что другое есть, — обратился аббат к Дюрталю. — Вот я выписал вам несколько названий для этюда о смысле животных в Средние века. Читали ль вы «О зверях и о прочем» Гуго Сен-Викторского?
— Читал.
— Коли так, вы еще можете посмотреть Альберта Великого, Варфоломея Гланвильского, Петра из Брессюира; а вот на этой бумажке я выписал ряд бестиариев: Хильдеберта, Филиппа Таннского, Вильгельма Нормандского, Вальтера Мецкого, Рикарда Фурнивальского, только вам придется съездить в Париж заказать их в библиотеке.
— А толку большого все равно не будет! — воскликнул Дюрталь. — Когда-то я листал большинство этих сборников; там нет ничего, что могло бы мне пригодиться с точки зрения символики. Все это просто баснословные описания животных, сказания об их происхождении и нравах; «Солемский Спицилегий» и «Аналекты дома Питры» гораздо познавательнее. Вот у них, у святого Исидора, святого Епифания и у Гуго Сен-Викторского и находится шифр образного языка чудовищ.
Тут как и везде: со времен Средневековья на французском языке не написано ни одного подробного труда о символике, ибо сочинение аббата Обера об этом предмете — обман. По поводу флоры вы будете тщетно искать серьезное руководство, хотя бы намекающее на церковные свойства растений. Разумеется, я отбрасываю дурацкие книжонки для влюбленных под названием «Язык цветов», что лежат на набережных рядом с «Совершенной кухаркой» и «Толкователем снов». То же о красках — ни про адские, ни про богоугодные цвета не написано ничего по-настоящему документированного: ведь трактат Фредерика Порталя с точки зрения христианской хроматики ничего не стоит. Для толкования картины Фра Анджелико мне пришлось покопаться в мистиках, там и сям находя у них, какое значение они приписывали разным тонам; я вижу, что и для этюда о церковной фауне придется применить тот же метод. Да и нечего дожидаться, в общем-то, специальных толстых томов: вылавливать смыслы надо прежде всего в первоисточниках науки о символах, в Библии и в богослужении. Вот, кстати, господин аббат, вы ничего не могли бы мне сказать о библейском Велиаре?
— Могу; теперь мы с вами…
— Все уже подано, с вашего позволения, — вставила слово г-жа Бавуаль.
Аббат Жеврезен благословил трапезу; съели суп, служанка принесла говядину с морковью. Она оказалась нежной, сытной, до самых глубоких прожилочек впитавшей густой крепкий соус.
— А у траппистов, друг наш, вы небось такого не едали, — заметила г-жа Бавуаль.
— Такого-то превосходного мяса ни в каком ордене не найдешь, — подтвердил аббат Плом.
— Не нагоняйте же на меня заранее тоску! — со смехом взмолился Дюрталь. — Дайте поесть с удовольствием… Всему свое время…
— Так что же, — вернулся к разговору аббат Жеврезен, — вы так и решили послать в «Ревю» труд о животных аллегориях?
— Да, господин аббат.
— Я для вашего замысла отобрал тут по работам Фийона и Лезетра ошибки библейских переводов, присудивших реальным животным химерические имена, — сказал аббат Плом. — В коротких словах, вот что вышло из моих разысканий.
В Святом Писании нет никакой мифологической фауны. Еврейский текст был искажен переводившими его на греческий и латынь, и странные имена зверей, смущающие нас в некоторых главах книг Иова и Исайи, сводятся к простому перечню хорошо известных животных.
Так, онокентавры и сирены, о которых говорит пророк, если посмотреть употребленные там еврейские слова, окажутся обыкновенными шакалами. Ламия — вампир в образе женщины-змеи, подобный вивре, — это ночная птица, сыч или сова; мохнатые сатиры и фавны, о которых говорится в Вульгате, при ближайшем взгляде становятся не чем иным, как дикими козлами: «ширим» называются они на языке Моисея.
Тварь, много раз упоминаемая в латинской библии под именем дракона, в оригинальном тексте именуется разными словами; иногда термины эти обозначают змею либо крокодила, иногда шакала или кита; наконец, пресловутый библейский единорог — всего-навсего древний бык или зубр, изображавшийся на ассирийских барельефах; теперь эта порода вымерла, сохранившись только в дебрях Литвы и Кавказа.
— Ну а Бегемот с Левиафаном, упомянутые в книге Иова?
— Слово behemot по-еврейски имеет постоянное множественное число и обозначает могучего огромного зверя вроде носорога или гиппопотама. Что же до левиафана, то это колоссальная рептилия, гигантский удав.
— Жалко, — воскликнул Дюрталь, — вымышленная зоология куда как интереснее! Погодите, — перебил он сам себя, отведав странных зеленых тефтелек, — это какая-то травка?
— Отварные одуванчики, мелко порубленные и слепленные на топленом сале, — ответила г-жа Бавуаль. — Вам понравилось, друг наш?
— Очень. Ваши одуванчики так относятся к огородному шпинату и цикорию, как дикая утка к домашней или заяц к кролику; ведь и вправду культурные растения обычно плоски и заурядны, а вот у тех, что растут в чистом поле, есть такой вяжущий привкус, теплая горчинка. Вы, госпожа Бавуаль, подали нам дичь из трав!
— Я думаю, — сказал размышлявший тем временем аббат Плом, — что можно составить список животных подобий смертных грехов, как мы когда-то пытались сделать с растениями.
— Несомненно, и при том также без всякого труда. Гордость по Винценту из Бове особо выражается через быка, павлина, льва, орла, коня, лебедя, онагра.
Сребролюбие — через волка и, по Теобальду, паука; для сладострастия у нас козел, свинья, жаба, осел, а еще муха, которая, по слову Григория Великого, напоминает о неотступных блудных помыслах; для зависти коршун и сова; для чревоугодия поросенок и пес; для гнева лев и кабан, у Адамантия — леопард; для лености — гриф, улитка, ослица, Рабан Мавр добавляет лошака.
Что же касается добродетелей, противоположных этим грехам, то смирение можно передать через быка и осла, непопечение о мирских благах через пеликана — символа молитвенной жизни; целомудрие через голубку и слона (правда, эта версия Петра Капуанского опровергается прочими мистиками, которые обвиняют слона в гордыне и называют «преогромным грешником»); милосердие у нас — жаворонок и пеликан; воздержание — верблюд, но если на него глядят иначе, то он под именем дромадера говорит о крайнем безумии; бдение выражают лев, павлин, муравей, упоминаемый аббатисой Геррадой и Клервоским анонимом, а особенно петух, которому это значение приписывают святой Евхер{99} и все символисты.
Добавим, что голубь соединяет в себе все эти качества: это синтез всех добродетелей.
— Да, лишь его и агнца диавол оставляет в покое, не смея принимать их облик, и никогда голубю не приписывалось ничего дурного, — заметил аббат Жеврезен.
— Эту черту голубь делит с белым и голубым цветами — теми, что не подчиняются закону контрастов и не соответствуют обозначению никакого порока, — ответил на это Дюрталь.
— Голубь, — воскликнула г-жа Бавуаль, меняя тарелки, — играет дивную роль в истории Ноева ковчега! Друг наш, друг наш, послушайте, тут надо знать, что говорила матушка Матель!
— И что же, госпожа Бавуаль?
— Блаженная Жанна прежде всего утверждает, что первородный грех вызвал в человеческой природе потоп грехов, и только Приснодева была избавлена от него Отцом, избравшим Ее как свою единственную голубку.
Затем она повествует, что Люцифер, роль которого играет ворон, бежал из ковчега в форточку свободной воли; тогда Бог, от века обладавший Марией, открыл окно Своей промыслительной воли и из собственного лона, из ковчега небесного, послал девственную голубку Свою на Землю. Там Она сорвала оливковую ветвь Своей милости, полетела назад в небесный ковчег и поднесла эту ветвь за весь род человеческий; потом умолила Всеблагого, чтобы сошел потоп греховный, и попросила божественного Ноя выйти из ковчега в эмпиреях; и тогда, не оставляя лона Отца, с Которым неразделен, вышел Он…
— И Слово плоть бысть, и на земли явися, и с человеки поживе, — заключил аббат Жеврезен.
— Так или иначе, Ной как прообраз Слова Воплощенного — это любопытно, — сказал Дюрталь.
— А еще животные встречаются в иконографии святых, — продолжал аббат Плом. — Вот что припоминается: осел посвящен святому Марселю, Иоанну Златоусту, Герману, Аутберту, святой Франциске Римской и другим; олень — святым Губерту и Регулу; петух — святым Ландри и Виту; ворон — святым Бенедикту, Аполлинарию, Винценту, Иде и Экспедиту; лань — святому Генриху; волк — святому Ваасту, Норберту, Ремаклию, Арнольду; паук — отличительный знак святых Конрада и Феликса Ноланского; собака — святых Годфрида, Бернарда, Рока, святой Маргариты Кортонской, а с зажженным факелом в зубах — святого Доминика; оленуха знаменует святого Эгидия, святого Льва, святую Женевьеву Брабантскую, святого Максима; поросенок — святого Антония; дельфин — святых Адриана, Лукиана, Василия; лебедь — святых Катберта и Гуго; крыса — святого Гонтрана и святую Гертруду; бык — святого Корнилия, святого Евстахия, святого Гонория, святого Фому Аквинского, святую Луцию, святую Бландину, святого Силвестра, святого Себальда, святого Сатурнина; голубь — достояние святых Григория Великого, Ремигия, Амвросия, Гилария, Урсулы, Алдегонды, святой Схоластики, дух которой возлетел в этом виде на небо…
И этот список можно длить до бесконечности; вы в своем сочинении скажете об этих спутниках святых?
— Вообще-то в большинстве своем эти атрибуты восходят не к символике, а к истории и агиографии, так что специально заниматься этим я не намерен.
Все замолчали. Аббат Плом смотрел на собрата, потом вдруг повернулся к Дюрталю:
— Я через неделю еду в Солем и твердо сказал преподобному отцу аббату, что возьму вас с собой.
Аббат увидел, что Дюрталь смущен, и улыбнулся:
— О, я же вас там не брошу, разве что вы сами решите в Шартр не возвращаться; я предлагаю вам просто погостить, подышать монастырским воздухом, покороче узнать бенедиктинцев, изведать, так сказать, на ощупь, как они живут…
Дюрталь в ужасе молчал, потому что простое предложение пожить несколько дней в келье внезапно пробудило в нем дикую, странную мысль: согласившись, он сыграет ва-банк, рискнет на последний шаг, примет перед Богом в некотором роде обязательство осесть близ Него, окончить у Него свои дни…
И вот что примечательно: эта мысль была столь властной, столь всезахватывающей, что не допускала никакого рассуждения, лишала Дюрталя привычных средств обороны, оставляла его безоружным на милость неизвестно чего. Мысль, ни на чем не основанная, не останавливалась на Солеме, не относилась именно к нему: в этот миг ему было безразлично, куда он направится; вопрос был не в том, поддаваться ли смутным побуждениям, слушаться ли невысказанного, но несомненного повеления, давать ли задаток Богу, Который, казалось, его хлестал, ничего не объясняя…
И Дюрталь ощущал себя безысходно скованным; гласом безглагольным ему было велено тотчас же определиться.
Он пытался бороться, рассуждать, взять себя в руки, но не было сил; ему казалось, что сердце его замерло, что тело хотя и не упало наземь, но душа от страха и усталости понемногу лишается чувств.
— Это же чушь, — крикнул он, — совершенная чушь!
— Что такое, что с вами? — всполошились разом оба священника.
— Ничего, простите, пожалуйста.
— Вы нездоровы?
— Нет-нет, ничего.
Наступило неловкое молчание; Дюрталь счел за благо прервать его первым.
— Вам случалось, — начал он, — вдыхать закись азота, усыпляющий газ, которым пользуются в хирургии для небольших операций? Нет? Так вот, от него голова начинает гудеть, потом как будто шумит водопад, и в этот миг теряешь сознание; со мной происходит то же самое, только все эти явления не в голове, а в душе; она ослабла, ошеломлена, вот-вот ей станет дурно…
— Надеюсь, — сказал аббат Плом, — вас так потрясла не перспектива поездки в Солем?
Дюрталь не посмел сказать правду; он испугался, что признанье в подобном приступе страха будет смешно, и только невнятно мотнул головой, чтобы не отвечать ни да, ни нет.
— Но мне странно, с чего бы вам так колебаться; вас же там примут с распростертыми объятьями. Отец аббат истинно достойный человек, притом нимало не враг искусства. Наконец — я полагаю, что это все решит и успокоит вас, — он очень простой и добрый монах.
— Но мне же статью заканчивать!
Священники рассмеялись:
— Да у вас на вашу статью еще целая неделя!
— И еще, — с трудом выговорил Дюрталь, — чтобы отправиться в монастырь с пользой, нельзя прозябать в таком сухосердии и рассеянии, как я…
— Святые тоже не всегда избегали рассеяния, — отозвался аббат Жеврезен. — Свидетельство тому — монах, о котором рассказывает Таулер; выходя майским днем из кельи, он всегда накрывался капюшоном, чтобы вид весенней природы не мешал ему созерцать свою душу.
— О, друг наш, Господь Всемилостивый всегда, как говорит достопочтенная Жанна, пребудет нищим, ожидающим у дверей нашего сердца; так вы окажите Ему милость, откройте Ему! — воскликнула г-жа Бавуаль.
И Дюрталь, отброшенный со всех своих позиций, наконец сдался общим пожеланиям, но был явно огорчен: ему никак не удавалось прогнать безумную мысль, что согласие предполагает с его стороны какой-то обет перед Богом.
XV
Потом эта мысль, несколько минут неотступно осаждавшая его, как показалось, развеялась, так что на другой день осталось лишь удивленье: с чего это он так без причины смутился. Он пожимал плечами, но все же в глубине души глухо волновалась невнятная боязнь. Не была ли та мысль, по самой абсурдности своей, из числа предчувствий, которые подчас испытываешь, сам не понимая почему; не была ли она, хоть внутренний голос и не давал ясно изложенных приказов, признанием самому себе, тайным, но прямым советом следить за собой, не смотреть на эту поездку в монастырь как на увеселительную прогулку?
— Да что ж это! — воскликнул наконец Дюрталь. — Когда я ехал к траппистам для великого омовения, меня и тогда не преследовали подобные опасения; потом я несколько раз туда возвращался для поверки совести, и никогда у меня не было идеи, будто я всерьез могу затвориться в обители; а нынче речь идет о недолгой поездке в монастырь бенедиктинцев, и я весь дрожу, всё артачусь!
Что за вздор это смятение! Э, не такой уж и вздор, вдруг прервал он сам себя. Отправляясь в Нотр-Дам де л’Атр, я был уверен, что там не останусь: я же не мог выдержать более месяца сурового устава, так и нечего было бояться; теперь же, перед посещением бенедиктинского аббатства, где порядки помягче, у меня такой уверенности нет.
А раз так… Хорошо же! Надо когда-нибудь определиться, узнать, какое у меня нутро, проверить, чего стоят мои векселя, на что я способен и до какой степени крепки мои узы.
Несколько месяцев тому назад я только и мечтал что об иноческой жизни, и это верно, а вот теперь сомневаюсь. Порывы мои ненадежны, устремления неверны, пожелания тщетны; я хочу и не хочу. А надо, очень надо прийти к согласию с собой, но какой толк делаться колодезником своей души, когда я спускаюсь туда и нахожу лишь пустую тьму и хлад?
Я начинаю думать, что, вглядываясь в эту ночь, становлюсь подобен ребенку, который уставился широко раскрытыми глазами во тьму; кончается тем, что я сам себе придумываю призраки, сам создаю себе страхи; с выездом в Солем все именно так и есть, ведь нет никаких, совсем никаких оправданий для моей паники.
Как все это глупо, насколько проще было бы жить, а главное, устроить жизнь, если поминутно не оглядываться!
Вот оно, произнес он, подумав: причина вражьих происков стала понятна; до такого состояния меня довели озабоченность, недоверие к Богу и малость любви моей.
Со временем эти недуги и породили болезнь, которой я стражду теперь, — глубокую душевную анемию; и она еще осложнена страхом больного, который знает о природе своей хворобы, но к тому же преувеличивает его.
Ну вот и итог моей жизни в Шартре!
Сильно ли отличается такое состояние от того, что было со мной в Париже? О да: фаза, через которую я прохожу, совершенно противоположна той, которую переживал прежде; в Париже душа моя была не засушлива, не рассыпчата, а мягка и влажна; она омылялась, впитывала внешнее; словом, я расплывался в унынье, и оно, возможно, было еще мучительней, чем нынешнее зачерствение в сухости; но, если приглядеться, симптомы изменились, а недуг остается и не проходит; что уныние, что сухосердие — результат один.
Вот только не странно ли, что теперь духовная анемия проявляет себя такими противоречивыми признаками? Ведь, с одной стороны, я испытываю усталость, упадок сил, утомление от молитвы; я ее проговариваю так дурно, что она мне кажется пустой и тщетной; хочется послать все подальше, замолчать, дождаться возвращения духовного рвения, хоть и не надеюсь дождаться; с другой стороны, в то же самое время я ощущаю глухую, упорную работу, незримое прикосновенье, потребность в молитве, чувствую, что Бог зовет меня держаться в форме. И бывают такие минуты, что я, кажется, и отдаю себе отчет в своей неподвижности, но тут же мне сдается, что меня сдвинуло с места и уносит широким потоком.
Да так оно почти что и есть. Когда я в таком безысходно-неприкаянном состоянии духа принимаюсь читать какое-нибудь сочинение высокой мистики: святую Терезу, святую Анджелу, — неприметное прикосновенье становится осязаемей; я чувствую мятущие меня порывы, воображаю, будто душа опять обрела здоровье, стала моложе, дышит вольней; когда же хочу, пользуясь этим проясненьем, сосредоточиться и помолиться — тогда стоп: я бегу от себя, и дело не движется. Как это жалко и тошно!
Как аббат Жеврезен до сей поры руководил мной?
В основном он следовал выжидательной методе, не столько борясь с отдельными проблемами, сколько ограничиваясь общеукрепляющими средствами против моей слабости. Он прописывал мне марциальные медикаменты для души, а когда видел, что я ослабеваю, рекомендовал причащение. Теперь, если я правильно все понимаю, он передвигает боевые батареи. То ли он меняет тактику из-за ее неудачи, то ли, наоборот, совершенствует; курс его лечения, хоть я сам о том и не подозреваю, привел к желаемым для него результатам; в том и в другом случае он хочет послать меня в монастырь: либо ускорить процесс, либо закрепить.
Впрочем, эта система, кажется, входит в его терапию: так же он подходил ко мне, когда помогал моему обращению; он поспешил послать меня на бальнеологическую станцию для души, на целительные минеральные воды; теперь он уже не считает необходимым давать мне такое лечение и побуждает меня пожить в месте более отдохновительном, в более спокойной атмосфере. Точно ли так?
Вовсе нет, с его стороны не видно даже намерения застать меня врасплох и навязать решение. На сей раз он даже не взялся покончить с моей неуверенностью, официально известив об отъезде в Солем; но все одно! Ведь в этой истории не все ясно. Почему отец Плом пообещал бенедиктинцам привезти меня? Очевидно, он действовал по просьбе отца Жеврезена. Никакого другого мотива говорить с белоризцами у него не было. Правда, я говорил ему о своем недуге, о неясном желании уйти от мира, о пристрастии к монастырям, но никак не подталкивал забегать вперед, подгонять события!
Ох, опять я выдумываю за других хитрые планы, ищу черную кошку в темной комнате, воображаю хитрые замыслы там, где их, возможно, и не бывало. Ну а если есть? Разве друзья не моей же пользы ради сговариваются? А мне остается только слушать их и повиноваться… Все, оставим это, вернусь к своему бестиарию; время идет, а мне бы хорошо было закончить работу до отъезда.
Дюрталя опять потянуло к собору; он принялся изучать южный портал, где была собрана вся мистическая зоология и демонология.
Но желавшихся причудливых форм он там не увидел. В Шартре пороки и добродетели передавались не в виде химерических или хотя бы реальных животных, а в человеческом облике. Внимательно все осмотрев, он откопал на столбах среднего прохода изображения грехов в крохотных скульптурных группах: сладострастие обозначалось женщиной, целующей молодого человека, пьянство — оборванцем, замахнувшимся на епископа, гнев — мужем, ругающимся с женой; рядом с ними валяются сломанное веретено и пустая бутылка.
Из всех бесовских животных он лишь в правом проходе разглядел, чуть не вывернув себе шею, двух драконов: одного из них изгоняет какой-то монах, другого ведет на поводу некий святой.
Что же касается животных богоугодных, Дюрталь высмотрел в ряду добродетелей женские фигуры в обнимку с символами благих дел: Послушание сопровождает бык, Целомудрие — феникс, Любовь — барашек, Кротость — ягненок, Крепость — лев, Воздержание — верблюд. Почему здесь феникс изображает Целомудрие, ведь в средневековых волюкрариях ему такой роли не отводится?
Скудость фауны в Шартре несколько разочаровала Дюрталя, но он утешился, осмотрев южный портал, служивший парным дополнением к северному; он повторял сюжеты Царского портала, но с вариациями: также воспевал Христа во славе, но уже как Всевышнего Судию, а также в лицах святых.
Этот вход был начат во времена Филиппа Августа на средства графа Дрёсского и его супруги Алисы Бретонской, а закончен лишь при Филиппе Красивом; он, как и два других, делился на три части: в стрельчатом тимпане средней арки повествовалось о Страшном суде; арка левая посвящена мученикам, правая же — исповедникам.
Центральная арка подражала формой кораблю, поставленному стоймя, вниз кормой, носом вверх; на выпуклых стенках бортов держались по шесть апостолов с каждой стороны, а в глубине, посередине, стояла одна-единственная статуя Христа.
Она так же знаменита, как и амьенский Христос; все путеводители превозносят правильность лика, спокойную гармонию черт; на самом деле она прежде всего холодна и хлыщевата, красива скучной красотой; насколько ниже она статуи Спасителя XII века в тимпане Царского портала; как жив, как выразителен тот Господь, восседающий посреди животных тетраморфа!
Апостолы, пожалуй, лучше отделаны, чем патриархи и пророки, стоящие вокруг святой Анны на северном портале, не так неуклюжи, но и искусство в них не так притягательно. Как и Христос, Которого они окружают, все они выглядят очень порядочно; все это благопристойная, так сказать, флегматичная, скульптура.
Благодушно улыбаясь, они держат орудия своего мученичества, как солдаты на посту держат ружья.
На правом простенке поселились апостол Петр, водрузивший крест, на котором был распят вниз головой, Андрей с латинским крестом, а не тем Х-образным, к которому его пригвоздили, затем Филипп, Фома, Матфей и Симон, все с короткими мечами, хотя апостол Филипп был распят и побит камнями, Фома заколот копьем, а Симон Кананит распилен пилой.
На левом простенке вместо Матфия, заместившего Иуду, виден апостол Павел, протянувший вперед длинный меч; далее следуют: Иоанн со своим Евангелием, Иаков Старший с коротким мечом, Иаков Младший с сукновальной палицей{100}, Варфоломей с кривым ножом, которым с него содрали кожу, и апостол Иуда с книгой.
Все они громоздились на уступах изогнутых колонн, попирая босыми в знак апостольского звания ногами своих палачей. У них были длинные растрепанные волосы, бороды надвое, расходившиеся вилообразно, кроме безбородого Иоанна и Павла, который по традиции был лыс; и одеты они были одинаково: завернуты в плащи с искусно уложенными волнообразными складками. Один лишь Иаков Старший выделялся шляпой, усеянной ракушками, наподобие тех, в которых приходят к нему в Компостелу, в большой средневековый храм, воздвигнутый в его честь.
Этот святой почитаем в Испании, но вправду ли он просвещал эти места, как утверждают святой Иероним, святой Исидор и Толедский бревиарий? Иные в этом сомневаются. Во всяком случае, для XIII века его история, рассказанная Дурандом Мендским, вкратце была такова: он был послан в Иберию для обращения идолопоклонников, но не преуспел и вернулся в Иерусалим, где Ирод приказал обезглавить его. Тело апостола перевезли в Испанию, и там его мощи совершали обращения, которых он не мог достичь при жизни.
И вообще, размышлял Дюрталь, мы, на удивление, мало знаем об апостолах. Почти все они только выглядывают из кулис евангельского рассказа, и лишь у немногих — Петра, Павла, Иоанна — иногда обозначаются силуэты; остальные погружены во тьму, словно поглощены ореолом света, который разливает Христос, после же своей кончины размываются еще больше, и вся их жизнь отныне намечена лишь в смутных преданиях.
Вот апостол Фома, сокровище Господне, как отзывается о нем святая Бригитта. Откуда он родом — неведомо; при каких обстоятельствах, по каким причинам был призван — не знает никто, в каких странах проповедовал новую веру — тут начинаются споры. Одни находят его у мидян, парфян, персов, в Эфиопии, другие — в Индостане. Его обыкновенные атрибуты — наугольник и линейка, ибо утверждают, что он построил церковь в Мелиапуре и потому в Средние века стал покровителем зодчих и каменщиков.
Согласно Римскому бревиарию, он был убит в Каламине копьем, по Золотой легенде, изрублен мечами неизвестно где, а португальцы утверждают, что тело его принадлежит им и находится в Гоа, главном городе их индийских владений.
В XIII веке этот святой считался образцом упрямой недоверчивости. Он не только признал Господа, лишь увидев Его и вложив персты в Его язвы: если верить отцам нашим, такое же неверие он явил и тогда, когда ему сказали о вознесении Богородицы; чтоб его убедить, пришлось Пресвятой Деве самой явиться и бросить ему Свой пояс.
Апостол Варфоломей в темных слоях времен виден еще более смутно. Он был самым воспитанным из апостолов, говорит сестра Эммерих; у остальных, худородных, особенно у Петра и Андрея, так и остались невзрачные лица и общий грубый облик.
Действительно ли его звали Варфоломеем? Полагают, что да. Синоптики называют его в числе апостолов, Иоанн же нет; вместо того он упоминает человека по имени Нафанаил, о котором ничего не говорят три остальных Евангелия.
Итак, эти два апостола — одно лицо? Это почти наверняка так, причем святой Бернард полагает, что Варфоломей, или Нафанаил, был женихом на браке в Кане Галилейской.
Какова была его жизнь? Он странствовал по Аравии, Персии, Абиссинии, возможно, крестил иберов, племена Кавказа и, как и апостол Фома, Индию, но никакой достоверный документ этого не подтверждает. По одним сведениям, он был обезглавлен, по другим, с него заживо содрали кожу и затем распяли в Албании близ армянских пределов.
Последнее мнение, принятое Римским бревиарием, стало преобладающим, поэтому его избрали себе в покровители мясники, свежующие туши, кожевники, скорняки, сапожники, переплетчики, работающие с кожей, и даже портные: ведь примитивы изображают его ободранным наполовину и держащим кожу в руке, как одежду.
Еще более странная и смутная фигура — апостол Иуда. Его звали также Фаддеем и Леввеем, и он был сыном Клеофаса и Марии, сестры Богородицы; говорят, он был женат и имел детей.
Евангелия о нем почти не упоминают, но всегда настаивают, что его не следует путать с Иудой Искариотским (впрочем, такое все равно случалось); из-за одной лишь одноименности с предателем христиане в Средние века не почитали его, а колдуны ему молились.
В Евангелии он все время молчит и нарушает немоту лишь во время Тайной Вечери, задав Христу вопрос о предопределении; Господь отвечает ему не прямо, вернее сказать, вовсе не отвечает. Кроме того, он автор одного из канонических посланий, в котором, видимо, вдохновлялся Вторым посланием Петра, а согласно святому Августину, именно он добавил в Символ веры догмат о воскресении во плоти.
В преданиях он тесно связан с апостолом Симоном; по бревиарию, апостол Иуда просвещал Месопотамию и вместе со своим товарищем принял мученический венец в Персии; болландисты, напротив, рассказывают, что он был апостолом Аравии и Идумеи, а греческие минеи — что неверные в Армении расстреляли его из луков.
Словом, все эти сведения весьма зыбки, а иконография вносит еще больший разброд, приписывая Иуде самые разные атрибуты: то он держит пальмовую ветвь, как в Амьене, или книгу, как Шартре, то ему дают в руки крест, наугольник, ладью, палку, топор, пилу, алебарду.
Наконец, вопреки скверной репутации вследствие одноименности с Искариотом, средневековые лапидарии говорят о нем как о муже великого милосердия и молитвенности, изображая его в пламени золота и пурпуре хризопразов — эмблемах добрых дел.
Все это плохо между собой вяжется, думал Дюрталь; забавно кажется и то, что этот святой так мало почитался нашими предками, что ему за долгое время не посвятили ни одного алтаря, а в Шартре у него сразу две статуи, если считать, что Верлен на Царском портале — тоже он; впрочем, потому и не может этого быть.
Вот что мне теперь интересно, перескочил он мыслью. Почему историки собора все хором объявляют, что сцена Страшного суда в тимпане над вратами — самая потрясающая в этом роде во Франции? Совершенная чепуха; она очень заурядна, во всяком случае, сильно уступает многим другим.
Ведь часть рельефа, посвященная бесам, в Шартре более вяла, менее энергична и насыщенна, нежели в других базиликах того времени. Правда, здесь демоны с волчьими пастями и ослиными ушами, толкающие епископов и королей, мирян и монахов в изрыгающую пламя драконью пасть, черти на дуге архивольта с козлиными бородками и растянутыми полумесяцем ртами, там и сям хватающие грешников, исполнены умело и расположены вокруг центральной сцены живописными гроздьями, но в этом сатанинском винограднике нет размаха и плоды его чахлы; бесы недостаточно свирепы, кажутся чуть ли не подвыпившими в маскараде, а у грешников вид спокойный.
То ли дело парад чертей в Дижоне! И Дюрталь стал припоминать дижонский храм Богоматери, необычный для Франции образчик готики XIII века в бургундском стиле. Сама церковь почти по-детски проста: над тремя порталами высится плоская стена, прорезанная двумя этажами аркад, образующих галереи, и над каждой аркой изображена гротескная фигура. Справа от фасада торчит башенка в остроконечном колпаке кровли; рядом на крыше видна ржавая железная решетка часов с тремя куколками, отбивающими время; сзади над трансептом подымается еще башенка, у подножья которой четыре малых шпиля с витражами — и только.
Если сравнить этот крохотный памятник с громадами соборов, увидишь на нем фламандский отпечаток; от Фландрии тут и добродушный крестьянский облик, и веселая вера; это храм не церемонный, простонародный; должно быть, люди здесь говорили с Черной Мадонной, поныне стоящей на алтаре, о своих домашних делах; должно быть, они жили здесь и молились душа нараспашку, не стесняясь, как дома.
Но благодушной, веселой внешности этой церкви не стоило доверять: ряды гротескных фигур над портиком и аркадами выдавали изнанку жизнерадостного спокойствия их окружения.
Сомкнувшись тесными рядами, они (все, правда, поновленные или переделанные) гримасничали, возникали каменными клубками безумных монахинь и спятивших монахов, тупых земледелов и потешных селянок, простаков, скорчившихся от нервного смеха, и веселящихся чертей; а посреди этой орды погибших душ, беснующихся вне церковных стен, меж двух мучающих ее бесов вырастала реалистическая женская фигура, словно кидающаяся на вас с фриза. Выкатив невидящие глаза, сложив руки, она указывает на место святое, с ужасом умоляя вас войти в него; а вы в замешательстве глядите на это лицо, искаженное страхом, перекошенное отчаяньем, изо всех сил отбивающееся от своры чудовищ, от видений свирепой нечисти. Страшное и милосердное, оно и грозит вам, и взывает, и этот образ навек отлученной, изгнанной из храма и навсегда оставленной на его пороге, преследует вас, как память о скорби, как страшный кошмар.
О нет, среди адских фигур в столице Боса не найдется ни одной статуи, столь проникновенной и формально совершенной по своему искусству. С другой же точки зрения, с точки зрения ансамбля картины и сюжетной энергии, суд над душами в Шартре значительно ниже психостасии из собора в Бурже.
Ну, эта, я думаю, вообще самая необыкновенная из всех, сказал себе Дюрталь. Ни в Реймсе и Руане, где грешники опутаны одной цепью, которую тянут бесы, ни в Амьене подобные сцены не могут соперничать с ней.
От Воскресения из мертвых, изображенного ваятелем из Берри, в голос взвоет буйная стыдливость нынешних католиков: ведь фигуры эти обнажены, причем нет даже тех условностей, которые обычно принимаются для женского тела. Мужчины и женщины подымают могильные камни, шагают через стенки гробов, прыгают, перекатываются друг через друга; одни в экстазе складывают ладони и молятся, обратив очи к небу, другие тревожно озираются по сторонам, третьи протянули руки и в ужасе вопят, четвертые в скорбных позах бьют себя в грудь и стенают, чтобы оправдаться, иные, наконец, ослепленные переходом от мрака к свету, разминают онемевшие члены, пытаются сделать шаг…
Толчея этих внезапно проснувшихся людей подобна смятению сов, брошенных на свет, — они трепещут от страха и радости, узнавая друг друга и понимая, что настал час Суда, — передана столь властно, столь живо, с такой острой наблюдательностью, что до этого всего далеко мелочным деталям и умеренному вдохновению босского скульптора.
А в верхнем ярусе происходит великолепная сцена взвешивания душ, где архангел Михаил с развернутыми крыльями держит тяжкие весы, при том с улыбкой лаская ребенка, сложившего руки крестообразно, меж тем как дьявол с козлиной головой и усмешкой фавна поджидает, готовый поддеть дитя на вилы, если архистратиг отступится от него; за спиной же у этого стерегущего демона проходит процессия осужденных. Тут в аду нет никаких церемоний, что соблюдаются в Шартре, где духи зла с уклончивой обходительностью тихонько толкают перед собой некоего монаха; тут жестокость во всем своем ужасе, тут самое низкое насилие, уже без всякой комической стороны, что иногда проявляется в подобного рода потасовках. В Бурже слуги проклятого владыки работают вовсю: вот черт с мордой хищного зверя и человеческой физиономией на толстом брюхе колотит отбивающегося со скрежетом зубовным бедолагу, а хвостом, на конце которого змеиная голова, кусает ему ноги; вон другой палач, мохнатый и рогатый, отрывает осужденному ухо крюком; а вон еще одно чудище с курносым носом, отвислыми грудями и человеческой маской на висящем животе, с крыльями, сходящимися возле промежности, обхватило руками инока и кидает его головой вперед в котел, стоящий на запрокинутой пасти дракона; еще двое слуг Сатаны раздувают угли под этим котлом… Там уже кипят две фигуры, символ злословия и символ разврата: монах и женщина; они скорчились и плачут — одному огромная жаба отгрызает язык, другой выедает лоно.
С противоположной стороны все иначе: толстощекий ангел забавляет младенца, с улыбкой подсаживает его на плечи товарищу, а веселый малыш протягивает ему ветку; за ним неспешно тянется процессия святых — жена, король, отшельник; апостол Петр ведет их к крыльцу перед домиком, где сидит старый Авраам, растянув передник, полный ликующих головок: спасенных душ.
И, припомнив облик Михаила и ангелов его, Дюрталь убедился: это братья святой Анны, святого Иосифа, ангела с Царского портала в Реймсе; все тот же странный образец, то же молодое, но старообразное лицо с носом уточкой и острым подбородком — впрочем, пожалуй, более пухлое, не такое угловатое, как в Реймсе.
Это фамильное сходство, это близкое подобие позволяли думать, что одни и те же ваятели, а может их ученики, работали над скульптурами шампанского и беррийского соборов, но не босского, где вовсе не встречается аналогичных типов; впрочем, между другими статуями с северного портала в Шартре и некоторыми персонажами иного рода с реймсского фасада сходство поразительно.
Предположить можно все, но ни одна гипотеза не имеет шанса точно подтвердиться: ведь мы никогда не найдем никаких сведений о мастерских скульпторов того времени, подумал Дюрталь, переходя к левому боковому проходу соборного портика, который посвящен мученикам.
Там в дверном проеме бок о бок обитали святой диакон Винцент Испанский{101}, святой епископ Дионисий, святой священник Пиат и святой воин Георгий — все жертвы завистливой жестокости неверующих.
Святой Винцент в длинном одеянии сокрушенно склонял голову на плечо. Он, размышлял Дюрталь, был казнен по-кулинарному: ведь, если верить Золотой легенде, его тело скребли стальными гребнями так, что вылезли наружу кишки, но это была еще только закуска к страданиям; потом повара поджарили его на решетке, нашпиговали гвоздями и облили подливкой из собственной его крови. Он же оставался бесстрастен и, подгорая, лишь молился. Когда он испустил дух, его мучитель Дакиан велел бросить тело в поле, чтобы мученика сожрали дикие звери, но один ворон стал возле него на страже и клювом отогнал волка; тогда Винценту привязали мельничный жернов к шее и бросили в море, но он выплыл к неким благочестивым женам, которые и похоронили его.
Святой Дионисий, первый епископ Парижский, был брошен на растерзание львам, но львы отошли от него; тогда его вместе со святыми Элевферием и Рустиком обезглавили на Монмартре. Ваятель представил его не держащим свою голову, как обычно, а воздвиг статую во весь рост с посохом и митрой; он не смиренно скорбит, как его сосед, испанский диакон, а стоит прямо, властно подняв руку, быть может, не для благословения, а для назидания верующим. Перед образом этого писателя, чья краткая книга занимает столь важное место в ряду мистических творений, Дюрталь задумался. Этот святой, если известный том действительно принадлежит ему, первым среди авторов-боговидцев проник за небесные пределы и сообщил людям некоторые подробности о том, что там происходит. Вопрос о порядке ангельских чинов восходит именно к нему: ведь именно он открыл распорядок небесных воинств, ту иерархию, которой люди подражают, а преисподняя пародирует. Он был как бы курьером между небом и землей; он исследовал уделы Божьи, как позднее святая Екатерина Генуэзская исследовала области Чистилища[70].{102}
Менее интересен Пиат, священник из Турне, обезглавленный римским проконсулом. В собрании знаменитых святых он был как будто бедным родственником из провинции: местным епархиальным подвижником. Здесь он был представлен потому, что в соборе хранились его мощи: историки повествуют, что их перенесение в Шартр состоялось в IX веке. Рядом с ним — святой Георгий в рыцарских доспехах времен Людовика Святого, с обнаженной головой, закованный в железо, вооруженный копьем и щитом; он, как на часах, стоит на постаменте с изображением казни колесованием, которую претерпел великомученик.
С другой стороны дверей ему соответствовала статуя святого Феодора Стратилата в кольчуге, камзоле и также с копьем и щитом{103}.
Рядом с этим святым, которого некогда сварили живьем в городе Амассее, пребывали святые Стефан, Климент и Лаврентий.
В тимпане же над двойной стеной из этих мучеников рассказывалась история святого Стефана, спорившего с книжниками и побитого камнями от иудеев; повсюду, на квадратных столпах, на своде портала камни превращались в фигурки умученных праведников: святого Лигера, святого Лаврентия, святого Фомы Кентерберийского, святого Вакха, святого Квентина{104} и других; друг за другом шли присноблаженные: ослепляемые, сжигаемые железом, разрезаемые ножами, бичуемые с разных сторон, обезглавливаемые; но все это было в ужасном состоянии. Ветер и бешенство санкюлотов лишили мучеников еще многих членов, довершив истязания святых.
Правый проход, посвященный исповедникам, открывался огромной глыбой во весь рост, на некотором расстоянии от левой стенки: святой Николай, архиепископ Мирликийский, поднимал десницу в перчатке, а ногами попирал жестокого трактирщика, убивавшего детей, гибель которых стала причиною многих скорбных песнопений; далее святой Амвросий{105}, учитель Церкви, архиепископ Медиоланский, в необычной конусообразной митре; святой Папа Лев, победитель Аттилы, и, наконец, святой Ломер, один из прославивших округ Шартрский.
Он, как и святой Пиат в левом проходе, казался незнакомцем, проникшим в круг знаменитых святых. Некогда он был весьма почитаем в Босе; жизнь, которую он провел, можно описать в трех строчках: в детстве пас овец, потом был соборным келарем, отшельником, наконец, стал монахом и настоятелем монастыря Корбион в Орнских лесах.
Расширяющийся правый простенок занимали святой Мартин{106}, епископ Турский, святой Иероним, учитель Церкви, святой папа и учитель Григорий и святой Авит.
Любопытен, подумал Дюрталь, параллелизм в оформлении этого входа. Справа от входящего святой Николай, великий чудотворец Востока; слева, напротив него, святой Мартин, великий чудотворец Запада.
Затем друг против друга учителя Церкви: Амвросий и Иероним — первый в своей посредственной прозе нередко надут и велегласен, зато в гимнах изобретателен и очарователен, второй в Вульгате своей поистине создал язык Церкви, проветрив и дезинфицировав языческую латынь, пахнувшую развратом, издававшую запах, где жутко смешивались роза и старый козел. Также лицом к лицу стоят Папы Григорий и Лев, а затем два монастырских аббата: святой Ломер и святой Авит, который также был настоятелем обители, основанной в лесах Перша.
Эти две статуи были добавлены позднее: и обликом, и костюмом они выдавали уже не XIII век; в таком случае, может быть, их поставили на место других, изображавших то ли тех же самых монахов, то ли других святых.
Тимпан, в свою очередь, также выражал идею параллелизма, задуманную начальником работ. Он был посвящен двум чудотворцам, необычайной перекличке Юга и Севера: сообщал зрителю об эпизодах житий святых Николая и Мартина. Святой Николай одаривал дочерей благородного отца, который, умирая с голоду, собирался отдать их в блудилище; далее следовало погребение епископа, при котором источалось святое миро, исцелявшее больных; святой Мартин отдавал половину плаща бедняку, и видно было, как затем в этот плащ облачался Христос.
На прочие картины портала можно было и не смотреть: на дугах свода и столпах проходов находились многие исповедники, девять ликов ангельских, притча о девах мудрых и безумных, повторение двадцати четырех старцев с Царского портала, ветхозаветные пророки, добродетели и грехи, непорочные девы, маленькие статуэтки апостолов — все это довольно сильно попорчено и не очень хорошо видно.
Путеводители говорят о южном портале с его 783 большими и малыми статуями как о самом интересном из всех; на самом деле для художника он менее всех привлекателен: за исключением горделивых изображений святых Георгия и Феодора, скульптуры, изваянные во славу прочих его обитателей, скованны и много уступают скульптурам фасада XII века и даже северного портала — те более варварские, но не так рыхлы и холодны.
Дюрталь повторял про себя: в целом внешнее оформление Шартрского собора может быть сведено к трем словам: Поклонение, Ублажение, Почитание. Поклонение, культ Господа Христа, на Царском портале; ублажение, культ Матери Божией, на северном; почитание, культ святых, на южном.
Ведь, вообще говоря, хотя Спаситель прославляется и на южном портале как Всевышний Судия, там он все же несколько уступает Свое место святым; оно и понятно: ведь там Он лишь повторен, а истинный Его дворец, истинный престол в триумфальном тимпане почетного входа, Царского портала.
Прежде чем отойти от южного портала, Дюрталь бросил последний взгляд на шеренгу избранных и задержался перед святыми Климентом и Григорием.
Святой Климент — его необычайная кончина привела почти что в забвение целую жизнь, посвященную возделыванию душ. Тут Дюрталь припомнил рассказ Иакова Ворагинского. При императоре Траяне Климент был изгнан в Херсонес и брошен в море с якорем на шее; меж тем собрание христиан, преклонив колени на берегу, просили Бога оставить им его тело. И море отступило на три мили, и верные пешком дошли до часовни, возведенной ангелами под пучиной, где почивал на камне святой; и еще много столетий море таковым образом отступало каждый год на одну неделю, дабы паломники могли посетить святыню.
Святой Григорий — первый монах-бенедиктинец, избранный Папой, мастер литургии, создатель хорального пения. Он был без ума от справедливости, обуян милосердием и предан искусству — изумительный Папа, обладавший столь широким, всепонимающим духом, что почитал за дьявольское наваждение намерение ханжей, фарисеев того времени не читать мирской литературы: ведь она, говорил Григорий, помогает нам лучше понимать другие книги.
Он был возведен в понтифики против своего желания — жил, мучимый тоскою, оплакивал оставленный монастырский покой и с невероятной энергией боролся против нашествия варваров, против африканских ересей, византийских интриг, симонии в своем окружении.
Мы видим его через столетия на шабаше громогласных расколов, и в то же время среди этих треволнений он является заступником бедных от ненасытной алчности богачей; каждый день он кормил нищих из рук своих и целовал им ноги; и при этой сверхнасыщенной жизни, не имея ни минуты на отдых, ни мгновения передышки, он сумел еще восстановить монашескую дисциплину, сеять повсюду, где мог, бенедиктинские семена, спасать мир, блуждавший вдали от покрова иноков.
Он не стал мучеником, как святой Климент, но умер Христа ради от изнеможения и тяжких трудов после жизни, исполненной непрерывных страданий тела, подорванного недугами, ослабленного добровольными истязаниями и постами.
Вот, конечно, почему у этой статуи такое задумчивое, грустное лицо, думал Дюрталь; между тем она слушает голубя, символ вдохновения, который, согласно древней легенде, нашептывает, диктует Папе на ухо мелодии антифонария, а кроме того, без сомнений, подсказывает и его диалоги, проповеди, комментарии на книгу Иова, наставления пастырям — всё сочинения, имевшие в Средние века такое обширное влияние.
Направляясь домой и все еще размышляя о череде святых, Дюрталь внезапно набрел вот на какую мысль: в Шартре не хватает изображения святого, к заступничеству которого прибегали больше всего, который обыкновенно стоял у входа в собор, отдельно от всех, один — святого Христофора{107}.
Так он некогда выделялся у входа в Нотр-Дам де Пари, так и до сих пор высится на углу главного фасада в Амьене; но иконоборцы почти везде разрушили его, так что храмы, сохранившие статую Христоносца до наших дней, можно пересчитать по пальцам. Стоял он, несомненно, и в Шартре, но в каком именно месте? Исследования по истории собора ничего об этом не говорят.
Дюрталь шел и с улыбкой думал об этом святом. Понятно, почему он был так популярен: наши предки думали, что стоит посмотреть на его изображение, живописное ли, скульптурное ли, и на целый день будешь избавлен от внезапных несчастий, особливо же от лихой смерти.
Вот почему он всегда торчал снаружи, на самом виду, на лучшем месте, огромный — так, чтобы прохожий видел его даже издали. Бывало и так, что его гигантский образ находился внутри храма. Таков святой Христофор на фреске XV века, ныне слишком записанной, в Эрфуртском соборе. Чудовищная фигура с шестиэтажный дом ростом идет, возвышаясь от плит до соборных сводов. У этого Христофора борода падает водопадом, а ноги толщиной с храмовые колонны. На плечах у него, умиленного и сгорбленного, круглоголовый Младенец, напудренный, как Пьеро; Он, улыбаясь, благословляет посетителей. Христофор же босыми ногами ступает по воде пруда со множеством малых тростинок, хвостатых головастиков, рогатых рыбок, причудливых цветочков; все это крошечное для вящего контраста с колоссальной фигурой святого.
Бедняжка, размышлял Дюрталь, народ его почитал, но Церковь относится к нему несколько настороженно, ибо он, наряду со святым Григорием и еще некоторыми из тех святых, в житии которых много сомнительного…{108}
В Средние века святому Христофору молились об исцелении чахнущих детей, а также от слепоты и от чумы.
Впрочем, кто и был главными терапевтами того времени, как не святые? Все хвори, от которых не могли помочь ни доктора, ни знахари, поверялись их попечению; некоторые даже считались специалистами, и болезни, от которых они исцеляли, носили их имена. Подагра звалась болезнью святого Мавра; проказа — болезнью праведника Иова; рак — болезнью святого Эгидия; хорея — болезнью или пляской святого Вита; простуда — болезнью святого Авентина; приливы крови — болезнью святого Фиакра; всего и не вспомнишь.
И другие праведники прославились избавлением от недугов, за помощью при которых к ним прибегали. Святая Геновефа целила отравление спорыньей и глазные болезни; святая Екатерина Александрийская — мигрень; святая Регина — постыдные болезни; святой Варфоломей — судороги; святой Бенедикт — рожу и каменную болезнь; святой Луп — боли в кишках; святой Губерт — бешенство; святая Апполония, статуя которой имеется в капелле больницы Евангелиста Иоанна в Брюгге, обвешанная, прошений ради, четками из восковых зубов и зубных корней, помогала от зубной боли и воспалений лицевого нерва; и сколько их еще!
Если учесть, пришел к выводу Дюрталь, что в наше время медицина, как никогда, стала сплошным заблуждением, неясно, почему бы не вернуться к лечению молитвой, к древним мистическим панацеям. В иных случаях святые заступники отказывают нам в исцелении, но они хотя бы не сделают нам хуже, поставив ложный диагноз и прописав вредное лекарство; да если бы медики и не были невеждами, что пользы от них, когда и полезные медикаменты все поддельные?
XVI
Настал день собирать чемодан и отправляться на вокзал вместе с аббатом Пломом.
Дюрталь нервничал, считал часы; ему не сиделось на месте; чтобы убить время, он вышел погулять, но тут начался дождик и загнал его в собор.
Он подошел к Мадонне у Столпа, затем устроился в глубине храма, где все стулья были свободны, и стал думать так.
Прежде чем прервать путешествием однообразный ход моей жизни в Шартре, не стоит ли присесть, хоть на минуту, обратившись в себя, и пересмотреть, что я приобрел до и после приезда сюда?
Душа? Увы, тут не столько приобретения, сколько обмен; просто лень я отдал, получил сухосердие, а что из такой сделки вышло, я знаю лучше некуда; к чему все это перечислять линий раз? Ум? Тут, мне кажется, приход не столь грустный, я могу наскоро подбить баланс, разбитый на три колонки: Прошлое, Настоящее, Будущее.
Прошлое. Некогда в Париже, когда я о том и не помышлял, Бог внезапно овладел мной и привел в Церковь, пользуясь, чтобы уловить меня, моей любовью к искусству, к мистике, к богослужению, к церковному пению.
Вот только мистику во время этой предварительной работы я мог изучать лишь по книгам, так что знал ее в теории, отнюдь не на практике. Кроме того, музыку в Париже я слышал только плоскую, опошленную, разжиженную женскими гортанями или совершенно перевранную капеллами; в большинстве храмов я мог видеть церемонии только выскобленные, службы только порченые.
Так было, пока я не поехал в обитель траппистов; в этой пустыни я увидел мистику уже не просто пересказанную, записанную, сформулированную в корпусе учения, но экспериментальную, действующую, наивно переживаемую монахами. Я мог убедиться, что наука совершенства души не заблуждение, что утверждения святой Терезы и святого Иоанна Креста совершенно точны; кроме того, в монастыре мне было дано ближе познакомиться с усладой подлинного обряда и настоящего хорала.
Настоящее. В Шартре я прошел новые испытания, последовал другими путями. Сначала меня захватило несравненное великолепие этого собора; потом, под воздействием очень умного и сведущего священника, я приступил к изучению религиозной символики, беседовал о великой науке Средних веков, образующей особый диалект церковного языка, в знаках и образах делающей доступным то, что литургика выражает словами.
Для точности надо бы сказать, пожалуй: та часть литургики, которая занимается собственно молитвой, ибо другая часть, относящаяся к чину и формам богослужения, принадлежит прежде всего самой символике, составляющей ее душу; но правда в том, что границу между двумя науками не всегда легко провести: до того они подчас внедряются друг в друга, взаимно друг друга вдохновляют, смешиваются и в конечном счете почти сливаются.
Будущее. Отправившись в Солем, я довершу свое образование, увижу и услышу самое совершенное выражение литургии и григорианского пения, которые скромный монастырь Нотр-Дам де л’Атр уже по причине малого числа служащих и поющих мог представить мне лишь в уменьшенной копии — очень точной, однако все же уменьшенной.
Если к этому присоединить мои собственные исследования о религиозной живописи, ныне отнятой у святилищ и хранящихся в музеях; если прибавить мои замечания о соборах, которые я изучал, получится, что я обошел всю область мистики кругом, извлек эссенцию из Средних веков, связал, так сказать, сноп из разделенных, разбросанных в веках колосьев и особенно основательно наблюдал один из них: символику, некоторые элементы которой вследствие долгого небрежения почти утрачены.
Символика! Она решительно была украшением моей жизни в Шартре; она умиряла и утешала меня, когда я страдал, чувствуя свою душу низкой и надоедной. Теперь Дюрталь пытался припомнить все, охватить это знание в целом.
Она росла, как густое дерево, корень которой глубоко погружен в почву самой Библии; она и впрямь именно там черпала свою сущность, из нее извлекала свои соки: ствол дерева — символика Писания, прообразы Евангелия в Ветхом Завете, ветви — аллегории архитектуры, цветов, самоцветов, флоры, фауны, иероглифы чисел, эмблемы церковной утвари и одеяний; есть еще маленькая веточка литургических благоуханий и от самого рождения иссохший сучок танца.
Ибо религиозный танец существовал, думал далее Дюрталь. В глубокой древности то была жертва умиления, приношение веселья; доказательство тому Давид, плясавший перед Ковчегом Завета{109}.
В первые времена христианства верующие и пастыри, славя Бога, раскачивались, веря, что такими движениями они подражают радости спасенных, ликованию ангелов; Василий Великий рисует нам, как небесные воины исполняют танцы в небесных укреплениях.
Вскоре кое-где, например в Толедо, приняли так называемую мозарабскую литургию, на которой прихожане прямо в соборе прыгали и скакали; но оказалось, что эти пляски совсем не так благочестивы, как предполагалось, — они стали острой приправой к сладострастной похлебке, и несколько соборов разом запретили их.
Впрочем, еще в XVII веке в некоторых провинциях существовал церковный балет; его мы находим в Лиможе, где кюре церкви святого Леонарда и его прихожане кружились перед алтарем. В XVIII веке следы той же самой традиции отмечаются в Русийоне. Да и теперь литургический танец не исчез; в основном традиция священных хороводов сохраняется в Испании.
Не так давно во время праздника Тела Христова в Компостеле перед процессией шел человек высоченного роста с другим человеком на плечах и плясал до упаду. Уже в наши дни в Севилье на праздник Святых Даров мальчики из хора, распевая песнопения, танцуют перед главным алтарем храма что-то вроде медленного вальса. В других городах на богородичные праздники вокруг статуи девы Марии проходят сарабандой, стучат палками, цокают кастаньетами, а в завершение церемонии, вместо «аминь», присутствующие взрывают петарды.
Но все это не слишком интересно; во всяком случае, какой, скажите на милость, смысл можно приписать пируэтам и антраша? Мне трудно представить себе, как фарандола или болеро могут прикинуться молитвой; не могу себя убедить, что можно испытывать действие благодати, когда ногами словно топчешь горох, а руками вертишь кофейную мельницу!
Правда в том, что символики танца никто не знает, что до нас не дошло ни одно из значений, которые придавали ему древние. В сущности, литургическая пляска — просто грубое увеселение южан. Так что отметим ее просто для памяти и оставим.
Каково же было влияние символики на души людей с практической точки зрения?
Дюрталь ответил себе: Средневековье, зная, что все на земле знак и подобие, что видимое ценно лишь потому, что скрывает невидимое, не давало, в отличие от нас, вводить себя в обман видимостью, изучало эту науку весьма подробно, сделало ее помощницей и служанкой мистики.
Пребывая в убеждении, что единственная цель, которой стоит домогаться человеку, что единственный предел, которого здесь необходимо ожидать, — войти в прямые сношения с Небом и предупредить смерть, излившись, переплавившись в Бога, оно увлекало души, покоряло их умеренно монашескому распорядку, отвращало от житейских забот, от плотских стремлений, направляло к одним и тем же мыслям об отречении и покаянии, к одним и тем же идеям правды и любви, а чтобы сдерживать их, хранить от самих себя, окружило барьером, обнесло всеприсутствием Бога под всеми видами, во всех формах.
Христос был всюду: о Нем свидетельствовал животный мир и растительный, очертания памятников, украшения, краски; куда бы человек ни обернулся, он видел Его.
И собственную душу он также видел, как отраженную в зеркале; в иных растениях он мог распознать добродетели, которые должно приобрести, в других — пороки, от которых надобно беречься.
Были у него перед глазами и иные примеры: ведь символисты не ограничивались тем, что обращали в катехизис трактаты по ботанике, минералогии, естественной истории и другим наукам; некоторые, в их числе святой Мелитон, дошли до того, что прилагали свой метод толкования ко всему, что встречали; для них в груди богобоязненного человека звучала кифара; члены тела также превращались в символы: так, голова обозначала Христа, волосы — святых, нос — немногословие, ноздри — дух Веры, глаза — боговидение, рот — искушение, слюна — сладость жизни духовной, уши — послушание, руки — любовь Христову, кисти рук — благие дела, ногти — совершенство в добродетели, колени — таинство покаяния, ноги — апостолов, плечи — легкое иго Господне, сосцы — евангельское учение, живот — скупость, утроба — таинственные заповеди Господа, бюст и пах — похотливые помыслы, кости — ожесточение, костный мозг — сокрушение, хрящи — немощные члены Антихриста… Эти писатели довели свой способ экзегезы до самых обыкновенных предметов, даже до общеупотребительных орудий.
Благочестивые наставления сменяли друг друга, не прерываясь. Ив Шартрский уверяет нас, что священники преподавали символику народу; из исследований бенедиктинца дом Питра также вытекает, что в Средние века сочинение святого Мелитона было популярно и общеизвестно. Таким образом, крестьянин знал, что его плуг — образ креста, а борозды, которые он оставляет, — возделанные сердца святых; ему было ведомо, что снопы суть плоды покаяния, мука — множество верующих, житница — Небесное Царство; то же самое относилось ко многим ремеслам; короче, метод аналогий был для каждого постоянным побуждением лучше наблюдать себя и лучше молиться.
При таком применении методика служила уздой для продвижения греха и рычагом, подымавшим души и помогавшим переступать ступени мистической жизни.
Конечно, эта наука, переведенная на многие языки, массам была доступна лишь в общих чертах, а иногда, попав в катки таких преизощренных умов, как у добрейшего Дуранда Мендского, она становилась как бы раздрызганной, полной ловкаческих применений и случайных смыслов. В таких случаях кажется, будто символист забавлялся, отстригая реснички маникюрными ножничками; но Церкви, невзирая на эти чрезмерности, которые она с улыбкой терпела, неуклонной тактикой все же удавалось спасать души и широко распространять культуру святости.
Потом пришел Ренессанс, и символика пошла ко дну в одно время с церковной архитектурой.
Собственно, мистика была счастливей своих вассалов: она пережила времена развеселых поношений; можно убедиться, что она пережила это время, ничего не производя, но затем в Испании породила самые роскошные свои цветы — святого Иоанна Креста и святую Терезу.
С той поры доктринальная мистика, по-видимому, истощилась, но мистика экспериментальная другое дело: она по-прежнему прививалась и развивалась в монашеских обителях.
Что же до литургии и пения, они прошли через самые разные фазы. Сначала их общипали и обкорнали в разнообразных провинциальных служебниках, потом усилиями дом Геранже литургию свели к единообразию по римскому бревиарию, и можно надеяться, что бенедиктинцы рано или поздно призовут все церкви строго соблюдать и настоящее григорианское пение.
А это самое главное, вздохнул Дюрталь. Он смотрел на собор, и теперь, когда ему приходилось на несколько дней отъехать, базилика стала ему особенно дорога; он пытался как можно лучше запечатлеть ее в памяти, сохранить главное, собрать воедино; и вот что он себе говорил:
Этот собор — компендиум Неба и Земли; он показывает нам сплоченные ряды небесных жителей: пророков, патриархов, ангелов и святых, освящая их прозрачными телами внутренность храма, воспевая славу Матери и Сыну; Земле он проповедует духовное восхождение, движение человека ввысь, ясно указывая христианам путь к совершенству. Чтобы уразуметь его символику, они должны войти через Царский портал, пройти неф, трансепт и клирос — три стадии аскезы, — и дойти до вершины креста, где, окруженная венцом апсиды, покоится склоненная глава Христова, которой подражают алтарь и скошенная ось клироса.
Так они приходят к жизни единительной, становятся совсем близко от Богородицы, которая здесь не стенает у подножья древа, как в скорбной сцене Голгофы, но остается, скрытая покровом ризницы, рядом с ликом Сына, приближаясь к Нему, чтобы лучше Его утешить, лучше Его разглядеть.
А снаружи эта аллегория мистической жизни, выраженная интерьером собора, дополняется молитвенным видом всего здания. Обезумев от радости единения с Богом, потеряв упование на жизнь земную, душа стремится лишь навек бежать от геенны своей плоти; и вот она воздетыми руками своих башен заклинает Жениха сжалиться над нею, прийти к ней, взять ее за сложенные ладони шпилей и оторвать от земли, унести с Собой, на небеса.
Наконец, этот храм — самое великолепное из явлений искусства, оставленных нам Средними веками. В его фасаде нет ни устрашающего величия ажурного фасада Реймса, ни медлительной грусти Нотр-Дам де Пари, ни грации гиганта, что в Амьене, ни массивной торжественности Буржа, но в нем явлены такая внушительная простота, стройность, порыв, которых не удалось достичь ни одному другому собору.
Только в Амьене центральный неф так же плющится, истончается, вытягивается, обесплочивается; но сам храм в Амьене светел и безжизнен, в Шартре же таинствен и задушевен; среди всех прочих он лучше всего выражает идею о тонком теле подвижника, истощенном молитвами, ставшем почти прозрачным от поста. Да и витражи его не имеют равных; они превосходят даже окна Буржа, а где, как не там, собор украшала целая плеяда богопочитателей! Наконец, его скульптуры на Царском портале — самые прекрасные, самые неземные среди изваянных человеческой рукой.
Этот собор не имеет подобных еще и потому, что в нем нет ничего от скорбного, грозного вида его братьев. Разве что несколько демонов гримасничают на порталах, не давая покоя душам; список адских кар здесь краток: лишь несколькими статуэтками исчерпывается перечень мук. Внутри же собора Богородица всегда остается Девою Вифлеемской, юной матерью, а Иисус подле Нее — всегда отчасти Младенец; Он послушен Ей и тогда, когда Она плачет о Нем.
Впрочем, собор свидетельствует о Ее долготерпении, о премногой любви Ее также и символически, длиной крипты и широтой нефа, которые здесь больше, чем в иных церквах.
Словом, это собор по преимуществу мистический, где Мадонна всего благодушнее принимает верующих.
Что ж, завершил Дюрталь, посмотрев на часы, аббат Жеврезен, должно быть, уже пообедал; самое время с ним попрощаться, а потом уж вместе с аббатом Пломом отправляться на вокзал.
Он прошел через двор епископского дома и позвонил в дверь аббату.
— Вот вы и едете… — сказала г-жа Бавуаль, провожая его от двери к хозяину.
— Еду…
— Я вам завидую, — вздохнул аббат, — вы увидите чудные службы, послушаете замечательное пение.
— Надеюсь; лишь бы это все позволило мне собраться, дало возможность жить в своей душе как дома, а не в каком-то настежь продуваемом помещении.
— Так вашей душе замков и шпингалетов не хватает? — засмеялась г-жа Бавуаль.
— Она у меня ни дать ни взять проходной двор, где толкутся все помыслы, каким не лень; как будто я все время не на месте, а хочу вернуться — место занято.
— И это очень понятно; на это и пословица есть.
— Пословица пословицей, а я…
— А вы, друг наш, знайте, что Господь и такой случай провидел; про помыслы, что толкутся, как мошкара, он так сказал Жанне де Матель, когда она пожаловалась на эту докуку: подражай тому охотнику, у которого сумка всегда не пуста, потому что, если ему не попадается крупная дичь, он и мелкой не брезгует.
— Да где ж и мелкую-то взять?
— А вы там живите в мире, — сказал аббат, — не тревожьтесь, накрепко ли заперто ваше достояние, и послушайте моего совета. Вы, не правда ли, имеете обыкновение читать те молитвы, которые знаете наизусть; в это-то время прежде всего и приходит рассеяние; так оставьте эти молитвы и неукоснительно вычитывайте в монастырской капелле последования служб. Их вы не так хорошо знаете, потому вам придется читать их внимательно уже для того хотя бы, чтоб понять, и вы не так-то скоро рассредоточитесь.
— Несомненно, — возразил Дюрталь, — но если пропустить молитвы, которые говоришь обыкновенно, чувство такое, будто вовсе не молился. Я согласен, что говорю нелепость, но нет верующего, который не имел бы этого впечатления, переменив текст своего правила.
Аббат улыбнулся.
— Истинные моления, — сказал он, — это тексты литургические, те, которым научил нас сам Бог; только они используют язык, достойный Его, собственный Его язык. Они полны и самодержавны, ибо все наши пожелания, все наши сожаления, все наши жалобы собраны в псалмах. Пророк все предвидел и все сказал; позвольте же ему говорить за вас и так, через него, получить у Бога заступничество.
Что же до прошений, с которыми вы, быть может, испытываете потребность обратиться к Богу вне отведенных для этого часов, то пусть они будут коротки. Подражайте египетским отшельникам, отцам-пустынникам, истинным мастерам в искусстве молитвы. Вот что сказал Кассиану старец Исаак{110}: молись не помногу, но часто, ибо, если молитвы твои будут долгими, враг придет и смутит их. Примите эти два правила, и они спасут вас от душевной смуты. Ступайте же с миром, а если возникнет какое затруднение, не стесняйтесь обратиться к аббату Плому.
— О друг наш, — со смехом воскликнула г-жа Бавуаль, — вы же можете избавиться от рассеяния тем способом, которым пользовалась святая аббатиса Аура, когда читала псалтырь. Она садилась в кресло со спинкой, утыканной сотнями острых гвоздей, а когда чувствовала, что уносится мыслями, налегала на спинку плечами; уверяю вас, лучше нет средства, чтобы встряхнуться и пробудить уснувшее внимание…
— Благодарю покорно!
— И вот еще, — продолжала служанка уже серьезно, — вам бы задержаться тут на несколько деньков: послезавтра ведь большой богородичный праздник; будут паломники из Парижа, по улицам пронесут раку с покровом Пречистой Матери…
— Нет-нет! — воскликнул Дюрталь. — Я очень не люблю коллективное благочестие; когда у Божьей Матери бывают торжественные приемы, я отхожу в сторонку и дожидаюсь, когда Она останется одна. Меня выводят из себя толпы людей, громко голосящих гимны и отыскивающих булавки на полу, опустив глаза якобы для помазания. Я за Цариц одиноких, за пустынные храмы, за темные капеллы. Я согласен со святым Иоанном Креста: он ведь признавался, что не любит паломничества в толпе: оттуда возвращаешься в еще большем рассеянье, чем отправлялся.
Нет, если мне что и жаль оставить, уезжая из Шартра, так это именно безмолвие, пустоту собора, встречи с Богородицей ночью в крипте и на рассвете в храме. Да только здесь и можно быть с Нею, видеть Ее! На самом деле, — продолжал он, поразмыслив, — здесь Ее видишь в полном смысле слова или, по крайней мере, воображаешь, что видишь. Если есть место, где я представляю себе Ее лицо и облик, то это в Шартре.
— Вот как?
— Да так, господин аббат: ведь у нас, в общем-то, нет никаких серьезных сведений, как выглядела, какой была в жизни Матерь Божья. Ее черты остаются невнятными — я уверен, это специально, чтобы каждый мог созерцать Ее в том обличье, которое больше всего ему нравится, облекать Ее в свой идеал.
Вот, скажем, Епифаний Кипрский{111}; он пишет, что Она высока ростом, с иссиня-черными дугами бровей, орлиным носом, розовыми губами и золотистой кожей; так Ее видит человек восточный.
А вот возьмите Марию Агредскую. У нее Богородица стройная, черноволосая и чернобровая, глаза скорее темно-зеленые, нос прямой, рот ярко-алый, кожа смуглая. Вы узнаете идеал испанской красоты, доступный аббатисе.
Наконец, обратимся к сестре Эммерих. По ее описанию Мария блондинка с большими глазами, довольно длинным носом, немного заостренным подбородком, светлым цветом лица и не слишком высокого роста. Тут мы имеем дело с немкой, а для нее чернявая красота не годится.
И обе эти женщины были провидицы, к которым приходила Сама Мадонна, принимая тот единственный облик, который мог бы их прельстить; точно так же Мелани в Ла-Салетт и Бернардетте в Лурде она показалась под видом пошловато-смазливым, единственно понятным для них.
Ну а я нимало не визионер, и мне, чтобы Ее себе представить, приходится прибегать к собственному воображению; вот мне и кажется, что я вижу Ее в очертаниях и даже в фигуре собора; черты лица Ее несколько расплываются в бледном сиянии большой розы, сверкающей над Ее головой, как нимб. Она улыбается, у Ее пронизанных светом глаз несравненный блеск тех светлых сапфиров, что освещают вход в храм. Ее тело струится, изливаясь скромным одеянием солнечных зайчиков; это платье все в складках, полосатое, как юбка мнимой Берты. Лик Ее перламутрово белеет, а волосы, будто сотканные на ткацком стане солнца, развеваются золотыми нитями; она — Невеста из Песни Песней: «Добра яко луна, избранна яко солнце». Базилика, где Она пребывает, с которой Она соединена, освещается Ее щедротами; самоцветные витражные стекла воспевают Ее добродетель; тонкие, хрупкие колонны, вырастающие в едином порыве от подножья до верхушки, поведают Ее чаянья и стремленья; плиты пола говорят о Ее смирении; своды, сходящиеся над Нею покровом, повествуют о Ее милости; камни и стекла повторяют за Нею молитвы; и даже воинственный вид некоторых деталей храма, в которых есть что-то рыцарственное, напоминающее о Крестовых походах — клинки и щиты окон, шлемы стрельчатых арок, кольчуга старой колокольни, железные решетки оконных переплетов, — тоже наводят на мысль о молитвах первого часа, о похвале Богородице после заутрени, выражает Ее способность быть, когда Она хочет того, «terribilis ut castrorum acies ordinata» — грозной, как армия, выстроенная к бою.
Но Она, я думаю, не часто этого хочет, и собор наш прежде всего отраженье Ее неистощимой благости, отзвук Ее негасимой славы!
— О, вам много простится, — воскликнула г-жа Бавуаль, — ибо вы много Ее возлюбили!
Дюрталь встал и начал прощаться; тогда старая служанка нежно, по-матерински обняла его и сказала:
— Мы будем всеми силами молиться, друг наш, чтобы Господь вас наставил, указал вам ваше призвание, чтобы Он Сам вел вас на пути, которым вы должны следовать.
— Надеюсь, господин аббат, ваш ревматизм немного полегчает, пока меня тут не будет, — проговорил Дюрталь, пожимая руку старцу.
— Что ж, — возразил аббат, — это ведь дурное желание не страдать вовсе; самый тяжкий крест — тот, которого нету. И вы поступайте как я, а верней, лучше, чем я, ведь я все-таки ропщу; примите сухость вашего сердца, искушение ваше, с весельем. Прощайте, благослови вас Бог!
— И храни вас Старейшина Мадонн французских, Богоматерь Шартрская! — добавила г-жа Бавуаль.
Когда дверь за Дюрталем затворилась, она вздохнула:
— Мне, конечно, будет немножко грустно, если он навсегда оставит наш город, ведь нам друг наш вроде сына; и все-таки я буду очень рада, если он станет настоящим монахом! — И вдруг рассмеялась: — Батюшка, а если он поступит в монастырь, ему усы сбреют?
— Несомненно.
Она с усилием попыталась представить себе Дюрталя бритым и опять засмеялась:
— Мне кажется, это ему будет не к лицу.
— Ох, женщины! — кротко пожал плечами аббат.
— Ну так что же должно нам ожидать от этой поездки? — спросила г-жа Бавуаль.
— Не меня об этом спрашивать.
— Верно. — И она, сложив руки, прошептала: — В Твоей это воле: помоги ему в унынии, вспомяни, что без Тебя он не может творити ничесоже, Матерь Божия у Столпа, Пресвятая Дева Подземелья!
001
Ее уделы почти опустели ради Лурда. Этот город в XIX веке стал Ее второй остановкой во Франции. Первая была в Ла-Салетт. — 11 февраля 1858 г. в Лурде (Франция) 14-летней пастушке Бернадетте Субиру явилась Дева Мария.
Дочка разорившегося мельника из Лурда, городка в Пиренеях, на рубеже Испании и Франции, Мария Бернарда (Бернадетта) Субиру (Лурд, 7 января 1844 г. — Невер, 1879) была хилой и, по общему мнению односельчан, чуть придурковатой девочкой. С 11 февраля по 16 июля 1858 г. в пещере под Лурдом она восемнадцать раз видела юную красивую женщину, которая на местном диалекте — «патуа» — сказала о себе: «Я — Непорочное Зачатие» (Qey soy era Immaculado Conception). Отдельные моменты видений так и остались загадочными — например, Дева велела Бернадетте съесть травы, которая росла на месте видения, девочка беспрекословно повиновалась. Над ней издевались, а она отвечала, что траву едят не только животные, но и люди — салат!
Некоторые видения происходили при большом стечении народа, но никто, кроме Бернадетты, не видел и не слышал ничего. Матерь Божия говорила о покаянии, о молитве Своему Сыну. Вскоре на месте чудесных видений забил источник. Потом видения оборвались, и Бернадетта больше никогда ничего подобного не испытывала. В 1866 г. ее приняли в монастырь в Невере, где она, по ее собственному выражению, «работала». Когда ее спрашивали, в чем эта работа заключается, она отвечала: «Я болею». У нее была астма, от которой она вскоре и умерла. Тогдашние врачи считали, что нюханье табака помогает при этой болезни, поэтому одна из реликвий, сохраняющихся в Лурде, — табакерка Бернадетты.
Лурд стал величайшим из центров паломничества, разразилась эпидемия лжевидений (куда более величественных, чем у Бернадетты, и переживавшие их отнюдь не собирались уходить в тень). Бернадетту Субиру канонизировали в 1933 г. не за видения, а за смиренную простоту и глубокую веру, явленные всей ее жизнью. Память 16 апреля.
Двенадцатью годами раньше, в 1846 г., Пресвятая Дева явилась двум молодым пастухам, Мелани Кальва и Максамену Жиро, в местечке Ла-Салетт во французских Альпах. Этот случай был официально признан католической Церковью.
002
После явления блаженной Марии-Маргарите… — Имеется в виду Мария-Маргарита от Ангелов (см. далее текст романа).
003
Святая Тереза. — Тереза Санчес Сепеда д’Авила и Аумада родилась 28 марта 1515 г. в Авиле в семье благородного дворянина Алонсо Санчеса де Сепеда, состоявшего в родстве с самыми благородными домами Кастилии. В детстве Тереза была весьма впечатлительным ребенком, отличавшимся глубокой набожностью, ее любимой книгой были жития святых и мучеников. В юности, несмотря на мысли о монашестве, Тереза не оставалась в стороне от светских увлечений, она сильно увлеклась рыцарскими романами и даже сама написала один. В возрасте 20 лет Тереза тайно бежала из дома и вступила в кармелитский монастырь Благовещения, приняв монашеское имя Тереза Иисуса.
В первые годы в монастыре Тереза тяжело заболела и долгое время оставалась парализованной; когда же ее привезли умирать в отчий дом, она вдруг оправилась и немедленно вернулась в монастырь. С годами юная девушка превратилась в мудрую и зрелую монахиню, вокруг которой сформировался круг людей, обращавшихся к ней за духовными советами. Вторая половина жизни Терезы была посвящена главным образом деятельности по созданию новых кармелитских монастырей и написанию книг. Она умерла в 1582 г. во время очередного путешествия в монастыре Альба де Тормес.
Тереза Авильская вошла в историю как реформатор кармелитского монашества в Испании. Как описывала позднее Тереза в своих книгах, во время жизни в монастыре она получила необычный мистический опыт: ей были явлены видения Иисуса Христа и херувима, пронзившего ее сердце огненным копьем. Высокой мистикой проникнуты все сочинения святой Терезы. Начав писать более по послушанию, нежели по желанию, когда ей было уже за 50, Тереза оставила после себя большое литературное наследие, фактически став не только первым богословом-женщиной в истории католической Церкви, но и первым испанским писателем-женщиной. Самой значительной книгой Терезы стал «Внутренний замок». В этом мистическом трактате она изображает душу как замок с многочисленными покоями, в центре находится Христос. Достигающий успехов в молитвенной практике переходит из одной комнаты в другую, пока не достигнет наконец самого сокровенного чертога. Каждому переходу соответствует тот или иной тип молитвы.
Святая Тереза беатифицирована в 1614 г. Папой Павлом V, канонизирована в 1622 г. Папой Григорием XV. День ее памяти отмечается католической Церковью 15 октября.
004
…словно сестра Эшера из страшного рассказа… — Имеется в виду рассказ Э. А. По «Падение дома Эшеров».
005
…когда я возвращалась из Испании, от Божьей Матери дель Пилар в Сарагосе… — Имеется в виду храм Пресвятой Деве дель Пилар, являющийся одним из главных центров христианских паломников. По преданию, в 40 г. Божья Матерь явилась во плоти на берегу Эбро и указала на некий столб. Базилика дель Пилар доминирует над всей Сарагосой: десять цветных куполов, четыре башни и гигантский купол в центре — подавляющий размерами храм вытянут вдоль площади с одноименным названием. Своды хоров Святой часовни расписаны Гойей. Однако главное сокровище храма расположено в часовне Пилар: это такой маленький, отдельный храм в храме, где статуя Богоматери из позолоченного дерева стоит на колонне — той самой, на которую она указала почти две тысячи лет назад на берегу Эбро. С обратной стороны часовни есть круглое, обрамленное золотом отверстие, через которое можно прикоснуться к колонне. Пречистая Дева дель Пилар считается покровительницей Сарагосы, где в Ее честь ежегодно празднуется Фиеста майор дель Пилар.
006
Мария Агредская, Мария Иисусова (исп. Maria Jesús de Ágreda, собственно Мария Фернандес Коронель, 2 апреля 1602 г., Агреда, Сория — 24 мая 1665 г., там же) — испанская монахиня ордена Непорочного зачатия, духовная писательница. С детства имела видения, переживала состояния экстаза, отличалась суровым аскетизмом. В 25-летнем возрасте стала аббатисой францисканского монастыря в Агреде, основанного ее родителями. Автор мистических и аскетических сочинений, наиболее известное из которых, трактат «Мистический Град Божий» (опубл. 1670), был внесен в индекс запрещенных книг (1681). Кроме того, известна ее переписка с королем Филиппом IV по вопросам государственного управления.
007
Это есть и в Шартре: там самый красивый в мире собор… — Шартрский собор (фр. Cathédrale Notre-Dame de Chartres) — самый известный памятник города Шартра, префектуры департамента Эр и Луар, расположенной в 96 км к юго-западу от Парижа. Нотр-Дам де Шартр считается одним из прекраснейших готических зданий. Собор был построен в начале XIII в. (основные строительные работы были выполнены в течение 30 лет) на руинах предыдущего романского собора, погибшего во время пожара 1194 г. Отличительной чертой собора является то, что две его башни, которые возвышаются над городом и над окрестной долиной Бос (фр. Beauce), сильно различаются между собой: северная башня имеет типичное древнеготическое основание (с контрфорсами и небольшим количеством отверстий) и шпиль в стиле пламенеющей готики, выполненный несколько позже (XV в.), южная башня, напротив, имеет основание уже готического стиля и увенчана более простым шпилем. Шартрский собор является местом паломничества.
008
Замечательная прозорливица Екатерина Эммерих в «Жизни Господней» сообщает… — Анна Катарина Эммерих (1772–1824) из Дюльмена — немецкая монахиня августинского ордена, «носила на себе стигматы Страстей Господних». Прикованную к постели Эммерих ежедневно посещали сверхъестественные видения, в том числе крестных страданий Христа. Известно, что рана на животе Анны Катарины Эммерих напоминала необычное распятие в форме буквы V, находившееся в церкви города Косвельд, в Германии, где она медитировала еще ребенком.
Стала известной не за свое исключительное благочестие, а прежде всего благодаря своим видениям, провозвестником которых стал Клеменс Брентано (к сожалению, не всегда объективно повествовавший о ее ясновидении). В католических домашних библиотеках того времени, наряду с трудами Мартина из Кохема, чаще всего встречались книга Брентано «Страдания и смерть Господа нашего и Спасителя» и его описание видений Катарины Эммерих, которая в XIX в. предсказала всю последующую историю Европы: «И видела я: великое противостояние раскололо Землю — зеленые и голубые объединились против белых».
5 октября 2004 года Иоанн Павел II беатифицировал немецкую монахиню и визионерку Анну Катарину Эммерих, ибо она «собственной плотью испытала страдания Господа нашего Иисуса Христа».
009
…статуя Девы Марии, перед которой много раз преклонял колени Олье… — Жан-Жак Олье (1608–1657), духовный писатель, первый настоятель церкви Сен-Сюльпис. До 1624 г. жил в Лионе, где его отец был интендантом короля. Учился в коллеже иезуитов. В 1622 г. получил благословение Франциска Сальского. Эта встреча произвела на него огромное впечатление. С 1625 по 1629 г. изучал философию в коллеже Арку (Harcourt), затем теологию в Сорбонне. В течение этого периода он проповедовал в духе эпохи.
В 1639 г. Олье впадает в депрессию… В течение двух лет остается в состоянии прострации и глубокого отвращения к самому себе. Усугубляет это состояние и кончина в 1641 г. его духовника, отца Кондрена. Олье полностью отдается Богу, отказываясь выйти из духовной темноты собственными силами, и лишь благодаря сокровенному озарению возвращается к жизни в Пасху 1641 г.
В сентябре 1641 г. в церкви Сен-Сюльпис Олье торжественно открывает новое сообщество, которое в декабре перерастает в первый семинар; занимается активной пасторской деятельностью (литургия, катехизис, благотворительная деятельность), посвящает много времени исповеди и духовным наставлениям. Впоследствии установленный при приходе семинар становится известен как семинар Сен-Сюльпис. Цель Олье состоит в подготовке настоящих пасторов, а не только искусных теологов, как это делала Сорбонна. Параллельно он основывает братство священников Сен-Сюльпис.
В 1652 г. после тяжелой болезни выходит в отставку, освободившись от тяжкого груза обязанностей кюре Сен-Сюльпис. С 1653 по 1657 г. Олье, хотя и ослаблен болезнью, продолжает заниматься миссионерской работой. В 1657 г. болезнь обострилась… Олье скончался в Париже 2 апреля, в возрасте 48 лет.
010
Болландисты — ассоциация иезуитов в Брюсселе (Бельгия), осуществляющая издание Acta Sanctorum, собрания житий святых, публикация которых была предпринята в начале XVII в. и продолжается по сей день. Замысел этой серии принадлежал Х. Росвейде, задумавшему издать все существующие оригинальные рукописи житий святых и связанных с ними легенд. В 1643 г., спустя 14 лет после смерти Росвейде, Иоганн Болланд (отсюда название «болландисты») опубликовал первые два тома серии. Агиографический материал организован по календарному принципу: жития расположены в порядке следования дней памяти соответствующих святых. Acta Sanctorum начинаются с 1 января и доведены до 10 ноября (всего 64 тома in folio). С 1882 г. болландисты издают также ежеквартальное обозрение «Analecta Bollandiana», в котором знакомят ученый мир с ранее не издававшимися агиографическими памятниками. В «Subsidia hagiographica» (еще одно издание болландистов) публикуются диссертации по агиографическим проблемам.
011
…вот, например, в житии Сезара де Бюс… — Блаженный Сезар (Цезарь) де Бюс родился 3 февраля 1544 г. в Кавайоне близ Авиньона (Франция) в состоятельной и благочестивой семье итальянского происхождения. В юности, в годы возмужания, пережил религиозный кризис, однако устоял перед искушениями и поднялся на большую духовную высоту. Он искал уединения и вел жизнь медитации и покаяния, посвятив себя заботам о больных и нуждающихся. В возрасте 38 лет он был рукоположен в сан священника. Под влиянием реформации основал объединение священников-мирян, «Конгрегацию христианского учения» (доктринариев), которая была утверждена 27 июня 1598 г. Клементом VIII. После многочисленных духовных и телесных страданий и потери зрения умер в первый день Пасхи, в воскресенье, 15 апреля 1607 г. Причислен к лику блаженных 27 апреля 1975 г. День памяти 15 апреля.
012
Екатерина (Карин) Шведская, святая (известна также как Catherine of Vadstena). Родилась в Ульфаса, Швеция, в 1331 г.; умерла 24 марта 1381 г.; ее почитание было одобрено в 1484 г. Папой Иннокентием VIII.
Четвертая из восьми детей святой Бригитты и ее мужа Ульфа Гудмарссона Ньеркского, Екатерина была в очень юном возрасте отправлена на обучение в женский монастырь Рисберг. Она хотела остаться в нем, чтобы реализовать свое духовное призвание, но ее отдали замуж в 13 или 14 лет за Эдгара Людерссона, человека, страдавшего всю жизнь от неизлечимой болезни. Супруги дали обет безбрачия, и Екатерина ухаживала за мужем с огромной заботой.
Екатерина весьма опечалилась, когда умер отец, а святая Бригитта переехала в Рим — Екатерина впала в прострацию (как она сама рассказывала святой Екатерине Сиенской) и разучилась улыбаться. В 1350 г. она едет в Рим, чтобы навестить свою мать. Там она узнала о смерти мужа, которую предсказала святая Бригитта. (Фармер указывает, что она возвратилась в Швецию и ухаживала за мужем до самой его смерти.)
После смерти мужа вела жизнь, посвященную Богу, как и хотела ранее, отказывая настойчивым ухажерам, желавшим взять в жены очаровательную юную вдову. По преданию, некоторые из тех, кто пытался силой увезти ее с собой, ослепли. Чтобы избавиться от преследователей, и просто в знак смирения, Екатерина всегда носила самую грубую и изношенную одежду.
На протяжении следующих 25 лет Екатерина оставалась преданной и верной помощницей своей матери. В 1372 г. они с матерью предприняли паломничество в Святую Землю. На следующий год после возвращения в Рим Бригитта умерла. Екатерина с останками своей матери вернулась в Швецию, где стала настоятельницей монастыря в Вадстена, основанного ее матерью, ставшего домом Бригиттинского (Сальваторского) ордена.
В 1375 г. она вернулась в Рим, чтобы получить папское благословение для ордена. Получив его от Урбана VI, но не добившись канонизации своей матери, она вскоре умерла. Житие ее было записано Ульфо, бригиттинской монахиней, через тридцать лет после смерти святой. День памяти 24 марта.
013
Иоанн Молчальник, еп. Колонии, святой. — Родился в 454 г. в Никополисе в Малой Армении. В 18 лет основал в своем родном городе монастырь и стал в 28 лет епископом Колонии (позднее называемой Tanara, Taxara) в Армении. После поездки в Константинополь он в 492 г. тайно отправился в Палестину и был там принят в Лавру (колония отшельников, возглавляемых общим настоятелем) Мар Саба близ Иерусалима, где стал учеником ее основателя св. Саввы. Позднее жил отшельником в пустыне Руба, однако через 6 лет был вновь приглашен Саввой. Святой Иоанн признался в своем епископском сане лишь тогда, когда его хотели посвятить в священники, и до самой смерти жил в постоянном молчании. Умер 8 января 1559 г.
014
…и Людовика Гонзаго, который так боялся женщин, что из страха дурных помыслов не смел взглянуть на собственную мать! — Святой Луиджи де Гонзаго родился в 1568 г. во дворце Кастильоне, возле Мантуи в Ломбардии. Был старшим сыном Фернандо Гонзаго, маркиза де Кастильоне делле Стивьере. С ранних лет Луиджи вращался в аристократической среде, был ее частью и впоследствии должен был унаследовать титул своего отца. Однако мир, в котором он вынужден был жить, становился все более невыносимым, и Луиджи восставал против него. Это был бунт человека, чьим идеалом было безоговорочное подражание Христу, человека, который предпочел богатствам бедность со Христом, почету — унижения со Христом униженным. Единственным человеком, который поддерживал его стремление к Христу, была мать, к ней он на всю жизнь сохранил необычайно трогательное отношение.
В возрасте девяти лет во Флоренции в Церкви Благовещения Луиджи принес обет вечного целомудрия перед престолом Пресвятой Девы. И хотя придворная знать выставляла его на посмешище, Луиджи несколько лет провел в Испании в качестве пажа Марии Австрийской. Тогда он окончательно решил посвятить себя Христу, и ничто не могло заставить его отступиться — ни гнев отца, ни мысль о разлуке с нежно любимой матерью, не говоря уже о богатстве и почестях. После долгих препирательств получив от отца согласие, Луиджи вступил в 1587 г. в Общество Иисуса.
В годы своего новициата и в Римской коллегии, когда Луиджи готовился к жизни священника под руководством св. Роберта Беллармина, его любовь к Христу стала еще глубже и все более настойчиво вела его к полному подчинению воле Бога. Так Луиджи достиг христианской зрелости и мудрости, которая знает, что пшеничное зерно, чтобы принести плод, должно прежде умереть. Для более реального прочувствования мучений Христа он мог часами истязать себя плетью перед Распятием.
Весной 1591 г. в Риме, где Луиджи изучал богословие, вспыхнула эпидемия чумы. Движимый верой и освещенный мистическими переживаниями, Луиджи добровольно вызвался служить больным, ухаживая за ними и посещая их на дому. Он не заразился, но скоропостижно скончался 21 июля 1591 г. от переутомления в своем самоотверженном служении. 21 декабря 1726 г. был канонизирован Бенедиктом XIII, который в 1729 г. объявил его покровителем студенчества.
В католической традиции существует предание о святом Луиджи де Гонзаго. Однажды во время учебы в семинарии он на перемене играл в мяч. Семинаристы, его товарищи, развлекаясь распространенной в то время забавой, отвечали на вопрос: «Что ты будешь делать, если через полчаса случится Страшный суд?» Кто-то говорил, что побежит сейчас же молиться, кто-то — что займется самобичеванием… Луиджи де Гонзаго на вопрос своих однокурсников ответил: «Я буду продолжать играть в мяч…»
015
Гуго Сен-Викторский (Hugues de Saint-Victor) (1097–1141) — французский философ-мистик, богослов, педагог. Родился во Фландрии в знатной семье. Получил начальное образование в Хаммерслебенском монастыре близ немецкого города Хальберштадта, затем переехал в Париж, который был центром философско-теологического образования Западной Европы. Обосновался в аббатстве Сен-Виктор, где находилась крупная философская школа созданная Гильомом де Шампо. Гуго Сен-Викторский — самый знаменитый представитель этой школы, с 1138 г. — ее глава.
Гуго Сен-Викторский — автор многочисленных богословских («О таинствах христианской веры», «О суетности мира», «Описание небесной иерархии св. Дионисия Ареопагита» и др.) и дидактических («Описание карты мира», «О грамматике», «Практическая геометрия» и др.) трактатов. Самое известное его философско-дидактическое сочинение — «Дидаскаликон», написанный в 20-е гг. Этот труд резюмирует дидактическую литературу поздней античности и раннего Средневековья. Вобрав в себя основные достижения философской и дидактической мысли, он дает стройное и краткое определение системы знаний и наук, способов и последовательности их освоения, связывая все это с системой мира и со смыслом существования человека. «Дидаскаликон, или Семь книг назидательного обучения» по своему философскому содержанию — одно из лучших и наиболее характерных сочинений XII в. Поскольку для средневековой философии был присущ дидактизм (задача состояла не только в познании истины, но и в передаче ее другим), философия была схоластической и философские труды создавались в форме диалога между учителем и учеником. Поэтому Гуго Сен-Викторский при написании этого трактата поставил перед собой откровенно дидактическую цель — наставить учащихся в том, что, как и в какой последовательности читать, чтобы быстрее постигнуть искусства и науки. Чтение должно перемежаться с размышлениями и запоминанием прочитанного и услышанного от учителя. Рассказ о различных науках и искусствах Гуго Сен-Викторский связывал с картиной мироздания, которая объяснила разнообразие знаний.
016
Святой Дунстан, архиепископ Кентерберийский (909–988) настоятель Гластонбери, впоследствии — епископ Лондонский и Вустерский, архиепископ Кентерберийский, ближайший советник и наставник трех английских королей.
Трудами Дунстана и его соратников были восстановлены английские монастыри, разоренные за время нашествий викингов, основаны новые обители, обновлен весь уклад религиозной жизни Англии. Дунстана стали почитать в первые десятилетия после его смерти, а с XII в. его культ получил повсеместное распространение в Англии. Согласно преданиям, Дунстан был не только выдающимся государственным и церковным деятелем, но и мастером, художником, музыкантом. Утверждается, что он умел лить колокола и делать органы, а также являлся автором гимна Kyrie rex splendens. В Бодлеанской библиотеке в Оксфорде хранится старинная книга из Гластонбери, содержащая фрагменты из Священного Писания на латыни и греческом, гомилию о Кресте на древнеанглийском языке, несколько очень древних валлийских глосс и миниатюру с изображением Дунстана, распростершегося у ног Христа. Надпись XIII в. гласит, что создателем и владельцем этой книги был Дунстан, и историки не исключают такую возможность.
Дунстан принадлежал к знатному соммерсетскому роду, состоявшему в родстве с королевской династией. Его отца звали Хеорстан, а мать — Кюнетрит. В житии святого рассказывается, что, когда беременная Кюнетрит молилась в церкви на Сретенье, в храме внезапно погасли все светильники. Через мгновение свеча в руке Кюнетрит вспыхнула, и все собравшиеся зажгли свои свечи от ее чудесного огня.
Еще учась в гластонберийской школе, юный Дунстан увидел в видении восстановленный и заново отстроенный монастырь Гластонбери, с новой церковью и монахами — то было чудесное пророчество, которое позднее его усилиями претворилось в жизнь.
Когда Дунстан подрос, дядя Этельхельм пригласил его в Кентербери и представил королю Этельстану (924–939). Какое-то время юноша жил при дворе, но, по всей видимости, не находил общего языка с другими молодыми людьми из королевского окружения. Его обвиняли в изучении языческой премудрости и колдовстве — возможно, поводом для этого послужил интерес Дунстана к книгам из королевской библиотеки, в том числе трудам классических авторов и записям древних англосаксонских песен. Однажды недоброжелатели подстерегли Дунстана, связали его и бросили в зловонную яму, из которой ему чудом удалось выбраться.
Эти решения и враждебность завистников не помешали Дунстану оставаться при дворе вплоть до того момента, когда, после смерти Этельстана, на трон вступил его младший брат Эдмунд (939–946). Новый король поверил наветам и изгнал Дунстана, вынудив его просить помощи и убежища у прибывших ко двору франкских послов. Однако спустя несколько дней король отправился на охоту. Внезапно его конь понес и, не разбирая дороги, выскочил на самый край крутого обрыва. Готовясь к неминуемой смерти, Эдмунд внезапно понял, что обошелся с Дунстаном несправедливо. Когда он мысленно произнес обещание исправить ошибку, если останется жив, конь резко остановился… По возвращении король призвал к себе Дунстана. Они вдвоем поехали в Гластонбери и вместе молились в часовне, после чего Эдмунд назначил Дунстана настоятелем монастыря, даровал ему обширные земли и пообещал свою помощь в возрождении обители. Сохранилась дарственная грамота короля Эдмунда «Дунстану, настоятелю Гластонбери», датированная 940 г.
Дунстан занялся восстановлением монастыря: был возведен новый храм Св. Петра, обновлены кельи и другие постройки. За пятнадцать лет ему удалось создать хорошо организованную и дисциплинированную монашескую общину, жившую в соответствии с уставом Св. Бенедикта. Одно из преданий гласит, что он предсказал обрушившуюся на Англию после его смерти трагедию датского и нормандского завоевания, объявив ее возмездием за кровь короля Эдварда, убитого по повелению матери Этельреда.
Святой Дунстан умер 19 мая 988 г. Автор его жития рассказывает, что тремя днями ранее к святому явился ангел и назвал дату его смерти. Это произошло утром в день Вознесения Господня. Дунстан отслужил три праздничные мессы, потом разделил трапезу с братией и, вместе с одним из монахов, выбрал место для своей могилы. После этого он прилег отдохнуть и уже не встал со своего ложа, поскольку его поразила тяжелая болезнь, от которой он спустя три дня умер.
Дунстан был похоронен в кафедральном соборе Кентербери. Впоследствии монастырь Гластонбери претендовал на владение его мощами, но вскрытие гробницы в Кентербери в 1508 г. доказало безосновательность этих притязаний.
017
Ее разъясняли святые Исидор Севильский и Августин. — Святой Исидор, архиепископ Севильский, Учитель Церкви. Родился в Картахене, Испания, ок. 560 г.; умер в Севилье, Испания, 4 апреля 636 г.; канонизирован Папой Климентом VIII в 1598 г.; провозглашен Учителем Церкви Папой Иннокентием XIII в 1722 г.
Святой Исидор родился в благородной испанско-римской семье и, хотя впоследствии стал одним из самых образованных людей своего времени, в детстве ненавидел учебу, возможно, потому что его старший брат, святой Леандр, обучавший его, был строгим наставником.
Вероятно, Исидор помогал Леандру управлять архиепархией, поскольку в 601 г. сменил Леандра на посту архиепископа Севильи. Во время своего длительного правления Исидор укрепил испанскую Церковь проведением синодов, учреждая школы и монашеские ордена, борясь с арианской ересью среди визиготов. Он председательствовал на Севильском синоде в 619 г. и на Толедском синоде в 633 г.
Столетиями Исидора считали «энциклопедистом Средних веков», так как он написал 20-томный труд Etymologies, или Origins, — энциклопедию, в которой содержались все известные в VII в. познания. Его Chronica Majora охватывала все мировые события от сотворения мира, включая труды других историков Церкви и события из испанской истории. Другая работа была дополнением трудов святого Иеронима по жизнеописанию всех упомянутых в Библии исторических лиц. Его фундаментальные труды о готах и вандалах до сих пор представляют исключительную ценность. Он также автор многих монастырских уставов, а также книг по астрологии, географии и богословию.
Не являясь философом-мыслителем, святой Исидор оставил после себя труды, оказавшие глубокое влияние на средневековых авторов, что подтверждается большим количеством ссылок на его работы в старинных манускриптах. Данте упоминает его в Paradiso (X, 130), наряду с Бедой Достопочтенным и Ричардом Сен-Викторским. По сути, в момент своей смерти Беда переводил фрагменты книги Исидора «О чудесах в природе» (De natura rerum).
Архиепископ Севильский считается самым образованным человеком своего времени. Не только потому, что Церковь назвала его Учителем Церкви вскоре после его смерти, но потому, что он являлся примером человека, в котором соединились святость и просвещённость. Память 4 апреля.
Святой Августин. — Августин Блаженный (лат. Augustinus Sanctus, полное имя Аврелий Августин) (13 ноября 354 г., Тагаст, Нумидия — 28 августа 430 г., Гиппон, близ Карфагена) — христианский богослов, философ, проповедник и политик. Один из Отцов Церкви, основатель августинизма. Оказал огромное влияние на западную философию и католическую теологию. Некоторая часть сведений об Августине восходит к его автобиографической «Исповеди» («Confessiones»). Через манихейство, скептицизм и неоплатонизм пришел к христианству, учение которого о грехопадении и помиловании произвело на него сильное впечатление. Наиболее известными из сочинений Августина являются «De civitate Dei» (О граде Божьем) и «Confessiones» (Исповедь), его духовная биография, сочинение «De Trinitate» (О Троице), «De libero arbitrio» (О свободной воле), «Retractationes» (Пересмотры). Его память отмечается католической Церковью 28 августа, Русской православной церковью — 15 июня по старому стилю.
018
Мишле, всегда терявший голову при виде собора… — Жюль Мишле (фр. Jules Michelet; 21 августа 1798 г., Париж — 9 февраля 1874 г., Йер) — французский историк и публицист, представитель романтической историографии, автор глубоко субъективных трактатов об истории, обществе и природе, написанных ярким, взволнованным языком.
019
Знакомы ли вам мысли Гонория Августодунского… — Гонорий Августодунский, церковный писатель первой половины XII в. Биография Гонория неизвестна, и исследователи средневековой богословской литературы обычно именуют его «загадочным». Все сведения о нем почерпнуты почти исключительно из его сочинений. Неизвестны ни годы его жизни, ни даже национальность. Гонорий, оставивший около 40 трактатов богословского и исторического содержания, не принадлежал к числу крупных мыслителей своего времени и не внес заметного вклада в развитие теологии. «Элуцидарий» считается наиболее ранним его сочинением, составленным в самом начале XII в., по мнению некоторых исследователей, под прямым влиянием «отца схоластики» Ансельма Кентерберийского; как полагают, Гонорий был учеником английского архиепископа. Исследование текста «Элуцидария» обнаруживает также влияние идей Августина и других Отцов Церкви, с произведениями которых, однако, Гонорий был знаком преимущественно из вторых рук, вероятно в изложении опять-таки Ансельма.
Как уже отмечено исследователями его творчества, Гонорий Августодунский ставил перед собой цели популяризации и наставления в теологических основах священников, непосредственно общавшихся с паствой. Таковы его наиболее знаменитые сочинения Cur Deus homo, Speculum Ecclesiae, De Imagine mundi и Clavis physicae.
020
…как отзывается о нем майнцский епископ IX столетия Рабан Мавр. — Рабан Мавр (Храбан Мавр, лат. Rabanus (Hrabanus) Maurus) (ок. 780, Майнц — 856) — французский богослов IX в., ученик Алкуина, аббат Фульды, архиепископ Майнцский, ученый, латинский писатель, педагог, поэт, деятель «Каролингского возрождения». Автор одной из первых средневековых энциклопедий. Упоминается Данте Алигьери в «Божественной комедии» (Рай). Беатифицирован католической Церковью.
В девять лет Рабан стал по настоянию матери монахом ордена бенедиктинцев в Фульде. В монастыре он проявил большой интерес и способности к наукам. В 801 г. стал дьяконом, а в 802-м (или в 806 г.) его послали в г. Тур к Алкуину, где он учился шесть лет. После возвращения в Фульдский монастырь ему поручили возглавить монастырскую школу.
Рабан уделял большое внимание изучению языков и был первым, кто ввел во Франкском королевстве обучение греческому языку. Вскоре слава о школе Фульдского монастыря разнеслась по всей Германии. Число учеников росло. Среди них были аббаты, монахи, отпрыски знатных фамилий. Многие из тех, кто учился в школе Храбана, стали впоследствии известными учеными-богословами.
В 818 г. (по другим источникам — в 815 г.) Рабан обратился к литературному творчеству и впоследствии уже не прерывал литературных занятий. Среди его трудов множество комментариев к Библии, жизнеописания святых (мартирологи), описания церковной и монастырской жизни, проповеди, морализаторские сочинения. Наряду с теологическими сочинениями он оставил также труды по различным отраслям знаний и учебники для церковных школ: «О воспитании клириков», «Книгу о грамматике», «Сочинение о Вселенной», «Об изобретении языков», «О стихосложении» и др. сочинения.
В 847 г. Рабан стал архиепископом г. Майнца и советником Людовика Благочестивого и его сыновей. Помимо занятий преподавательской и литературной деятельностью Храбан много сил и времени отдавал устройству церковной жизни. По его инициативе было восстановлено много старых церквей и построено новых, основано несколько монастырей.
021
Омофор (от греч. ώμος — плечо и φόρος — нести), нараменник, нарамник (от ст.−слав, рамо, двойственное число рамена — плечо, плечи) — принадлежность богослужебного облачения архиерея. Различают великий и малый омофор: великий омофор — длинная широкая лента с изображениями крестов, огибая шею, спускается одним концом на грудь, другим — на спину; малый омофор — широкая лента с изображениями крестов, спускается обоими концами на грудь, спереди сшита или закреплена пуговицами.
Омофор надевается поверх саккоса и символизирует овцу, заблудшую и принесенную добрым пастырем на плечах в дом (Лк.15: 4–7), то есть спасение Иисусом Христом человеческого рода. А облаченный в него епископ изображает собой Христа Доброго Пастыря, который взял заблудшую овцу на плечи и отнес ее к незаблудшим (т. е. ангелам) в дом Отца Небесного. Также омофор изображает благодатные дарования архиерея как священнослужителя, поэтому без омофора, как и без епитрахили, архиерей не может священнодействовать. Архиерей совершает все богослужения в великом омофоре, кроме Литургии, совершаемой в малом омофоре.
Орарь — принадлежность богослужебного облачения диакона и иподиакона — длинная узкая лента. Диакон носит орарь на левом плече — один конец спускается на грудь, другой на спину. Архидиакон и протодиакон имеют двойной орарь — два ораря, из которых один надет как у диакона, а второй спускается от левого плеча к правому бедру и соединяется концами. Иподиакон надевает орарь крестовидно, в знак того, что он не имеет благодатных дарований священнослужителя. Диакон надевает орарь крестообразно во время причащения. Орарь является символическим изображением благодатных дарований диакона как священнослужителя.
Епитрахиль (греч. επιτραχηλιον — то, что вокруг шеи) — принадлежность богослужебного облачения священника и архиерея — длинная лента, огибающая шею и обоими концами спускающаяся на грудь. Спереди епитрахиль сшита или скреплена пуговицами, надевается поверх подризника или рясы. Символизирует благодатные дарования священника как священнослужителя. Архиерей носит епитрахиль в знак сохранения иерейских благодатных дарований. Без епитрахили священник и архиерей не могут священнодействовать. В крайних случаях (например, в условиях гонений на Церковь, если священник находится в заключении) заменой епитрахили может служить любой длинный кусок материи или веревки, благословленный как епитрахиль. Первоначально епитрахилью был диаконский орарь, который в знак усиления благодатных дарований при рукоположении диакона в священники перекладывался вторым концом со спины на грудь. Впоследствии оба конца епитрахили стали спереди скреплять.
Подрясник — длинная одежда до пят с длинными узкими (в отличие от рясы) рукавами. Бывает черного (у монахов) или иного цвета (у белого духовенства). Подрясник — нижнее облачение православного духовенства.
022
Клара Ассизская, урожденная Киара Оффредуччо (16 июля 1194 г. — 11 августа 1253 г.) — итальянская святая, одна из первых последователей Франциска Ассизского и основательница ордена клариссинок.
«Я — Клара, маленький саженец нашего святого отца Франциска…» — так любила называть себя святая Клара Ассизская. Конечно, именно святой Франциск способствовал ее становлению, когда она, восемнадцатилетняя девушка, нашла у него прибежище, решив посвятить себя Господу.
Требовательность Клары к себе была поистине безграничной, жизнь ее была одним сплошным постом («Дни скудного питания, — отмечает летописец, — чередовались с днями полного воздержания от пищи»). Франциск был вынужден даже вмешаться, заставив ее есть «хотя бы полторы унции хлеба в день». Самые грубые власяницы из свиной щетины она носила прямо на голое тело, долгие ночи проводила в молитвах, распростершись на голых плитах в течение многих часов! Она оставляла за собой самые неприятные и унизительные обязанности (настаивая на том, что именно она «должна мыть сиденья больных»), сама мыла и целовала заляпанные грязью ноги монахинь, возвращавшихся после сбора пожертвований.
Чудеса случались даже тогда, когда Клара совершала крестное знамение, передавая больным и скорбящим свою пламенную любовь к Христу. Святую, постоянно погруженную в свои далекие от земного мысли, посещали столь сильные видения, что даже ее сестры иногда зримо ощущали ее близость к Сыну Божьему.
Следует вспомнить хотя бы знаменитый эпизод осады монастыря сарацинами. Их бросил на Ассизи Фридрих II, чтобы досадить Папе Иннокентию III, который очень любил этот город и считался его опекуном. Так же как Франциск и Клара, Фридрих был крещен в купели Ассизского собора. Многие считали его воплощением Антихриста.
Город подготовился к осаде, но монастырь Св. Дамиано находился за стенами города, и не было никого, кто мог бы защитить бедных монахинь. Франциск, когда-то имевший мужество безоружным встретиться лицом к лицу даже с ужасным султаном Медокомэль Камелем, умер. Клара уже давно болела, прикованная к своему убогому ложу, которое покрыли соломой (она вынуждена была согласиться), но святая попросила подвести ее к дверям монастыря и положить перед ней небольшую серебряную дарохранительницу, в которой хранилась Евхаристия. Когда жестокие сарацины уже перелезли через монастырскую стену, Клара с трудом пала ниц и возложила руки на драгоценный ларец, моля Бога: «Господи, храни Твоих рабынь, ибо я не могу их охранить!» И тогда две сестры, поддерживавшие Клару, услышали — о чем они дали клятвенное свидетельство на процессе канонизации — нежнейший детский голосок, исходивший из дарохранительницы: «Я буду защищать тебя всегда».
Никто не знает того, что же случилось, однако сарацины внезапно отступили, не осмелившись приблизиться к дверям, пред которыми молилась Клара. Вечером того же дня она позвала двух сестер, взяв с них клятву, что, пока она жива, они никому и никогда не расскажут о том, что слышали.
Клара пережила Франциска на двадцать семь лет, которые провела, храня его духовное наследие и память о нем. Живя в маленькой и далекой итальянской провинции, она смогла привлечь к себе даже принцесс и королев, таких, как Изабелла Французская, Агнесса Пражская, Елизавета Венгерская, Маргарита — вдова короля Людовика, Бьянка — жена Филиппа V, короля Франции, и многих-многих других.
В последние мгновения перед смертью окружающие слышали, как она прошептала: «Иди смело, ибо у тебя надежная охрана. Иди смело, ибо Тот, Кто тебя создал и освятил, покровительствует тебе всегда, как мать защищает своего сына; Он любит тебя нежной любовью». Ее спросили, к кому обращает она эти слова? И святая ответила: «Я говорю со своей благословенной душой. — И добавила: — Будь благословенен Ты, о Господи, что создал меня!» День памяти святой Клары Ассизской 11 августа.
023
…она идет и от святого Дионисия Ареопагита, и от святой Маддалены Пацци… — Святой Дионисий Ареопагит — странный безымянный автор, приписывавший свои работы Дионисию Ареопагиту, другу св. Павла, и адресовавший свои послания о мистицизме сподвижнику последнего, Тимофею. Псевдо-Дионисий был, по-видимому, сирийский монах, а цитируемые им фрагменты из сочинений Отцов Церкви показывают, что его труды не могли быть написаны ранее 475 г. — скорее всего, расцвет его деятельности относится к началу VI в. К числу его основных работ относятся трактаты о небесной иерархии и именах Бога, а также короткое, но бесценное сочинение о мистической теологии. Средневековый мистицизм буквально пропитан концепциями Дионисия. В XIV столетии — золотом веке мистической литературы — фраза «Дионисий говорит» встречается с завидным постоянством и обладает для тех, кто ее использует, таким же весом, как цитаты из Библии и изречения Отцов Церкви.
Значение трудов Дионисия заключается в том, что он был первым и, на протяжении долгого времени, единственным христианским автором, попытавшимся искренне и точно описать деятельность мистического сознания и природу экстатического постижения Бога. Эти труды выполнили свою задачу настолько хорошо, что, читая их, позднейшие созерцатели находили в них отражение и частичное объяснение своих самых сокровенных переживаний. Поэтому для описания собственного опыта они перенимали язык и метафоры Дионисия, ставшие впоследствии классическими терминами науки о созерцании. Именно Дионисию христианская литература обязана представлением об Абсолютном Божестве как о «Божественной Тьме» и безусловным отрицанием «всего, что есть» — т. е. всего воспринимаемого внешним сознанием. Кроме того, благодаря Дионисию получил распространение так называемый «путь отрицания» — учение, согласно которому душа достигает Абсолюта, погружаясь в «божественное неведение». Подобная идея присутствует также в греческой и индийской философии. Благодаря Дионисию она вошла и в обиход католического христианства.
Маддалена Пацци. — Святая Мария Маддалена деи Пацци (1566–1607), флорентийская кармелитка, автор множества мистических сочинений. Родилась 2 апреля 1566 г. во Флоренции, происходила из аристократического рода Пацци. В 1582 г. вступила в монастырь кармелиток Санта-Мария дельи Ангели во Флоренции и годом позднее дала орденский обет, лежа в постели больная. С 1585 г. она страдала от тяжелейших внутренних испытаний и мучительных болей, не ощущая при этом божественного заступничества. За 5 лет ее исполненная страдания душа была очищена для высшего мистического соединения с Богом. Высказывания святой во время видений, касавшихся многих вопросов духовной жизни и тайны Троицы, записывали другие сестры. Маддалена деи Пацци принадлежит к самым значительным женщинам-мистикам католической Церкви. Имела дар прорицания и чудотворения. Многие годы она была наставницей послушниц, затем заместительницей игуменьи. Умерла 25 мая 1607 г. Ее нетленные мощи покоятся в ближнем Кареччи. Причислена к лику блаженных в 1626 г., к сонму святых — в 1669 г.
024
Эрнест Элло (Ernest Hello) (1828–1885) — ревностный католик, но весьма посредственный писатель, в своих произведениях — «Человек» (1872), «Лики святых» (1875) — разрабатывал тему христианской мистики.
025
Блаженная Лидвина. — Лидвина из Скедама (нидерл. Liduina van Schiedam, 18 марта 1380 г., Скедам, под Роттердамом — 14 апреля 1433 г., там же) — нидерландская святая. В пятнадцатилетием возрасте, катаясь на коньках, упала и сломала ребро. Стала калекой, тридцать пять лет провела без движения (сегодня ее болезнь описывают как рассеянный склероз). Обходилась без сна и еды, почти без питья. Совершала чудеса. Сочинений не оставила. Могила Лидвины превратилась в место поклонения, в 1434 г. над ней была воздвигнута церковь. Биографию Лидвины написал Фома Кемпийский. Канонизирована в 1890 г., день памяти — 14 апреля. Книга о святой была написана Ж. К. Гюисмансом в 1901 г.
026
Ведь XIV столетие сотрясали страшные смуты. Началось оно с мерзких раздоров Филиппа Красивого с Папой; оно разожгло костер тамплиеров, на котором потом жарило в Лангедоке бегардов и полубратьев, прокаженных и евреев, и наконец утонуло в крови после разгромов при Кресси и Пуатье, бешеных бесчинств Жакерии, майотенов… — Имеется в виду борьба Филиппа IV Красивого (фр. Philippe IV le Bel, 1268, Фонтенбло — 29 ноября 1314 г., Фонтебло) — французский король (1285–1314) — с Папой Бонифацием VIII. В первые годы своего понтификата Бонифаций относился довольно дружелюбно к французскому королю, но вскоре по чисто фискальным причинам они рассорились. Осенью 1296 г. Бонифаций издал буллу clericis laicos, категорически запрещавшую духовенству платить подати мирянам, мирянам — требовать таких платежей у духовенства без специального соизволения римской курии. Филипп, вечно нуждавшийся в деньгах, видел в этой булле ущерб своим фискальным интересам и прямое противодействие начинавшей господствовать при Парижском дворе доктрине, главный сторонник которой, Гильом Ногарэ, проповедовал, что духовенство обязано деньгами помогать нуждам своей страны.
В ответ на буллу Филипп Красивый воспретил вывоз из Франции золота и серебра; Папа, таким образом, лишался солидной статьи дохода. Обстоятельства были за французского короля — и Папа уступил: издал новую буллу, сводившую к нулю предыдущую, и даже в знак особого благоволения канонизировал покойного деда короля, Людовика IX.
Эта уступчивость не привела, однако, к прочному миру с Филиппом, которому хотелось дальнейшей ссоры: его соблазняло богатство французской Церкви.
Когда Бонифаций VIII умер, а через 10 месяцев умер и его преемник, Бонифаций IX, молва приписала это отраве, так как эта смерть пришлась весьма кстати для французского короля.
Новый Папа (француз) Климент V, избранный в 1304 г., перенес свою резиденцию в Авиньон, находившийся не во власти, но под непосредственным влиянием французского правительства. Покончив с папством, сделав его орудием в своих руках, Филипп принялся осуществлять свою заветную мечту. Ему давно уже хотелось наложить руку на орден тамплиеров, обладавший большим богатством, к тому же он много задолжал этому ордену. В 1307 г. Ногарэ велел арестовать тамплиеров и начал против них процесс, который вели, кроме светских властей, еще и инквизиторы. Под ужасающими пытками большая часть рыцарей созналась во всех преступлениях, какие только приходили в голову их палачам. Процесс длился несколько лет; Климент V пытался защищать несчастных рыцарей, но король предал их суду, который постановил сжечь многих членов ордена. В 1311 г. Папа объявил орден уничтоженным, и Филипп завладел почти всем его имуществом.
Бегарды (лат. Beghardi, Beguini) — мужские религиозные союзы для совместной благочестивой жизни (в братских общежитиях, collegia beguinorum), возникшие около 1215 г. в Германии, Нидерландах и Франции (особенно на юге), а оттуда под именем bisachi, bisoccia, bocasati распространившиеся и в Италии. Преследуя те же цели, что и женские союзы бегинок, они, однако, не сумели удержаться на должной высоте. Уже к концу XIII в. их часто клеймили прозвищем дармоедов, bons garçons, boni pueri или valetes. К ним примкнули также многие изгнанные Папой Иоанном XIV францисканские монахи (фратичелли). Преследования против них начались с тех пор, как они возбудили против себя подозрение в сношениях с разного рода еретиками, альбигойцами, вальденцами, братьями Св. Духа и т. д. По распоряжению Папы Климента II они были осуждены на вселенском соборе в Виенне (1311). После этого многие из них слились с францисканскими и доминиканскими терциарами, и в этом виде сохранились в Бельгии вплоть до XVII в.
Полубратья (фратичелли, Братья бедной жизни) — воинствующая средневековая секта. Сформировалась в XIII в. под влиянием радикального крыла францисканцев-спиритуалов, создавших тайную организацию Братьев бедной жизни (Fratres de paupera vita) для реализации идей превращения Церкви в общество нищих праведников. Спасаясь от преследований, многие фратичелли примкнули к бегардам.
Орден францисканцев не замедлил расколоться на два течения — конвентуалов и спиритуалов. Первые — сторонники монастырской жизни — представляли верхушку ордена, выступавшую за отмену строгого орденского устава. Это были политиканы, тесно связанные с церковной иерархией, жаждавшие власти, мирских почестей, богатств и наслаждений. Спиритуалы же продолжали желать неосуществимого — возврата к первоначальному порядку в ордене, выступали против обогащения Церкви и требовали превращения ордена и всей Церкви в сообщество праведников.
О преследовании спиритуалов и других ересей сохранились далеко не все данные, но и те, что имеются в распоряжении историков, свидетельствуют о том, что папство и инквизиция преследовали их с не меньшим рвением, чем катаров.
В Каркассоне с 1318 по 1350 г. — 113 спиритуалов. Костры пылали в Тулузе и других городах Франции и Испании, причем с особой жестокостью инквизиторы преследовали спиритуалов, принадлежавших к течению фратичелли.
Битва при Кресси (1346) — грандиозное сражение Столетней войны, в котором французская армия под предводительством Филиппа IV была разгромлена войсками англичан, с королем Эдуардом III во главе.
Битва при Пуатье (19 сентября 1356 г.) является одним из главных эпизодов Столетней войны. Погиб весь цвет французского рыцарства. В числе убитых были герцог Бурбонский, коннетабль Франции, епископ Шалонский, 2426 рыцарей; всего убито 8 тыс., а 5 тыс. перебито во время бегства. Пленного короля торжественно привезли в Лондон (24 мая 1357 г.). С Францией было заключено перемирие на 2 года. Наместником короля стал дофин Карл V Мудрый.
Жакерия (фр. Jacquerie) — крестьянское восстание, вспыхнувшее во Франции в 1358 г. в ответ на нищенское положение, в котором находилась Франция вследствие войн с Эдуардом III Английским (Столетняя война 1337–1453) и грабежей наемных солдат. Дворяне звали своих крестьян в насмешку Jacques bon homme — Жак-простак; отсюда и произошло название восстания.
Майотены (maillotins, от maillet или maillot — бердыш, боевой топор), участники восстания 1382 г. в Париже, вызванного увеличением налогового гнета во время Столетней войны (1337–1453). Поводом послужило введение в январе 1382 косвенного налога (aide). Восстание вспыхнуло 1 марта при первой попытке взимания этого налога. Майотены — по преимуществу подмастерья, поденщики, мелкие торговцы, захватив оружие (в том числе и бердыши — отсюда название «майотены»), хранившееся в ратуше, стали громить дома сборщиков налогов, богатых горожан, знати. Цеховая верхушка, сначала примкнувшая к движению, испугалась его размаха и вступила в переговоры с королевской властью, от которой получила обещание отменить введенный налог при условии выдачи зачинщиков восстания (последние затем были казнены). Сбор налогов королем был временно приостановлен. При попытке правительства восстановить налог волнения в Париже вновь возобновились летом 1382-го. Только в начале января 1383 г. восстание майотенов было окончательно подавлено.
027
Святой Григорий Назианзин. — Святитель Григорий Богослов родился в 329 г. в Арианзе (недалеко от Назианза Каппадокийского). Его отцом был св. Григорий, епископ Назианский, а матерью св. Нонна, которая молилась о сыне и дала обет посвятить его Господу и, как ей было открыто в сновидении, назвала его Григорием. Как и его друг св. Василий Великий, Григорий получал образование у лучших учителей Каппадокии и Афин, с ними вместе учился и будущий император Юлиан Отступник, вскоре ставший их непримиримым врагом.
По завершении образования Григорий преподавал красноречие в Афинах, но в 358 г. тайно покинул город и вернулся на родину, где принял от своего отца Св. Крещение, и по зову св. Василия Великого удалился в пустыню. В 378 г. Антиохийский Собор пригласил св. Григория помочь Константинопольской Церкви. В это время повсюду господствовали еретики-ариане и аполлинаристы, и служение св. Григория началось с проповедей в небольшой домовой церкви его родственников, которую он назвал Анастасия («Воскресение»).
По мере роста популярности св. Григория росло и сопротивление еретиков. В ночь на Пасху 21 апреля 379 г., во время совершения крещения, вооруженная толпа ворвалась в храм, учинила погром, убила одного епископа и ранила св. Григория. Но, несмотря на угрозы, святитель терпеливо и кротко продолжал свои проповеди.
Острие учения св. Григория было направлено против умаления единства природы Бога Отца, Сына и Св. Духа. Обличая последователей Евномия, святитель учил, что Божественная сила Спасителя действовала даже и тогда, когда Он ради спасения принял на Себя наше немощное естество. Так же он учил и о Божественности Святого Духа.
Кроме проповеднической деятельности (а всего после св. Григория сохранилось 45 проповедей), святой сочинял гимны, по поэтическому мастерству не уступавшие лучшим образцам тогдашней поэзии и при этом отличавшиеся особой богословской глубиною… Свой дар слова св. Григорий поставил на служение Богу. Он сам говорил о слове, что оно «спутник всей его жизни, добрый советник и собеседник, вождь на пути к небу и усердный сподвижник». Самого же себя он называл в стихах «Господним органом».
Святому Григорию Церковь присвоила имя Богослова, как и любимому ученику Христову апостолу Иоанну Богослову. Тело святителя (умер 25 января 389 г. в Арианзе) было погребено в Назианзе, а в 950 г. святые мощи были перенесены в Константинополь, в церковь Святых Апостолов.
028
Ричард Сен-Викторский (ум. 1173) — шотландский или ирландский августинец, которого Данте считал «сверхчеловеком в высшей из наук»[71]. Принадлежал к тому же парижскому аббатству св. Виктора, что и его учитель и современник философ-схоласт Гуго (1097–1141). Оказал значительное влияние на позднейшую мистическую литературу. Духу Ричарда и св. Бернара было суждено господствовать в ней на протяжении последующих двухсот лет. Благодаря этим именам возникло то, что, собственно, называется теперь литературой средневекового мистицизма. На языке столь любимого Ричардом символизма он представлен Вениамином, любимым сыном Рахили[72] — своеобразной эмблемой созерцательной жизни, — и описан во всех подробностях в двух основных писаниях бенедиктинца — «Вениамине Большом» и «Вениамине Малом».
Хотя Ричард считал мистицизм «наукой сердца» и не испытывал уважения к светской учености, благодаря глубокой интеллектуальности его трудов средневековый мистицизм практически не пострадал от выпадов недалеких ортодоксальных критиков. Он систематизировал и передал средневековому миру античную мистическую традицию, восходящую к Плотину и Ареопагиту. Также как и его учитель Гуго, Ричард был подвержен средневековому пристрастию к тщательно разработанным аллегориям, искусным построениям, четкой классификации и нумерологическим конструкциям.
029
…воспоминание о плащанице, которой Иосиф Аримафейский обвил Его тело… — Имеется в виду туринская плащаница — древнее четырехметровое полотно, в которое, по преданию, Иосиф из Аримафеи завернул Тело Иисуса Христа после его крестных страданий и смерти. На плащанице отпечатался лик и тело Иисуса, и она стала одной из важнейших реликвий христианства. До разграбления крестоносцами Константинополя в 1204 г. (IV Крестовый поход) плащаница хранилась в Константинополе в храме Святой Софии и выставлялась для поклонения на Страстной неделе и каждую пятницу. Сохранились свидетельства Николая Мазарита, спасшего Святую плащаницу от огня во время бунта императорской гвардии в 1201 г. («Похоронные Ризы Господни. Они из полотна и еще благоухают помазанием»), и летописца крестового похода Робера де Клари («И никто, будь то грек или франк, дальше не знал, что случилось с этой плащаницей после разгрома и расхищения города»). После утраты в Константинополе плащаница была «обретена» во Франции в 1353 г.: Жеффруа де Шарни объявил, что плащаница находится у него (все эти годы она тайно хранилась у тамплиеров, но орден был распущен в 1312 г., а позже многие тамплиеры казнены). Вначале плащаница была выставлена в городе Лире во владениях де Шарни. В 1452 г. ее выкупил Людовик I Савойский и хранил в городе Шамбери, где она пострадала в пожаре 1532 г. После переноса столицы в Турин в 1578 г. плащаница хранится в специальном ковчеге в соборе Иоанна Крестителя в Турине и открывается для обозрения паломников раз в четверть века. В последний раз это произошло летом юбилейного 2000 г.
030
Св. Екатерина Сиенская (Catharina Benincasa, Caterina da Siena) (1347–1380) — святая католической Церкви, дочь сиенского красильщика. С ранних лет обнаружила повышенную религиозность, отчасти обусловленную влияниями соседнего монастыря доминиканок. Мечтою Екатерины было вступление в орден Св. Доминика. Приняв обет девства, она расстроила задуманный родителями брак, преодолела сопротивление матери и вступила (около 1362 г.) в число «кающихся сестер св. Доминика». Уже ранее обнаружившиеся аскетические наклонности Екатерины достигли теперь полного развития. Не внимая уговорам матери, она предалась суровым постам, самобичеваниям и молитвам, присоединив сюда и «дело милосердия», а во время чумы 1374 г. — самоотверженное служение больным.
Характернейшей чертой религиозности Екатерины является мистицизм. В экстатических видениях она общалась со Христом, Пречистой Девой и святыми, получала от них поучения, утешение и советы. Подобно Екатерине Александрийской и, вероятно, под влиянием легенды о ней Екатерина Сиенская была обручена с Христом…
Произошло это так: в 1367 г., когда вся Сиена справляла карнавал, девушка предпочла молиться в своей комнатке Господу: «Сочетайся со мной браком в вере!» И тут ей явился Господь и сказал: «Ныне, когда остальные развлекаются, Я решил отпраздновать с тобой праздник твоей души». И было Екатерине видение: она оказалась на небесах, узрела небесное воинство, Иисуса и Богоматерь. Дева Мария протянула руку девушки своему Сыну. Он надел ей на руку золотое кольцо с прекрасным алмазом и четырьмя жемчужинами и сказал: «Се, Я сочетаюсь с тобой браком в вере, Я — Творец и Спаситель твой. Ты сохранишь эту веру незапятнанной до тех пор, пока не взойдешь на небо праздновать со Мной вечный брак».
До самой смерти она носила на пальце видимое только ей обручальное кольцо; она восприняла также невидимые для других, но болезненно ощущаемые ею стигматы, соответствующие пяти ранам Христовым, что и подало повод к сопоставлению Екатерины Сиенской, «серафической девы», с «серафическим отцом» св. Франциском. Мистик и визионер того же типа, что и святая Хильдегарда, св. Катерина сочла своим долгом положить конец распрям среди духовенства и принести мир в Церковь. Истинный последователь Данте в открытии Реальности и величайший итальянский мистик после св. Франциска — св. Катерина демонстрирует жизнь в единении в ее наиболее богатой и совершенной форме. Она была одновременно политиком, учителем и созерцателем, соблюдая при этом устойчивый баланс между внутренней и внешней жизнью.
В 1377 г. Екатерина выступает в роли миротворительницы враждующих знатных родов Тосканы, участвует в пропаганде Крестового похода, едет в Авиньон, чтобы примирить Папу Григория XI с Флоренцией, горячо ратует за переезд папы из Авиньона в Рим. Во время схизмы Екатерина становится на сторону Урбана VI и содействует упрочению власти. Ее очень метко прозвали «матерью тысяч душ». Получив незначительное образование, преследуемая постоянными болезнями, она тем не менее сумела за время своей непродолжительной деятельности изменить ход истории, обновить религию и создать одну из жемчужин итальянской религиозной литературы — «Божественные диалоги». Канонизирована Пием II в 1461 г. Покровительница Италии и Рима.
Святая Анджела. — В блаженной Анджеле из Фолиньо (1248–1309), которая отошла от греховной жизни и обратилась к отшельничеству, мы видим мистика самого высоко уровня, чьи ведения и откровения позволяют поставить ее рядом со св. Катериной Генуэзской и св. Терезой. Она была известна своим последователям как «наставница богословов», и среди ее учеников можно упомянуть блистательного и деятельного брата-спиритуала Убертина Казальского. Преобладание в мистицизме Анджелы метафизического элемента свидетельствует о высоком уровне духовной культуры, достигнутом в среде францисканцев ее времени. К XVI в. ее сочинения, переведенные на народный язык, заняли прочное положение в классике мистицизма. В XVII в. их широко использовали Франциск Сальский, г-жа Гийон и другие католические созерцатели. Родившись на семнадцать лет раньше Данте, чей великий гений по праву отмечает начало духовного возрождения, Анджела представляет собой связующее звено между итальянским мистицизмом XIII и XIV вв.
031
…святой епископ Николай Мирликийский… — По всей вероятности, св. Николай жил в первой половине IV столетия, но о его жизни и деятельности не сохранилось достоверных сведений. Со временем стал героем многих очень добрых легенд, которые способствовали расширению его культа. Уже в VI в. христиане почитали его в Константинополе и в Мирах. В 1087 г. его мощи были перевезены в Бари.
Святой Людовик IX, король Франции. — Коронован в 1235 г. Прослыл как один из самых знаменитых королей своих времен. Был человеком благородным, но одновременно удачливым и расторопным политиком. В 1242 г. выгнал англичан из страны. Реформировал администрацию и правовую систему Франции, основал парламент, провел денежную реформу, запретил дуэли, боролся против проституции и ростовщичества. Основал много благотворительных учреждений. Был также спонсором артистов. В 1248 г. отправился в Крестовый поход, но потерпел неудачу, даже попал в плен в битве под Мансурой. Помимо той неудачи старался поправить положение крестоносцев в Палестине. В 1267 г. предпринял второй поход, путем через Тунис. Взял Карфаген, но, заболев тифом, умер в 1270 г. в военном лагере. Канонизировал его в 1297 г. Папа Бонифатий VIII.
…святые монахи Антоний, Бенедикт, Франциск, Фома… — Святой Антоний Падуанский (15 августа 1195 г. — 13 июня 1231 г.) (лат. Antonius Patavinus), Фернандо де Буйон (порт. Fernando de Bulhões) — католический святой, выдающийся проповедник, один из самых знаменитых францисканцев. Святой Антоний был канонизирован почти сразу после смерти — в 1232 г. В 1263 г. его мощи были перенесены в великолепный собор, который жители Падуи построили в честь святого. При этом оказалось, что язык великого проповедника остался в целости и сохранности. 16 января 1946 г. Папа Пий XII провозгласил святого Антония Падуанского Учителем Церкви.
Св. Бенедикт Нурсийский (лат. Benedictus), Св. Бенедикт, Св. Венедикт (480? Нурсия, Италия — 21 марта 547 г., Монте-Кассино, Италия) — родоначальник западного монашеского движения. Автор «устава Св. Бенедикта» — важнейшего из монашеских уставов латинской традиции. Святой католической и православной Церкви. Практически единственным источником сведений о жизни св. Бенедикта являются «Диалоги» св. Григория Великого, Папы Римского.
Бенедикт был сыном знатного римского дворянина из Нурсии. Юношей он был отправлен в Рим на учебу, но, не закончив обучения, покинул город вместе с группой благочестивых людей, сбежав от столичной суеты, и поселился в Аффиде (совр. Аффиле), местечке в горах, расположенном неподалеку от Субиако. Известно, что в это время ему было около 20 лет и что его сестра-близнец Схоластика к тому времени уже посвятила себя Богу.
По прошествии некоторого времени Бенедикт понял, что хочет стать отшельником. Случайная встреча с монахом Романом из монастыря, расположенного рядом с Субиако, помогла ему. Монах показал Бенедикту пещеру возле искусственного озера на реке Анио и согласился приносить отшельнику еду. За три года, которые Бенедикт прожил в пещере, он закалился и физически и духовно. Слава его росла, люди начали совершать паломничества к пещере, чтобы посмотреть на отшельника, а монахи из Виковаро, одного из окрестных монастырей, после смерти настоятеля уговорили Бенедикта возглавить их общину. Ничего хорошего из этого не вышло: у Бенедикта были слишком строгие представления о монашеской жизни, не понравившиеся общине. В результате он вынужден был покинуть монастырь и вернуться в пещеру после того, как его чуть не отравили.
Постепенно у Бенедикта сложились представления о том, как должна быть устроена монашеская жизнь. Он разделил своих учеников, число которых к тому времени сильно выросло, на 12 групп, каждая из которых подчинялась своему настоятелю, а за Бенедиктом оставалось право общего надзора.
Около 530 г. зависть и интриги местных монахов и клира вынудили Бенедикта переселиться на юг, на гору Кассино, где им был основан знаменитый монастырь Монте-Кассино. Существовавшее на горе языческое святилище Бенедикт превратил в христианский храм, местных жителей обратил в христианство. Скоро слава монастыря разлетелась по всему краю, число братьев в общине резко выросло.
Именно для общины Монте-Кассино, которая положила начало ордену, впоследствии названному орден бенедиктинцев, Бенедикт ок. 540 г. составил свой знаменитый устав, который стал фундаментом всего западного монашества.
Умер св. Бенедикт в 547 г. в Монте-Кассино. В 1964 г. Папа Павел VI провозгласил св. Бенедикта покровителем Европы. День памяти в католической Церкви — 11 июля, в православной Церкви (под именем св. Венедикта) — 27 марта.
Франциск Ассизский (1182–1226) — святой, учредитель названного его именем нищенствующего ордена. В 1209 г. Франциск в своей часовне услышал за обедней слова (Мф. 10: 7–11), с которыми Христос послал своих учеников проповедовать о наступлении царства небесного: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха». Франциск просил священника повторить и разъяснить ему латинский текст и, вникнув в смысл его, с восторгом воскликнул: «Вот чего я хочу», — снял с ног обувь, бросил посох и препоясался веревкой…
Франциск примыкал к аскетическому, средневековому идеалу; но в преемство Христа, как его понимал Франциск, включалась любовь к человеку. Благодаря этому аскетический идеал получил иное, новое назначение. «Господь призвал нас не столько для нашего спасения, сколько для спасения многих», — было девизом Франциска. Если в его идеал, как и в прежний монашеский, и входит отречение от мира, от земных благ и личного счастья, то это отречение сопровождается не презрением к миру, не брезгливым отчуждением от греховного и падшего человека, а жалостью к миру и состраданием к нищете и нуждам человека. Не бегство из мира становится задачей аскета, а возвращение в мир для служения человеку. Не созерцание идеального божеского царства в небесной выси составляет призвание монаха, а проповедь мира и любви, для установления и осуществления царства Божия на земле.
Хотя не существует свидетельств о том, что св. Франциск Ассизский знал о пророчествах «Вечного Евангелия», до него не могли не дойти какие-то сведения о них, а также о катарах и прочих ересях, приходивших в Италию с севера. Многие ереси делали особое ударение на евангельском представлении о нищете, но мистический гений Франциска, который вполне мог получить духовную пищу из этих источников, был сам по себе поразительно оригинален. Св. Франциск был редчайшей самовыражающейся личностью, великим духовным реалистом, не допускавшим никаких альтернатив духовной нищете и радостной мистической жизни. Св. Франциска не коснулось воздействие монашеской дисциплины и сочинений Дионисия и Бернарда. Единственным литературным произведением, безусловно оказавшим на него влияние, был Новый Завет.
Проповедь такого идеала монашества могла привести Франциска к столкновению с духовенством и курией; но глубокое смирение, проявлявшееся в наивно-трогательных формах и, однако, бывшее плодом усиленной работы над собой, удерживало Франциска в среде Церкви. Неспособный кого-либо осуждать, Франциск не мог сделаться реформатором.
Его братская любовь ко всякой твари составляет основание его поэзии. Зимой он кормит пчел медом и вином, поднимает с дороги червяков, чтобы их не раздавили, выкупает ягненка, которого ведут на бойню, освобождает зайчонка, попавшегося в капкан, обращается с наставлениями к птицам в поле, просит «брата огонь», когда ему делают прижигание, не причинять ему слишком много боли. Весь мир, со всеми в нем живыми существами и стихиями, превращался для Франциска в любящую семью, происходившую от одного Отца и соединенную в любви к Нему.
Вместе с Франциском мистицизм вышел в «открытое пространство», попытался трансформировать повседневную жизнь, заговорил на народном языке и стал воспевать Божественную Любовь в песнях трубадуров, оставаясь при этом вполне лояльным к католической Церкви. Никому после него не удалось уловить его секрет — секрет духовного гения редчайшего типа. Он оставил свой след в истории, искусстве и литературе Западной Европы.
Последние дни Франциска были очень мучительны. Он прибавил к своей «Хвале Господа и всех творений» строфу с хвалой «сестре нашей, телесной смерти», и не как аскет, а как поэт закончил жизнь словами: «Жить и умереть мне одинаково сладко». Св. Франциск Ассизский скончался 4 октября 1226 г.; уже два года спустя он был канонизирован Папой Григорием IX, бывшим кардиналом Уголино.
Фома Аквинский (иначе: Фома Аквинат или Томас Аквинат, лат. Thomas Aquinas) (1225, замок Роккасекка, близ Аквино, недалеко от Неаполя — 7 марта 1274 г., монастырь Фоссануова, около Рима) — итальянский католический богослов, первый схоластический Учитель Церкви, princeps philosophorum (князь философов); с 1879 г. признан официальным католическим религиозным философом, который связал христианское вероучение (в частности, идеи Августина Блаженного) с философией Аристотеля.
Родился близ Аквино (Неаполитанское королевство) в семье графа Ландольфа, родственника короля Фридриха Барбароссы. Детство провел в родовом замке и в соседнем монастыре бенедиктинцев, где получил начальное образование. Продолжил учебу в Неаполитанском университете и там вопреки желанию семьи, прочившей его в настоятели монастыря, вступил в нищенствующий орден Святого Доминика (1244). В 1245–1252 молодой монах, посвятивший свою деятельность философии и богословию, слушал лекции Альберта Великого (см. коммент. 057), одного из первых христианских аристотеликов, в Париже и Кельне. В 1252 г. началась преподавательская деятельность Фомы Аквинского в Париже. Он вел курс Священного Писания и участвовал в богословских диспутах. В 1259 г. Фома Аквинский снова в Италии, где работает над толкованием Евангелия, читает лекции по канонике, готовит для Папы материалы по соединению с Православной Церковью. Параллельно занимается философией, пишет комментарии к Аристотелю и метафизические трактаты.
Фома Аквинский первый проводит четкую и резкую границу между верой и знанием. Разум, по его мнению, только дает обоснование непротиворечивости откровения, веры (мистерий); возражения же против них рассматриваются лишь как вероятные, не вредящие их авторитету. Как теолог понимал бытие Бога в смысле христианской религии и разделял идею творения мира из ничего и бессмертия души, которая как «чистая форма» не может быть разрушена, однако она не существует до земной жизни, а создается Богом. Душа приобретает знания не в результате воспоминаний, как у Платона, а благодаря чувственному восприятию, в которое облечено познание идеи, озаряемое интеллектом. Все мироздание рассматривается Фомой Аквинским как универсальный иерархический порядок внутри бытия — порядок, который установлен Богом и указывает всему существующему его прирожденное место. Интеллект, по его мнению, подчинен воле. Для совершения нравственных поступков человек должен уважать естественный порядок в личной жизни и обществе. Одним из наиболее важных результатов богоучения св. Фомы Аквинского является выведение пяти доказательств бытия Бога, пяти путей, благодаря которым мы можем от чувственно воспринимаемого мира, являющегося для нас первично постигаемым, продвигаться к познанию факта существования Бога и познанию многих Его качеств. Кроме того, он много писал о невидимом бытии, в частности, описал иерархию ангелов и их свойства.
В 1265 г. Фома Аквинский начал работу над главным произведением своей жизни «Итог богословия» («Summa Theologia»), в котором стремился изложить универсальную систему христианской веры и этики. Фома Аквинский продолжал трудиться над ним до 1272 г. В этом году его посетило мистическое озарение. «Больше я ничего не могу сделать, — сказал он, — мне открылись такие вещи, что теперь все написанное мною кажется мне соломой и я могу лишь ждать конца своей жизни». Фома Аквинский скончался в цистерцианском монастыре на пути в Лион, куда он был призван Папой на собор. Человек глубочайшего смирения, он всегда жил в бедности, отказывался от всех почетных церковных должностей. Католическая Церковь канонизировала его в 1323 г. и причислила к Учителям Церкви. Учение Фомы Аквинского (томизм) долгое время считалось наиболее авторитетным в католическом богословии.
Святой Доминик де Гусман Гарсес (1170, Калеруэга, Испания — 6 августа 1221 г., Болонья, Италия) (лат. Sanctus Dominicus, исп. Santo Domingo; Domingo de Guzmán Garcés), Св. Доминик де Гусман — монах, проповедник, католический святой. Основатель ордена проповедников, или ордена доминиканцев. Традиция Католической Церкви связывает с именем св. Доминика появление Розария — широко распространенной католической молитвы на четках. По легенде, Розарий был вручен св. Доминику в 1214 г. во время явления Девы Марии. Еще одна традиция связывает эмблему доминиканского ордена — бегущую собаку с пылающим факелом в зубах — со сном, в котором мать св. Доминика увидела такую собаку накануне рождения сына. Возможно также, что эта эмблема происходит от игры слов: лат. Domini canes — «псы Господни».
Св. Доминик изображается в белой тунике доминиканского монаха, белом скапулярии и черном плаще; иконографические символы св. Доминика — лилия, звезда во лбу или надо лбом, книга (чаще всего открытая на странице со словами «Идите и проповедуйте»), крест основателя (патриарший), храм (латеранская базилика), собака с факелом, Розарий, посох.
Святой Варфоломей (I в.; в Эптернахе и Камбраи его день празднуется 25 августа (Epternach, Cambrai), в Персии — 13 июня). Единственное, что нам известно точно, записано о нем в Священном Писании. Он один из 12 апостолов. Его имя образовано от имени отца и означает «сын Толомея», и исследователи полагают, что это тот же человек, что и Нафанаил из Каны Галилейской, о котором Иисус говорил: «“Вот, подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства”. Удивленный Варфоломей спросил: “Почему Ты знаешь меня?” Иисус сказал ему в ответ: “Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя”» (Ин. 1: 47,48).
Ранний скептицизм Варфоломея исчез: «Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты — Сын Божий, Ты — Царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: “Я видел тебя под смоковницею”; увидишь больше сего. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» (Ин. 1: 49–51). Варфоломей жил, чтобы увидеть Воскресение.
В Римской мартирологии указывается, что Варфоломей проповедовал в Индии и Армении, где с него живого содрали кожу и где он был обезглавлен королем Астягом (Astyages) в Дербенте у Каспийского моря. Традиционно считают, что он проповедовал также в Абанополисе (Abanopolis) на западном побережье Каспийского моря, в Месопотамии, Персии и Египте. Евсевий пишет, что Пантен Александрийский (II в.) нашел в «Индии» Евангелие от Матфея, приписываемое Варфоломею и написанное по-еврейски. Евангелие от Варфоломея считается апокрифическим, оно было осуждено в указе Псевдо-Геласия (Pseudo-Gelasius).
Останки Варфоломея, как считается, были захоронены на острове Липара, потом перенесены в Беневенто, Италия, затем в Рим, где находятся сейчас с церкви Святого Варфоломея в Исоло, на Тибре. Одну его руку в XI в. жена короля Канута, королева Эмма, передала в Кентербери.
В искусстве святой Варфоломей изображается в виде бородатого человека среднего, иногда пожилого возраста с книгой и ножом мясника, используемым для сдирания кожи. Иногда он сам держит снятую с него кожу.
032
Святая Цецилия. — Одна из славнейших мучениц римской Церкви. Трудно, однако, в описании ее мученичества отделить исторические факты от легендарных, свидетельствующих о популярности святой. По легенде, в ранней молодости была тайно обращена в христианство и дала обет девственности. Родители выдали ее замуж за язычника Валерия. Господь, однако, чудесным образом сохранил ее девственность. Святая дева обрела для Христа ее мужа и его брата Тибурциуса и вместе с ними приняла мученическую смерть через обезглавливание. Тело святой Цецилии было обретено в катакомбах в 882 г. и перенесено в базилику в Затибрье, посвященную ей. Святая Цецилия поминается в Римском Каноне.
Почитается покровительницей церковной музыки. Палестрина основал в Риме общество для развития духовной музыки под названием братства Св. Цецилии. Папа Пий IX преобразовал общество в Академию и учредил орден отличия для членов этой Академии, под названием ордена Св. Цецилии.
Екатерина Александрийская (до крещения Досифея; 287–305) — христианская великомученица. Память совершается в католической Церкви — 25 ноября, в православной — 24 ноября (по юлианскому календарю).
Родилась в Александрии в 287 г. Была обращена в христианство сирийским монахом, крестившим ее под именем Екатерина. По преданию о мистическом обручении святой Екатерины после крещения во сне к ней явился Иисус Христос и вручил кольцо, назвав своей невестой.
Приняла мученическую смерть в период правления императора Максимиана в начале IV в. При допросе Екатерина публично заявила о своей вере в Иисуса Христа и обвинила императора в язычестве. Приглашенные императором мудрецы со всей империи пытались переубедить ее, но святая Екатерина сама обратила их в христианство вместе с несколькими членами императорской семьи и представителями римской аристократии.
После казни святой Екатерины тело ее исчезло. По преданию, оно было перенесено ангелами на вершину самой высокой горы Синая, теперь носящей ее имя. Три века спустя, в середине VI в., монахи монастыря Преображения, построенного императором Юстинианом, повинуясь видению, поднялись на гору, нашли там останки святой Екатерины, опознали их по кольцу, которое было дано ей Иисусом Христом, и перенесли мощи в церковь. После обретения монахами мощей святой Екатерины и распространением ее культа монастырь к XI в. получил свое настоящее название — монастырь Святой Екатерины.
Святая Агнесса. — Святая Агнесса родилась осенью 290 г. Принадлежала к знатной римской фамилии и обладала необычайной красотой. Руки ее добивались многие знатные молодые люди, но Агнесса с детства решила посвятить себя Богу. Когда отец задумал выдать ее замуж за Прокопия, сына римского префекта, Агнесса отказалась. И тогда было решено наказать непокорную девушку. Когда в 303 г. римский император Диоклетиан издал указ, направленный против христиан, тринадцатилетняя Агнесса была схвачена и привлечена к суду. Мучители Агнессы задумали провести девушку голой по улицам Рима, а потом отдать на поругание. Заключенная в темницу Агнесса молилась всю ночь. И произошло чудо — к утру у нее выросли длинные волосы, которые прикрыли ее наготу. Юноши, входившие к Агнессе с дурными намереньями, выбегали в ужасе и трепете: вся темница была освещена неземным сиянием, а рядом с девушкой они видели ангела. Последним в камеру вошел оскорбленный отказом Прокопий. Но как только он прикоснулся к Агнессе, тут же упал замертво. Агнесса претерпела мученическую смерть — она была обезглавлена, но с тех пор ее почитают как святую. Спустя всего три десятилетия, при императоре Константине Великом, в честь Агнессы была воздвигнута церковь. Она рано погибла и рано была увековечена в памяти человеческой. День святой Агнессы католическая Церковь празднует 21 января.
Святая Урсула. — Героиня христианской агиографической легенды, широко распространенной в Средние века в западноевропейских странах.
Согласно легенде, Урсула жила в середине V в. и была обратившейся в христианство дочерью британского короля; она была так прекрасна и мудра, что слава о ней дошла до дальних стран. Пытаясь избежать нежелательного замужества с принцем-язычником и вместе с тем оградить своего отца от угроз могущественного претендента на ее руку, дала согласие на брак при условии, что оба короля должны послать ей в качестве утешения десять благочестивых дев, каждую из которых должны сопровождать тысяча девиц; им должны быть даны корабли и три года, которые они могли бы посвятить своему девичеству; между тем жених должен принять христианскую веру и изучить христианские обычаи. Условия свадьбы были приняты.
По совету Урсулы были собранны благородные девы из различных королевств. Они выбрали Урсулу своей предводительницей. Когда все корабли были готовы и когда Урсула обратила всех своих подруг к вере, она повела 11 кораблей в сторону Галлии в порт Киэлла. Оттуда они отправились в Кёльн. Там явился Урсуле ангел и дал указание вести всю общину в Рим, а затем вернуться и принять в Кёльне венец мученической смерти.
Все корабли доплыли до города Базеля. Там девы оставили их и отправились пешком в Рим, где Урсулу принял Папа Кириак (мифический персонаж), знавший об уготованном Урсуле и ее спутницам мученичестве и пожелавший разделить его с ними; он рассказал всем о своем решении, торжественно сложил с себя сан и присоединился к странницам. На обратном пути под Кёльном на паломниц напали гунны. Ненавидящие христианство, возмущенные принятым девами обетом безбрачия, они их всех истребили. Последней погибла Урсула, отказавшаяся стать женой плененного ее красотою вождя гуннов. Позднее католическая Церковь объявила Урсулу святой мученицей за веру.
033
Святой Стефан. — Первый мученик за Христа, архидиакон Стефан, был одним из семидесяти апостолов, избранных апостолом Петром для помощи нищим и проповеди христианства. Он принял мученическую смерть (забит камнями) приблизительно в 35 г. новой эры. Любопытно, что одним из его мучителей был Савл — впоследствии ставший апостолом Павлом, светочем и столпом христианства.
Он был христианским первомучеником и пострадал за Христа в возрасте 30 лет. По выражению Астерия, это был «начаток мучеников, учитель страданий за Христа, основание доброго исповедания, ибо прежде Стефана никто не изливал крови своей за Евангелие».
Исполненный Святого Духа, Стефан проповедовал христианское учение и побеждал иудейских законоучителей в спорах. За это иудеи оклеветали его, будто бы он возводит хулы на Бога и на Моисея. С таким обвинением святой Стефан предстал перед синедрионом и первосвященником. Он произнес пламенную речь, в которой изложил историю еврейского народа и смело обличил иудеев в гонениях на пророков и в казни ожидавшегося ими Мессии, Иисуса Христа.
Во время речи святой Стефан вдруг увидел небо отверстым и Иисуса Христа во славе, стоящего одесную Бога. Он громко провозгласил об этом. Тогда иудеи, затыкая уши, набросились на него, повлекли за город и побивали камнями, а святой мученик молился за своих убийц. Вдали, на возвышении, стояла Матерь Божия со святым апостолом Иоанном Богословом и усердно молилась за мученика. Перед смертью Стефан произнес: «Господи Иисусе, приими дух мой, Господи, не вмени им это во грех», — и затем предал Христу свою чистую душу.
Тело святого первомученика Стефана, оставленное на съедение зверям, тайно взял известный еврейский учитель Гамалиил с сыном своим Авивом и предал погребению в своем имении. Впоследствии они оба уверовали во Христа и приняли святое Крещение.
Святой Лаврентий. — Киприан Карфагенский (умер 14 сентября 258 г.) упоминает в своем 80-м письме мученичество Папы Сикста II, который с 4 диаконами при императоре Валериане 06 августа 258 г. во время богослужения на кладбище Каликста был обезглавлен. О Лаврентии здесь еще речь не идет. Лишь в конце IV в. назван Лаврентий, архидиакон Папы Сикста II, который был казнен через несколько дней после Папы. Предание о Лаврентии, которое в последующее время все больше разрасталось, восходит корнями к Пруденцию (христианский поэт в Испании, умер после 405 г.), Дамасу I (умер в 384 г.) и особенно к Амвросию (умер в 397 г.) и является, по крайней мере частично, исторически недостоверным. Согласно ему, Сикст II по дороге к месту казни вел прощальную беседу со своим архидиаконом Лаврентием и вдохновлял его стойко перенести близкое мученичество. Император Валериан, желавший завладеть церковными богатствами, дал Лаврентию будто бы три дня срока, в течение которого тот должен был их доставить. Лаврентий разделил сокровища церкви между нуждающимися и на третий день привел к императору всех нищих, слепых и хромых как истинные «сокровища» церкви. Император счел себя поруганным и приказал сжечь Лаврентия на раскаленной решетке. Лаврентий будто бы сказал палачу во время пытки: «Жаркое уже готово, переверни его и ешь!»
Изображался как диакон с колосником, пальмовой ветвью мученика, Евангелием и Распятием, раздающим милостыню.
Святой Георгий Победоносец (Каппадокийский) — христианский святой, великомученик, самый почитаемый святой этого имени. Во время правления императора Диоклетиана, после восьмидневных тяжких мучений в 303 (304) г. был обезглавлен.
Согласно житиям, святой Георгий родился во II в. в Каппадокии в семье христиан. Поступив на военную службу, он, отличавшийся умом, мужеством и физической силой, стал одним из тысяченачальников и любимцем императора Диоклетиана. Видя казни христиан, Георгий открыто исповедовал христианство и был подвергнут пыткам. Его били воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Георгий перенес все эти мучения и не отрекся от Христа.
В конце концов император Диоклетиан, спустившись в темницу, еще раз предложил истерзанному пытками бывшему командиру его телохранителей отречься от Христа. Георгий сказал: «Отнесите меня в храм Аполлона». Когда это было исполнено, он встал в полный рост перед белокаменной статуей и все услышали его речь: «Неужели ради тебя я иду на заклание? И можешь ли ты принять от меня эту жертву как бог?» При этом Георгий осенил себя и статую Аполлона крестным знамением. Взбешенные этим жрецы кинулись избивать Георгия. А прибежавшая в храм жена императора, Александра, бросилась к ногам великомученика и, рыдая, просила простить за грехи ее мужа-тирана. Диоклетиан в гневе закричал: «Отсечь! Отсечь головы! Обоим отсечь!» И Георгий, помолившись в последний раз, со спокойной улыбкой положил голову на плаху.
Одним из самых известных посмертных чудес святого Георгия является победа над змеем (драконом), опустошавшим землю некоего языческого царя в Бейруте. Как гласит предание, когда выпал жребий отдать на растерзание чудовищу царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея копьем, избавив царевну от смерти. Явление святого способствовало обращению местных жителей в христианство.
Это сказание часто толковалось иносказательно: царевна — Церковь, змей — язычество. Также это рассматривается как победа над дьяволом — «древним змием» (Откр.12: 3; 20: 2).
Считается, что мощи святого Георгия в настоящее время находятся в греческой церкви в израильском городе Лод, а глава хранится в Риме.
Святой Петр Доминиканец. — Петр (Тельм) Гонсалес, родился в XII в., в аристократической семье в Валенсии (Испания). Уже в ранней молодости стал деканом местного капитула. Вел жизнь, полную роскоши. Обратился чудесным образом, когда, проезжая верхом по улицам своего города, упал с лошади в грязь. Вступив после этого в доминиканский орден, предался изучению Святого Писания и жаждал духовного перерождения. Стал проповедником среди моряков. При жизни и после смерти не раз спасал людей от бурь и опасностей на море. Моряки ищут его покровительства, называя его «святой Тельм». Почил в Туе, в Испании, 14 апреля 1246 г. Папа Бенедикт XIV утвердил его культ 13 декабря 1741 г.
034
…согласно святой Мехтильде… — Мехтильда Магдебургская (нем. Mechthild von Magdeburg, 1207, диоцез Магдебурга — 1282, монастырь Хельфта, Айслебен) — немецкая мистическая писательница, бегинка, впоследствии монахиня-цистерцианка. Из семьи мелких саксонских дворян. В 12 лет имела первое видение. С 1230 г. жила в Магдебурге. Около 1250 г. начала писать трактат «Свет Божества» — одно из первых откровений святого Сердца Иисуса, ставшего впоследствии важным элементом католического культа. В 1270 г. вступила в цистерцианский монастырь Хельфта, где, глубоко почитаемая сестрами-монахинями, умерла.
Мехтильда Магдебургская описывает свое единение с Богом в сугубо индивидуальных терминах, которые присущи скорее поэтам-романтикам ее времени, чем ранним религиозным писателям. Ее работы, переведенные на латынь, читал Данте — их влияние прослеживается в «Рае». Некоторые ученые даже полагают, что именно Мехтильда Магдебургская выведена там под именем Матильды, хотя иные считают, что прообразом героини Данте послужила св. Мелхтилда Хакборнская. Не канонизирована, к XV в. ее сочинения были забыты. Их открыли вновь только в XIX в.
035
Рогир ван дер Вейден (Rogier van der Weyden) (Турне, 1399/1400 — Брюссель, 18 июня 1464 г.) — фламандский живописец. Родился в семье резчика по дереву. Начал работать как скульптор, в зрелом возрасте стал учиться живописи у Робера Кампена в Турне. В 1435 г. переехал в Брюссель, стал членом городской гильдии живописцев. Многому научился у Яна ван Эйка. С 1435 г. городской живописец в Брюсселе, работал по заказам герцогского двора Филиппа Доброго, монастырей, знати, купцов-итальянцев. Цель творчества художник видел в постижении индивидуальности личности, был глубоким психологом и прекрасным портретистом. Сохранив спиритуализм средневекового искусства, наполнил старые изобразительные схемы ренессансной концепцией активной человеческой личности.
Квентин Метсю (Метсюс) (10 сентября 1465/1466 г., Лёвен, Южный Брабант — 13 июля/16 сентября 1530 г., Антверпен) — фламандский живописец. Стремился к синтезу принципов нидерландского и итальянского Возрождения. Работал в Антверпене, писал большие алтарные картины и жанровые сцены моралистического содержания, в которых проявился его интерес к реальному жизненному началу — портретным характеристикам, бытовой обстановке, пейзажной среде. Оказал сильное влияние на нидерландских и немецких мастеров XVI в.
036
Ханс Мемлинг (нем. Hans Memling, нидерл. Jan van Mimmelynghe, лат. Johannes Memmelinc или Memlinc) (1433/1435, Зелигенштадт — 1494, Брюгге) — фламандский живописец немецкого происхождения. В религиозных картинах с тонко разработанными интерьерными и пейзажными фонами объединил позднеготические северные традиции с достижениями итальянской живописи Возрождения. Учился у Рогира ван дер Вейдена в Брюсселе, с 1465 г. жил в Брюгге, где вскоре стал городским живописцем. Писал картины на религиозные темы, жанровые сцены и портреты.
Дирк Боутс (нидерл. Dirk Bouts; около 1410, Харлем — 6 мая 1475 г., Лёвен) — нидерландский живописец. Боутс жил и работал в Лёвене, где был городским живописцем с 1468 г. На Боутса оказали влияние Ян ван Эйк и Рогир ван дер Вейден.
Герард Давид (Gerard David) (ок. 1460–1470, Аудеватер, Южная Голландия — 13 августа 1523, Брюгге) — фламандско-нидерландский живописец, представитель раннего Северного Возрождения. Учился у Ханса Мемлинга. С 1494 г. был городским живописцем в Брюгге.
037
Матиас Грюневальд (нем. Matthias Griinewald) (1470 или 1475, Вюрцбург — 1528, Галле) — немецкий живописец, крупнейший мастер эпохи Возрождения. Работал при дворе майнцских архиепископов и курфюрстов (1508–1525). В своем творчестве с беспредельной эмоциональной силой выразил трагический накал и возвышенный мистический спиритуализм эпохи.
038
…как медный змий Моисея, может быть и провозвестником Мессии. — Однажды во время своего сорокалетнего странствия в пустыне евреи за свой ропот на Бога были наказаны появлением множества ядовитых змей, которые жалили народ, так что многие умирали. Евреи раскаялись и просили Моисея помолиться о них Богу. Господь повелел Моисею сделать медного змия и повесить его на знамя. И кто из ужаленных смотрел с верою на медного змия, тот оставался жив (Числ. 21: 1–9).
Это событие является прообразованием того, что произойдет на Голгофе, и пророчество о судьбе рода человеческого. Пустыня — это земная жизнь. Человека жалит зло с самого рождения и до последнего его часа, когда он расстается со своим телом. Бесчисленные змеи окружают жизнь человеческую со всех сторон — это бесчисленные виды греха, которые поражают людей.
Медный змий символизировал собой Христа, Спасителя: Христос распял с Собою на кресте все наши грехи, и мы теперь, взирая с верою на Него, исцеляемся от грехов и спасаемся от вечной смерти.
039
Прообразом христианской символики был языческий двуликий Янус… — Янус двуликий (Ianua — двери, ворота) — в древнеримской мифологии бог дверей, ворот, входов и выходов, бог договоров и союзов, бог всякого начала, а возможно, и бог сотворения мира и времени, знающий все события прошлого и будущего. Янус обычно представлялся существом с лицами старика и юноши, с руками, на которых было 365 пальцев (по числу дней в году). В каждой руке было по связке ключей. Считалось, что он являлся первым царем Лация на Яникуле. Именно Янус научил земных людей кораблестроению и земледелию, он принял у себя Сатурна и разделил с ним власть. Праздник Януса (агонии) справляется 9 января.
040
…цвет бесовских тел в «Страшном суде» Стефана Лохнера… — Стефан Лохнер (нем. Stefan Lochner, 1400–1410, Меерсбург — 1451, Кёльн) — немецкий живописец, прозванный мастером Стефаном Кёльнским. Работал в Кёльне с начала 1430-х гг. Рассматривается историками искусства как главный мастер кёльнской школы. Для художников этой школы характерны лиризм и мягкость в трактовке образов Священного Писания.
Лохнер шел по стопам основателя школы, мастера Вильгельма, с которым равнялся по глубине — и по милой наивности — выражения религиозного чувства и которого превзошел в отношении силы лепки и красок. Главное и несомненное его произведение — знаменитый алтарный складень в Кёльнском соборе с изображениями «Поклонения волхвов» на средней доске и сцен из жития св. Гереона и св. Урсулы на боковых створках (написан после 1426 г.). Ему же принадлежат «Богоматерь в беседке из роз», находящаяся в кёльнском Музее Вальрафа-Рихарца, «Сретение Господне» (1447) в Дармштадтской галерее и «Страшный суд» (1435) в музее Вальрафа-Рихарца в Кёльне.
041
Иво Шартрский — крупный религиозный деятель XI–XII вв., выходец из Бекского бенедиктинского монастыря в Нормандии, одного из наиболее влиятельных западноевропейских центров богословия того времени. Иво Шартрский создал как большую компиляцию, так и меньшее по объему вводное учебное пособие по каноническому праву. В поисках системы и подборе материалов Иво, в определенной степени, находился под влиянием римского права. В тех случаях, когда писания Пап, решения соборов и творения Отцов Церкви оказывались не в состоянии разрешить ту или иную проблему, некоторые положения римского права были представлены в его компиляции как авторитетные источники.
042
Епископ Рейнский Марбод (1035–1123) описал 60 камней, их целебные и магические свойства. Пользовался книгами Иосифа Флавия и Плиния, часто используя материал последнего у Исидора Севильского (см. коммент. 017).
043
…мистические лапидарии больше всего изощрялись в толкованиях камней с ефода Ааронова… — Лапидарии — средневековые сборники с описанием различных примечательных камней, особенно драгоценных. В XII в. были наиболее популярны два лапидария в стихах епископа Рейнского Марбода (см. коммент. 042): De Gemmis или De Lapidibus. Лапидарий короля Кастилии Альфонсо X Ученого (1221–1284) был составлен как сводка известных к тому времени в Испании сведений о камнях, главным образом по арабским (мавританским) источникам, включавшим данные из сирийских (халдейских) оригинальных, а чаще компилятивных трудов. Это сочинение не получило широкого распространения в Европе, так как было написано на испанском языке, а не на латыни — языке ученых того времени (Альфонсо X обязал все общественные документы писать по-испански). Кроме того, названия камней во многих случаях были арабскими, непонятными для других европейцев, кроме испанцев, которые на протяжении почти шести столетий жили бок о бок с маврами. Труды Епифания и Марбода неоднократно переводились с греческого и латинского на другие языки.
Аббатиса монастыря Хильдегарда фон Бинген (1098–1178) (см. коммент. 046) изучала медицину и лечила больных по долгу христианского милосердия. Она знала Плиния, многое почерпнула у Константина Африканского (1020–1087), ученого монаха, переводившего на латинский язык труды корифеев арабской медицины, и у Марбода Рейнского. Ею описаны 25 минералов, причем рекомендации всегда очень конкретны: камень нагреть и прикладывать к больному месту, или пить воду, в которой лежал нагретый камень, или часто и подолгу смотреть, например, на изумруд.
Минералы исследовал также один из выдающихся европейских ученых Альберт Больштедтский (1193–1280) (см. коммент. 057).
Ефод Аарона (см. Исх. 28: 2–14). — Производимое толковниками от еврейского глагола «афад» — «связывать», название ефод (слав. «верхняя риза», или «эфуд») указывает на одежду, состоявшую из двух кусков материи, из которых один покрывал спину, другой грудь до пояса; на плечах они скреплялись нарамниками, а на поясе — завязками. Материалом для ефода служили нити голубой, пурпуровой и червленой пряжи, виссон (лен) и золото. Последнее растягивалось в листы, разрезалось на нити, которые и были вотканы между петлями указанных цветов. «Ефод, — говорит блаженный Иероним (см. коммент. 045), — соткан из четырех цветов: гиацинтового, льняного, багряного червленного и золотого. Золотые пластинки, т. е. листы, растягиваются до чрезвычайной тонкости, нарезанные из них нити сучатся с утком из трех цветов и нитяною основою». По преданию, на камне, предназначенном для застежки на правом плече, были вырезаны имена шести старших сынов Иакова. Вырезанные на каждом камне имена сынов Израилевых носились Аароном пред Господом «для памяти» — для того чтобы он не забывал народ свой в просительной молитве. Вместе с первосвященником, являвшимся пред лицо Божие, являлись к лицу Божию и колена Израилевы.
044
…почти все восходят к «Венцу Пресвятой Девы», книге, приписываемой святому Ильдефонсу… — Святой Ильдефонс Толедский (исп. San Ildefonso; 607 — 23 января 667 г.) — святой, архиепископ Толедский, аббат толедского бенедиктинского монастыря неподалеку от Агли. Ему приписывают много чудес. По преданию, он получил ризу из рук Святой Девы. Предание гласит, что он видел Деву Марию с сопутствующими Ей ангелами, сидящей на его епископском троне в кафедральном соборе. Когда он приблизился, Она надела на него ризу, взятую с неба.
Приписываемые ему сочинения изданы в 1576 г. Способствовал развитию культа Богоматери в Испании и написал Liber de illibata virginitate s. Mariae contra infidèles, где он доказывает приснодевство Богоматери. Кроме того, Ильдефонс оставил еще два труда: продолжение сочинения Исидора (см. коммент. 017) «De viris illustribus», где он дает биографии Григория Великого (см. коммент. 027), семи толедских и пяти других епископов и основателя монастыря Доната, и De cognitione baptismi et de itinere deserti, quo pergitur post baptismum, имеющее важное значение для истории оглашения и крещения.
045
Святой Иероним — Евсевий Софроний Иероним (лат. Eusebius Sophronius Hieronymus; 342, Стридон на границе Далмации и Паннонии — 30 сентября 419 или 420 г., Вифлеем) — создатель канонического латинского текста Библии. В православной и католической традиции почитается как святой и один из Учителей Церкви. Ученик известного грамматика Элия Доната, один из лучших знатоков античной и христианской литературы того времени. Святой был крещен около 360 г. н. э. уже в зрелом возрасте, хотя его родители были христианами.
Иероним был человеком могучего интеллекта и огненного темперамента. Он много путешествовал и, будучи молодым человеком, совершил паломничество в Святую Землю. Позже он удалился на четыре года в Халкидскую пустыню, где предался подвигам аскетизма. Здесь он изучал еврейский язык и спутниками себе имел, по его собственным словам, «лишь скорпионов и диких зверей». Подобно Франциску Ассизскому (см. коммент. 031), Антонию Великому (см. коммент. 031) и другим, кто исповедовал суровый аскетизм в каждодневной жизни, он переживал яркие сексуальные видения и описал в одном из писем, как должен был бить себя в грудь, пока эта лихорадка не отпускала его.
В 386 г. Иероним обосновался в Вифлееме. За ним последовала римская аристократка Паула (Фабиола), которую он обратил в христианство. Она основывала обители и монастыри, именно здесь в течение долгих лет Иероним переводил Ветхий и Новый Заветы на латинский язык. Его версия — Вульгата — была одиннадцать столетий спустя провозглашена Тридентским собором как официальный латинский текст.
Главные работы Иеронима — латинский перевод Ветхого Завета, сделанный на основе Септуагинты, и редакция латинской версий Нового Завета (лат. Itala или лат. Vetus Latina), получившие впоследствии название Вульгата (лат. Vulgata) и исторический труд «О знаменитых мужах» (лат. De viris illustribus). Сохранилось около 120 его писем.
День святого Иеронима отмечается католиками 30 сентября. Этот день был объявлен в 1991 г. Международной федерацией переводчиков Международным днем переводчиков. Святой Иероним считается покровителем всех переводчиков.
046
Святая Гильдегарда — Хильдегарда Бингенская (нем. Hildegard von Bingen, 1098 — 17 сентября 1179, монастырь Рупертсберг под Бингеном) — немецкая монахиня, настоятельница монастыря бенедиктинок в долине Рейна. Автор мистических трудов, религиозных песнопений и музыки к ним, а также трудов по естествознанию и медицине, почитается как святая, хотя формально не была канонизирована.
Когда Хильдегарде было 14 лет, она поселилась в женском ските под Бингеном, находившемся под покровительством тамошнего мужского бенедиктинского монастыря, посвященного св. Дизибоду. Образование Хильдегарды охватывало по меньшей мере элементарные занятия по Библии и латинской патристике, семь свободных искусств (см. коммент. 056) и литургию бенедиктинцев. В 1136 г. Хильдегарда взяла на себя руководство женской монашеской общиной — к тому времени в ските было уже около десяти монахинь. В 1147–1152 гг. она добилась строительства монастыря Рупертсберг под Бингеном, куда и перевела общину. В 1165 г. был создан филиал монастыря в Айбингене, сохранившийся до сих пор, куда принимались и послушницы недворянского происхождения.
Хильдегарда всю жизнь отличалась слабым здоровьем, что способствовало ее интенсивной внутренней жизни. С юности у нее были видения, о которых она первоначально рассказывала только своей наставнице Ютте фон Шпонхайм. В возрасте сорока двух лет Хильдегарда, по ее собственным словам, получила божественное повеление записать свои видения. После долгих сомнений она посоветовалась со своим духовником, который показал ее записи аббату. По настоянию аббата и местного архиепископа Хильдегарда продолжила записи и за десять лет записала 26 видений, составивших труд Sci vias lucis (Познай пути Света), обычно известный как Scivias, визионерское представление всего круга бытия от Троицы до Страшного суда. Публикация Scivias получила одобрение св. Бернара Клервоского и Папы Евгения III.
С детских лет Хильдегарда сочиняла гимны и музыку к ним; в 1150 г. она собрала свои произведения, написанные для литургических нужд ее монастыря и соседних общин, в цикле под названием Symphonia armonie celestium revelationum (Созвучие мелодий небесных откровений). В него вошло более 70 одноголосных песнопений в жанрах духовной музыки (антифоны, респонсории, секвенции, гимны), сгруппированные по определенным литургическим темам, особое внимание уделялось Деве Марии и св. Урсуле. Сохранилось также 82 напева из ее оратории Ordo virtutum (Ряд добродетелей), которая посвящена теме борьбы за Душу человеческую между 16 Добродетелями и дьяволом (единственная роль для мужского голоса). По сути, Ordo virtutum является первым в истории представлением в средневековом жанре моралите; судя по всему, оратория была исполнена монахинями монастыря Хильдегарды в 1152 г. на освящении церкви в Рупертсберге.
Среди других важных работ Хильдегарды следует назвать написанную около 1150–1160 гг. Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum (Книгу о внутренней сущности различных природных созданий), которая сохранилась в виде двух частей: Liber simplicis medicinae (Книги о простой медицине), известной обычно как «Физика», и Liber compositae medicinae (Книга об искусстве исцеления). В «Физике» описываются растения, минералы, деревья, камни, животные и металлы с присущими им лечебными и нелечебными свойствами. Многие из медицинских наставлений Хильдегарды имеют только историческую ценность, но есть также сведения и советы, не потерявшие свою актуальность и сегодня.
Умерла Хильдегарда в 1179 г. в основанном ею монастыре Рупертсберг под Бингеном. Ее житие было написано двумя монахами, Готфридом и Теодорихом.
047
Сестры Визитации. — Женский монашеский орден Визитации (имеется в виду Посещение Святой Девой Марией Елисаветы — матери Иоанна Крестителя) основан французским мистиком Жанной Франсуазой де Шанталь (Jeanne Françoise de Chantal) (1572–1641) в 1610 г. (Аннеси, Франция).
048
Сестры святого Винцента де Поля. — Имеется в виду конгрегация дочерей милосердия, которую в 1633 г. св. Винсент основал вместе с герцогиней Луизой де Марийак; главным делом новой организации стала помощь бедным, больным, брошенным детям и каторжникам.
Святой Винсент де Поль (фр. Vincent de Paul) (1581, Пюи, Франция — 27 сентября 1660 г., Париж) — католический святой, основатель конгрегации лазаристов и конгрегации дочерей милосердия. Родился в бедной крестьянской семье в одном из самых нищих регионов Франции. Благодаря счастливому случаю и покровительству местного помещика, заметившего необычайный ум мальчика, смог получить общее образование в Даксе, затем изучал богословие в Тулузе. В 1600 г. рукоположен в священники. Сильное влияние на формирование взглядов св. Винсента, в 1612 г. настоятеля небольшого прихода близ Парижа, оказали три личных знакомства: со знаменитым богословом кардиналом Берюлем, взгляды которого очень импонировали Винсенту и который очень помог молодому священнику в первый период его парижской жизни; со св. Франциском Сальским, после встреч с которым в Винсенте на всю жизнь запечатлелось стремление к святости; а также с Корнелием Янсением, учение которого, впоследствии известное как янсенизм, св. Винсент не принял и в дальнейшем активно с ним боролся.
На протяжении последующих 10 лет выполнял обязанности капеллана в семье знатного генерала Гонди, в чьих владениях многократно видел бедных крестьян, влачивших жалкое существование. Этот жизненный опыт повлиял на него настолько, что вся дальнейшая деятельность Винсента проходила под знаком помощи больным и бедным.
В 1625 г. св. Винсент основал конгрегацию миссионеров или конгрегацию лазаристов (по имени монастыря св. Лазаря, где располагалась резиденция конгрегации). В 1633 г. Папа Урбан VIII утвердил ее конституцию, и в том же году св. Винсент создал вместе с герцогиней Луизой де Марийак конгрегацию дочерей милосердия, главным делом которой стала помощь бедным, больным, брошенным детям и каторжникам.
В первой половине XVII в. во Франции упадок среди клира был ужасающ — многие священники не умели ни читать, ни писать; в монастырях традиции были забыты, дисциплина расшаталась, и наряду с ленью и невежеством царила открытая безнравственность.
Одной из главных заслуг св. Винсента является создание стройной системы подготовки священников: предсеминарий и семинарий. Работой над созданием этой системы св. Винсент занимался с 1626 г. до самой смерти. Сам св. Винсент основал 18 семинарий и множество школ и предсеминарий. Система св. Винсента быстро распространилась на соседние страны, что имело колоссальное значение в улучшении уровня образования клира и его нравственном воспитании.
Умер св. Винсент в 1660 г. в Париже. Папа Бенедикт XIII провозгласил его блаженным, а Папа Климент XII — канонизировал 16 июля 1737 г. День памяти в католической Церкви — 27 сентября.
Клариссы. — Орден святой Клары (лат. Ordo Sanctae Clarae, OSCI) — женский монашеский орден римско-католической Церкви, тесно связанный духовно и организационно с орденом францисканцев. Основан в 1212 г. св. Кларой Ассизской при храме св. Дамиана в Ассизи (см. коммент. 022). Распространение ордена шло параллельно с развитием ордена францисканцев. В 1230 г. монастыри клариссинок были во всех крупных городах Италии, а к 1263 г. действовало уже 76 монастырей по всей Европе. В 1253 г. Папа Иннокентий IV утвердил составленный св. Кларой устав ордена. В 1263 г. Папа Урбан IV одобрил обновленный устав, который был принят частью ордена; монахинь, живущих по этому уставу, стали называть урбанианками.
В XIV–XV вв. орден был многократно реформирован, в результате реформ образовались два независимых ордена, принявших реформированный устав св. Клары: колеттанки во Франции и францисканки-концепционистки в Испании.
В период Реформации орден пережил сильное сокращение численности монахинь, однако в XVII в. начал бурно развиваться, распространившись в том числе и в Америку. В этот период появилось несколько новых направлений внутри ордена: капуцинки, фарнезианки и эремитки. Во время Французской революции многие монастыри были ликвидированы, но к середине XIX в. орден восстановил свои позиции во Франции и остальной Европе.
049
…вырвавшихся на волю из фантастических альбомов Редона… — Одилон Редон (Odilon Redon) (22 апреля 1840 г., Бордо — 6 июля 1916 г., Париж) — французский живописец и один из основателей «Общества независимых художников». Творчество Редона разделяется на два периода: «черный» и «цветной». В «черный» период Редон, увлеченный человеческим подсознательным с его страхами и кошмарами, создавал навязчивые и местами жутковатые рисунки углем и печатную графику. Во втором периоде творчества Редон порвал с черными тонами и стал писать наполненные цветом картины с элементами идеализации антики и природы. Широко известны его квадрига, парящая в цветных облаках, и абстрактные изображения медуз, моллюсков и других морских обитателей. Эти многослойные картины идеального мира оживают благодаря глубоким переливам красочного тумана.
Несмотря на то что творчество Редона совпало по времени с расцветом импрессионизма, оно абсолютно самобытно и отлично от него. Его картины по форме и содержанию близки к экспрессионизму и сюрреализму, хотя этих художественных направлений в то время еще не существовало. Поэтому многие художники считают Редона предвестником ирреализма в живописи.
050
…я пожелал увидеть, и вот я проклят: вновь и вновь вечный символ Психеи! — Психея, Психе или Псише (греч. Ψυχή, «душа», «дыхание») — в древнегреческой мифологии олицетворение души, дыхания; представлялась в образе бабочки или молодой девушки с крыльями бабочки. В мифе говорится, что у одного царя были три красавицы дочери, из которых красивее всех была младшая — Психея. Психея чувствовала себя очень несчастной оттого, что все любовались ею, как бездушной красотой, и никто не искал ее руки. В горе обратился ее отец к милетскому оракулу, и бог ответил, что Психея, одетая в погребальные одежды, должна быть отведена на скалу для брака с ужасным чудовищем.
Исполняя волю оракула, несчастный отец привел Психею в указанное место и оставил одну; вдруг дуновение ветра перенесло девушку в чудный дворец, обитаемый невидимыми духами, и она стала женой какого-то таинственного незримого существа. Блаженная жизнь Психеи, однако, продолжалась недолго: завистливые сестры, узнав о ее благополучии, решили извести её и хитростью достигли того, что Психея нарушила данное супругу обещание — не допытываться, кто он. Злые сестры нашептали ей, что незримый супруг — дракон, который в один прекрасный день съест ее вместе с плодом (Психея была уже беременна), и убедили напуганную девушку, чтобы она, вооружившись мечом и светильником, подстерегла его во время сна и убила.
Доверчивая Психея послушалась и, зажегши светильник, стала рассматривать своего супруга, который оказался прекрасным Эротом; в то время как она, пораженная красотой его лица, любовалась спящим, со светильника упала горячая капля масла на плечо бога и он от боли проснулся. Оскорбленный вероломством и легкомыслием супруги, он улетел от нее, а она, покинутая, пошла по земле искать своего возлюбленного. И только после долгих и мучительных испытаний получив от Зевса бессмертие и приобщившись к сонму богов, она наконец соединилась с Эротом. От их брака родилось Наслаждение (Voluptas).
051
Согласно Тертуллиану… — Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан (лат. Quintus Septimius Florens Tertullianus, 155/165, Карфаген — 220/240, там же) — один из наиболее выдающихся раннехристианских писателей и теологов, автор сорока трактатов, из которых сохранился 31. В зарождавшейся теологии Тертуллиан впервые выразил концепцию Троицы. Положил начало латинской патристике и церковной латыни — языку средневековой западной мысли.
052
…житий святых, содержащихся в «Золотой легенде» Иакова Ворагинского… — Иаков Ворагинский (лат. Jakobus de Voragine, итал. Jacopo da Varazze) (1230, Варацце, близ Генуи — 13 или 14 июля 1298 г., Генуя) — монах-доминиканец, итальянский духовный писатель. В 1292 г. архиепископ Генуэзский, автор первого перевода Библии на народный итальянский язык, оставшегося неизданным, а также Sermones quadragesimales et dominicales и житийного сборника «Золотая легенда» (Legenda aurea sive historia Lombardica). Этот сборник, составленный в 1250-е гг., без всякой критики, частью по письменным источникам, частью на основании устных народных преданий, был в Средние века широко распространен и переведен почти на все европейские языки. В качестве литературного материала использовались как канонические, так и популярные апокрифические Евангелия, к примеру «От Никодима» (см. коммент. 055); истории из «Житий святых отцов» Иеронима (см. коммент. 045), «Церковной истории» Евсевия, «Зерцала исторического» Винсента из Бове (см. коммент. 054), труды Амвросия Медиоланского (см. коммент. 092), Альберта Великого (см. коммент. 057), Иосифа Флавия (см. коммент. 082), Григория Турского, Иоанна Кассиана (см. коммент. 110), Кассиодора (см. коммент. 094) и многие другие средневековые произведения. Всего выявлено более 130 использованных им текстов, хотя для многих историй определить источник, откуда Иаков Ворагинский взял тот или иной сюжет, не удалось: кроме пересказа текстов старых авторов он добавил множество легенд и сказаний, взятых им из устных рассказов.
053
Так что Дидрон, быть может, близок к истине, говоря, что собор — декалькомания тех больших энциклопедий… — Дидрон (Адольф Наполеон Didron, 1806–1867) — французский археолог. Пройдя курс юридических наук, он пристрастился к истории и исследованию древностей, объездил Нормандию для изучения ее старинных церквей и, по возвращении своем в Париж, стал сотрудничать в журнале L’Européen. В 1835 г. занял должность секретаря в комитете исторических памятников, основанном в это время Гизо; в 1838 г. начал читать в Королевской библиотеке публичные лекции христианской иконографии, а в 1839 г. приступил, вместе с Лассю, к изданию обширного монографического сочинения о Шартрском соборе, оставшегося неоконченным. В 1844 г. основал большое периодическое издание, под заглавием Annales archéologiques, помещал свои статьи в главных парижских художественных и археологических журналах и напечатал отдельно ряд более или менее важных сочинений. Вообще этот ученый может считаться, наряду с Комоном и Виолле-ле-Дюком, возродителем археологических исследований и интереса к ним во Франции.
Декалькомания (от фр. décalcomanie; по-английски часто называется Letraset — от названия наиболее известной фирмы-производителя) — изготовление печатных оттисков (переводных изображений) для последующего сухого переноса на какую-либо поверхность при помощи высокой температуры или давления. Используется для создания надписей и изображений на бумаге, картоне, керамике.
054
…переложение Speculum universale, «Зерцала мира» Винцента из Бове… — Винцент из Бове (1190, Бове, Франция — 1264, Бове) (фр. Vincent de Beauvais) — доминиканский монах, богослов, энциклопедист, философ и педагог. Родился в 1190 г. в Бове, около 1228 г. вступил в орден доминиканцев, около 1246 г. стал субприором доминиканского монастыря в Бове. С конца 1240-х был принят ко двору французского короля Людовика IX в качестве библиотекаря и капеллана. Умер в 1264 г.
Главным трудом Винцента является универсальная энциклопедия гигантского объема «Великое зерцало» (Speculum majus). Энциклопедия состоит из 4 частей: Зерцало природное (Speculum naturale), Зерцало вероучительное (Speculum doctrinale), Зерцало историческое (Speculum historiale), Зерцало нравственное (Speculum morale). В первой части рассматривается широкий круг естественнонаучных дисциплин — астрология, алхимия, биология и т. д.; во второй речь идет о богословских вопросах; в третьей рассматривается история человечества от сотворения мира до 1254 г.; в четвертой — поднимаются вопросы нравственности и морали. Энциклопедия была переведена на множество языков и пользовалась большим влиянием и авторитетом на протяжении нескольких столетий. Другими работами Винцента являются «О наставлении детей знатных граждан» (De eruditione filorum nobilum) и «О нравственном наставлении правителя» (De morale principis instutione).
055
…все извлечено из евангелия Рождества Богородицы и протоевангелия от Иакова Младшего. — Апокрифических евангелий дошло до нас числом до 50. Авторы собирали те изустные предания, которые могли забыться, или описывали те события, о которых в канонических Евангелиях были только намеки. Иногда излагали евангельские рассказы в разговорной форме. Имен своих авторы этих текстов не подписывали, а часто для придания большего значения своим произведениям выставляли имя кого-либо из апостолов или их учеников.
Содержание апокрифических евангелий разнообразно: в «Евангелии (Псевдо) Матфея, или Книге о происхождении блаженной Марии и детстве Спасителя» говорится о юности Иисуса, «Протоевангелие Иакова» (брата Господня) описывает время от рождения Спасителя до избиения младенцев.
«Евангелие Детства от Фомы» — апокрифический текст, содержащий истории о совершенных Иисусом Христом в детстве чудесах. Некоторые эпизоды Евангелия Детства послужили темой для средневекового искусства. Авторство книги приписывалось апостолу Фоме, ученику Иисуса, так как в первых строках значится: «Я, Фома Израильтянин». Однако, по мнению ученых, апостол Фома вряд ли является создателем книги, поскольку автор книги показывает очевидное незнакомство с деталями быта евреев, за исключением того, что можно было узнать из Евангелия от Луки, на котором, как считается исследователями, основано «Евангелие Детства от Фомы». Книга сохранилась в различных вариантах. Исследователи обычно выделяют греческие и латинские варианты.
«Евангелие от Никодима» — одно из апокрифических евангелий, авторство которого приписывается новозаветному тайному последователю Иисуса Христа Никодиму. Время создания достоверно неизвестно. Древнейшие части текста впервые появились на древнегреческом языке. Текст содержит несколько неоднородных по стилю написания частей, что заставляет предполагать, что они были написаны разными авторами. Самая старая часть текста предположительно датируется IV в. Предполагаемый ранними христианами оригинал на еврейском языке приписывался Никодиму.
«Евангелие от Никодима» состоит из основной части, которая называется «Деяния Пилата» (состоит, в свою очередь, из двух частей), и приложения к ней — «Сошествие во ад», которое отсутствует в греческом варианте текста, являясь более поздним дополнением в латинском варианте. Первая часть «Деяний Пилата» описывает суд над Иисусом (основано на 23-й главе Евангелия от Луки), а вторая часть — Воскресение Иисуса. «Сошествие во ад» описывает сошествие Иисуса в ад, сокрушение его врат и исход в рай из адских глубин всех ветхозаветных праведников. Также приводится рассказ о вхождении в рай прежде всех праведников разбойника Дисмаса, который, распятый рядом с Христом, покаялся и попросил Иисуса помянуть его в Царстве Божьем. Текст «Евангелия от Никодима» послужил одной из сюжетных основ «Романа о Граале» Робера де Борона (XIII в.), а также сборников «Золотая легенда» (см. коммент. 052) и «Страсти Христовы».
«Книга Иосифа Плотника» — один из новозаветных апокрифов, посвященный жизни и последним годам приемного отца Иисуса Иосифа. Текст создан в форме повествования самого Иисуса о жизни Иосифа, данного ученикам на горе Масличной. Начинается с описания обручения Иосифа с Девой Марией, при этом указывается, что у Иосифа уже было четверо сыновей и две дочери от предыдущего брака и что он был вдовцом. Далее текст продолжает линию повествования Евангелия от Иакова, закончившуюся на рождении Иисуса. Описываются последние годы жизни Иосифа, а также его смерть и предсмертные мольбы.
Считается, что создание «Книги Иосифа Плотника» было попыткой способствовать почитанию Иосифа, которое преобладало в Египте. Предполагается, что этот текст был создан в Египте в V в. н. э. К нынешнему времени сохранилось два варианта книги: один — на коптском, второй — на арабском языке.
056
…другой населен подобиями семи свободных искусств… — Семь свободных искусств (лат. septem artes liberales), свободные искусства (artes liberales), реже: изящные искусства (лат. artes ingenuae) — круг учебных предметов в Древнем Риме и средневековой Западной Европе. У Исидора Севильского (см. коммент. 017) сформировался окончательный список семи свободных искусств, который делился на гуманитарный тривиум (грамматика, логика, риторика) и математический квадривиум (арифметика, геометрия, музыка, астрология). Из людей, писавших о семи свободных искусствах, можно упомянуть Теодульфа и Винцента из Бове (см. коммент. 054).
Свободные искусства преподавались в средневековых средних учебных заведениях (монастырских и епископальных школах, коллегиумах монашеских орденов) и университетах. Сначала преподавался тривиум (первой из дисциплин — грамматика), потом квадривиум. Тривиум преподавался отдельно в начальных школах, которые поэтому назывались элементарными или тривиальными.
В средневековых университетах свободные искусства составляли первую ступень высшего образования и преподавались на низшем, подготовительном факультете — факультете искусств (факультет свободных искусств, артистический факультет — лат. facultas artium, facultas liberalium). Помимо них на факультете искусств преподавались философия и другие науки. Окончившим факультет присваивалась ученая степень магистра искусств (магистр свободных искусств — magister artium liberalium).
057
…художественная парафраза схоластического богословия, скульптурная версия текста Альберта Великого… — Альберт Великий (1193? Лауинген, Швабия — 15 ноября 1280 г., Кёльн)— (лат. Albertus Magnus), Св. Альберт, Альберт Кёльнский, Альберт фон Больштедт — философ, теолог, ученый. Видный представитель средневековой схоластики, доминиканец, признан католической Церковью Учителем Церкви.
Родился в семье графа фон Больштедта в Лауингене. Точная дата рождения неизвестна, предположительно между 1193 и 1206 гг. Около 1212 г. поступил в Падуанский университет, где изучал труды Аристотеля и Отцов Церкви, а также проявил большие способности к естественным наукам. В 1223 г. вступил в доминиканский орден, продолжая занятия теологией и наукой. С 1228 по 1254 г. Альберт преподает в крупнейших университетах Баварии и Франции и обретает славу величайшего схоласта Европы. В 1245 г. в Париже происходит знакомство с Фомой Аквинским (см. коммент. 031), который затем станет одним из любимых учеников Альберта и будет сопровождать его в поездках по университетам. В 1254 г. назначен провинциалом доминиканского ордена. Деятельность Альберта на этом посту способствовала развитию ордена во вверенной ему провинции Тевтония и росту числа братьев.
В 1260 г. Папа Александр IV назначил Альберта епископом Регенсбурга, но по прошествии двух лет Альберт отказался от епископского служения, которое мешало его научным и теологическим занятиям. До 1270 г. Альберт жил в Регенсбурге, потом переехал в Кёльн, где и жил до смерти. Умер в 1280 г. в Кёльне, похоронен в доминиканской церкви Св. Андрея. Беатифицирован в 1622 г, в 1931 г. Папа Пий XI канонизировал Альберта. В 1941 г. был провозглашен покровителем ученых. День памяти в католической Церкви —15 ноября.
Альберт Великий изложил и прокомментировал почти все работы Аристотеля. Именно через его работы философия и богословие средневековой Европы восприняли идеи и методы аристотелизма. Кроме того, на философию Альберта сильно повлияли идеи арабских философов. Альберт оставил гигантское письменное наследие — его собрание сочинений насчитывает 38 томов, большая часть которых посвящена философии и теологии. Среди главных сочинений — Summa de creatoris (Сумма о творениях), De anima (О душе), De causis et processu universitatis (О причинах и о возникновении всего), Metaphysica (Метафизика), Summa theologiae (Сумма теологии).
Энциклопедические знания Альберта позволили ему оставить богатое наследие в таких областях науки, как логика, география, астрология, минералогия, психология и френология. Он много занимался алхимией, кроме всего прочего, впервые выделил в чистом виде мышьяк. За свои разносторонние знания Альберт получил имя Doctor universalis (Доктор универсальный). Среди главных работ — De animalibus (О животных), De vegetalibus et plantis (О растениях), De mineralibus (О минералах), De caelo et mundo (О небе и мире) и др.
058
Якоб Корнелис ван Остзанен (1470–1533) — фламандский художник. Если верить Карлу ван Мандеру, то значительная часть картин ван Остзанена погибла во время иконоклазма. Сохранилось всего несколько картин Остзанена на ветхозаветные сюжеты.
059
Она похожа на образ Адвента… в ней вечно звучит напев rorate… — Слово «Адвент» в переводе с латыни означает «пришествие», время ожидания и подготовки к празднованию появления Христа на свет. Адвент включает в себя, как правило, 4 воскресенья. Во время первого Адвента ранним утром в храмах служится месса в честь Пресвятой Девы Марии — «рората», символом этой мессы является свеча, которая освещает путь идущих в церковь до восхода солнца. В каждом доме устанавливаются четыре свечи — символ четырех недель Адвента, которые зажигают по очереди в каждое воскресенье. Первый Адвент обозначает также начало нового церковного года.
060
Святая Радегонда Тюрингская, или Радегунда (Radegund, Radegunde) (518–587) — королева франков. Память 13 августа.
Дочь короля Бертахара, одного из трех правителей, деливших между собой королевство Тюрингия, святая Радегонда родилась в 518 г. в Эрфурте. После убийства ее отца и захвата королевства ее дядей Герменфредом, она была воспитана при дворе последнего. Короли франков, Теодорих и Хлотарь, сын Хлодвига, настойчиво подбиваемые Герменфредом на подавление мятежа, поднятого его братом, захватили Тюрингию и разделили членов королевской семьи в качестве трофеев. Восьмилетняя Радегонда досталась Хлотарю, королю Суассона, печально знаменитому своей разгульной жизнью, который вознамерился взять племянницу в жены, когда ее образование будет завершено.
Она получила редкое по тем временам для женщин литературное образование на королевской вилле Атье в Вермандуа. Еще ребенком она вела молитвенную жизнь. Прошло почти пять лет, и овдовевший к тому времени Хлотарь вызвал красивую пленницу в свой двор. Пришедшая в ужас Радегонда бежала, но была вскоре поймана и немедленно доставлена в Суассон, где и состоялось бракосочетание. Положившись на промысел Божий, она стала преданно исполнять обязанности супруги и королевы, не отделяясь тем не менее от своей веры. В предоставленном ей королем городе Атье она основала больницу, где служила самым бедным и обездоленным. При дворе она носила грубую власяницу под своими королевскими одеждами, и когда она принимала участие в банкетах, то просила подавать себе блюдо бобов или чечевицы. В 555 г. брат королевы, вовлеченный в бунт в Тюрингии, был казнен по приказу Хлотаря. Святая Радегонда, не желая вести супружескую жизнь с убийцей своего брата, получила от Хлотаря согласие на то, чтобы посвятить себя полностью Богу.
Когда она обратилась к святому Медарду, епископу Нуайонскому, епископ вначале заколебался, опасаясь оказаться отстраненным от алтаря теми, кто хотел помешать королеве принять постриг. Тогда Радегонда укрылась в ризнице, где облачилась в монашеские одежды. Вновь появившись перед епископом, она сказала: «Если ты сомневаешься в том, чтобы меня рукоположить, и если ты боишься человека больше, чем Бога, так знай же, пастырь, что с тебя спросят отчет за душу твоей овцы». Тогда святой Медард Нуайонский возложил на нее руки, дабы посвятить в диакониссы. Тотчас, раздав свое добро, святая уехала в Тур, чтобы поклониться там могиле святого Мартина. Она основала там мужской монастырь.
Святая Радегонда не принимала иной милости, кроме как быть первой в служении другим сестрам: она чистила и умащала их обувь, когда они спали; подметала коридоры, стирала и чинила грязное белье, убирала нечистоты, поддерживала огонь, служила больным. И когда она возвращалась в свою келью, падая от усталости, то это делалось для продолжения молитвенного бдения.
Святая королева прославилась многочисленными чудесами. Она возвращала зрение слепым, изгоняла демонов, и было достаточно дать больным листьев или свечу, которые она благословила, чтобы к ним возвратилось здоровье. По ее молитвам вернулась к жизни молодая монахиня. Поэтому ее могли сравнивать со святым Мартином, великим чудотворцем (см. коммент. 106). Почитавшаяся святой еще при жизни Радегонда в возрасте шестидесяти лет обрела от Христа видение, в котором ей было показано то место, которое для нее было предназначено на небе. Она упокоилась с миром несколькими днями позже, 13 августа 587 г. В отсутствие епископа Мэрове похороны возглавил Григорий, епископ Турский. Почитание святой Радегонды, одной из самых ярких фигур французской святости, широко распространилось по всей Европе.
061
Святая Клотильда (475–545) была дочерью Хильперика, правившего вместе с двумя своими братьями в королевстве Бургундском, от Юры до Дюранса. Православная по матери, в то время как все другие бургундские правители были охвачены арианством, она была вынуждена бежать после убийства своих родителей дядей в Женеву. Молодая красивая принцесса была замечена послами Хлодвига, короля франков, который попросил ее руки, чтобы закрепить союз своего народа с бургундцами (в 492 г.).
Мягкостью и примером своего добродетельного поведения королева оказала большое влияние на Хлодвига, который согласился на крещение их больного ребенка, исцелившегося по молитвам своей матери. Но сам Хлодвиг по-прежнему был глух к обращениям своей супруги. И вот перед сражением с аламанами в Тольбиаке, за Рейном (496), он, испуганный превосходством противника, обратился к «Богу Клотильды» и дал Ему обещание принять Крещение, если Тот дарует ему победу. По преданию, накануне битвы Клотильда, по ангельскому откровению, вручила Хлодвигу экю, украшенное тремя геральдическими лилиями — эмблемой Святой Троицы, которые с тех пор стали гербом королей Франции. Франки одержали победу, и король выполнил обещание и, вслед за катехизическим уроком, преподанным ему, крестился у святого Ремигия, епископа Реймса в Рождество 496 г. Крещение Хлодвига, а с ним и более трех тысяч дворян и солдат, открыло путь к обращению его народа, предназначенного к тому, чтобы стать христианской нацией.
062
Берта Большеногая (Bertha de le gran pie) (ум. 783) — супруга Пиппина Короткого и мать императора Карла Великого, героя французского эпоса, где он выступает защитником страны от мусульман-арабов.
Имеется две песни на сюжет Берты Большеногой. Одна создана около 1270–1275 гг. последним из великих брабансонских труверов Аденом Ле Руа (Adenet le Roy: «Адене» — уменьшительное от Адам, а прозвище le Roy — «король» — означает короля труверов) (ок. 1240 — ок. 1300). Примечательно, что эта песнь — одна из немногих подписанных именем автора. Другая песнь на этот же сюжет более древняя и анонимна.
063
…врезается в память смех Сарры, поневоле развеселившейся, когда ангел возвестил ей, что она зачнет, невзирая на глубокую старость. — Имеется в виду библейский рассказ о «трех мужах», явившихся Аврааму.
«И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал [ей]: поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масла и молока и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели.
И сказали ему: где Сарра, жена твоя? Он отвечал: здесь, в шатре.
И сказал один из них: Я опять буду у тебя в это же время [в следующем году], и будет сын у Сарры, жены твоей.
А Сарра слушала у входа в шатер, сзади его. Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось. Сарра внутренне рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? и господин мой стар.
И сказал Господь Аврааму: отчего это [сама в себе] рассмеялась Сарра, сказав: “неужели я действительно могу родить, когда я состарилась”? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году, и [будет] у Сарры сын.
Сарра же не призналась, а сказала: я не смеялась. Ибо она испугалась.
Но Он сказал [ей]: нет, ты рассмеялась» (Быт. 18: 2–15).
«Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог; и нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сарра, Исаак; и обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сарра: смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо мне, рассмеется» (Быт. 21: 2–6).
Здесь важно помнить, что имя Исаак переводится как «смех».
064
…гипюрами en fils de la Vierge… — Речь идет о чрезвычайно тонком кружевном плетении. В бабье лето (обыкновенно с 1 до 10 сентября) по воздуху носятся белые нити. Происхождение этих нитей долгое время было неизвестно. Прежде полагали, что это паутина очень маленьких пауков, которые, носясь по ветру, выпускают паутинку до тех пор, пока не прикрепятся к какому-нибудь месту. Позднее, после введения христианства, происхождение их стали приписывать Пречистой Деве, вследствие этого во Франции они называются Fils de la Vierge, в южной Германии — Mariengarn, Marienfaden или Frauensommer.
065
…как проходят мимо них святой Бернард, святой Людовик, святой Фердинанд, святой Фульберт, святой Ивон, Бланка Кастильская… — Святой Бернард, Бернар Клервоский (Bernard de Clairvaux; Bernardus abbas Clarae Vallis, 1091, Фонтен, Бургундия — 20 или 21 августа 1153 г., Клерво) — французский средневековый мистик, общественный деятель, аббат монастыря Клерво (с 1117). Происходил из знатной семьи, в двадцатилетием возрасте вступил в цистерцианский орден, где своим подвижничеством снискал популярность. В 1115 г. основал монастырь Клерво, в котором стал аббатом. Благодаря его деятельности малочисленный цистерцианский орден стал одним из крупнейших. Бернар Клервоский придерживался мистического направления в теологии, был ярым сторонником папской теократии. Активно боролся с ересями, в частности был инициатором осуждения Пьера Абеляра и Арнольда Брешианского на церковном соборе 1140 г. Активно боролся с ересью катаров. Не будет преувеличением сказать, что Бернар Клервоский — один из основателей средневековой христианской мистики. Основа мистического вдохновения, по Бернару, — смирение. У него же описываются 12 ступеней мистического восхождения. Любовь — лучший плод смирения. На основе смирения и любви достигается молитвенное созерцание Истины. Вершина его — состояние мистического экстаза.
Участвовал в создании духовно-рыцарского ордена тамплиеров. Был главным идеологом и организатором второго Крестового похода (1147), написал первый устав для духовно-рыцарских орденов (устав тамплиеров). Содействовал росту монашеского ордена цистерцианцев, в его память получившего название бернардинцев. На фоне невыразительных фигур Пап того времени, среди которых были и его ученики из Клерво, святой Бернар приобрел колоссальный авторитет в церковных и светских кругах. Он диктовал свою волю Папам и французскому королю Людовику VII. Целью человеческого существования считал слияние с Богом. Канонизирован в 1174 г.
Святой Фердинанд III, король Леона и Кастилии. — Родился в 1199 г. в семье Альфонса IX, короля Леона, и Беренгарии Кастильской. В 1219 г. женился на Беатрис, дочери Филиппа Швабского, с которой жил в счастливом браке; она была его достойной соправительницей. В 1217 г. он унаследовал Кастилию, а в 1230 г. — Леон и объединил два королевства в единое государство под личной эгидой. Он отнял у мавров южноиспанские города Кордову (1236 г.), Мурсию (1243 г.), Хаэн (1246 г.) и Севилью (1248 г.). В 1221 г. основал знаменитый кафедральный собор в Бургосе и в 1243 г. — университет в Саламанке. Уже его отец Альфонс IX превратил соборную школу в общеобразовательное учебное заведение, функционировавшее до 1240 г. Фердинанд издал также гражданский кодекс законов. Умер 30 мая 1252 г. в Севилье. Причислен к сонму святых 4 февраля 1671 г.
Изображался как король с крестом на груди (он носил большой волосяной крест с колючками), верхом на белом коне, под копытами которого лежит поверженный сатана, в одной руке у него статуя Богоматери, в другой — меч (ключ, знамя крестоносца). День памяти 30 мая.
Святой Фульберт, епископ Шатрский. — Родился ок. 960 г. в Италии, вероятно вблизи Рима, в бедной семье. В Реймсе (северн. Франция) он был учеником Герберта, будущего Папы Сильвестра II. В 1004 г. стал канцлером церкви в Шартре, где основал весьма известную в эпоху Средневековья школу, которая пользовалась большим успехом во всех христианских странах. Он сам был проницательным, неоплатонически настроенным философом. В своем теологическом мышлении исходил из убеждения в тщете человеческого разума при постижении истин Откровения, поэтому старался в противовес преувеличенной диалектике придерживаться положительной интерпретации смысла Священного Писания и идти традиционным путем толкования его святыми отцами. В 1006 г., благодаря усилиям своего бывшего соученика, короля Роберта II («Благочестивого») Французского, стал епископом Шартрским. В этом качестве остался верен своим научным интересам. Активно боролся со злоупотреблением, когда бенефиции (доходные места) и церковные владения раздавались мирянам, и имел из-за этого неприятности со своим митрополитом, архиепископом Франконом из Парижа. Невзирая на это, он всюду пользовался уважением и великие люди его времени обращались к нему за советами. Знаменитый шартрский кафедральный собор (см. коммент. 007), который погиб в 1020 г. от пожара, был им восстановлен. Особо почитая Пречистую Деву Марию, он ввел в своей епархии праздник Рождества Марии. Святой Фульберт умер 10 апреля 1028 г. и был погребен в монастыре Сен-Пьер-ан-Вале, в котором часто уединялся для духовного самоуглубления. День памяти 10 апреля.
Бланка Кастильская, Бланш Кастильская (Blanche de Castille) (4 марта 1188 г. — 26/27 ноября 1252 г.) — королева Франции, жена Людовика VIII, мать Людовика IX. Регентша (1226–1236) при своем малолетнем сыне, в 1248–1252 гг. управляла Францией ввиду отсутствия Людовика IX, вызванного его участием в седьмом Крестовом походе. После завершения альбигойских войн заключила Парижский мир (1229), по которому была присоединена часть Лангедока. Подавила восстание «Пастушков».
066
…предаются грезам в одном из странных боковых выступов, напоминающих своим видом арабский трефовый крест. — Что имеет в виду автор, выяснить не удалось. Возможно, речь идет о масти арабских игральных карт, соответствующей в европейской колоде трефам. Не секрет, что в христианскую Европу игральные карты пришли из исламского мира, через Испанию, большей частью которой вплоть до 1492 г. правили мавры. Первые в Европе упоминания о картах и изготавливавших их мастерах появились в Каталонии. Слово «наиб» («игральная карта») зафиксировано в каталонском словаре рифм уже в 1371 г. Об этом свидетельствует запись итальянского живописца Николо Кавелуццо, сделанная в 1379 г. в хрониках его родного города: «Введена в Виттербо игра в карты, происходящая из страны Сарацин и называемая ими “наиб”». Эти ранние карты имели четыре масти: чаш, мечей, монет и клюшек для поло (которые европейцы восприняли как палки), и фигуры, состоящие из короля и двух вельмож. В 1377–1379 гг. записи об игре в карты внезапно появились в летописях многих городов Западной Европы.
067
Артемидор в «Толковании сновидений» уверяет… — Артемидор Далдианский — автор «Онейрокритики». Был родом из Эфеса, однако предпочитал прозвище Далдианский, в честь лидийского города Далдия, где родилась его мать, для того чтобы его сочинения не были спутаны с работами Артемидора Эфесского. По-видимому, жил при императорах Антонине Пии и Марке Аврелии. Артемидор известен благодаря единственному сохранившемуся своему сочинению «Онейрокритики» (Ονειροκριτικά) о толковании сновидений, которое состоит из пяти книг, целиком дошедших до нашего времени. По собственному утверждению, Артемидор тщательно собирал материал о сновидениях и их толковании из произведений предшественников и во время путешествий по Римской империи — в Италии, Азии и Греции. Он ссылается на таких авторов, как Антифон Афинский, Деметрий Фалерский, Артемон Милетский и Аристандр Тельмесский, и зачастую критикует их за отсутствие систематического подхода.
Первая книга «Онейрокритики» начинается с определения термина сновидения и разграничения обычного сновидения (ένύπνιον) и вещего сна (όνειρος): первое обычно указывает на настоящее, в то время как последний предсказывает будущее. Среди них Артемидор выделяет прямосозерцательные (θεωρηματικοί) сны, или видения, в которых напрямую показано будущее, и аллегорические (αλληγορικοί) сновидения, в которых будущее предсказано метафорически. Именно аллегорическим снам и способам их толкования посвящено сочинение Артемидора. Первые четыре книги «Онейрокритики» содержат указания для толкования разнообразных объектов и ситуаций, увиденных во сне, в то время как пятая книга представляет собой собрание своего рода учебных примеров.
Артемидор упоминает, что является автором других работ о прорицании — согласно Суде, «Ойоноскопики» (об ауспициях — предсказаниях по поведению птиц) и «Хироскопика» (о хиромантии). Эти произведения не сохранились.
068
«Как солнце разгоняет мрак, — говорит аббатиса Рупертсбергская…» — Имеется в виду основательница бенедиктинского монастыря Рупертсберг под Бингеном святая Хильдегарда Бингенская (1098–1179) — знаменитый немецкий мистик (см. коммент. 046).
069
…монах Валафрид Страбон восхваляет в целой главе пышных гекзаметров… — Валафрид Страбон (лат. Walahfrid Strabo; Валафрид Косой, Валафрид из Райхенау; 808/809 — 18 августа 849 г.) — средневековый латинский поэт и богослов, с 838 г. — аббат монастыря Райхенау. Известен тем, что записал хронику Тегана. Родился в Алемании в бедной семье. По крайней мере с 822 г. находился в монастыре Райхенау, учился у лучших тамошних учителей. Уже в ранней юности открыл в себе поэтический дар, написал десятки стихотворений, гимнов, посланий друзьям и учителям, рассуждений на богословские темы. Там же, в Райхенау, написал одну из самых известных своих поэм «Садик» или «О садоводстве» (Hortulus, De cultura hortorum) с посвящением аббату Гримальду. Эта небольшая поэма, где поэтически описан сад Райхенауского монастыря, написана, с одной стороны, в подражание античным литературным памятникам, с которыми он был хорошо знаком (прежде всего «Георгикам» Вергилия), с другой — на основе собственного опыта. О том, что за этой «художественной ботаникой» стояла реальная практика, свидетельствует тот факт, что многие из растений упоминаются в «Капитулярии об императорских поместьях» Карла Великого (Capitulare de villis).
В 826 г. для продолжения обучения Страбон был направлен в Фульдский монастырь к Рабану Мавру (см. коммент. 020) и вскоре стал его любимым учеником. В 829 г. приглашен ко двору Людовика Благочестивого в Ахен в качестве воспитателя шестилетнего принца Карла. Здесь прославился как великолепный стилист, поэт и богослов. Помимо богословских и светских прозаических сочинений перу Страбона принадлежат многочисленные и совершенные с точки зрения формы стихотворения, носящие, несмотря на следование античным образцам, печать яркой индивидуальности. Среди поэтических произведений Валафрида Страбона — агиографические поэмы, духовная лирика, стихотворения на случай и придворные стихи. Валафрид Страбон считается крупнейшим поэтом Каролингского возрождения.
070
…как еще в древности писал Феофраст… — Теофраст (Феофраст, род. ок. 370 г. до н. э., Эрес на Лесбосе — ум. 288/285 г. до н. э., Афины) — древнегреческий философ. Разносторонний ученый; является наряду с Аристотелем основателем ботаники и географии растений. Благодаря исторической части своего учения о природе выступает как родоначальник истории философии (особенно психологии и теории познания).
Уроженец Эреса на острове Лесбос. Учился в Афинах у Платона, затем у Аристотеля и сделался его ближайшим другом, а в 323 г. до н. э. — преемником на посту главы школы перипатетиков. Автор свыше 200 трудов по естествознанию (физике, минералогии, физиологии и др.). Написал (около 300 г. до н. э.) две книги о растениях: Historia Plantarum и De Causis Plantarum, в которых даются основы классификации и физиологии растений, описано около 500 видов растений.
071
…возвести приют для Божьей Матери Семи Скорбей… — Матерь Скорбящая (лат. Mater Dolorosa), сокрушающаяся о своем сыне, — ее сердце пронзено семью мечами, символизирующими семь скорбей.
Изображение пронзенного семью мечами сердца Богоматери символизирует свершение слов святого Симеона Богоприимца о «прохождении» святой души Богоматери оружием: «И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2: 34, 35). Само оружие, изображенное символически семью мечами (число семь здесь означает совершенную полноту душевного «оружия», поразившего Богоматерь), означает невыносимую душевную скорбь, которую испытала Пресвятая Богородица в часы распятия, крестных мучений и смерти на кресте Ее Божественного Сына Иисуса Христа. Душевные крестные муки Богородицы усугублялись до крайности тем, что только Она одна и усыновленный Ею у креста Самим Господом Иоанн Богослов видели в духе, что происходило во время крестных страданий Спасителя: собрание всех демонов, устремившихся к бессмертной душе Спасителя для нанесения мучений за грехи всего рода человеческого, которые Он добровольно взял на Себя. В неизреченной муке Спаситель возопил: «Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты меня оставил?» (Мк. 15: 34). Скопление демонов было столь великим, что наступила тьма. От лицезрения этих сверхчеловеческих и непостижимых мучений Пресвятая Дева потеряла сознание, а у Иоана Богослова помутился на время ум. С того времени Пресвятая Дева и святой Иоанн Богослов стали сокрестниками Господа в духе.
072
…кедр, который сопоставляет с Богородицей святой Ильдефонс. — Святой Ильдефонс, архиепископ Толедский, против воли родителей постригся в монахи и позднее стал настоятелем монастыря Св. Косьмы и Дамиана под Толедо. Вероятно, он был учеником св. Исидора Севильского (см. коммент. 017). В 657 г. стал архиепископом Толедо. Считается одним из самых значительных представителей позднероманской литературы в вестготтской Испании. В центре его созерцательного мышления находится чрезвычайное почитание Девы Марии. Принимал значительное участие в формировании готско-мозарабской литургии в Испании. Умер 23 января 667 г. День памяти 23 января.
073
Святой Колумбан из Ну. — Происходил из ирландской семьи и был монахом и бардом. Основал многочисленные ирландские монастыри. В 563 г. отправился в изгнание на один из островов (юго-западнее Шотландии) и основал там монастырь Ну, который со временем развился в значительный центр распространения веры и культуры. Сам Колумбан начал отсюда миссионерскую деятельность среди пиктов (доиндогерманские древние племена Шотландии). Для управления своими монастырями на родине он вынужден был часто ездить в Ирландию. Умер 9 июня 597 г. Изображался как умирающий перед алтарем — рядом корзина с хлебами — настоятель-бенедиктинец (хотя святой не был бенедиктинцем). День памяти 9 июня.
074
…восхитительное место из Одона Клюнийского, приведенное Реми де Гурмоном в «Мистической латыни», то место, где этот грозный монах берет женские прелести, свежует их, обдирает и кидает перед слушателем, словно кроличью тушку на прилавок, или вот эти слова Кирилла Александрийского… — Одон Клюнийский, аббат Клюни, гимнограф (IX–X вв.), основатель клюнийского ордена. Образование ордена связано с реформами в бенедиктинском ордене, относится к X в. и приурочивается к деятельности святого Одона, аббата клюнийского монастыря (основан в 910 г.). Вскоре очень многие монастыри приняли новый, реформированный устав. Одон Клюнийский писал в X в.: «Нам противно дотрагиваться до рвоты и до навоза. Но как же мы можем сжимать в наших объятиях этот мешок с нечистотами, который зовется женщиной?» Одон умер в 942 г.
Реми де Гурмон (Gourmont) (4 апреля 1858 г., Базош-ан-Ульм, департамент Орн, — 17 сентября 1915 г., Париж), французский писатель. Происходил из аристократической семьи. В 1882 г. опубликовал сборник стихов «Извержение вулкана». Критические этюды о современных писателях составили «Книгу масок» (1896–1898); в предисловии изложил свою концепцию символизма. В работах «Культура идей» (1900), «Проблема стиля» (1902) и др. Гурмон рассматривает вопросы эстетики, стиля и языка с позиций и теории «искусства для искусства».
Кирилл Александрийский, святой. — Некоторое время провел в пустыне, но епископ Феолил, его дядя, ввел его в духовный сан. Вместе с ним во время известного синода «под Дубом» осудил Иоанна Златоуста. В 412 г. Кирилл был избран преемником своего дяди и сразу же попал в конфликт с местным префектом, евреями и язычниками. Очень скоро показал свое мужество в защите веры. В борьбе против Нестория его поддерживали египетские пустынножители и монахи. В 431 г. с поддержкой Папы Римского Кирилл отправился в Ефес, где Несторий был лишен сана и отлучен. Отцы Собора признали Марию «Фоетокос» — Богородицей. Не принесло это мира на Востоке. Кирилл пытался найти путь к примирению. Последние годы его жизни прошли в покое. Умер в 444 г. Лев XIII объявил его Учителем Церкви и велел записать его имя в мартиролог. С того времени много внимания уделялось оставленным Кириллом письменам. День памяти 27 июня.
075
…когда святой Доминик ввел молитву розария… — Розарий (лат. rosarium) — традиционные католические четки, а также молитва, читаемая по этим четкам. Первые упоминания об использовании схожих с розарием молитв по четкам в христианских монастырях относятся к IX в. Современный вид четки приобрели в XIII в. Католическая традиция официально связывает их появление со святым Домиником (см. коммент. 031), которому в 1214 г. было видение Девы Марии с розарием в руках. Особую роль в распространении розария сыграл орден доминиканцев в XV в. Именно с этой молитвой традиция связывает победу католической Европы над турками при Лепанто, в память о которой был установлен праздник Девы Марии — Царицы розария (7 октября).
076
…портрет Мелхиседека, царя Салима… — Мел(ь)хиседек (ивр. Малкицедэк; царь справедливости: от малки — «мой царь», цедэк — «справедливость») (Быт. 14: 18; Евр. 5: 6 и др.) — царь Салимский, священник Всевышнего. Он, по возвращении Авраама с отбитыми у четырех восточных царей людьми и имуществом, вышел к нему навстречу с хлебом и вином, благословил его и принял от него десятую часть всей отнятой у врага добычи. Пребыванием его, по всей вероятности, было место, на котором впоследствии был построен Иерусалим. Его священство признавалось не только Авраамом, но также и теми лицами, из имущества которых ему была дана десятина. Мелхиседек пользовался большой известностью (Евр. 7: 1). Но ничего неизвестно о времени его рождения, возрасте, жизни и предках (Евр. 7: 3). Он так таинственен, как по отношению к своему лицу, так и к своему служению, что существовало и существует множество разнообразных мнений, часть из которых необоснованна.
По позднейшему иудейскому преданию, это был Сим, который мог жить еще 150 лет одновременно с Авраамом. По другому преданию, он принадлежит к семейству Хама и Иафета. Но ни то, ни другое предания не существовали в апостольский век. Некоторые утверждали, что под именем Мелхиседека подразумевается воплощенный ангел или другое сверхъестественное существо, которое жило некоторое время среди людей, об этом, например, рассказывается в Книге Урантии. Наконец, некоторые люди видели в нем ветхозаветное явление Сына Божия. Несомненно одно: Мелхиседек был потомком Адама по естественному происхождению от него, но нам ничего не известно о нем, кроме того, что он являлся личностью великой и значительной. Часто его уподобляют Сыну Божию.
077
По Симону Логофету Мелхиседек был египтянином, а у Свиды он принадлежит к проклятому племени Ханаанскому… — Симеон Метафраст (Симеон Магистр, Симеон Логотет, Симеон Логофет) (умер около 940 г. или, по другим сведениям, около 976 г.) — родился в Константинополе; состоял секретарем (логофетом) при императорах Льве Философе и Константине VII; исполнял важные дипломатические поручения; спас город Фессалоники от истребления, которым угрожали этому городу в 904 г. арабы, убедив предводителя их взять за город денежный выкуп. К концу жизни был патрицием и магистром. Причтен греческой церковью к лику святых (память его 27 ноября). Михаил Пселл около 1050 г. составил его жизнеописание и церковную службу в честь его.
Симеон Метафраст известен собранной им по поручению императора коллекцией «Житий святых», причем он не ограничился одним собранием древних сказаний, а пересказал или переложил их; отсюда его название Метафраст (от греч. μεταφράξειν — пересказывать, перелагать).
Свида (Σουïδας) — византийский лексикограф. Личность и само имя Свиды остаются загадочными; только с некоторой вероятностью можно предположить, что он принадлежал к духовному званию. Сохранившийся во многих рукописях монументальный лексикон его (появился около середины X в. по Р. Х.), замечательный по полноте и учености, является настоящим произведением X в., этой эпохи энциклопедической эрудиции. Словарь Свиды представляет нечто среднее между обычными в Византии лексиконами, в которых приведены только слова, с производными формами, и современными энциклопедиями. Филологический материал (грамматика, лексика, история и литература) и у Свиды является преобладающим; философия, естественная история и география представлены слабее. Особенно драгоценны биографические и историко-литературные статьи, отчасти восполняющие многочисленные пробелы в античной литературе и делающие словарь Свиды незаменимым пособием для историка и филолога.
078
Гностики почитали его как Эон, бывший прежде Иисуса… — Эон (греч. век, вечность), — в мифологических представлениях позднеантичного язычества, испытавшего влияние иранской мифологии, персонификация времени. В эпоху распространения в Римской империи культа Митры складывается иконография Эона: мощный старец с львиной головой, скалящей пасть, вокруг тела которого обвилась змея. В эсхатологии иудаизма и христианства термин «Эон» выступает как греч. «передача», евр. olat (век) и означает очень продолжительное, но принципиально конечное состояние времени и всего мира. Вся история человечества со всеми ее страданиями и несправедливостями составляет один Эон. В представлениях христианского гностицизма II в. Эон — как бы некое духовное существо, персонифицирующее один из аспектов абсолютного божества. Совокупность всех Эонов — плерома (греч. полнота).
079
…один Гюстав Моро, художник, писавший Саломею… — Гюстав Моро (род. в 1826 г.) — исторический живописец, ученик Парижского училища изящных искусств. Первые значительные его картины: «Бегство Дария после битвы при Арбелах» и колоссальная «Сцена на тему Песни Песней Соломона» появились в парижском салоне 1853 г. Еще больший успех имели его «Минотавр в Критском лабиринте», выставленный в 1855 г., и «Эдип и Сфинкс» в 1864 г. — быть может, самое лучшее из всех произведений этого художника. Среди последующих его работ, по большей части на мифологические, аллегорические и библейские сюжеты важнейшими считаются: «Ясон», «Юноша и Смерть», «Орест, терзаемый менадами», «Конь Диомеда», «Прометей», «Саломея».
080
…на нем льняной эфод, опоясанный гиацинтово-малиново-пурпурным поясом… — Эфод — верхняя одежда евреев (см. также коммент. 043). Имели продолговатую форму разного размера — были короткие, узкие, широкие и длинные, — посередине имели вырез, в который проходила голова. Когда надевали эфод на плечи, то один конец опускался на переднюю часть тела, и другой — на заднюю, по углам пришивались кисти. Какого бы ни была цвета эта одежда, но в кистях всегда были употребляемы синие нитки в память о грехах. Богатые люди роскошно украшали эфоды узорами, и эфоды у них были самых разнообразных цветов, кроме красного. Бедный же люд носил эфоды короткие и узкие, но непременно с бахромой и по углам с голубыми кистями.
081
Соломон (др.−евр. Шломо; лат. Solomon в Вульгате; араб, Сулайман в Коране) — третий еврейский царь, легендарный правитель объединенного Израильского царства в 965–928 до н. э., в период его наивысшего расцвета. Сын царя Давида и Вирсавии (Бат-Шевы), его соправитель в 967–965 до н. э. Считается автором «Книги Екклесиаста», книги «Песнь песней Соломона», «Книги Притчей Соломоновых», а также некоторых псалмов. Во время правления Соломона в Иерусалиме был построен Иерусалимский храм — главная святыня иудаизма.
082
Иосиф Флавий — Иосиф, сын Маттафии, Иосеф бен Матитьягу (лат. Josephus Flavius) (ок. 37 — ок. 100) — знаменитый еврейский историк и военачальник. Иосиф Флавий известен дошедшими до нас на греческом языке трудами — «Иудейская война» (о восстании 66–70) и «Иудейские древности» (где изложена история евреев от сотворения мира до Иудейской войны). Как и трактат «Против Апиона», они имели целью ознакомить античный мир с историей и культурой евреев и развенчать устойчивые предубеждения против этого народа.
083
Святой Иоанн Креста Господня. — Святой Иоанн Креста (также известен как св. Хуан де ла Крус и св. Иоанн Крестный, исп. Juan de la Cruz) (24 июня 1542 г., Онтиверос, Испания — 14 декабря 1591 г., Убеда, Испания), настоящее имя Хуан де Йепес Альварес (исп. Juan de Yepes Álvarez) — католический святой, писатель и поэт-мистик. Реформатор ордена кармелитов. Учитель Церкви.
Хуан происходил из знатной, но обедневшей дворянской семьи, жившей в окрестностях Авилы. Юношей поступил в госпиталь, для ухода за больными. Образование получал в иезуитской школе в городке Медина дель Кампо, куда в поисках средств к существованию перебралась его семья после смерти отца. В 1568 г. вступил в орден кармелитов, получил богословское образование в Саламанке. Затем стал одним из основателей реформированного кармелитского монастыря Дуруэло. В монашестве принял имя Иоанн Креста.
В ордене кармелитов в это время шли распри, связанные с реформами ордена, инициированными святой Терезой Авильской (см. коммент. 003). Иоанн стал сторонником реформ, имевших целью возврат к первоначальным идеалам кармелитов — строгости и аскетичности. Фундаментальный принцип богословия святого Иоанна состоит в утверждении, что Бог есть все, а человек — ничто. Следовательно, чтобы достичь совершенного соединения с Богом, в чем и состоит святость, необходимо подвергнуть интенсивному и глубокому катарсису все способности и силы души и тела.
Деятельность Иоанна многим в монастыре пришлась не по вкусу, по клеветническим доносам он трижды привлекался к суду, много месяцев провел в тюрьме в тяжелых условиях. Именно во время заключения Иоанн начал писать свои прекрасные стихи, проникнутые особым мистическим духом и религиозным трепетом. Его перу также принадлежат прозаические трактаты — «Восхождение на гору Кармель», «Темная ночь души», «Песнь духа», «Живое пламя любви». Мистики, подобные поэту и визионеру святому Иоанну Креста, появились, по-видимому, в ответ на необходимость направить в нужное русло беспорядочную религиозную жизнь того времени. Они были «святыми контрреформации»— в период церковного хаоса они возложили весь колоссальный вес своей святости на чашу весов ортодоксального католичества. В то время как Игнатий Лойола создал остов духовного воинства, которое должно было преследовать ереси и защищать Церковь, святая Тереза, работая в исключительно неблагоприятных условиях, вдохнула жизненные силы в великий религиозный орден и возвратила ему его призвание — способствовать достижению единения с трансцендентным миром. В этом ей помогал святой Иоанн Креста — психолог, философ и великий мистик, который вернул персональный опыт испанской школы в основное русло мистической традиции.
Скончался святой Иоанн Креста в Убеде, в 1591 г. В 1726 г. был канонизирован Папой Бенедиктом XIII, в 1926 г. Папа Пий XI объявил его Учителем Церкви. День памяти святого Иоанна Креста в католической Церкви — 14 декабря.
084
…благодетельного цистерцианского безмолвия у черных монахов нет. — Цистерцианцы (лат. Ordo Cisterciensis), белые монахи, бернардинцы — католический монашеский орден, ответвившийся в XI в. от бенедиктинского ордена. В связи с выдающейся ролью в становлении ордена, которую сыграл святой Бернард Клервоский (см. коммент. 065), в некоторых странах принято называть цистерцианцев бернардинцами. Цистерцианские монахи ведут затворнический образ жизни, в духовной жизни большую роль играют аскетические практики и созерцательная монашеская жизнь. Для цистерцианских церквей характерно почти полное отсутствие драгоценной утвари, живописи, роскошных интерьеров. Облачение цистерцианцев — белое одеяние с черным наплечником, черным капюшоном и черным шерстяным поясом.
В середине XII в. начался упадок ордена, вследствие отступлений от строгого режима и внутренних раздоров. В 1615 г. среди цистерцианцев образовались две фракции, из которых одна требовала более строгого соблюдения устава, другая допускала уклонения от него.
В эпоху своего процветания цистерцианцы среди всех орденов занимали первое место по своему богатству и влиянию на современников. От них произошли рыцарские ордена Калатрава, Алкантара, Монтеза и Альфама в Испании.
В XVII в. в ответ на послабление правил и упадок в некоторых цистерцианских монастырях во Франции из цистерцианцев выделился орден траппистов с еще более строгим уставом. Число траппистов вскоре сильно выросло, к ним перешла большая часть цистерцианских монастырей, в том числе и колыбель ордена аббатство Сито.
085
…посещение собора Марией Медичи и Генрихом IV, Людовик XIII с матерью… — Мария Медичи (итал. Maria de Medici, фр. Marie de Medicis; 26 апреля 1575 г., Флоренция — 3 июля 1642 г., Кёльн) — королева Франции, дочь великого герцога Франческо I Тосканского и Иоанны Австрийской, по настоянию Фердинанда Медичи в 1600 г. вышла замуж за Генриха IV Французского. Несмотря на свою красоту, она отдалила от себя супруга слишком властным характером и постоянными сценами ревности. Особенно ненавистно было Генриху IV влияние на жену ее прислужницы Леоноры Галлигаи и мужа последней, Кончини.
Когда Генрих, в 1610 г., хотел отправиться с войском в Германию, для поддержки протестантов, она уговорила его короновать ее в Сен-Дени. На следующий день, 14 мая, король был убит Равальяком. Подозрение, что Мария была соучастницей в этом деле, неосновательно. Она приняла регентство за несовершеннолетнего сына своего, Людовика XIII, при затруднительных обстоятельствах. Притесняемая высшей аристократией, Мария стала опираться на клерикальную и испанскую партию. Главными советниками ее сделались испанский и римский посланники и Кончини, которого она в 1614 г. пожаловала в маркизы д’Анкр. Принцы крови и знать неоднократно предпринимали восстания, подавлять которые Марии удавалось лишь ценой больших усилий и жертв. И после провозглашения молодого короля совершеннолетним, в 1614 г., Мария удерживала в своих руках бразды правления, пока Людовик, подстрекаемый своим любимцем Альбером де Люинь, не велел убить Кончини (1617) и удалить мать в Блуа.
В феврале 1619 г. Мария бежала в Ангулем, помирилась с сыном и после смерти Люиня (1621) вернулась в Париж, где снова стала во главе государственного совета. Чтобы упрочить влияние, она доставила Ришелье место в министерстве, но вскоре была им отстранена от дел. Напрасно она приводила в движение все рычаги, чтобы удалить ненавистного министра от двора; в так называемый «день обманутых» (journée des dupes, 11 ноября 1630 г.) она окончательно должна была признать себя побежденной своим противником и в июле 1631 г. бежала в Брюссель. Удаленная оттуда по требованию Ришелье (1638), она переселилась в Англию, потом в Кельн, где умерла почти в бедности.
086
Ян ван Эйк (Jan van Eyck, ок. 1385 или 1390–1441) — фламандский живописец раннего Возрождения, мастер портрета, автор более 100 композиций на религиозные сюжеты, один из первых художников, освоивших технику живописи масляными красками. Точная дата рождения Яна ван Эйка неизвестна. Родился в Северных Нидерландах в г. Маасэйк. Учился у старшего брата Хуберта, с которым работал до 1426 г. Начал свою деятельность в Гааге при дворе голландских графов. С 1425 г. он — придворный художник герцога Бургундского Филиппа III Доброго, который ценил его как художника и щедро оплачивал его работы. В 1427–1428 гг. в составе герцогского посольства Ян ван Эйк отправился в Испанию, затем в Португалию. В 1427 г. посетил Турне, где был принят с почетом местной гильдией художников. Вероятно, встречался с Робером Кампеном либо видел его работы. Работал в Лилле и Генте, в 1431 г. приобрел дом в Брюгге и прожил там до самой смерти в июле 1441 г.
087
Цейтблом (Бартоломеус Zeitblom) — старонемецкий живописец, один из главных мастеров швабской школы, род. между 1450 и 1455 гг., ученик Ганса Шухлина в Ульме, работал в этом городе и в его окрестностях и умер в нем позже 1517 г. Занимался почти исключительно писанием надпрестольных икон и складней. Произведения его кисти напоминают собой стиль Мартина Шонгауера; фигуры в них благородны и характерны, одушевлены выражением благочестия и наивности, моделированы мягко, драпированы просто, колорит его нежен, отделка тщательна. Важнейшие из его работ — резной алтарный образ из церкви Гаузена близ Ульма, 1488 г., и другой такой же образ 1497 г. из Геербергской церкви с изображением событий из земной жизни Спасителя (оба в штутгартском собрании древностей), части складня с иконами Благовещения, Посещения Богородицей св. Елизаветы, св. Иоанна Крестителя и ап. Иоанна, лицевая часть того же складня с фигурой св. Вероники, держащей убрус с отпечатком лика Христа (в Берлинском музее), большой резной алтарный образ в блаубейренской церкви со сценами Страстей Господних и эпизодами из жития Иоанна Предтечи и 4 доски с изображением легенды о св. Валентине (в Аугсбургской галерее).
088
Гуго Ван дер Гус (van der Goes) — живописец старонидерландской школы, последователь братьев ван Эйков. Родился, вероятно, в Генте, когда именно — неизвестно. Работал по большей части в этом городе, декорируя живописью дома и исполняя образа для церквей и капелл. Умер в 1482 г. сумасшедшим. Многие из его некогда знаменитых произведений исчезли. Между уцелевшими самое замечательное — алтарный складень, находящийся в больнице Санта-Мария-Нуова во Флоренции, с изображением Богоматери, ангелов и пастырей на средней доске и с портретами семейства заказчика этого триптиха, Томмазо Портинари, на створках. Из прочих картин, приписываемых ван дер Гусу, достоверно ему принадлежат два «Благовещения», одно в Мюнхенской пинакотеке, другое в Императорском Эрмитаже.
Гиллис Мостерт — фламандский художник эпохи Ренессанса и северного маньеризма, ученик Яна Мандейна. Мостерта относят к группе антверпенских художников — последователей Иеронима Босха, продолжавших традиции фантастических изображений и заложивших основы так называемого северного маньеризма в противоположность итальянскому.
089
…он бывал у раввинов, портреты которых оставил нам, был другом Менашше бен Исраэля… — Менашше бен Исраэль (1604–1657) — один из наиболее известных раввинов «голландского Иерусалима». Сын испанского еврея, он обладал глубокими познаниями во всех областях еврейской учености. Так как многие христиане тех дней стремились узнать больше о Библии и языке ее оригинала, немало выдающихся лиц обращались с вопросами к Менашше бен Исраэлю. Короли и королевы, ученые и деловые люди переписывались с амстердамским раввином, прося у него информации или совета. Среди многочисленных христианских друзей рабби Менашше был великий голландский живописец Рембрандт ван Рейн. Рембрандта привлекали яркие черты и восточная внешность евреев-сефардов, столь отличных от белокурых коренных жителей Нидерландов. Поэтому Рембрандт просил многих евреев, и в том числе своего друга, рабби Менашше бен Исраэля, позировать ему.
Менашше бен Исраэль увлекался каббалой. Подобно многим евреям тех дней, он верил в скорое пришествие Мессии. Кроме того, он полагал, что накануне века всеобщего мира необходимо, чтобы евреи жили во всех уголках земли. Некоторые путешественники, возвращавшиеся из стран Нового Света в Амстердам, рассказывали поразительные вещи. Они утверждали, что на Американском материке встречали людей из исчезнувших колен Израилевых! Многих евреев эти вести чрезвычайно волновали. В действительности, конечно, люди, которых видели эти путешественники, были не евреями, а индейцами.
090
Аниций Манлий Торкват Северин Боэций (лат. Boetius, Boethius) (480–524) — римский государственный деятель, христианский философ-неоплатоник. Приближенный к королю остготов Теодориху, захватившему в 493 г. Северную Италию, Боэций занимал различные государственные посты, стал консулом в Равенне. Но это возвышение закончилось падением. После ложного обвинения в предательстве (возможно, в связях с Византией) он был заключен в тюрьму и казнен.
В ожидании казни написал свое главное сочинение «Об утешении философией» (De consolatione philosophiae), которое стало одной из популярнейших книг Средневековья и оказало сильное влияние на европейскую литературу. В этом трактате он пытается решить проблему совмещения свободы воли с промыслом Бога. С одной стороны, если Бог все предвидит, то свободы воли не существует. С другой — свобода человека, его воли все-таки существует, а это подрывает способность Бога проникать во мрак будущего. Это видимое противоречие Боэций объясняет тем, что знание Богом наших будущих действий, их предвидение, не является необходимой причиной этих самых действий. В своей книге Боэций наставляет читателя, чтобы он уклонялся от зла, свое сердце устремлял к добродетели, а ум — к истине. Книга «Об утешении философией» стала последним произведением древнего мира, в котором отсутствует христианская идеология и ни разу не упомянуто имя Христа. В тюрьме, незадолго до казни, Боэцию является не Дева Мария, не Христос, но воплощенная в женском обличье Философия. Именно в этом и заключалась личная драма Боэция — невозможность интеллектуального синтеза неоплатонизма и христианства.
Кроме того, Боэцием написаны труды: «О святой Троице» (где он выступает против арианства) и «О католической вере». Боэций является автором классических учебников по арифметике, музыке, геометрии и астрологии.
091
Святой Мелитон, епископ Сардийский (умер около 177 г.), один из великих Учителей Церкви; представил Марку Аврелию апологию христианства; путешествовал по Востоку с целью собирания списков Священного Писания. Из множества сочинений его, перечень которых сохранился в «Церковной истории» Евсевия Кесарийского, до нас дошло лишь несколько фрагментов: «Ключ» — объяснение имен, встречающихся в Библии, и «Предисловие к извлечению из святых книг», содержащее в себе первый по времени список канона священных книг. Исключение составляет сочинение «О Пасхе», полный греческий текст которого был открыт в 1940 г. К. Боннером. Оно является выдающимся памятником христианской богослужебной поэзии. По богатству образов, лаконизму и поэтичности выражения оно не знает себе равных среди дошедших до нас произведений Отцов Церкви этой эпохи. Сочинения святого Мелитона в III–IV вв. считались образцовыми в плане раскрытия православной христологии, и ими широко пользовались для защиты православного учения от ересей.
092
Святой Амвросий Медиоланский (ок. 340 — 4 апреля 397 г.; лат. Sanctus Ambrosius) — миланский епископ, проповедник и гимнограф. Один из четырех великих латинских Учителей Церкви, он обратил в христианство и крестил блаженного Августина (см. коммент. 017). Превосходное образование Амвросия позволило ему глубоко изучить подлинники произведений восточных Отцов Церкви, усвоить и продолжить их идеи, перекинув, таким образом, мостик от них в латинское богословие. В догматических вопросах богословские труды Амвросия затрагивают проблемы, актуальные для споров с арианами — богословие Троицы, христологию, учение о таинствах и покаянии. Многие его работы посвящены толкованию книг Священного Писания и комментариям к ним. Важнейшей областью наследия святого Амвросия являются его проповеди. Они, как правило, исполнены страстной веры, обличают грехи, в первую очередь гордость и разврат. В труде «О таинствах» святой Амвросий собрал свои проповеди для только что крещенных христиан. Наиболее известные труды святого Амвросия: «О таинствах» (De sacramentis), «О вере» (De fide), «О Святом Духе» (De Spiritu Sancto), «Шестоднев» (Hexaemeron). Выдающийся латинский богослов святой Августин считал Амвросия Медиоланского своим учителем и наставником.
Перу святого Амвросия принадлежит множество литургических гимнов, дошедших до наших дней. Ему же приписывается и создание самого известного гимна латинской Церкви — Te Deum laudamus (Тебя, Бога, хвалим). Святого Амвросия по праву можно считать создателем латинской гимнографии.
093
Святой Пахомий. — Преподобный Пахомий Великий, родом египтянин. Язычник, он поступил на военную службу во время войны между Константином Великим и Максимианом (312 г.). Приветливая встреча жителей-христиан одного фиваидского города, через который случилось проходить войску, и прекрасные о них отзывы произвели на Пахомия сильное впечатление. По окончании войны он принял крещение, удалился в Фиваидскую пустыню и здесь прожил несколько лет под руководством отшельника Паламона. В Тавенне Пахомий впервые устроил монастырь на началах общежития и составил строгий монастырский устав. Скончался 14 мая 347 г.; память 15 мая.
094
Кассиодор Магн Аврелий (лат. Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator, около 487, Калабрия — около 578) — выдающийся римский писатель и ученый, государственный деятель во время правления Теодориха Великого, короля остготов в Италии. Кассиодор родился около 487 г. на юге Италии (Сцилациум, Калабрия) в знатной семье сирийского происхождения. С юных лет изучая право, он пошел по стопам отца, который состоял на государственной службе и занимал должность префекта Сицилии. В молодости Кассиодор некоторое время работал под началом отца, затем с 507 по 511 г. был квестором. Его карьера стремительно развивалась — в 514 г. он был назначен консулом, а между 523 и 527 гг., сменив казненного Боэция на посту магистра двора (лат. magister officiorum), занимался учетом документов и составлением официальных писем. Литературные таланты Кассиодора нашли признание у современников. Основные труды: «Введение к псалмам» (лат. Exposition psalmorum), «История в трёх частях» (лат. Historia ecclesiastica tripartita), «История готов» (лат. Historia Gothorum), «О душе» (лат. De anima), «О музыке» (лат. De musica), «О науке и искусствах» (лат. De artibus libris ac disciplinis liberalium litterarum), «Об орфографии» (лат. De orthographia), «Хроника» (лат. Chronica) — изложение мировой истории.
095
Филипп Нери (1515, Флоренция — 1595). Один из четырех сыновей флорентийского нотариуса Франческо Нери. В восемнадцать лет его послали в Сан-Джермано к бездетному родственнику, преуспевающему купцу, в надежде, что он сделает Филиппа своим наследником. Но вскоре после приезда с Филиппом произошло нечто, что он называл «обращением», и торговля стала ему неинтересна. Без денег и планов он отправился в Рим. Его приютил у себя в доме знакомый флорентиец, детям которого он стал давать уроки, а остальное время жил как отшельник, почти не выходя из комнаты. Через два года он покинул уединение с решимостью послужить Богу и три года изучал философию и богословие, подавая большие надежды, но неожиданно бросил учебу и стал проповедовать Евангелие горожанам. Ночами он часто уходил молиться в катакомбы Святого Себастьяна на Аппиановой дороге. Здесь на Пятидесятницу 1544 г. ему было видение: огненный шар вошел в его уста и, проникнув в грудную клетку, коснулся сердца… Чувство божественной любви так обожгло его, что он стал кататься по земле и кричать: «Хватит, хватит, Господи, я больше не выдержу!» С тех пор часто среди бела дня его пронзала жгучая боль, он обнажал грудь, чтобы остудить ее.
В 1548 г. с помощью своего духовника Филипп основал братство бедняков, члены которого брали на себя заботу о неимущих паломниках (из этого вырос знаменитый госпиталь Святой Троицы, который в 1575 г. принял более 145 тысяч паломников). 23 мая 1551 г. он был рукоположен и с тех пор целыми днями исповедовал людей в церкви Сан-Джироламо делла Карита. Он организовывал собрания, на которых читали жития святых, обсуждали проблемы духовной жизни. Когда же для этих собраний построили специальное помещение — «ораторию», Филиппа и работавших с ним священников стали называть ораторианцами. У Филиппа появились ученики (в том числе будущий великий церковный историк Чезаре Бароний), некоторые из них сами стали священниками и работали вместе с ним над религиозным просвещением народа. В 1575 г. Папа Григорий XIII благословил новую конгрегацию (она была названа конгрегацией оратория); ей была выделена древняя, полуразрушенная церковь в Валичелле. Ее восстановили, и Нери наконец-то покинул убогое жилье, в котором жил с первого дня своего пребывания в Риме, переселившись в келью при храме.
В последние годы жизни Нери пользовался беспредельным почитанием римлян, поддержкой кардиналов и сильных мира сего, приходивших к нему за духовными советами наряду с отверженными. В праздник Тела Христова 24 мая 1595 г. он весь день, как всегда, принимал посетителей, светясь от счастья и веселья, даже врач сказал ему, что не видел его в таком хорошем состоянии уже лет десять. Отпустив последнего посетителя, Нери вздохнул: «Ну что же, пора умирать». Ночью начался приступ болезни. Бароний, сидевший у одра умирающего, просил его сказать напутственное слово или хотя бы благословить учеников; Филипп уже не мог говорить, но перекрестил собравшихся и скончался. Его останки покоятся в восстановленном им храме (Чьеза Нуова), где и по сей день проповедуют ораторианцы. Канонизирован в 1622 г. Память 26 мая. Ж. М. Вианней в своей книге «Проповеди и уроки закона Божия» (Брюссель, 1969) приводит его личную молитву: «Боже мой, держи меня крепко; Ты знаешь, как я грешен: если Ты отпустишь меня хоть на мгновение, я боюсь Тебя предать».
096
Святой Иосиф из Купертино (1603–1663, канонизирован 16 июля 1767 г.). — Одним из наиболее необычных христианских святых, обладавших даром левитации, был Иосиф Деза. Канонизированный после смерти как святой Иосиф из Купертино, он родился в 1603 г. в Южной Италии в бедной семье. В детстве он уже был очень набожным и таким рассеянным, что товарищи по школе дали ему прозвище Открытый Рот. Повзрослев, вел необычайно аскетичную жизнь. К тому времени как ему исполнилось 17 лет, он носил власяницу и посыпал еду — несколько видов овощей, которыми он питался крайне редко, — невыносимо острым перцем, чтобы получать как можно меньше удовольствия от пищи. В 1620 г. орден капуцинов принял его в свои ряды, но из-за своей рассеянности и приступов религиозного экстаза, которые всегда случались в неурочное время, через восемь месяцев был исключен из ордена. В Гроттальи, недалеко от своего родного города, Иосиф устроился ухаживать за мулами в монастырь францисканцев, и в 1625 г. ему был присвоен клерикальный статус. Два года спустя он стал послушником в монастыре в Гроттальи и 28 марта 1628 г. был посвящен в духовный сан.
В монастыре Иосиф вел очень строгий образ жизни — подвергал себя таким истязаниям, что стены его кельи были постоянно забрызганы кровью, а свою скудную трапезу приправлял таким количеством жгучего перца, что монаха, который как-то попробовал ее, тошнило три дня. Экстазы Иосифа причиняли такое беспокойство окружающим, что ему запретили находиться с другими монахами на хорах или в столовой. Эти странности, а также разраставшиеся слухи о чудесах, происходящих с Иосифом, привлекли к нему внимание церковных властей: ему было предписано отправиться в Неаполь, чтобы предстать перед священной инквизицией. Однако строгое расследование не дало никаких результатов и ему разрешили служить в церкви Святого Григория из Армении. Тогда-то и случилось нечто удивительное…
Во время мессы в одной из частных церквей Иосиф отошел в угол, чтобы помолиться. Внезапно он поднялся в воздух и, преклонив колени, со странным криком поплыл к алтарю с простертыми руками. Увидев его, сияющего, среди горящих свечей, несколько монахинь в ужасе начали кричать: «Он загорится! Он загорится!» Через некоторое время Иосиф снова издал тот же странный крик и, по-прежнему коленопреклоненный, вылетел из алтаря. Посреди церкви он плавно приземлился, не получив никаких повреждений. После этого, к еще большему ужасу монахинь, он вскочил на ноги и закружился в танце, восклицая: «О Пресвятая Дева, Пресвятая Дева!»
Другой случай левитации наблюдал сам Папа. Иосиф поехал в Рим, где ему организовали встречу с Урбаном VIII. В присутствии святого отца Иосиф быстро впал в экстатическое состояние и поднялся в воздух, где находился до тех пор, пока глава ордена не привел его в чувство. Увидев это, Его Святейшество заявил, что, если Иосифу суждено умереть раньше него, он лично засвидетельствует, что все это чистая правда.
Однако в апреле 1639 г. по приказу из Рима Иосиф был вызван в Ассизи. Там за свои вознесения он был подвергнут уничтожающей критике — его публично называли лицемером, ему угрожали, его унижали. Эта травля продолжалась два года. Иосиф сносил оскорбления терпеливо и покорно, но в душе мучительно страдал. Когда известия о преследовании необычного монаха дошли до главы ордена францисканцев, тот призвал его в Рим. Вскоре Иосиф вернулся в Ассизи, где местные жители радушно приветствовали его. В этот период левитации начали происходить с ним так часто, что стали вполне обычным явлением. В состояние экстаза Иосифа нередко приводила музыка. Однажды в канун Рождества несколько пастухов по просьбе Иосифа играли на свирелях в церкви в Гроттальи. Музыка настолько ему понравилась, что он пустился в пляс. Потом, тяжело дыша, с криком поднялся в воздух и пролетел около 18 м к высокому алтарю, где, обхватив руками дарохранительницу, коленопреклоненный, парил примерно 15 мин. среди горящих свечей.
Иногда полеты Иосифа случались прямо на улице. Однажды он гулял по саду со священником, который воскликнул: «Как красивы небеса, созданные Богом!» Тут Иосиф испустил характерный крик и взлетел на верхушку оливкового дерева, где оставался не менее получаса, стоя на коленях на тонкой ветке. На этот раз чувства вернулись к нему, прежде чем он опустился на землю, и священник вынужден был принести лестницу, чтобы помочь ему сойти.
Иосиф был способен поднимать с собой в воздух и других людей; говорили, что однажды он таким образом излечил одного буйнопомешанного, Балтасара Росси, от лунатизма. Иосиф наложил руку ему на голову и сказал: «Синьор Балтасар, не будьте мнительны, а обратитесь к Богу и его Святейшей Матери», затем взял его одной рукой за волосы и, поднявшись с ним в воздух, находился в полете около четверти часа.
В деле Иосифа из Купертино имеется много свидетельств от знаменитых европейцев, которые подтверждали, что видели чудеса, которые он творил. В 1645 г. испанский посол, посетивший папский двор, побывал в келье Иосифа в Ассизи и потом рассказывал своей жене, что «видел второго святого Франциска». Его жене тоже захотелось посмотреть на чудо, и Иосифу приказали спуститься в церковь, чтобы поговорить с ней. «Да, конечно, — ответил он, — но не знаю, смогу ли говорить…» То, что последовало потом, подтвердили многочисленные свидетели: «Как только он вошел в церковь и его глаза остановились на статуе Непорочной Девы, которая стояла над алтарем, он воспарил в воздух и, преодолев около дюжины шагов над головами присутствующих, припал к подножию статуи. Потом, вознесши Ей хвалу и издав характерный протяжный крик, полетел обратно… Опустившись на землю, он вернулся в свою келью, оставив посла, его жену и большую свиту стоять в безмолвии и изумлении».
Другим знаменитым очевидцем полетов Иосифа был Иоанн Фридрих, герцог Брансуик, который посетил Ассизи в 1651 г. и пожелал непременно увидеть знаменитого монаха. Герцога в сопровождении двух компаньонов провели в комнату, из которой они могли тайно наблюдать, как Иосиф служит мессу. На их глазах монах вдруг издал странный крик и, коленопреклоненный, поднялся в воздух, подался на пять шагов назад, а потом полетел к алтарю, пред которым некоторое время парил, одержимый экстазом.
По мере того как слава Иосифа росла, росло и число желающих поглазеть на чудеса. В 1653 г. возмутителю спокойствия приказали покинуть Ассизи и следовать в капуцинский монастырь в Пьетра-Росса. Проведя там три месяца, Иосиф поехал по монастырям. Чудеса продолжались. Наконец его сослали в монастырь в Озимо, неподалеку от Анконы, и там летом 1663 г. Иосиф тяжело заболел. В последние месяцы жизни его посещал хирург Франческо Пьерпаоли, рассказавший, что однажды, прижигая в келье Иосифу ногу, видел, как святой впал в состояние транса и поднялся на высоту ладони над стулом, на котором сидел…
Иосиф умер 18 сентября 1663 г. Последними словами, которые он произнес, перед тем как впасть в предсмертное беспамятство, были: «О, что за пение, что за чудесные звуки! Какой аромат, какое сладостное, райское благоухание!»
097
Святая Роза из Витербо. — Роза Венерини, святая — дочь директора больницы в Витербо. На территории Лацио основала около 40 школ. Руководили этими учебными заведениями сестры основанного Розой ордена. Роза умерла в 1728 г. Беатифицировал ее в 1952 г. Папа Пий XII.
Святой Гаэтан. — Вероятно, имеется в виду Гаэтано (Каэтан) Тиенский (1480, Виченца — 7 августа 1547 г.). Отец Гаэтано, граф Тиенский Гаспар, был убит на войне, когда ребенку было всего два года. Гаэтано избрал духовную карьеру, получил степень доктора богословия в Падуанском университете, занял высокую должность протонотария при Папе, в 1516 г. был рукоположен. Два года спустя вернулся в родной город и стал активно организовывать жизнь молитвенных братств (ораторий). Одновременно отец Гаэтано работал в госпиталях, особенно много сил он положил на организацию больницы в Венеции. К 1523 г., однако, ему этого показалось недостаточно. Вместе с несколькими друзьями он в 1523 г. организовал в Риме ораторию Божественной Любви. Члены братства стали называться театинцами, потому что старшим в группе был тогдашний епископ Театинский Джованни Караффа, позднее Папа Павел VI. Члены оратории посвятили себя проповеди, помощи больным, выступали за частое причащение и исповедь, за изучение Библии, за борьбу с мздоимством священников. Священники-театинцы принимали обязательство жить вместе, активно вести пастырскую работу. В 1527 г. немецкая армия захватила и разграбила Рим, причем дом театинцев был почти до основания разрушен и членам братства пришлось бежать в Венецию. Здесь горожане щедро жертвовали на нужды оратории, хотя духовенство совершенно не приветствовало своих собратьев, требовавших изменить привычный образ жизни. Перед смертью Гаэтано с горечью говорил и о светских делах, и о церковных — собор, созыва которого он ждал с огромной надеждой, был опять отложен. Тем не менее его усилия привели к тому, что когда этот собор все-таки собрался в Триденте, то призвал к реформе духовенства именно в духе деятельности Гаэтано. Память 7 августа.
Екатерина деи Риччи (Флоренция, 1522 — Прато, 2 февраля 1590 г.). — Из знатного флорентийского рода, в тринадцать лет приняла постриг в доминиканском монастыре святого Викентия в Прато. Первые два года своей монашеской жизни тяжело болела, перенося мучения с поразительным терпением, размышляя не о своих страданиях, но о Христовых. Она выздоровела, но на протяжении двадцати лет каждую неделю в один и тот же час переживала экстатическое видение, в котором крестные муки Христовы вновь и вновь становились ее собственными. Можно упрекнуть Екатерину в том, что она не ограничивалась переживанием, но и рассказывала о нем. Но ведь «сдерживаться» надо, когда речь идет о своем, а Екатерина рассказывала о Христе, желала поразить других не своим страданием — Христовым. К тому же Екатерина не только видела Страсти Христовы, но и переживала так, что даже двигалась, повторяя жесты Христа, словно ее саму вели на Голгофу. Верным внешним признаком того, что она находилась не в состоянии «прелести», является то, что она не только созерцала видения, но и была в монастыре и наставницей послушниц, и приорессой, даже рассылала письма в поддержку реформы монашеской жизни (такие письма играли роль современных газет, памфлетов, диссертаций). Наконец, видения давали ей силы почитать не себя, но казненного незадолго до ее рождения доминиканского приора Джироламо Савонаролу, память о котором была подпорчена папским осуждением (снято лишь в XX в.). Она считала, что в 1540 г. обрела здоровье именно благодаря небесному заступничеству фра Джироламо. Кто подлинно видит Богочеловека, подлинно видит и людей; кому дано преодолеть завесу времени, отделяющую нас от Голгофы, дано преодолеть и завесу страстей, отделяющую нас от страданий ближнего. Когда рассказы о ее видениях стали привлекать к монастырю любопытствующих, Екатерина стала просить монахинь молиться о том, чтобы видения прекратились, сама об этом молилась, и в 1540 г. они окончились. Память 13 февраля.
098
Иордан Саксонский, блаженный. — Иордан родился в конце XII в. в Бурберге в Вестфалии. Монашескую рясу принял 12 февраля 1220 г. в Париже из рук блаженного Реджинальда Орлеанского. Был первым преемником святого отца Доминика, с которым был очень дружен.
В течение 15 лет служил братьям и сестрам словом, примером, письмами, частыми посещениями. Отредактировал орденскую конституцию. Руководил орденом с большой кротостью, а благодаря своей святости и дару красноречия способствовал его росту. Провинциальный руководитель ордена в Ломбардии, он в 1222 г. был избран генеральным руководителем доминиканцев.
Превыше всего любил и почитал Богородицу и в ее честь установил обычай пения после повечерия антифона «Славься Царица».
Погиб 13 февраля 1237 г. в кораблекрушении, возвращаясь после инспекторской проверки провинции Святой Земли. Один монах был этим удручен и думал: «Вот брат Иордан — какой был хороший человек, а добился только того, что утонул». Во сне этот монах увидел Иордана, который ему сказал: «Не бойся, брат, каждый, кто до конца служит Иисусу Христу, спасется». Сразу же после смерти возник его культ как среди братьев, так и среди простых верующих. Этот культ был одобрен Папой Львом XII 10 мая 1826 г. День памяти 13 февраля.
099
Святой Евхер. — Имеется в виду Евхерий Лионский (Eucherius) (449) — «галло-римлянин», представитель культуры, которая образовалась на территории юга нынешней Франции благодаря слиянию местных традиций с традициями пришлых завоевателей, римлян. Евхерий был аристократом и христианином, более того, ярым сторонником монашества. Он написал книгу с восхвалением отшельничества, которую посвятил св. Иларию Арльскому. Вдохновлялся он, правда, прежде всего страхом суеты, временности всяких благ, — страх, который и до христианства считался хорошим тоном у многих интеллектуалов. «Я видел, — писал Евхерий, — людей, вознесшихся до высшей точки земной почести и богатств… а через мгновение они исчезали». Около 434 г. Евхерий стал епископом Лиона. Память 16 ноября.
100
…Иаков Старший с коротким мечом. Иаков младший с сукновальной палицей… — Иаков Зеведеев (лат. Iacobus), Иаков Старший — апостол Иисуса Христа, персонаж Нового Завета. Иаков родился в Палестине, был убит в 44 г. в Иерусалиме. Старший брат Иоанна Богослова.
По сообщениям Евангелий, вместе с отцом и братом был рыбаком. Сцена призвания братьев описана в Евангелиях от Матфея (4: 21) и Марка (1: 19).
Братья Иаков и Иоанн в Евангелиях именуются сыновьями Зеведеевыми по имени их отца Зеведея, также, по сообщению евангелиста Марка (Мк. 3: 17), Иисус назвал братьев Воанергес (дословно «сыновья грома»), очевидно за порывистый характер. В литературе Иакова Зеведеева также часто называют Иаковом Старшим, чтобы отличить его от апостола Иакова Алфеева и Иакова, «брата Господня» или Иакова Младшего.
В Деяниях сообщается о его смерти (12: 1–2): царь Ирод Агриппа I «убил Иакова, брата Иоанна, мечом». Судя по дальнейшему тексту, это произошло в 44 г. Апостол Иаков — единственный апостол, чья смерть описана на страницах Нового Завета.
Согласно преданию, мощи апостола были перевезены в Испанию, в город Сантьяго-де-Компостела. К XI в. паломничество в Сантьяго приобрело статус второго по значимости паломничества (после паломничества в Святую Землю).
Иаков Младший — Иаков, «брат Господень», Иаков Младший, Иаков Праведный — один из 70 апостолов Христа, первый епископ Иерусалима. Казнен в 62–63 гг. в Иерусалиме. Иакова называли «братом Господним», и это интерпретируется по-разному. Родным братом Иисуса из догматических соображений он обычно не признается. Наиболее распространенной в христианстве является версия, что он был двоюродным братом Иисусу (тем самым его отождествляют с Иаковом Зеведеевым). Другая версия — что он был сыном Иосифа, родившимся до его обручения с Девой Марией, то есть Иисусу Христу он приходится сводным братом. Во время служения Иисуса Иаков, по свидетельству Евангелий (Мк. 3: 21; Ин. 7: 5), не признавал Его Мессией.
Вероятно, Иаков обратился и стал христианином после смерти и воскресения Христа. В Первом послании к коринфянам апостол Павел говорит о явлении Христа после воскресения Иакову. Кроме этого Иаков упоминается в Деяниях апостолов (12: 17; 15: 13–21; 21: 18), в Послании к галатам (1: 18; 2: 9). Именно Иаков, по свидетельству Деяний, произносит итоговую речь на Иерусалимском соборе апостолов. По свидетельству древних писателей, Иаков был первым епископом Иерусалима. Его упоминают, в частности, Евсевий Кесарийский и Иосиф Флавий (см. коммент. 082). По свидетельству последнего, Иаков принял мученическую смерть — был сброшен с крыла иерусалимского храма и побит камнями около 62 г.
Большинство библеистов признают Иакова, «брата Господня», автором Послания Иакова, входящего в состав Нового Завета. Существует также апокрифическое Протоевангелие Иакова (см. коммент. 055), также приписываемое Иакову Младшему, не вошедшее в состав канонических книг. Тем не менее многие сведения из этой книги вошли в состав Священного Предания, в частности повествование о рождестве Богородицы и Ее введении во храм.
В Средневековье Иакова, «брата Господня», зачастую отождествляли с апостолом Иаковом Алфеевым, однако в настоящее время библеисты полагают, что это два разных лица.
101
Святой диакон Винцент Испанский. — Святой Викентий, диакон и мученик, происходил из благородной семьи, проживавшей в Хуэске (северная Испания), и был архидиаконом епископа Валерия Сарагосского, при котором он исполнял службу проповедника. Во время гонения Диоклетиана доставленный со своим епископом в Валенсию, он долгое время содержался в темнице и после вдохновенной защитительной речи 22 января 304 г. был замучен до смерти. Его мощи покоятся в Валенсии. Благодаря позднее составленному, сильно приукрашенному житию, его почитание распространилось по всей Испании и Франции. В Шартре он почитался в XIII в. ткачами как покровитель цехов: предположительно, из-за его туники, которую король Хильдеберт в 531 г. из Сарагоссы перенес во Францию и которая является подобием накидки (сара) святого Мартина Турского.
Изображался как молодой диакон в далматике, с пальмовой ветвью и книгой, крестом или виноградной кистью. На иконе традиционно присутствовали следующие атрибуты: решетка с железными крючьями (легендарные пытки в темнице), жернов (легендарное житие) и ворон, защищающий мертвое тело святого от диких зверей. День памяти 22 января.
Святой Дионисий, первый епископ Парижский… — Дионисий Парижский (III век н. э.), первый епископ Парижа, священномученик. Память 3 октября. Святитель Дионисий проповедовал в западных странах, сопровождаемый пресвитером Рустиком и диаконом Елевферием. Многих он обратил ко Христу в Риме, а затем в Германии, Испании. В Галлии, во время преследования христиан языческими властями, все три исповедника были схвачены и ввергнуты в темницу. Ночью святой Дионисий совершил Божественную литургию. После того как наутро мученики были обезглавлены в Париже на Мон-Мартре (горе мучеников), святой Дионисий взял свою главу, прошествовал с ней до храма и только там пал мертвый. Благочестивая женщина Катулла погребла останки мученика.
Согласно древнему западному преданию, восходящему к мнению Хилдуина, аббата монастыря Сен-Дени в IX в., святой Дионисий является не кем иным, как Дионисием Ареопагитом (см. коммент. 023), о котором говорится в книге Деяний апостолов. По этому западному преданию, повинуясь откровению, он оставил на афинской кафедре своего преемника Публия и пришел в Рим. И уже из Рима, по поручению римского епископа Климента, отправился с пресвитером Рустиком и диаконом Елевферием просвещать светом Христовым Галлию.
В IX в. будущий патриарх Мефодий уже составил житие святого Дионисия на греческом языке, дополнив его преданием о мученической кончине святого в Париже. Святитель Димитрий Ростовский при составлении житий святых на русском языке использовал как греческие, так и латинские источники. В его «Житиях» под 3 октября мы найдем описание деятельности святого Дионисия в Афинах и его подвигов на Западе.
Вопрос об отождествлении двух Дионисиев, Парижского и Афинского, был предметом дискуссии Церквей об апостольском происхождении.
102
…позднее святая Екатерина Генуэзская исследовала области Чистилища. — Святая Катерина Генуэзская (1447–1510) — младшая дочь вице-короля Неаполя Джакопо Фьеши; из этого итальянского рода вышли двое Пап. Катерина с детства стремилась к монашеству, однако в 1463 г. девушку выдали замуж из политических соображений, чтобы закрепить мирный союз между партией гвельфов (к которой принадлежал и род Фьеши) и партией гибеллинов (к которой принадлежал род ее мужа Гьюльяно Адорно). Личного счастья ей этот брак не принес: Гьюльяно изменял жене и редко бывал дома. Первые пять лет семейной жизни Катерина провела в печали и одиночестве, затем несколько лет пыталась развеяться в светской жизни, пока не случилось чудо…
20 марта 1473 г. Катерина после исповеди встала на колени, чтобы получить благословение, и вдруг почувствовала волну благодати и невероятной любви Божией. Все печали и беды оказались рядом с этим чувством ничтожными и мелкими. Через несколько дней Катерине было видение Распятого Господа. С этого времени она стала причащаться ежедневно (что тогда было большой редкостью). И одновременно резко изменил свою жизнь ее муж: обращение жены, ее молитвы и полное денежное банкротство — все это и еще нечто невидимое соединилось так, что и он обратился к Богу. Более того, решился стать членом францисканского ордена, его «третьего» отделения для мирян (терциарием). Катерина же, хотя и восхищалась францисканцами, не последовала примеру мужа, хотя его стремление к бедности разделила. Они переехали из своего палаццо в маленький домик в беднейшем квартале Генуи и посвятили себя помощи нищим. С 1479 г. их пригласили жить в Памматонском госпитале, и Катерина до 1490 г. проработала там простой няней, а затем — администратором и казначеем. Особенно тяжело пришлось ей во время чумы 1493 г., когда умерло 80 процентов населения Генуи. Сама Катерина заболела, но выжила, хотя здоровье оказалось подорванным навсегда, и в 1496 г. она оставила руководство больницей. На следующий год умер Гьюльяно, оставив после себя незаконнорожденную дочь, которой Катерина стала второй матерью (по тем временам это было неслыханное самопожертвование).
Все эти годы Катерина жила без всякого духовного руководства и, видимо, даже не каждый год ходила к обязательной исповеди. Около 1499 г. в больницу назначили ректором священника Катанео Маработто, с которым она сразу нашла общий язык. Точнее, «они понимали друг друга, просто поглядев друг другу в лицо», как писал биограф. Она откровенно призналась ему в том, в чем не решалась открыться другому представителю духовного сословия: «Отче, я не знаю, в теле я нахожусь или в душе. Я бы и хотела исповедоваться, но не знаю, чем грешна». Маработто не стал переделывать Катерину, чем доказал свой талант пастыря. Он писал: «Какие-то грехи она назвала, но, в сущности, ей не дано было видеть их. Она была похожа на маленького ребенка, который по неведению совершил какой-то ничтожный проступок, и если ему скажут: “Ты сделал плохо”, смутится и покраснеет, но все равно не поймет, что совершил зло».
Подобно своей тезке из Сиены (см. коммент. 030), она совмещала страстную любовь с непрестанной деятельностью, была экстатическим мистиком и глубоким мыслителем. Катерина Генуэзская — единственный пример самозабвенной мистической жизни того времени: ее современники по большей части были визионерами более заурядного типа и проявляли лишь слабые отблески того духа, который столь ярко сиял в св. Катерине Генуэзской.
Уже через полтора года после кончины Катерины ее тело торжественно перенесли с кладбища и похоронили в мраморной гробнице. Почитание ее стало массовым, когда люди увидели, что останки нетленны. В 1694 г. их поместили в прозрачном гробу, где они покоятся по сей день. Остались от Катерины и две книги: «О чистилище» и «Духовный диалог». Беатифицирована в 1737 г., канононизирована Бенедиктом XIV. Память 15 сентября.
103
…статуя святого Феодора Стратилата в кольчуге, камзоле и также с копьем и щитом. — Феодор Стратилат (? Евхаит — 319, Гераклея) — христианский святой, почитаемый в лике великомученика. Согласно житию, Феодор родился в городе Евхаит (Малая Азия). Слава о его воинской доблести распространилась после того, как он убил змея, жившего в окрестностях Евхаита. После этого он был назначен военачальником (стратилатом) в городе Гераклее, где многих обратил в христианство.
В правление императора Лициния Феодор пригласил императора в Гераклею, пообещав устроить там пышное жертвоприношение языческим богам. Для этой цели в город было привезено множество изваяний богов, которые Феодор уничтожил. После этого святого подвергли пыткам, в которых, согласно преданию, благодаря Божьему заступлению остался невредим.
Димитрий Ростовский в «Житиях святых» писал: «Ликиний, думая, что мученик скончался, оставил его висящим на кресте. Но вот, в первую ночную стражу, Ангел Господень снял святого мученика с креста и сотворил его целым и здравым, каким он был и прежде…» По другим источникам, Феодор был усечен мечом 8 февраля 319 г. Его тело, согласно последней воле, было погребено в его родном городе Евхаите, куда его перенесли 8 июня.
104
Святой Фома Кентерберийский — Томас Бекет (англ. Thomas Becket; 21 декабря 1118 г. — 29 декабря 1170 г.) — архиепископ Кентерберийский с 1162 до 1170 г. Вошел в конфликт с королем Генрихом II из-за прав и привилегий Церкви и был убит сторонниками короля в Кентерберийском соборе. Почитается как святой и мученик как в англиканской, так и римско-католической Церкви.
Фома родился в Лондоне, учился в Мертоне, Париже, Болонии и Оксере. Когда вернулся на родину, стал архидиаконом, а потом канцлером короля Генриха II, который в 1161 г. избрал Фому британским примасом. Фома вернул королю канцлерскую печать и стал заниматься церковными делами. Одновременно стал бороться за права английской Церкви и неразрывное ее единство с Римским Престолом, что и привело к конфликту с королем. В 1165 г. Генрих II решил обанкротить примаса и поставить перед своим судом. Тогда Фома апеллировал к Святому Престолу и уехал на континент. Англия разделилась на два лагеря. В 1170 г. дошло до встречи оппонентов и временного перемирия. Однако вскоре конфликт разгорелся вновь. Генрих II очень сильно разгневался, даже обвинил своих рыцарей в трусости и в нежелании поддерживать своего короля в его споре с примасом. Свита приняла его упрек как поощрение к убийству. Вооруженные рыцари ворвались в кафедральный собор и, когда Фома попытался с ними говорить, повалили его на пол и пронзили мечом. Вся страна ужаснулась. Три года спустя Папа Александр III канонизировал Фому, а король публично каялся у могилы святого.
Святой Вакх. — Святых мучеников Вакха и Сергия император Максимиан (284–305) назначил на высокие должности в войске, не зная о том, что они христиане. Недоброжелатели донесли Максимиану, что два его военачальника не почитают языческих богов. Император, желая удостовериться в справедливости доноса, приказал Сергию и Вакху принести жертву идолам, но они ответили, что чтут Бога Единого и только Ему поклоняются.
Максимиан приказал снять с мучеников знаки их воинского сана, облечь в женские одежды и водить по городу с железными обручами на шее на посмеяние народу. Потом опять призвал Сергия и Вакха к себе и дружески советовал не прельщаться христианскими баснями и обратиться к богам римским. Но святые были непреклонны. Тогда император повелел отослать их к правителю восточной части Сирии Антиоху, лютому ненавистнику христиан. «Отцы и благодетели мои! — воскликнул при виде святых Антиох, получивший свою должность с помощью Сергия и Вакха. — Будьте милостивы не только к себе, но и ко мне: я не хотел бы предавать вас мучениям!» Святые мученики ответили, что для них жизнь — Христос, а смерть за Него — приобретение. Разгневанный Антиох приказал забить Вакха бичами до смерти, а Сергия обули в железные сапоги с набитыми в них гвоздями и отвели на суд в другой город, где он был усечен мечом (ок. 300 г.).
Святой Квентин Амьенский, мученик. — Он был будто бы сыном римского императора Зено. В 245 г. прибыл в Галлию и миссионерствовал в Амьене и его окрестностях. Там он был арестован жестоким префектом, подвергнут мучительным пыткам и обезглавлен. Город, в котором его казнили, позднее в честь святого был назван Сент-Квентин (Пикардия, северная Франция). Его труп бросили в Сомму. Благородная римлянка по имени Евгения, будто бы на основании видения, нашла мощи ок. 340 г., соорудила маленькую молельню (ораториум) и похоронила там реликвии. День памяти 31 декабря.
105
Святой Амвросий Медиоланский (ок. 340 — 4 апреля 397 г.) (лат. Sanctus Ambrosius) — миланский епископ, великий христианский святой, проповедник, гимнограф, один из четырех великих Учителей Церкви.
В 373 г. Амвросий был назначен на должность префекта северной Италии с резиденцией в Медиолане (ныне Милан), который во время наместничества святого сотрясали распри между арианами и ортодоксальными христианами. Амвросий, который даже не был крещен (практика позднего крещения была распространена в то время даже в христианских семьях), пытался отказаться, но после поддержки его кандидатуры императором Валентинианом I согласился. 30 ноября 364 г. Амвросий был крещен, затем рукоположен в священники и 7 декабря поставлен в епископы, пройдя, таким образом, за 7 дней все ступени церковной иерархии. После избрания он пожертвовал Церкви все свое огромное богатство и до конца жизни соблюдал обет нестяжательства, ведя скромный и строгий образ жизни.
Одной из главных сфер деятельности епископа была борьба с арианством и язычеством. Строго отстаивая чистоту ортодоксальной веры, он добился на этом поприще значительных успехов. Императоры Валентиниан I, Грациан и Феодосий I весьма уважали миланского епископа и во многом под его влиянием боролись с язычеством в Империи. После того как Феодосий жестоко расправился с восставшими фессалоникийцами, Амвросий наложил на него епитимью и предложил публично покаяться. Авторитет епископа был таков, что император вынужден был подчиниться. К концу жизни епископ Амвросий пользовался всенародной любовью. Христианские источники сообщают о многочисленных чудесах, совершенных им в этот период. Под его руководством в Милане были построены две базилики — Амвросианская и Апостольская (ныне храм Св. Назария), а также основан мужской монастырь. Умер святой Амвросий 4 апреля 397 г. в Великую субботу, и хотя почитался святым еще при жизни, его память совершается в Церкви с IX в. Память святого Амвросия Медиоланского в католической Церкви — 7 декабря.
Наиболее известные труды св. Амвросия: «О таинствах» (De sacramentis), «О вере» (De fide), «О Св. Духе» (De Spiritu Sancto) и «Шестоднев» (Hexaemeron). Выдающийся латинский богослов святой Августин (см. коммент. 017) считал Амвросия Медиоланского своим учителем и наставником.
106
Святой Мартин Турский (лат. Martinus, 316 или 317 римская провинция Паннония — 11 ноября 397 г., Турень, Франция) — архиепископ Тура, один из самых почитаемых святых. Еще в юности он, увидев совершенно раздетого человека, одиноко стоящего посреди заснеженной улицы, разорвал свой плащ и отдал его половину дрожащему от холода бродяге. Христианская традиция отождествляет этого нищего с Христом.
Ни один святой не пользовался такой посмертной славой на христианском Западе, как Мартин Турский. Никто из древних мучеников не может в этом отношении сравниться с ним. О почитании его свидетельствуют тысячи храмов и поселений, носящих его имя. Для средневековой Франции и Германии он был святым национальным. Его базилика в Туре стала величайшим религиозным центром меровингской и каролингской Франции, его мантия (сарра) — государственной святыней франкских королей. Еще более значительно то, что житие его, составленное современником, Сульпицием Севером, послужило образцом для всей агиографической литературы Запада. Первое житие западного подвижника вдохновляло на аскетический подвиг множество поколений христиан, явившись для них первой духовной пищей после Евангелия, важнейшей школой аскезы.
107
Святой Христофор (от греч. Χριστοφορος — носящий Христа) — святой мученик, почитаемый католической и православной Церквами, живший в III в.
Католическая традиция основывается главным образом на «Золотой легенде» Иакова Ворагинского (см. коммент. 052). Простодушный великан Репрев искал самого могучего владыку, но, поступив на службу к царю, понял, что тот боится дьявола. Тогда он предложил свои услуги дьяволу и увидел, что тот трепещет при виде креста. Гигант отыскал святого отшельника и спросил, каким образом он может служить Христу. Отшельник отвел его к опасному броду через реку и сказал, что большой рост и сила великана предназначены для того, чтобы помогать людям пересекать опасную воду. Репрев начал перевозить путников на своей спине.
Однажды его попросил перенести через реку маленький мальчик, почти младенец. На полпути он вдруг стал настолько тяжел, что Репрев испугался, как бы они оба не утонули. Мальчик сказал, что он — Христос и что гигант вместе с ним несет сейчас на себе все тяготы мира. Затем Иисус крестил Репрева в реке, и тот получил свое новое имя — Христофор, «несущий Христа». Затем Младенец сказал Христофору, что тот может воткнуть в землю ветку. Эта ветвь чудесным образом мгновенно выросла в плодоносное дерево. Это чудо обратило в веру многих. Разгневанный этим, местный правитель Дагнус (полагают, что это был римский император Деций), заточил Христофора в тюрьму, где после долгих мучений тот обрел мученическую кончину.
108
…народ его (святого Христофора. — Примеч. ред.) почитал, но Церковь относится к нему несколько настороженно, ибо он, наряду со святым Григорием и еще некоторыми, из тех святых, в житии которых много сомнительного… — Святой Григорий VII (лат. Gregorius VII) (в миру Гильдебранд, итал. Ildebrando) (1020/1025 — 25 мая 1085 г.) — Папа Римский с 22 апреля 1073 г. по 25 мая 1085 г. Родился в небогатой семье тосканских землевладельцев. Изучал каноническое право в Германии. Затем принял монашество и быстро сделал церковную карьеру. Уже в 1054 г. он становится легатом, сначала во Франции, затем в Германии. Находясь в Кёльне и путешествуя по другим городам и монастырям, Гильдебранд сблизился со многими ревнителями церковных реформ — в частности, со знаменитым Гумбертом (ок. 1000–1061), монахом из бенедиктинского аббатства Медианум Монастериум в Лотарингии, более известного под своим французским названием Муайенмутье. Все новые друзья Гильдебранда так или иначе испытали влияние клюнийского монашеского движения, решительно противостоявшего тогда нравственному и духовному одичанию значительной части Церкви. В 1059 г. становится архидьяконом и начинает фактически управлять делами Ватикана. Осуществил реформу, в силу которой право избрания Пап закреплялось за коллегией кардиналов. Собрание кардиналов, на котором производились такие выборы, стало называться конклавом (лат. con clave — с ключом). В 1073 г. избирается Папой с некоторым нарушением тогдашнего закона о выборе Папы.
Боролся с симонией — продажей церковных должностей — и общим падением морального уровня духовенства. Настаивал на принципиальном безбрачии клира. Обязательность целибата духовенства, соответствовавшая многовековым традициям Римской Церкви, уже была провозглашена на Пасхальном Синоде 1049 г. при Льве IX. Однако это оставалось в известной мере только декларацией. На Великопостном Синоде 1074 г. Григорий VII вновь выдвигает требование целибата клириков, которое повторяется им в 1075 г. и оказывается на сей раз значительно более действенным (в 1139 г. на II Латеранском Соборе безбрачие духовенства будет окончательно закреплено римско-католической Церковью как каноническая норма). Идеалом Григория VII была независимая от светской власти Церковь, что с самого начала встретила яростный отпор со стороны германского императора Генриха IV, который в конечном счете и победил. В 1084 г. римское население поднялось против Папы, и тот вынужден был бежать в Салерно за помощью к норманнам, где в 1085 г. и умер.
Изгнанный в последние годы понтификата своею же паствой, Григорий VII еще долгие века после кончины сохранял ореол изгнанника. И хотя его имя наделялось огромным авторитетом, оно же одновременно часто оказывалось в роли persona non grata. Достаточно вспомнить тот факт, что канонизация Григория VII в начале XVII в. — более чем через пять столетий после его смерти — встретила сильное сопротивление со стороны церковной иерархии. Но и после канонизации в католической литературе появлялись резко негативные суждения о нем, иногда граничившие с полным непризнанием каких бы то ни было заслуг. Со стороны представителей других христианских конфессий отношение к Григорию зачастую бывало однозначно обличительным — вплоть до призывов ко всей католической Церкви раскаяться в грехе «григорианской реформы» — главном «злодеянии», инкриминируемом Григорию VII.
Что касается святого Христофора, то почитание в католицизме этой невероятной фигуры резко критиковалось Эразмом Роттердамским в «Похвале глупости». Дело в том, что предание описывает Христофора как исполинского роста людоеда, кроме того, он был кинокефалом (с пёсьей головой), как и все представители его племени. И это главное, на чем спотыкаются современные агиографы. Видимо, данная информация должна быть рассмотрена с точки зрения того факта, что эти свидетельства о Христофоре даны его современниками, а для греко-римско-персидской ойкумены той эпохи практика описывать всех людей из «нецивилизованного» мира как людоедов, со звериными частями тела или еще более странно была весьма распространена, пусть даже иногда использовалась метафорически. Более поздние поколения могли воспринять эту метафору и гиперболу как факт.
Рассказы о псоглавых людях часто встречались в повестях о путешествиях в Античность и Средневековье, начиная с геродотовского описания Скифии. А Христофор (тогда еще Репрев), как гласит легенда, входил в военное подразделение, состоящее из мармаританцев (Marmaritae). Это племя было независимым народом Мармарики (совр. Ливия), которое было вытеснено к границам после римской колонизации. Как человек из приграничного племени он вполне (в рамках образного языка своего времени) мог быть описан как псоглавец. Различные чудеса, приписываемые ему восточными легендами, — обычные атрибуты житий святых первых веков христианства.
В 1969 г. из-за недостатка реальных свидетельств о существовании Христофора день его поминовения был понижен Ватиканом до уровня местночтимых праздников. Однако, вопреки распространенному заблуждению, Христофор не был деканонизирован, он все еще остается святым католической Церкви.
109
…доказательство тому Давид, плясавший перед Ковчегом Завета. — «Давид скакал из всей силы пред Господом; одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем» (2 Цар 6: 14–16). Эпизод, свидетельствующий о пророческой харизме Давида, пляшущего перед ковчегом во время торжественной процессии: речь здесь, несомненно, идет об экстатическом пророческом танце.
110
Вот что сказал Кассиану старец Исаак… — Иоанн Кассиан (ок. 360–435) — основатель монашества в Галлии и один из главных теоретиков монашеской жизни. Родом из Марселя, он прибыл в Палестину и в Вифлеемском монастыре принял монашество. С 390 г. около десяти лет провел в странствованиях по монастырям и скитам Египта, изучая правила и обычаи монашества. Около 400 г. прибыл в Константинополь (ныне Стамбул) и был посвящен в дьяконы.
В 405 г. отправлен константинопольской церковью в Рим искать защиты для святого Иоанна Златоуста. Затем поселился в Марселе и, назначенный пресвитером, основал здесь два монастыря, мужской и женский, по типу египетских монастырей.
Написал: 12 книг «О постановлениях киновий палестинских и египетских» и 24 «Собеседования» со знаменитыми египетскими аввами о разных понятиях нравственного христианского учения. Третье сочинение Иоанна — «О воплощении Христа», направленное против Нестория, считается слабым.
Старец Исаак. — Скорее всего, имеется в виду святой Исаак, настоятель Константинопольский. Святой Исаак происходил из Сирии и с юности вел в пустыне аскетическую жизнь. С великим прямодушием он обратился к арианствующему императору Валенту, призывая его отдать обратно православным христианам конфискованные церкви, за это был брошен в тюрьму. При императоре Феодосии основал первый монастырь (381–382 гг.) в Константинополе, названный по его ученику и преемнику Далмату. Умер в 396 г.
111
Епифаний Кипрский (умер в мае 403 г.). — Один из ранних Отцов Церкви, который прославился неистовыми обличениями ересей, главным источником которых считал учение Оригена. Воззрения его слагались под влиянием аскетов Египта и Палестины в период самой горячей борьбы Церкви с арианством, в которой и сам Епифаний принимал деятельное участие.
По происхождению финикиец, получивший образование в доме богатого еврея; после смерти своего воспитателя принял христианство, раздал полученное наследство бедным и удалился в Египет. Возвратясь в Палестину, сделался учеником знаменитого Аввы Иллариона, предавался аскетическим подвигам в пустыне, где едва не был убит хищными бедуинами, ходил с проповедью Евангелия к огнепоклонникам-парсам. Наконец, переселился на остров Кипр, где в 367 г. стал епископом Саламина и управлял Церковью кипрской 36 лет, отличаясь благочестием и благотворительностью. В 403 г. по навету Феофила Александрийского отправился в Константинополь, чтобы добиваться смещения с кафедры Иоанна Златоуста, который якобы укрывал у себя еретиков-оригенистов. Убедившись в ложности обвинений, Епифаний отплыл обратно на Кипр, но умер во время морского перехода.
Епифаний имел непосредственные сношения с некоторыми гностическими сектами; обладая редким для того времени знанием языков, преимущественно восточных, пользовался собраниями сочинений противоеретических и еретических, и притом таких, которые впоследствии были утрачены. Обличению ересей посвящены два его сочинения: направленный главным образом против ариан, полуариан, духоборцев и аполлинаристов «Анкорат» (греч. якорь), где раскрывается православное учение о Троице, воплощении, воскресении мертвых и будущей жизни, и «Панарий» (греч. аптека, ящик с лекарствами), в котором описываются и опровергаются 20 дохристианских и 80 христианских ересей. Сочинения Епифания представляют обильный материал по истории развития христианства и еретических идей, заключая в себе, вместе с тем, массу сведений из других областей истории.
Владимир Крюков