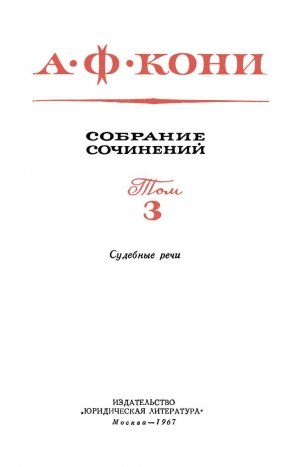
А. Ф. КОНИ КАК СУДЕБНЫЙ ОРАТОР
Судебная реформа 1864 года серьезно преобразовала русское уголовное судопроизводство. Введенные ею новые процессуальные принципы — устность, гласность, непосредственность, состязательность, равенство сторон в процессе — позволили выдвинуться большой плеяде замечательных судебных ораторов, глубоко понявших свою роль, умевших владеть словом и вносивших в это умение, как отмечал А. Ф. Кони, иногда истинный талант [1].
Имена П. А. Александрова, М.Ф. Громницкого, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасовича, С.A. Андреевского, К.К. Арсеньева, А.И. Урусова, Н.П. Карабчевского и других прочно вошли в историю русского судебного красноречия. Среди этих выдающихся ораторов особое место по праву занял А. Ф. Кони, талант которого развивался и совершенствовался вполне самобытно, как самобытно развивалось русское судебное красноречие. Личность А. Ф. Кони оставила глубокий след в истории общественной, литературной и государственной жизни дореволюционной России. Безупречной, прогрессивной деятельностью завоевал он имя «доблестного рыцаря», «рыцаря права».
Среди видных дореволюционных юристов существовали различные взгляды на роль судебного оратора в процессе, на дозволенность тех или иных приемов в ходе прений сторон. Если талантливый дореволюционный адвокат С. А. Андреевский рекомендовал молодым ораторам не особенно заботиться об анализе доказательственного материала в суде, а центр тяжести переносить на исследование психологического состояния подсудимого в момент совершения преступления, то находились такие теоретики и практики судебного красноречия, которые советовали: «Будьте постоянно и неуклонно несправедливы к противнику… Рвите речь противника в клочки, и клочки эти, с хохотом, бросайте на ветер… Разрушая построение противника, не заботьтесь о том, чтобы дать свое собственное построение» [2].
Подобные поучения находили своих последователей и в среде обвинителей и в среде защитников, которые ради достижения цели обвинения или защиты во что бы то ни стало не пренебрегали никакими средствами, оправдывая свои неправомерные действия общеизвестной формулой, — в борьбе все средства хороши.
А. Ф. Кони же в своих выступлениях неоднократно подчеркивал значение нравственных начал в судебной деятельности, и это не случайно. В течение ряда лет он настойчиво разрабатывал курс судебной этики. «Можно и даже должно говорить, — писал он, — об этической подкладке судебного красноречия, для истинной ценности которого недостаточно одного знания обстоятельств дела, знания родного языка и умения владеть им и, наконец, следования формальным указаниям или ограничениям оберегающего честь и добрые права закона. Все главные приемы судоговорения следовало бы подвергнуть своего рода критическому пересмотру с точки зрения нравственной дозволенности их. Мерилом этой дозволенности могло бы служить то соображение, что цель не может оправдывать средства и что высокие цели правосудия… должны быть достигаемы только нравственными средствами. Кроме того, деятелям судебного состязания не следует забывать, что суд в известном отношении есть школа для народов, из которой, помимо уважения к закону, должны выноситься уроки служения правде и уважения к человеческому достоинству» [3].
В многочисленных печатных работах и публичных выступлениях А. Ф. Кони старался привить мысль, что суд, судебное разбирательство, прения сторон должны быть школой нравственного воспитания народа. Этим целям он на протяжении многих лет подчинял свою деятельность.
К каждому слову, к каждой фразе он относился с чувством большой ответственности. Отсюда вытекали и его требования к судебному оратору. Образованный юрист, отмечал А. Ф. Кони, должен быть человеком, в котором общее образование идет впереди специального. Эту идею он настойчиво развивал в ряде своих работ. В сохранении душевной чистоты и гуманности он видел важнейшую заповедь для лиц, вступивших на судебное поприще. Жизнь многогранна. Все ее проявления не укладываются в правовые регламенты. Поведение человека обусловлено рядом не всегда уловимых причин. Большая и почетная задача возлагается на юриста, который «не должен ограничиваться одним знанием права, кассационных решений, не должен закрывать глаза перед жизнью, не должен быть «статистом» в том смысле, как понимал это слово один представитель судебного ведомства семидесятых годов, производя его от слова «статья», — нет, он должен быть широко и глубоко образованным человеком, сведущим в истории, искусстве, литературе. С ними судья не сделается ремесленником. Игнорируя эти условия, судья упустит из виду высший предмет правосудия — человека». Заботу о человеке, о справедливом решении его судьбы А. Ф. Кони ставил выше всего.
Взгляд А. Ф. Кони на судебного оратора выражен в следующем утверждении: «Показная и, если можно так выразиться, в некоторых случаях спортивная сторона в работе обвинителей и защитников всегда меня от себя отталкивала, и, несмотря на неизбежные ошибки в моей судебной службе, я со спокойной совестью могу сказать, что в ней не нарушил сознательно одного из основных правил кантовской этики, т. е. не смотрел на человека как на средство для достижения каких-либо, хотя бы и возвышенных целей»[4]. В этом утверждении — в недопущении рассматривать человека как средство для достижения даже возвышенных целей — состояло нравственное кредо Кони. Его девиз — цель не может оправдывать средства в правосудии — высоко гуманен.
А. Ф. Кони требовал от судебных ораторов осмотрительности при выборе используемых ими средств. Блестяще владея иронией, он неоднократно предупреждал молодых судебных деятелей о необходимости пользоваться ею с большим тактом. Это оружие, говорил он, обоюдоострое и требующее в обращении с собой большого умения, тонкого вкуса и специального дарования.
Неизменный успех А. Ф. Кони — это не только результат его большого дарования. Это плод упорного, повседневного труда, всестороннего совершенствования ораторских приемов.
Судебным ораторам Кони рекомендовал безоговорочно выполнять три условия: «Нужно знать предмет, о котором говоришь, в точности и подробности, выяснив себе вполне его положительные и отрицательные свойства; нужно знать свой родной язык и уметь пользоваться его гибкостью, богатством и своеобразными оборотами, причем, конечно, к этому знанию относится и знакомство с сокровищами родной литературы… Наконец, …нужно не лгать… искренность по отношению к чувству и к делаемому выводу или утверждаемому положению должна составлять необходимую принадлежность хорошей, т. е. претендующей на влияние, речи» *. Он неоднократно повторял, что в литературе нет плохих сюжетов, а в суде не бывает неважных дел, в которых человек образованный и впечатлительный не мог бы найти основы для художественной речи.
Предъявляя высокие требования к судебному деятелю, А. Ф. Кони распространял их без каких-либо скидок на всех лиц, участвующих в процессе. Так, рассматривая деятельность Ф. Н. Плевако, даровитые выступления которого в суде порождали легенды, А. Ф. Кони не оставлял без осуждения поверхностного ознакомления с делом, допускаемого этим выдающимся адвокатом.
Выступления А. Ф. Кони в суде не ограничивались узкими рамками дела. Он почти всегда в той или иной мере затрагивал проблемы уголовного или уголовно-процессуального права. Поэтому, рассматривая ораторское мастерство А. Ф. Кони, нельзя пройти мимо его суждений по различным юридическим вопросам, которые характеризуют его как прогрессивного юриста.
А. Ф. Кони справедливо называли создателем русской школы судебного красноречия. Его наставничество не утратило и сегодня своего большого значения. Значительной частью его наследия являются обвинительные речи, произнесенные перед судом присяжных заседателей. Именно здесь прежде всего проявилось могучее дарование первоклассного судебного оратора, непревзойденного мастера живого слова, тонкого и умелого аналитика доказательственного материала, глубокого психолога и тонкого знатока движений человеческой души.
В одном из своих писем к А. Ф. Кони Ф. Н. Плевако писал: «Ваши слова — страшный обвинительный акт против тех прокуроров, адвокатов, которые думают, что правда и неправда, вина и невиновность, словом, все то, что волнует человека на скамье присяжного, — просто условные звуки, традиционные ходы на шахматной доске, не имеющие никакого серьезного значения и отступающие в даль и в тень перед статистической таблицей судимости» [5].
При оценке судебной деятельности А. Ф. Кони в целом и его деятельности как судебного оратора в частности нельзя забывать, что высокое положение могло легко «оказенить» и «засушить» этого незаурядного юриста, сделать его глухим и слепым к человеческим страданиям. Однако этого не произошло. Ему всегда был чужд чиновничий педантизм. Как правильно отмечал М. Н. Гернет, «между А. Ф. Кони и самой жизнью никогда не было той высокой и толстой преграды, которая всегда была для большинства других судебных работников его положения» 2. Кони-юрист в высшей степени гуманен и объективен.
За свою долгую жизнь А. Ф. Кони прошел все ступени прокурорской и судебной иерархии. Его деятельность началась в 1867 году в Харькове, где он пробыл более двух лет в должности товарища прокурора окружного суда. 21 марта 1868 г. Кони писал своему другу адвокату А. И. Урусову: «Новая деятельность совершенно затянула в свои недра и заставила посвятить ей все свои силы» [6]. И это были не просто слова. Судебной деятельности он посвятил всю жизнь, отдавая ей свои силы, знания и необычайное дарование.
Участие в качестве обвинителя в крупнейших процессах, безупречные по своей форме, глубокие по содержанию судебные речи, независимость суждений, гуманизм и широкая общественная и научная деятельность создали ему невиданное в дореволюционной России признание. «Редкое имя в России, — писал один из его друзей, — в течение более чем полувека — пользовалось такой популярностью, было окружено ореолом такого обаяния, как имя Кони. Его знали люди всякого «толка», даже такие, которые, казалось бы, не имели ни малейшего касательства ни к какой стороне его разнообразной деятельности» 2.
У А. Ф. Кони было все, что необходимо судебному оратору: огромный запас знаний, острый, наблюдательный' ум, строгая логика мышления, дар широкого обобщения' фактов, незаурядное литературное мастерство, а главное огромная теплота, задушевность, тонкое понимание движений человеческой души, умение дать правильный анализ человеческим поступкам. В судебных поединках его могучим и верным оружием была справедливость. Она помогала ему в борьбе с косностью, беспринципностью, надменностью и лицемерием. Владимир Соловьев так говорил о его ораторском таланте: «Он в редкой степени обладал способностью, отличавшей лучших представителей античного красноречия: он умеет в своем слове увеличивать объем вещей, не извращая отношения, в котором они находились к действительности» 3.
Своей практической деятельностью А. Ф. Кони создал неповторимый образ публично говорящего судьи, на обязанности которого лежит «сгруппировать и проверить все, изобличающее подсудимого, и, если подведенный им итог с необходимым и обязательным учетом всего, говорящего в пользу обвиняемого, создаст в нем убеждение в виновности последнего, заявить о том суду. Сделать это надо
в связном и последовательном изложении, со спокойным достоинством исполняемого грустного долга, без пафоса, негодования и преследования какой-либо иной цели, кроме правосудия…»
В публичных выступлениях А. Ф. Кони отмечал, что прокурор в суде должен быть беспристрастным и спокойным исследователем виновности подсудимого, он не вправе извлекать из дела только уличающие подсудимого обстоятельства, он не должен преувеличивать значения доказательств вины. Не требуя осуждения во что бы то ни стало, говорил А. Ф. Кони, закон обязывает прокурора заявлять суду по совести об отказе от обвинения в случае уважительности оправдания подсудимого; одним словом, не ослепленного односторонностью своего положения обвинителя, а говорящего судью создает закон из прокурора.
Ему чужд распространенный ораторский прием — музыкой слова, размеренностью и четкостью формы речи обязательно склонить слушателей на свою сторону. Ни к чувству, а к здравому смыслу адресуются его речи. Печать глубокой ответственности лежит на каждом сказанном им слове. К установлению истины он всегда шел прямой дорогой.
«…Более рыцарского противника, чем А. Ф. Кони, — отмечал К. К. Арсеньев, — нельзя было встретить и во время судебного следствия. Он всегда соглашался на все предложения защиты, направленные к разъяснению дела, всегда готов был признать правильность ее фактических указаний. Состязаться с А. Ф. Кони, значило иметь возможность сосредоточиться на исключительно главных пунктах дела, отбросив в сторону все мелкое и неважное, все наносные элементы, так часто затрудняющие расследование и раскрытие истины» 1.
А. Ф. Кони старался облегчить слушателям восприятие основного содержания своих речей. Делал он это не сухо, формально, а образно, художественно. А. Ф. Кони умело пользовался народными поговорками, афоризмами, литературными образами. Все это делалось с большим тактом и всегда кстати. Он щедро использовал сравнения, которые помогали глубже уяснить суть дела, осмыслить те или иные эпизоды и содействовали правильной оценке имеющихся в деле доказательств. По делу о подлоге завещания Седкова он говорил: «Каждое преступление, совершенное несколькими лицами по предварительному соглашению, представляет целый живой организм, имеющий и руки, и сердце, и голову. Вам предстоит определить, кто в этом деле играл роль послушных рук, кто представлял алчное сердце и все замыслившую и рассчитавшую голову».
Безупречной форме его судебных речей соответствовало всегда глубокое содержание, в котором отражалось человеколюбие и огромное уважение к личности.
Нередко присяжные заседатели выносили оправдательные приговоры лицам, совершившим преступления, особенно по делам, в которых не было конкретных потерпевших от преступления. Это учитывал А. Ф. Кони. В своем выступлении по делу Станислава и Эмиля Янсен и Акар, обвиняемых в распространении фальшивых денег, он сказал: «Фальшивые ассигнации похожи на сказочный клубок змей. Бросил его кто-либо в одном месте, а поползли змейки повсюду. Одна заползет в карман вернувшегося с базара крестьянина и вытащит оттуда последние трудовые копейки, другая отнимет 50 руб. из суммы, назначенной на покупку рекрутской квитанции, и заставит пойти обиженного неизвестною, но преступною рукою парня в солдаты, третья вырвет 10 руб. из последних 13 руб., полученных молодою и красивою швеею-иностранкой, выгнанною на улицы чуждого и полного соблазна города, и т. д., и т. д. — ужели мы должны проследить путь каждой такой змейки и иначе не можем обвинить тех, кто их распустил?»
Рисуя обстановку преступления, он придерживался того взгляда, что слово должно быть сильным, убедительным, но не грубым.
Выступая обвинителем по несомненно сложному делу, связанному с привлечением к уголовной ответственности лжесвидетелей, А. Ф. Кони показал присяжным заседателям несостоятельность утверждений большой группы лиц, оговаривавших ни в чем не повинную женщину. Иронизируя по поводу ложных показаний одного из свидетелей, Кони говорил: «Он обладает удивительным свойством дальнозоркости, и для него до такой степени не существует непроницаемости, что из второго ряда кресел Мариинского 12 театра он видит, кто сидит во втором ярусе Большого театра».
Важная особенность обвинительных речей А. Ф. Кони— последовательное и глубокое рассмотрение доказательств по делу. Для изложения их Кони выработал определенную методику — в первую очередь подвергать анализу и обстоятельному рассмотрению наиболее слабые доказательства, смело отбрасывать сомнительные, не дожидаясь, когда это сделает адвокат. Такой подход выбивал почву из-под ног его процессуальных противников. А. Ф. Кони сам отмечал имевшиеся в деле неполноценные доказательства. Анализируя их, он давал им свою оценку, укрепляя выводы обвинения, переходя от слабых к более убедительным, тесно увязывая их друг с другом. Ему чужды попытки перекладывать бремя доказательств на плечи защитников. В тех случаях, когда обвинение не находило подтверждения, он считал своей обязанностью смело и решительно отказаться от него.
В своей речи, советует А. Ф. Кони, прокурор не должен ни представлять дела в одностороннем виде, извлекая из него только обстоятельства, уличающие подсудимого, ни преувеличивать значения доказательств и улик для важности преступления. В силу этих этических требований прокурор обязан сказать свое слово даже в опровержение обстоятельств, казавшихся при предании суду сложившимися против подсудимого, причем в оценке и взвешивании доказательств он вовсе не стеснен целями обвинения.
В этом утверждении Кони заключается его понимание осуществления такой ответственной функции уголовного процесса, как поддержание обвинения в суде.
Вдумчивое и гуманное отношение к судьбе человека — непреложное требование Кони-прокурора.
Поддерживая обвинение по делу А. Штрама, Кони образно рисует внутреннее состояние человека, представшего перед судом. «Подсудимый — человек молодой, у которого, несомненно, еще не заглохли человеческие чувства; показания свидетеля Бремера именно указывают на эту сторону его характера. Хотя он и слушал это показание с усмешкой, но я не придаю этому никакого значения; эта усмешка— наследие грязного кружка, где вращался подсудимый, но не выражение его душевного настроения. В его лета ему думается, конечно, что в этом выражается известная молодцеватость; мне, мол, «все нипочем», а в то же время, быть может, сердце его и дрожит, когда добрый старик и пред скамьею подсудимых говорит свое теплое о нем слово».
Обвиняя Е. Емельянова в убийстве жены, А. Ф. Кони говорил о свидетельнице Суриной: «Было бы странно скрывать от себя и недостойно умалчивать перед вами, что личность ее не производит симпатичного впечатления и что даже взятая вне обстоятельств этого дела, сама по себе, она едва ли привлекла бы к себе наше сочувствие. Но я думаю, что это свойство ее личности нисколько не изменяет существа ее показания. Если мы на время забудем о том, как она показывает, не договаривая, умалчивая, труся, или скороговоркою, в неопределенных выражениях высказывая то, что она считает необходимым рассказать, то мы найдем, что из показания ее можно извлечь нечто существенное, в чем должна заключаться своя доля истины».
Раскрывая далее значение свидетельского показания в уголовном процессе, он пояснил: «Надо оценивать показание по его внутреннему достоинству. Если оно дано непринужденно, без постороннего давления, если оно дано без всякого стремления к нанесению вреда другому и если затем оно подкрепляется обстоятельствами дела и бытовою житейскою обстановкою тех лиц, о которых идет речь, то оно должно быть признано показанием справедливым. Могут быть неверны детали, архитектурные украшения, мы их отбросим, но тем не менее останется основная масса, тот камень, фундамент, на котором зиждутся эти ненужные, неправильные подробности».
В ходе рассмотрения уголовных дел нередко возникают сомнения в виновности подсудимого. Судебный оратор не может их обойти. Они нуждаются в умелом обстоятельном обсуждении. Как подходит А. Ф. Кони к оценке такого рода сомнений?
«Мне могут сказать, — отвечает он, — что сомнение служит в пользу подсудимого. Да, это счастливое и хорошее правило! Но, спрашивается, какое сомнение? Сомнение, которое возникает после оценки всех многочисленных и разнообразных доказательств, которое вытекает из оценки нравственной личности подсудимого. Если из всей этой оценки, долгой и точной, внимательной и серьезной, все-таки вытекает такое сомнение, что оно не дает возможности заключить о виновности подсудимого, тогда это мнение спасительно и должно влечь оправдание. Но если сомнение явилось только от того, что не употреблено всех усилий ума и внимания, совести и воли, чтобы, сгруппировав все впечатления, вывести один общий вывод, тогда это сомнение фальшивое, тогда это плод умственной расслабленности, которую нужно побороть».
Представляют большой интерес высказывания А. Ф. Кони о роли личного признания вины подсудимого для правильного разрешения дела.
Обвиняемый в совершении убийства А. Штрам давал разноречивые показания, признавая, а затем отрицая свою вину. Не желая связывать себя таким сомнительным доказательством, А. Ф. Кони как бы отодвигает его в сторону, сосредоточивая свое внимание на рассмотрении показаний свидетелей, вещественных доказательств, анализе заключений экспертов. Присяжные заседатели неоднократно предостерегались им от слишком доверчивого отношения к признанию вины подсудимым. По делу об убийстве иеромонаха Иллариона он буквально с первых слов настораживает присяжных: «Вы, представители суда в настоящем деле, не можете быть орудием ни в чьих руках; не можете поэтому быть им и в руках подсудимого и решить дело согласно одним только его показаниям, идя по тому пути, по которому он вас желает вести. Вы не должны безусловно доверять его показанию, хотя бы оно даже было собственным сознанием, сознанием чистым, как заявляет здесь подсудимый, без строгой поверки этого показания. Сознания бывают различных видов, и из числа этих различных видов мы знаем только один, к которому можно отнестись совершенно спокойно и с полным доверием. Это такое сознание, когда следы преступления тщательно скрыты, когда личность совершившего преступление не оставила после себя никаких указаний и когда виновный сам, по собственному побуждению, вследствие угрызений совести является к суду, заявляет о том, что сделал, и требует, просит себе наказания, чтоб помириться с самим собою».
В обвинительных речах А. Ф. Кони не раз обращал внимание присяжных на необходимость смягчения подсудимому наказания.
Большой гуманист, он умел находить теплые проникновенные слова, яркие запоминающиеся краски для объяснений глубоких человеческих чувств. Образно, тонко рисует он душевное состояние матери, ставшей соучастницей тяжкого преступления, совершенного сыном: «Невольная свидетельница злодеяния своего сына, забитая нуждою и жизнью, она сделалась укрывательницею его действий потому, что не могла найти в себе силы изобличать его… Трепещущие, бессильные руки матери вынуждены были скрывать следы преступления сына потому, что сердце матери, по праву, данному ему природою, укрывало самого преступника. Поэтому вы, господа присяжные, поступите не только милостиво, но и справедливо, если скажете, что она заслуживает снисхождения».
Однако гуманность А. Ф. Кони не означала сентиментальности, мягкотелости. Гневно звучали его слова, когда речь шла о событиях большой общественной значимости.
С негодованием клеймит он преступление земского начальника Харьковского уезда кандидата прав В. Протопопова, устроившего самосуд над крестьянами. Именно обвинительная речь А. Ф. Кони обратила внимание общественного мнения на вопиющий произвол, творимый на местах земскими начальниками.
Судебная деятельность А. Ф. Кони не исчерпывалась ролью обвинителя в уголовных процессах. В качестве председательствующего по делам он произносил руководящие напутствия присяжным заседателям.
До вступления А. Ф. Кони на должность председателя Петербургского окружного суда, да и после ухода его с этого поста, русская судебная практика не имела достойных образцов председательских напутствий и надлежащих рекомендаций по их произнесению.
А. Ф. Кони принадлежит заслуга разработки форм и содержания председательских резюме. Малочисленность их объясняется сравнительно небогатой председательской: практикой Кони.
Поразительны обстоятельность и глубина, с которыми подходил он к произнесению таких напутствий. Свою задачу он видел в объективном, обстоятельном анализе доказательств, приведенных сторонами. Он считал своим долгом обратить внимание присяжных на наиболее ценные данные судебного следствия, избегая какого-либо давления на внутреннее убеждение присяжных заседателей, способствуя установлению истины по делу. Его ораторской манере несвойственно как заигрывание с присяжными, так и стремление при помощи громкой фразы воздействовать на их чувства, что любили делать многие судебные деятели.
А. Ф. Кони обращал свою речь к здравому смыслу присяжных. Ему были чужды действия, не только не согласующиеся с законом, но и нелояльные к подсудимому, свидетелям, защитникам и присяжным.
В руководящих напутствиях и других речах Кони содержится обобщение многолетнего опыта, которым он щедро делится с присяжными заседателями. Так, Кони неоднократно предупреждал, что при решении дела они не должны учитывать неблагоприятное впечатление, которое может быть вызвано поведением подсудимого на суде. Необходимо обращать внимание на конкретные обстоятельства дела, только они являются предметом судебного рассмотрения. По делу Маргариты Жюжан он говорил: «Душевное настроение обвиняемого… — это скользкая почва, на которой возможны весьма ошибочные выводы… Лучше не ступать на эту- почву, ибо на ней нет ничего бесспорного…»
В своих выступлениях в суде А. Ф. Кони стремился раскрыть внутренний смысл применяемого закона, его сущность. Именно поэтому так несвойствен ему догматизм, узость понимания закона, казуистичность. Он за то, чтобы правда житейская «выступала наружу, пробивая кору формальной и условной истины».
В настоящий том включен ряд кассационных заключений А. Ф. Кони, которые в его творчестве занимают особое место. В течение почти десяти лет (с 1885 по 1895 г.) с небольшим перерывом служебная деятельность Кони протекала в Сенате. Здесь им было произнесено более 600 заключений по самым разнообразным делам. Борясь с закостенело-консервативной практикой судов, А. Ф. Кони в кассационных заключениях выражал свои научные взгляды по злободневным проблемам того времени. Разъяснения Сената по многим делам неразрывно связаны с именем этого выдающегося юриста. Его кассационные заключения отличались глубиной научных исследований и служили пособием для правильного уяснения уголовноправовых и уголовно-процессуальных законов.
Выступления А. Ф. Кони в Сенате всегда были значительным событием в правовой жизни дореволюционной России. Диапазон его заключений отличался широтой общественно-правовых взглядов, именно этим и объясняется, что они всегда были предметом обсуждения юристов и часто выносились на страницы периодических изданий. Почти в каждом заключении его поднимались большие общественно-правовые проблемы.
В одном из своих писем В. Г. Короленко, обращаясь к А. Ф. Кони, отмечал: «В истории русского суда до высшей его ступени — Сената Вы твердо заняли определенное место и устояли на нем до конца. Когда сумерки нашей печальной современности все гуще заволакивали поверхность судебной России, — последние лучи великой реформы еще горели на вершинах, где стояла группа ее прозелитов и последних защитников. Вы были одним из ее виднейших представителей» 1.
Выступая с заключениями в Сенате, А. Ф. Кони обстоятельно и непреклонно критиковал неправосудные приговоры, давал научное толкование действовавших законов. Это не просто судебные речи, это серьезные исследования тех или иных принципиальных вопросов уголовного права и уголовного процесса. Как по форме, так и по содержанию они существенно отличались от тех, которые он произносил в суде присяжных. Они суховаты, предельно логичны, в них почти полностью отсутствуют те художественные украшения, которыми он умеренно пользовался. Обусловлено это тем, что кассационные заключения адресовались совершенно другой категории слушателей — опытным юристам высшего судебного учреждения дореволюционной России.
Но и в кассационных заключениях А. Ф. Кони не останавливался только на формально-догматическом рассмотрении ошибок, которые приводились в протесте прокурора или жалобах подсудимого, защитника или гражданского истца. В этих границах ему всегда тесно. Дар выдающегося ученого-юриста и талантливого практика отличал все его заключения. Он добивался от Сената таких разъяснений, которые способствовали более правильному и демократичному пониманию закона. Сталкиваясь с грубыми нарушениями, с неосновательным ущемлением прав сторон, свидетелей или экспертов в суде, он непременно ставил вопрос о привлечении виновных к ответственности.
А.Ф. Кони категорически возражал против неосновательного копания в частной жизни обвиняемого и потерпевшего и в обстоятельствах, отдаленно стоящих от событий рассматриваемого дела. «Чрезмерное расширение области судебного исследования, — говорил он, — внося в дело массу сведений, быть может, иногда и очень занимательных в бытовом отношении, создает, однако, пред присяжными пеструю и нестройную картину, в которой существенное перемешано со случайным, нужное с только интересным, серьезное со щекочущим праздное или болезненное любопытство. Этим путем невольно и неизбежно создается извращение уголовной перспективы, благодаря которому на первый план вместо печального общественного явления, называемого преступлением, выступают сокровенные подробности частной жизни людей, к этому преступлению не прикосновенных».
Давая заключение по делу Назарова, А. Ф. Кони обосновывает очень важное процессуальное положение, не получившее законодательного разрешения, — о правах гражданского истца.
Потерпевшая Черемнова до разрешения дела судом покончила жизнь самоубийством. Защитник подсудимого возражал против участия в деле в качестве гражданского истца отца потерпевшей и его представителя. На это возражение Кони ответил: «Честь и доброе имя безвременно сошедшей в могилу дочери, которая не может сама встать на свою защиту, есть достояние ее отца и матери, и они должны быть допущены к охранению этого достояния от, ущерба путем живого участия в деле, которое возможно лишь в роли гражданского истца. Я вовсе не желал бы чрезмерного расширения гражданского иска на суде уголовном, но полагаю, что есть случаи, редкие и исключительные, в которых узко-формальные требования по отношению к гражданскому иску не должны быть применяемы. Если наряду с прокурором по каждому делу о пустой краже пускают гражданского истца, имеющего право доказывать факт преступления даже и при отказе прокурора от обвинения, то ужели можно безусловно устранить от этого потерпевшего, детище которого, грубо опозоренное, покинуло жизнь в горьком сознании невозможности добиться правды и защиты?»
Это утверждение Кони восторжествовало в Сенате.
В своих трудах и практической деятельности прокурора и судьи А. Ф. Кони неизменно настаивал на неукоснительном уважении закона, который был для него основой деятельности.
Судебные речи А. Ф. Кони — самостоятельный вид его богатого и разнообразного творчества. Неповторимая их сила, филигранная отделка, изящный стиль, высокие художественные качества — все это получило высокую оценку русской Академии наук, которая избрала его своим почетным членом.
Известный в дореволюционное время адвокат О. О. Грузенберг в одном из писем, адресованных А. Ф. Кони, писал 30 декабря 1923 г.: «Вы создатель русского судебного слова и в то же время творец таких форм его, что не многим удалось не то что сравниться, но даже близко подойти к ним»1. Это не преувеличение. А. Ф. Кони — мастер публичной речи, яркой, красивой, теплой и простой. Его речи — образец гармонического сочетания глубокого содержания и безупречной художественной формы. Тонкий психологизм сочетается в них с умением тщательного исследования судебных доказательств. Еще при жизни А. Ф. Кони отмечали, что подражать этим речам невозможно, но учиться можно и нужно. Наследие А. Ф. Кони полностью сохраняет свою непроходящую ценность, войдя в разряд классического,
М. Выдря
ОБВИНИТЕЛЬНЫЕ РЕЧИ
ПО ДЕЛУ ОБ УТОПЛЕНИИ КРЕСТЬЯНКИ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ ЕЕ МУЖЕМ*
Господа судьи, господа присяжные заседатели! Вашему рассмотрению подлежат самые разнообразные по своей внутренней обстановке дела; между ними часто встречаются дела, где свидетельские показания дышат таким здравым смыслом, проникнуты такою искренностью и правдивостью и нередко отличаются такою образностью, что задача судебной власти становится очень легка. Остается сгруппировать все эти свидетельские показания, и тогда они сами собою составят картину, которая в вашем уме создаст известное определенное представление о деле. Но бывают дела другого рода, где свидетельские показания имеют совершенно иной характер, где они сбивчивы, неясны, туманны, где свидетели о многом умалчивают, многое боятся сказать, являя перед вами пример уклончивого недоговариванья и далеко не полной искренности. Я не ошибусь, сказав, что настоящее дело принадлежит к последнему разряду, но не ошибусь также, прибавив, что это не должно останавливать вас, судей, в строго беспристрастном и особенно внимательном отношении к каждой подробности в нем. Если в нем много наносных элементов, если оно несколько затемнено неискренностью и отсутствием полной ясности в показаниях свидетелей, если в нем представляются некоторые лротиворечия, то тем выше задача обнаружить истину, тем более усилий ума, совести и внимания следует употребить для узнания правды. Задача становится труднее, но не делается неразрешимою.
Я не стану напоминать вам обстоятельства настоящего дела; они слишком несложны для того, чтобы повторять их в подробности. Мы знаем, что молодой банщик женился, поколотил студента и был посажен под арест. На другой день после этого нашли его жену в речке Ждановке. Проницательный помощник пристава. усмотрел в смерти ее самоубийство с горя по муже, и тело было предано земле, а дело воле божьей. Этим, казалось бы, все и должно было кончиться, но в околотке пошел говор об утопленнице. Говор этот группировался около Аграфены Суриной, она была его узлом, так как она будто бы проговорилась, что Лукерья не утопилась, а утоплена мужем. Поэтому показание ее имеет главное и существенное в деле значение. Я готов сказать, что оно имеет, к сожалению, такое значение, потому что было бы странно скрывать от себя и недостойно умалчивать перед вами, что личность ее не производит симпатичного впечатления и что даже взятая вне обстоятельств этого дела, сама по себе, она едва ли привлекла бы к себе наше сочувствие. Но я думаю, что это свойство ее личности нисколько не изменяет существа ее показания. Если мы на время забудем о том, как она показывает, не договаривая, умалчивая, труся, или скороговоркою, в неопределенных выражениях высказывая то, что она считает необходимым рассказать, то мы найдем, что из показания ее можно извлечь нечто существенное, в чем должна заключаться своя доля истины. Притом показание ее имеет особое значение в деле: им завершаются все предшествовавшие гибели Лукерьи события, им объясняются и все последующие, оно есть, наконец, единственное показание очевидца. Прежде всего возникает вопрос: достоверно ли оно? Если мы будем определять достоверность показания тем, как человек говорит, как он держит себя на суде, то очень часто примем показания вполне достоверные за ложные и, наоборот, примем оболочку показания за его сущность, за его сердце-вину. Поэтому надо оценивать показание по его внутреннему достоинству. Если оно дано непринужденно, без постороннего давления, если оно дано без всякого стремления к нанесению вреда другому и если затем оно подкрепляется обстоятельствами дела и бытовою житейскою обстановкою тех лиц, о которых идет речь, то оно должно быть признано показанием справедливым. Могут быть неверны детали, архитектурные украшения, мы их отбросим, но тем не менее останется основная масса, тот камень, фундамент, на котором зиждутся эти ненужные, неправильные подробности.
Существует ли первое условие в показании Аграфены Суриной? Вы знаете, что она сама первая проговорилась, по первому толчку, данному Дарьею Гавриловою, когда та спросила: «Не ты ли это с Егором утопила Лукерью?» Самое поведение ее при ответе Дарье Гавриловой и подтверждение этого ответа при следствии исключает возможность чего-либо насильственного или вынужденного. Она сделалась, — волею или неволею, об этом судить трудно, — свидетельницею важного и мрачного события, она разделила вместе с Егором ужасную тайну, но как женщина нервная, впечатлительная, живая, оставшись одна, она стала мучиться, как все люди, у которых на душе тяготеет какая-нибудь тайна, что-нибудь тяжелое, чего нельзя высказать. Она должна была терзаться неизвестностью, колебаться между мыслью, что Лукерья, может быть, осталась жива, и гнетущим сознанием, что она умерщвлена, и поэтому-то она стремилась к тому, чтобы узнать, что сделалось с Лукерьей. Когда все вокруг было спокойно, никто еще не знал об утоплении, она волнуется как душевнобольная, работая в прачечной, спрашивает по-мйнутно, не пришла ли Лукерья, не видали ли утопленницы. Бессознательно почти, под тяжким гнетом давящей мысли, она сама себя выдает. Затем, когда пришло известие об утопленнице, когда участь, постигшая Лукерью, определилась, когда стало ясно, что она не придет никого изобличать, бремя на время свалилось с сердца и Аграфена успокоилась. Затем опять тяжкое воспоминание и голос совести начинают ей рисовать картину, которой она была свидетельницею, и на первый вопрос Дарьи Гавриловой она почти с гордостью высказывает все, что знает. Итак, относительно того, что показание Суриной дано без принуждения, не может быть сомнения.
Обращаюсь ко второму условию: может ли показание это иметь своею исключительною целью коварное желание набросить преступную тень на Егора, погубить его? Такая цель может быть только объяснена страшною ненавистью, желанием погубить во что бы то ни стало подсудимого, но в каких же обстоятельствах дела найдем мы эту ненависть? Говорят, что она была на него зла за то, что он женился на другой; это совершенно понятно, но она взяла за это с него деньги; положим, что, даже и взяв деньги, она была недовольна им, но между неудовольствием и смертельною ненавистью целая пропасть. Все последующие браку обстоятельства были таковы, что он, напротив, должен был сделаться ей особенно дорог и мил. Правда, он променял ее, с которую жил два года, на девушку, с которой перед тем встречался лишь несколько раз, и это должно было задеть ее самолюбие, но чрез неделю или, во всяком случае, очень скоро после свадьбы, он опять у ней, жалуется ей на жену, говорит, что снова любит ее, тоскует по ней. Да ведь это для женщины, которая продолжает любить, — а свидетели показали, что она очень любила его и переносила его крутое обращение два года,— величайшая победа! Человек, который ее кинул, приходит с повинною головою, как блудный сын, просит ее любви, говорит, что та, другая, не стоит его привязанности, что она, Аграфена, дороже, краше, милее и лучше для него… Это могло только усилить прежнюю любовь, но не обращать ее в ненависть. Зачем ей желать погубить Егора в такую минуту, когда жены нет, когда препятствие к долгой связи и даже к браку устранено? Напротив, теперь-то ей и любить его, когда он всецело ей принадлежит, когда ей не надо нарушать «их закон», а между тем она обвиняет его, повторяет это обвинение здесь, на суде. Итак, с этой точки зрения, показание это не может быть заподозрено.
Затем, соответствует ли оно сколько-нибудь обстоятельствам дела, подтверждается ли бытовою обстановкою действующих лиц? Если да, то как бы Аграфена Сурина ни была несимпатична, мы можем ей поверить, потому что другие, совершенно посторонние лица, оскорбленные ее прежним поведением, не свидетельствуя в пользу ее личности, свидетельствуют, однако, в пользу правдивости ее настоящего показания. Прежде всего свидетельница, драгоценная по простоте и грубой искренности своего показания,— сестра покойной Лукерьи. Она рисует подробно отношения Емельянова к жене и говорит, что, когда Емельянов посватался, она советовала сестре не выходить за него замуж, но он поклялся, что бросит любовницу, и она, убедившись этою клятвою, посоветовала сестре идти за Емельянова. Первое время они живут счастливо, мирно и тихо, но затем начинается связь Емельянова , с Суриной. Подсудимый отрицает существование этой связи, но о ней говорит целый ряд свидетелей. Мы слышали показание двух девиц, ходивших к гостям по приглашению Егора, которые видели, как он, в половине ноября, целовался на улице, и не таясь, с Аграфеною. Мы знаем из тех же показаний, что Аграфена бегала к Егору, что он часто, ежедневно по нескольку раз, встречался с нею. Правда, главное фактическое подтверждение, с указанием на место, где связь эта была закреплена, принадлежит Суриной, но и оно подкрепляется посторонними обстоятельствами, а именно — показаниями служащего в Зоологической гостинице мальчика и Дарьи Гавриловой. Обвиняемый говорит, что он в этот день до 6 часов сидел в мировом съезде, слушая суд и собираясь подать апелляцию. Не говоря уже о том, что, пройдя по двум инстанциям, он должен был слышать от председателя мирового съезда обязательное по закону заявление, что апелляции на приговор съезда не бывает, этот человек, относительно которого приговор съезда был несправедлив, не только по его мнению, но даже по словам его хозяина, который говорит, что Егор не виноват, «да суд так рассудил», этот человек идет любопытствовать в этот самый суд и просиживает там полдня. Действительно, он не был полдня дома, но он был не в съезде, а в Зоологической гостинице. На это указывает мальчик Иванов. Он видел в Михайлов день Сурину в номерах около 5 часов. Это подтверждает и Гаврилова, которой 8 ноября Сурина сказала, что идет с Егором, а затем вернулась в 6 часов. Итак, частица показания Суриной подтверждается. Таким образом, очевидно, что прежние дружеские, добрые отношения между Лукерьею и ее мужем поколебались. Их место заняли другие, тревожные. Такие отношения не могут, однако, долго длиться: они должны измениться в ту или другую сторону. На них должна была постоянно влиять страсть и прежняя привязанность, которые пробудились в Егоре с такою силою и так скоро. В подобных случаях может быть два исхода: или рассудок, совесть и долг победят страсть и подавят ее в грешном теле, и тогда счастие упрочено, прежние отношения возобновлены и укреплены, или, напротив, рассудок подчинится страсти, заглохнет голос совести и страсть, увлекая человека, овладеет им совсем; тогда явится стремление не только нарушить, но навсегда уничтожить прежние тягостные, стесняющие отношения. Таков общий исход всех действий человеческих, совершаемых под влиянием страсти; на средине страсть никогда не останавливается; она или замирает, погасает, подавляется или, развиваясь чем далее, тем быстрее, доходит до крайних пределов. Для того чтобы определить, по какому направлению должна была идти страсть, овладевшая Емельяновым, достаточно вглядеться в характер действующих лиц. Я не стану говорить о том, каким подсудимый представляется нам на суде; оценка поведения его на суде не должна быть, по моему мнению, предметом наших обсуждений. Но мы можем проследить его прошедшую жизнь по тем показаниям и сведениям, которые здесь даны и получены.
Лет 16 он приезжает в Петербург и становится банщиком при номерных, так называемых «семейных» банях. Известно, какого рода эта обязанность; здесь, на суде, он сам и две девушки из дома терпимости объяснили, в чем состоит одна из главных функций этой обязанности. Ею-то, между прочим, Егор занимается с 16 лет. У него происходит перед глазами постоянный, систематический разврат. Он видит постоянное беззастенчивое проявление грубой чувственности. Рядом с этим является добывание денег не действительною, настоящею работою, а «наводкою». Средства к жизни добываются не тяжелым и честным трудом, а тем, что он угождает посетителям, которые, довольные проведенным временем с приведенною женщиною, быть может, иногда и не считая хорошенько, дают ему деньги на водку. Вот какова его должность с точки зрения труда! Посмотрим на нее с точки зрения долга и совести. Может ли она развить в человеке самообладание, создать преграды, внутренние и нравственные, порывам страсти? Нет, его постоянно окружают картины самого беззастенчивого проявления половой страсти, а влияние жизни без серьезного труда, среди далеко не нравственной обстановки для человека, не укрепившегося в другой, лучшей сфере, конечно, не явится особо задерживающим в ту минуту, когда им овладеет чувственное желание обладания… Взглянем на личный характер подсудимого, как он нам был описан. Это характер твердый, решительный, смелый. С товарищами живет Егор не в ладу, нет дня, чтобы не ссорился, человек «озорной», неспокойный, никому спускать не любит. Студента, который, подойдя к бане, стал нарушать чистоту, он поколотил больно — и поколотил притом не своего брата мужика, а студента, «барина», — стало быть, человек, не очень останавливающийся в своих порывах. В домашнем быту это человек не особенно нежный, не позволяющий матери плакать, когда его ведут под арест, обращающийся со своею любовницею, «как палач». Ряд показаний рисует, как он обращается вообще с теми, кто ему подчинен по праву или обычаю: «Идешь ли?» — прикрикивает он на жену, зовя ее с собою; «Гей, выходи», — стучит в окно, «выходи» — властно кричит он Аграфене. Это человек, привыкший властвовать и повелевать теми, кто ему покоряется, чуждающийся товарищей, самолюбивый, непьющий, точный и аккуратный. Итак, это характер сосредоточенный, сильный и твердый, но развившийся в дурной обстановке, которая ему никаких сдерживающих нравственных начал дать не могла.
Посмотрим теперь на его жену. О ней также характеристичные показания: эта женщина невысокого роста, толстая, белокурая, флегматическая, молчаливая и терпеливая: «Всякие тиранства от моей жены, капризной женщины, переносила, никогда слова не сказала», — говорит о ней свидетель Одинцов. «Слова от нее трудно добиться»,— прибавил он. Итак, это вот какая личность: тихая, покорная, вялая и скучная, главное — скучная. Затем выступает Аграфена Сурина. Вы ее видели и слышали: вы можете относиться к ней не с симпатией, но вы не откажете ей в одном; она бойка и даже здесь за словом в карман не лезет, не может удержать улыбки, споря с подсудимым, она, очевидно, очень живого, веселого характера, энергическая, своего не уступит даром, у нее черные глаза, румяные щеки, черные волосы. Это совсем другой тип, другой темперамент.
Вот такие-то три лица сводятся судьбою вместе. Конечно, и природа, и обстановка указывают, что Егор должен скорее сойтись с Аграфеною; сильный всегда влечется к сильному, энергическая натура сторонится от всего вялого и слишком тихого. Егор женится, однако, на Лукерье. Чем она понравилась ему? Вероятно, свежестью, чистотою, невинностью. В этих ее свойствах нельзя сомневаться. Егор сам не отрицает, что она вышла за него, сохранив девическою чистоту. Для него эти ее свойства, эта ее неприкосновенность должны были представлять большой соблазн, сильную приманку, потому что он жил последние годы в такой сфере, где девической чистоты вовсе не полагается; для него обладание молодою, невинною женою должно было быть привлекательным. Оно имело прелесть новизны, оно так резко и так хорошо противоречило общему складу окружающей его жизни. Не забудем, что это не простой крестьянин, грубоватый, но прямодушный, — это крестьянин, который с 16 лет в Петербурге, в номерных банях, который, одним словом, «хлебнул» Петербурга. И вот он вступает в брак с Лукерьею, которая, вероятно, иначе ему не могла принадлежать; но первые порывы страсти прошли, он охлаждается, а затем начинается обычная жизнь, жена его приходит к ночи, тихая, покорная, молчаливая… Разве это ему нужно с его живым характером, с его страстною натурою, испытавшею житье с Аграфеною? И ему, особенно при его обстановке, приходилось видывать виды, и ему, может быть, желательна некоторая завлекательность в жене, молодой задор, юркость, бойкость. Ему, по характеру его, нужна жена живая, веселая, а Лукерья — совершенная противоположность этому. Охлаждение понятно, естественно. А тут Аграфена снует, бегает по коридору, поминутно суется на глаза, подсмеивается и не прочь его снова завлечь. Она зовет, манит, туманит, раздражает, и когда он снова ею увлечен, когда она снова позволяет обнять себя, поцеловать; в решительную минуту, когда он хочет обладать ею, она говорит: «Нет, Егор, я вашего закона нарушать не хочу», — т. е. каждую минуту напоминает о сделанной им ошибке, корит его тем, что он женился, не думая, что делает, не рассчитав последствий, сглупив… Он знает при этом, что она от него ни в чем более не зависит, что она может выйти замуж и пропасть для него навсегда. Понятно, что ему остается или махнуть на нее рукою и вернуться к скучной и молчаливой жене, или отдаться Аграфене. Но как отдаться? Вместе, одновременно с женою? Это невозможно. Во-первых, это в материальном отношении дорого будет стоить, потому что ведь придется и материальным образом иногда выразить любовь к Суриной; во-вторых, жена его стесняет; он человек самолюбивый, гордый, привыкший действовать самостоятельно, свободно, а тут надо ходить тайком по номерам, лгать, скрываться от жены или слушать брань ее с Аграфеною и с собою — и так навеки! Конечно, из этого надо найти исход. И если страсть сильна, а голос совести слаб, то исход может быть самый решительный. И вот является первая мысль о том, что от жены надо избавиться.
Мысль эта является в ту минуту, когда Аграфена вновь стала принадлежать ему, когда он снова вкусил от сладости старой любви и когда Аграфена отдалась ему, сказав, что это, как говорится в таких случаях, «в первый и в последний раз». О появлении этой мысли говорит Аграфена Сурина: «Не сяду под арест без того, чтобы Лукерьи не было», — сказал ей Емельянов. Мы бы могли не совсем поверить ей, но слова ее подтверждаются другим беспристрастным и добросовестным свидетелем, сестрою Лукерьи, которая говорит, что накануне смерти, через неделю после свидания Егора с Суриною, Лукерья передавала ей слова мужа: «тебе бы в Ждановку». В каком смысле было это сказано — понятно, так как она отвечала ему: «Как хочешь, Егор, но я сама на себя рук накладывать не стану». Видно мысль, на которую указывает Аграфена, в течение недели пробежала целый путь и уже облеклась в определенную и ясную форму — «тебе бы в Ждановку». Почему же именно в Ждановку? Вглядитесь в обстановку Егора и отношения его к жене. Надо от нее избавиться. Как, что для этого сделать? Убить… Но как убить? Зарезать ее — будет кровь, нож, явные следы, — ведь они видятся только в бане, куда она приходит ночевать. Отравить? Но как достать яду, как скрыть следы преступления, и т. д. Самое лучшее и, пожалуй, единственное средство — утопить. Но когда? А когда она пойдет провожать его в участок, — это время самое удобное, потому, что при обнаружении убийства он окажется под арестом и даже как нежный супруг и несчастный вдовец пойдет потом хоронить утопившуюся или утонувшую жену. Такое предположение вполне подкрепляется рассказом Суриной. Скажут, что Сурина показывает о самом убийстве темно, туманно, путается, сбивается. Все это так, но у того, кто даже как посторонний зритель бывает свидетелем убийства, часто трясутся руки и колотится сердце от зрелища ужасной картины; когда же зритель не совсем посторонний, когда он даже очень близок к убийце, когда убийство происходит в пустынном месте, осеннею и сырою ночью, тогда немудрено, что Аграфена не совсем может собрать свои мысли и не вполне разглядела, что именно и как именно делал Егор. Но сущность ее показаний все-таки сводится к одному, т. е. к тому, что она видела Егора топившим жену; в этом она тверда и впечатление это передает с силою и настойчивостью. Она говорит, что, испугавшись, бросилась бежать, затем он догнал ее, а жены не было; значит, думала она, он-таки утопил ее; спросила о жене — Егор не отвечал. Показание ее затем вполне подтверждается во всем, что касается ее ухода из дома вечером 14 ноября. Подсудимый говорит, что он не приходил за ней, но Анна Николаева удостоверяет противоположное и говорит, что Аграфена, ушедшая с Егором, вернулась через 20 минут. По показанию Аграфены, она как раз прошла и пробежала такое пространство, для которого нужно было, по расчету, употребить около 20 минут времени.
Нам могут возразить против показания Суриной, что смерть Лукерьи могла произойти от самоубийства или же сама Сурина могла убить ее. Обратимся к разбору этих, могущих быть, возражений. Прежде всего нам скажут, что борьбы не было, потому что платье утопленницы не разорвано, не запачкано, что сапоги у подсудимого, который должен был войти в воду, не были мокры и т. д. Вглядитесь в эти два пункта возражений и вы увидите, что они вовсе не так существенны, как кажутся с первого взгляда. Начнем с грязи и борьбы. Вы слышали показание одного свидетеля, что грязь была жидкая, что была слякоть; вы знаете, что место, где совершено убийство, весьма крутое, скат в 9 шагов, под углом 45 градусов. Понятно, что, начав бороться с кем-нибудь на откосе, можно было съехать по грязи в несколько секунд до низу и если затем человек, которого сталкивают, запачканного грязью, в текущую воду, остается в ней целую ночь, то нет ничего удивительного, что на платье, пропитанном насквозь водою, слякоть расплывается и следов ее не останется: природа сама выстирает платье утопленницы. Скажут, что нет следов борьбы. Я не стану утверждать, чтобы она была, хотя разорванная пола куцавейки наводит, однако, на мысль, что нельзя отрицать ее существования. Затем скажут: сапоги! Да, сапоги эти, по-видимому, очень опасны для обвинения, но только по-видимому. Припомните часы: когда Егор вышел из дома, это было три четверти десятого, а пришел он в участок десять минут одиннадцатого, т. е. чрез 25 минут по выходе из дома и минут чрез 10 после того, что было им совершено, по словам Суриной. Но в часть, где собственно содержатся арестанты и где его осматривали, он пришел в 11 часов, через час после того дела, в совершении которого он обвиняется. В течение этого времени он много ходил, был в теплой комнате и затем его уже обыскивают.
Когда его обыскивали, вы могли заключить из показаний свидетелей; один из полицейских объяснил, что на него не обратили внимания, потому что он приведен на 7 дней; другой сказал сначала, что всего его обыскивал, и потом объяснил, что сапоги подсудимый снял сам, а он осмотрел только карманы. Очевидно, что в этот промежуток времени он мог успеть обсохнуть, а если и оставалась сырость на платье и сапогах, то она не отличалась от той, которая могла образоваться от слякоти и дождя. Да, наконец, если вы представите себе обстановку убийства так, как описывает Сурина, вы убедитесь, что ему не было надобности входить в воду по колени. Завязывается борьба на откосе, подсудимый пихает жену, они скатываются в минуту по жидкой грязи, затем он схватывает ее за плечи и, нагнув ее голову, сует в воду. Человек может задохнуться в течение двух-трех минут, особенно если не давать ему ни на секунду вынырнуть, если придержать голову под водой. При такой обстановке, которую описывает Сурина, всякая женщина в положении Лукерьи будет поражена внезапным нападением, — в сильных руках разъяренного мужа не соберется с силами, чтобы сопротивляться, особенно если принять в соображение положение убийцы, который держал ее одною рукою за руку, на которой и остались синяки от пальцев, а другою нагибал ей голову к воде. Чем ей сопротивляться, чем ей удержаться от утопления? У нее свободна одна лишь рука, но перед нею вода, за которую ухватиться, о которую опереться нельзя. Платье Егора могло быть при этом сыро, забрызгано водою, запачкано и грязью немного, но при поверхностном осмотре, который ему делали, это могло остаться незамеченным. Насколько это вероятно, вы можете судить по показаниям свидетелей; один говорит, что он засажен в часть в сапогах, другой говорит босиком; один показывает, что он был в сюртуке, другой говорит — в чуйке и т. д. Наконец, известно, что ему позволили самому явиться под арест, что он был свой человек в участке, — станут ли такого человека обыскивать и осматривать подробно?
Посмотрим, насколько возможно предположение о самоубийстве. Думаю, что нам не станут говорить о самоубийстве с горя, что мужа посадили на 7 дней под арест. Надо быть детски-легковерным, чтобы поверить подобному мотиву. Мы знаем, что Лукерья приняла известие об аресте мужа спокойно, хладнокровно, да и приходить в такое отчаяние, чтобы топиться ввиду семидневной разлуки, было бы редким, чтобы не сказать невозможным, примером супружеской привязанности. Итак, была другая причина, но какая же? Быть может, жестокое обращение мужа, но мы, однако, не видим такого обращения: все говорят, что они жили мирно, явных ссор не происходило. Правда, она раз, накануне смерти, жаловалась, что муж стал грубо отвечать, лез с кулаками и даже советовал ей «в Ждановку». Но, живя в России, мы знаем, каково в простом классе жестокое обращение с женою. Оно выражается гораздо грубее и резче, в нем муж, считая себя в своем неотъемлемом праве, старается не только причинить боль, но и нашуметь, сорвать сердце. Здесь такого жестокого обращения не было и быть не могло. Оно, по большей части, есть следствие грубого возмущения какою-нибудь стороною в личности жены, которую нужно, по мнению мужа, исправить, наказуя и истязуя. Здесь было другое чувство, более сильное и всегда более страшное по своим результатам. Это была глубокая, затаенная ненависть. Наконец, мы знаем, что никто так не склонен жаловаться и плакаться на жестокое обращение, как женщина, и Лукерья точно так же не удержалась бы, чтобы не рассказывать хоть близким, хоть сестре, что нет житья с мужем, как рассказала о нем накануне смерти. Итак, нет повода к самоубийству. Посмотрим на выполнение этого самоубийства. Она никому не намекает даже о своем намерении, напротив, говорит накануне противоположное, а именно: что рук на себя не наложит; затем она берет у сестры — у бедной женщины — кофту: для чего же? — чтобы в ней утопиться; наконец, местом утопления она выбирает Ждановку, где воды всего на аршин. Как же тут утопиться? Ведь надо согнуться, нужно чем-нибудь придержаться за дно, чтобы не всплыть на поверхность… Но чувство самосохранения непременно скажется, — молодая жизнь восстала бы против своего преждевременного прекращения, и Лукерья сама выскочила бы из воды. Известно, что во многих случаях самоубийцы потому (только гибнут под водою, что или не умеют плавать, или же несвоевременно придет помощь, которую они обыкновенно сами призывают. Всякий, кто знаком с обстановкою самоубийства, знает, что утопление, а также бросание с высоты, — два преимущественно женских способа самоубийства, — совершаются так, что самоубийца старается ринуться, броситься как бы с тем, чтобы поскорей, сразу, без возможности колебания и возврата, прервать связь с окружающим миром. В воду «бросаются», а не ищут такого места, где бы надо было «входить» в воду, почти как по ступенькам. Топясь в Ждановке, Лукерья должна была войти в воду, нагнуться, даже сесть и не допустить себя встать, пока не отлетит от нее жизнь. Но это положение немыслимое! И зачем оно, когда в десяти шагах течет Нева, которая не часто отдает жизни тех, кто пойдет искать утешения в ее глубоких и холодных струях. Наконец, самое время для самоубийства выбирается такое, когда сама судьба послала ей семидневную отсрочку, когда она может вздохнуть и пожить на свободе без мужа, около сестры. Итак, это не самоубийство.
Но, быть может, это убийство, совершенное Аграфеной Суриной, как намекает на это подсудимый? Я старался доказать, что не Аграфене Суриной, а мужу Лукерьи можно было желать убить ее, и притом, если мы остановимся на показании обвиняемого, то мы должны брать его целиком, особенно в отношении Суриной. Он здесь настойчиво требовал от свидетелей подтверждения того, что Лукерья плакалась от угроз Суриной удавить ее или утюгом хватить. Свидетели этого не подтвердили, но если все-таки верить обвиняемому, то надо признать, что Лукерья окончательно лишилась рассудка, чтобы идти ночью на глухой берег Ждановки с такою женщиною, которая ей враг, которая грозила убить ее! Скажут, что Сурина могла напасть на нее, когда она возвращалась, проводив мужа. Но факты, неумолимые факты докажут нам противное. Егор ушел из бань в три четверти десятого, пришел в участок в десять минут одиннадцатого, следовательно, пробыл в дороге 25 минут. Одновременно с уходом из дому он вызвал Аграфену, как говорит Николаева. Следовательно, Сурина могла напасть на Лукерью только по истечении этих 25 минут. Но та же Николаева говорила, что Аграфена Сурина вернулась домой через двадцать минут после ухода. Наконец, могла ли Сурина один-на-один сладить с Лукерьею, как мог сладить с нею ее муж и повелитель? Вот тут-то были бы следы той борьбы, которой так тщетно искала защита на платье покойной. Итак, предположение о Суриной как убийце Лукерьи рушится и мы приходим к тому, что показание Суриной в существе своем верно. Затем остаются неразъясненными два обстоятельства: во-первых, зачем обвиняемый вызывал Аграфену, когда шел убивать жену, и, во-вторых, зачем он говорил, по показанию Суриной, что «брал девку, а вышла баба», и упрекал в том жену, в последние моменты ее жизни? Не лжет ли Сурина? Но, господа присяжные, не одними внешними обстоятельствами, которые режут глаза, определяется характер действий человека; при известных случаях надо посмотреть и на те душевные проявления, которые свойственны большинству людей при известной обстановке. Зачем он бросил тень на честь своей жены в глазах Аграфены? Да потому, что, несмотря на некоторую свою испорченность, он живет в своеобразном мире, где при разных, подчас грубых и не вполне нравственных явлениях существует известный, определенный, простой и строгий нравственный кодекс. Влияние кодекса этого выразилось в словах Аграфены: «Я вашего закона нарушать не хочу!» Подсудимый — человек самолюбивый, гордый и властный; прийти просто просить у Аграфены прощения и молить о старой любви — значило бы прямо сказать, что он жену не любит потому, что женился «сдуру», не спросясь броду; Аграфена стала бы смеяться. Надо было иметь возможность сказать Аграфене, что она может нарушить закон, потому что этого закона нет, потому что жена внесла бесчестье в дом и опозорила закон сама. Не тоскующим и сделавшим ошибку, непоправимую на всю жизнь, должен он был прийти к Аграфене, а человеком оскорбленным, презирающим жену, не смогшую до свадьбы «себя соблюсти». В таких условиях Аграфена стала бы его, быть может, жалеть, но он не был бы смешон в ее глазах. И притом — это общечеловеческое свойство, печальное, но верное, — когда человек беспричинно ненавидит другого, несправедлив к нему, то он силится найти в нем хоть какую-нибудь, хотя вымышленную, вину, чтоб оправдаться в посторонних глазах, чтобы даже в глазах самого ненавидимого быть как бы в своем праве. Вот почему лгал Егор о жене Аграфене и в решительную минуту при них обеих повторял эту ложь, в виде вопроса жене о том, кому продала она свою честь, хотя теперь и утверждает, что жена была целомудренна.
Зачем он вызвал Аграфену, идя на убийство? Вы ознакомились с Аграфеною Суриною и, вероятно, согласитесь, что эта женщина способна вносить смуту и раздор в душевный мир человека, ею увлеченного. От нее нечего ждать, что она успокоит его, станет говорить как добрая, любящая женщина. Напротив, она скорей всего в ответ на уверения в прочности вновь возникшей привязанности станет дразнить, скажет: «Как же, поверь тебе, хотел ведь на мне жениться — два года водил, да и женился на Другой». Понятно, что в человеке самолюбивом, молодом, страстном, желающем приобрести Аграфену, должно было явиться желание доказать, что у него твердо намерение обладать ею, что он готов даже уничтожить жену-разлучницу, да не на словах, которым Аграфена не верит и над которыми смеется, но на деле. Притом она уже раз испытала его неверность, она может выйти замуж, не век же находиться под его гнетом; надо ее закрепить надолго, навсегда, поделившись с нею страшною тайною. Тогда всегда будет возможность сказать: «Смотри, Аграфена! Я скажу все, мне будет скверно, да и тебе, чай, не сладко придется. Вместе погибать пойдем, ведь из-за тебя же Лукерьи душу загубил…»
Вот для чего надо было вызвать Аграфену, удалив, во что бы то ни стало, плаксивую мать, которая дважды вызывалась идти его провожать. Затем, могли быть и практические соображения: зайдя за ней, он мог потом, в случае обнаружения каких-нибудь следов убийства, сказать: я сидел в участке, а в участок шел с Грушей, что же — разве при ней я совершил убийство? Спросите ее! Она будет молчать, конечно, и тем дело кончится. Но в этом расчете он ошибся. Он не сообразил, какое впечатление может произвести на Сурину то, что ей придется видеть, он позабыл, что на молчание такой восприимчивой женщины, как Сурина, положиться нельзя… Вот те соображения, которые я считал нужным вам представить. Мне кажется, что все они сводятся к тому, что обвинение против подсудимого имеет достаточные основания. Поэтому я обвиняю его в том, что, возненавидев свою жену и вступив в связь с другою женщиною, он завел жену ночью на речку Ждановку и там утопил.
Кончая обвинение, я не могу не повторить, что такое дело, как настоящее, для разрешения своего потребует больших усилий ума и совести. Но я уверен, что вы не отступите перед трудностью задачи, как не отступила перед ней обвинительная власть, хотя, быть может, разрешите ее иначе. Я нахожу, что подсудимый Емельянов совершил дело ужасное, нахожу, что, постановив жестокий и несправедливый приговор над своею бедною и ни в чем не повинною женою, он со всею строгостью привел его в исполнение. Если вы, господа присяжные, вынесете из дела такое же убеждение, как и я, если мои доводы подтвердят в вас это убеждение, то я думаю, что не далее, как через несколько часов, подсудимый услышит из ваших уст приговор, конечно, менее строгий, но, без сомнения, более справедливый, чем тот, который он сам произнес над своею женою.
ПО ДЕЛУ О РАСХИЩЕНИИ ИМУЩЕСТВА УМЕРШЕГО НИКОЛАЯ СОЛОДОВНИКОВА *
Господа судьи, господа присяжные заседатели! В Лесном, под самым Петербургом, умер одинокий скопец *, которого считали — и не без основания — человеком очень богатым. После его смерти найдено несколько векселей и расписок на 77 тыс. руб. и 28 руб. наличности. Так как ни векселям, ни распискам не наступил еще срок, то оказалось, что этот богач проживал, в буквальном смысле, последнюю копейку и рисковал остаться совершенно без необходимых для ежедневных расходов средств, если бы… не поспешил умереть вовремя. Обвинительная власть не может, однако, примириться со столь неожиданным обнищанием. Она полагает, что это обнищание действительно совершилось, но не при жизни покойного, а после его смерти, в ущерб его наследникам — и соверши-: лось очень быстро и очень ловко. Она простирает свое любопытствующее недоверие так далеко, что решается считать виновником этого превращения солидных средств в 28 руб. человека, который, по его собственным словам, будучи другом умершего, «никогда не сходил с пути чести и добра».
Для того, чтобы представить вам те соображения, которые приводят к такому заключению, необходимо независимо от разбора действий подсудимого взглянуть на личность покойного, на его отношение к окружающей среде. Быть может, мы найдем в той и другом точку опоры, чтобы судить о том, какую роль и в каких размерах играл при нем подсудимый, чтобы узнать, насколько эта роль делает подсудимого неуязвимым для несправедливых, по его мнению, подозрений. Обыкновенно отсутствие потерпевшего оставляет большой пробел в деле, который нечем наполнить. Но настоящее дело представляет счастливое исключение. Благодаря ряду показаний близко стоявших к покойному лиц, благодаря его громадному дневнику, веденному с чрезвычайною подробностью изо дня в день в течение 20 лет, благодаря, наконец, следственному делу Особой комиссии 1824 года его образ восстает пред нами, как живой, и со страниц тщательно переплетенных томов дневника говорит о себе и о своих сношениях с людьми так, как, вероятно, покойный не стал бы говорить пред нами, если бы явился сюда лично. Я позволю себе поэтому остановиться на личности покойного и постараюсь почерпнуть из дела лишь такие ее черты, о которых ввиду их очевидной и чувствуемой несомненности у нас споров с защитою быть не может. Мой уважаемый противник с полным беспристрастием добывал вместе со мною на судебном следствии сведения об умершем и, вероятно, сойдется со мною в представлении о том, что такое был этот умерший. А затем мы пойдем каждый своею дорогою, а вы уже решите, кто пошел верным путем, а кто забрел, куда не следовало.
Судьба одиноко скончавшегося первостатейного виль-манстрандского купца Николая Назаровича Солодовникова была, господа присяжные, судьба трагическая. Ее трагизм начался отроческими стонами и воплями физической боли и продолжался как последствие того, что вызвало эти стоны и вопли, всю жизнь Солодовникова. Этот трагизм неслышно вплетался в его отношения ко всему окружающему, присоединяя к телесному увечью чувство постоянной скорби, недоверия к людям и стыда… Сиротство застало молодого Солодовникова в немецком училище св. Петра, куда он поступил, как видно из его учебного аттестата, с хорошею домашнею подготовкою и знанием языков. Из средних классов училища он был взят братом, взят и — оскоплен. Старый и влиятельный скопец-миллионер хотел спасти его душу, убив раз навсегда его плоть. Мы знаем из следственного дела, что оскопление Солодовникова совершилось после одного из «радений», и когда облитый кровью и обезображенный мальчик был отведен в отдаленную комнату, где его стали потом «залечивать» домашними средствами, собравшиеся у Михаила Солодовникова запели свои «распевы», конечно радуясь, что стая «белых голубей» увеличилась еще одним голубком, молодую жизнь которого они только что заклевали… Когда мальчик оправился, он очутился в полной власти брата, борьба с которым была невозможна: ему было всего 14 лет. Потянулась подначальная, унылая жизнь, воспоминания о которой попадаются нередко в дневниках. Но, когда он пришел в возраст, познакомился с жизнью и понял, что насильственно и бесчеловечно лишен многих ее радостей, отвращение и ненависть к брату и окружавшим его скопцам проснулись в нем, и он без средств, тайком убежал из дому и не хотел вернуться, несмотря ни на угрозы, ни на ласковые зазывания. Брат негодовал, пробовал вернуть беглеца через полицию и заставить жить у себя, хотел лишить его наследства, но внезапно скончался… Николай Солодовников сделался обладателем большого состояния. Размеры его в точности неизвестны. Свидетели определяют его в сумме от 3 до 6 млн. ассигнациями; Любавин, который близко знал денежные дела покойного и в интересах которого, как друга подсудимого — не преувеличивать состояния Солодовникова, а также биржевой маклер Безценный, знавший покойного с малолетства, говорят о 5 млн. На этой сумме, полагаю, можно и остановиться. Она не вся состояла из денег. В нее, по рассказам Солодовникова своему племяннику, входили дом на Конногвардейском бульваре, проданный впоследствии князю Кочубею за 260 тыс. руб., два корабля, товары.
Николай Солодовников был оскоплен, но не был скопцом по понятиям и привычкам. Он был чужд угрюмому скопидомству своих собратий по увечью и их ограниченному взгляду на «мирскую прелесть». В нем, первоначально, были признаки так называемой широкой русской натуры, в нем развивались художественные вкусы. Вступив властителем в жилище старого скопца, он удалил из него всех приспешников своего брата, щедро наградив двух его приказчиков, — Тименькова и Фролова, которым подарил миллион. Затем пошла жизнь в довольстве и несколько шумная. Явились дорогие лошади, изящная обстановка. Солодовников пристрастился к театру, к музыке — и стал стремиться к дружеским отношениям с артистами, собирая их у себя, помогая им в нужде. Его высокая, тучная фигура, с моложавым, безбородым, обрюзгшим лицом — мы имеем в деле его фотографический портрет — стала обычною принадлежностью первых рядов кресел в бенефисы — и веселый хохот, песни и шутки стали, далеко за полночь, оглашать непривычные стены старого скопческого «корабля»… Он скоро прекратил активную торговую деятельность и, потеряв на сале около миллиона ассигнациями, ликвидировал свои дела. У него все-таки осталось довольно — и недаром он в пятидесятых годах показывал Куликову мозоли на пальцах от стрижки купонов, а в половине шестидесятых, уже после потери за торговым домом Подсосова сыновей до 500 тыс. руб., заявлял доктору Гессе, что стыдится получать выигрыши по билетам внутренних пятипроцентных займов. Быть может, в этом была известная доля преувеличения, но, во всяком случае, документально удостоверено, что после постройки церкви на Валааме, стоившей, как сообщает настоятель обители, до 50 тыс. руб., у Солодовникова было одних пятипроцентных банковых билетов на 169 тыс. руб., не считая ни наличных денег, хранившихся на текущем счету у Любавина в размере до 30 тыс., ни билетов внутреннего займа, которых должно было быть не мало, чтобы его могли смущать падавшие на них выигрыши. Поэтому, рискуя значительно уменьшить размер его состояния, мы можем, без всякой боязни преувеличить, признать, что в половине шестидесятых годов у Солодовникова не могло быть менее 200—250 тыс. руб. капитала, не считая дачи, городского дома и вещей, между которыми была, например, икона, стоимостью до 15 тыс. руб. Едва ли он мог проживать и половину доходов, получаемых с этого капитала. Дело в том, что с начала шестидесятых годов Солодовников был уже не тот, каким знал его театральный мир Петербурга. Хлебосольный меценат, тароватый театрал и помощник в нужде, заседатель надворного суда, отдававший свое жалованье бедным чиновникам и на улучшение пищи арестантам, — к этому времени, мало-помалу, обратился в замкнутого в себе, нелюдимого и подозрительного скупца. Дневник, идущий с начала пятидесятых годов, веденный с точностью торговой книги, дает возможность проследить, как постепенно совершилась эта перемена. С первых же его страниц мы видим, что роль покровителя искусств и друга артистов перестает удовлетворять Солодовникова. Ему надоел этот вечный шум и эта дружба, из-за которой проглядывает эксплуатация. От базара житейской суеты его мечты обращаются к тихой семейной жизни. В них сказывается жажда любящего сердца. «Молитва одинокого, — читаем мы в дневнике,— просьба и требование, молитва семьянина — благодарность!» «Добрый взгляд от доброй женской души,— говорится в другом месте, — это получше, чем хорошо сыграть свою роль, — да только оно редко». Но печальное сознание своего непоправимого физического убожества стоит рядом с этими мечтами и умерщвляет их в зародыше. Хотя Сусленников и повествует здесь весьма неправдоподобно о предложении Солодовникова жениться на близкой ему женщине, хотя в дневнике и встречаются два имени с прибавлением загадочных эпитетов и ласкательных названий, но, по-видимому, Солодовников становился лишь жертвою корыстолюбивого кокетства и расплачивался за свои «бескрылые желанья» дорогими подарками и безвозвратными ссудами. С 1854 года в дневнике все чаще и чаще встречаются злобные выходки против людей, которые «только и норовят поживиться, так и глядят тебе в карман — лгунишки бесстыдные». «Приходил сегодня поздравить и узнать о здоровье, — пишет он об одном из недавних приятелей, — знаю я, какое тебе здоровье нужно, хитрая рожа: нельзя ли опять взять? Помучил его, предложил чаю, а в разговоре будто ничего не понимаю…» Он, очевидно, ищет, чем бы наполнить пустоту и унылость своей жизни: пристращается к лошадям, ездит на бега — и через год распродает всю свою конюшню; заводит дорогих и редких голубей, строит им голубятню, восторгается их шумящим полетом — и сразу прекращает эту забаву, этот наследственный отголосок привычек молодых купеческих парней… Нужно найти берег, к которому можно бы пристать, нужно в чем-нибудь найти себе прочную, не зависящую от людей, отраду… И вот, по страницам дневника можно проследить, как загорается и постепенно разгорается у Солодовникова религиозное чувство. Руководимый, по-видимому, Куликовым, он начинает тщательно исполнять обряды церкви: читает жития святых, восхищается святою простотою жизни старца Саровской пустыни Серафима, делает выписки из «подражаний Христу» и начинает странствовать по монастырям. Особенно его привлекает далекий Валаам. Там — величавая природа, в связи со строгим монастырским уставом обители, руководимой деятельным игуменом Дамаскиным, так успокаивают и смиряют его душу, что он решается прожить при монастыре целый год и строит на выдающемся в озеро утесе церковь. И в дневнике за это время отчет о пестрых и болезненных впечатлениях городской жизни сменяется примирительными и умиленными страницами. Но случилось, однако, одно обстоятельство, которое изменило все душевное настроение Солодовникова. Он собирался на короткий срок в Петербург и зашел помолиться в свою церковь, где, по словам дневника, «залюбовался отделкою, от души и с умилением молился— и в церкви, и на паперти, благодаря бога за все оказанные ему милости, так что пошел домой совершенно довольный и счастливый…» Дома его встретил отец Дамаскин и, после пожелания счастливого пути и скорейшего возвращения, дал ему прочесть бумагу, где излагались предположения, что можно сделать и устроить в монастыре, если он, Солодовников, пожертвует еще миллион. Игумен Дамаскин, человек замечательный по своей энергии и строгой жизни, возродивший обитель и упрочивший ее славу, вероятно, принял решимость Солодовникова жить при обители за бесповоротный разрыв с миром и потому желал средства его положить в основу новых церковных и хозяйственных улучшений. Но предложение это, в связи с каким-то неловким и обидным намеком на скопчество Солодовникова, попало на больное место и вдруг, сразу» пробудило в нем всю его утихшую на время недоверчивость и подозрительность. Он «чуть не выронил бумагу из рук, но пересилил себя и был, на этот раз, иезуитом». Уехав затем из монастыря навсегда, он записывает в дневник на пароходе: «Хорошо было мое положение!.. Ну, денек! Долго буду его помнить, да едва можно и забыть… Так вы мною гнушаетесь, я проклятый скопец — и допускали меня не ради грешной души моей, а вот он — миллион вам мой нужен!» Все спокойствие духа покинуло его, и вместо молитвенных воззваний дневник в течение нескольких дней наполняется выражениями негодования и даже бранью. Разрыв был полный. Он подтверждается сообщением игумена Дамаскина судебному следователю уже после смерти Солодовникова. «Вскоре по освящении церкви, — пишет настоятель, — Солодовников перестал посещать монастырь, и хотя монастырь, исполненный к нему чувством признательности, несколько раз впоследствии и обращался к нему с письменными приветствиями, но Солодовников никогда не отвечал и не принимал никого из монастырских братий». Этот несчастный эпизод глубоко повлиял на Солодовникова: по приезде в Петербург он ведет очень замкнутую жизнь, значительную часть года проводит на даче, огороженной высоким глухим забором, и, прервав почти все знакомства, доживает свой век в полном одиночестве, ворча на прислугу, сокращая расходы до невозможности и пугая детей,, забиравшихся в сад с дозволения садовника, своим мрачным видом и криком… Дневник обращается в скучную запись однообразных проявлений ежедневной бесцветной жизни; скупость и даже скаредность сквозят на каждой странице и совсем вытесняют прежние проблески проницательного ума и искреннего чувства.
Охладев к прежним стремлениям, Солодовников заперся ото всех, кроме Куликова и Гессе, и нужны бывали их настояния, чтобы этот человек, начавший дрожать над каждою копейкою и державший единственное родное лицо, племянника, вдали от себя и в черном теле, хоть немного улучшил бы свою ежедневную пищу, к которой полагалось бутылка квасу — на два дня. Сторонясь ото всех, тщательно оберегая маленький железный сундучок, запертый в комоде, Солодовников умер так же неожиданно; как и его брат. Горькая судьба его, постепенно разбившая все, чем он думал скрасить свою изуродованную жизнь, и поселившая, на старости, мрак и холод в его когда-то доброй и доверчивой душе — и после смерти его не смягчилась над ним! Он долго пролежал в том же положении, в каком умер, повернувшись лицом к стене,— и лишь когда ©кончено было опустошение, предпринятое вокруг него, подсудимый перевернул его на спину и сложил ему застывшие руки крестом. Не было над ним ни слез, ни горького молчания родной души. Не воцарилась вокруг него торжественная тишина, таинственно внушаемая смертью… Вокруг него курили, дымя не его «мужицкими», а «барскими» сигарами господина Любавина, и когда, благодаря невниманию дворников, обмывавших его труп, он ударился головой об пол, ему было с насмешкою сказано: «Что? Теперь не видишь, а летом все замечал и ругался»…
Я упомянул об опустошении, которое совершалось вокруг мертвого Солодовникова. Мне представляется несомненным, что оно произошло. Те средства, которые имел Солодовников в средине шестидесятых годов и которые причиняли его рукам мозоли, а его душе стыд по отношению к выигрышам, могли только возрасти, но никак не иссякнуть. Стоит припомнить образ его жизни в последние годы, его скупость, его скаредность, по выражению одного из свидетелей. Всякий скупец страдает своего ро-: да ослеплением. Он меряет одним масштабом и свое золото, и свои дни. Ему обыкновенно кажется, что по мере того, как растет это золото, растет и количество дней, отсчитанных судьбою. То же было, как видно, и с Солодовниковым. Он сберегал, оберегал и копил деньги, отказывая себе даже в хорошей пище и свежем квасе. В его замкнутой жизни и не могло быть никаких особых затрат. Поэтому его капитал, во всяком случае, не мог уменьшиться. Это очевидно и не требует дальнейших доказательств. Между тем, этого капитала не оказалось ни налицо, ни на хранении при производстве описей судебных приставов, начатых чрез четыре дня после смерти обладателя, имущество которого было опечатано полицией лишь чрез десять часов после обнаружения его кончины. Отчего так поздно — вопреки закону и обычаю? Оттого, что полиции дано было знать не тотчас, а лишь через 8 часов по смерти, так как находившийся при умершем Сусленников запретил садовнику, дворникам и слуге это делать раньше, внушив им вообще молчать о случившемся.
Кто же этот Сусленников, который, лишь съездив в город и привезя приятеля, разрешает уведомить полицию? Я друг покойного, — заявляет он сам о себе,—и друг стародавний, с 1843 года. Без меня, говорит он, Солодовников не мог ни есть, ни пить, меня одного любил он, никого не любивший, меня встречал с радостью, мне доверял вполне и безусловно. Хотелось бы верить этому: хорошая и прочная дружба в наше время — вещь редкая! Но звание друга как-то противоречит поведению Сусленникова тотчас после того, как многолетние добрые отношения порваны смертью. Брошенное на произвол прислуги тело, суетливая беготня по дому и вся обстановка обмывания как-то не вяжутся с естественным огорчением верного и любимого друга, который, имея, по собственным словам, мягкие руки, ежедневно натирал разными мазями то самое тело, над которым, в присутствии этого друга и куривших посетителей, глумились стукнувшие его головою об пол дворники… А где есть противоречие, там законное место сомнению. Под влиянием этого сомнения вспоминается нам многое, выслушанное здесь, на суде.
Где, в самом деле, указания на необходимые свойства дружбы в отношениях Солодовникова к Сусленникову, где уважение, доверие, забота о друге? Солодовников, по словам подсудимого, будто бы предлагал ему за деньги жениться на своей «содержанке», считал его — в разговоре с Куликовым и Гессе — человеком, готовым на все и способным его задушить, и, выражая нежелание оставлять его у себя ночевать, применял к нему названия, из которых «разбойник» еще было не худшим. Таково уважение к нему Солодовникова. Посмотрим на заботу о нем, на любовь к нему. Сам Сусленников заявляет здесь, что покойный друг его обращался с ним тиранически, радовался расстройству его дел и держал его на семи рублях в месяц жалованья, возлагая на него самые разнообразные поручения. Доктору Гессе последний, ругая подсудимого, говорил, что собирается прогнать его и что отпустит его «без штанов, как крысу»… Покойный был болен долго, мог и должен был, хотя бы по временам, ожидать смерти, а между тем мы не находим ни малейшего следа завещательных распоряжений в пользу осиротелого друга… Такова забота о Сусленникове.
Взглянем на доверие. Хотя то, что мы знаем о степени уважения Солодовникова к подсудимому, могло бы служить и для оценки степени доверия к нему, но нельзя, однако, обойти фактов, указываемых им здесь. Итак, прежде всего — поездка в Москву для вручения таинственному старцу таинственного пакета с деньгами, зашитого собственноручно Солодовниковым в карман Сусленникова. По рассказу подсудимого, это произошло во время производства, в Моршанском уезде, дела об известном скопце Плотицыне, так что приходится заключить, что или Солодовников боялся своего привлечения к скопческому делу, или же оказывал тамбовским скопцам, находившимся, вследствие ареста их главы и покровителя, в удрученном положении, материальную помощь. Но ни того, ни другого быть не могло. Из следственного дела видно, что показание Солодовникова о насильственном оскоплении его в отрочестве братом вполне подтвердилось и что не только всякое производство о нем было прекращено, но что император Николай, в справедливом участии к судьбе несчастного, повелел не чинить ему никаких препятствий в пользовании теми правами, которых заведомые скопцы, по закону, лишены. И вы знаете, что в начале пятидесятых годов Солодовников служил в выборной должности заседателя надворного суда. Следовательно, ему лично нечего было бояться, когда над виновниками его увечья, над скопцами, разразилась судейская буря. По этой же самой причине, не имея с ними ничего общего, он не мог и принимать какого.-либо материального участия в их судьбе — и когда же? в последние годы своей более чем расчетливой жизни… Весь этот рассказ несомненно вымышлен.
Затем нам могут указать, что доверие выразилось в поручениях окончить дело у мирового судьи и продать бриллианты из иконы св. Николая Чудотворца. Но. доверие по делу с обиженною кухаркою было вынужденное: не дворника же или садовника посылать в заседание? Да и это доверие было, если верить словам самого Сусленникова, им обмануто. Он утаил, что кухарка просила всего 100 руб. «бесчестья» и что ей в иске отказано, а ограничился глухим указанием, что «покончил» дело, оставив Солодовникова в уверенности, что на это окончание дела пошли данные ему 10 тыс. руб. серебром. Он здесь говорит, что Солодовников их молчаливо дал ему в награду, не спросив об условиях примирения. Но этому противоречит его же собственный рассказ о том, что, узнав, накануне смерти, об удержанных Сусленниковым деньгах, Солодовников радостно и на коленях благодарил бога, не допустившего его умереть должником своего друга. И если мы поверим трогательной картине, изображающей умиравшего от водяной в груди и в ногах стоящим на коленях, то тем самым мы признаем, что он считал 10 тыс. руб. ушедшими на окончание дела, а не в карман Сусленникова, т. е. что он был обманут. А если не поверим этой картине, то в интересах самого подсудимого лучше всего это доказательство доверия оставить без рассмотрения.
Что же касается драгоценной иконы, из которой были вынуты бриллианты, то рассказ о поручении Солодовникова вынуть их и продать, причем скупой, «тиранический» старик даже и не спросил о результате своего поручения, разлетается как дым ввиду позднейшего рассказа того же Сусленникова о том же поручении, сделанном уже наследником умершего, Василием Солодовниковым, три месяца спустя. Оба рассказа противоречат один другому и служат очень зыбким основанием к заключению о доверии, Одно из них вытекает, однако, несомненно, если только не отвергнуть оба, как лживые, — это то, что в каждом из этих случаев подсудимый не отдал вырученных денег доверителям и после смерти каждого окончательно присвоил их себе.
Итак, вот в каком виде представляется дружба Солодовникова с подсудимым. Ее размер и свойства дают возможность оценить истинное достоинство повествований Сусленникова об источнике его обогащения. Мы знаем, что до смерти Солодовникова он был в весьма незавидном материальном положении. Комната в Петербурге и 7 руб. жалованья в месяц, с обязанностью ездить на дачу — вот все, что имел он. Недаром Солодовников грозился, что он уйдет от него, как и пришел, «без штанов»… Когда началось дело о расхищении имущества, следственная власть долго медлила привлечением .Сусленникова. Эта медленность, могшая иметь, по-видимому, неблагоприятные для правосудия последствия, оказалась, однако, весьма полезною. Сусленников, успокоившись за свою судьбу, никем не тревожимый, уверенный, что дело будет предано «воле божией», ободрился, встрепенулся и начал свои обороты, так что когда произвели у него, через семь месяцев по смерти Солодовникова, обыск, то он оказался богатым человеком.
Вы слышали, что у него нашли на 40 тыс. руб. векселей, счеты, указывающие на обладание пятипроцентными банковыми билетами на 35 тыс. руб., а в наличности 950 руб. и на 7 тыс. тех же пятипроцентных билетов. Векселя выданы ему и обороты с пятипроцентными билетами произведены уже после смерти Солодовникова. Он заявляет нам, что состояние его составилось из 10 тыс. руб., утаенных в 1868 году при окончании дела с обиженною кухаркою, и из 15 тыс. руб., данных Солодовниковым накануне смерти в благодарность за службу и дружбу. К этим деньгам, согласно его последним объяснениям, надо прибавить еще около 3800 руб., вырученных за кольцо Покойного и за бриллианты с образа. Итого 28800 руб. Посмотрим на это объяснение сначала с цифровой стороны. Сусленников до смерти Солодовникова ничего не имел, кроме 10 тыс. Через семь месяцев после этой смерти у него около 83 тыс. Откуда же взялось свыше 54 тыс. руб.? Этого он объяснить не может. Предположим, что часть этой суммы, даже половина ее, отдана под векселя— все-таки откуда же взялись лишних 27 тыс.? Притом значительная часть векселей писана ранее, чем счеты на продажу пятипроцентных билетов, а с начала следствия, с первого допроса обвиняемого еще в качестве свидетеля, прошло семь месяцев, и в это время, на всякий случай, наличность можно было поместить в верные руки безопасно и для постороннего взора — бесследно. Наконец, были же в этот промежуток и расходы. По словам подсудимого, он истратил на содержание дачи и дома 3 тыс. руб. и с осени прошлого года повел, по показанию свидетеля Мосолова, жизнь на широкую ногу, стал ездить в Москву в спальном вагоне первого класса и т. д. Таким образом, цифры плохо вяжутся с рассказом о щедрости Солодовникова: они ее далеко превышают…
Посмотрим на способ происхождения этих средств согласно тому же рассказу. Вы уже знаете, господа присяжные, покойного Солодовникова и, конечно, так же как и я, сомневаетесь в такой несогласной с его характером щедрости. В самом деле, как мало похожа на покойного подобная щедрость! Считать и учитывать каждую копейку, во всем себе отказывать — и забыть про 10 тыс., мучаясь в то же время при мысли, что можно наградить друга лишь 15, а не 25 тыс., как бы следовало; жить для себя, думать исключительно о себе — и оставлять на расходы по смерти всего 28 руб.; всю жизнь быть аккуратным и деловитым, а вместо завещания с торжественным признанием услуг ближайшего человека—сунуть ему деньги тайком, без свидетелей этой щедрости… это все совершенно неправдоподобно! И притом, разве Солодовников мог знать, что в ту же ночь умрет внезапно, один, беспомощно, чтобы лишить себя этой денежной наличности, которую имеет? И почему же Сусленников не поспешил рассказать о своем счастии окружающим, как предупредительно рассказывал о том впоследствии Мосолову и другим, мало знакомым лицам. Наконец, выходит, что покойный отдал Сусленникову всю свою наличность, а отдал он будто бы 15 тыс. руб. Но друг и советник подсудимого Любавин настойчиво заявлял здесь, что Солодовников получил свои 30 тыс., бывшие на текущем счету, еще в мае. С мая Солодовников никуда не выезжал, виделся лишь с доктором, которого, по словам подсудимого, не любил и которому ничего не оставил, В августе он умер. Ужели он прожил в три с половиною месяца 15 тыс. руб.? Ужели он, жизнь которого мы знаем, проживал до 50 тыс. руб. в год?
Затем последнее замечание по этому вопросу. Сусленников облагодетельствован, его служба оценена, но благодетель, поблагодарив «Яшу» за то, что тот утаил 10 тыс. и тем «успокоил» его последние минуты, замолк навеки… Чего же суетится так этот облагодетельствованный, бросает покойного без призора, рыщет по городу и ведет себя сам и позволяет другим вести себя около усопшего без всякого уважения к месту и событию? Что такое таскает он под полою, сторонясь от доктора Гессе? Что такое засовывает он себе под пиджак, не замечая следящего за ним из другой комнаты Колосова? Почему он бегает из спальни умершего к себе наверх? Чего он ищет в комоде и ящиках, отпирая их разными ключами? Где, если не скорбь друга, то благодарность только что одаренного; где, если не благодарность, то простое приличие поведения самого развитого из домочадцев покойного!? Он отрицает свои похождения в утро обнаружения смерти Солодовникова, но перед нами точные, ясные и совершенно определенные показания Колосова, дворников и садовника, которому, посланному впоследствии известить полицию, он подарил искусственную челюсть умершего, проданную за 25 руб. Показания эти подкрепляются словами Гессе и пустотою в денежных хранилищах Солодовникова. Где записные и расходные книги хозяина, который «все замечал и за все бранился», веденные подобно дневнику, из года в год, в величайшем порядке? Они исчезли бесследно, а вместо них явилась какая-то расписка Любавина на 7 тыс., против которой он «не хотел спорить», несмотря на то, что текущий счет Солодовникова был исчерпан еще в мае. Поэтому я верю показаниям этих свидетелей, верю и тому, что подсудимый жаловался Колосову, что его трясет лихорадка… Это была, вероятно, лихорадка стяжания.
Но — скажут нам — вы забываете, что Сусленников явился к доктору Гессе и заявил, что ему дали знать в город о смерти Солодовникова. Это я имею в виду, но имею в виду и то, что он знал, что Гессе дежурный по больнице и отлучиться не может, о чем сам, накануне, бывши на даче, заявил Сусленникову и больному. Поэтому приезд Гессе на дачу, где уже снова был подсудимый, привезший и Любавина, был неожиданностью; этому приезду надо, конечно, приписывать снятие запрещения уведомлять полицию и посылку туда садовника Алимпиева.
Подсудимый, думается мне, сам сознавал, что отсутствия правдоподобного объяснения происхождения его капитала и отрицания раскрытых следствием фактов — мало. Поэтому он расширяет свои оборонительные работы и делает вылазки против свидетелей. Надо доказать, что похищать было нечего, ибо средства Солодовникова ушли на какое-то таинственное назначение — и вот является повествование о загадочном московском старце. Но мы уже видели, что этот рассказ есть плохо обдуманный вымысел. Надо доказать, что свидетелям верить нельзя — и является рассказ о краже кольца покойного Колосовым.
0 пропавшей у него жилетке, в кармане которой было «достаточно», делаются намеки на небескорыстное отношение Куликова и Гессе к своему куму. Но если перстень был действительно украден Колосовым, то зачем же Сусленников дал за него 50 руб. и сам его перепродал за 1600 руб., а не отобрал просто, да еще пригрозив, не отдал наследнику? Простое объяснение Колосова разбивает и историю о зашитых в жилетке капиталах. В ней было 70 руб., накопленных от жалованья. О потере их он и плакался прачке. Если он такой нечистый на руку человек, то зачем же Любавин, по просьбе Сусленникова, предлагал ему у себя во всякое время место? Правда, Любавин потом не дал места, но это произошло после показания Колосова у следователя, причем он обнаружил не всегда удобную привычку любопытствовать и болтать о результатах своего любопытства. Признавая вполне понятным ожидание, что богатый и одинокий старик оставил что-нибудь своим крестникам, и не видя в этом ожидании никакого подрыва правдивости показаний Куликова и Гессе, обращаюсь, наконец, к иконе св. Николая Чудотворца. Проданные Иванову бриллианты подарил капельмейстер Лядов, говорил сначала Сусленников, 15 апреля. За что? Надо спросить Лядова… Но Лядов умер 1 апреля. Ссылка на мертвого редко бывает успешна и никогда не возбуждает полного доверия. А тут еще оказывается, что ювелиру Иванову продано около 427 г каратов, а по экспертизе Гау — из иконы вынуты именно от 40 до 45 каратов. Тогда дается другое объяснение. Бриллианты вынуты по приказанию Солодовникова, пред его смертью, но не отданы, в ожидании переезда в город. Но оказывается, что бриллианты заменены стразами почему-то не все и что это сделано в ноябре. А Солодовников умер в августе. И вот является третье объяснение: бриллианты просил вынуть наследник, Василий Солодовников, нуждавшийся в деньгах до ввода во владение наследством и полагавший, что монахам в Валааме, куда предназначался образ, все равно, будут ли в нем бриллианты или стразы. Подсудимый не мог дать денег — и продал бриллианты, но денег не отдал. Почему не мог дать наследнику денег? Ведь он только что получил от покойника 15 тыс. и долг был бы обеспечен охраненным имуществом, домом, дачею… Почему, наконец, не отдал вырученных денег? И это объяснение, сшитое белыми нитками, является здесь лишь впервые — и, главное, опирается на мертвого, ибо Василий Солодовников тоже умер… Вообще, что за странное отношение у подсудимого ко вверяемым ему деньгам! Он все ждет удобного случая, чтобы отдать их, — и все никак не соберется, покуда смерть, наступающая или наступившая, не избавит его от этой горестной обязанности. И 10 тыс., предназначавшиеся будто бы кухарке, и вырученное из хищнических рук кольцо, и деньги за бриллианты — все это не отдано своевременно тому, кому следовало по праву…
Однако довольно. Дело это, по моему мнению, должно быть ясно вам, господа присяжные, и его незачем далее разъяснять. Я обвиняю Сусленникова в том, что, воспользовавшись смертью Солодовникова, он похитил, насколько мог, его имущество, — на большую сумму, во всяком случае, во много раз превышающую 300 руб., о которых говорит карательный закон.
Подсудимый говорит, что одним из оснований любви к нему Солодовникова было то, что у него мягкие руки, удобные и приятные для растирания. Быть может, ваш приговор докажет, что у него руки не только мягкие, но и длинные…
ПО ДЕЛУ О ПОДЛОГЕ РАСПИСКИ В 35 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМ ОТ ИМЕНИ КНЯГИНИ ЩЕРБАТОВОЙ*
Господа судьи, господа присяжные заседатели! Дело, подлежащее нашему обсуждению, и по свойству преступления, и по его сложности выходит из ряда дел обыкновенных. Преступления, принадлежащие к разряду многообразных подлогов, отличаются от большинства других преступлений, между прочим, одною резкою характеристическою чертою: в большей части преступлений обвиняемые становятся более или менее в явно враждебные отношения к лицу потерпевшему и действуют поэтому, не всегда имея возможность тщательно обдумать все эти поступки, все предусмотреть, что нужно устранить, и обставить свои действия так, чтобы потом, в случае преследования, предстать, по-видимому, чистыми и по возможности неуязвимыми; напротив, преступление подлога совершается всегда путем длинного ряда приготовительных действий и почти всегда таким образом, что виновный имеет возможность обдумать каждый свой шаг, предусмотреть его последствия и рассчитать все шансы успеха. Кроме того, это последнее преступление не совершается никогда под влиянием кратковременного увлечения, под давлением случайно и нежданно сложившихся обстоятельств, но осуществляется спокойно и, так сказать, разумно. Существенный признак этого преступления составляет обман, в который вводятся лица, против которых направлен подлог. Поэтому очень часто бессознательным помощником, пособником, средством для совершения подлога является тот, против кого он совершается, является лицо слишком доверчивое, мало осторожное. Иногда такое лицо своею неосмотрительностью помогает обвиняемому, само прикладывая руку к своему разорению, как это было и в настоящем деле. Вот почему подобного рода преступление представляет для исследования подчас большие трудности и они увеличиваются еще и тем, что подлог совершается большею частью в обстановке, исключающей всякую возможность добыть свидетелей самого содеяния тех действий, в которых выразилась преступная мысль обвиняемого. Поэтому в таких делах, быть может, более, чем в каких-либо других, необходимо вглядеться в житейскую обстановку участвующих в деле лиц, посмотреть на их взаимные отношения, разобрать и оценить их. Прежде чем приступить к разбору улик, следует постараться вывести из оценки этих’ отношений возможность или невозможность совершения тех деяний и происхождения тех обстоятельств, которые подали повод к возникновению вопроса о преступлении. Поэтому и в настоящем случае я прежде всего обращаюсь к бытовой стороне данного дела. Краткий очерк личности и обстановки как княгини Щербатовой, так и подсудимых должен ответить на вопрос о том, действительно ли мог быть совершен в настоящем случае подлог.
Первый вопрос, возникающий при рассмотрении дела с этой точки зрения, есть вопрос о том, существовали ли между княгинею Щербатовою и подсудимым Торчаловским такие отношения, которые давали бы основания к сделке, по поводу которой возбужден вопрос о подлоге, вынуждающий нас разбирать настоящее дело? Возможно ли, по существовавшим между княгиней Щербатовой и Торчаловским отношениям, чтоб она дала Торчаловскому документ, по которому обещалась заплатить ему 35 тыс. руб. по первому требованию за его почтительность в качестве посаженого сына и за его особенное усердие в управлении ее делами? При разрешении этого вопроса неизбежно приходится обратиться к личности покойной княгини Шербатовой. Мы имели перед собой группу разнообразнейших свидетелей. Они в резких и выпуклых чертах изобразили всю домашнюю обстановку и самую личность княгини Щербатовой. Каждое из этих показаний, начиная с правдоподобных до грубости показаний мирового судьи и кончая наивно-достоверным показанием Константиновой, каждое прибавляет новую черту, новое освещение к личности княгини Щербатовой, и благодаря этим показаниям эта личность, так сказать, встает из гроба и оживает пред нами во всей своей непривлекательной оригинальности. Княгиня Щербатова — женщина простого звания, бывшая за тремя мужьями, повышавшаяся чрез замужество по общественной лестнице и дошедшая до титула княгини, чуждая какого-либо воспитания, — последний год жизни проживала в своем обширном доме по Захарьевской улице в Петербурге. Ей шел восьмой десяток, так как она вышла замуж еще в 1812 году. Она не знала грамоте, ничего не могла читать и умела только подписывать свое имя, так что с принятием титула княгини, по показанию свидетельницы Константиновой, приживалке Настасье Николаевне стоило немалых трудов выучить ее подписываться своим новым званием и фамилиею. Имея молодого и цветущего мужа, носящего громкий титул и почти безвыходно пребывающего в долговом отделении, княгиня обладает довольно большим состоянием, но не пользуется ни одним из удобств, даваемых большими средствами; она проживает в среде приживалок, компаньонок к разных приближенных старушек, которые льстят ей, пользуются крохами, падающими с ее скудного стола, и терпеливо облепили ее со всех сторон в надежде на будущие блага. Княгиня подвержена, по словам Бартошевича, «семи болезням», но любит наряжаться, хвастается и величается своими бриллиантами, как ребенок игрушками, постоянно преувеличивая их стоимость. Но в то же время облеченная в свои наряды и бриллианты, она требует грошей от своей доверенной «Маруськи» и сама покупает молоко, которое хранит у себя, в спальне, боясь, чтобы ее не обсчитала ключница. Соединение мелкой скаредности и скупости, доходящей, как выразился один свидетель, «до гадости», с желанием молодиться, с суетным тщеславием и с отсутствием всяких семейных отношений к купленному мужу, возвращенному обратно в долговое отделение по миновании надобности, — вот выдающиеся черты характера княгини Щербатовой, Мы знаем много примеров ее скупости; свидетели постарались обрисовать эту сторону ее натуры. Благодаря им мы узнали, между, прочим, что если она решалась казаться почему-либо доброю и кому-нибудь помогала пустяками, то эта помощь разрасталась в ее рассказах до огромных размеров и немедленно оглашалась по всему дому. Невольно возникает вопрос: возможно ли, чтобы такая женщина решилась подарить 35 тыс. руб. подсудимому Торчаловскому? Полагаю, что на этот вопрос приходится отвечать только отрицательно. Это невозможно ни по главным чертам ее характера, ни по тем общим свойствам, которые присущи большинству людей. Уменье оказывать милосердие, творить добро украдкою и делать благодеяния так, чтобы правая рука не знала, что делает левая, одним словом, — способность оказывать помощь ближнему без особых разговоров о своем деле и не взимая, так сказать, процентов в виде чужой признательности — удел не многих натур и требует тонкого духовного развития. Такие люди, конечно, попадаются в жизни, но в большинстве случаев бывает не так, и, к сожалению, очень часто благодеяния носят в себе неизбежную горечь оглашения и самовосхвалений благодетеля, а подчас — и его попреков. И княгиня Щербатова, насколько мы с ней познакомились, не должна была быть свободна от этого свойства. Возможно ли, чтобы она, повествовавшая на весь дом о каждом рубле, кому-либо данном, хваставшая каждой мелкой жертвой, собиравшая жадною рукою медные гроши, возможно ли, чтобы она пожертвовала 35 тыс. руб. или выдала расписку в эту сумму, зная, что у ней могут затем потребовать эти деньги каждую минуту? Стала ли бы об этом молчать и скрывать свою щедрую подачку она, которая окончательно прогнала мужа от себя за то, что он продал подаренную ею шубу, и, держа его в долговом отделении, дозволяла описывать свое имущество по иску в 5 тыс. руб., между тем как у ней были обширные средства для уплаты? Ужели такая женщина подарит 35 тыс. руб., не говоря об этом никому ни одного слова, не требуя затем от получившего подарок никаких знаков особого, исключительного уважения, не указывая на все сделанное окружающим, которые, глядя на княжую щедрость, стали бы еще более почтительны, еще более покорны и сладкоречивы в надежде и сами получить соответствующую награду за свою службу? Даже Константиновой, этой верной слуге, которой она постоянно говаривала, что не забудет ее, она ничего, однако, не оставила, а между тем Торчаловскому, услугами которого была недовольна, подарила 35 тыс. руб. Этого, очевидно, не могло быть. Княгиня Щербатова была бы в этом случае не верна самой себе. А она была человек в своем роде цельный и последовательный.
Перехожу к Торчаловскому. Торчаловский впервые является около княгини Щербатовой, тогда еще Барышниковой, в 1849 году. Незначительный чиновник, он пользуется покровительством богатой генеральши, просит ее быть его посаженой матерью и затем получает у ней в квартире каморку около кухни и пищу с ее стола. Но генеральша или генерал, для нас это в настоящем случае безразлично, не дают своего покровительства даром, и вследствие этого однажды Торчаловский посылается поторопить запряганье лошадей, — его чиновная гордость оскорбляется, он не идет и его прогоняют. Несколько лет о Торчаловском не слышно, но затем, в 1859 году, он является уже управляющим имением княгини Щербатовой в Черниговской губернии. Каким образом это сделалось — нам неизвестно, но, судя по тому, что мы слышали на судебном следствии о личности Торчаловского, нет ничего удивительного, что он снова вкрался в милость княгини. Он обрисован различными свидетелями так, что его нельзя не признать человеком умным, житейски опытным и ловким, прежде всего ловким. Таким очертил его и мировой судья Майков. Обладая такими свойствами, Торчаловский успевает снова помириться с генеральшею Барышниковою. Он управляет ее имением, однако недолго — с 12 ноября 1859 г. до 25 мая 1860 г., всего около полу-года. Чрез полгода будущая княгиня Щербатова опять его прогоняет и, по словам свидетелей, «ругательски его ругает» за то, что он поступил с ней дурно и не оправдал ее доверия. При этом рассказывается о каком-то доме, построенном из ее леса. Торчаловский заявляет, что все это неправда, так как он служил хорошо, причем лучшим доказательством его ревности к хозяйству покойной княгини может служить представленный им к делу документ, состоящий из одобрительного свидетельства, выданного ему крестьянами черниговского имения Щербатовой и местным церковным причтом. Но, вглядываясь в этот документ, приходится признать, что представление его Торчаловским отчасти подтверждает тот отзыв княгини Щербатовой, о котором сейчас было упомянуто. Во-первых, документ этот выдан Торчаловскому слишком через полтора года после того, как он оставил службу у княгини, тогда, когда он уже служил в Петербурге в департаменте герольдии *, и выдан ему по его письменной просьбе. Для чего ему понадобилось подобное свидетельство? Если оно выдано ему для поступления на государственную службу, для того, чтобы показать себя с хорошей стороны в глазах будущего начальства, то для этого едва ли достаточно подобного удостоверения, которое обличает только хозяйственные способности Торчаловского. Но надо полагать, что этих качеств вовсе не требовалось для него для прохождения государственной службы по ведомству герольдии, тем более, что в ней он оставался и впоследствии, несмотря даже на возбуждение против него обвинения в подлоге. Если ему нужно было зарекомендовать себя во мнении частных лиц, то в таком случае не проще ли было бы достать подобный документ прямо от хозяина, у которого он служил, достать одобрительный аттестат от княгини Щербатовой, а не от крестьян или местного причта? Что такое в самом деле это свидетельство? В нем крестьяне говорят, что такой-то всегда свои обязанности исполнял рачительно и приводил их к повиновению средствами, указанными в законе. Это было в 1861 году, во время переходное, когда крестьян более всего, конечно, интересовало устройство своего собственного быта. Что же значит, что такой-то исполнял свои обязанности рачительно и приводил крестьян к повиновению? Не значит ли это, что он не делал явных злоупотреблений, которые даже чуждыми барскому хозяйству людьми были бы замечены, и не употреблял такого свойства принудительных мер, которые даже при существовании крепостного права были запрещены… В свидетельстве причта удостоверяется, что Торчаловский ни в чем предосудительном не был замечен, но и это свидетельство, при том положении главного управляющего, которое имел Торчаловский в помещичьем селе, при том приниженном и зависимом положении, в котором обыкновенно находится сельский причт не только относительно своих помещиков, но и их управляющих, такое свидетельство, говорю я, не имеет никакого серьезного значения. Да и к чему все эти свидетельства от крестьян, от причта, когда нужно только одно свидетельство от княгини Щербатовой? Но такого свидетельства у Торчаловского нет и быть не могло потому, что княгиня Щербатова не выдала бы такого удостоверения о добропорядочности человеку, которого бранила всем окружающим, и я полагаю, что все эти поздние похвальные листы от крестьян и причта явились именно ввиду жалоб княгини, вследствие желания Торчаловского иметь против ее укоров некоторые документы, которыми на первый взгляд удостоверялось бы, что он вовсе не такой дурной человек, как она об нем рассказывает. Как бы то ни было, но после 1859 года Торчаловский удаляется и является снова лишь в 1869 году. Княгиня Щербатова устарела, ее «мот», как она называла своего мужа, сидит в долговом отделении, напрасно подсылая к своей супруге заступников, ходатайствам которых она не придает никакой цены. Но вот от него является к княгине Торчаловский, который предпосылает себе письмо. Мы слышали здесь это письмо: в нем Торчаловский просит забыть прошедшее, которого более не существует, говорит, что он исправился и «может гордиться в своей сфере и даже быть полезным в сфере высшей». Это письмо, содержащее, между прочим, в себе подтверждение нелестных отзывов о нем княгини, производит, однако, свое действие. Скромное сознание своей вины, указание на провидение и покорный тон письма трогают ее любящее униженную покорность сердце. Он является, его принимают… Второе письмо, которое было прочитано здесь, носит тот же характер. В этом письме княгиня, к которой Торчаловский в первом письме обращался официально, становится для него «милой, доброй мамашей», принимает то священное имя, которого он не произносил уже 20 лет. Торчаловский отказывается от дел князя; он обезоружен добротою княгини, преклоняется перед ее умом и удивляется той верной оценке людей, которую она умеет делать. Он весь, всецело, готов служить ей, насколько хватит сил. Такими медоточивыми речами Торчаловский окончательно возвращает себе расположение княгини. Оно, впрочем, весьма понятно — и Торчаловский верно рассчитал. Княгиня благодаря ему вырастает в собственных глазах. Она — полуграмотная, неразвитая женщина — является замечательно умною, даже более, является глубоко мудрою, которой нельзя не удивляться. Лесть — орудие могучее против людей и потоньше Щербатовой — и Торчаловский благодаря этому орудию снова допущен к делам княгини. Но, однако, на время приобретенное расположение не сопровождается Доверием подозрительной старухи: здесь был дан целый ряд свидетельских показаний, которые удостоверяют, что княгиня более доверяла дворнику Аверьянову, чем Торчаловскому. Вскоре после водворения Торчаловского она уже ворчливо заявляла Бартошевичу, что у ней полон дом жильцов, а денег нет. А затем начинаются и проявление полного недоверия, и те резкие выражения, те бранные эпитеты, которые, по словам свидетелей, выставленных самим же Торчаловским, княгиня употребляла, говоря о нем, — та самая княгиня, которая, по письменному признанию его, умела делать такую верную оценку людям.
Таковы два главных действующих лица в этом деле. Где же указание на то, что между ними существовали такие отношения, которые давали бы возможность предполагать, что одно из этих лиц могло подарить другому 35 тыс. руб.? Таких отношений между ними, очевидно, не могло существовать и не существовало. Но посмотрим затем, не было ли каких-нибудь побочных, посторонних причин, которые могли бы сами по себе вызвать подобную сделку между княгиней и подсудимым. В сделке значится, что 35 тыс. княгиня дает за почтительность к ней Торчаловского в качестве ее посаженого сына и за хорошее управление ее делами. Но почтительность в качестве посаженого сына есть качество очень неопределенного свойства: Надо полагать, что князь Щербатов был гораздо почтительнее к своей престарелой, богатой законной жене, но она и его не пускала к себе и оставляла без гроша сидеть в знаменитом доме Тарасова; притом почтительность Торчаловского ни в чем особенно не выразилась, а если в письмах его содержится изрядная доля льстивых выражений относительно княгини Щербатовой, то вместе с этим целым рядом свидетелей объяснено, что ее выражения о Торчаловском далеко не были ласковы и не обличали, чтобы его почтительность ее особенно трогала. Если эти 35 тыс. даны Торчаловскому за его хорошее управление имением княгини, то ничем не доказано, что он управлял таким образом, а напротив, ничем не может быть опровергнуто, что, по ее настойчивым и неоднократным отзывам, он управлял очень дурно имением в Черниговской губернии и домом в Петербурге. При этом за управление домом в течение нескольких месяцев он получал жалованье, на что указывают две расписки в деле. Они выданы за время с 4 августа по 4 ноября. Может быть, скажут, что за дальнейшее время нет расписок. Это правда. Но вот что по этому поводу можно сказать; если нет за дальнейшее время расписок, то за первое время есть две расписки на одну и ту же сумму, которая ему следом вала с 4 августа по 4 сентября. Нам скажут, что это явилось вследствие безалаберности княгини, которая, утратив одну расписку, потребовала написания другой, а затем утраченная записка нашлась. Пусть будет так, но в таком случае нам дано объяснение и того, почему нет дальнейших расписок. Итак, Торчаловский далеко не блестящим образом управлял у княгини Щербатовой, вызывая постоянно ее неудовольствие, получал жалованье, следовательно, служил не безвозмездно, да и служил-то всего-навсего у княгини в течение двадцати лет только один год: полгода в Черниговской губернии и полгода в Петербурге. Возможно ли, чтобы за это княгиня Щербатова дала ему 35 тыс. руб.?! Так ли она вознаграждала услуги? Известно, например, из дела, что за княгиню Щербатову, бывшую в то время вдовою генерала Барышникова, сватался, поддерживаемый сильным покровительством, барон Энгельгардт, к которому княгиня была весьма расположена и дочь которого очень любила, постоянно держала при себе и считала своим другом. Между тем, госпожа Энгельгардт, после всех сделанных ею княгине дружеских услуг, после долгих годов «дружбы» с тяжелой и требовательной старой женщиной, получила лишь по завещанию 25 тыс. руб. Это был самый большой дар княгини и притом дар, который госпожа Энгельгардт могла получить только после смерти дарительницы. Все другие приближенные лица, приживалки и компаньонки, которым, конечно, немало пришлось поработать на княгиню и поиспытать ее капризов, получили сущие пустяки. А они, конечно, послужили побольше Торчаловского…
Обратимся к другой стороне дела: к форме самой расписки и к действиям подсудимого Торчаловского относительно этой расписки. Расписка эта в 35 тыс. руб., а между тем написана на простой бумаге, следовательно, является домашним документом, т. е. таким документом, что, когда Торчаловский приносит его присяжному поверенному Полетаеву, то последний тотчас же заявляет ему, что по этому документу будет спор о подлоге, потому что условие домашнее и на большую сумму. Этого, конечно, не мог не знать Торчаловский, который сам принадлежит к числу мелких ходатаев. Между тем, он придал документу форму чрезвычайно неопределенную, шаткую, некрепкую. Отчего же Торчаловский, зная нрав княгини, зная, что она часто ссорилась с людьми ей близкими из-за ничтожных денег, подлежавших уплате, отчего он не составил себе более твердого документа, почему не взял, например, заемное письмо или сохранную расписку, а ограничился таким простым документом? Зачем не оградил он себя по возможности от будущих споров и пререканий самою твердостью и формальностью документа? Перейдем к способу составления расписки. Торчаловский объясняет, что все дело сначала шло хорошо, что, выдавши ему расписку на 35 тыс. руб., княгиня хотя и могла ожидать каждый день требования уплаты, но тем не менее оставалась совершенно спокойною и держала Торчаловского у себя. Но это продолжалось лишь до тех пор, покуда Бартошевич, Ми-них и Энгельгардт, его исконные враги, не соединились вместе и не выжили его из дому посредством разных оскорблений. Но если для Торчаловского, который, по его словам, сумел приобрести наибольшее количество доверия и расположения княгини, эти люди были заклятыми врагами, то не гораздо ли лучше было их же и заставить быть свидетелями и расписаться на документе. Таким образом он заставил бы этих людей не опровергать расписку, а явиться в суд свидетелями, утверждающими правильность расписки. Заставив своих врагов приложить руку к документу, он зажал бы им в то же время рот и совершенно себя обезопасил. Это так соответствовало бы и требованиям осторожности и естественному желанию выказать врагу свое над ним превосходство и торжество! Но он ничего этого не сделал; он оставил своих врагов в стороне и выбрал свидетелем другое лицо — дворника. Мы слышали, как дворник Аверьянов объяснял свое участие в этом деле. Свидетельница Константинова говорит, , что когда она была перевезена из больницы в дом Торчаловского, то ее больше всего поразило, даже испугало и оскорбило, то, что дворник этот держит себя с Торчаловским запанибрата, даже сидит рядом с ним и с нею, а Торчаловский по его уходе говорит: «Умный мужик Павел, ему не в дворниках бы быть». Эти слова служат лучшей характеристикой Аверьянова. Из всех его действий, из той роли, которую он играл на следствии, из того положения, которое он занял в этом деле, несомненно, следует, что он действительно человек умный. Он строго обдумал свой образ действий и дает здесь такие объяснения, которые, нисколько не объяснял обстоятельств дела относительно Торчаловского и даже нисколько его не оправдывая, самого Аверьянова совершенно ставят в тени, в стороне. Он говорит, что подписание расписки происходило следующим образом: Торчаловский принес расписку к княгине, но читал ли он ей эту расписку, Аверьянов не знает, потому что был в другой комнате и не слышал, а затем был позван в комнату княгини, и там Торчаловский просил княгиню позволить дворнику подписать расписку, — княгиня сказала: «Подпиши, Павел». После этого Торчаловский вышел в следующую комнату и прочел ему из числа нескольких бумаг, бывших у него в руках, одну, которая и была той распиской, о которой идет речь в настоящем деле, и затем, послав его снова к княгине, Торчаловский ушел в столовую, и когда через четверть часа туда пришел Аверьянов, тогда-то и совершилось подписание им расписки. Из этого объяснения выходит, что собственно Аверьянов не может удостоверить, ту ли действительно расписку он подписал, относительно которой ему говорила княгиня, так как он не знает, что именно читал ей Торчаловский. Она была в числе других документов, следовательно, княгине могли быть прочитаны и другие расписки, например в получении денег от жильцов. Таким образом, в показании Аверьянова есть указание, что Торчаловский мог воспользоваться его простотою и дать ему подписать расписку, которая не была прочитана княгине, а прочитана лишь ему, Аверьянову. С объяснениями Аверьянова, этого «умного Павла, которому бы не дворником быть», поневоле согласен и Торчаловский. Но такое объяснение несправедливо. Если принять это толкование способа выдачи расписки, то оказывается, что Торчаловский приводит и заставляет расписаться на расписке такого свидетеля, который, вполне подтверждая фактическую сторону дела в том виде, как он рассказал о ней пред нами, вместе с тем дает возможность к разным предположениям и неприятным для Торчаловского толкованиям, нисколько не объясняя самой сущности дела. Но разве можно довольствоваться таким свидетелем, разве можно действовать так неосторожно? Ведь Торчаловский — юрист, ходатай, отчего же он не прочел расписку княгине при Аверьянове, с ударением на цифру денег, которые давала ему княгиня; неужели можно допустить, чтобы княгиня так просто, без всякой торжественности, с ее стороны весьма естественной в этом случае, подписала документ и даже удержалась от того, чтобы не похвастаться перед Павлом и не сказать ему: «Вот смотри, Павел, как я награждаю людей, мне преданных!» Ничего этого нет, и расписка выдается как бы на ничтожную сумму, на несколько рублей. Свидетель ставится в такое положение, что может в сущности удостоверить, что подписал бумагу, которую ему подсунул Торчаловский. А княгиня, подымающая шум из-за грошей, неустанно стерегущая молоко, спокойно и лаконически говорит: «Подпиши, Павел», — даже не объяснив, что нужно подписать! Разве это все в порядке вещей? Затем начинаются дальнейшие похождения Торчаловского с распискою. У него враги в доме княгини, они сживают его со свету, и что же? Получив расписку, он обратился именно к одному из этих своих врагов — к поверенному княгини Бартошевичу — и предложил ему 20%, или 7 тыс. руб., за то, чтобы он помог ему в этом деле, просил даже и не взыскать, а просто помочь. Разве так стал бы делать человек, совершенно уверенный в своей правоте? Зачем он обратился к своему врагу Бартошевичу, за что он предлагал такое огромное вознаграждение? Мне кажется, что это можно объяснить единственно тем, что он нуждался в обезоружении своего главного и опасного противника. Он знал, что княгине осталось недолго жить, что около нее стоял один знающий дело и верный ей человек. Это был Бартошевич. Торчаловскому нужно было его обезоружить, сделать участником своих интересов, склонить на свою сторону. А этого можно достичь, только сделав Бартошевича своим поверенным. Вот почему он и обратился прежде всего к нему. Таковы были действия подсудимого. Я полагаю, что на все вопросы, вытекающие из житейской , обстановки дела и поставленные мною в начале речи, получается ответ отрицательный. Отношений, допускающих такой значительный дар со стороны княгини, между нею и Торчаловским не существовало; форма расписки не соответствует значительности поставленной в ней суммы; способ ее составления, а также и остальные действия Торчаловского не соответствуют тому, что следовало бы ожидать при существовании действительного документа на 35 тыс. руб. Ввиду этого, мне кажется, невозможно и признать существование тех фактов, тех обстоятельств, на которые указывает подсудимый; следовательно, то, что противоречит этим фактам, что отрицает их, является правильным и справедливым. Поэтому есть основание утверждать, что расписка подложна и составлена преступною рукою.
Но обязанность обвинителя не ограничивается одною отрицательною стороною дела, необходимо указать, как было совершено преступление, проследить тот путь, каким совершилось оно, и к отрицательной стороне дела, к разбору объяснений подсудимого прибавить положительную, состоящую в ряде улик и доказательств преступности его действий. К этой стороне дела я и приступаю.
Если сравнить действия человека, поступающего законно и правильно с уверенностью в своей правоте, с действиями человека преступного, то в них всегда можно подметить резкие отличительные черты, яркие особенности. Человек, сознающий правоту своих действий, не будет говорить о них украдкою, не станет действовать, по возможности, без свидетелей, не будет стараться затем подговорить их «на всякий случай», не станет скрывать следов того, что совершил, и запасаться такими данными, которые должны лишить веры всех, кто может усомниться в правильности его действий.
Совершенно в обратном направлении будет действовать тот, кто сознает, что поступает нечисто и дурно. У него явятся и подставные свидетели, и сокрытие следов. Иногда на помощь правосудию придет и другое, довольно нередко встречающееся в преступлениях свойство: виновный проболтается, проговорится и сам поможет таким образом разъяснить дело. Желание похвастать, неумение вовремя промолчать — слишком общие и частые явления в жизни человека. Иногда виновный дает против себя оружие, проговаривается под влиянием отягощенной совести, которая настойчиво требует хоть косвенного признания. Но чаще это бывает, когда он совершит какое-нибудь ловкое действие и видит в том силу и торжество своего ума. Он знает, что в известной среде, при известном нравственном уровне, его ловкие дела встретят сочувствие — и ему трудно удержаться от желания похвастаться новым «дельцем», показать, как он умел обойти, провести всех. С подобного обстоятельства приходится начинать исследование улик и по настоящему делу. Оно случилось в камере мирового судьи Майкова. Подсудимый Торчаловский опровергает это обстоятельство, и некоторая сбивчивость показаний свидетелей Залеского и Пупырева дает, по-видимому, возможность защите подозревать правдивость этих показаний. Но я думаю, что это подозрение не будет основательно. Свидетель Залеский показал здесь, что подсудимый Торчаловский приходил к нему, — когда, не помнит получить исполнительный лист и на вопрос о том, не обманула ли его княгиня Щербатова, подсудимый вполголоса объяснил, что нет, не она, а он ее обманул, и при этом рассказал, как удалось ему взять расписку, как он приобрел подставного свидетеля. Он рассказал, что вошел в кабинет княгини и, пользуясь тем, что княгиня не умела читать, под видом доверенности поднес расписку в 35 тыс. руб., которую княгиня и подписала. Таким образом подсудимый сам помог разъяснить способ совершения расписки.
Во время судебного следствия возбуждался вопрос о дне, когда происходил у Торчаловского с письмоводителем разговор в камере мирового судьи. По-видимому, защиту затрудняло то, что мировой судья говорит, что написал письмо свое чрез день или два после рассказа Залеского о «штуках» Торчаловского. По пометке на письме видно, что оно написано 4 марта. Между тем, из того же рассказа Залеского оказывается, что Торчаловский показывал ему доверенность на имя Полетаева. Доверенность эта выдана 28 февраля, после того как 24 февраля Торчаловский сделал у нотариуса Левестама заявление княгине Щербатовой об окончательном с ним расчете к 1 марта, под условием недействительности всех его дальнейших претензий. 3 марта уже был предъявлен Полетаевым иск по расписке. Таким образом, оказывается, что Торчаловский мог показывать доверенность и говорить Залескому о своей проделке с княгинею только до 28 февраля, что отчасти противоречит рассказу Залеского о том, что он немедленно сообщил о слышанном мировому судье, который и написал товарищу прокурора. Но это противоречие неважное. Сам Залеский говорит, что хорошенько не помнит числа, но знает, что это было в феврале. Мы не можем требовать ни от письмоводителя Залеского, ни от мирового судьи совершенной точности в их показаниях о числах: среди массы дел, которые у них бывают, весьма естественно забыть некоторые мелкие обстоятельства, и лучшим доказательством этого служит то, что мировой судья совершенно забыл даже такой сравнительно крупный факт, как признание им обвинения княгинею Щербатовой Бондырева недобросовестным и наложение За это штрафа на жалобщицу. Притом для дела важно не то, чтобы числа сходились одно с. другим с математическою точностью, а важно то, что дело качалось с письма мирового судьи, а письмо он мог послать, конечно, не иначе как вследствие рассказа Залеского, потому что судья мог узнать о действиях Торчаловского только от Залеского, который, в свою очередь, также не мог узнать об этом ниоткуда больше, как из рассказа самого Торчаловского. Это было, вероятно, после того, как сделано было нотариальное заявление Левестаму и подсудимый с готовою доверенностью в кармане явился к Залескому. Это было, очевидно, между 24 и 28 февраля, быть может, утром, 28. 1 или 2 марта Залеский рассказал обо всем мировому судье, который и написал товарищу прокурора. Приход Торчаловского к Залескому вполне понятен. Обеспечив себя нотариальным заявлением, готовясь в начале марта предъявить совершенно неожиданно княгине Щербатовой иск, он мог возыметь желание зайти к приятелю, с которым обделывал разные дела по своим «хождениям у мирового судьи» и покровительством которого относительно сроков и очередей в делах пользовался. Этот покровитель мелких ходатаев, их советник и помощник считался Торчаловским за доброго приятеля и пользовался, как видно из дела, его полнейшим доверием. Дельце обделано ловко — отчего не прихвастнуть другу, отчего не похвалиться своею ловкостью; дельце тонкое и рискованное — рассказав о нем вполголоса, можно, пожалуй, и совет добрый услышать, тем более, что, хотя оно и «на чеку», как говорится, но еще в ход не пущено — доверенность на имя Полетаева еще в кармане. Вот как может, вот как должен быть объяснен разговор Торчаловского с Залеским — разговор, подслушанный Пупыревым.
Обращаясь к тому, что хотел сделать Торчаловский с распискою, полученною им от княгини Щербатовой, я допускаю следующее предположение, которое, как мне кажется, единственно и возможное в настоящем деле. Торчаловский кончал свои занятия у Щербатовой, княгиня удаляла его, и он должен был предвидеть, что рано или поздно дело неминуемо кончится этим. Поэтому надо было извлечь наибольшую выгоду из служения при полуграмотной старухе. Еще с декабря 1869 года, с каждым днем, здоровье княгини делается хуже и хуже, происходит несколько консилиумов, и, наконец, доктора предполагают, что больная проживет только до вскрытия Невы, т. е. до половины апреля. Почему же не воспользоваться выгодами своего положения, чтобы потом иметь возможность из имущества княгини получить львиную часть? И вот составляется расписка, подсовывается к подписи княгине и является свидетелем дворник. Приближается март месяц, Нева скоро вскроется, здоровье княгини делается с каждым днем все хуже и хуже, она слабеет и с первыми льдинами уплывает в другой мир. Между тем, порядок производства гражданских дел в окружном суде подсудимому известен: он знает, что как бы быстро ни производилось дело в суде, все-таки пройдет около трех недель, как было и в настоящем случае, прежде чем вопрос о возбуждении спора о подлоге возникнет у того лица, которое может заявить этот спор. Поэтому княгиня узнает об иске, предъявленном в начале марта, лишь в конце месяца, когда она одною ногою уже будет стоять в гробу и когда ни ей, ни окружающим ее будет не до споров о подлоге. Ввиду этого Торчаловский 3 марта предъявляет иск; лишь 26 был предъявлен спор о подлоге. Иск, таким образом, был предъявлен при жизни княгини, и наследники ее лишились права заподозревать действительность документа, потому что при жизни княгини о нем не было «ни слуху, ни духу». Торчаловскому хотелось прежде всего обеспечить себя со стороны Бартошевича, но это не удалось; между тем, о расписке уже стало известно, и тогда, делать нечего, он предъявил расписку ко взысканию. Это было в начале марта, а перед тем он делал заявление нотариусу о том, что просит княгиню покончить с ним к 1 марта все сделки и затем всякие претензии считать с его стороны недействительными. Это заявление доставляется княгине, которая отвечает, что никаких претензий на нее у Торчаловского нет. Этим Торчаловский обеспечил себя против дальнейших споров княгини или ее наследников. Он мог всегда сказать, что просил княгиню заблаговременно окончить счеты, и только благодаря ее упорству вынужден был обратиться к суду. Ему надо было выждать время, пока княгиня доживает свои последние дни. Он знал, что лишь только ее старческое тело будет трупом, со всех сторон, как стая воронов, слетится толпа наследников, прихлебателей и всякого рода близких друзей покойницы; каждый будет стараться получить какой-нибудь кусочек из имущества княгини, и тогда среди этого всеобщего спора, в разгар всей этой суматохи у смертного одра княгини некому будет заняться предъявленной ко взысканию распиской, предъявлять спор о подлоге, вести тяжбу и пр. Притом, если бы кто-нибудь и захотел возражать против этого иска, то есть свидетель, который всегда отличался честностью и который удостоверит действительность расписки, и затем есть еще весьма возможная свидетельница, на случай надобности, которую также можно прибрать к рукам; эта женщина бедная, болезненная, за которой можно поухаживать, которую можно приголубить; известно, что при болезненном состоянии, в беспомощном старческом возрасте, всякая ласка ценится высоко, да притом она не хорошо и поймет, пожалуй, что от нее потребуется, следовательно, не решится отказать своему благодетелю. С этими двумя свидетельствами, имея в запасе заявление нотариусу, Торчаловский может с успехом рассчитывать, что он выиграет дело, тем более, что сами «касперты», как выразилась Константинова, называя так экспертов, скажут, что подпись на расписке подлинная.
Обращаясь к участию в деле Аверьянова, я думаю, — насколько мог познакомиться с личностью подсудимого из дела, — что он не без борьбы согласился участвовать в подписании расписки. Недаром же и, конечно, не сразу ему, простому дворнику, было предложено 500 руб., а затем явилась расписка в 700 руб. В показаниях Бондырева существует маленькое разочарование: сначала говорит он о расписке в 500 руб., а когда затем была взята эта расписка, то она оказалась в 700 руб. Бондырев добросовестно удостоверил это обстоятельство, но не мог объяснить его. Я думаю, что обстоятельство это объясняется очень просто. По ходу дела, условие с Аверьяновым должно быть совершено до предъявления иска, т. е. до 3 марта, потому что надо было заранее приобрести это свидетельство. Эта расписка была на 500 руб. серебром и ее-то видел Бондырев, которому тоже не совсем осторожно проболтался Аверьянов. Когда об этом узнал Торчаловский, то он увидел, что необходимо свидетеля этого поставить в противоречие с самим собою. Отсюда желание выдать другую расписку Аверьянову, отличную от той, которую видел Бондырев. Кроме того, и сам Аверьянов, видя, что дело затягивается, что его начинают «таскать» к судебному следователю по делу о расписке княгини, что он проживается, — видя все это, мог потребовать большего вознаграждения, мог пригрозить… Ему выдается расписка в 700 руб. от 20 мая, которая поражает громадною цифрою вознаграждения дворнику «за приезд из деревни».
Какие бы убытки ни понес Аверьянов в своем деревенском хозяйстве от вызова к судебному следователю, во всяком случае, они не могли достигнуть до такой суммы, тем более, что когда он жил в городе, то его годовой заработок равнялся, как известно, 108 руб. Да и странно, что Торчаловский взялся вознаграждать от себя лицо, которое, по требованию судебного следователя, обязано было явиться к допросу. Да и могло это быть иначе. Если Торчаловский предполагал, что Аверьянов будет вызван как обвиняемый в соучастии в подлоге, то он не мог не знать, что расписка в руках Аверьянова, и притом на большую сумму, еще увеличит подозрение. Если же он думал, что Аверьянов явится просто как свидетель в деле, то допрос его мог быть произведен следователем даже и на месте его жительства. Вообще, и самый образ действий Аверьянова с распискою подтверждает мое мнение о том, что этому человеку трудно было решиться до конца исполнить роль, возложенную на него Торчаловским; побывав у Бондырева и увидев, что дело неладно, он уехал в деревню, а явившись оттуда, постоянно оставался на заднем плане и, очевидно, не дорожил распискою, приобретенною неправедным образом. Недаром же она валялась в грязном белье, на дне незапертого сундука, в доме Цукато. Затем здесь говорилось еще о письме Аверьянова. Я не стою на том, чтобы слово «пишите» не было в действительном сроем смысле словом «отпишите»; во всяком случае разница здесь будет весьма тонкая, грамматическая, но не изменяющая смысла письма. Аверьянов обещал исполнить свою обязанность, явиться, в случае надобности,, к следователю, и показать будто бы всю правду. Но зачем же Аверьянову писать об этом Торчаловскому и даже получить за это большие деньги? Ведь и без того судебный следователь мог вызвать его по повестке, когда будет нужно, и он обязан был явиться; об этом знал Аверьянов, потому что, как старший дворник большого дома, он не мог не знать безусловной обязанности являться по повесткам следователей и мировых судей, которые, конечно, не раз бывали в его руках. Поэтому и расписка, и письмо Аверьянова — все это улики против них.
Перехожу к свидетельнице Константиновой. Думаю, что вы, господа присяжные заседатели, разделяете мое доверие к показаниям этой свидетельницы; вы, как и я, признаете, что а наивном, несколько комичном рассказе ее содержится много душевной теплоты и правдивости. Повторять это показание излишне: оно слишком памятно по своей оригинальности. Можно только указать на некоторые части этого показания. Свидетельница говорит, что она была больна и затем была взята из больницы Торчаловским к нему в дом и что, когда она была еще слаба, он заставил ее подписать известное письмо, с выражением удивления, что он, Торчаловский, подвергается незаслуженным подозрениям. Письмо помечено 17 марта. Что она была в это время очень слаба, так что не могла писать длинное письмо, это видно из официального документа, а именно из скорбного листа, в котором говорится, что она доставлена в больницу в половине февраля, «вынесена на руках», как она говорит сама, в состоянии сильной чахотки. Только после 11 марта замечено в ее состоянии некоторое улучшение, и лишь 5 мая выписана она из больницы по собственному желанию. Затем, больная и слабая, она привезена к Торчаловскому, который за ней ухаживает и дом которого был единственным ее пристанищем в это время, так как на вопрос, к кому бы она пошла, выйдя из больницы, если бы ее не взял Торчаловский, она отвечала стереотипною фразою, что «свет не без добрых людей». Облагодетельствованная таким образом, завернутая в шубу госпожи Торчаловской, окруженная попечениями подсудимого, больная старушка могла считать себя настолько обязанной Торчаловскому и притом настолько неясно понимала, чего от нее требуют, что весьма естественно могла исполнить его просьбу. Ее словам о способе писания письма можно вполне верить, и они подтверждаются двумя обстоятельствами: во-первых, письмо написано на таком же листе бумаги, такого же формата, с таким же гербом на углу листа, на котором написана и расписка княгини Щербатовой, и расписка, выданная Торчаловским Аверьянову. Это дает возможность предполагать, что бумаги происходили из одного источника. Затем, во-вторых, Торчаловский просил обратить внимание на безграмотность письма Константиновой и отсутствие в нем соблюдения правил орфографии* чем, по его мнению, вполне опровергается ее объяснение. Но это письмо вовсе не безграмотно; оно написано со смыслом и толком. Притом никто и не думает утверждать, что Торчаловский сам писал его. Нет! Константинова определительно говорит, что Торчаловский диктовал ей это письмо. Поэтому орфография в нем принадлежит Константиновой, а содержание — Торчаловскому. Это последнее обстоятельство видно уже из того, что письмо начинается деловым юридическим языком. Я думаю, что, посмотревши на Константинову, всякий признает, что такого рода обороты речи подобная женщина не станет употреблять. Письмо начинается словами: «Я слышала, что против вас предъявлен иск по документу» и т. д. Эта фраза так и отзывается тем языком, которым пишутся исковые прошения. Затем здесь старались поколебать заявления Константиновой тем, Что она несвоевременно заявила о всех обстоятельствах дела на предварительном следствии. Но она заявила об этом немедленно опекунам над имением княгини Щербатовой, заявила князю Сергею Щербатову и господину Мысловскому. У следователя же ее заявление явилось запоздавшим потому, что судебный следователь мог вызвать ее только через четыре месяца, после ее разыскания. Надо заметить, что письмо, будто бы писанное ею, вызывает еще следующие соображения: 17 марта княгиня была еще жива; из ее дома была вынесена Константинова, и к ней одной, после восьми лет совместного житья, должна она была вернуться. Почему же эта Константинова, которая теперь, забытая и оставленная княгинею, так настойчиво защищает на суде интересы и память покойной, почему же она тогда, когда княгиня была для нее «все», вдруг так ополчилась за интересы чуждого ей Торчаловского, зная, что этим отрезывает себе возможность возврата в дом княгини Щербатовой? Все это не в порядке вещей, потому что не было в действительности, а измышлено Торчаловским. Затем остается еще третья ссылка подсудимого Торчаловского, который, видя, что свидетельница Константинова не оправдывает его ожиданий, ссылается еще на свидетельницу Коханееву, которая упорно стояла на своем показании, утверждая, что, приходя к княгине с просьбою о помощи, она слышала, что княгиня называла Торчаловского негодяем и мерзавцем за то, что он расписку предъявил при ее жизни, а не после смерти, как она того хотела. Я полагаю, что этот рассказ Коханеевой представляется крайне неправдоподобным. Ее никто из близких княгини не видал в доме, никогда и нигде с нею не встречался. Кроме того, если бы княгиня действительно говорила приписываемые ей слова, то выдача Торчаловскому расписки, по которой уплата должна быть совершена немедленно по предъявлении, представляется крайнею нелепостью, и, имея это в виду, княгиня, конечно, скорей всего отказала бы Торчаловскому 35 тыс. руб. по завещанию, не отдавая себя, таким об-» разом, в руки человека, которого она характеризовала, по словам Коханеевой, в таких кратких, но сильных выражениях. Таким образом, Коханеева является свидетельницею далеко не достоверною, хотя нельзя не признать, что ввиду сделанного ею заявления об отзыве княгини Щербатов вой указание со стороны Торчаловского на подобную свидетельницу требует немалого самоотвержения. Наконец, для полноты характеристики следует упомянуть еще о сокрытии следов преступления. Когда подсудимый был арестован и когда ему нужно было спеться, согласиться с Аверьяновым, когда он находил необходимым напомнить ему о том, что он должен показывать, он написал записку, которая была здесь предъявлена. Содержание этой записки достаточно ясно и не нуждается ни в каких объяснениях. Это обстоятельное наставление Аверьянову о том, что говорить при следствии, чтобы спастись самому и вместе с тем спасти и Торчаловского. Вот те данные, которые представляются к обвинению подсудимых.
Делая общий свод этих данных, я нахожу, что подсудимый Торчаловский, задумав воспользоваться своим пребыванием у княгини Щербатовой и ее доверием и зная, что она не умеет грамоте, подсунул ей расписку в 35 тыс. под видом доверенности, а затем, обставив себя заявлением у нотариуса и одним из свидетелей, предъявил эту расписку ко взысканию. Неумеренная болтливость его в камере мирового судьи сделала то, что одновременно с начатием гражданского дела обвинительная власть привлекла Торчаловского к уголовному суду; тогда он решился обезопасить себя и заручился свидетельницею Константиновой и, на всякий случай, еще одною свидетельницею — Коханеевой. Главным подспорьем для Торчаловского явились, конечно, показание и подпись Аверьянова.
Остается сказать несколько слов о распределении ролей между подсудимыми. Нет сомнения, Аверьянов играет в этом деле роль второстепенную; он является орудием другого, более сильного и хитрого лица, потому что в таком спорном деле, как подлог, очень часто необходимо разделение труда, необходимо, кроме лица, управляющего всем, так сказать, одухотворяющего преступление, и лицо пассивное, которое помогает, которое действует по указаниям главного распорядителя преступного дела. Совершив свое дело — подложное засвидетельствование документа — Аверьянов сам, по-видимому, вполне сознавал, что дело это нечистое, дурное, и все его действия по этому предмету представляются крайне осторожными, так сказать, недеятельными. Даже здесь не старается он оправдаться и не отрицает обстоятельств, благодаря которым он сидит на скамье подсудимых. Он только старается дать иное объяснение своим действиям, и хотя объяснения его участия в подписке документа представляются не лишенными некоторой правдоподобности, но объяснения эти, тем не менее, противоречат тому, что обнаружено по делу относительно расписок, полученных им от Торчаловского, и всех дальнейших между ними сношений. Нельзя, однако, отрицать, что его прежняя деятельность представляется честною и безупречною, и это предыдущее честное поведение представляется настолько смягчающим обстоятельством, особенно ввиду долговременного содержания его под стражею, что если вы признаете его виновным, то, вероятно, не откажете ему в снисхождении. Я обвиняю Аверьянова в том, что он засвидетельствовал подложный документ; Торчаловского обвиняю в том, что он совершил подлог, т. е. такое действие, которое закон относит к одним из самых опасных и злонамеренных обманов, совершил один из видов того обмана, который с некоторыми видоизменениями предусмотрен в 1693 статье Уложения о наказаниях, говорящей о поднесении к подписанию слепому другой, а не той, которую он желал подписать, бумаги. Я применяю эту статью потому, что княгиня Щербатова, не умевшая читать писаного, безграмотная, конечно, ничем не отличалась от слепой, так как не отличается в глазах безграмотного человека своим содержанием лист белой бумаги от листа бумаги, исписанной неведомыми ему знаками. Обвинение мое кончено; оно было несколько длинно, но и обстоятельства дела слишком сложны. Заключая его, я не могу не припомнить, что перед нами читалось письмо Торчаловского к княгине Щербатовой, в котором он говорит, что может «гордиться в своей сфере и может быть полезен в сфере высшей». Я полагаю, что ваш приговор, г. присяжные заседатели, покажет, что такое высокое мнение подсудимого о самом себе было, по меньшей мере, преждевременно и неосновательно.
ПО ДЕЛУ О ЛЖЕПРИСЯГЕ В БРАКОРАЗВОДНОМ ДЕЛЕ СУПРУГОВ 3-НЫХ*
Господа судьи! Господа присяжные заседатели! Вам предстоит рассмотреть дело, выходящее из ряда вон как по трудности своего возникновения, так и по некоторым своим особенностям. Подобного рода дела редко доходят до суда. Преступление, о котором идет речь, обставляется обыкновенно так, что становится очень трудноуловимым. Поэтому в том, что подобное дело дошло до суда, уже надо признать некоторую предварительную победу правосудия. Кроме того, при производстве подобного дела, в большей части случаев, свидетели наносят в него такую массу грязи, что трудно отличить настоящие обстоятельства его от тех, которыми оно загрязнено и искажено.
Действительный статский советник 3-н, будучи в разлуке с женой и находя, что она не исполняет своих супружеских обязанностей и, будучи его женою по закону, давно уже не дарит его тем счастьем, на которое он имел право рассчитывать, вступая в брак, решился развестись с нею. Он приехал для этого в Петербург, нашел здесь людей, которые согласились оказать ему юридическую помощь в начатии дела в консистории * и нравственную помощь для его ведения. Он нашел людей, которые с благородной откровенностью показали все, что могли, в защиту чести господина 3-на. Благодаря им семейная честь его была близка к восстановлению и дело шло естественным и спокойным кодом. Вдруг положение его изменилось. Сначала к делу стала присматриваться власть прокурорская, затем его взяла в руки власть судебная, и, наконец, оно перешло из мирных стен Консистории в стены суда. При этом стало оказываться, что скорее всего речь идет о восстановлении чести уже не господина 3-на, а госпожи 3-ной и что господа свидетели свидетельствовали так, что при предварительном следствии их пришлось даже отвлечь на некоторое время от их мирных занятий и лишить свободы. Свидетели поняли свое новое положение. Они заявляют перед вами, что весь настоящий процесс есть плод недоразумения, плод гибельной для них ошибки. Они надеются на ваше оправдание. Этого взгляда их не разделяет обвинительная власть и полагает, что пред вами находятся люди, к которым весьма применимо меткое название «самых достоверных лжесвидетелей». Для разрешения вопроса о том, насколько справедлив такой взгляд, я обращусь к их показаниям.
Для того, чтобы определить, что известное лицо говорит на суде ложь, необходимо прежде всего рассмотреть его показание по существу, посмотреть на Обстановку, в которой оно дано, и главным образом на то, каким порядком оно создавалось. Посмотрим на общее показание подсудимых по существу.
Прежде всего я полагаю, что оно ложно по месту, которого касается. Я не стану напоминать вам той грязной картины, которую нарисовали в своих показаниях подсудимые, я напомню только, что, по показанию их, они застали в гостинице «Роза» в блудном действии с мужчиной женщину, которую один из них признал за госпожу 3-ну. Дело происходило в особых номерах. Назначение этих номеров понятно, да к тому же его обстоятельно выяснил свидетель Красавин, который служит в них коридорным. По его показанию, они служат преимущественно для гостей, которые приходят «парою», которые хотят быть прежде всего в уединении, в безопасности от посторонних взоров. Устройство гостиницы вполне соответствует ее двоякому назначению. Те, которые хотят удовлетворить своему аппетиту, идут в общие комнаты. Но те, которые приходят с другой целью, переходят площадку, на которой встречаются с запертой дверью. Оно и понятно, что дверь заперта: нельзя, чтобы всякий ходил по коридору, в расположенных вдоль которого номерах люди ищут уединения. Затем каждая дверь номера тоже заперта. Опять это понятно: нельзя входить, когда там могут быть посторонние, — и прислуга твердо наблюдает это правило. Она ходит каждый раз за ключом в буфет, затем отпирает дверь номера и вставляет ключ изнутри в дверной замок. Таким образом, даже со стороны прислуги, менее заинтересованной в личном спокойствии посетителей, чем они сами, существует красноречивое указание на осторожность: она оставляет ключ с внутренней стороны номера и этим как бы говорит: «Запирайтесь!» Другого хода нет в номера, другим путем не пройти в коридор, так как сообщение снизу существует только через двор. И вот в такое-то место, при такой обстановке, в один прекрасный вечер являются Залевский и Гроховский. По их словам, они не находят в общей комнате места. Но ведь они пришли только закусить; это доказывается тем, что они все-таки вернулись к буфету, выпили там водки и закусили. При буфете же место для закуски всегда бы нашлось и без напрасных путешествий в номера. Если же они шли не закусить, а основательно поужинать, то зачем же, выйдя из гостиницы «Роза», столь переполненной народом, они не пошли в многочисленные окрест лежащие рестораны, кофейные и кондитерские? Но, тем не менее, и вопреки показанию буфетчика, они не находят, как видно из их объяснений, местечка даже и у буфета. Тогда они свободно проходят в коридор, и один из них отворяет дверь номера. Здесь существует в показаниях подсудимых разноречие: один из них, Гроховский, в показании, данном в консистории, говорит, что видел свет из-под двери, другой же, Залевский, говорит, что никакого света не видел. Я думаю, что ни то, ни другое обстоятельства не служат в пользу подсудимых. Если они видели из-под двери свет, то должны были понять, что незачем быть свету в пустых номерах, следовательно, там кто-нибудь есть и потому идти туда нельзя. Если же они не видели света, то понятно, что, как только дверь была отворена на полдюйма, они должны были увидеть свет и тотчас ее запереть, не входя. Но ничего этого не случилось. Несмотря на увиденный ими свет, они вошли в номер и пробыли в нем настолько долго, что могли внимательно осмотреть обстановку комнаты: они рассмотрели и кровать, и женщину, и нагоревшую свечу, и даже одиночное драпри, хотя свидетель Красавин показал здесь, что в номерах гостиницы «Роза» одиночных драпри нет. Затем, увидевши, что они неуместные гости, они уходят из номера и возвращаются к буфету. Кого же они видели? Они говорят, что видели госпожу 3-ну. Вглядитесь, господа, в обстановку этой встречи. В трактире, в номерах, в положении крайне свободном, они видят, по их мнению, личность, которую решаются потом назвать по фамилии, госпожу 3-ну. Но ту даму, которую Залевский принял в гостинице «Роза» за госпожу 3-ну, он видел перед этим в ложе Большого театра с семейством, он знал, что она дочь известного П-го, в свое время очень богатого человека, получившая хорошее воспитание и образование светская женщина. Как же не пришло обоим подсудимым в голову в то же время и прежде чем сообщить о виденном, сначала в виде анекдотов и шуток, а затем уже и не в шутку в присутственном месте, как же не пришло им в голову, что тут должна быть грубая ошибка, что это не 3-на, что ни общественное положение, ни воспитание не позволяют ей искать уединения в незапертом номере гостиницы «Роза»? Как не подумали они, что, живя в Петербурге одна, она всегда может найти себе более удобное помещение, чем «Роза», что она едва ли, придя в номера, решилась бы так беззастенчиво и открыто предаваться разврату при «открытых дверях»? В самом деле — и дверь коридора открыта, и дверь номера не заперта, и драпри раскрыто, и платье снято, так что никому не возбраняется прийти и полюбопытствовать. Как же не пришло им в голову, что если женщина так действует, то значит она потеряла всякий стыд, всякие проблески хорошего воспитания? Нет, они признают вполне естественным, что это могла быть 3-на, и потому утверждают, что это была она. У них не возникает и тени сомнения! Напротив, они, знающие, конечно, что такое клевета и как она называется, сообщают о виденном людям, с которыми видятся весьма редко, притом не обязывая их молчать. Наконец, посмотрите на практическую, бытовую сторону дела. Возможно ли, чтоб подобные случаи происходили в подобной гостинице? Ведь один такой случай, рассказанный теми, кто пострадал, рассказанный тем, кто воспользовался им из любопытства, достаточен для того, чтобы подорвать в известном кругу посетителей, так сказать, авторитет гостиницы. Ведь в нее будут остерегаться ходить, если станет известно, что там нельзя оставаться в уединении, а следовательно, иногда и в безопасности, что там по коридору и по номерам всякий ходит совершенно свободно и притом без всякой надобности. Подсудимые говорят, впрочем, что им была надобность в номере. Они хотели его взять, чтобы закусить. Но за номер нужно платить особые деньги, гостиница довольна известная, номера должны быть дороги, между тем как тут же неподалеку есть множество всякого рода закусочных заведений, где трата за номер окажется лишнею. Подсудимые заявляют, впрочем, что они люди со средствами. Я сомневаюсь в этом, потому что социальное положение их нам достаточно известно. Господин Залевский, — не окончивший курс технолог, занимающийся приготовлением к окончанию курса, а другой, господин Гроховский, играет в разных местах на фортепьяно — тоже профессия, не дающая особых средств к жизни. Поэтому едва ли они станут кидать деньги зря, без всякой нужды. Вообще надо заметить, что участвующие в настоящем деле лица не имеют определенных занятий. Это характеристическая черта, и ее недурно запомнить. Господин Маркелов, например, занимается тем, что три года приискивает место, господин же Хороманский заявил, что он занимается тем, что скоро собирается уехать из Петербурга…
Таково показание подсудимых по существу. Я полагаю, что они не могли видеть того, о чем они повествовали в консистории, и с недоверчивым удивлением слышу, как они определяют сложение, цвет глаз, цвет волос и болезненное выражение лица той женщины, которая играла такую важную роль в рассказанном ими господину Корзуну анекдоте. Показание их неправдоподобно и сшито белыми нитками. Оно ложно, это показание!
Посмотрим теперь вообще на обстановку показания, на то, что ему предшествовало и последовало. Для этого приходится коснуться господина 3-на и его отношений к жене. Вы знаете из показаний его и Корзуна, что мысль о разводе явилась у 3-на уже давно и что на осуществление ее натолкнул его Корзун, рассказав ему о жене то, что он знал от Залевского. Есть, однако, основания думать, что в действительности было не так. Вы слышали некоторые свидетельские показания и письма, и из них можно вывести заключение, что господин 3-н давно разлюбил жену и, давно бросив ее почти на произвол судьбы и полюбив, по-видимому, другую, искал развода. Но жена не соглашалась на развод. Она не легко поддавалась на просьбы мужа. Она, принесшая мужу огромное приданое, имела смелость требовать, чтобы ой дал ей средства, имела желание быть обеспеченною и на старости лет иметь кусок хлеба. Эти неумеренные желания мешали разводу. И вот в таком неопределенном положении дела господин 3-н приезжает в Петербург. Если верить его показаниям, то он встречается с Корзуном. Он знаком с ним года три, с тех пор как встретился с ним в кондитерской и покупал у него билеты в театр. 3-н говорит, что он пуще всего боится огласки, что ему, как лицу, по своему воспитанию, образованию, происхождению и положению принадлежащему к так называемому высшему сословию, было невозможно допустить какую-либо огласку. Но что же мы видим? Встретив Корзуна, он немедленно вступает с ним в интимный разговор, а через несколько минут даже открывает пред ним свою душу, показывает все ее сокровенные больные места, рассказывает о своей несчастной жизни, в свою очередь выслушивает рассказ от господина Корзуна о прелюбодеянии своей жены и пользуется этим рассказом. Хотя все это представляется странным, но тем не менее допустим, что это так было, что господин 3-н действительно узнал от Корзуна, что есть свидетели, которые могут доказать, что жена его совершила прелюбодеяние. Услыхав такой рассказ, он мог сказать себе, что теперь несомненный факт у него налицо. Имея этот факт, он, конечно, воспользуется им, он станет настойчиво требовать от своей жены, развода, он поставит ее в безвыходное положение. Огласки уже нечего бояться. Она произошла, когда есть такие посторонние свидетели, как Залевский и Гроховский. Притом господин 3-н, конечно, знает, что невозможно развестись иначе, как имея свидетелей прелюбодеяния, так как по закону развод не допускается по одному сознанию принимающего на себя вину супруга. Но теперь у него есть прекрасное оружие, и естественно ожидать, что он станет настойчиво требовать развода с женщиной, которая, нося его титул и имя, так позорит их своим поведением. Между тем, на самом деле, он так не действует. Вы слышали содержание его писем к жене в декабре 1870 года. Разве так будет писать оскорбленный и подкрепленный двумя свидетелями супруг? Разве он станет почти ухаживать за женою, ласково обращаясь к ней, просить ее дать ему развод, а не требовать, ни разу не упомянуть, хотя бы для красоты .слова, о поруганной своей чести и, в довершение всего, предлагать такие выгодные условия, как подарок в 12 тыс. руб., которые будут будто бы приносить 1200 руб. в год, и, наконец, обещать полное спокойствие и обеспечение во все время ведения процесса о разводе? Разве станет писать такие письма действительно оскорбленный супруг, который при этом давно уже думает о разводе? Я думаю, что нет. Даже показывая жене обратную сторону медали, как он сам выражался в одном из писем, господин 3-н чрезвычайно мягкими красками рисует жене ожидающие ее последствия. Все устроится хорошо, он употребит все зависящие меры, она не должна ничего опасаться, запрещение вступать в брак почти не соблюдается, эпитемия почти не налагается, все это серьезного, по его уверениям, значения не имеет. При этом он нисколько не высказывает, чтобы считал виноватою ее лично, а только просит согласиться испытать на себе обратную сторону медали. Вы слышали ответ госпожи 3-ной на это письмо. Ответ очень остроумен. Она говорит, что если все последствия развода, вся обратная сторона медали ничего не значат, то пусть он испытает их на себе; что если сознаться в прелюбодеянии — ничего, то пусть он сознается сам, может быть, ему, мужчине, это будет еще легче, чем ей, женщине. «Вы трактуете об имуществе, которое останется после вашей смерти, — пишет она мужу, — но зачем же говорить о смерти, думая о таком житейском деле, как развод; вы говорите, что мои воспитанник не будет обеспечен, да я и не просила о его обеспечении, но я ваша жена, и мы оба должны заботиться о сыне, а он одинаково получит наследство как от меня, так и от вас, в чьих бы руках оно ни было». Вы видите, господа присяжные, как говорят и пишут в этом деле супруги 3-ны. Так ли говорят люди, из которых один оскорблен, а другой виновен, так ли объясняются— обманутый муж и неверная жена? Конечно, не так. Поэтому мы можем признать, что встреча с Корзуном в том виде, как она рассказана 3-м, никогда не была в действительности.
В дополнение к этому выводу я укажу вам на довольно интересные числа. Александр Хороманский, поверенный 3-на, заявил здесь, что он, при знакомстве с ним., в одно из первых свиданий, узнал, что он хочет начать дело о разводе и что у него есть свидетели, которые видели прелюбодеяние жены. Без сомнения, 3-н говорил Хороманскому о прелюбодеянии жены при первом свидании, потому что иначе незачем им было видеться, не для чего была помощь Хороманского. 3-н знал, что одного согласия и сознания жены недостаточно, что нужно что-нибудь существенное, а этим существенным, конечно, представлялись свидетели. Только имея в виду свидетелей, он мог обратиться к Хороманскому; только имея их в руках, Хороманский мог начать дело. Вы слышали из показания Хороманского, что он познакомился со своим доверителем за 15 месяцев до 14 января 1872 г., т. е., следовательно, в половине октября 1870 года. Здесь на суде Хороманский говорит, что это было в конце ноября или в начале декабря. Но это показание, эта поздняя перемена времени знакомства лишены значения, потому что он же сам весьма откровенно заявил здесь, что, вместе со следователем определяя время знакомства, для точности высчитывал месяцы и затем уже подписал показание; арифметическую же ошибку здесь допустить трудно. Итак, начало их знакомства— половина октября, и первый разговор о свидетелях— никак не позже конца октября. Но откуда мог знать 3-н о свидетелях? От Корзуна. С Корзуном он встречался — они оба согласно показывают — в конце декабря. Но как он мог говорить в октябре о свидетелях, о которых узнал только в декабре? Это новое доказательство неправдоподобности и вымышленности показаний 3-на о разговоре с Корзуном. Из всего указанного мною, кажется, ясно вытекает лишь одно, — что оба эти лица, условливаясь начать и вести бракоразводное дело, знали, что свидетели будут. Они и были.
Затем обращаюсь к порядку, которым создались показания господ Залевского и Гроховского. Он весьма оригинален. Первый, кто сообщает обо всем 3-ну,—это Корзун. Корзун с горьким чувством рассказывает о слышанном, старается оградить честь незнакомого ему человека и, как истинно добрый человек, принимая в нем участие, считает себя вынужденным рассказать о том, что ему известно про его жену. Он оговаривается, впрочем, что сам ничего не видел, но слышал это от достоверного человека — от Гроховского. Берем господина Гроховского. Да! Господин Гроховский видел происходившее в номере гостиницы, он присутствовал при цинической сцене, видел женщину, которая явно и бессовестно прелюбодействовала. Он сам ее не знал, но ему говорил, что это 3-на, достоверный человек, Залевский, который ее знает. Возьмем Залевского. Залевский тоже возмущен виденной картиной и под присягой подтвердил, что он знает, что это была госпожа 3-на. Он убежден в этом. Он знает даже ее родословную. Она дочь знаменитого в своем роде П-го, и ее-то с любопытством рассматривал он в театре. В том театре был человек, который достоверно знал, что это именно госпожа 3-на. Он-то и показал на нее Залевскому. Это был Карпович. Позовем господина Карповича… Но его мы уже не позовем, так как оказывается, что он умер прежде, чем на него сослался господин Залевский. И вот, таким образом, является ряд свидетелей, из которых каждый говорит вещи почти неопровержимые и никто не несет прямой обязанности за сказанное. Они составляют неразрывную цепь между собою, которая начинается с Корзуна и, по-видимому, терялась бы в пространстве, если бы господин Карпович не умер. Каждый свидетель соприкасался со своим соседом по этой цепи лишь малою частицею своего показания, но в этой же частице он снимает с себя бремя ответственности и перекладывает его на соседа. Это перекладывание, думается мне, могло идти очень далеко. Но господин Карпович умер: «Мертвые срама не имут» *, и на нем можно было остановиться. Можно было, как оказывается, и еще найти одно лицо, которое поддержит фонды подсудимых. Таким лицом является господин Иваницкий. Но вы слышали господина Иваницкого, вы его видели, и я думаю, что незачем разбирать его показания. Скажу только, что этот свидетель имеет слишком необыкновенные качества для того, чтобы пользоваться ими при обсуждении обыкновенного дела. Он обладает удивительным свойством дальнозоркости, и для него до такой степени не существует непроницаемости, что из второго ряда кресел Мариинского театра он видит, кто сидит во втором ярусе Большого театра. Мне жаль, что подсудимые оторвали от занятий этого канцелярского чиновника, получающего 23 руб. жалованья в месяц и ходящего слушать Патти в «Мариновский» театр, где он платит за кресло второго ряда «когда рубль, а когда и два». Его показание мало подвигает нас вперед. Обратимся опять к числовым данным. Дело началось собственно с призыва обвиняемых в канцелярию обер-полицеймейстера в половине мая 1871 года. Но какое спокойствие, какая уверенность в своей невинности сопровождает господ Залевского и Гроховского чрез все дело! Они не заботятся о своей защите,_ они считают излишним утруждать себя мыслью, что в показании их могла быть ошибка. Они не думают обратиться к первоначальному источнику своих показаний. Если Карпович, который тогда был еще жив, и Иваницкий могли так правдиво подтвердить их показание, то зачем же они не сослались на них в самом начале дела? Их спрашивают в полиции 15 мая, их спрашивают в консистории в начале июля под присягою и тем дают им основательный повод размыслить о том, как, если дело пойдет дальше, объяснить свои показания, повод порыться в своей памяти, чтобы найти, кто именно был тот, который явился первым звеном цепи их показаний. Однако они не припоминают, они, по-видимому, даже не желают припомнить. Наконец, 16 августа 1871 г. начинается следствие, дело принимает очень серьезный характер. Это уже не консистория, — тут виден в далекой перспективе окружной суд и присяжные заседатели. Нужно, очень нужно подумать о своей безопасности! Но и здесь господа Залевский и Гроховский не разрешают дела кратким, но достоверным указанием на первоначального свидетеля, который мог их ввести в заблуждение. Залевский говорит «о знакомых», о том, что ему «говорили», «показывали», «рассказывали», что это сидит в ложе госпожа 3-на. Их заключают под стражу 7 декабря, они лишены свободы, дело принимает, очевидно, чрезвычайно опасный характер, на них лежит очень серьезное обвинение. Что же, заботился ли Залевский указать на то лицо, которое показывало ему в театре госпожу 3-ну? Побуждает ли Гроховский своего товарища спасти его и себя? Нисколько! 29 декабря им делают очный свод с госпожой 3-ной, они не признают в ней виденную ими в гостинице «Роза» женщину, и тогда их выпускают на свободу. Наконец, только 20 марта, в день заключения следствия, господа Карпович и Иваницкий являются на сцену. Говорят, что позднее раскаяние бесполезно. Позволительно думать, что позднее оправдание, приводимое в таких обстоятельствах, как настоящие, более чем бесполезно. Оно может быть даже вредно, ибо бывает сопряжено с пользованием такими услугами, как показание господина Иваницкого. Стоит обратить внимание и на нравственную связь этих свидетелей между собою. Какие это в сущности добрые и предупредительные люди! Как они охотно не отказывают' в помощи господину 3-ну! Как каждый из них принимает живое и серьезное участие в судьбе бракоразводного дела, отвлекаясь от обычных занятий, подвергаясь преследованиям! И ужели это все делается безвозмездно? Ужели это делается так, просто, по участию? Нет ли здесь выгоды, нет ли в этом деле присутствия сильного рычага — рычага денежного? Недаром же господин Хороманский, приезжая к госпоже 3-ной в Москву и требуя согласия на развод, говорил, что иначе и свидетели найдутся, прибавляя, что с деньгами можно все сделать.
Я думаю, что, насколько позволяют время и ваша усталость, я достаточно указал на отрицательную сторону дела, на искусственность связи в показаниях подсудимых и, наконец, на вымышленность поводов к начатию дела со стороны господина 3-на. Обращаюсь к положительной стороне дела, к указанию, как, по мнению обвинительной власти, создалось это дело.
Господин 3-н уже давно не любит свою жену, давно с нею разлучился и в Вильне, в Великих Луках, завел новую семью, членом которой была личность, заменявшая ему жену. Он, по-видимому, был привязан к этой личности сильно, он писал к ней исполненные нежнейшей ласки письма, в которых высказывал надежду на развод с женою и выражал уверенность в успехе. В одном из писем, исполненном привязанности к ней, к той Кате, которая должна приехать и разогнать его тоску, есть несколько сухих и холодных слов, в которых сообщается о том, что жена очень сильно и опасно больна. Эти слова находятся в таком разладе с радостным тоном всего письма, что их можно считать тоже за радостное известие. Итак, мысль о разводе явилась и созрела уже давно. Развод необходим и крайне желателен. С этою созревшей мыслью господин 3-н является в Петербург. Вести дело самому он считает неудобным, надо найти ходатая. Ходатай есть, он объявляет о себе в газетах как об «адвокате по семейным и бракоразводным делам». Господин 3-н и обращается к ходатаю, а через этого ходатая знакомится и с его братом, который, в свою очередь, знакомит его с своею родственницей, которой господин 3-н сразу начинает помогать деньгами и писать письма на французском языке. Таким образом, он входит в сношение с кружком этих лиц и ему поручает устройство своей судьбы. Прежде всего необходимо приготовить госпожу 3-ну к мысли о разводе с принятием на себя виновности. Поэтому сначала посылаются к ней искательные и широко обещающие письма, а затем едет в Москву Александр Хороманский. 3-на остается непреклонна. Ни обещания, ни угрозы не действуют на нее. Она хочет видеть мужа, не желает позорить себя признанием своей виновности и прогоняет ходатая. Тогда приходится и без нее обойтись. Обойтись можно, и это доказывает настоящее дело. Свидетели найдены, дело можно начинать и, играя присягою, довести до благополучного конца. Но дело нужно вести в Москве, по месту жительства ответчицы, а это неудачно, потому что туда пришлось бы переносить всю организацию, которая образовалась здесь. Поэтому надо изменить подсудность дела, надо вызвать ответчицу в С.-Петербург, поселить ее здесь. И вот под предлогом соглашения, под предлогом переговоров, которые могут привести к цели, госпожа 3-на вызывается в Петербург и ей посылаются для этого деньги. Хотя после ее категорического отказа принять на себя вину и заявления, что она только хочет видеть мужа, — чего он, по-видимому, не особенно добивался, — все сношения с нею надо бы считать прерванными, муж посылает ей денег и дает средства приехать в Петербург. К чему этот приезд, к чему ненужная трата 300 руб., когда для переговоров можно бы за 50 руб. опять послать в Москву Хороманского? Я позволю себе утверждать, что иначе трудно смотреть на приезд госпожи 3-ной, на посылку за нею, как на искусственное привлечение ее в Петербург для начатия здесь дела. Когда подсудность Петербургу устроена, начинается подпольная работа и подготовляются показания свидетелей, которым господин Хороманский, по его собственным словам, «делал визиты». Но в то время, когда все дело, как говорится, «на чеку», девица Маркелова с детскою болтливостью объявляет, что ей обещают 200 руб. за ложное показание. Среди слушателей находится Мелихов, молодой моряк. Он оказывается весьма порядочным человеком. Я думаю, что в настоящем деле он единственный свидетель, до которого это дело не коснулось своею грязной стороной. На него можно указать, как на своего рода оазис среди нравственной пустыни свидетельских показаний. Он слышит, что подкупают свидетелей, возмущается и требует, чтобы Кузьмина пошла и сказала об этом 3-ной. Кузьмина идет и рассказывает, и вследствие этого изменяется ход всего дела. Правда, все свидетели старались представить Кузьмину в таком виде, который едва ли привлекателен, и я не говорю, чтобы ей можно было особенно симпатизировать. Но если отбросить все, относящееся к ее частной жизни, то оказывается, что она по делу повинна лишь в том, что ждала денег от госпожи 3-ной за помощь в раскрытии интриги, которая велась против нее. Я готов согласиться, что она действительно могла ждать и ждала денег. Но что же из этого?
Она тревожилась, она беспокоилась, ее таскали в полицию, по судам, в консисторию. Она считала себя имеющей право па «благодарность». Наконец, и нельзя требовать особого бескорыстия со стороны дамы, которая была компаньонкой госпожи Маркеловой для поездок в Орфеум и тому подобные места. Но это свойство не изменяет силы ее показания потому, что все последующее его подкрепляет. Когда заявление сделано, госпожа 3-на начинает защищаться и вызывает в канцелярию обер-полицеймейстера господ Залевского и Гроховского. Они видят, что дело плохо: канцелярия обер-полицеймейстера вообще для неимеющих определенных занятий, а лишь занимающихся приисканием их, должна казаться местом довольно неприятным. Они дают показание, в котором заранее отрекаются от показания, которое будет дано в консистории. Особенно красноречиво показывает господин Гроховский. Он просто не знает, зачем приходил к нему господин Хороманский, который не объяснил даже «докладно», чего он хочет, так что он, Гроховский, под давлением совести, которая его «наказует», заранее говорит, что ничего не знает о 3-ной, а если что и узнает от Хороманского, то тотчас же сообщит в канцелярию обер-полицеймейстера. Но когда дело дошло до допроса под присягой, то и Залевский и Гроховский дали известное нам показание. Как могли они решиться на это? Почему они дали его, отрекшись предварительно?
Господа присяжные, эти подсудимые были орудием в руках опытного дельца. Этот делец был Генрих Хороманский. Он не подлежит нашему суду, он лишился рассудка, но из всего дела видно, что он был душою его, душою заговора против 3-ной. Он, конечно, знал, что неформальные показания, данные не перед судом, а в административной канцелярии, для суда, строго заключенного в формы, какова консистория, не имеют никакого значения. Это был опытный делец по бракоразводным делам. В деле есть отношение консистории, в котором указывается, что он вел с успехом три бракоразводных дела. Такого дельца не могли устрашить клочки бумаги, где написаны неформальные слова свидетелей. В его глазах эти клочки безвредны, потому что в глазах консистории, которая строит все на присяжных показаниях, они ничтожны. Это, конечно, было ясно и наглядно объяснено свидетелям. Конфуз, вызванный в них кацеляриею обер-полицеймейстера, прошел — убеждения же Хороманского и тот рычаг, о котором я говорил выше, остались. У них оказалась полная свобода показать все, что необходимо. Так они и сделали, и притом под присягой. Дело было исправлено отчасти после ущерба, нанесенного болтливостью Маркеловой и порядочностью Мелихова. Правда, в кем осталась одна свидетельница, которую трудно направить на полезный путь, — это Кузьмина. Но что трудно, то не невозможно. Прежняя ссора забыта, и за Кузьминою начинается ухаживание, высказывается желание с нею помириться; ей назначают свидание то в «Hotel du Nord», то в гостинице «Рига». Кузьмина, по-видимому, поддается, и ей дается 10 руб. Маркеловою в задаток от господина 3-на за то, чтобы она отказалась в консистории от того, что заявила в канцелярии обер-полицеймейстера. Этот факт дачи 10 руб. не подлежит сомнению. Что 10 руб. были даны, это подтверждает сама Маркелова, которая говорит, что отдала долг. Это подтвердил и Маркелов, который сказал, что эти деньги его сестра дала в долг Кузьминой; наконец, что они были даны — это доказывает и протокол, составленный сыскной полицией, с приложенными к нему 10 руб., которые Кузьмина принесла в полицию. Дача этих 10 руб. составляет неопровержимый факт, и можно даже поверить характеристическому показанию Кузьминой о том, как эти 10 руб. попали в руки Хороманского в виде 50 руб., вышли из них в виде 15 руб., а побывав в руках Маркеловой, обратились в настоящие 10 руб. Деньги эти Кузьмина взять взяла, но передала их полиции. Вскоре началось следствие. Результат его — будет ваше решение, господа присяжные заседатели. От вас зависит разрешить, права ли была обвинительная власть, доводя это дело до вашего суда, или же правы подсудимые, думающие, что во всем виноват умерший Карпович, да в особенности госпожа 3-на, тем, что она дочь П-го и этим привлекает на себя внимание.
Вглядываясь в настоящее дело, я нахожу, что оно представляет собою очень умно веденную и коварную интригу мужа, желающего отделаться от жены во что бы то ни стало, какими бы то ни было средствами, причем призываются на помощь всевозможные темные и сомнительные личности и, как застрельщики, высылаются вперед ложные свидетели. Действуя ловко, обдуманно и с надлежащею помощью, эти господа целой цепью показаний опутывают госпожу 3-ну и заранее торжествуют победу, забывая, что эта победа для порядочной, с пробивающеюся сединою 40-летней женщины будет равняться клейму глубокого позора, не смываемого во всю ее последующую, одинокую и, быть может, нищенскую жизнь! Я думаю, однако, что ваш приговор может показать, что надежда на эту победу была весьма обманчивая. В настоящем деле нравственно виновных лиц больше, чем виновных юридически, но, к сожалению, я могу говорить только о вине, подходящей под положительные указания карательного закона. Я обвиняю господ Залевского и Гроховского в том,что они дали обдуманно ложное показание в консистории, клонившееся к расторжению брака 3-ных, вопреки желанию одной из сторон. Мне нечего распространяться о важности этого преступления. Если измерять важность преступления его опасностью, то это преступление занимает одно из первенствующих мест. Подобного рода лжесвидетели, измышляя то, чего нет, рассказывая факты искаженным образом, клевеща и говоря ложь, пользуются самым неотразимым и страшным орудием — словом. Не рискуя, подобно вору, каждую минуту своею безопасностью, никогда не действуя под влиянием увлечения или страсти, что бывает зачастую и в убийстве, они действуют всегда неожиданно для других и очень обдуманно и безопасно для себя. Они являются со своими отточенными и напитанными ядом показаниями пред суд, и горе тем, в чью семейную или частную жизнь они заползут со своею ложью! Они по большей части неуловимы, потому что всегда хорошо обставили себя и приготовили себе выходы. Они и не затруднены исполнением своего дела. Им нужно лишь уменье связно говорить, отсутствие способности краснеть и присутствие способности заставить замолчать свою совесть в ту минуту, когда их лживые уста прикоснутся к вечной книге, в которой написаны слова святой истины. Подобные деятели опасны в обществе, и чем их больше, тем они становятся опаснее, потому что составляют компании и товарищества взаимного вспомоществования. Поэтому обществу приличнее всего защищаться от них своими собственными средствами. Одним из лучших таких средств должен быть ваш суд, господа присяжные заседатели…
ПО ДЕЛУ О СТАНИСЛАВЕ И ЭМИЛЕ ЯНСЕНАХ, ОБВИНЯЕМЫХ ВО ВВОЗЕ В РОССИЮ ФАЛЬШИВЫХ КРЕДИТНЫХ БИЛЕТОВ,
И ГЕРМИНИИ АКАР, ОБВИНЯЕМОЙ В ВЫПУСКЕ В ОБРАЩЕНИЕ ТАКИХ БИЛЕТОВ *
Господа судьи, господа присяжные заседатели! Позднее время, в которое начинаются судебные прения, утомительное судебное заседание и, наконец, то внимание, с которым вы слушали настоящее дело, обязывают меня и дают мне возможность быть кратким, дают возможность указать лишь на главные стороны дела, основанием которых послужат только те данные, которые вы слышали и оценили на судебном следствии. Я не буду касаться многих побочных обстоятельств и мелочей, полагая, что они все оставили в вас надлежащее впечатление, которое, конечно, повлияет и на ваше убеждение. Когда возникает серьезное обвинение, когда на скамье подсудимых сидят не совсем обыкновенные люди, когда они принадлежат не к тому слою общества, который поставляет наибольшее число преступников, — если не качеством, так количеством, — то, естественно, является желание познакомиться с личностью подсудимых, узнать свойства и характер самого преступления. Быть может, в их личности, быть может, в свойстве самого преступления можно почерпнуть те взгляды, которыми, необходимо руководствоваться при обсуждении дела, быть может, из них можно усмотреть и то необходимое и правильное освещение фактов, которое вытекает из отношения подсудимых к этим фактам.
Пред вами трое подсудимых. Один из них старик, уже оканчивающий свою жизнь, другой — молодой человек, третья — женщина средних лет. Все они принадлежат к классу если не зажиточному, то во всяком случае достаточному. Один из них имеет довольно прочное и солидное торговое заведение; он открыл и поддерживает в Петербурге торговый дом, у него обширные обороты, он занимается самою разнообразною деятельностью: он и комиссионер, и предприниматель, и прожектер, и член многих, по его словам, ученых обществ, наконец, — человек развитой и образованный, потому что получил во Франции даже право читать публичные лекции; он некогда занимался медициной, но затем оставил ее и пустился в торговые обороты, посвящая этим оборотам всю свою деятельность и все свои способности для того, чтобы довести эти обороты до возможно большего объема. Поэтому у него положение в коммерческом мире довольно хорошее и прочное. Вы слышали здесь, что он производит большие уплаты и находится по делам в связи с главнейшими торговыми домами. Другая личность — его сын. Он стенограф, говорят нам. Чтобы он был хороший стенограф, об этом судить трудно. Мы знаем из его собственных слов, что он не может прочесть стенографической надписи на карточке, отзываясь, что забыл стенографию в течение двух месяцев. Но тем не менее, он еще может выучиться своему делу, и если у него нет прочного положения в обществе, то зато у него есть семейство, любящая мать, занимающийся обширною торговлею отец, молодость, силы, надежды на будущее и, следовательно, наилучшие условия, чтобы зарабатывать хлеб честным образом. Наконец, третья — модистка высшего полета, имеющая заведение в лучшем месте Петербурга и посещаемая особами, принадлежащими к высшему кругу общества. Таковы подсудимые. Они обвиняются в важном и тяжком преступлении. Есть ли это преступление следствие порыва, страсти, увлечения, которые возможны при всяком общественном положении, при всякой степени развития, которые совершаются без оглядки назад, без заглядыванья вперед? Нет, это преступление обдуманное и требующее для выполнения много времени. Чтобы решиться на такое преступление, нужно подвергнуться известному риску, который может окончиться скамьею подсудимых, как это случилось в настоящем деле. Чтобы рискнуть на такое дело, нужно иметь в виду большие цели, достижение важного результата и, притом, конечно, материального, денежного. Только ввиду этого результата можно пойти, имея уже определенное общественное положение, на преступление. Но если важен результат, если заманчивы цели, если решимость связана с большим риском, если можно видеть впереди скамью подсудимых и сопряженную с нею потерю доброго имени и прочие кевеселые последствия, то, естественно, что при совершении этого преступления нужно употребить особую энергию, особую осмотрительность, обдумать каждое действие, постараться обставить все так хитро и ловко, чтобы не попасться, постараться особенно, чтобы концы были спрятаны в воду. Итак, вот свойства подобного преступления. Преступление это есть распространение фальшивых кредитных билетов. Я полагаю, что излишне говорить о его значении. Оно представляется с первого взгляда, по-видимому, не нарушающим прямо ничьих прав; в этом один из главных процессуальных его недостатков. Пред вами нет потерпевших лиц: никто не плачется о своем несчастии, никто не говорит о преступлении подсудимого с тем жаром, с каким обыкновенно говорят пострадавшие. Но это происходит оттого, что потерпевшим лицом представляется целое общество, оттого, что в то время, когда обвиняемый сидит на скамье подсудимых, в разных местах, может быть, плачутся бедняки, у которых последний кусок хлеба отнят фальшивыми бумажками. Этих потерпевших бывает много, очень много. Во имя этих многих, во имя тех, которые не знают даже, кто их обидел и отнял их трудовые крохи, вы, господа присяжные заседатели, должны приложить к делу особое внимание и, если нужно, то и особую строгость. Замечу еще, что дела подобного рода возникают довольно часто, но на суд попадают редко, и причина тому — обдуманность и хитрость исполнения. Только случай, счастливый случай — если можно так выразиться — представляет судебной власти возможность открыть виновников этого рода темных дел и коснуться тонко сплетенной сети подделывателей и переводителей фальшивых бумажек. Такой случай был в настоящем деле, и с него лучше всего начать изложение обвинения.
Вы знаете, в чем состоял этот случай. К курьеру французского министерства иностранных дел Обри явился неизвестный человек, назвавшийся Леоном Риу. Он принес ему посылку и просил отвезти ее в Петербург. Обри решился взять эту посылку. Как курьер, он нередко это исполнял, и понятно, почему исполнял. Он не подвергается таможенному досмотру, везет беспошлинно всю кладь, а между тем бывают драгоценные вещи, которые можно переслать и верно, и дешево, и не безвыгодно для курьеров. Вы слышали показание Газе, который говорит, что Обри не хотел согласиться, но что начальник его приказал взять посылку. Может быть, это и так. Из дела видно, что Риу действовал особенно настоятельно, что он покланялся и начальнику Обри, чтобы посылка была отправлена. Во всяком случае, ввиду ли выгодного обещания или просто, чтобы отвязаться от навязчивого просителя, но Обри везет ее в Петербург вместе с депешами Тюильрийского кабинета. Что же такое в посылке? Это, как говорил курьеру Риу и как значится в безграмотном переводе, артикулы, т. е. образцы товаров. Посылка пустая по цене, она стоит 30 франков, ее можно бросить куда-нибудь, и она бросается в саквояж, где клеенка, которою она обшита, распарывается. В Петербурге у Обри является желание посмотреть содержимое посылки, и не защищенные больше оболочкою, в ней оказываются фальшивые бумажки. Об этом заявлено, и вот благодаря несколько необычной любознательности французского курьера русские кредитные билеты попадают на стол вещественных доказательств нашего суда. Вы знаете, что Янсены были затем арестованы. Обстоятельства этого ареста вам более или менее известны. Я не считаю нужным их повторять, но напомню только вкратце, что к Обри сначала явилась госпожа Янсен, но ей Обри не отдал привезенной посылки; она просила его отдать, сначала с видимым равнодушием, потом настойчиво и тревожно, обещала ему 100 франков, была до крайности любезна и ласкательна… но и 100 франков не склонили Обри отдать посылку; он не поехал в театр, куда его звала госпожа Янсен, и не согласился на ее предложение заехать к ней пообедать. Это последнее предложение было весьма обдуманно, потому что, если бы ехать в чужой дом обедать, то, конечно, надо было из простой любезности захватить и посылку, адресованную в этот дом. На другой день явились оба Янсена, отец и сын. Они получили посылку; отец предложил сыну расписаться и выдал деньги по требованию Обри, немножко поспорив о размере вознаграждения. Затем они вышли. Но едва только они вышли, как старика окружило двое или трое людей. Оказалось, что это чины сыскной полиции, и отец был задержан. Вы слышали показание Э. Янсена, который говорит, что их разделило проходившее по улице войско, и он, видя, как к отцу подошел кто-то, перешел с ящиком под мышкой через улицу, чтобы узнать, что случилось с отцом, но также был задержан. Э. Янсен говорит, что если бы он знал, что в ящике, то мог бы бежать, мог бы бросить ящик в канаву, но я полагаю, что объяснение это не заслуживает уважения. Бежать он не мог, потому что, не перейдя через улицу, он не знал еще, что отца остановила полиция, а не какое-либо неопасное частное лицо, а потом бежать было уже нельзя, его сейчас бы схватили; в воду бросить — тоже некуда, ведь дело было в начале марта, и вода в канаве была покрыта льдом; остается отдаться полиции. Очевидно, что пришлось попасть в засаду; очевидно, прошла пора физического сокрытия следов преступления, а осталась лишь возможность скрыться от преследования путем умственного напряжения, т. е. посредством разного рода хитросплетенных и тонких оправданий. Таким образом — они арестованы с фальшивыми бумажками; признаки преступления очевидны; арестованные у Эмиля Янсена бумажки привезены из Парижа. Понятно, что способов объяснения только два: или они получены заведомо, или нечаянно, но незнанию, и в таком случае Эмиль Янсен играет роль несчастной жертвы, попавшейся в руки интриганам, которые его погубили для своих целей. И вот, действительно, такое объяснение является в устах Янсена. Он рассказывает, что в Париже к нему пришел некто Вернике, бронзовых дел комиссионер, с которым он встречался в кафе и мало его знал. Вернике, узнав, что Янсен едет в Петербург, просил его, взяв с собою посылку, передать по принадлежности. Забыв посылку, Янсен обратился к своему дяде Риу, который прислал ее через курьера. Риу это подтвердил, но потом, по расчету, или же, быть может, желая показать правду, говорил иное. Я не придаю значения его показаниям, потому что оба считаю ложными, но, во всяком случае, как на более правдивое, указываю на второе показание Риу. Он говорит во втором показании, что племянник собирался ехать, получив известие о болезни матери, и торопился; что при хлопотах о паспорте какой-то ящик стеснял его и он дал ящик дяде, чтобы тот отдал при отъезде; дядя забыл это сделать, потом получил телеграмму от племянника и вслед затем письмо, в котором Эмиль Янсен просил дядю ящик отправить через французского курьера, что и было сделано. На этом Риу умолкает и продолжает уже Янсен. Ящик был отправлен в Петербург, где должен был быть получен каким-то мифическим лицом, каким-то Куликовым, который, по словам Эмиля Янсена, явился к нему за 10 дней до получения посылки, до приезда Обри, и очень сердился, что посылка еще не привезена, настойчиво требовал, чтобы она была ему прислана, и затем обещал снова явиться, но не являлся. Думаю, что внимательное рассмотрение такого рассказа приводит к убеждению, что он с начала до конца неверен и выдуман Янсеном в свое оправдание.
Прежде всего, в этом рассказе встречаются на первом плане действия переводителей фальшивых бумаг. Эмиль Янсен попал в руки двух лиц: Вернике, который через его дядю отправил бумажки, и Куликова, который их должен был получить. Посмотрим, как действуют эти лица. Вернике приносил к Янсену посылку для отправления, а ведь Янсен обыкновенный человек, едет обыкновенным путем в Петербург. Этого Вернике не может не знать. Но багаж обыкновенных путешественников осматривается в таможнях, и, вероятно, и у Эмиля Янсена тоже осмотрят, могут у него найти фальшивые бумажки, и они пропадут. Но фальшивые бумажки, как бы плохо они ни были сделаны, а настоящие сделаны хорошо, представляют известную ценность, они стоят, в смысле труда, дорого, и подделка их сопряжена с большим риском, поэтому отдавать их незнакомому человеку, зная, что они при таможенном обыске могут весьма легко пропасть, по меньшей мере неосторожно, и обличает неуважение к своему труду в таких ловких людях, как фальшивые монетчики, которые, конечно, работают не из простой любви к искусству. Итак, вот первая странность со стороны Вернике. Затем Вернике все-таки оставляет эти бумажки у Эмиля Янсена. Понятно, что, оставляя их, он должен бы был известить немедля своих сообщников о том, где они находятся. Но он этого не делает сейчас же, потому что Эмиль Янсен приехал в Петербург 21 января, а Куликов явился гораздо позже. Это объясняется отчасти рассказом Риу. Вы слышали, что посылка передана Риу, который отправил ее в ящике. По мнению Риу и Эмиля Янсена, в этой коробке французские товары на сумму в 30 франков. Вы знаете, что Обри, французский курьер, уехал из Парижа, как он показывает, около 8 марта. Затем, за семь дней до его отъезда, к нему Риу принес коробочку с бумажками, следовательно, это было около 1 марта по французскому стилю, т. ,е. это было, во всяком случае, не ранее 16 февраля по русскому стилю. Куликов же явился за 10 дней до приезда Обри в Петербург: приезд этот произошел 1 марта нашего стиля, следовательно, Куликов явился 18 февраля. Таким образом, он явился через два дня после того, как Обри получил бумажки. Предположим, что Вернике телеграфировал своему сообщнику, но он мог телеграфировать только после того, как Обри согласился везти пакет. В таком случае Куликов явился чересчур скоро, немыслимо скоро. Ему телеграфировали 16 февраля, что Обри взялся везти бумажки, а 18 он уже является за их получением, да еще сердится, что Обри не доехал из Парижа в одни сутки! Но предположим, что телеграммы не было послано, а было послано письмо, в котором Вернике извещал, что бумажки сданы Обри и прибудут к Янсену. Письмо это могло быть отправлено в день вручения бумажек, следовательно, 16 февраля. Письмо из Парижа получается на четвертый день, следовательно, могло быть в Петербурге только 20 февраля, между тем, Куликов является 18. Каким же образом он мог прийти ранее получения письма? Таким образом, в действиях Куликова представляется явная несообразность. По числам мы видим, что если он получил телеграмму, то явился слишком рано, если же получил письмо, то должен бы явиться гораздо позже; между тем он является в срок, слишком ранний для телеграммы и невозможный для письма. Затем Куликов знает, что ему отправлены фальшивые бумажки; он заботится о посылке, сердится, что бумажки в свое время не прибыли, а между тем не оставляет Янсену своего адреса, не приходит в течение 12 дней, не приходит и до настоящего времени. Где же этот пере-водитель или приемщик, куда он девался? Оставил он бумажки на произвол судьбы? Забыл о них? Но это невозможно: ведь бумажки представляют целый капитал в 18 тыс.! Ведь не случайный же он человек в этом, хотя и опасном, но выгодном предприятии, если ему прямо были адресованы бумажки!
Потом этому же Куликову поручено передать печать дома Бурбонов. Это тоже довольно странное явление. Зачем какому-то Куликову печать дома Бурбонов? И зачем не укротил гнев Куликова Эмиль Янсен хотя бы отдачею печати? Вы видите, что оба — и отправитель, и получатель посылки — действуют странно: оба поручают ее лицу, им совершенно неизвестному; оба сначала употребляют большие хлопоты, чтобы отправить и получить ее, сердятся, шумят и затем внезапно умолкают, мало того — оба исчезают* и притом бесследно. О Куликове мы не имеем никаких сведений, о Вернике также. Из справки французской адресной экспедиции видно, что никакого Вернике никогда не жило в той местности, на которую указал Эмиль Янсен. Есть указание на какого-то португальского выходца, но он уже уехал ив Парижа, когда шло дело об отправке посылки; этот же Вернике был, по словам Янсена, не португалец и имел определенные занятия и постоянное местожительство.
Посмотрим теперь на действия самого Эмиля Янсена и Риу. Ведь ящик, который должен был быть отправлен в Петербург, заключал в себе весьма недорогие вещи: образчики товаров, оцененные в 30 франков. Их нужно перевезти в Петербург. Очевидно, их поручают перевезти не по почте потому, что не желают заплатить несколько франков почтовых расходов, а между тем какие из-за этого хлопоты! Эмиль Янсен оставляет пакет в Париже у дяди и говорит, что поручил отдать его себе в минуту отъезда, т. е. тогда, когда берут с собою самые нужные вещи, которые надо всегда иметь под рукою, а не в багажном вагоне. А тут чужая, малоценная посылка, с которою придется возиться всю дорогу, бояться утраты ее, рисковать забыть и т. д. Но пусть будет так! Дядя позабыл ее отдать на станции железной дороги — и Эмиль Янсен уехал без драгоценного ящика с образчиками товаров на 30 франков. Но что за важность, если он забыл пустую посылку, оцененную недорого и порученную ему малознакомым человеком? Ведь ее можно прислать по почте и, в наказание за забывчивость, заплатить за это несколько франков. Но мы видим, что из-за пустой посылки начинаются большие затраты, посылаются телеграммы, которые стоят по 4 руб., между тем как посылка по почте стоила бы не более 4 франков, начинается писание писем, являются хлопоты и беготня. Из письма Эмиля Янсена к Риу видно, что он должен отыскивать адрес курьера, ходить в министерство, кланяться и умолять начальника Обри… Наконец, Риу должен обещать вознаграждение курьеру, торгуясь, по словам письма Эмиля, но немного. И эти-то затраты и хлопоты происходят из-за образчиков в 30 франков! Правдоподобно ли это? Защита здесь приводила письмо Риу к Эмилю Янсену, в котором он рассказывает о своих хлопотах и пишет, что первые хлопоты были неудачны. Защита обращает особенное внимание на то, что письмо приходит из Парижа 12 февраля, т. е. до отправки письма Эмиля Янсена к Риу, в котором он просит хлопотать в министерстве, просит исполнить поручение относительно отправки посылки. Но что же это доказывает? Доказывает только, что нужно было хлопотать в министерстве даже до получения письма Эмиля. Откуда же знать об этом Риу? Из телеграммы, которая была ему прислана, как видно из его письма к Эмилю. Он отвечает на эту телеграмму, что в министерстве ничего нельзя устроить. Затем, 14 февраля, ему посылается письмо с более подробными указаниями. Может быть, нам скажут, что это вызывалось обещанием Куликова, который, рассердившись, что бумажек нет, выразил обещание заплатить много, лишь бы посылка была скорее на месте. Но Эмиль Янсен показал, что Куликов приходил за десять дней до прибытия посылки через Обри, т. е., как мы уже доказали, ни в каком случае не позже 18— 20 февраля. Между тем, письмо Эмиля Янсена, в котором он требует, чтобы Риу так сильно хлопотал, помечено 14 февраля, т. е. до прихода еще Куликова, когда, следовательно, никто не мог обещать вознаграждения и сам Эмиль знал только, согласно своему рассказу, что ему был поручен маленький ящик с образчиками товаров. Такими представляются действия Риу и Эмиля Янсена. Действия эти весьма странны. Они указывают, вместе с отсутствием Куликова, на то, что Эмиль Янсен не мог не знать, что находится в ящике, который отправляется к нему. Почему он пересылается через Обри — это весьма понятно: Обри не будут осматривать, он может провезти бумажки безопасно; но ни по почте, ни самому везти их нельзя. Единственное средство препроводить бумажки.— это или запрятать их в какой-нибудь товар, например в карандаши, как это делается иногда, что довольно хлопотливо и трудно, или отправить их с таким лицом, которое не будут осматривать. Но такое лицо можно найти только среди дипломатических агентов, курьеров посольства. И вот обращаются к Обри. Являются хлопоты, телеграммы, деньги, и, наконец, бумажки прибывают в Петербург. Здесь их ждет Эмиль Янсен. Он посылает за ними свою мать. Но женщине их не отдают. Тогда он является со своим отцом.
Здесь мне предстоит перейти к определению отношений отца к сыну и участия его в настоящем деле.
Прежде всего возникает вопрос о том, мог ли знать отец Эмиля Янсена о том, что такое получил сын. Я думаю, что он должен был и мог это знать. Для этого существует уже одно первоначальное указание. По прибытии посылки в Петербург к Обри явилась жена Янсена и предлагала ему 100 франков. Но жена Янсена показала здесь, что она в материальном отношении была в полной зависимости от мужа: у нее нет своих средств, и она не может истратить без разрешения мужа даже такой небольшой суммы, как 25 франков. Однако она предлагает вчетверо больше, значит, уверена, что муж одобрит ее расход. На другой день является ее супруг. Он действует очень осторожно, торгуется, недоволен высокой ценой, которую запрашивает Обри, и, наконец, приказывает сыну расписаться, несмотря на то, что Обри предлагает сделать это ему, одним словом, старается остаться в тени и обезопасить себе выход. И действительно, если проследить всю деятельность Станислава Янсена, если посмотреть на его положение в деле, нельзя не заметить, что это человек, который никогда очевидным, явным, резким виновником какого-либо преступления явиться не может: он слишком опытен, слишком много пережил, слишком много испытал профессий, чтобы так легко попасться в подобном деле, как его сын, который сумел устроить все нужное для привоза бумажек, но лишь попался, тотчас же стал давать опасные для себя показания. Посмотрим на те предварительные данные, которые мы имеем для суждения о Янсене-отце в 1831 году. Он был эмигрантом и вернулся в Россию в 1858 году, когда ему было это позволено, благодаря заступничеству саксонского посланника в Париже; с этого времени он начал заниматься торговлей, сначала один, потом с Гарди, стал писать проекты и бросаться в самую разностороннюю деятельность. Такая деятельность не совершенно ясна; в ней есть много туманных пятен. Вы знаете про письмо какого-то «Старого», где говорится об условии с курьерами французского посольства — «по 15 руб. с килограмма». Какие же это посылки? Ведь Янсен ведет обширную торговлю, все, что нужно ему получить, он может получить через таможню. Он ведет, наконец, настолько важную торговлю, что не может нуждаться в нескольких франках и сберегать их посредством посылки чрез курьеров. Очевидно, он должен перевозить через курьеров такие вещи, которые трудно и даже опасно перевезти иначе. Вы знаете, что жена его живет в Париже и не раз пересылала через курьеров какие-то пакеты. Почему же их было не послать с товаром? Она заведовала его комиссиями, пересылала товары большими грузами, для чего же еще пересылать через курьеров, бегать в министерство и там хлопотать? Затем, следя далее за деятельностью Янсена-старика, мы знаем, что в 1875 году, в конце его, он вступает с Гарди в компанию. Вы слышали показание Гарди. На Гарди действительно лежат какие-то темные пятнышки. Я не стану их отрицать ввиду отзывов, которые прочла защита. Правда, что отзывы, без подтверждения их фактами, ничего не доказывают, но положим, что они более или менее справедливы, предположим, что люди не станут отзываться о ком-либо так враждебно без всяких поводов с его стороны. Положим, он был несколько нечист в своей деятельности, но в какой деятельности? Он что-то такое нечистое сделал 20 лет тому назад. Но ведь и более важные преступления докрываются давностью, а тем более проступки и увлечения, совершенные в молодости. Поэтому я думаю, что пятнышки эти можно бы уже и смыть… Допустим, однако, в угоду защите, что Гарди самый порочный человек, но все же я полагаю, что ему нельзя вовсе не верить; нет такого заподозренного человека, которому нельзя бы было сказать: «Ты лживый человек и не верен в словах, но могут же быть случаи, где и ты говоришь правду, и эти случаи будут те, когда сказанное тобою подтвердится другими побочными обстоятельствами, которые, подкрепив твои слова, придадут им непривычную нравственную силу». Обращаясь к Гарди, мы видим, что такие подобные обстоятельства существуют: это, во-первых, показание Бадера, которое подтверждает показание Гарди, и, во-вторых, заявления Гарди властям. Вы знаете, что им найдены были бумажки, спрятанные у Янсена; убедясь, что они фальшивые, он подавал ряд заявлений в особое отделение канцелярии министерства финансов., в третье отделение и к обер-полицеймейстеру. У него был опытный адвокат, как это видно из самой формы бумаг, самому же ему было некогда заниматься, и он рассказал адвокату, что компаньон его по торговле имеет фальшивые бумажки. Заявления эти, как не подкрепленные надлежащими неопровержимыми доказательствами, представить которых он и не мог, остались втуне. Вы слышали здесь его показание. Он находил у Янсена неоднократно фальшивые билеты и однажды даже нашел целую пачку фальшивых бумажек. Он говорит, что, обертывая бумажки около банок с помадой и румянами, он прятал деньги от жены. Здесь возбужден был вопрос о том, как же можно держать деньги, хотя бы и фальшивые, в незапертых помещениях, там, где находился еще слуга Михайлов, который был здесь допрошен. Я полагаю, что возбуждением такого вопроса ничего не доказывается. Шкаф, говорят, не запирался; но ведь в квартире могли быть только два лица, могущие ходить в магазин: Гарди и Янсен. К Гарди Янсен мог относиться с доверием, да ему и не надо было ходить в шкаф, так как в нем хранились разные ненужные ему вещи. Вы слышали, что Гарди заведовал лишь фабричною частью и что только случайный приезд знатной невесты заставил его отыскать среди банок с румянами бумажку. Затем, что касается до Михайлова, то он жил в особой комнате, на кухне, и когда господа уходили, то магазин запирали, запирание же лавки действительнее запирания шкафов. Одна из бумажек, взятых Гарди у Янсена, представлена к делу. Она, бесспорно, фальшивая. Вы слышали об этом удостоверение Экспедиции заготовления государственных бумаг, вы слышали также показание Бадера, который говорит, что ему бумажка была дана для размена, но никто ее не менял, как фальшивую, и она осталась. Конечно, могут сказать, что человеку, занимающемуся торговлей, среди большого количества бумажек могли попадаться фальшивые бумажки. Но он их мог бы отдать назад, или разорвать как негодные, или, наконец, снести в банк. Однако нет: он хранил их вокруг разных баночек с румянами, тщательно завернутыми. Затем вы знаете, что в Путивле жил некто Жуэ, который делал шпалы для железной дороги и между рабочими пустил в обращение немало фальшивых десятирублевых билетов. Когда эти билеты были обнаружены, то был произведен у Жуэ обыск, причем найдены 92 десятирублевые фальшивые бумажки. Жуэ бежал, и преступление осталось безнаказанным, а бумажки из его запаса распространились в большом количестве в России, как видно из сообщения Кредитной канцелярии. Жуэ переписывался с Янсеном, он находился с ним в особых дружеских отношениях, жил у него, Янсен провожал его при отъезде и хлопотал для него о месте на железной дороге. У Жуэ найдены письма к нему Янсена. Янсен утверждает, что в этих письмах говорится о присылке какого-то спринцевания и в подтверждение этого даже представляет почтовую повестку. Но она ничего не доказывает. Не говоря уже о том, что посылка полуфунта спринцевания, как говорит Янсен, за 900 верст в такое место, где есть аптека, представляется крайне неправдоподобным, гораздо легче было послать рецепт; надо заметить, что из расписки почтовой конторы вовсе не видно, чтобы Янсен отправлял спринцевание. Из протокола судебного следователя видно, что, при обыске Жуэ, у него найдено письмо Янсена, где говорится о целом ряде спринцовок. Зачем же они ему посылались? К чему укладчику шпал{ масса спринцовок? Невольно думается, что спринцовки, лишь условный термин, тем более, что эта странная, не совсем понятная пересылка требовала даже личных свиданий Жуэ и Янсена, как это видно из письма последнего, прочитанного здесь. И какая оригинальная судьба этих Янсенов! И случайный парижский приятель молодого Эмиля, и старый друг старого Станислава — один на парижском бульваре, другой в Игоревском древнем городе — оказываются весьма прикосновенными к фальшивым бумажкам одного и того же рода подделки! Таковы данные, которые мы имеем относительно прошлого Янсена-отца.
Затем мне предстоит очертить отношения Янсена к сыну по настоящему делу. Не спорю, что для того, чтобы доказывать прямо и разительно виновность С. Янсена, нужны бы письменные доказательства, которых, однако, лицо, подобное С. Янсену, никогда в деле не оставит, но полагаю, что виновность его доказывается прежде всего тем, что без него его сын и не мог бы устроить доставку бумажек. Для того, чтобы привезти фальшивые бумажки в Петербург, для того, чтобы сбыть их с выгодой, нужно знать, что в Петербурге есть сбытчик, нужно знать, что в Петербурге найдутся лица, которые купят их, лица верные, на которых можно надеяться, которые явятся по первому призыву. Откуда же Э. Янсен мог знать об этих лицах, проживая в Париже и давным-давно оставив Петербург? Он не мог, однако же, явиться с бумажками, не зная, куда же их сбыть и кому. Трудно предположить, чтобы француз, не знающий говорить по-русски, новый человек в Петербурге, приехавший по случаю болезни матери, нашел случай отыскать людей, которые взялись бы сбывать бумажки, или стал бы распространять их сам по рукам — по одной, по две. Это требует долговременного пребывания и, при незнании русских обычаев и языка, было бы опасно.
Итак, он должен знать, куда их сбыть. Но кто же его знакомые? Мы их видели на суде. Это добрые малые, хорошие приятели, которые ходят с ним в театр, обедают, охотятся, но фальшивых бумажек, очевидно, не распространяют. Для успеха и безопасности его предприятия необходим хорошо знакомый с сбытчиками человек, знающий петербургские обычаи и притом человек верный, близкий, в том возрасте, который «ходит осторожно и осмотрительно глядит» *. Кто же является таким лицом? Его отец Станислав, который мог указать сыну на возможность пересылки посредством курьера французского посольства, так как не раз посылал чрез подобных лиц посылки, Станислав — компаньон Гарди, у которого последний нашел бумажки вокруг баночек с румянами, друг Жуэ, так много распространявшего бумажек в путивльском округе и получавшего такие странные посылки. Таковы данные против Янсена. Я говорю здесь только об общих, самых главных основаниях к обвинению и избегаю приводить целый ряд мелких подробностей, которые оставляют, однако, общее впечатление и убеждение в виновности. Вы видите уже из тех данных, которые я привел, что между Э. и С. Янсенами не могло не существовать связи. Если вы признаете, что Э. Янсен действительно устроил ввоз бумажек, если вы вспомните рассказ его о Риу, Вернике и Куликове, об этом неизвестном русском человеке, которому понадобилась печать дома Бурбонов, если вы припомните, что этою печатью, которую он взял с собою, а не отослал вместе с ящиком, были запечатаны фальшивые бумажки, если вы, повторяю, вспомните все это, то вы едва ли можете не признать, что он не мог сделать этого иначе как при посредстве своего отца, так как в Петербурге он совершенно чужой, незнакомый. Вам, может быть, скажут, что поведение отца его у Обри показывает, что Янсен действовал с сознанием своей невинности. С видом невинности, но не с сознанием ее, скажу я… Когда Янсены явились к Обри, пакет оказался распечатанным, и у них, конечно, возникло подозрение, что Обри знает о содержании посылки. Но они имели основание предполагать, что Обри посмотрел только на обертку, что снималась только клеенка, так как он мог думать, что коробка, в ней заключенная, сломалась, они знали, наконец, что пакет запечатан и что едва ли кто решится сорвать чужую печать. Но если бы даже и допустить, что Обри узнал, что в ящике содержатся бумажки. то, как иностранец, он мог не знать, какого происхождения эти бумажки. Да, наконец, какое ему до всего этого дело? Разве он пойдет заявлять русской полиции, будет возиться с нею, зная, что его будут таскать и допрашивать? Да и какое дело ему даже и до того, что это фальшивые бумажки? Ему лучше оставаться с Янсеном в добрых отношениях и получать от него вознаграждение. Даже если и предположить, что Обри догадался, в чем дело, то и в таком случае надо сохранить наружное спокойствие, не бежать, не отказываться от посылки, иначе Обри, пожалуй, подымет крик, а надпись на посылке: «от Риу — Янсену» — послужит тяжкою уликою против Янсенов. Лучше доиграть свою роль до конца, лучше взять спокойно посылку, расплатиться, поторговавшись для виду, распрощаться и уйти. Таковы действия обоих Янсенов. Подсудимые составляют два небольших, но веских звена в массе подделывателей и переводителей фальшивых бумажек. Что эти лица являются таковыми — на это указывают вам и те цифры, которые я приводил. Я их вам напомню. Вспомните, что при обыске у Станислава Янсена найдена бумажка за № 91701; вспомните, что фальшивые бумажки, найденные при арестовании у Эмиля Янсена, были за №№ 91700, 91702 и 91704 и т. д. Эти бумажки, как уведомил банк, принадлежат к одному и тому же роду подделки, к одному и тому же выпуску, именно к 19 роду подделки. Затем вы знаете, что в Варшаве не ранее арестования Янсенов, как заявила защита, а позже — 20 марта, открыта подделка бумажек на огромную сумму — на 100 тыс. руб. Бумажки эти оказались той же фабрикации, и между ними являются пробелы, именно они идут через номер, таким образом, что один номер у Э. Янсена, а другой в Варшаве. Я приведу цифры: 23544 в Варшаве, а 23545 у Э. Янсена, 23546 в Варшаве, а 23547 у Янсена, 23552 у него же, 23553 в Варшаве. Какой же вывод из этого? Нам скажут, что единственно тот, что бумажки выходили из одного места подделки. Да, но самое разделение их на две группы не показывает ли, что они были разделены так для того, чтобы не подать никакого подозрения в подлинности их. Так обыкновенно делают распространители бумажек. Наконец, бумажка, которая найдена у С. Янсена, очевидно, поступила к нему до привоза бумажек к Э. Янсену. Откуда же она взялась? Она оказывается одной подделки с теми, которые найдены у Э. Янсена. И вот является вполне основательное, как мне кажется, предположение: за границей существует подделка русских бумажек; нужно выпускать их сериями в Россию; для того, чтобы распространение не подавало особого подозрения непрерывностью номеров и для большего удобства в счете их, они разделяются на две группы: направо и налево. Таким образом, образуются две пачки — одна отправляется в Варшаву, другая — в Петербург. Для Петербурга находится Э. Янсен, который берется устроить провоз через французского курьера, благо у его отца есть связи с курьерами. Но для того, чтобы отвезти, надо иметь лицо, которое возьмет бумажки, будучи уверено, что их можно сбыть с барышом, а для этого надо отвезти бумажку и показать ее: «Годятся ли-де такие?» И вот такая-то пробная, образцовая бумажка за № 91701 найдена у С. Янсена. Она ему предъявлена сыном, рассмотрена и им одобрена. Затем является телеграмма, переписка, поручение выслать бумажки, и остальные бумажки являются к Э. Янсену, который так усердно и назойливо хлопочет о провозе тридцати франковых образчиков. К счастью, Обри слишком любопытен, а сыскная полиция достаточно бдительна, и бумажки вместе с Янсеном представлены теперь на ваш суд, господа присяжные. Вот доводы относительно обвинений Янсенов… Перехожу к обвиняемой Германе Акар.
Хотя главным деятелем физическим в настоящем деле является, по-видимому, Эмиль Янсен, хотя против него существует большая часть не подлежащих сомнению улик, я должен заметить, что главным деятелем, душою всего этого преступного дела является, по мнению моему, Станислав Янсен, и он своею деятельностью оттеняет и обрисовывает деятельность Германе Акар. Она обвиняется в том, что распространяла фальшивые бумажки. Но для этого ей нужно было их получить от кого-нибудь, нужно было войти в сношение с лицами, которые нашли бы удобным распространять через нее бумажки, нужен был, наконец, случай для их распространения. Вы слышали из определения судебной палаты, что обвинение ее основано на свидетельских показаниях. Начиная свидетелями, палата приходит к общему выводу о виновности Акар. Я попробую действовать наоборот и рассмотреть сначала те предположения, которые вытекают из сведений о личности Янсена и о его отношениях к Акар.
Вы знаете, что между Янсеном и Акар существовала большая дружба, старинная приязнь, переходящая почти в родственные отношения, которая допускает постоянное пребывание Янсена у Акар, допускает возможность обедать и завтракать у нее, заведовать ее кассою, вести расчеты, почти жить у нее, так что даже ключ от магазина, по закрытии его, Гарди должен был посылать к Акар. Из того, что я говорил уже о С. Янсене, я вывожу, что у С. Янсена была возможность — в виде промысла сбывать и распространять фальшивые бумажки, получаемые с места производства. Но распространять их посредством раздачи мелким промышленникам не всегда верно и по большей части опасно; передать же их в руки распространителей в больших размерах — не всегда выгодно. Лучше всего пустить бумажки в чьи-либо торговые обороты. Но в чьи? В свои — неудобно, в чужие — опасно; лучше всего в чужие, но которые были бы подобны своим. Итак, нужно их передать в руки такого лица, которое близко, верно и не выдаст. Это лицо, к которому Янсен относится с полным доверием, этот старый верный друг — Акар, богатая модистка, имеющая заведение в лучшем месте города. Вы видели здесь ее* мастериц, их блестящий костюм, изысканные манеры. Вы знаете, что каков магазин, таковы должны быть и заказчицы. Если мастерицы одеваются великолепно, если модное заведение помещается на лучшей улице, то, очевидно, заказы должны быть в широких размерах и по количеству, и по платежу. Такие заказы не в рублях, а в сотнях, могут делаться лишь лицами богатыми, которые покупают много и расплачиваются сразу большими суммами. Вот этим-то лицам под шумок, среди любезностей и веселой французской болтовни, лучше всего и сбывать фальшивые бумажки. Им можно дать сдачи несколько десятирублевых бумажек. Великосветская барыня, купившая на большую сумму, не станет, пожалуй, их и считать, а тем более рассматривать, а положит, скомкав небрежно, в кошелек. По приезде домой окажется, быть может, что есть в нем бумажки фальшивые, но она посетила столько магазинов, испытала столько встреч, что ей неизвестно, где она их получила, да и стоит ли хлопотать, «унижаться» из-за какой-нибудь десятирублевой бумажки, рискуя, может быть, встретить наглое отрицание и удивление? Так сегодня, так и завтра. Вы знаете, какие покупки делают светские дамы высшего полета, вы знаете, например, о закупках невесты польского графа, которая купила сразу на 245 руб. разной косметической мелочи, что и послужило к открытию фальшивых бумажек около банок с румянами. Но кто покупает на 245 руб. помады и духов, румян и белил, тот, очевидно, не очень ценит деньги. При таких-то покупках всего удобнее распространять фальшивые бумажки. Итак, удобство распространения фальшивых бумажек существует. Затем существует и возможность приурочить Акар к преступлению. Янсен заведует ее кассою. Чрез расходную кассу и потекут фальшивые бумажки. Весь вопрос в том: знала ли она, что распространяет фальшивые бумажки? Она не могла не знать этого. Если бы в кассу попадали часто фальшивые бумажки, без ведома Акар, то лица, являющиеся за платежами, своими разговорами и протестами по поводу их фальшивости смутили бы хозяйку, и Акар стала бы беспокоиться, негодовать, отыскивать причины появления бумажек, заподозривать заведующего кассою, т. е. Янсена, и дело могло бы принять дурной оборот. Поэтому лучше откровенно сказать ей, представить всю безопасность этого дела и своим нравственным влиянием побудить ее распространять бумажки. Верный друг не выдаст, а вместе они сумеют вести наступательную войну против покупателей и получателей и принимать оборонительные меры, когда это, в некоторых случаях, окажется нужным. Здесь вы слышали показания свидетелей, которые, кажется, достаточно указывают на то, что Акар распространяла бумажки. Дозье, Десиметьер, его сестра, Наво, Шевильяр, Алексеев, Кондратьев, Филиппов единогласно утверждают, что Акар очень часто выдавала фальшивые бумажки, но беспрекословно принимала и обменивала, когда их ей возвращали. Защита выставила ряд свидетелей, которые говорят, что им никогда фальшивых бумажек не давали. Но преступление всегда совершается относительно определенных лиц, а не всех приходящих в соприкосновение с виновным. На одного обокраденного, побитого, обманутого приходится всегда несколько людей, которых обвиняемый не затронул своими действиями. Их присутствие разряжает ту атмосферу преступности, в которой происходит деятельность обвиняемого, но их показания доказывают лишь отрицательные факты — доказывают лишь, что они благодаря случаю, обстановке или личным видам обвиняемого избегли возможности быть его жертвами. Рассмотрим притом показания свидетелей защиты и обвинения. Они разделяются на две группы. Одни служат у Акар и, очевидно, боятся выдать свою госпожу, говоря, что они никогда не видели фальшивых бумажек и не слыхали об этом, и даже отрицают такие обстоятельства, которых не отрицает и сама Акар, например получение бумажек от Лесникова и от Десиметьер. Акар признает, что ей была возвращена бумажка от Лесникова, признает также и то, что бумажка была-возвращена и от Десиметьер, свидетели же первой категории говорят, что этого ничего не было. Вы слышали здесь показания Десиметьер и его сестры, совершенно точные, ясные. Бумажка, принесенная Ревеккою Катц, была ею самою отмечена, и только благодаря этому дня через два была возвращена Акар для обмена на настоящую. Ревекка же говорит, что ничего подобного не было, что когда оказалось, что бумажку принять нельзя, то она тотчас же унесла ее назад, а на вопрос — для чего приносила она бумажку — указывает ка то, что в магазине не было сдачи. Но невозможно предположить, чтобы в таком громадном магазине не было сдачи с десятирублевой бумажки, как в какой-нибудь табачной лавочке, — и притом на Михайловской улице, где кругом масса меняльных контор. Затем следует другая группа свидетелей. Все они говорят, что в магазин часто возвращали фальшивые билеты; они поступали преимущественно по субботам. Здесь постоянно возникал вопрос о том, могли ли мастерицы видеть мелких поставщиков галантерейного товара, приходивших за деньгами, так как они находились наверху, касса же внизу, и сверху ничего нельзя было видеть. Да, быть может, все это так, но что же из этого следует? Ведь они все вместе обедали в седьмом часу, в то время, когда мелкие торговые заведения в субботу все уже по большей части закрыты, и, следовательно, в это-то время купцы и являлись обменивать фальшивые бумажки. Да, наконец, разве все эти изящные мастерицы целый день сидели согнувшись в своей душной рабочей комнате? Акар, вероятно, профессор своего дела: они должны были у нее просить разных выкроек, спрашивать указаний, объяснений, следовательно, они могли постоянно к ней являться, сбегать сверху вниз и присутствовать при расчетах с покупателями. Мы. имеем показание Маргариты Дозье. Оно вполне правдиво. Свидетельнице этой, после того, как поссорившись с Акар, она должна была отойти по настойчивому требованию последней, следовало получить 13 руб., в числе которых ей была дана десятирублевая фальшивая бумажка; она отнесла ее назад, но Акар у нее ее не приняла. Против этого были выставлены две свидетельницы; они очень неопределенно говорят о двух пятирублевых бумажках, но ни одна из них не объясняет, какого рисунка были эти бумажки, старого или нового, ни одна из них не может сказать, что говорилось по поводу этих бумажек, ни одна из них не утверждает даже, чтобы присутствовала при вручении их Дозье. Сама подсудимая заявила под конец, что действительно ею были даны две пятирублевые бумажки, но вы слышали, что сначала она говорила о двух десятирублевых бумажках. Притом, какой повод Дозье возводить напраслину на свою соотечественницу? Хотя она и отошла от Акар, но, по-видимому, совершенно довольна своим положением. Вы слышали ее показание, полное добродушной иронии, вы видели, как богато и красиво она одета. Очевидно, что давняя ссора с хозяйкою отошла для нее в область прощения и забвения, и здесь она говорит то, что было действительно, даже и не зная, что ее десятирублевая бумажка есть только кусочек мозаики в одной общей картине. Другим свидетелем является приказчик Лесникова, который показал, что приносил назад фальшивую десятирублевую бумажку и требовал взять ее назад, что и исполнила Акар. Но нам могут сказать: какое же это распространение, если бумажки берутся назад? Да, это единичные бумажки, распространяемые между ремесленниками и мелкими торговыми людьми в виде пробы, наудачу… Люди эти дорожат каждой копейкой; они начнут шуметь по поводу своего добра, а когда такой человек зашумит, то он не скоро перестанет, и потому приходится иногда великодушно взять бумажку назад, пожаловавшись при этом на экономическое положение России, где такая пропасть фальшивых бумажек. Приводят здесь кассовую книжку, но что же она доказывает? Это только простая книжка, не отличающаяся от книжек мелочных лавочников, чуждая всяких бухгалтерских приемов; в ней своя рука — владыка, а потому вечером, когда сводились счеты, легко было свести концы с концами; книжка не имеет ничего ясного и точного, полна перемарок и перечеркиваний. Наконец, вы знаете, что кассой долгое время заведовал сам С. Янсен. Припомните частое пребывание его у Акар, при-? помните, что от нее выходят все десятирублевые бумажки, припомните, что они выходят одновременно с тем, когда Янсен бывал так часто у Акар, и в то время, когда и в Путивле распространялись десятирублевые бумажки. От кого же исходят эти бумажки, распространяющиеся и в Путивле, и в Петербурге, и между светскими барынями, и между несчастными работниками железной дороги? Почему именно у Янсена такие друзья, как Акар и Жуэ, от которых исходят бумажки одинакового достоинства и подделки? Почему именно в то время, когда кассою госпожи Акар заведывает друг господина Жуэ, от нее исходят фальшивые бумажки, которые она так спокойно и беспрекословно принимает? Почему именно та из ее мастериц, которую она выгоняет, получает десятирублевую фальшивую бумажку? Вот вопросы, на которые может быть один ответ: потому что Акар виновна, потому что она распространяет бумажки сознательно.
Вот, господа присяжные заседатели, те данные, которые я имел вам передать. Сожалею, что не могу вам изложить всего подробнее. В настоящую минуту нет времени на это, все очень устали, а вас еще ждут три защитительные речи:. Если, однако, защита будет касаться подробностей, которые я обходил, я поговорю и о них, но не теперь… Я должен бы был в начале своей речи сказать, что я не могу представить относительно двух подсудимых, Станислава, Янсена и Акар, прямых доказательств. Защита, вероятно* будет поэтому говорить, что обвинение мною не доказано, что всякое сомнение должно служить в пользу подсудимого. Я на это скажу, что если требовать для обвинения в распространении фальшивых ассигнаций поимки человека с бумажками в руках, который затем во всем сознается, тогда, пожалуй, и судить не нужно, тогда возможно действовать одними карательными мерами. Затем мне могут сказать, что сомнение служит в пользу подсудимого. Да, это счастливое и хорошее правило! Но, спрашивается, какое сомнение? Сомнение, которое возникает после оценки всех многочисленных и разнообразных доказательств, которое вытекает из оценки нравственной личности подсудимого. Если из всей этой оценки, долгой и точной, внимательной и серьезной, все-таки вытекает такое сомнение, что оно не дает возможности заключить о виновности подсудимого, тогда это сомнение спасительно и должно влечь оправдание. Но если сомнение является только от того, что не употреблено всех усилий ума и внимания. совести и воли, чтобы, сгруппировав все впечатления, вывести один общий вывод, тогда это сомнение фальшивое, тогда это плод умственной расслабленности, которую нужно побороть. Над сомнением нужно поработать, его нужно или совсем победить, или совсем ему покориться, но сделать это во всяком случае серьезно, взвесив и оценив данные для обвинения. Мне оставалось бы лишь сказать о важности преступления. Я говорил, однако, уже об этом. Упомяну только, что от него много потерпевших и что во имя этих потерпевших нужно строго относиться к деянию, совершенному подсудимыми. Россия в последнее время сделалась обширным полем, на котором ведется систематическая война против общества и государства посредством кредитной подделки всевозможных систем. Против каждого из русских людей, против всего нашего отечественного рынка, против нашего кредита и против целого общества —ввозом фальшивых бумажек ведется война; от преступления здесь страдает и отдельная личность, и целое общество. Эта война не может быть, однако, терпима, нужно по возможности стараться прекратить ее. Подделыватели и распространители фальшивых билетов вносят в эту войну искусство, ум, энергию, изобретательность и всевозможные средства, нечистые и бесчестные, но обдуманные и ловкие. У нас есть против этого одно средство— чистое, торжественное и хорошее. Это средство — суд. Только судом можно сократить, в сфере государственной и общественной безопасности, подобного рода преступления и не давать им развиться. Господа присяжные заседатели, ваш приговор является таким средством. Он является сильным оружием в борьбе общества с подделывателями и распространителями. Если вы придете к тому выводу, к которому пришло обвинение, если вы взвесите все обстоятельства дела внимательно, то, может быть, ваш приговор покажет, что это средство сильно, что это оружие для борьбы не заржавело и что оно строго и беспристрастно карает виновных в таких против общества преступлениях, каково настоящее.
Я прошу несколько минут внимания. Постараюсь быть краток. Существенными местами защиты вообще я считаю объяснения о личностях переводителей, о которых говорил Эмиль Янсен, указания на. отсутствие капиталов у Янсенов и замечания, которыми защита хочет доказать, что Янсены, придя к Обри, действовали как ни в чем не повинные люди. Но прежде чем приступить к разбору этих доводов, я должен сделать маленькое отступление, ввиду заявлений защитника Станислава Янсена. Он нападает на обвинительный акт и с особой энергией старается поставить на вид то, что он называет «невниманием и неразборчивостью в составлении обвинительного акта». Но я думаю, что это совершенно напрасная затрата сил. Вы судите, господа присяжные, на основании того, что вы видите и слышите здесь на суде, и живое впечатление происходящего пред вашими глазами, вероятно, отодвигает обвинительный акт на задний план. Пред вами раздается живое слово, и на него-то желательно слышать возражения, вместо опровержения таких мест обвинительного акта, на которые вовсе не указывалось во время судебных прений. Перейдем поэтому прямо к возражениям на обвинительную речь., Защита, разбивая обвинение, особенно долго останавливается на письме «Старого», но обвинение ему вовсе не придает особенного значения: я не просил даже и о прочтении этого письма и тем лишал себя права на него ссылаться. Правда, мне помог один из защитников, который счел нужным обратить ваше внимание на это письмо. Оно, по мнению обвинения, указывает на давние сношения Янсена с курьерами, подписано подозрительным именем «Старый», которое намекает на какие-то особые интимные отношения между Янсеном и автором письма. Но обвинитель забывает, говорит защитник Станислава Янсена, что писать или произносить по-французски длинные польские фамилии, оканчивающиеся на «ский», почти невозможно, чему служит указанием даже один из известных водевилей Скриба. Я готов согласиться, что французские буквы плохо складываются при писании польской фамилии, но все-таки, прочитав письмо, прежде чем говорить о нем, не могу не заявить, что ссылка на французский водевиль мало помогает делу и для обвинения не опасна по очень простой причине: письмо написано по-польски. Поляк, наверно, не затруднился бы написать свою фамилию на родном языке, какие бы «трудные» буквы в нее ни входили. Перехожу к более существенным доводам защиты. Нам говорят, что Вернике существует и что надо верить показанию Эмиля; если бы он знал, что ему дают бумажки, и хотел бы их провезти, он мог бы положить их в карман; посылка, согласно его новейшему рассказу, должна была быть отдана Риу, потому что не была еще готова. Но где же этот Вернике? По самому тщательному розыску он не найден, да и действия его какие-то странно-неосновательные, чтобы не сказать более. Он имеет бумажки на большую сумму — плод долгих трудов подделывателей — и пристает с ними к первому попавшемуся в кафе человеку, с которым почти вовсе незнаком. Но ведь если Эмиля и не обыщут на таможне, то он сам может посмотреть, что такое он везет, и присвоить бумажки себе, или выбросить, или отдать полиции! Однако и этот рискованный комиссионер не может ждать и поручает обратиться к Риу. Но Риу человек оседлый: он служит в Париже, занимает место химика горной школы, он сам не поедет в Россию, следовательно, он пошлет посылку Эмилю. Но на почте ее вскроют — непременно. Защита ,скажет, быть может, что Вернике знал, что Риу отправит чрез курьера посольства. Нет, он этого знать не мог! Он должен был явиться к Риу тотчас по отъезде Эмиля. Эмиль уехал 21 января, а о курьерах впервые говорится (по словам самого же Риу) лишь между 10 и 12 февраля, в телеграмме, присланной Эмилем из Петербурга. Очевидно, что несуществующий Вернике действует безумноопрометчиво. Да и можно ли предположить, чтобы подделыватели таких превосходно сработанных ассигнаций, выпускаемых на огромную сумму (в Варшаве арестовано бумажек на 100 тыс., в Петербурге на 18 и по России на 32 500, итого на 150 с лишком тыс.), можно ли предположить, чтобы они не имели никакого устройства, никакой определенности в своих оборотах, не имели верных людей, опытных сбытчиков, чтобы они сновали, бегали и отдавали свои бумажки первому встречному и тому, на кого он укажет? Это просто немыслимо! Эмиль мог бы провезти две пачки бумажек в карманах, если бы хотел, говорят нам. Но вспомните номера билетов, незнание Эмилем русского языка и обычаев и его отношения к отцу, и вы увидите, что он не мог везти с собою билетов. Почему? Потому, что их ему бы и не дали, так как он ехал «внове». Ему вручили только образчик — № 91701. «Покажи, мол, в Петербурге, и если окажется хорош и условия сбыта удобны, то напиши, чрез кого и когда пересылать». С этим-то билетом и явился Эмиль к отцу, тот одобрил — и посылка явилась после телеграммы и письма к Риу. Янсена-отца выставляют застарелым сбытчикам бумажек, говорит защита, но где же нажитые им капиталы? Да их не должно быть, этих капиталов! Янсен жил хорошо и в довольстве, расплачивался, начиная с 1860 года, с довольно значительными парижскими долгами и вел обширную торговлю. Он не был, так сказать, банкиром для фальшивых бумажек, он был для них менялой, фактором и потому мог получать хорошую прибыль, но не наживать сразу огромных капиталов. Правда, два раза представлялся случай забрать большую сумму в руки, но оба раза помешало неуместное любопытство посторонних. Раз полюбопытствовал Гарди — и пришлось сжечь целую пачку пятидесятирублевых билетов; другой раз полюбопытствовал Обри — и пришлось предстать пред вами, господа присяжные заседатели. Наконец, по мнению защиты, поведение Янсенов у Обри указывает на сознание ими своей невиновности. Если бы было иначе — они могли бы не приходить, а придя — уйти немедленно, не торговаться, торопиться и поскорей сбыть ящик. Но едва ли это так. Прежде всего Янсены не знали, что Обри распаковал ящик, тем более, что он сказал мадам Янсен, что ящик еще в посольстве. Поэтому Янсены смело могли прийти к Обри. Придя, они увидали, что ящик был открываем. Что же делать? У них должны были явиться три неизбежных предположения. Первое — что Обри не смотрел бумажек, не распечатывал пакетов. Остается отдать ему деньги и уйти. Второе — что Обри знает о содержании пакетов, но не сообщил полиции. Остается тоже взять пакеты подобру-поздорову и уходить, обласкав Обри и дав ему денег. Если уйти просто — он может поднять крик, показать обличительный адрес на клеенке, и дело пропадет. Третье — что Обри заявил полиции, и каждую минуту она может явиться. Главная улика, кроме ящичка, — пребывание в квартире Обри. Поэтому надо покориться судьбе и постараться в то же время уничтожить эту улику. Для этого надо совершенно спокойно взять ящик и торговаться для виду и затем, не торопясь, уйти, и если по выходе на улицу полиция не явится тотчас, оплошает, то действительно забросить ящик куда-нибудь и таким образом спрятать концы в воду. Но полиция не оплошала… Итак, действия Янсенов в квартире Обри нисколько не служат к их оправданию. Защита говорит, что они не могли так неосторожно ставить на карту свою безопасность, я же думаю, что они до прихода к Обри ничем не рисковали, а придя, действительно увидели, что поставили свою безопасность и не на карту, а на фальшивую бумажку, но ретироваться было и поздно, и даже невозможно. Можно еще указать на действия Эмиля с печатью. Какую из «версий», по выражению его защитника, ни принять, рассказ оказывается вымышленным. Если посылка Вернике не была готова при отъезде Эмиля, то как же она оказалась запечатанною тою печатью, которую он привез? Значит, она была готова. Затем, если она не была еще готова, то почему же Эмиль не предложил вложить и печать в посылку, вместо того, чтобы везти ее в Россию отдельно?
Перехожу к защите госпожи Акар. Нам указывают на то, что интимных, как выразился господин защитник, отношений между подсудимою и Станиславом Янсеном не существовало, и горячо старается опровергнуть возможность их существования. На это я считаю нужным заметить, что обвинение не может рассчитывать, по каждому данному делу, на сочувствие защиты, но имеет право ожидать, чтобы к словам его относились со вниманием, вытекающим из уважения к взаимному труду, который должен иметь одну общую цель. Если так отнесется к обвинению защита, то она должна будет сознаться, что, кроме указаний на старинное знакомство и приязнь, никаких других заявлений обвинением делаемо не было, тем более, что для выяснения дела вовсе и не нужна интимность отношений между Янсеном и Акар. Довольно, если Янсен стоял в положении пользующегося полным доверием друга и заведовал кассою Акар. Делать из слова дружба произвольные выводы, конечно, можно, но едва ли защита госпожи Акар оказывает ей хорошую услугу подобными выводами… Повторять доводов против Акар я не стану, равно как и вновь приводить показания свидетелей. Общий образ госпожи Акар уже, вероятно, сложился у вас, господа присяжные заседатели, и мы едва ли изменим его нашими спорами, наложением на него темных красок или освещением его искусственным светом. Замечу только, что присутствие Акар в России вовсе не доказывает спокойного сознания ею своей невиновности, так как уехать за границу она не могла по той простой причине, что тотчас после упавшего на нее подозрения была задержана под домашним арестом. От обвинительной власти требуют, чтобы она привела сюда созданных ее воображением свидетелей — великосветских дам. Это невозможно, да и не нужно, потому что ссылка на них сделана как на могших потерпеть от преступления. Я уже объяснял свойство дел о подделке бумажек, состоящее в отсутствии явки потерпевших лиц на суде. У нас могли бы требовать и привода тех рабочих, которые работали на железной дороге, где Жуэ укладывал шпалы и распространял фальшивые бумажки. Но вы, вероятно, не потребуете этого привода для того, чтобы решить дело. Фальшивые ассигнации похожи на сказочный клубок змей. Бросил его кто-либо в одном месте, а поползли змейки повсюду. Одна заползет в карман вернувшегося с базара крестьянина и вытащит оттуда последние трудовые копейки, другая отнимет 50 руб. из суммы, назначенной на покупку рекрутской квитанции, и заставит пойти обиженного неизвестною, но преступною рукою парня в солдаты, третья вырвет 10 руб. из последних 13 руб., полученных молодою и красивою швеею-иностранкою, выгнанною на улицы чуждого и полного соблазна города, и т. д., и т. д. — ужели мы должны проследить путь каждой такой змейки и иначе не можем обвинить тех, кто их распустил? Едва ли это так, и ваш приговор, быть может, покажет противное. Здесь заявлялось, что подсудимые явились в Россию с полным доверием к русскому гостеприимству. Оно им и было оказано. Станислав Янсен прочно устроился в России; Акар основала магазин, куда обильно потекли русские рубли; Эмиля встретили в Петербурге театры и охоты. Но одного гостеприимства мало! Когда нам льстят, то хвалят наше русское гостеприимство; когда нас бранят — а когда нас не бранят? — про нас говорят, что единственную хорошую нашу сторону— гостеприимство — мы разделяем с племенами, стоящими на низкой степени культуры. Поэтому надо иметь что-нибудь за собою, кроме благодушного свойства. Надо дать место и справедливости, которая выражается в правосудии. Оно иногда бывает сурово и кончается подчас насильственным гостеприимством. Этого правосудия ждет от вас обвинительная власть.
ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ СТАТСКОГО СОВЕТНИКА РЫЖОВА *
Господа судьи, господа присяжные заседатели! Около месяца тому назад, в Спасской улице, в доме Дмитревского, произошло большое несчастие. Семейство, единственною поддержкою которого был Алексей Иванович Рыжов, состоявшее из жены его и четырех детей, внезапно и неожиданно осиротело: глава этого семейства был лишен жизни. Он лишился жизни не окруженный попечениями и участием родных, не благословляя своих детей, а сопровождаемый их отчаянными криками и падая от руки близкого и обязанного ему человека. Этот близкий и обязанный ему человек находится в настоящее время пред вами, и от вас зависит решить его судьбу.
Существенные обстоятельства настоящего дела так сами по себе несложны, так, мне кажется, очевидны, что указывать на них подробно и разбирать их вновь перед вами представляется излишним или, лучше сказать, представлялось бы излишним, если бы к ним не приросли некоторые побочные обстоятельства и благодаря им не возбудились некоторые вопросы, которые требуют более подробного рассмотрения всех данных дела. Когда преступление совершено, то только в первые минуты события, в которых оно выразилось, остаются в своем первоначальном незатемненном виде, а затем со стороны преследователей усилия осветить и раскрыть его преступный смысл, со стороны обвиняемого стремление обставить его всевозможными данными и доводами в свою пользу существенно усложняют дело, иногда даже затрудняют его разбор. Таким путем по каждому делу возникают около настоящих, первичных его обстоятельств побочные обстоятельства, так сказать, наслоения, которыми иногда заслоняются простые и ясные его очертания. В некоторых случаях на обвинительной власти лежит только очищение дела от этих посторонних, наносных обстоятельств, снятие этой посторонней, лишней коры, и, по снятии ее, дело оказывается простым и несложным. Снятием этой коры я и займусь в настоящее время. На судебном следствии, во-первых, подсудимого стараются представить человеком, действовавшим ненормально, не владевшим всеми своими умственными способностями и потому безответственным; затем, во-вторых, показания главных свидетелей, которые единственно и могут быть названы свидетелями в этом деле, стараются нравственно пошатнуть перед вами и, наконец, в-третьих, личность покойного Рыжова — личность, о которой обвинение самого высокого мнения, — стараются низвести с того высокого нравственного уровня, на котором она, казалось бы, должна стоять. Все эти категории опровержений, заслоняющих истинный образ дела и участвующих в нем лиц, представленные впервые во время судебного следствия, будут, вероятно, развиты перед вами еще более подробно, и защита постарается искусною рукою подрезать корни обвинения и пересадить все дело на почву защитительных соображений. Насколько это ей удастся — я не знаю; но я, со своей стороны, постараюсь рассмотреть прочность вырабатываемых ею данных. Обращаюсь — к показаниям свидетелей. Из них в сущности только три относятся к убийству Рыжова, а именно: показания его вдовы, Марии Степановны Рыжовой, воспитательницы детей его госпожи Гора и кормилицы Прокофьевой; все же остальные показания не относятся прямо к этому событию.
Первое показание дала перед нами женщина, совершенно растерзанная и убитая горем, вся целиком поглощенная несчастием, ее постигшим; другое показание идет со стороны женщины, которая довольно безучастно относится к происшедшему, и, наконец, кормилица рассказывала о том, что она видела и слышала и как она это «по простоте своей» поняла. Я думаю, что нет возможности усомниться в правдивости показания вдовы Рыжовой. Правда, отчасти в тоне ее голоса, отчасти в манере говорить проявлялась здесь некоторая трагичность, в ее тоне слышалось некоторое стремление выставить особенно рельефно, обрисовать самыми мрачными красками то несчастие, которое разразилось над нею. Но, господа присяжные заседатели, войдя в положение этой женщины, вы поймете, что иначе, при нервной и впечатлительной ее организации, и быть не может. Положение ее поистине ужасно: она лишилась мужа, которого горячо любила, лишилась в нем единственного заступника, единственной поддержки — и лишилась от руки своего брата. Являясь сюда, она должна или признать, что ее брат был прав, и тем показать, что муж ее сделал что-нибудь очень дурное, выходящее из ряда вон, для того, чтобы вынудить его на убийство, или же сказать все как было, а это может быть гибельно для брата. Ей предоставляется ее жестокою судьбою на выбор — или молчаливое согласие на опозоренье памяти покойного, любимого, неповинного мужа, чем, быть может, будет куплено спасение брата, или же горестное и тяжкое служение правде, которое, не возвращая ей мужа, должно подвести брата под справедливую кару. Для нее нет выхода из этого. Я думаю, что характеру более сильному, силам менее потрясенным, чем ее характер и ее силы, трудно бороться с подобным положением и что в голосе всякого лица, поставленного в такое положение, помимо его воли, бессознательно, зазвучит трагическая нота. Мы знаем из дела, что у Рыжовой и у Шляхтина есть родные, жив отец, но знаем ли мы ту борьбу, те колебания, те муки, которые должна была пережить злополучная женщина, прежде чем решиться прийти сюда обличительницею брата, сына своего отца; прийти во имя чести отца своих детей и прийти, по-видимому, как дозволительно заключить из вырвавшихся у нее невольно слов, вопреки ожиданиям и требованиям своей семьи?! Знаем ли мы это? Трагичность жеста и возвышенность тона законны там, где над человеком разыгрывается настоящая трагедия… Указывая на глубину оскорбленного чувства, они не идут вразрез с житейскою правдою. Рыжова здесь, по словам брата, не пощадила его. Я думаю, что она сказала истину. Показание ее точное и ясное, отличающееся теми мелочными подробностями, которые вообще свойственны рассказам людей, настигнутых несчастием, к которому они, растравляя себя, постоянно возвращаются, вспоминая все его печальные подробности, — и часто в то же время не отдавая себе ясного отчета о всем его объеме, — еще более приобретает вероятия с той минуты, как подтверждается и проверяется другими показаниями.
Эти другие показания суть показания Гора и Прокофьевой. Показание Гора тоже стараются подорвать. Во-первых, здесь были сделаны, при ее допросе, намеки на то, что она могла все свое показание почерпнуть из рассказов Рыжовой, что рассказы эти послужили канвой и материалом ее показаний и что она дала его, так сказать, по молчаливому соглашению с Рыжовой. Как основание для этого могло бы быть приведено то, что она живет у Рыжовой или дает там постоянно уроки, и затем то, что она сердита на Шляхтина. Но рассмотрим оба эти основания. Она дает уроки у Рыжовой и потому могла согласиться с ней показывать одинаково. Но мы знаем, что показание ее совершенно согласно с тем, которое было ей дано на предварительном следствии. Здесь она слово в слово повторила то, что сказала у следователя и что внесено в обвинительный акт, а там она показывала впервые в вечер самого убийства. Я полагаю, что никто не решится сказать, чтобы через два часа после убийства, когда еще пролитая кровь не засохла совершенно на полу и стенах квартиры, Рыжова могла найти достаточно силы для того, чтобы в беседе с гувернанткою рассчитывать на будущее судебное следствие и, так сказать, производить репетицию своих будущих показаний. Следовательно, показание Гора, подтвержденное ею притом здесь всецело, было дано вне влияния Рыжовой. Но она в дурных отношениях с Шляхтиным, скажут нам, быть может. Я этого не отрицаю. Она даже не хотела здесь говорить о каком-то письме, полученном ею от Шляхтина, которое было для нее оскорбительно. Но что же из этого следует? Уж если она женщина, способная дать из-за личного неудовольствия ложное показание, которое погубит неповинного человека, то, конечно, ей свойственны и другие, присущие подобным людям, недостатки; конечно, ей свойственна и .корысть, которая, по объяснениям Шляхтина, и должна была служить поводом к ее злобе на него. -Но вы знаете, что этого повода не было. Она из милости нянчила ребенка Шляхтина и, ничего не получая, она работала даром, а когда он рассердился на ее обращение с сыном и взял его, то в сущности он избавил ее только от труда, который ничем не вознаграждался. Поэтому о неудовольствии из-за денежных расчетов не может быть и речи. Но могло быть помимо расчета оскорбленное самолюбие, уязвленное до желания мщения. И для такого предположения нет никаких оснований. Она занимала положение воспитательницы в семействах среднего круга, и всякий знает, как горька у нас подчас доля гувернантки, и как приходится ей привыкать ко всякого рода уколам самолюбия, начиная с тонких «шпилек» и кончая явно грубым, презрительным обращением. Таким образом, изъятие ребенка из-под надзора Гора, ребенка, ей притом никогда и не порученного, ничего для нее оскорбительного не представляло, ввиду профессии Гора, в ее душе не хватило бы места для ненависти, если бы она могла до ненависти обижаться действиями, подобными тому, что сделал Шляхтин. Перед нами старались выставить Гора дурною воспитательницею. Не знаю, насколько это справедливо. Может быть, она действительно не знает современных приемов педагогии; может быть, она недостаточно верит в пользу мягкого обращения с детьми и считает лучшею мерою исправления телесное наказание. Все это может быть так, и все это, конечно, должно быть принимаемо в соображение при оценке вопроса, годится ли она в воспитательницы. Но какое отношение это имеет к правдивости ее показания? Какое значение может иметь то, что она несколько грубо обращалась с сыном Шляхтина, для того чтобы определить, видела ли она и слышала ли то, что она показала? Конечно, никакого. Не решится же она умышленно губить человека своим показанием, да еще рискуя быть уличенною, только за то, что он отнял у нее возможность лишний раз высечь ребенка за «неаккуратность». Наконец, показание третьей свидетельницы — правдивое, благодушное — в сущности закрепляет все то, что говорили две предыдущие свидетельницы — Гора и Рыжова. И кормилица Прокофьева говорит о двух выстрелах, из которых один она слышала из-за дверей, когда стояла за ними притаившись, боясь, что и ее застрелят, а при втором — сама присутствовала. Эта же свидетельница удостоверяет, что Рыжов не наносил ударов Шлях-тину, и ей нельзя не верить. В ее простоте, в наивности, с которою она рассказывала о страшном несчастии, случившемся в доме, с простонародною певучестью в голосе и украшениями в речи, стараясь указать прежде всего на ту опасность, которой она сама подвергалась, — во всем этом звучит правдивость.
Обращаюсь к личности Рыжова. Судя по допросу некоторых свидетелей, нам, очевидно, будут говорить, что Рыжов вовсе не был таким хорошим человеком, каким он выставлен в обвинительном акте и каким старались его выставить жена и академик Безобразов. Но, господа присяжные заседатели, если вы отнесетесь внимательно к тому, что слышали от некоторых свидетелей, если вдумаетесь в сущность их показаний относительно покойного Рыжова, то увидите, что показания их нисколько не колеблют того чистого, нравственно красивого образа, который начертан в обвинительном акте. Этот человек остается тем, чем он был в действительности, по удостоверению тех, которые знали его близко. Правда, перед вами было дано чрезвычайно характеристическое показание доктора прав Лохвицкого, который, хваля вообще покойного, в конце, однако, прошелся по сделанному им портрету кистью, погруженною в довольно мутные краски, рисующие Рыжова с непривлекательной и отчасти даже грязной стороны. Но я думаю, что если вглядеться даже и в этот портрет поближе, то эти краски сотрутся и исчезнут. В сущности, господин Лохвицкий сказал, что Рыжов был человек очень пристрастный к женщинам, но он не указал нам, когда это с ним было; не сказал, чтобы Рыжов теперь, когда был человеком осевшимся, семейным, оставался по-прежнему под влиянием своего влечения к женскому полу. Наконец, есть ли это влечение в сущности по отношению к нравственным правилам человека такая черта, которая лишала бы его права на уважение, заставляла бы предполагать его неспособным на благородные и нравственные поступки? Я полагаю — нет. Минутные увлечения могут не помешать человеку остаться честным, стойким и строгим во взгляде на свои обязанности. Затем господин Лохвицкий указал, что в служебной деятельности покойный искал с охотою командировок. Признаюсь, это замечание вытекает, очевидно, не из близкого знакомства свидетеля с деятельностью чиновников особых поручений министерства государственных имуществ. Деятельность их проходит, по большей части, в командировках, да и вообще деятельность этого министерства имеет в себе столько сельскохозяйственных сторон, что польза дела требует постоянных разъездов и ревизий опытных и сведущих лиц. Если Рыжов сознавал, что, зная свое дело, может приносить пользу и был не прочь от командировок, то почему не объяснить этого желанием энергического и живого деятеля приносить пользу, а не сидеть за канцелярскою работою по жизненным и практическим вопросам? С командировками было связано несколько большее содержание, и странно было бы упрекать человека, бедного, обремененного большим семейством, за то, что ему приятны занятия, которые его наибольше вознаграждали за труд, полезность которого признает и Лохвицкий. Итак, тут нет никакой дурной черты. Отбросив, таким образом, эту часть показания Лохвицкого, мы находим в Рыжове человека глубоко честного и справедливого, строгого как к себе, так и к другим (потому что он строг к себе), любящего правду, вмешивающегося за нее в чужие дела, иногда с самопожертвованием, доходящим даже до неблагоразумия. Но, господа присяжные заседатели, можно ли это ставить в вину человеку, можно ли в этом не видеть достоинства? Это «неблагоразумие» есть великое качество в наш черствый, себялюбивый век. Правда, вам говорят, что он был человек резкий, грубый. Да, он был груб, смело выражая свое мнение; он резко высказывал порицание, когда образ действий человека ему не нравился, не стесняясь тем, не стоит ли этот человек выше его на общественной лестнице, и, как вы слышали из показания академика Безобразова, ему больше приходилось говорить резкости о людях, выше его стоявших по общественному положению. Эта правдивость, грубая, быть может, неприятная для окружающих его лиц, имела все-таки своим источником горячее чувство. Это чувство одушевляло его в исполнении своих обязанностей и делало его «алчущим и жаждущим правды», а таких людей нужно ценить и прощать им ту грубую форму, в которую они облекают свои честные и чистые мысли. И вот, этот человек, вспыльчивый по характеру, — я не стану этого отрицать, — настойчивый в своих мнениях, упорный в своих привязанностях, в то же время живо принимающий к сердцу всякие изменения в людях, которым верил, прямо и резко говорящий всем правду, вмешивающийся в чужие дела там, где находит это полезным и необходимым для других, иногда навязывающий чуть ли не насильно свое мнение, этот человек остается таким же, каким начертан свидетелем Безобразовым, и после показаний всех остальных свидетелей. Правда, здесь говорилось еще нечто, что должно было породить некоторое сомнение, — говорилось об его отношениях к свидетельнице Дмитриевой. Но я не стану повторять этого ее рассказа, вы сами оцените всю его несостоятельность. Человек ухаживал потому, что в то время, когда девушка идет на гибель, когда бросает дом, где ее приютили, говорит ей: «Останьтесь, я постараюсь, чтобы молва не распространилась, я охраню вас от нападений, от злых насмешек». Этот человек только благодаря этому, по ее словам, за ней волочится! Человек этот раз пришел к ней в спальню и, стоя на пороге, позвал ее к жене — он за нею волочится! Я думаю, что скорее всего можно признать, что услужливое воображение свидетельницы вызывает в ней желание думать, что за нею волочился Рыжов, что ей самой хочется верить в это и в таком смысле истолковывать поступки покойного.
Обращаюсь к душевному состоянию Шляхтина. Вероятно, нам будут говорить, что Шляхтин, после убийства Рыжова, имел вид потерянный, говорил несообразные вещи, едва стоял на ногах, был бледен, весь трясся, хотел ехать к генералу Трепову, приходил в отчаяние от сделанного им поступка, путался в словах и вообще производил впечатление больного. Вы слышали здесь показания экспертов. Я не могу прибавить ни слова к их точному, строго научному выводу, высказанному с полным убеждением и с сознанием его важности. Из слов их оказывается, что Шляхтин не человек, не владеющий здравым смыслом, а человек нервный, раздражительный, болезненный от неправильной жизни, что он от не всегда, может быть, приятно слагавшихся обстоятельств сделался человеком впечатлительным, на которого всякое препятствие действует раздражающим образом, вызывая сильное нервное расстройство и заставляя горячиться там, где человек нормальный, обыкновенный этого делать не будет. Я говорю: человек обыкновенный, человек нормальный! Но где этот человек?! Я думаю, что все мы, жители больших городов, люди последнего времени, получившие слишком раннее умственное развитие и недостаточное развитие физическое, все мы люди болезненные, у всех нас нервы не в порядке, у всех они натянуты, как струны, и звучат сильнее, нежели у жителей деревни, близких к природе. Но все это не может служить поводом к тому, чтобы мы во всех наших действиях ссылались на нервы, как на причину ненормальности наших действий, чтобы в них искали оправдания в наших капризах, убежища в наших преступлениях. Это развитие нервозности, которая делает нас более раздражительными, чем людей простых, живущих в других условиях жизни, в то же время делает нас и более восприимчивыми и дает нам возможность тоньше и отчетливее понимать все оттенки человеческих действий и тем самым строже к себе относиться. Утонченный и истощенный житель города, принадлежащий к так называемому образованному обществу, — всегда гораздо больше аналитик и скептик, чем здоровый житель деревни… Но где анализ и сомнение — там и охлаждение порывов, и наблюденье за собою, и копанье в самом себе, а следовательно, и некоторая препона необузданной игре нервов. Поэтому нервозность, которую мы замечали в подсудимом Шляхтине, не может служить к оправданию его преступления. Она служит лишь объяснением, почему так быстро совершилось преступление, почему с такой необыкновенной силой в нем развилось негодование на Рыжова, почему ему, может быть, было труднее бороться с собою, нежели человеку, менее нервозному, но нисколько его не оправдывает, не оправдывает уже потому, что этого не признали эксперты. Но если бы даже эксперты не дали такого решительного мнения, если бы они отвечали уклончиво, то и тогда я старался бы доказать, что ни житейский опыт, ни здравый смысл не допускают такого умственного расстройства, от которого лечатся лавровишневыми каплями. Нам, может быть, укажут на подавленный вид Шляхтина после того, как он совершил преступление. Да, но что же из этого? Я думаю, что этот несчастный вид может служить основанием только к тому, чтобы видеть в Шляхтине человека, еще не погибшего нравственно, а лишь падшего. Понятно, что именно потому, что он человек здоровый, а только нервы его раздражены, он, совершив кровавое дело, после первой минуты утоленного гнева, после пролитой крови почувствовал весь ужас сделанного преступления; он понял, и как нервный человек понял, может быть, сильнее, чем человек со здоровыми нервами, что он сделал, каким ужасным поступком отделил себя от всего окружающего общества, в какое отчаянное положение ввергнул сестру и ее сирот, и тогда, понятно, началась реакция: он почувствовал упадок сил, потом ему захотелось покаяться, отдать себя поскорей в руки правосудия, так как с этой минуты, как сказал величайший германский философ, он получил право требовать себе наказания *. Эта потерянность его, бледность, несвязная речь указывают лишь на то, что он человек настолько же преступный, насколько и несчастный. И это может, по справедливости, служить основанием к смягчению его вины и наказания. Вот главные соображения, которые я считал заранее нужным представить вам по поводу будущих возражений обвинению. Затем я перехожу к самому преступлению подсудимого.
Что же за преступление совершено Шляхтиным и чем можно объяснить его? Вы знаете, что за личность был покойный Рыжов, вы можете себе отчасти составить представление и о том, что за личность Шляхтин. Неслужащий дворянин, проживающий без дела в деревне отца, не имеющий никакого определенного общественного положения, но уже обзаведшийся семейством, человек нервный, болезненный, до крайности самолюбивый, и тем более самолюбивый, чем незначительней и неопределенней его положение в общественной жизни. Этот человек встречается с Рыжовым. Рыжову он понравился, он стал звать его к себе в Петербург. Рыжов, как всякий живой и деятельный человек, стал рисовать пред ним заманчивые картины, картины деятельности, возможности приносить пользу. Картины были заманчивы — Рыжов умел говорить горячо и убедительно, — и Шляхтин отправляется с ним. Нам говорят, что Рыжов увлек его обещанием дать место в 2,5 или 3 тыс. Но я полагаю, что Шляхтин неверно понимает обещание Рыжова, если оно действительно давалось. Рыжов вовсе не был так поставлен, чтобы обещать столь обеспеченные места, и, конечно, не был настолько неблагоразумен, чтобы связывать себя таким обещанием. Он мог только указать на возможность занять подобное место, и, конечно, при труде со стороны Шляхтина, при указаниях и покровительстве Рыжова, подсудимый мог бы получить со временем такое место. И вот, такие два человека, совершенно противоположные по своему развитию и привычкам, один — ничего не делающий всю жизнь, другой — трудящийся, деятельный; один — весьма легко относящийся к обязанностям, другой же — со всей строгостью, сурово и резко, — эти люди сошлись на время, ввиду разных целей, причем одному хотелось нравственно спасти другого, вызвать его к жизни, дать ему деятельность, другому — занять известное место в обществе. В Петербурге Шляхтин был принят как родной у Рыжовых, приходил к ним как близкий человек — и мы слышали, что Рыжов неустанно хлопотал за него и даже являлся представителем его в некоторых случаях. Чем же Шляхтин отплатил за это Рыжову? Он вступил в связь с девушкой, которая жила у него в доме, быв поручена Рыжовой ее родителями, с девушкою, по отношению к которой сестра подсудимого имела обязанности, выходящие из пределов обязанностей простой хозяйки. Вы видели, какая впечатлительная женщина Рыжова: недаром она сестра Шляхтина. Поступок брата должен был ее оскорбить как женщину и как хозяйку дома и напугать ее как сестру. Ей было вместе с тем жаль Дмитриеву, которая шла на верную погибель. Это мнение, конечно, разделял и ее муж. В самом деле, что Дмитриевой готовилось впереди? Вы знаете из данных здесь показаний, что та, которая имела от Шляхтина ребенка, развелась с мужем и живет у него в деревне. Туда же хотел везти он и Дмитриеву. Что же ее ожидало? Брак? Нет. Ее ожидало тяжелое положение девушки, сделавшейся барскою наложницей, в глухой степной усадьбе, где притом живет прежняя «барская барыня». Что ей могло предстоять затем? Она могла надоесть Шляхтину и, может быть, была бы заброшена в беспомощном положении отставной барской любовницы или выдана где-нибудь в глуши, на «скорую руку» замуж за покладистого и неразборчивого человека и была бы, вероятно, еще несчастливее. Всего этого не могла не сознавать Рыжова, хорошо зная жизнь. С другой стороны, она понимала, что женщина с характером, девушка с сильной волей, отдавшая себя человеку, пожертвовавшая для него всем, не дешево расстанется с любовью этого человека, и когда он разлюбит ее и покинет, то она будет требовать, чтобы он, связавший себя с нею на словах навсегда, не оставлял ее, чтобы помнил, какую она принесла ему жертву. Она, своими требованиями и упреками, своими жалобами и угрозами, своими непрошеными ласками, своей постылою любовью, начнет отравлять его жизнь, сделает ее нестерпимою. И этого Рыжова, зная жизнь, не могла не представлять себе. Поэтому она одновременно жалела и брата и Дмитриеву. Вот чем объясняются слова Рыжовой брату: «Она тебя погубит» — вместе с советом, с требованием — или жениться, или оставить Дмитриеву. Шляхтин не хотел сделать ни того, ни другого. Наконец, Рыжова, как хозяйка дома, видела, что для девушки, вступившей в ее семью почти на правах члена, .которая пользовалась ее покровительством и была доверена ей родителями, для этой девушки было создано положение постыдное — и где же?—в доме ее, Рыжовой! — и кем же?—ее братом! Все это, вместе взятое, конечно, должно было вызвать со стороны Рыжовой целый ряд упреков, резких, жестоких упреков, какие обыкновенно умеют делать только женщины. Мы слышали, что Шляхтин просил у нее прощение, мы знаем далее из показания госпожи Гора, что покойный А. И. Рыжов тоже присоединил свой осуждающий голос к упрекам жены и требовал, чтобы Шляхтин женился. Но Шляхтин этого не хотел. В этом отношении у него вообще оригинальный взгляд на честь. На требование сестры разорвать связь и, не увлекая Дмитриеву за собой в деревню, оставить ее по-старому у них, под условием забвения и сокрытия всего случившегося, он отвечал, что этого не сделает, ибо не способен на такой бесчестный поступок, а жениться не желает. Первое время Шляхтин, по-видимому, сознавал свою виновность перед сестрой и этой девушкой, и если бы дело оставалось в том же положении, то оно кончилось бы, может быть, лишь продолжительною размолвкою, но явились два обстоятельства, которые не могли не изменить отношения Рыжовых с Шляхтиным на более худшие. С одной стороны, Дмитриева нисколько не щадила самолюбия Шляхтина и передавала ему все сплетни обо всем, что происходило и говорилось у Рыжовых, получая эти сведения через своего брата, а с другой стороны, Рыжова имела неосмотрительность при брате Дмитриевой сказать, что она отправила письмо своему отцу и родителям Дмитриевой, в которых рассказала обо всем. Положение Шляхтина становилось крайне тревожным и сложным. Показания свидетелей указывают, как он вообще легкомысленно относился к женщинам. По поводу начавшейся шутя связи с Дмитриевой он говорил, что не в таких переделках бывал, но выходил цел. А тут он увидел, что отношения завязываются крепко, что в дело вмешались другие, и сама Дмитриева узнала, что у него есть в деревне женщина, с которою он имел связь, и что это может заставить ее одуматься, отказаться от поездки и потребовать серьезных объяснений. Такие осложнения должны были, конечно, увеличить тяжесть его положения. Таковы внешние причины его раздражения. Эти люди вмешиваются в его дело, мешают ему; он завел связь, которая ему приятна и льстит его самолюбию, обещает ему, может быть, несколько месяцев, недель удоволъствия, и вдруг в это призрачное, временное счастие вливается яд попреков, указаний на долг и препятствий! Тут являются и родители, которые возьмут увлеченную девушку, и возможность с ее стороны упреков в обмане, и, главным образом, непрошеная, навязанная мысль о необходимости жениться. Его должно было возмущать, что в нем сомневаются, что его учат и, наполняя его существование тревожными мыслями, вместо приятной жизни изо дня в день, рисуют определенную, прозаическую картину брака. Разве он не хозяин своих действий, не господин своей судьбы?
Внутренние причины, побудившие Шляхтина к убийству, должны были быть еще сильнее. Вы имели возможность ознакомиться с личностью Шляхтина, вы могли убедиться, что это был человек в высшей степени самолюбивый, чрезвычайно щепетильный. Каждая мелочь, косой взгляд, вскользь высказанное мнение оскорбляло и раздражало его, становило на дыбы всю его гордость. Самолюбие мелкое, щепетильное, заставляющее" человека оскорбляться при малейшей шероховатости в отношениях с ним, есть самолюбие людей, не признающих за собою действительной цены, которые видят во внешних, иногда совершенно пустых отношениях к ним желание повредить их шаткому достоинству, которые не чувствуют достоинства своего настолько глубоко, чтоб сознавать, что повредить ему вздорным словом, минутною вспышкою нельзя. И вот такой человек встречается с честною, правдивою, строгою и резкою личностью, он слышит осуждение от человека, которого встретил не случайно, которого знал не один день, который принимал в нем участие, — и этот-то человек ему высказывает строго и серьезно свое неудовольствие, произносит жестокое слово осуждения. Это, конечно, не могло не раздражить его. Мы знаем далее из его собственного показания, что первоначальное стремление его, после обнаружения отношений его к Дмитриевой, "было восстановить себя во мнении окружающих его лиц. Вы слышали из показания его, данного здесь утром, что он имел намерение поднять себя в глазах сестры. Но если у него было это намерение по отношению к сестре, к которой он относится несколько пренебрежительно, то еще более должно у него было быть желание восстановить себя в глазах чужого человека, нравственного преимущества которого он не мог не чувствовать. Как известно, тяжесть чужого дурного мнения тем сильнее, чем достойнее и уважаемее то лицо, от которого исходит это мнение, чем выше стоит оно в наших глазах. То же самое было и здесь. Вот второй ряд причин, так сказать, внутренних: оскорбленная гордость, желание восстановить себя в глазах Рыжова, желание услышать, что действия его правильны, благородны, что он не совершил ничего дурного, что тут ни в чем не замешаны дела чести; с другой стороны, негодование, что в дела его вмешиваются, что ему не дают устроиться так, как бы он желал, раздражение, раздуваемое Дмитриевой,—все это вместе должно было довести подсудимого до крайне ожесточенного и озлобленного состояния. Мы знаем, что еще 28 января Шляхтин прислал Рыжову письмо, в котором говорил ему, что найдет его, что никогда не простит сестре тех оскорблений, которые она нанесла ему, пользуясь правами сестры и женщины. Письмо это была возвращено обратно с заметкой Рыжова, который, в полном сознании своей правоты, удивляется, как Шляхтин решается писать подобные вещи, поступив таким образом в доме сестры. На другой день посылается другое письмо, последовавшее после рассказа Дмитриевой о том, что госпожой Рыжовой написано письмо к ее родителям. Оно, это письмо, не могло быть возвращено из Нижнего, как это предполагает Рыжова, да это и неважно; важно то, что студент Дмитриев 28 числа, вечером, сообщил сестре о том, что слышал от Рыжовой о написанном ею письме к их родителям. Что это было сообщено без всякой предосторожности, что все слова раздраженной Рыжовой были приняты на веру Дмитриевым и переданы в той самой, несколько резкой форме, в которой они были, вероятно, высказаны, в этом вы могли убедиться уже потому, что студент Дмитриев без всякой критики относится к тому, что говорит. Вы слышали показание Миргородского о том, что у Шляхтина были нервные припадки и что об этом знает он преимущественно от Дмитриева; Дмитриев же по этому поводу заявил,, что он знает о нервном состоянии Шляхтина, во-первых и главным образом, от Миргородского, а во-вторых, потому, что однажды видел сам, как у Шляхтина тряслись ноги. Вот, например, один из источников для суждения о нервности Шляхтина и для суждения о вдумчивости Дмитриева в свои слова! Дмитриев должен был рассказать все, что он слышал, нисколько не умалчивая, нисколько не щадя самолюбия своей сестры, нисколько не оберегая ее, а она, в свою очередь, передала все слышанное ею Шляхтину. Вернувшись домой из театра, Шляхтин получает известие о том, что в дела его постоянно и настойчиво вмешиваются; он раздражается еще более и утром идет к Рыжову. Его не принимают. Тогда он пишет письмо, последнее, которое вы слышали, где говорит, что не пощадит ни себя, ни Рыжова, если только тот позволит себе нанести ему оскорбление. Затем, после того как Рыжов прислал ответное письмо, он, не приняв этого письма, говорит, что Рыжов может объясниться с ним с глазу на глаз. Рыжов приглашает его, и он идет часом раньше, чем назначено. Это желание видеться с Рыжовым, мне кажется, может быть объяснено довольно естественно и вероятно: ему нужно было объясниться, и непременно лично с Рыжовым, во что бы то ни стало; ему нужно было окончательно выйти из своего тяжелого и двусмысленного положения, или разорвав навсегда и окончательно отношения с Рыжовым, или, помирясь с ним, услышав от него, что он, Шляхтин, не бесчестный человек. Он, конечно, надеялся на последнее. Он отправляется, взяв с собою револьвер. Он говорит, что имел привычку постоянно носить с собою револьвер, потому что, как вы слышали из показания свидетеля Милославского, он объяснял ему еще в Харькове, что не знает, что могло бы с ним случиться, если б кто-нибудь его обидел. Вот с таким-то револьвером, носимым на случай, если кто-нибудь его обидит, он отправляется к Рыжовым. Мы знаем, что произошло затем. Я настаиваю в этом случае на показании госпожей Гора и Рыжовой. Войдя к Рыжову, увидя этого человека, так много испортившего ему желчи, Шляхтин — нервный, впечатлительный, всегда раздражительный, отдался весь порыву того гнева, который в нем долго накоплялся и, вероятно, кипел всю ночь после рассказа Дмитриевой. Он забыл, зачем пришел; он видит только ненавистного в эту минуту человека, который смеет гордиться своею правотою, смеет не уважать его, Шляхтина, смеет резко говорить о нем… Он хватает его за бороду, плюет в лицо и грозит пистолетом. Затем жена выталкивает его из кабинета; но и здесь, оставшись один, он чувствует, что не все высказал, не излил всего своего гнева, и начинает браниться — браниться резко, непристойно, дико, вероятно, самыми грубыми площадными словами, на что намекала госпожа Рыжова. Тогда, в свою очередь, Рыжов, человек, который должен был быть ошеломлен всем происшедшим, начинает, несмотря на мольбы жены, отдаваться гневу и, взяв в руки палку, выбегает, чтобы выгнать Шляхтина. Но известно всякому, кто имеет несчастье быть вспыльчивым, кто когда-либо «выходил из себя», что люди подобного рода еще более раздражаются от своих собственных слов; чем более они кричат, тем более усиливается раздражение, чем более они бранятся, тем более они чувствуют необходимость продолжать брань до тех пор, пока не выскажут всего, что давит их сердце, что мутит их зрение. То же должно было быть и здесь: присутствие Рыжова, возможность браниться с ним вновь должны были развить раздражение Шляхтина до последней степени, а между тем Рыжов махает палкой, может ударить, оскорбить… Одна мысль, что этот человек вмешивается в его дела, что он имеет какое-то право класть на него клеймо нравственного осуждения, что он имеет возможность осуждать его, третировать как виноватого, постановлять о нем приговор — это одно должно было увлечь все существо Шляхтина — и тогда-то у него должно было явиться желание отмстить этому человеку, уничтожить его, устранить этого непрошеного судью, который с палкою в руках кричит: «Вон, негодяй, из моего дома!» — и который даже не верит, не хочет верить, что в него может посметь стрелять «подлец»! Вы знаете, что внутренняя борьба в Шляхтине была непродолжительна; он сам сегодня утром рассказывал нам, что сказал Рыжову «буду стрелять», но остановился, потому что выстрелить «было бы ужасно»; но тем не менее это не остановило его и гнев поборол голос совести и рассудка. Но удар был отклонен женою Рыжова. Тогда, весь отдавшись своему слепому гневу, сказав опять: «Буду стрелять» — Шляхтин выстрелил еще раз и убил Рыжова. Вы знаете, что за этим последовало. Здесь возбуждается вопрос о том, надел ли Шляхтин калоши или не надел; мне кажется, это все равно: важно то, что он не устремился на помощь к упавшему Рыжову, не закричал от ужаса, не бросился к сестре, которая была также убита им нравственно, как физически был убит муж ее, не стал кричать о помощи в отчаянии от того, что сделал, не желая, не имея в виду. Напротив, весь в тумане, навеянном гневом, он с не уходившимся еще сердцем выбежал на улицу и только там оценил, что совершил.
Вот вся сущность дела. Опуская некоторые мелкие подробности, так как, вероятно, они сохранились у вас в памяти, я обращусь к тому, чтобы определить, что за преступление сделал Шляхтин. Наш закон предусматривает несколько видов убийства; одним из наименее тяжких считается тот вид, когда человек совершает убийство в состоянии крайнего раздражения, в запальчивости, когда он весь отдается влиянию своего гнева и под влиянием его решается на убийство. Я полагаю, что в настоящем случае вы, господа присяжные заседатели, найдете, что именно существовало такого рода преступление. Я не могу доказывать, что Шляхтин пришел с пистолетом именно для того, чтобы убить Рыжова; но вместе с тем не могу отрицать, что он убивал Рыжова сознательно, что он понимал, что делал, что в нем происходила кратковременная борьба: сначала совесть его восстала против того, что он хотел сделать, в голове промелькнуло слово «ужасно», потом все померкло и преступление было совершено; он утолил мгновенную жажду мести над человеком, который был ему ненавистен, тягостен в последнее время. Что же это такое? Соединение нервного состояния, которого я не имею права отрицать, так как оно было признано экспертами, с крайним гневом, который можно и должно было побороть, с которым человек может и должен сражаться и одолевать его, но гневом тем не менее очень сильным, составляющим характеристический признак убийства в запальчивости и раздражении. Вам, вероятно, придется выслушать много указаний на то, что преступление совершено не так, как я предполагаю; но вы, конечно, сами оцените, как все было в действительности. Я, впрочем, полагаю, что в делах, подобных настоящему, трудно усомниться в виновности; во всяком случае в деле нет данных, дающих возможность отрицать сознательное деяние.
Говорить вам, господа присяжные заседатели, о том, что ваш приговор имеет не только значение основания для наказания подсудимого за совершенный им поступок, казалось бы излишне. Всякий судебный приговор прежде всего должен удовлетворять нравственному чувству людей, и в том числе и самого подсудимого. Там, где действительно совершено преступление, приговор обвинительный, несмотря на свою тяжесть, завершает собою для подсудимого и для пострадавших житейскую драму, сглаживая чувства личной злобы и негодования и успокоивая смущенную общественную среду спокойным, хотя и суровым словом правосудия. Вот почему я кончаю свое обвинение тем, что обращаюсь мыслью к будущему. Я предвижу то время, когда несчастные, осиротелые дети Рыжова подрастут, когда их безвременное сиротство скажется на них особенно тяжело, когда не будет отца, который мог бы руководить и воспитывать их, а будет лишь слабая, больная и убитая горем мать; тогда они пожелают подробно узнать, что сталось с их отцом, и им скажут, что он пал от руки человека, которому делал только добро, что он пал, защищая честь и счастие чужой дочери. Когда они это узнают, то их оскорбленное слышанным чувство невольно вызовет негодование по отношению к тому, кто так жестоко, так бессердечно с ними поступил. Но я надеюсь, что окружающие будут иметь возможность сказать им: «Дети, в жизни много зла, но бывает и справедливость, и человек, который причинил вам столько несчастий, уже искупил свою вину…».
ПО ДЕЛУ ОБ ОСКОПЛЕНИИ КУПЕЧЕСКОГО СЫНА ГОРШКОВА *
Господа судьи, господа присяжные заседатели! Вашему суду предан подсудимый Григорий Горшков по обвинению в том, что, сам не будучи скопцом в физическом отношении, т. е. не будучи лишен своих детородных органов, но принадлежа духовным образом к секте скопцов, вовлек в эту секту своего сына и был не безучастен в его оскоплении. Не скрою от вас, что, приступая к исполнению лежащей на мне обязанности поддерживать это обвинение, я чувствую всю трудность предстоящей мне задачи. Трудность эта состоит не в том, чтобы я сомневался в вашей справедливости, беспристрастии, внимании и, наконец, сознании, что чем опаснее и неуловимее преступление, тем более бдительно общество должно стоять против него на страже. Нет! Трудность эта вызывается тем впечатлением, которое производят вообще дела подобного рода, дела скопческие. Во всех скопческих делах всегда господствует один общий элемент — элемент скрытности. Ничто здесь не высказывается вполне, обо многом умалчивается или не договаривается, благодаря недомолвкам концы легко прячутся в воду, и правосудию приходится распутывать их с большим трудом, борясь со множеством препятствий и имея пред собой свидетелей, которые не лгут прямо, но никогда не говорят прямо и правды. Это свойство скопческих дел существует и в настоящем случае. Если бы пришлось характеризовать большую часть показаний, данных пред вами, то можно смело надписать на них только одни слова: «не знаю», «не помню».,Все ничего не знают, все ничего не помнят, начиная от госпожи Горшковой, которая не помнит, смотрела ли она, от чего страдает и погибает 11-летний мальчик — ее сын, и кончая Горшковым, который не знает, сколько его сыну лет и когда он родился. Везде «не помню», везде «не знаю»… Но эта трудность не помешает нам, отбросив всю массу ненужного материала, остановиться на трех существенных вопросах и, разрешив их в том или другом смысле, или оправдать, или обвинить Горшкова. Я думаю, что его надо обвинить, так как ответы на эти вопросы должны быть в пользу обвинения. Вопросы эти следующие: 1) мог ли Горшков не знать об оскоплении своего сына, могло ли совершиться такое оскопление совершенно без его ведома, и справедлив ли рассказ сына Горшкова, что его оскопил солдат Маслов? 2) существует ли между Григорием Горшковым и скопчеством известного рода нравственная связь или Григорий Горшков с тем же естественным чувством брезгливости отворачивается от этой секты, с каким, по словам его жены, он отворачивался даже от своего сына? и 3) если между Григорием Горшковым и скопчеством есть нравственная связь и если без его ведома не могло совершиться оскопление его сына, то не было ли тут его содействия или участия, не он ли вовлек сына в скопчество и способствовал оскоплению его?
Прежде, однако, чем разрешить эти вопросы, я считаю нужным указать на две особенности настоящего дела и в кратких словах изложить пред вами сущность скопчества. Первая особенность та, что пред вами человек не оскопленный, и потому, естественно, в вас может возникнуть сомнение, каким же образом не принадлежащий к скопчеству физически может явиться его распространителем? Другая особенность этого дела та, что пред нами нет потерпевшего от преступления. Быть может, если бы пред нами был молодой Горшков, многое было бы в этом деле для нас ясно. Поэтому — и для выяснения значения этих особенностей необходимо прежде всего взглянуть поближе на скопчество.
Я не сомневаюсь, что вы знаете в общих чертах, что такое скопчество. У всех из нас сложилось о нем понятие как о таком учении, следствием которого бывает нравственное и физическое искалечение человека, доведение его до того физического и морального убожества, в каком вы видели здесь некоторых свидетелей. Но нужно обратиться к сущности этого учения. Скопчество развилось исключительно в России. Как прочно организованная секта оно существует только у нас. Бывают отдельные случаи оскопления и в Европе, но они являются или как способ, безжалостный и жестокий, создать особые голосовые средства у того, кого подвергают в малолетстве этой преступной операции, или как восточный обычай евнушества, тесно связанного с восточным рабством. Как учение скопчество существует только в России. В нашем отечестве, при господстве православной веры, существует, однако, целый ряд самых разнообразных сект или учений. Одни из них отличаются только обрядовой стороной от строго православного исповедания, а в существе правильно относятся к учению церкви и евангелию. Но некоторые из учений, несомненно уклонясь от правил церкви и искажая истинный смысл евангельского учения, доходят до совершенно дикого отрицания существенных и основных законов природы. Такого учения держится преимущественно скопчество. Это — даже не исключительно религиозное, а противуобщественное — учение возникло впервые и стало проповедоваться в конце прошлого столетия Александром Шиловым, который подвергся наказанию и погребен в Шлиссельбурге, где могила его считается скопцами священным местом. Как систематическое учение, как секта, правильно организованная и построенная на известных прочных началах, скопчество явилось только в царствование императора Александра I, когда проживал, преимущественно в Петербурге, скопец Кондратий Селиванов, человек неграмотный, но умный, хитрый и обладавший весьма важным свойством для всякого проповедника нового учения — настойчивостью и умением подчинять себе окружающих людей. Исходя из ложно понимаемых им текстов евангелия о соблазняющем оке и о том, какие бывают скопцы, толкуя их не в связи с остальными местами евангелия и извращая их слишком узким материальным толкованием, он учил, что человечеству было указано учением Спасителя не нравственное совершенство духа, а грубое искалечение тела, как средство борьбы с грехом, что Спаситель осветил путь исправления человечества именно таким образом. Он учил, что этот надлежащий путь исправления состоит не в восприятии высокого учения евангелия, которое заключается прежде всего в любви к ближнему, а в стремлении уйти от этого ближнего, удалиться и бежать от красоты, от «лепости» и бежать притом не нравственно, не стараясь бороться, а бежать малодушно, физически, посредством изувечения самого себя. Далее Селиванов находил, что все несчастия в жизни происходят от половых побуждений и что их нужно пресечь в самом их корне. Для этого он требовал от своих последователей, чтобы они вели постническую жизнь, не пили вина, не ели мяса, старались удаляться от всякого соблазна, от всякой «лепости» и, постепенно проходя все степени скопческой иерархии, садились бы сначала «на серого коня» и принимали «малую печать», т. е. лишились бы ядер, а впоследствии приобретали «большую печать», т. е. лишались бы вообще детородных органов. Приняв «большую печать», последователи Селиванова становились «убеленными», грех не мог их более коснуться, в них замирала всякая мысль о нем, и они делались «белыми голубями» или «белыми овцами». Это учение, несмотря на все свои противуестественные правила и задачи, нашло последователей. Простота рекомендуемого им способа борьбы с грехом и вечным осуждением, борьбы, не требующей постоянных усилий и напряжения душевных сил, а лишь одной физической жертвы, имела особую привлекательность для робкого ума неразвитых людей. А учение Селиванова было направлено на неразвитую массу, которая не может правильно толковать святое писание, следуя только его букве, а не духу. Из этой массы скопчество вербовало большую часть своих приверженцев. В настоящее время последователи Селиванова сплочены в прочную массу, они следуют вполне наставлениям своего учителя, для них этот учитель составляет верховного главу, наместника бога, «Искупителя». Для них он почти заменяет Христа, для них лик божественного страдальца, проповедовавшего живую, всепрощающую любовь к своему ближнему, отошел на задний план. Христос не вполне исполнил свою задачу, говорят они; Селиванов — вот настоящий Христос, он не только царь небесный и искупитель, но — и на этом отразилось стремление русского народа в конце прошлого века создавать самозванцев — он есть вместе с тем император Петр III, который скрывался от преследований под именем Селиванова. Как император Петр III и как батюшка-искупитель, он соединял в себе высшую духовную и светскую власть. Правда, Селиванов был преследуем, последователи его гонимы, но придет время, когда он вернется на землю к своим «детушкам» и водворит скопческое царство на Руси. К Селиванову сводится вся история скопчества, с него она начинается и в его жизни черпает свой главный материал. У скопцов нет священных книг, а все передается на словах. От Селиванова, от его имени, от его страданий, подобно лучам, расходится ряд стихотворных легенд, так называемых «распевов», в которых Петербург прославляется как Сион, как «святой пресветел град», Селиванов — как мученик, пострадавший за веру, и которые поются на сходбищах скопцов, называемых радениями.
В чем состоят эти радения — это долго описывать в подробности. Главным образом они заключаются в том, что эти люди, так ложно понимающие жизнь и ее требования, сходятся вместе, одеваются в длинные халаты, зажигают свечи и под пение распевов, в которых воспеваются «страды» Селиванова, начинают быстро вертеться в одиночку, сходиться накрест, двигаться плечо с плечом, кружиться рядами и приходить, наконец, в сильнейший экстаз. Вертясь все быстрее и быстрее, они впадают в полубессознательное состояние, пот льет с них ручьями, развевающаяся одежда иногда даже тушит свечи и тогда, посреди всеобщей усталости и полного душевного опьянения, кто-нибудь один из сильно возбужденных радеющих начинает изрекать бессмысленную связь слов, с механическим подбором рифм, что и составляет пророчество. Это состояние опьянения сами скопцы описывают очень характеристично: «То-то пивушко, — говорят они про радение,— человек и не телесными устами пьет, а пьян живет».
Внутреннему содержанию скопчества — странному и дикому — соответствует обрядовая сторона, выражающаяся и в радениях, и в известного рода обычаях и символах, составляющих неразлучную принадлежность замкнутого скопческого житья. Ему соответствует, к сожалению, в большей и высшей степени и вся личная жизнь скопца. Известно, что природа не прощает нарушения своих законов, и давно уже высказана та истина, что человек главным образом потому несчастлив, что забывает про законы природы. Это выражение всего более применимо к скопцам. Вслед за оскоплением начинается изменение оскопленных в физическом отношении: они хиреют, в них перестает обращаться с прежней живостью кровь, лицо делается бледным и опухлым, в движениях видны бессилие и усталость, является отсутствие аппетита, прекращается всякая растительность на бороде и усах, — одним словом, является совокупность тех признаков, которыми, по общему народному убеждению, характеризуется личность скопца. Поэтому мне незачем описывать тип скопца, он слишком известен, он слишком определенный тип, чтобы нуждался еще в каком-либо описании. Произведенные в последнее время исследования над физическим состоянием скопцов, преимущественно нашим известным ученым Пеликаном, показали, что даже самые кости скопца изменяются под влиянием оскопления, совершенного в ранних летах, что они приобретают размер, гораздо ближе подходящий к костям женщины. Вообще, приближаясь по своему виду к женщине, вместе с тем скопцы утрачивают и все хорошие свойства мужчины. Таким образом, в них исчезает мужество, прямодушие, энергия, но при этом они не приобретают и хороших женских свойств: в них нет ни мягкости характера, ни нежности, ни горячей любви, а все заменяется сухостью в обращении, крайней черствостью, отчуждением от людей, сознанием, что все остальные люди им чужие, что все они стоят не на надлежащей дороге, сознанием, что они отделены от всех людей непроницаемой стеной и что только в помыслах об искупителе Селиванове они могут находить утеху. Среди «труждающихся и обремененных», наполняющих общество, в котором живут скопцы, они стараются приурочивать себя к такому делу, при котором без особого труда получают возможность забирать в руки людей нуждающихся и — копить деньги, одну из немногих утех, оставшихся им в жизни. Занятие их — преимущественно меняльная торговля и биржевые операции. Вы, конечно, знаете, что занятие меняльной торговлей принадлежит, в глазах народа, к одному из присущих скопцам признаков. Жизнь их — скучная, мрачная, сухая, черствая, без любви и ее радостей — проходит в занятиях преимущественно меняльной торговлею н в радениях. Но иногда однообразие этой жизни, и, к сожалению, довольно часто, нарушается явлениями радостными, светлыми. Это прием новых членов в секту.
Ни одна секта, как это замечено последователями нравственной стороны скопчества, — ив этом они сходятся с учеными исследователями физической стороны скопчества, — ни одна секта не отличается таким страстным стремлением к вербованию себе адептов, ни в одной секте не существует такой радости, такого стремления пожертвовать всем, чем можно, чтобы только приобрести лишнего человека и отнять его у действительной жизни. Для этого скопцы не останавливаются ни пред чем: обещания, ласки, подкуп взрослых, угрозы и насилия над малолетними и в широком смысле пользование невежеством, неграмотностью, бедностью народа — все это пускается в ход и служит для того, чтобы завербовать себе новых товарищей по увечью. Эта-то сторона скопчества и представляется самою главною и опасною. До сих пор не определено, да трудно и определить, что руководит скопцами в этом отношении. Едва ли можно думать, что одно только желание приобщить других к предполагаемому «скопческому» вечному блаженству заставляет их приобретать сообщников. Я думаю, и этого же мнения держатся многие исследователи скопчества, что здесь кроется болезненное желание видеть около себя побольше таких людей, как они сами, с которыми бы можно было разделить тягости своего существования, разделить это отсутствие всяких радостей, эту бесцветность жизни. В таких случаях, как я сказал, скопцы выказывают замечательную деятельность и обыкновенно выделяют из себя известную группу людей, которые преимущественно занимаются подобного рода делами. Для того, чтобы явиться распространителем скопчества, чтобы привлекать в скопческую ересь возможно большее количество людей из мира, нельзя быть скопцом вполне; от скопца всякий будет сторониться. Скопец не может, по самому существу своему, по своей отчужденности от мира, представить так живо, так заманчиво все прелести скопчества, сопоставив их с огорчением, причиняемым житейскою «слепотою», не может указать так ясно на тот вред, на ту опасность, которую представляет женщина. Для этого нужен человек, который сам стаивал бы в таком опасном положении, — такой человек с большей энергией будет обращать в скопчество, такой совратитель подвергнется меньшей опасности, если он будет открыт, потому что в явно принадлежащем к секте всегда естественнее и предполагать, что он хочет распространять секту. Но когда он является неоскопленным, тогда власть невольно призадумается, — явится мысль, что если человек сам не вкусил скопчества, то зачем он будет совращать других в эту ересь? Наконец, попадают в эту организацию по большей части люди бедные. Приобщаясь к скопчеству и получая на руки деньги, эти люди могут быть весьма полезными распространителями печального учения. Они неоскоплены, энергии у них поэтому много, они бедны, и потому деньги могут послужить хорошим орудием для обращения их в рабство, во имя и во славу «батюшки-искупителя». Мне могут сказать, что это только предположения. К сожалению, это не предположения. Я думаю, что сам защитник не откажется подтвердить, что на эту сторону указывают все исследователи скопчества. Наконец, лучше всего указывает на это самая жизнь. Мы знаем, что скопчество располагает не только агентами, которые далеко не все бывают оскоплены, но мы знаем, что даже глава современного скопчества, который по влиянию равняется почти с Селивановым, который был его преемником в этом отношении, известный моршанский купец Плотицын, скопивший миллионы, державший в своей власти целый уезд, глубокий и систематический распространитель скопчества, при освидетельствовании оказался неоскопленным. При обсуждении скопческих дел всегда нужно иметь в виду, что в среде скопчества бывают лица, которые, вполне разделяя это учение, страха ради иудейского или по телесной слабости, не решаются оскопиться, но делаются только ревностными и хорошими проводниками скопчества, и они-то и представляются наиболее опасными членами этой секты.
Я кончил тот необходимый краткий очерк, который хотел вам представить. Он, конечно, не полон, но основные черты его, смею думать, верны. Мне, однако, думается, что необходимо обратиться еще к одной мысли, которая, может быть, будет высказана в нашей среде, господа присяжные, при всестороннем обсуждении настоящего дела. Могут сказать, что преследование сект, подобных скопческой, является нарушением свободы совести, что у человека, как бы он ни был связан с государством, как бы тесно ни соприкасался с обществом, в котором живет, должна быть известная область душевной свободы, в которую никто не имеет права заглядывать и не должен вторгаться, область, вступая в которую, общество и государство должны складывать оружие и являться, в крайнем случае, только наблюдателями. Могут сказать, что человек волен бороться с греховными побуждениями теми средствами, которые ему кажутся наилучшими, лишь бы они не затрагивали интересов других людей. Но, господа присяжные заседатели, если бы дело шло о преследовании тех 58 чухон, о которых говорилось в прочитанных здесь письмах Горшкова, тех, которых неразумие, невежество, нищета, бедность, скудость природы и тяжкие семейные условия толкнули на скопчество, которые сами не ведали, что творят, давая себя оскопить, то эти соображения могли бы иметь место как призыв к особому снисхождению к жертвам фанатического заблуждения. Если бы дело шло о зрелом человеке, который сознательно и свободно, обдуманно и спокойно, по чувству искренней веры, оскопил себя, можно бы говорить об этой неприкосновенной области и спорить относительно ее границ. Но там, где дело идет о распространении скопчества, о сознательном вовлечении в эту секту слабых людей, придавленных судьбою или не обладающих здравым разумением, там слово «свобода совести» является только громким словом, которым можно злоупотреблять без всякой пользы для разъяснения дела. Притом скопчество вовсе не является исключительно религиозным учением, противным православию. На это уже достаточно указывает то, что оно одинаково распространяется не только между православными, но и между лютеранами — финнами. Оно является, по способам своего распространения, по среде, в которой оно вербует своих вольных и невольных приверженцев, учением противуобщественным. Нам известно, что христианство у скопцов на заднем плане, напротив того, отчуждение от ближнего, отпадение от общества, отрицание семьи, которая есть основание общества, — вот что стоит на первом плане. Это учение скорее всего направлено против общества, а не против религии.
Посмотрите, среди кого распространяется скопчество, на кого оно старается действовать. Опять я сошлюсь на этих 58 чухон, дело о которых разбиралось в Петербургском окружном суде два года назад. Вы знаете ту унылую, суровую и скудную природу, среди которой живут эти люди: кочковатые болота, кривые березы, мхи, жалкий климат — все это при экономической придавленности и неразвитости, при вопиющей нередко бедности ложится на них тяжелым бременем, делает их жизнь горькою. И вот тут, где религиозное развитие слабо, где семья скорее тягость, чем утешение, является скопчество. Но разве оно рисует им лучшую жизнь и счастие? Нет, нисколько. Да этого и не нужно! Зачем говорить о будущем, каким его представляет Селиванов, а не прямо указать на те средства, которые можно получить, если перейти в скопчество, на возможность получить лошадь, корову, на возможность жене одеться, детям не голодать.' И вот совращение совершено. Затем посмотрите на другую среду, в которой распространяется скопчество. Это — дети, существа, которые зависимы, неразвиты, нередко ничего не понимают. Они стоят в полной зависимости от родительской власти, особенно при тех условиях, в которые поставлена родительская власть в низшем слое населения. Можно зачастую совершенно безопасно и невозбранно насиловать их, вовлекая в скопчество и губя их еще не сложившуюся жизнь. Вот почему, я полагаю, что не в самооскоплении, не в принадлежности к скопчеству, не в этой жалкой приверженности к скаканию и пению рифмованного набора слов состоит зло скопчества, а в его силе распространения, в стремлении его вербовать… Это и не мой только личный взгляд. Наше высшее судебное учреждение, Кассационный Сенат, обратил внимание на скопческую секту, и вот как он о ней говорит: «Государство не может допускать организации обществ, употребляющих для достижения своей цели средства, противные нравственности и общественному порядку, хотя бы такие общества и прикрывались религиозными побуждениями; в скопческой же ереси ясно преобладает противуобщественный элемент, а элемент религиозный представляет совершенное извращение не только православия, но христианской веры вообще». Ввиду этих слов высшего судебного учреждения, ввиду тех условий скопчества, на которые я указал, мне кажется, что возражение, будто распространению скопчества не надо полагать твердых пределов, не имеет правильного основания. Обращаюсь собственно к существу настоящего дела.
Первый вопрос по существу дела заключается в том, мог ли Горшков не знать, что его сын оскоплен? Можно ли было это сделать без его ведома, и справедлив ли рассказ его сына? Полагаю, что рассказ этот совершенно несправедлив. Разберем, в чем он состоит, кстати, разберем и рассказ матери. «Пошли на богомолье, отстал, подошел неизвестный солдат, предложил пряник, я съел пряник, упал без чувств, проснулся — отрезаны ядра; пошел в Курск, встретил на рынке мать; приехав в Петербург, отцу ничего не говорил, чрез два года поехал в Курск, там судился и, приехав, привез отцу копию приговора». Вот сущность его рассказа. Но стоит немножко вдуматься в операцию оскопления, чтобы понять, что этот рассказ неправдоподобен. Не говоря о том, что то, что рассказывает молодой Горшков курской уголовной палате, невероятно с физической стороны, оно невероятно и с нравственной стороны. Оскопить таким образом человека вдруг, ни с того, ни с сего — это невозможно. Оскопить человека для того только, чтобы оскопить, значит совершить деяние без смысла и цели, даже со скопческой точки зрения. Скопцы стремятся к тому, чтобы приобресть людей, которые сознательно принадлежали бы к скопчеству или, по крайней мере, выросли бы в нем. Поэтому оскоплению чуждою рукою взрослого человека предшествует известное внутреннее соглашение, всегда тот, кто оскоплен, еще до оскопления духовно сливался с скопчеством, но он был слаб, он был нерешителен относительно «принятия печати», и в этом ему помогла посторонняя рука. Если же это дети, то, без сомнения, ряд внушений, приказаний и принуждений предшествует этому акту — бессмысленному и бесчеловечному. Оскопить несчастного ребенка, накормив его каким-то пряником, и затем потерять его из виду — разве не все равно, что отрезать человеку нос или отрубить руку во время сна? Ведь это будет только увечье, которое само по себе не имеет ничего общего с учением скопчества. Посмотрите на эту операцию с физической стороны. Каждому лицу мужского пола известно, как чувствительны половые органы, как мало-мальски сильный толчок в них причиняет жестокие боли, а более сильный может вызвать смерть. Всякое насилие над этими органами должно причинять тяжкие страдания, всякий разрез, произведенный грубо и торопливо, должен произвести сильную потерю крови, привести человека в ужасное нервное состояние, должен почти совершенно парализировать его движения. Сначала человек оскопленный не только не будет мочь идти, но долгое время будет на одном месте истекать кровью, и только чрез значительный промежуток времени будет иметь возможность кое-как двигаться. Между тем, мы видим тут ребенка, мальчика, который на утро после оскопления встал и явился в Курск. Он выздоровел так скоро, что чрез две недели, а мать даже говорила — чрез одну неделю его везут в Петербург, и притом не по железной дороге, а со всеми неудобствами былого времени, в тарантасе или на перекладной до Москвы. По прибытии его в Петербург там тоже никто не замечает его страданий, никто не видит, что с ним сделалось. Но припомните анатомическое строение половых органов: сколько в них кровеносных сосудов, как чувствительны эти органы. Если уж обыкновенная рана нередко вызывает сильные страдания, сопровождается большим истощением вследствие потери крови и заживает медленно, то рана, нанесенная в такую часть тела, где скопляются кровеносные сосуды, скоро, на другой день, не заживет и не закроется. Поэтому и с физической стороны заявление Горшкова несправедливо. Заявление матери его еще менее правдиво. Эта мать, узнав из слов сына, что его «испортили», не полюбопытствовала даже узнать, что именно с ним сделалось, не занялась его лечением, не расспросила его, а просто сказала какой-то неизвестной Пелагее Ивановой, которая чем-то и примачивала Василию больное место. Но отчего же по приезде в Петербург она не заявила об этом мужу? Отчего она не заявила никому на месте? Ведь в ней должно было прежде всего заговорить материнское чувство.., Ведь тут на первом плане вред, болезнь, горе, причиненное сыну. Тут произошло лишение на всю жизнь одной из существеннейших способностей, и она, женщина в летах, не могла этого не понимать. Она должна была быть лично огорчена и убита всем, сделанным с ее сыном. То, что произошло с ним, в самой вялой и апатичной матери, — если только она мать действительно, — должно было воз будить негодование, слезы… Она должна была идти в полицию, жаловаться, заявить, тем более, что все случилось тут же, около, на месте. Допустим, наконец, что она, как женщина, под влиянием горя, потерялась, не нашлась, что сделать. Но у нее есть муж, человек деловой, энергический; он бывший управляющий богатого помещика, который имеет связи, он пойдет к нему, попросит помощи, содействия, заступничества, поднимет на ноги полицию, и тогда разыщут лихого человека, тогда за сына отомстят. Однако она молчит перед мужем. Она, по ее словам, боялась, что он забранит ее. За что же забранит? За то, что неизвестный человек оскопил ее сына, которого оттеснила от нее толпа на крестном ходу. Есть ли тут сколько-нибудь здравого смысла? Поэтому рассказ Горшковой лжив. Но такой рассказ встречается очень часто. Я нарочно здесь спрашивал одного из скопцов о том, как его оскопили, и он нам рассказал такую же историю, которая повторяется всеми: это старая история, но в устах скопцов она всегда остается новою. «Солдат шел.,, дал напиться… упал… заснул… от-: резал… не помню как… проснулся… пошел домой… никому не заявил… боялся…» Рассказ не так прост, как кажется с первого раза, он является результатом определенной системы действия и отражается на целом ряде судебных приговоров старых судов, что доказывает, например, и дело Маслова, на которое я ссылался. Скопцы не могут страдать все за участие в оскоплении того или другого лица, им необходимо сплотиться и держаться крепче друг за друга, для этого нужно принести одну, общую за всех, жертву, выставить кого-нибудь одного из своих, и в этом отношении у них существует особая система действий. Всякий исследователь скопчества, всякий юрист, знакомый с делами старых времен, скажет вам, господа присяжные, что по временам в той или другой местности России, преимущественно в Орловской и Курской губерниях, появлялись люди, которые заявляли, что они оскоплены, показывали на известное лицо, которое иногда даже являлось вместе с ними и принимало на себя вину свершения над ними осколления. По большей части это бывал какой-нибудь отставной солдат, дотоле питавшийся подаянием. Лицо это сажали в острог, и тогда-то начинали слетаться со всех концов «белые голуби», заявляя, что они были оскоплены, что их оскопил при таких-то обстоятельствах какой-то неизвестный солдат. Обстоятельства эти всегда были одни и те же: «Шел… напоил… оскопил…» и т. д. Им показывали содержавшегося в остроге, и он чистосердечно, иногда со слезами, сознавался, что действительно он оскопил всех этих лиц. Скопцы эти прибывали целыми массами, так что, наконец, целое стадо этих «белых овец» собиралось вокруг этого злого волка, который их изувечил… Его ссылали в Сибирь, а их, как невинно оскопленных, оправдывали. Эту систему можно с очевидностью проследить по делу Маслова. Оно началось с 1865 года. 16 марта 1865 г. к судебному следователю города Курска явились три лица и заявили, что они оскоплены солдатом Масловым; вместе с ними явился и самый солдат Маслов и сказал, что действительно он оскопил этих лиц. Если вы будете перелистывать это огромное, лежащее ныне пред вами, старое дело, то увидите постоянное повторение одного и того же протокола: явился такой-то, заявил, «что оскоплен Масловым, Маслов сознался в том, что действительно оскопил это лицо», затем новоявившегося свидетельствовали, нашли малую печать, отдали на поруки и т. д.
Потом явился другой, третий, и всего набралось— 114 человек!! Их всех в промежуток года с небольшим успел окопить, по собственному признанию, Маслов… Таким об-? разом, набрав на себя грехи 114 скопцов, он отправился в Сибирь, не пострадав сильнее от этого принятия на себя не одного, а целой сотни оскоплений потому, что наказание за оскопление полагается одно и то же, невзирая на число оскопленных. Все заявившие лица сделались свободными от суда и получили в том удостоверение. В числе этих лиц был Василий Горшков. Людей вроде Маслова было в последние годы несколько. Пред Масловым был в том же Курске Чернов или Черных, на которого, как на оскопителя, сегодня перед вами сослался один из свидетелей скопцов. Он повинился, по вышеприведенному способу, в 106 оскоплениях; Маслова сменил ныне в курском остроге новый великодушный охранитель скопчества— Ковынев. Таким образом, рассказ Василия Горшкова представляется совершенно соответствующим этой системе.
Тех ссылок, которые я сделал на дело Маслова, достаточно для того, чтобы признать, что рассказ Василия Горшкова и матери его несправедлив. Тогда остается один вывод: он оскоплен не Масловым и оскоплен не при матери, в Курске. Но если так, то где же он оскоплен? Ему было 11 лет, он только раз отлучался с матерью в Коренную пустынь, а все время жил в Петербурге, при отце. Нельзя же допустить, чтобы 11-летний мальчик отлучался один на долгое время из Петербурга. Вы слышали из обвинительного акта, что, по словам Горшкова, он первоначально узнал об оскоплении сына тогда лишь, когда сын предъявил ему приговор палаты, т. е. в 1866 году. Здесь, на суде, он изменил это показание и говорит, что он узнал об этом от жены, когда сын ушел с Пелагеею искать «того человека». Это изменение совершенно понятно, потому что иначе ему пришлось бы утверждать, что сын его, 13-летний ребенок, без ведома отца ездил один в курскую уголовную палату для выслушания приговора и дачи показания. Но слишком несообразно с здравым смыслом допустить, чтобы 13-летний ребенок один поехал в Курск выхлопатывать себе обвинительный или оправдательный приговор. Василий Горшков все время до получения приговора и потом года три жил в Петербурге, и жил при отце. Это мы знаем из дела и из свидетельских показаний. Но если он не оскоплен в Курске, то он нигде не мог быть оскоплен, кроме Петербурга.
Если допустить, что его оскопили в Курске, то невольно приходится спросить себя, как могло укрыться от отца, что он оскоплен, что он, особенно первое время по приезде из Курска, страдает? Как он мог скрыть это от отца, с которым жил, от тех детей, с которыми бегал, как мог он скрыть это в бане, в которую являлся с отцом? Это невозможно. Он не мог бы скрыть следы заживавшей раны, не мог бы скрыть ту неровную походку, которая присуща скопцам. Мы должны предположить отсутствие у отца его всякой наблюдательности, всякого внимания к сыну, всякого отцовского чувства, когда он не замечает, что у малолетнего сына, при наступлении зрелости, голос не становится мужественным, а дребезжит и делается скопчески-писклив, когда он не замечает, что вместо того, чтобы, возрастая, румянеть и цвести, сын делается хилым, вялым и худеет, что глаза его не блестят, походка шатка и неровна и, наконец, что у сына нет ни детской веселости, ни шалостей, ни юношеского задора. Всего этого отец не мог не заметить, а если он не мог этого не заметить, то он и не мог не знать, что сын его оскоплен. Если же мы допустим, что он не мог этого не знать и признаем, что сын был оскоплен не в Курске, то следует признать, что совершить оскопление 11-летнего сына богатого и энергического человека в Петербурге невозможно без ведома этого человека. Как можно, без ведома отца, нравственно оторвать ребенка от семьи и внедрить в него скопческие мысли, как можно оскопить его незаметно, неслышно для отца? Таков ответ на первый вопрос. Притом, мы знаем из показаний Васильева, данных здесь на суде, вдали от майора Ремера, которого он будто бы так боялся прежде, и вблизи от присяги, которой он так боится теперь, что малолетний Горшков проговаривался, что он оскоплен, и говорил что-то такое о распевцах и о радениях. Но если он знал о радениях, то, значит, он их и посещал. Но мог ли 12—13-летний ребенок посещать радения, которые бывают ночью, без ведома отца, потихоньку, самовольно? Мог ли отец не знать о том, что сын испытал, что такое радение?!
Второй вопрос состоит в том: чужд ли Григорий Горшков скопческой секте? Действительно ли он относился к ней с тем отвращением, с каким, по словам жены, относился к своему сыну, узнав, что его, оскопили.,. Я думаю, что если мы посмотрим хорошенько на дело, то найдем в нем несколько таких красноречивых фактов, из которых с ясностью увидим, что этот Горшков, который чуждается скопчества и гнушается родного сына, является ревностным комиссионером скопцов, внимательным корреспондентом их, что он им сочувствует и принимает их судьбы близко к сердцу, одним словом, — лицом, которое в своей деятельности близко подходит к скопцам. Вы знаете историю скопчества. Здесь находится портрет Александра Шилова, который считается предтечей «искупителя» Селиванова, Портрет этот есть святыня скопчества, скопцы его чтут как образ, как предмет священный, и так как у них стараются отбирать подобные портреты, то получение его для своего дома для скопца составляет известного рода ценное приобретение. И вот мы видим, что заказывать такой портрет является Григорий Горшков. Хотя сначала Горшков отрицал это обстоятельство, но потом, когда ему были предъявлены заказные книги, когда Кутилины уличили его в глаза, то он сознался, что заказывал такой портрет. Такой же точно портрет со штемпелем Штейнберга найден в Казанской губернии, в Кадниках, у штурмайского штабс-капитана Неверова.. Вы слышали здесь протокол допроса Неверова. Я думаю, что из этого допроса рисуется личность скопца от головы до ног. Тут все скопческое: и его история, которая состоит в том, что на него постоянно и повсюду доносили, что он скопил мальчиков, и в том, что он сам донес на умершую уже мать свою, обвиняя ее в своем оскоплении, и та обстановка, которая его окружает. Эта обстановка очень характеристична: тут и сухие крендельки, тщательно сберегаемые, которые некоторыми исследователями скопчества считаются скопческим причастием, тут и сухая земля будто бы для протирания очков, тоже внимательно хранимая, тут и всевозможные скопческие картины и книжки, и «распевцы», и выписки из истории скопчества в восьмом томе истории раскола Варадинова *, тут, наконец, портрет Петра III, которого скопцы отождествляют с Селивановым… Посреди этой обстановки 70-летний скопец. У этого лица находят портрет Шилова, который, по его словам, он купил в Петербурге в 1850 году, а может быть, и в 1860 году, в какой-то фотографии за 3 руб. серебром, потому что этот портрет ему понравился. Из собственного его показания видно, в какой обстановке он живет, как скупо обставил он себя, как бережет он разорванный, замасленный кошель, в который «неизвестно откуда» попала вата и узда. Мы знаем, что он, 70-летний болезненный старик, еще ищет в Казани работы по постройке барж… Неужели такой человек бросит 3 руб. за портрет неизвестного лица? Да и чем же ему понравился этот портрет? Ведь Кутилин очень оригинально говорит, что он взял со Скворцова дороже, потому что портрет был очень отвратителен! Вы видели портрет и признаете, что особой привлекательности он не представляет. Зачем же, наконец, он пошел в фотографию к художнику Штейнбергу? Почему он знает, что в этой фотографии есть такой портрет? И зачем Штейнберг будет держать для продажи подобные портреты? Много ли таких Неверовых, которым может нравиться такая отвратительная, по мнению Кутилина, картина? Скорей всего он должен был купить такой портрет потому, что знал, чей он. Но Кутйлины говорят, что у них Неверов не бывал и что не Неверов взял портрет, а Горшков. Итак, между Неверовым и Горшковым образуется связь посредством портрета «предтечи» Шилова. Горшков, а не кто-либо иной, мог доставить Неверову этот портрет. Таким образом, Горшков посылает святыню, чтимую скопцами, «ведомому» скопцу Неверову и падает этому скопческому старцу «земно в ноги со всею семьею своею» в то время, когда сын его должен жить вдали от дома, в отчуждении от семьи, потому что Горшков гнушается им, презирая скопцов… Это первое… Далее — Горшков старается оправдаться, указывая на то, что хотя он и заказывал портрет, но заказывал его в качестве снимка, в качестве копии с портрета родственника одного из знакомых своих Леонова и по его поручению. Но это объяснение неудачно. Он ссылается на человека, который умер за год перед этим. Ссылка на мертвого свидетеля всегда есть мертвая ссылка. И затем на кого же он ссылается? Кто же этот Леонов? Тоже скопец. Не странно ли, что человеку, который не имеет ничего общего со скопчеством, даются такие важные поручения, исполнение которых имеет для скопцов особое значение, потому что портретопочитание развито в их секте очень сильно. Не странно ли, что скопец Леонов заказывает чрез Горшкова портрет своего родственника и портрет этот находится у скопца Неверова, который состоит в постоянных сношениях с Горшковым? Почему скопцы собираются в лавку к Горшкову и, смотря на портрет, говорят: «Да, это он!» Почему у него сходится это общество и устраивается эта временная выставка священной картины? Ведь он ничего общего с скопцами не имеет. Он говорит, что его сталкивали с ними торговые дела. Да, но когда человек сталкивается с другими — ему ненавистными — людьми вследствие торговой деятельности, то он ею только и ограничивается. Ведь не торговые дела заставляют Горшкова посылать портреты и не по торговым делам он ездил в Константинополь и переписывался с Неверовым. Да и какие торговые дела мог иметь он с бедным отставным штурманом, проживающим в Кадниках? Итак, Горшков окружен скопцами, он является исполнителем их поручений, не простых, как, например, покупка сахара или отсылка 10 руб., а таких поручении, как воспроизведение и отсылка скопческой святыни. Что Горшков знал, что это действие даже не совершенно безопасно, это нам также известно. Он сделал выговор госпоже Кутилиной, когда она приехала к нему получать деньги, заметив ей, что нельзя посылать такую важную вещь с кем-либо, а когда этот человек принес ему накануне портрет, то он сказал, что ничего не заказывал и что если госпожа Кутилина имеет до него какое-нибудь дело, то пускай сама приедет к нему.
Таким образом, Горшков является исполнителем опасных, по-видимому, поручений скопцов и, следовательно, сам подвергается из-за них опасности, из-за них — из-за губителей своего сына! Посмотрите на его письма. Они чрезвычайно характеристичны, везде в них проглядывает рабское отношение к «почтенному старцу» Неверову; в них Горшков не просто сообщает новости, а доносит о положении дел. Как истинный последователь скопчества, он говорит в них далеко отсутствующему скопческому старцу, что «предстоит перемена погоды и очень скоро, потому что в Москве дела худы, а у нас пока спокойно, но бог знает, что будет дальше; вот в Царском Селе 65 чухон осудили старых и малых, добра ожидать нечего». Наконец, он сообщил, куда он ездил: «Ездил в Одессу, Киев и дальше, побывал и в Константинополе, чтобы посмотреть на тех людей, на тот конец, если кому из наших придется там жить». Кто же это те люди? Мы знаем, что в Молдавии и Валахии есть колонии русских скопцов, что еще в прошлом году в газетах писалось о том, какое негодование возбуждало в румынском народе распространение скопчества в его среде. Время поездки и краткость его ничего не значат. Чтобы посмотреть, как живут, не нужно изучать все подробности. Если кто-нибудь из близких живет в другой стране, то не для чего узнавать все подробности его быта, а достаточно воспользоваться иногда проездом, задать при кратком свидании вопрос: «Что, братия, как живется, хорошо ли, легко ли, свободно ли?» И если братия единомысленна, то и краткий ответ с ее стороны будет удовлетворителен. Что хорошо для тех людей в Румынии, то будет хорошо для тех же людей, которые, в случае надобности, прибудут из России. Итак, господа присяжные заседатели, вот каков Горшков в отношениях своих к скопчеству. Затем следуют некоторые побочные признаки принадлежности к секте, мелкие, почти неуловимые, как, например, неупотребление мясной пищи во всем доме Горшкова, о чем единогласно говорили свидетели, как вы слышали из их показаний, прочтенных пред вами. Если вы взглянете на этот дом — безлюдный и мрачный, — где никогда не едят мяса, где служат сестры скопцов, где прозябают придавленная страхом и трепетом жена и оскопленный сын — ив пользу хозяина которого являются свидетельствовать с своим вечным «не помню» и «не знаю» свидетели, все служащие у него, — то, быть может, вы признаете существование скопческого оттенка и на внутреннем быте Горшкова.
Ответ на второй вопрос, мне кажется, может быть только один. Горшков тесно связан со скопчеством, он сочувствует ему, боязливо следит за его судьбою и находится в тесных, живых и прочных сношениях со скопцами. Верный исполнитель их важных поручений, он служит в своих письмах для отсутствующих скопцов точным барометром, который показывает, когда на скопческом небе «облачно» и когда предстоит «перемена погоды». Комиссионер, корреспондент и друг скопцов, меняла по занятиям, он в то же время отец сына, оскопленного в малолетстве…
Теперь остается разрешить третий вопрос. Если этот человек таков, каким он представляется по его действиям, то могло ли оскопление его сына произойти без его ведома и содействия? Если рассказ сына об оскоплении, как я старался доказать, ложен, то подсудимый знал, как был оскоплен его сын. Если бы он не был скопец в душе, то он навсегда бы с негодованием отвернулся от окружавших его скопцов. Если в один прекрасный день малолетний сын Горшкова, постоянно проживавший при отце в Петербурге, оказывается оскопленным; если рассказ его об оскоплении неправдоподобен; если отец его не ропщет, не жалуется, не негодует на то, что его сын навеки «испорчен»; если он поддерживает тесную связь с лицами, из среды которых вышли губители его сына; если, нимало не заботясь о судьбе исчезнувшего сына, он так интересуется теми людьми и скорбит о предстоящих скопчеству опасностях, то мы можем сказать, что этот человек пожертвовал своим сыном для скопческого дела. Для этого, для такого содействия скопчеству вовсе не нужно самому приложить нож к телу сына — это было бы слишком ужасно, — достаточно, пользуясь своим отеческим положением, обещаниями, ласкою, угрозами, гневом подействовать на слабую, неопытную натуру мальчика, подчинить его бессознательную волю своей воле и предать его скопцам, готового и нравственно убежденного для принятия малой печати, ни значения, ни последствий которой он не мог понимать! Таким образом, я думаю, что одного этого свода соображений было бы достаточно для признания Горшкова виновным в совращении сына своего в скопчество и в содействии его оскоплению. Но есть еще другое обстоятельство, подтверждающее то же обвинение. Сын Горшкова исчез, и где он находится, неизвестно, исчез бесследно, быстро. Но когда же он исчез? Вскоре после его оскопления, после лечения? Нет, он жил после этого с отцом и ежедневно бывал в его лавке восемь лет, не думая исчезать. Он исчез в то время, когда в начале марта прошлого года у судебного следователя по особо важным делам, по сообщениям, которые были получены им из разных мест, началось дело о скопцах. Дело это принимало широкие размеры, и Горшков не мог не сознавать, что и ему может грозить опасность; его имя еще не упоминалось, но вот-вот оно упомянется. Между тем известный исследователь скопчества — следователь Реутский разъезжал по всей России, сосредоточивая воедино скопческие дела и, быв у Неверова, производил у него обыск. При тех постоянных сношениях, в которых находятся скопцы между собою; Горшков, конечно, знал об этом, знал о портрете Шилова, мог предвидеть, что его спросят, — возьмутся за его оскопленного сына и в нем, пожалуй, найдут грозного обличителя отца… И вот сын его начинает, с начала следствия, отлучаться подолгу из дому, не ночуя и где-то скитаясь, а, наконец, тогда, когда Горшкова 8 апреля призывают к допросу, когда его привлекают к делу, сын его исчезает. Но отчего же он исчезает? Разве он боится за себя, что и его привлекут? Ведь он оправдан, его оскопил Маслов, он несчастный, а не виновный человек. Следовательно, за себя ему бояться нечего и не себя он спасает своим бегством, своим исчезновением из Петербурга и, вероятно, из России. Он был спасаем, может быть, против воли. Кому интерес в его исчезновении? Интерес его отцу, потому что когда не будет этого человека, тогда можно во многом не сознаваться; когда не будет того, который в отчаянии мог сказать на суде своему отцу: «Да, благодаря тебе меня оскопили, ты увлек меня такими-то обещаниями, такими-то угрозами» и т. д.; когда на суде будут только одни бескровные, бледные фигуры явных и тайных скопцов и скопчих; когда они будут только говорить «не знаю», «не помню» — тогда Горшкову будет легче оправдываться, чем при сыне, которого скопческий вид тяжким укором ляжет на нем. Поэтому исчезновение, бесследное, неожиданное и совпадающее с начатием дела о Горшкове, является новою против него уликою.
На основании всего, что я изложил пред вами, господа присяжные заседатели, я обвиняю Горшкова в том, что он совратил своего сына в скопчество и содействовал его оскоплению.
В заключение мне остается сказать только несколько слов. Говорить о важности преступления распространения скопчества мне нечего. Всякое вредное заблуждение важно; когда же это вредное заблуждение распространяется человеком, у которого в руках относительно детей власть родительская, а относительно прочих слабых духом, несчастных, голодных и неразвитых людей, которые его окружают, власть денежная, то оно становится не только важным, но и опасным. Защищая своих слабых сочленов, общество должно ставить такому заблуждению препоны. Говорить о нравственной стороне настоящего дела тоже едва ли нужно. Я думаю, господа присяжные заседатели, что вы, люди практической жизни, легко себе представите, что должен чувствовать тот человек, у которого в самых молодых летах отнята надежда на жизнь сообразно с законами природы. Вы поймете, как тяжела судьба человека, который искалечен и нравственно, и , физически, и притом помимо ясного и свободного желания, для которого нет уже возврата назад, нет возможности исправить нанесенный ему вред и который может только оплакивать свое несчастье. Я полагаю, что вам станет ясно, какое злое дело совершил Григорий Горшков над своим сыном.
Он исказил его природу, он отторгнул сына от людей, он вложил в его сердце скопческое отвращение от всего живого. Он лишил сына семьи и ее чистых радостей, он отнял у него то, чем, однако, считал себя вправе сам обладать: отнял счастие быть отцом. Разбив его будущность и обезобразив тело, он пустил его на одинокое и безвестное скитание…
Человек, который все это сделал, пред вами, господа присяжные заседатели, и вам предстоит решить его судьбу…
ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ ФИЛИППА ШТРАМА*
Господа судьи, господа присяжные заседатели! По делу, которое подлежит нашему рассмотрению, казалось бы, не нужно употреблять больших трудов для определения свойств и степени виновности главного подсудимого, потому что он перед вами сознался. Но такая легкость обсуждения настоящего дела представляется лишь с первого взгляда, и основываться на одном лишь сознании подсудимого для определения истинных размеров его виновности было бы, по меньшей мере, неосторожно. Свидетельство подсудимого является всегда небеспристрастным. Он может быть подвигнут теми или другими событиями своей жизни к тому, чтоб представить обстоятельства дела не в настоящем свете. Он имеет обыкновенно совершенно посторонние цели от тех, которыми задается суд. Он может стараться своим сознанием отстранить подозрение и, следовательно, наказание от других, близких ему лиц; он может, в великодушном порыве, принять на себя чужую вину; он может многое утаивать, многое извращать и вообще вступать в некоторый торг с правосудием, отдавая ему то, чего не отдать нельзя, и извращая то и умалчивая о том, о чем можно умолчать и что можно извратить. Поэтому идти за подсудимым по тому пути, на который он ведет нас своим сознанием, было бы большою неосторожностью, даже ввиду собственных интересов подсудимого. Гораздо более правильным представляется другой путь. На нем мы забываем на время о показаниях подсудимого и считаем, что их как бы не существует. На первый план выдвигаются тогда обстоятельства дела, добытые независимо от разъяснений обвиняемого. Мы их сопоставляем, взвешиваем, рассматриваем с точки зрения жизненной правды — и рядом предположений приходим к выводу, что должно было произойти на самом деле. Затем уже мы сравниваем этот вывод с сознанием подсудимого и проверяем один другим. Там, где и наш вывод, сделанный из обстоятельств дела, и сознание подсудимого сойдутся, мы можем с доверием отнестись к нему; где они расходятся, там есть повод очень и очень призадуматься, ибо или вывод неправилен и произволен, или сознание неправдиво. И когда вывод сделан спокойно и беспристрастно из несомненных данных дела, тогда, очевидно, сознание, с ним несогласное, подлежит большому сомнению. По этому пути я думаю следовать и в настоящее время. Когда совершается преступление, то первый вопрос, возникающий для исследователей этого преступления, — вопрос о месте совершения его, затем идут вопросы о том, как совершено преступление, когда, кем и при каких условиях. Я полагаю, что для получения ответов на эти общие вопросы при исследовании настоящего дела нам придется коснуться некоторых сторон житейской обстановки подсудимых и их быта, из которых постепенно выяснится их виновность. Первый вопрос о месте, где совершено преступление. Мы знаем, что это за место: это одна из маленьких квартир в одной из многолюдных улиц ремесленной и населенной части города. Квартира нанимается бедной женщиной, обыкновенно называемой в просторечии съемщицей, и отдается всякого рода жильцам. Проживают тут, как мы слышали, в этих трех маленьких комнатах, имеющих в длину всего десять шагов, с тоненькой стеной, из-за которой все слышно, с лестницей на небольшой чердак и с кухней, которая вместе составляет и прихожую, и комнату для отдачи жильцам, — проживают в этих конурках студенты, сапожные подмастерья, девицы, «живущие от себя», и, наконец, сами хозяева. В такой-то квартире в начале сентября нынешнего года, на чердаке, найден был запертый сундук, издававший смрадный запах, а в сундуке труп человека. Кто этот человек, нам сказали здесь свидетели — дворник, Тобиас и другие, и мы можем восстановить мысленно личность покойного. Портной-подмастерье, затем студент университета, не кончивший курса, затем домашний учитель, женатый, но не имевший детей и вскоре овдовевший, человек уже довольно зрелых, даже преклонных лет — Филипп Штрам, оставив свою учительскую деятельность, преимущественно живал в Петербурге и вел жизнь скрытную. Родных у него в Петербурге было немного: Тобиас, у которого он бывал очень редко, и то семейство Штрам, которое явилось на суд в лице своих главных представителей. Показания свидетелей характеризуют нам этого старика в истоптанных сапогах, не носящего белья, а вместо него какой-то шерстяной камзол, а поверх него старый, истертый сюртук, в котором заключалось все его достояние: его деньги, чеки, билеты, векселя. Он скуп и жаден; проживая у Штрамов, ест и пьет, но ничем не помогает своим бедным родственникам, которые в свою очередь обходятся с ним не особенно уважительно, потому что он их стесняет. Спит он нередко на чердаке и спит на голых досках. Человек этот, очевидно, всю свою жизнь положил на скопление небольшого капитала, все время проводит, орудуя им, отдавая деньги под проценты, и, храня документы постоянно при себе, оберегает их от чужого взора, озираясь по сторонам и боясь, как бы кто-нибудь не заметил, что у него есть деньги. Этому старику, с таким обыденным прошлым и скудным настоящим, вероятно, предстояли долгие, бесцветно-скаредные дни: такие, ушедшие в себя, эгоисты обыкновенно очень долго живут. Но дни эти были внезапно прекращены насильственным образом. Когда его нашли в сундуке, то на голове его оказались такие повреждения, которые указывали на то, что он убит. Тут возникает второй вопрос — как убит? Из медицинского акта известно, что первая из ран начиналась от нижнего края правого уха и шла к наружной поверхности глаза; другая шла несколько сзади уха, к теменной кости, а третья — между нижним краем уха и второю раной, так что раны образовали между собою треугольник, который в виде лоскутка сгнившего мяса отвалился при вынутии трупа из сундука. Затем, на тыльной поверхности руки найдена рана, которою пересечены три пальца и которая идет вдоль к руке. Покойный оказался одетым в одном камзоле. По заключению врача, раны нанесены топором. Положение этих ран показывает, что они нанесены не спереди, потому что тогда, при естественном направлении удара справа налево или слева направо, они начинались бы сверху и имели бы совершенно противоположное направление, чем то, в котором найдены. Они шли бы крестообразно с теми ранами, которые нанесены. Они нанесены, очевидно, сзади и несколько сбоку, так что наносивший стоял с правой стороны, нанесены топором и, очевидно, таким образом, что тот, кому они наносились, не успел заметить, что над ним поднимается топор и потому не защищался обеими руками, не боролся, а сделал только инстинктивно движение правой рукой, которую поднес к тому месту, где нанесена главная рана, и получил второй удар, который перерубил ему пальцы. Никаких других знаков сопротивления на теле не найдено. Таким образом, удары нанесены человеку, не ожидавшему их или спавшему, лежавшему на левой стороне, и убийце было удобно, по его положению, став сзади, в головах, нанести их. Ясно, что они были нанесены не на чердаке, так как раны должны были вызвать обильное кровоизлияние, а чердак оказался чист, на его полу не найдено ни одного пятна крови; но зато около сундука найдена наволочка с тюфяка, одна сторона которой несколько распорота, один конец оторван, а к другому привязана веревка, которою, в узле, связывающем наволочку, захвачено несколько волос. Что это за наволочка? Для чего она здесь? На наволочке этой найдены пятна крови. Быть может, на ней лежал убитый; но что значит веревка? Что значат захваченные волосы? Очевидно, что в ней тащили труп, наскоро замотав веревкой, причем ею захватили волосы. Но если убийство было совершено на чердаке, то куда тащить, да и надо ли тащить труп на расстоянии двух-трех шагов? Конечно, нет. Итак, уже по одному тому, что нет крови и найдена эта наволочка, покойный Штрам убит не на чердаке. Быть может, он убит вне квартиры? Но это невозможно, потому что ход на чердак только из квартиры, потому что убить его вне дома и внести его в квартиру было бы небезопасно и притом противоречило бы всем естественным приемам, свойственным всякому убийце, который, конечно, не станет без особой нужды приносить к себе и прятать у себя убитого. Чрез слуховое окно внести его на чердак было тоже нельзя, не говоря уже о бесцельности этого, но и потому, что оно было очень узко. Следовательно, Штрам убит в самой квартире. Затем возникает вопрос — когда убит? Днем или ночью? Что он убит в лежачем положении, на это указывают и раны, и то, что он найден в одном камзоле. Если б убийство произошло в то время, когда он был уже совершенно одет, в сюртуке, то, конечно, убийцы прежде всего обшарили бы карманы и не стали бы стаскивать жалкого, гнилого сюртука. Поэтому он на чердаке оказался бы в этом сюртуке. По тому же, что он не одет, следует предполагать, что он спал. Но против этого представляется сильное возражение: если он спал, то убийство совершено ночью, а из показаний дворника видно, что с противоцоложной стороны двора, в окна Штрам, при свете изнутри, можно было видеть все, что там делается. Убивать же ночью можно было только зажегши свечу, потому что убийство сопровождалось связыванием трупа, втаскиванием его на чердак и укладыванием в сундук; все эти операции в темноте производить нельзя, так как еще больше размажется кровь и еще медленнее совершится то дело, окончанием которого надо поспешить. Кроме того, совершать убийство в темноте нельзя еще потому, что никогда удар не может быть нанесен так верно, как при свете: убиваемый может вскочить, и тогда явится борьба, сопротивление, крик, переполох… Поэтому надо действовать в такое время, когда можно уже не пользоваться светом свечей, т. е. рано поутру, когда всего удобнее и возможнее совершить преступление и поскорей припрятать труп, который надо убрать, пока не настал день, а с ним дневная суета и возможность прихода посетителей. Против убийства ночью — говорит тьма и невозможность зажечь огонь и тем привлечь внимание дворников; против убийства днем — говорит дневной свет и дневное движение. Остается — полусвет, когда уже можно видеть и нельзя еще опасаться чьего-либо прихода. Остается утро, раннее утро ранней осени. Наконец, еще вопрос, наиболее важный: кем убит и для чего? Прежде всего — для чего? Мы знаем, что за личность Штрам. Это человек, весь погруженный в свои мелочные расчеты. Такие люди обыкновенно держат себя тише воды, ниже травы. Корысть и болезненная привычка копить бесплодные средства заглушают в них по большей части все остальные чувства, даже простое и естественное стремление к чистоте, как это было, например, и со Штрамом, который даже не носил белья. Этим людям несвойственны ни особенная самостоятельность, ни какое-либо чувство собственного достоинства; это — люди тихие, смирные, реже всего подающие повод к ссорам. Поэтому на чью-либо ссору с Филиппом Штрамом мы не имеем никакого указания. Да и ссорам, которые оканчиваются убийством, обыкновенно предшествует целый ряд других насильственных действий и ругательств и, как следствие этого — крик, шум и гам, на что нет в настоящем случае никаких даже отдаленных намеков. Мстить Филиппу
Штраму тоже никому не было надобности. Этот человек, по своим свойствам, не мог ни с кем соперничать, никому не мог становиться на пути. Остается только третий повод убийства, который всего яснее вытекает из того, что сюртук покойного находится под трупом пустой, — а то, что в последнее время составляло, по-видимому, весь смысл существования Штрама, без чего он сам был немыслим, отсутствует: нет чеков, нет денег. Очевидно, убийство совершено из корысти. Для совершения такого убийства надо было знать, что у покойного были деньги. Это знали, конечно, те лица, которым он давал деньги в долг. Однако он давал их вне дома. Кто же в доме мог это знать? Конечно, не девица Френцель, не те студенты, которые прожили всего несколько дней и которым не было никакого дела до мрачного человека, сидевшего обыкновенно на чердаке или в задней комнате. Могли знать только домашние, близкие Штрама…
Посмотрим же на это семейство.
Прежде всего остановимся на личности Александра Штрама — характеристической и весьма интересной. Показаниями свидетелей, начиная от отечески добродушного и сочувственного к подсудимому показания свидетеля Бремера и кончая резким и кратким отзывом о неблаговидном его поведении свидетеля Толстолеса, личность Александра Штрама обрисовывается со всех сторон. Мы видим его молодым юношей, находящимся в ученьи, добрым, отличным и способным работником, несколько робким, боящимся пройти мимо комнаты, где лежит покойница; он нежен и сострадателен, правдив и работящ. Затем он кончает свою деятельность у Бремера и уходит от него; ему приходится столкнуться лицом к лицу со своею семьею — с матерью, съемщицею квартиры, где живет иногда бог знает какой народ, собравшийся отовсюду и со всякими целями. В столкновениях с этою не особенно хорошею средою заглушаются, сглаживаются некоторые нравственные начала, некоторые хорошие, честные привычки, принесенные от старого, честного Бремера. К нравственному беспорядку жизни присоединяются бедность, доходящая нередко до крайности, до вьюшек, вынимаемых хозяевами, требующими денег за квартиру, и холод в комнате, так как дрова дороги, а денег на покупку нет… А тут еще мать, постоянно ворчащая, упрекающая за неимение работы, и постоянно пьяная сестра. Обстановка крайне невеселая, безотрадная. От обстановки этой нужно куда-нибудь уйти, надо найти другую, более веселую компанию. И вот компания эта является. Мы видели ее, она выставила перед нами целый ряд своих представителей. Здесь являлся и бывший студент, принимающий под свое покровительство двух, по его словам, «развитых молодых людей» и дающий им аудиенции в кабаках до тех пор, пока «не иссякнут источники», как он сам выражаете». Пред нами и Скрыжаков, человек, имущий какую-то темную историю со стариком и который, когда приятель его Штрам задумывает дурное дело, идет рекомендовать его целовальнику, чтобы тот дал в долг водки «для куражу»; далее встречается еще более темная по своим занятиям личность, Русинский, настаивающий, чтобы Александр Штрам обзавелся любовницею, как обязательною принадлежностью всякого сочлена этой компании. Сначала, пока еще есть заработок, Штрам франтит, одевается чисто и держится несколько вдали от этой компании, но она затягивает его понемногу, приманивая женщинами и вином. Между тем, хозяин отказывает, да и работать не хочется — компания друзей все теснее окружает свою жертву, а постоянные свидания с ее представителями, конечно, не могут не оказать своего влияния на молодого человека. Подруга его сердца одевается изящно, фигурирует на балах у Марцинкевича; нужно стоять на одной доске с нею, нужно хорошо одеваться; на это нужны средства, а где их взять? Он видит, что Львов не работает, Скрыжаков и Русинский также не работают, а все они живут весело и беззаботно. Попросить у матери? Но она скажет — иди работать! И попрекнет ленью и праздностью… Да и, кроме того, дома голодно и холодно, перебиванье со дня на день и присутствие беспробудно пьяной сестры. Все это, взятое вместе, естественно, должно пробудить желание добыть средства и изменить всю обстановку. Но как изменить, когда хочется прохлаждаться с друзьями и подругами и не хочется идти работать?! И вот тут-то, в пьяной компании, сначала отдаленно, быть может, даже под влиянием рассказа о каком-нибудь процессе, является мысль, что есть богатый дядя, чего он живет «ни себе, ни другим», кабы умер… Уж не убить ли? И — вероятно под влиянием этого рокового внутреннего вопроса — высказывается предположение, как именно убить: разрезать на куски и разбросать. Конечно, это высказывается в виде шутки… Но шутка эта опасная — и раз брошенная мысль, попав на дурную почву, растет все более и более. А между тем, нищета усиливается, средств все нет, и вот, наконец наступает однажды такой день, такой момент, когда убить дядю представляется всего удобнее, когда при дяде есть деньги и когда в квартире нет жильцов, следовательно, нет посторонних лиц. Таковы те данные, которые заставляют окольными путями, как выражается один свидетель, подойти к заключению о виновности подсудимого Штрама вместе с тем к ответу на последний вопрос: кто совершил настоящее убийство? Но могут сказать, что таким образом приходится остановиться все-таки на одних предположениях: положим, у подсудимого могла быть мысль об убийстве, могла явиться удобная для осуществления этой мысли обстановка, в которой, по-видимому, и совершено преступление. но от этого еще далеко до совершения убийства именно им!
Дайте факты, дайте определенные, ясные данные! Данные эти есть: это чеки, с которыми арестован подсудимый; факт этот связывает все приведенные предположения крепкою связью. С чеками этими подсудимый арестован за бесписьменность и препровожден в Ревель, оттуда прислан обратно сюда, по требованию полиции, и здесь допрошен. Он дает три показания. С этими показаниями повторилось общее явление, свойственное всем делам, где собственное сознание является под влиянием косвенных улик. Сначала заподозренный сознается совсем неправильно; потом, когда улики группируются вокруг него, когда сила их растет с каждым днем, с каждым шагом следователя, обвиняемый подавляется этими уликами, ему кажется, что путь отступления для него отрезан, и он дает показание наиболее правдивое; но проходит несколько времени, он начинает обдумывать все сказанное им, видит, что дело не так страшно, каким показалось сначала, что против некоторых улик можно придумать опровержение, и тогда у него является третье сознание, сознание деланное, в котором он признается лишь в том, в чем нельзя не признаться.
Опыт, даваемый уголовною практикою, приводит к тому, что в большей части преступлений, в которых виновность преступника строится на косвенных доказательствах, на совокупности улик и лишь отчасти подкрепляется его собственным сознанием, это сознание несколько раз меняет свой объем и свою окраску. Подозреваемый сознается лишь в одном, в неизбежном, надеясь уйти от суда; обвиняемый сознается полнее, потому что надежда уйти от суда меркнет в его глазах; подсудимый, пройдя школу размышления, а иногда и советов товарищей по несчастию, снова выбрасывает из своего признания все то, что можно выбросить, все, к чему не. приросли твердо улики, ибо у него снова блестит надежда уйти уже не от суда, но от наказания…
Вот такое второе сознание в данном случае явилось после того, как было опровергнуто то, что говорил подсудимый об убийстве на чердаке гипсовым камнем. Под влиянием обнаруженных улик он дал второе показание, где объяснил, что убил дядю в комнате, в то время, когда мать стояла у окна, что с нею сделался обморок при виде убийства и что затем он старался скрыть следы преступления и воспользоваться его плодами, спрятав убитого дядю в сундук и перетащив его на чердак, а затем стараясь сбыть чеки. Здесь на суде является уже третье сознание: подсудимый видит, что ему нельзя не сознаться, что улики, собранные против него, слишком сильны, но под влиянием, быть может, благородного в своем источнике, чувства он хочет выгородить близких к нему людей, и прежде всего свою мать. По словам его, она не только не присутствовала при убийстве, но даже не знала о нем и узнала впервые только тогда, когда их перевозили из Ревеля, причем сказала сыну, что хочет страдать вместе с ним. В этом показании надо отделить истину от того, что является ложным. Истинно все то, что подтверждается теми объективными, внешними данными, о которых я говорил в начале речи и которые существуют независимо от собственных объяснений обвиняемых. Первая часть показания подсудимого, относящаяся к совершению убийства, действительно справедлива, но против второй его части можно очень многое возразить. Во-первых, рассказ его о том, что мать желала принять на себя страдания вместе с ним, опровергается совершенно противоположными действиями матери. Если бы мать желала пострадать вместе с сыном, то, конечно, она не старалась бы опровергать сознание, сделанное сыном в том, в чем оно касается ее, однако она не только этого не делает, но, возражая упорно и горячо сыну, ни в чем не сознается. Во-вторых, сам собою представляется вопрос: мог ли подсудимый один совершить подобного рода преступление так, чтобы оно не было, хотя бы на первое время, бесплодным. Я полагаю, что он один, собственными силами мог совершить то действие, которым была пресечена жизнь
Штрама. Филипп Штрам был старик — судя до осмотру—• хилый и невысокий, так что мог поместиться в маленьком сундуке, и человеку здоровому, молодому справиться с ним было бы легко, а тем более при неожиданности нападения. Но вслед за убийством надо было искусно скрыть следы совершенного. Прежде всего оказалось нужным положить труп в сундук, для чего стянуть его ремнем и притом скорее, потому что, согласно прочитанному мнению врачей, если бы труп оставался часа два не связанным, то он окоченел бы и тогда связать его один человек уже был бы не в силах, а между тем он связан, сложен и это, как я уже доказывал, сделано вслед за убийством. Затем надо, всунув в сундук труп, запереть сундук и перетащить на чердак, поправив при этом петлю у крышки, так как из показания Наркус видно, что петля была сломана. Наконец, следовало вымыть кровь, снять наволочку с большого тюфяка и сжечь паклю, солому и всякую труху, которою набит был тюфяк, словом — привести все в надлежащий вид, успеть вынуть чеки, посмотреть, что приобретено, и со спокойным видом, несколько оправившись, встретить тех, кто может прийти. Но для всего этого требуется много времени. Подсудимый — человек молодой, у которого, несомненно, еще не заглохли человеческие чувства; показания свидетеля Бремера именно указывают на эту сторону его характера. Хотя он и слушал это показание с усмешкой, но я не придаю этому никакого значения; эта усмешка — наследие грязного кружка, где вращался подсудимый, но не выражение его душевного настроения. В его лета ему думается, конечно, что в этом выражается известная молодцеватость; мне, мол, «все нипочем», а в то же время, быть может, сердце его и дрожит, когда добрый старик и пред скамьею подсудимых говорит свое теплое о нем слово, Поэтому я думаю, что для Александра Штрама преступление являлось делом совершенно необычным; он должен был быть сам не свой, и всякая работа, которая обыкновенно делается в 10 минут, должна была требовать, по крайней мере, 20 минут, потому что у него все должно было вываливаться из трепещущих рук и от торопливости, и от невольного ужаса. Мог ли поэтому он один сделать все необходимое для сокрытия преступления? Конечно, нет. Он не мог позвать себе в помощники кого-нибудь из посторонних; на это решится не всякий, да к тому же я нахожу, что преступление было совершено хотя и предумышленно, но без определения заранее времени, когда его свершить. Подсудимый давно решился что-нибудь сделать над дядей, чтоб приобрести деньги; мысль эта давно зародилась в его голове; но прошло, быть может, много времени прежде, чем представился удобный случай. Он представился 8 августа; жильцов нет, а сестра ушла на рынок и ушла одна, потому что хождение вдвоем за покупкою скудной провизии ничем не объясняется. Он остается один с матерью. Я убежден, что мать не знала ничего о предполагаемом убийстве и что для нее оно должно было быть ужасающей неожиданностью, — но могло ли это удержать сына, когда случай представляется такой удобный? Что мать тут — это ничего не значит; он мог быть уверен, что мать будет испугана, ужаснется его поступка; он мог не рассчитывать на обморок, но это обстоятельство скоропроходящее; затем ужас, произведенный пролитой кровью ее дальнего родственника, с которым у нее ничего общего не было, который только объедал их и ничего не давал, ужас этот пройдет, и явится жалость к сыну, страх за его судьбу, за те последствия, которым он может подвергнуться. Это та непреодолимая сила, которая заставит ее скрывать следы преступления из страха за того, о ком она и здесь, на суде, более всего плачет, сила, которая заставит ее со страхом и трепетом за него подтирать кровь, запихивать паклю в печку, снимать ңаволочку в то время, когда сын будет связывать труп и потащит сундук на чердак. Подсудимый мог быть уверен, что мать ему не помешает, что она не выдаст, что присутствие ее представляется совершенно безопасным. Он понимал, он не мог не понимать, что, как только совершится убийство, в ней, после первой минуты ужаса и, быть может, отвращения к пролитию крови, прежде всего и громче всего заговорит другое, всепрощающее чувство — чувство матери, и оно станет на его защиту, и оно придет ему на помощь. Совершая убийство, он должен был понимать, что мать его косвенным образом ему поможет и сделается укрывательницею преступления. Он не мог при этом предполагать, что труп навсегда останется на чердаке; он знает, что его нужно будет раздробить на части и, быть может, по рецепту Русинского и по шутке Скрыжакова, надо будет вынести по кускам и разбросать в разных местах города. Но разве это можно сделать, когда в квартире никто не будет знать, что труп лежит на чердаке, что его нужно скрыть? Вечно пьяную сестру можно удалить, это личность безвредная; но мать необходимо, рано или поздно, познакомить с делом, надо поставить ее в такое положение, чтобы она не хватилась сундука, чтобы ей не пришлось неожиданно увидеть, что одна из принадлежностей ее скудного имущества исчезла, и заметить пропажу тюфяка и простыни, необходимых для жильцов, когда таковые найдутся. Для этого необходимо, чтоб она все знала, а это, между прочим, достигается совершением при ней преступления, тем более, что она может помочь скрытию следов его. Затем, далее, ей в самый день убийства вручается книжка чеков; она знает, что дядя скуп, и, видя у сына книжку, принадлежащую Филиппу Штраму, не может не догадаться, каким образом она взята. Быть может, подарил дядя? Нет, это не соответствует его наклонностям. Забыл? Также, конечно, нет, потому что это значило бы, что он забыл самого себя, забыл то, без чего он сам немыслим. Остается одно: книга взята насилием; но так как книга эта составляет часть самого дяди, то ее можно было взять только с ним самим, только с его жизнью, следовательно, он убит. Затем Александр Штрам отдает книжку чеков матери. Но в Обществе взаимного кредита по ней ничего не выдают, значит, книжка добыта как-то неправильно, да и откуда такая книжка у сына, у которого ни гроша еще вчера не было? И зачем по поводу этой книжки надо рыскать по всему городу и назначать свидания на Смоленском поле? Все это не могло не возбуждать сомнений в Елизавете Штрам; она должна была не только чуять, но и ясно видеть, что книжка добыта преступлением. А следы этого преступления от нее скрыть было невозможно. Полагаю, что после всего изложенного мною трудно отнестись с полным доверием к показанию Александра Штрама.
Картина убийства, происшедшая в доме Ханкиной, представляется на основании всего, что мы здесь выслушали и проверили, в следующем виде: старик Штрам был убит утром, когда лежал еще в постели; Ида Штрам ушла на рынок, а мать оставалась дома и стояла у окна; подсудимый взял топор и нанес удары по голове дяде; услыша предсмертные стоны, увидя кровь, Елизавета Штрам лишилась сознания. Дядя вскоре умер, а она понемногу пришла в чувство. Она видит, что сын возится с трупом, а кругом так все и вопиет о совершенном деле. И вот она начинает затирать следы, помогает стаскивать наволочку с тюфяка и сжигает то, что в ней находилось. Подсудимый завязывает труп наскоро в наволочку, захватывая при этом волосы убитого, и тащит его по комнате. Это было необходимо сделать, потому что тащить сундук с трупом чрез комнаты на чердак было невозможно одному, для этого потребовалась бы огромная сила; его можно было бы только передвигать вверх по ступенькам, но тогда и на них, и на лестнице явилась бы кровь, а излишних следов крови избегает инстинктивно всякий убийца. Поэтому после трупа на чердак вкатывается пустой сундук; в него кладется связанный труп; сюртук, лежавший, вероятно, около Штрама, бросается туда же; исправленный на скорую руку сундук запирается. Мать, между тем, вымыла полы, так что когда возвращается сестра, то ничего не замечает. Что же нужно сделать затем? Прежде всего надо остаться на квартире, с которой гонят; мировой судья выдал исполнительный лист на продажу имущества: надо скорее получить деньги по чекам. Книжка вручается Елизавете Штрам, которая идет к хозяину, показывает ее и говорит, что получит скоро по ней деньги, но, тем не менее, от квартиры ей отказывают. А между тем Александр Штрам тотчас разыскивает Скрыжакова в кабаке и затем с чеками заходит к Талейн, обещая кофе матери и новые ботинки франтоватой дочери. Затем два дня продолжаются розыски лица, которое взяло бы под залог эту книжку, но совершенно безуспешно; а между тем, наступает 10 число — день, назначенный для описи имущества, которое и выносится на двор. Квартира запирается, и старуха Штрам с сыном и дочерью остается без пристанища. Иду Штрам ничто не связывает с квартирой, и она со спокойною совестью отправляется в Ревель; но Александр Штрам и старуха знают, что в квартире заперто нечто, что может их погубить! Является необходимость скорее бежать, а для этого раздобыть, во что бы то ни стало, деньги. Александр Штрам вместе с Скрыжаковым идет к Львову, потом к Леонардову и совещаются, как сбыть книжку чеков. Наконец, он решается идти сам в Общество взаимного кредита, для чего обменивается сюртуком и сапогами с Скрыжаковым. Когда это не удается, он привлекает к хлопотам свою мать. У матери нет пристанища, она ночует у знакомой и проводит все время в хлопотах с книжкой сына, являясь, между прочим, и тоже безуспешно, в Общество взаимного кредита. Она говорит, что получила книжку на Васильевском острове, куда отправилась потому, что сын прислал письмо, где говорит, что его можно найти в таком-то номере дома. Объяснение это, очевидно, неправдоподобно; каким образом она могла найти сына в доме, где он не был жильцом, а гостем у неизвестных ей лиц? Получение книжки объясняется проще: мать знала, что сын должен быть на Острове, потому что последние дни он водился со Скрыжаковым, который там проживал, посещая кабаки и трактиры в окрестностях своего жилища. Здесь Елизавета Штрам действительно встретила его и получила книгу чеков. Труды ее с этою книгой не увенчались успехом; попытки сына были тоже безуспешны, и он остался состоять при Скрыжакове, с которым и был арестован.
Обращаюсь к виновности Скрыжакова. Он отрицает всякое участие свое в настоящем деле. Впрочем, в последнем своем показании здесь, в самом конце судебного следствия, он указал на такой факт, который давал бы некоторое право обвинять его, согласно с обвинительным актом, в подстрекательстве. Он указал на то обстоятельство, что водил Штрама в кабак, прося дать ему в долг водки, когда тот сказал, что убил бы дядю, да храбрости нет. Это заявление его явилось столь неожиданно, столь противоречит всей системе его защиты, что я полагаю, что он и тогда, и теперь сам не понимал хорошенько, что делает и вообще действовал в высшей степени легкомысленно. Но от шутки — дурной и опасной — до подстрекательства еще целая пропасть. Ее надо чем-нибудь наполнить. У меня для этого материала нет. Я нахожу поэтому, что Скрыжаков мог принять слова Штрама за шутку и, продолжая ее, свести его в питейный дом. Вследствие этого я не обвиняю его в подстрекательстве именно на убийство Филиппа Штрама. Вся его дружба с Александром Штрамом была, сама по себе, непрестанным подстрекательством ко всему дурному, что нашептывают в уши слабого человека вино и разврат. Но уголовный закон не знает такого неуловимого подстрекательства и не карает за него. Зато есть основание видеть в нем укрывателя. Он знал отлично А. Штрама, своего друга, товарища и собутыльника, знал, что он почти нищий, что ему нечего есть, что он ходит в истертом и прорванном сюртуке. Вдруг у этого Штрама являются чеки и векселя от имени дяди Штрама, и притом векселя не просроченные, а действительные. У него прежде всего должно было зародиться сомнение, что тут что-то неладно; зная старого скупца Штрама, которого, конечно, не раз ругательски ругал племянник в пьяной компании за скупость, он должен был припомнить то, что говорил ему Александр Штрам два месяца назад, — и, вероятно, под пьяную руку говаривал не раз, — и должен был естественно спросить себя, нет ли тут убийства? Он очень хорошо припомнил тогдашние намерения Штрама и приурочивал их к книжке чеков: на это указывают слова его Львову. Потом -является перемена платья. Скрыжаков говорил, что Штрам переменил платье, чтобы идти в банк; но если он не боялся возбудить подозрение, являясь к незнакомому Леонардову в рваном платье и с чеками, то отчего же он не решился идти в этом же платье в Общество взаимного кредита? Причина была, очевидно, не эта. Относительно сюртука следует припомнить тот факт, что Скрыжаков был допрошен 12 сентября, и оказалось, что тот сюртук, которым он обменялся со Штрамом, находится у него. Следователь отправился к нему для выемки. Но Скрыжаков был допрошен как свидетель, следовательно, удерживать его было нельзя. Он, конечно, был дома раньше следователя, который еще допрашивал Степанова, и когда следователь, через несколько часов, явился к матери Скрыжакова, она предъявила ему сырой сюртук своего сына. Сырость произошла будто бы оттого, что он накануне работал на бирже. Но представляется слишком неправдоподобным, чтоб сюртук мог оставаться сырым целые сутки и не после дождя, а просто после работы на бирже. Вот что заставляет думать, что на одежде Штрама были подозрительные пятна и этих пятен Скрыжаков не мог не видеть и не спросить о их происхождении. В связи с этим находится и то, что были явные пятна крови и на штанах Штрама, которые он переменил лишь после указаний Талейн, заставив свою мать из последних грошей купить себе новые. В этих запятнанных кровью штанах Штрам виделся, в день убийства, вскоре после него, со Скрыжаковым, который не мог не заметить пятен и не связать их с чеками и с намерениями Штрама относительно дяди одною внутреннею связью. Наконец, близкие отношения Штрама к Скрыжакову после убийства, ночевание вместе на квартире Штрама и даже пребывание их на чердаке, где найдена бумажка, несомненно, принадлежащая Скрыжакову, наконец, отказ еврея Кобальского от векселей и чеков — должны были показать Скрыжакову, в чем тут дело. Он, искушенный уже жизнью, ловкий и «на все руки», как говорят о нем свидетели, не мог не понимать, что, способствуя продаже или залогу чеков, он укрывает следы преступления, стараясь помочь воспользоваться плодами его.
Излишне говорить о том, что виновность подсудимых, несмотря на то, что двое из них обвиняются в одинаковом преступлении, весьма различна. Дело Александра Штрама представляется, помимо своего кровавого характера, еще и грубым и коварным нарушением доверия. Убийство сонного человека для похищения его средств, чтобы самому в полном расцвете сил вести бездельную жизнь, убийство, не сопровождаемое никакими проявлениями раскаяния и гнездившееся в мыслях подсудимого издавна, не может найти себе ни извинения, ни объяснения в житейской обстановке Александра Штрама. Точно так же и в обстановке Скрыжакова трудно усмотреть такие смягчающие обстоятельства, которые позволили бы видеть в его похождениях со Штрамом после убийства что-либо иное, кроме чуждого всяких колебаний содействия к пользованию тем, что так ужасно и, вместе с тем, так легко досталось товарищу по кутежу — и по преступлению. Но иначе надо, по мнению моему, отнестись к Елизавете Штрам. Невольная свидетельница злодеяния своего сына, забитая нуждою и жизнью, она сделалась укрывательницею его действий потому, что не могла найти в себе силы изобличать его… Трепещущие, бессильные руки матери вынуждены были скрывать следы преступления сына потому, что сердце матери, по праву, данному ему природою, укрывало самого преступника. Поэтому вы, господа присяжные, поступите не только милостиво, но и справедливо, если скажете, что она заслуживает снисхождения.
ПО ДЕЛУ О ПОДЛОГЕ ЗАВЕЩАНИЯ ОТ ИМЕНИ КУПЦА КОЗЬМЫ БЕЛЯЕВА*
Господа судьи, господа присяжные заседатели! Вам предстоит произнести приговор по делу, которое по своей трудности, сложности и важности превышает все дела, разбиравшиеся до сих пор в стенах этого суда. Трудности эти состоят прежде всего в том, что преступление, о котором идет речь, совершено уже давно, очень давно— 15 лет тому назад. Затем, пред вами, вопреки тому, что бывает в большей части преступлений, не является потерпевшего лица, а между тем его помощь необходима правосудию в деле, в котором существуют расчеты коммерческие, так как оно одно может объяснить их обстоятельно и полно. Наконец, все дело, в самом ходе своем, представляется до того необычным, до того неправильным, что уже это одно способно затемнить в нем многое и многое. Тут соединилось все: и давность совершения преступления, и неумелость мелких ходатаев, которые, ведя дело с начала, искажали и путали его, и, наконец, самое главное и непреодолимое препятствие — смерть, которая в течение десяти лет, прошедших до начатия следствия, похитила последовательно целый ряд весьма важных свидетелей.
Вы уже знаете в общих чертах и ход дела, и те обстоятельства, которыми сопровождалось его возникновение. В 1858 году в Петербурге умер первостатейный фридрихсгамский купец Козьма Беляев, слывший за человека очень богатого. Он оставил после себя духовное завещание. Этим духовным завещанием он отказывал все имущество свое в пользу вдовы; вдова представила завещание в гражданскую палату и была утверждена в правах наследства. Но затем, через год, возникло сомнение в подлинности завещания.
Один из наследников покойного Беляева, мещанин Мартьянов, прибыл из Сарапуля в Петербург и начал вести дело, но вскоре умер. За дело взялась его мать, которая точно так же умерла в непродолжительном времени, и движение дела таким образом остановилось. Через год явился в Петербург мещанин Ижболдин, наследник Мартьяновой, и снова принялся за дело, которое затем и потянулось очень медленно. Проволочка старых судов сказалась на нем весьма ярко, и лишь после долгих колебаний, только в 1868 году, почти чрез десять лет со смерти Беляева, возбуждено было впервые следствие. Но в каком положении застало это следствие самое гражданское дело? Ни свидетелей, подписавшихся на завещании, ни переписчика Целебровского, ни ближайших к Беляеву людей — Кемпе и Каменского — не было уже в живых. В таком положении дело перешло к следователю и окончилось ничем, оставив после себя, уже как уголовное следствие, однако, одну заслугу, состоящую в том, что им была прервана давность, которою могло покрыться преступление. Только впоследствии случай дал возможность возбудить уголовное дело вновь, и вот в настоящее время оно подлежит вашему рассмотрению. Вам, господа присяжные, предстоит пристально вглядеться в отдаленное прошлое, сквозь заслоняющую его массу томов и документов, находящихся перед вами, сквозь целый ворох имен и чисел; вам придется всмотреться в ту даль, на которой написано: «1858 год»; вам надлежит беспристрастным взглядом оценить обстановку, окружавшую возникновение завещания Беляева, и затем произнести ваш приговор. Неустанное внимание, с которым вы относились к делу в течение всех пяти дней производства судебного следствия, служит ручательством, что вы будете помнить и уже усвоили себе его сложные обстоятельства. Вероятно, у вас составилось уже известное убеждение, сложившееся под влиянием всех впечатлений, почерпнутых здесь, на суде. Поэтому нам — сторонам в деле — едва ли нужно усиленно убеждать вас в виновности или невиновности подсудимых и настойчиво излагать перед вами наши противоположные мнения. Я нахожу более уместным развить перед вами ход соображений, которыми руководствовалась обвинительная власть, приводя обвиняемых перед вас и ныне их обвиняя. Прежде чем приводить эти соображения, я не могу скрыть, что на деле этом, как на каком-нибудь нездоровом организме, являются, так сказать, болезненные, ненормальные новообразования, которые как обвинению, так и защите одинаково мешают рассматривать дело в его надлежащей простоте. Обстоятельства, в коих выразились они, могут быть направлены преимущественно против обвинения, а потому, прежде всего, я считаю нужным разделаться с ними, извлечь их из дела и затем, расчистив насколько возможно свой путь, двинуться вперед в изложении обвинительных доводов.
Первое из этих посторонних обстоятельств заключается в том, что по этому делу, помимо судебной власти и наряду с этой властью, которая сначала бездействовала, является оживленная деятельность частных лиц; наряду с мерами, предпринятыми для исследования дела официальным путем, существует целый ряд действий Ижболдина и его поверенных, которые едва ли служат на пользу дела. Для характеристики этих действий достаточно припомнить действительно характеристическое, оригинальное показание свидетеля Ижболдина, который является вместе с тем и гражданским истцом. Свидетель этот показал, что он, сарапульский мещанин, бывший прежде в Петербурге на весьма короткое время и прибывший сюда снова уже после того, как прошел слух о завещании. В Петербург он прибыл человеком новым, робким провинциалом. Когда он прибыл сюда, на нашем общественном горизонте еще не сияло солнце Судебных уставов, а во тьме судебных канцелярий царствовали еще старинные порядки, и тайна делопроизводства давала нередко возможность разным мелким ходатаям, темным и неизвестным личностям, направлять дела в своих собственных личных интересах иногда в явный ущерб правосудию. Ижболдин рассчитывал получить большое наследство, но сам хорошо не понимал, в каком положении находится его дело, как не понимает этого даже и теперь, явившись на суд и не озаботясь выяснить многих, весьма важных и для него лично, и для дела обстоятельств. На этого человека набросилась целая ватага мелких ходатаев. Он долго перечислял имена неизвестных мелких ходатаев, во главе которых стоит отставной чиновник Герман, завершив перечисление это указанием на какого-то еврея, которого он даже и имени не знает. Эти поверенные, почуявшие богатого наследника, принялись его обделывать, взяли его в свои нечистоплотные руки и стали его стричь, в надежде получить впоследствии за труды свои золотое руно, которого хватит на всех. Эти новые аргонавты испортили дело в самом начале; они стали действовать помимо судебной власти, и притом крайне неловко, и вследствие их неумелых действий явились перед вами показания целой массы свидетелей, которые, ничего не объясняя, бросают, вместе с тем, на все некоторый довольно непривлекательный колорит.
Из этой массы ненужных свидетелей прежде всего особенно резко выделяется свидетель Шевелев. Он рассказывал перед нами, что изготовил письмо, в котором ложно обвинял Мясниковых в составлении фальшивого завещания от имени Беляева, ибо, находясь в Спасской части привлеченным по делу Каракозова и будучи в положении безвыходном, он решился переписать письмо это за деньги, данные ему для бегства за границу. Он отрицал правильность объяснений, помещенных в его письме, и рассказал в подробности, как составилось его письменное лжесвидетельство. С первого взгляда показание это имеет, по-видимому, довольно важное значение, тем более, что дано в чрезвычайно последовательном и красивом, изящном даже, рассказе, выделявшем показание Шевелева из показаний всех остальных свидетелей. Но если вглядеться попристальнее в это показание, если посмотреть на личность самого Шевелева, то станет ясным, что в показании его, так же как и в показаниях других свидетелей, относящихся к этой категории, нет никаких указаний, чтобы Ижболдин подкупал ложных свидетелей, хотя нельзя отрицать, что в них встречаются указания на платеж Ижболдиным денег свидетелям за согласие показывать то, что они знают, и для того, чтобы они не боялись явиться для этого, иногда очень издалека, в суд. Шевелев рассказал нам свою историю, и по ней мы имеем возможность познакомиться с его личностью. Это мелкий откупной приказчик, служащий потом в конторе Мясниковых, — жених невесты, которой с целью, весьма понятной, он предъявляет облигации, ему не принадлежащие, за что и преследуется Мясниковыми, как за присвоение их собственности, потом мелкий таможенный чиновник, оставленный по приговору Ковенской уголовной палаты в «сильнейшем», по его ело-: вам, подозрении в пособничестве к водворению контра-: банды, затем привлеченный к делу Каракозова, но, очевидно, настолько мало виновный по нему, что, несмотря на вызванные им строгие меры, содержится в части и гуляет целые дни на свободе, беглец за границу, живущий в Пеште и издающий брошюры, будто бы известные всей Европе, наконец, доблестный защитник Парижа, член коммуны и правдивый свидетель по настоящему делу!.. Очевидно, тут являются такие переходы и крайности, которые трудно совместить: человек борется за самые крайние идеи, идущие вразрез с общественным строем, для торжества этих идей жертвует жизнью на баррикадах Парижа, даже ранен при этом, и, вместе с тем, считает возможным, под предлогом, что для него цель оправдывает средства, написать ложное письмо, чтоб получить за это «небольшие» деньги, причем выражение «цель оправдывает средства» он понимает самым своеобразным образом. Это не та общая, широкая цель, для которой, по известному безнравственному правилу, всякое средство будто бы может быть пригодным, а цель низкая, лично ему принадлежащая и не имеющая ничего общего с благом других. Цель, на которой написано «150 руб.», — такая цель оправдывала для него средство, могущее погубить человека, доставив Шевелеву возможность получить, как он здесь выразился, «презренный металл». Очевидно, что этот «провинциальный секретарь», служивший по откупам * в России и по коммуне во Франции, не очень разборчив на средства и не очень далеко ходит, выбирая свои цели.
Что же он показал? Он говорил, что был призван Ижболдиным и под диктовку Сысоева, или, лучше сказать, с письма, написанного Сысоевым, переписал свое письмо, потому что был тогда в безвыходном положении. Ему оставалось или повеситься, или бежать, говорит он, и таким образом делает намек на то, что он был таким опасным политическим преступником, что ему не предстояло другого исхода, как смерть от своей руки или от руки правосудия. Но вы видели, господа присяжные, что этот опасный преступник, во время ареста своего в части, отпускался гулять на свободе, бывал в трактирах и в гостях. Это ли опасный политический преступник? Это ли человек, которому для спасения своей жизни не остается иных средств, как написать письмо с лживыми обвинениями? Притом происхождение его письма объясняется им совершенно неправдоподобно. Он говорит, что никому не говорил ничего о завещании Беляева, а совершенно неожиданно был призван к Ижболдину и там, выбирая между смертью или побегом за границу, написал лживые измышления Сысоева о действиях Мясниковых. За это Ижболдины дали ему средства бежать за границу. Но прежде всего спрашивается, если он молчал и не похвалялся изобличить Мясниковых, то откуда же мог Ижболдин, никогда его прежде не знавший, осведомиться, что в Спасской части сидит такой драгоценный для него свидетель? Затем, мог ли запуганный и робкий сарапульский мещанин, которого мы видели и слышали здесь, решиться покупать под незначущим — настолько незначущим, что оно даже не внесено и в обвинительный акт, — письмом подпись Шевелева ценою способствования побегу важного государственного преступника? Как ни доверчив, как ни простодушен Ижболдин, но самый инстинкт самосохранения должен был подсказать ему в ту тревожную годину необходимость не только не искать знакомства с Шевелевым и не укрывать его, но даже прервать знакомство с ним, если бы оно раньше существовало… Из показаний доктора Красильникова, вызванного в заседание неожиданно по постановлению суда, на основании моего предложения, видно, что Шевелев действительно рассказывал многое об этом деле, о чем и было сообщено Красильниковым своему знакомому Ижболдину. Ижболдин без всякой критики отнесся к рассказам Шевелева, особенно после того, как Шевелев подтвердил свое письмо во всех подробностях присяжному стряпчему Сысоеву, человеку, чуждому настоящему делу, и подтвердил притом с такими драматическими добавлениями и так картинно, что, по выражению Сысоева, казался более чем очевидцем в происшествиях, о которых рассказывал. Для нас безразлично, было ли письмо Шевелева к Ижболдину правдиво: быть может, в нем и есть кое-какие указания, похожие на истину, но по существу своему оно представляет ложь пополам с правдою и явилось как средство к тому, чтобы выманить 150 руб. Такое письмо всегда может быть отрицаемо самим автором, особенно, если он станет иметь в виду ту же цель, как и при его написании. Я не хочу этим сказать,; что Шевелев ждет себе какой-нибудь награды от противной стороны, но думаю, что в 1866 году, видя и зная, что возникает дело Ижболдина против Мясниковых, не находясь более у Мясниковых, преследуемый ими за присвоение себе облигаций, он находил для себя удобным и возможным наговорить разных вещей Ижболдину про Мясниковых, согласиться изложить их письменно по просьбе Ижболдина и получить за то деньги. Он, конечно, смеялся над простотою Ижболдина так же, как будет смеяться над нами, если мы примем на веру его показание, данное здесь. Теперь Шевелев уже не имеет отношений к Мясниковым; их преследование против него прекратилось; жизнь его была так полна весьма пестрых событий, что прошедшее изгладилось из его сердца. И вот ему предстоит показание на суде. Что же ему делать? Подтвердить, признать самое письмо? Но, во-первых, письмо это само по себе дело некрасивое, а во-вторых, это значит сыграть роль простого свидетеля — и больше ничего: в этом не будет никакой оригинальности, ничего достойного громкого прошедшего Шевелева. Притом, если Мясниковых обвиняют, то, вероятно, в деле и кроме его письма есть данные; если же этих данных нет, то на основании одного этого письма их, несомненно, никогда не осудят, а оправдают. Поэтому лучше отрицать письмо, и тогда, в случае оправдания, впоследствии, когда, быть может, придется обратиться к ним, среди тяжелых обстоятельств бурной жизни, можно будет сказать: «Я показывал за вас, я дал показание, которое вас оправдывало, не забудьте же меня». Вот на что мог рассчитывать Шевелев, рисуя себя ныне лживым доносчиком в 1867 году. Главный же источник его настоящего показания, по моему мнению, тот, что он прежде всего желает рисоваться: в его движениях, голосе, манерах, в походке — разве не видится и не звучит постоянно это желание? Не ясно ли, что это длительное участие в коммуне, издание брошюр, известных всей Европе, — не более как фраза, как желание драпироваться в мантию политического преступника, что все это в значительной степени хвастовство и принятая на себя личина? Хорош, в самом деле, заговорщик, политический деятель, которого даже суровый и непреклонный граф Муравьев считал возможным содержать в части и отпускать гулять одного по городу! Если мы отбросим эту мифическую сторону его рассказов, если взглянем ближе на этого политического деятеля, то увидим, что, несмотря на острый ум и сценическое искусство, с которым он разыгрывает свою роль здесь, на суде, в его замысловатом и красивом рассказе, приправленном шуточками, изредка прорываются ноты, придающие ему характер необузданного вымысла вроде знаменитого рассказа «о похищении губернаторской дочки». И если мы, спокойно и не увлекаясь солидно-величавым видом и тоном Шевелева, разберем его показание и откинем из него все прикрасы, то останется только то, что он за деньги написал Ижболдину о том, что ему, по его словам, было известно по делу Мясниковых, и написал при этом, по его дальнейшим словам, неправду. Что же это за явление? Да явление, в сущности, очень обыкновенное. В тех странах, где существует лишь частный обвинитель в процессе, такое явление должно встречаться беспрерывно. Я думаю, что в Англии и в Америке большая часть доказательств и свидетелей в процессах, в которых не заинтересовано правительство, приобретается сторонами таким именно образом. Это не значит, однако, что свидетелей подкупали на лживые показания: покупается собственно их труд, их время, т. е. то время, которое проводится ими на суде; платится им за то, чтоб они не уклонялись идти в суд для дачи показаний о том, что они знают полезного для той или другой стороны. То же самое было и здесь.
Затем, есть другой свидетель — Исаев. Его показание было прочитано и, быть может, забыто уже вами. Но в интересах истины считаю нужным напомнить его. К Исаеву обращался Герман, прося написать письмо, и он написал, по его показанию, совершенно неправильно: будто бы к нему приезжал какой-то офицер и подговаривал показывать против Мясниковых. По поводу этого показания я замечу только одно: Исаев говорил, что знал Германа давно, что это был пьяный человек, ходил постоянно по кабакам и припутывал к делу Мясниковых всех кабатчиков. Из дела видно, что Исаев был следственным приставом и только после введения судебной реформы был оставлен за штатом. Такого рода следственный пристав есть судебный следователь по прежним порядкам; он должен знать законы. Что же это за следователь, который пишет Герману такого рода письмо? Разве он не знает, какой ответственности подвергается он за это? И что это, наконец, за отношения между Германом и Исаевым, позволяющие прийти к нему пьяному человеку, врущему всякий вздор кабатчикам, и предлагать написать ложный донос для представления по начальству? Я не думаю, чтобы Исаев мог это сделать так, как он это рассказывает.
Остается предположить, что и он поступил и поступает ныне так же, как и Шевелев.
Наконец, есть еще свидетель, в показаниях которого звучит как будто какая-то неправда: это Китаев, старый слуга Беляева, подробно и обстоятельно говоривший здесь о своем господине. Свидетель Петров показал здесь впервые, несмотря на неоднократные допросы у следователя, совершенно неожиданно и крайне отрывочно, что он был как-то у Китаева, был там и Ижболдин, и хотя Петрова не уговаривали показывать на Мясниковых, но Китаев ему сказал: «Вот одно слово — и тысяча рублей». Когда же он не согласился «ломать души», Ижболдин полез было в драку, но Петров ему отрезал: «Смотри, у меня самого кулаки здоровые!» Когда именно это было и о каком «слове» говорил Китаев, Петров не помнит и не знает. Очевидно, его показание содержит в себе воспоминание о рассказах пьяных людей, в которых, конечно, среди всякой бессвязной болтовни упоминалось и о деле Беляева, о котором тогда говорилось повсюду…
Не скрою, однако, что эти три свидетеля могли бросить некоторую тень на правдивость некоторых свидетельских показаний. Поэтому и для того, чтобы нам не смущаться этими соображениями, я выкину из дела показания почти всех свидетелей, взяв только необходимых, относительно которых нет и не может быть никаких подозрений. Шевелева, Китаева, Петрова, наконец, Исаева и Красильникова можно оставить за штатом, подобно тому, как был оставлен за штатом сам Исаев. Можно, кстати, оставить и целую массу других лиц, в том числе свидетелей, которые показывали о том, что Отто прекрасный человек, а Сицилинский почти святой. Я ничего не имею возразить против этого и нахожу, что они оба были достойнейшие и честнейшие, главное — добрейшие люди. Со стороны Отто свидетели, так много хвалившие его, могут находить только один дурной поступок: подписавшись свидетелем на завещании Беляева, он тем самым вынудил их оторваться от дела и просидеть в суде четыре дня, для того чтобы сказать, что он хороший человек. Да кто же утверждал противное! Точно так же о Сицилинском верю, что он человек святой, доживший до глубокой старости, не совершив дурного поступка, чрезвычайно добрый и благодетельный, к подчиненным не строгий, радевший о благолепии храма. Итак, самая большая масса свидетелей устраняется. Да и вообще в них нет особой нужды. Обыкновенно в преступлениях самым лучшим средством исследования служат живые свидетели, но настоящее дело необычно во всем, необычно и в этом отношении; в нем лучшим средством исследования служат свидетели мертвые, бумажные: самое завещание, некоторые документы, разнообразная экспертиза. Если из документов мы будем иметь возможность вывести данные, что преступление совершилось, и если некоторые из свидетелей это скрепят своими словами, то, пожалуй, можно признать, что они говорят правду; не скрепят — можно их отбросить.
Предмет дела, о котором идет речь, — подлог завещания. Первый вопрос, возникающий при исследовании такого дела: подложно ли самое завещание? Второй вопрос— каким образом создалось подложное завещание? И третий — кто виновен в этом преступлении? Сообразно с этими вопросами я раздроблю свое обвинение на три части.
Приступаю к первой. Подложно ли завещание? Когда приходится разрешать вопрос о том, подложно ли чье-либо завещание, то, естественно, должно обратиться к личности завещателя. О Беляеве мы имеем много разнообразных сведений. Он с малолетства служил у старика Мясникова, богатого откупщика, был у него сначала мальчиком, потом приказчиком, потом вел его дела и, наконец, сделался сам капиталистом. Из массы свидетельских показаний и документов, находящихся в деле, которые, конечно, не будут оспорены, видно, что в 1839 году его выписал Мясников из Яранска и затем он сделался ближайшим поверенным своего бывшего хозяина и участвовал с ним в 1840 году в откупах. Он был близкий к нему человек не только фактически, но и по родству, так как женился на его родственнице. Правда, из показания Бенардаки можно усмотреть, что Мясников обращался с покойным Беляевым несколько как будто пренебрежительно. «Кузьма, сделай то-то, Кузьма, сходи туда!» — говаривал он ему. Крестьянин Кунаковский, живший с Карагановым на заводе, сказал, что Караганов хвалился, что «лысого, беззубого лакея Мясникова отделал, отбил у него все состояние своим господам, так что не оставил ему на извозчика на тот свет проехать». Вероятно, скажут нам, было же основание, по которому Караганов считал возможным называть его слугою. Да! Беляев действительно был слуга Мяснинова, но какого рода слуга? Это был слуга того драгоценного типа, который существует или существовал, по крайней мере, долго на Руси, но который начинает исчезать. Сначала мальчик, потом приказчик, постоянно участвовавший в делах хозяина, сроднившийся с ним, потом входящий так в его интересы, что трудно определить, где начинается один и где кончается другой; близкий, доверенный человек, опекун, пестун его детей, оберегающий их интересы, заботящийся о всякой мелочи для этих детей, заведывающий их делами, называющий одного из них Сашею, другого Ванечкой, первый известивший Ваню о смерти его деда, и первый, закрывший этому деду глаза, — вот какого рода этот слуга! Да! слуга — слуга в том смысле, что верою и правдою служил своему хозяину, слуга — старый друг и резонер, неподкупный и настойчивый, верный вассал своего господина и с верноподданическою преданностью охраняющий интересы его потомков. Мы знаем, что подобные личности, как Беляев, появлялись часто в купеческом быту, к чести этого быта. В то время, когда дети разбогатевших трудом купцов лезли в «господа», поступали в военную или гражданскую службу, старались сделаться дворянами, рядом с их отцами являлись люди, которые продолжали их дело. В это время, когда дети, постепенно разоряясь, из богатых купцов становились обедневшими, возникали состояния лиц, прежде служивших приказчиками их отцам, лиц, которые остались верными своему званию и тем интересам, которым служили с малолетства и они, и их хозяева. Таким именно лицом должен был, как видно из всего дела, быть Беляев. В 1855 году умер И. Ф. Мясников, оставив очень большое состояние. Беляев остался полным распорядителем его имения, явился опекуном его детей. Сколько у него самого в то время было состояния, мы не знаем; знаем, однако, что еще в 1850 году он участвовал в трех откупах: пензенском, бугурусланском, верхнеуральском — и в каждом имел по десять паев. Что эти откупа были большие, видно из того, что в них участвовали такие громкие откупные имена, как Воронин, Бенардаки, Кокорев и Каншин. Затем, в 1851 —1855 годах, Беляев был участником в откупах по Харьковской губернии и только в 1855 году передал свои 14 паев другому лицу вследствие того, что между ним и другим из сооткупщиков, Семыкиным, возникли недоразумения. Таким образом, смерть И. Ф. Мясникова застала его человеком, имевшим хорошие средства. Свидетель Теплое здесь признавал, что Беляев имел 400 тыс. руб., хотя, по словам того же свидетеля, он и не был большим капиталистом сравнительно с И. Ф. Мясниковым. Затем Беляев постоянно расширял свои предприятия и продолжал свои дела. Мы не имеем возможности следить за тем, какие были негласные операции Беляева по откупам. Полагаю, что, пытаясь сделать это, мы станем на почву тем более опасную, что мы не найдем на ней никакого прочного устоя. Защита, однако, становилась во время судебного следствия на эту почву и говорила, что Беляев имел самую ничтожную часть в откупах, так как негласно они почти целиком принадлежали Мясниковым. Нельзя, однако, принять этот вывод как окончательный. Здесь было заявлено, например, что участие Беляева в откупах херсонском и николаевском составляло только 25 паев, которые хотя официально принадлежали Беляеву, но в сущности составляли собственность Мясниковых. Это заявление основано на том, что в записной книжке Беляева находятся указания на выдачи из этих откупов доходов Мясниковым, а также в расчетах есть указания, что он считал себя обязанным отчитываться по этим откупам перед Мясниковыми. Не спорю, может быть так, но вместе с тем укажу на то, что, по тем же отчетам, он получал доходы с золотых приисков, в которых официально не участвовал, получал с земли Войска донского, где откуп держал Мясников. Если допустить, что Мясниковы участвовали неофициально в его откупах, то он точно так же участвовал неофициально в их откупных делах. В какой мере участие это существовало с.. обеих сторон, трудно определить, и потому нам остается обратиться к официальным данным о состоянии Беляева, так как эти данные не могут быть уже опровергаемы никакими ссылками на частные цифры, почерпнутые из дневников и каких-нибудь отрывочных клочков бумаги. Из сообщения обер-прокурора первого департамента Сената видно, что Беляев, при наступлении 1858 года, является откупщиком по Олонецкой губернии, причем в самой малой части участвует Красильников. Затем он держит откуп в Сольвычегодске и Устюге, и, наконец, в 1858 году им взята Ставропольская губерния. С первых четырех откупов он должен был получать, как мною на судебном следствии вычислено, до 100 тыс. руб. годового дохода. Я вывел эту цифру из того, что откуп в Устюге, один из маленьких, передан им купцу Топчиеву в 1858 году за четыре месяца до конца откупа в 1859 году, т. е. с 1 сентября 1858 года по январь 1859 года, причем Топчиев, приняв все расходы по платежу акциза на себя, заплатил Беляеву 20 тыс. руб.; следовательно, эти 20 тыс. составляли доход за четыре месяца и самый откуп приносил, по меньшей мере, 50 тыс. руб. Не думаю, чтобы соображение о том, что в последние месяцы года каждый откупщик увеличивал плату за вино, имело влияние на изменение этой цифры. Затем он участвовал официально в 25 паях в херсонско-николаевском откупе. Залогу им было внесено 112 500 руб., и нам известно из отчетов по этому откупу, что за первую половину 1857 года он получил прибыли 19 550 руб., следовательно, в год он должен был получить около 40 тыс. руб. дохода. Нам говорят, что Беляев был только номинальный, откупщик и участвовал только в пяти паях, остальные же 20 паев негласно принадлежали Мясниковым. Пусть так, но из отчета Беляева Мясниковым с 1 сентября 1857 г. по 14 мая 1858 г. показаны поступившими в пользу Беляева с Мясниковых по откупам в Войске донском 37 тыс. руб. серебром. Этим негласным участием в Мясниковских откупах он, конечно, отчасти, уравновешивал их участие в своих откупах. Поэтому допустим по Херсону цифру дохода для Беляева в 40 тыс. — она будет, во всяком случае, меньше дохода в 8 тыс. с прибавлением к нему донской прибыли. Затем следует олонецкий откуп с залогом в 54 тыс. и оборотным капиталом в 70 тыс. Этот откуп почти целиком принадлежал Беляеву, так как негласное участие Красильникова было самое незначительное. Что же мог приносить такой откуп целой губернии? Конечно, как видно из предварительных расчетов Беляева, при самом неблагоприятном результате — не менее 50 тыс. руб. серебром. Наконец, был полный откуп в Сольвычегодске с залогом в 2400 и с платежом 31 тыс. руб. акцизного вноса. Кроме того, 1858 год застает Беляева в разгаре деятельности по разным другим предприятиям. Так, он хотел приобрести завод Берда с Гутуевским островом за 2300 тыс. руб., в компании с Жадимировским и Клеменцом. Мы читали здесь об этом собственноручный проект Беляева. Там есть 14-й пункт, по которому он намеревается участвовать в этой покупке в 2/з, а все остальные участники в 1/з доле; кроме того, он обязывается немедленно внести задатку 500 тыс. руб. серебром и остальные , 1800 тыс. в течение года. Признаюсь, что действительно эта сумма, даже при больших оборотах Беляева, несколько велика и действительно трудно предположить, чтобы он сразу, по одному предприятию, мог внести 500 тыс. задатка; я готов допустить, что в этом предприятии участвовали негласно, конфиденциально, отчасти и Мясниковы, стоявшие за именем Беляева. Во всяком случае, живое и непосредственное участие Беляева в этом предприятии не подлежит сомнению. Он же, Беляев, является и одним из учредителей общества столичного освещения; он желал, как видно из показания Молво, взять много акций на себя, хотел внести задатку около 400 тыс. руб. серебром сразу и по этому предприятию выдал Молво вперед 5 тыс. Наконец, в 1858 году он вступил еще в два предприятия: одно — ставропольский откуп, по которому внесено 106 тыс. руб. залога, в числе которых 51 тыс. именными билетами коммерческого банка. Это был громадный откуп на 2205 тыс. руб. акцизной платы. Прочитанным вчера прошением Беляева в Сенат он отказался от откупа по Ставропольской губернии, передавая его Мясникову и Бенардаки, и вместе с тем просил выдать другие залоги, им представленные по принадлежности, а свой собственный залог, 71 тыс. руб., оставлял без истребования. Он не просил перечислить его на себя и, следовательно, предоставил им пользоваться по ставропольскому откупу Мясниковым. Затем, в апреле 1858 года, он заключил с казною договор о взятии в арендное содержание Самосдельско-Образцовских рыбных промыслов в Каспийском море, в Астраханской губернии. Этот договор содержит в себе следующие указания на состояние Беляева: Образцово-Самосдельские рыбные ловли были отдаваемы казною с торгов, причем сумма, предложенная одним из последних торговавшихся, Коняевым, составляла 71 500 руб. в год арендной платы. На торгах участвовали лица с громкими коммерческими именами: Ненюков, Воронин, Бенардаки и некоторые другие… На этих торгах верх одержал Беляев; он предложил 74 тыс. руб. годовой арендной платы, и рыбные ловли остались за ним. Говорить, согласно с защитою, что они потом приносили убыток, я не могу, не имея в деле на это прямых указаний, но готов согласиться, что убытки могли быть, так как в некоторых отчетах за первое время значится, что площадь вод, отведенных под ловли, оказалась менее, чем предполагалось при торгах. Из этого возникла целая переписка Комиссии рыбных ловель. Комиссия и впоследствии Сенат признали, что количество воды, отведенной под рыбную ловлю, не было менее того, которое следовало отвести. Положим, что ловли могли приносить первое время убыток; во всяком случае, достаточно, что Беляев должен был внести залог, и внес принадлежащий ему капитал в 74 тыс. руб.; кроме залога он должен был раздать отступного 124 тыс. руб., между прочим, одному Бенардаки, как видно из записной книги, 80 тыс. руб. Затем, вступив во владение ловлями, он, очевидно, хотел, чтобы они были в общем его владении с Мясниковыми, ибо им было подано объявление в Комиссию рыбных ловель, что он принимает обоих Мясниковых на равных правах для участия в содержании ловель. В дневнике есть указание, что он внес в складочный капитал в 50 тыс.— 16 666 руб. на свою долю. Это указывает, что он действительно хотел участвовать только в 1/з части, но только хотел, официально же ничего по этому сделано не было, так как в донесении в Комиссию рыбных ловель Беляев объясняет, что договор о принятии им для участия в этом деле Мясниковых будет им представлен вслед за сим. Договор был необходим, без него никакая сделка не могла считаться существующею. На это указывает § 27 кондиций на аренду ловель, кондиций, вошедших в договор, заключенный между казною и Беляевым. В этом параграфе значится, что Беляеву дозволяется принимать участников в содержании ловель, но с тем, чтобы договор об участии был представлен Комиссии. Такого договора между Беляевым и Мясниковыми не было, однако, заключено, и на него нет никаких указаний. Беляев умер, не успев составить договора. Эти ловли, по словам защиты, могли быть убыточны, но мы знаем, что Мясниковы в 1861 году приобрели от Трощинского имение Кагарлык, Киевской губернии, за 1300 тыс. руб., заплатив в число этой суммы ловлями, которые они ценили в 889 тыс. На это есть указание в деле о ловлях. Но еще до продажи права на ловли Трощинскому возник вопрос о их стоимости по поводу спора Комиссии ловель с Мясниковыми, так как они не заплатили, не имея, может быть, в это время достаточно наличных средств, арендной платы за две последние трети 1860 года. Эти две трети составляли 48 тыс. руб. Этот невзнос арендной платы послужил поводом к тому, что Комиссия рыбных ловель сочла условие, заключенное казною с Беляевым, перешедшее затем к Мясниковым, нарушенным, так как в нем значится, что арендная плата должна быть вносима за 1/з года вперед. Комиссия вошла с представлением о наложении запрещения на имение Мясниковых, в обеспечение правильности поступления доходов казны, в течение следующего десятилетия. Это представление было уважено, и на все имение Мясниковых было наложено запрещение в размере 604 тыс. Так ценила казна в то время рыбные ловли или те доходы, которые следовало получать от них Мясниковым. Вот те предприятия, которыми Беляев намерен был заняться в течение 1858 и 1859 годов. Но 1858 год застал его, кроме того, в следующих коммерческих оборотах и делах: у него была лесная торговля, сколько приносила она, мы не знаем, но известно, однако, что ко дню смерти Беляева по этой лесной торговле заготовлено было 290 тыс. дерев, а по расчету, сделанному Карагановым для Мясникова, эта торговля дала Беляеву в 1859 году 5 тыс. дохода. Затем был магазин. Неизвестно, сколько он приносил дохода, но ценность его может быть определена. В день смерти Беляева он стоил 32 тыс. руб.; в марте месяце 1858 года, когда он перешел во владение Мясниковых, ценность, его простиралась до 300 тыс. руб. Потом Беляев имел золотопромышленную машину. Какого рода участие Беляева было в этом предприятии, я затрудняюсь определить; я могу только сказать, что он заплатил при устройстве ее, за право участия в пользовании ею, 8 тыс. руб. Наконец, Беляев управлял заводами своей жены, и все доходы поступали к нему. Заводов было два: чураковский и комаровский, и мельница, при которой находился принадлежавший Беляеву кожевенный завод. Относительно чураковского завода мы знаем, что доход с него в течение года, в 1857— 1858 году, был 21 900 руб., затем самый капитал завода с залогом составлял 102 500 руб. Что касается до комаровского завода, то он давал в течение года 42 500 руб., а имущество этого завода ценилось в 61 900 руб. и залога 41 тыс. руб., т. е. слишком 102 тыс. Если даже предположить, что оба завода стоили 200 тыс., то вот еще имущество, находившееся в руках Беляева, которым он заведовал безотчетно и из которого извлекал 60 тыс. дохода.
Сводя все сказанное вместе, делал самые невыгодные для доходов и имущества Беляева предположения и расчеты, мы приходим к выводу, что Беляев имел все-таки по крайней мере от 150 тыс. до 200 тыс. руб. годового дохода. Если даже допустить ограничение в доходах по откупам, на которые защита указывала, если допустить, что участие Беляева было в некоторых откупах ничтожно и очень незначительно в золотых приисках, то и тогда окажется, что доходы его ни в каком случае не могли быть менее 150 тыс. в год. При таком доходе можно определить приблизительно действительный капитал Беляева. Я не стану указывать точной цифры капитала, да и не могу в настоящее время с точностью определить его; я не стану доказывать, подобно гражданским истцам, что тут были несметные миллионы, равным образом не стану и утверждать, что состояния никакого не было, ибо 20 тыс., приводимые защитою, не составляют состояния. Состояние Беляева было, конечно, весьма круглое, скопленное большим трудом,' возраставшее медленно при посредстве удачного помещения его в разные предприятия. Оно простиралось до 600 тыс. или 700 тыс. руб. и при осторожном и выгодном размещении и эксплуатации приносило доходу в 150 тыс. Заключение это я вывожу из следующих фактов: сама Беляева говорит в найденной у нее записке, что у мужа ее было 700 тыс. руб. капитала; затем из расчета, сделанного имуществу Беляева им самим на клочке бумаги к 16 сентября 1857 г., выходит, что оно простиралось до 400 тыс., в том числе наличных денег 120 тыс., но при этом не упомянут капитал, который находился в залогах по откупам и составлял: по ставропольскому откупу 50 тыс. и до 400 тыс. по откупам олонецкому и вологодскому. Затем, при перечислении капитала, к нему не причисляется тот, который вложен был в некоторые негласные предприятия, например паи в херсонском откупе и в золотых приисках, между тем как с того и другого предприятия получались, как мы знаем, значительные доходы. Это видно из отчета 14 мая 1858 г., где значатся 36 тыс. за Войско донское и около 30 тыс. за золотые прииски, следующие на долю Беляева за время с 1 сентября. Итак, я полагаю, что можно взять среднюю цифру между 600 тыс. и 700 тыс. и определить ка-' питал Беляева в сумме не менее 650 тыс. руб. Да, впрочем, точный размер суммы капитала для нас и неважен.
Вопрос об этом будет подлежать суду, который в порядке гражданском определит, сколько именно приходилось на долю Беляевой и что должны были получить его наследники. Нам важно знать только то, что у Беляева был довольно большой капитал по настоящему времени, когда уже более нет громадных, баснословных капиталов, которые скоплялись прежде в одних руках благодаря откупам. Такого рода капитал, как 650 тыс. руб., приносящий, при выгодном помещении его, 150 тыс. руб., возьмем даже доход в 120 тыс. и даже 100 тыс. руб., не мог считаться маленьким, а таким капиталом Беляев положительно владел.
Чтобы уже не возвращаться более к вопросу о средствах Беляева, я коснусь теперь же и другой стороны вопроса. В подтверждение состояния Беляева мы имеем два рода документов: одни официальные, сообщенные обер-прокурором Сената, другие, не имеющие характера документов в строгом смысле этого слова. Документы второго рода состоят в дневнике Беляева, исходящей книге, где разными чернилами, а иногда карандашом записаны разные расходы: выдача отступных денег, покупка формы и обмундировки А. Мясникову, выдача жалованья и т. д., некоторые расходы, по воспоминаниям Беляева, как, например: «Выдано тому-то в Москве 3 руб., давно уже». Очевидно, что записная книжка не имеет никакого документального характера, поэтому и смотреть на нее можно весьма разнообразно и, главное, весьма произвольно. Наиболее ясным характером между этими документами отличается свод капиталов и доходов, написанный рукою Беляева. По этому расчету Беляев по делам Мясниковых получал к 1 сентября 1857 г. дохода 2 273 775 руб. Из этой суммы было израсходовано 622 098 руб., отдано Мясниковым 601 931 руб., в делах осталось 786 122 руб., аза Беляевым осталось 263 631 руб. Далее, его же рукою писан краткий отчет с 1 сентября по 14 мая 1858 г., принятый Мясниковыми, в котором значится, что ему следовало уплатить к 1 сентября 150 тыс. руб., к этому поступило 105 тыс. руб., итого к 14 мая 255 тыс. руб. Затем идет расход сумм «со счета моего», причем выведено рукою Беляева следующее: следует списать 278 тыс. руб., так что за Мясниковыми осталось 22 тыс. руб. Если сравнить первый и второй отчеты, то между ними окажется непримиримая разница и пробел, заключающийся в том, что в конце первого отчета сказано, что к 1 сентября Беляев должен заплатить 263 тыс. руб., а в начале второго значится, что за ним 10 тыс. руб. Очевидно, что тут вычтены из 263 тыс. руб. расходы, которые нам неизвестны. Но я допускаю, что здесь произошла ошибка, и буду брать первый, невыгодный для покойного, большой отчет Беляева, где значится за ним 263 631 руб., затем поступило к нему в период времени от 1 сентября по 14 мая 105 808 руб., итого 369 439 руб., которые он должен был заплатить. Истрачено из них 278 061 руб., итого, следовательно, за Беляевым к 14 мая остается 91 377 руб. Вот вывод из первого расчета, и на нем мы остановимся. Он указывает, в каком положении были долговые дела Беляева к 14 мая. Затем, в конце расчетной книги написано, что расходы и капиталы по рыбным ловлям уравнены общим вкладом поровну. Перед этим указано на то, что 7 и 8 числа выдано 124 тыс. отступных. Отчет доведен до 14 мая, следовательно, в нем должно было быть упомянуто, что деньги, причитающиеся на долю Мясниковых, возвращены ими Беляеву; но таковой суммы в отчете нет. Если они участвовали в деле на равных правах, то расход по отступному в 82 660 руб., причитавшийся на долю Мясниковых и не внесенный в отчет, должен быть снесен со счета Беляева к 14 мая. Итак, к 15 мая Беляев должен был Мясниковым 91 377 руб., за исключением 82 660 руб. т. е. 8 717 руб. серебром. Но, кроме того, он передал им ставропольский откуп, оставив там свой залог в 50 тыс. руб., да залогу им одним внесено по рыбным ловлям 24 тыс. руб., из которых 16 тыс. следовало ему возвратить. Из всех этих расчетов выходит, что Мясниковы оставались должны Беляеву 66 тыс., будучи его кредиторами лишь на 8 717 руб., и поэтому, если даже не принимать в расчет залогов, они ни в каком случае 272 тыс. долгу на нем иметь не могли.
Вот, господа присяжные, те выводы, которые было возможно сделать из тех многочисленных и сложных документов, которые мы предъявляли вам вчера. Обращаюсь снова к личности Беляева. Свидетели объяснили нам, да и в деле есть указания на то, что Беляев был человек в высшей степени аккуратный, который, сам будучи человеком богатым и имея конторщиков, вел исходящие книги и писал почти все бумаги собственноручно, даже до объявлений в квартал. В числе вещественных доказательств есть пачки писем, объявлений, доношений, писанных собственною его рукою. Занимался он, как вы слышали от Китаева, целые дни, оставляя работу только для обеда, затем отдыхал час и снова принимался за дело. Трудом составивши себе состояние, в этом труде видел он и задачу своей жизни. Затем, мы знаем, что это был человек добрый, богомольный, делавший богатые вклады в монастыри и на церкви, на что указывает, между прочим, записанный в дневник, незадолго до смерти, расход на Евангелие в 1000 руб., купленное пополам с Мясниковыми для пожертвования в церковь. Привычку писать самому все бумаги свои он распространял до того, что, подписывая бумаги, писанные не им самим, всегда подписывался своим полным титулом, и хотя есть в деле несколько документов, на которые будет ссылаться защита, где он подписывался просто «К. Беляев», но это такие документы, где в начале звание его уже обозначено. Редакция их такого рода: «В такую-то опеку, фридрихсгамского первостатейного купца Козьмы Васильева сына, Беляева» — и т. п. Каждый такой документ написан собственноручно: понятно, что два раза обозначать свое звание ему было не для чего. Но в документах, написанных не по такой форме или не его рукою, везде находится его полная подпись. Наконец, по отношению к семейным делам, из дела известно, что Беляев очень любил свою жену; между ними существовала нежная привязанность, как видно из письма его на дачу, перед смертью, исполненного самых нежных выражений; он постоянно говорил, что желает обеспечить жену и неоднократно говорил, что он это сделает. Сделал ли он это в действительности, мы увидим далее. Что это не было до весны 1858 года — это нам несомненно и ясно доказала выставленная самими обвиняемыми свидетельница Иванова: она рассказала, что Беляев при ней говорил, что вот, мол, умерла жена Громова и не оставила духовного завещания, что он, Беляев, так не поступит, что у него и жены его сделано так, что он оставит завещание на ее имя, а она, жена его, оставит завещание на его имя. Когда это говорилось? После смерти Громовой. Когда умерла Громова? Громова умерла, говорит свидетельница, когда я была в девушках, а это было в 1857 году. Между тем, завещание, о котором идет речь, написано лишь 10 мая 1858 г. Вот такой-то человек, аккуратный, имеющий весьма большие дела и обороты, участвующий во многих предприятиях, тесно связанный узами родства и воспоминанием о службе у своего прежнего благодетеля с Мясниковыми, наконец, привыкший к ним, как к своим детям, — этот человек стал чувствовать себя дурно весною 1858 года. Он не оставил заботы о Мясниковых до самой смерти, донес до конца свою привязанность, созданную годами, хотя последнее время она и омрачилась некоторого рода неудовольствиями, впрочем, несущественными, с одним из братьев Мясниковых. Это стародавняя привязанность была причиною того, что дела Мясниковых и Беляева были так неразрывно, так тесно связаны, что распутать их без знания их подробностей и без взаимного доверия было бы весьма трудно. Поэтому весьма естественно было со стороны Беляева желать не оставить жену свою без завещания. Его не смели обидеть, им дорожили, его уважали, но со вдовой Мясниковым придется рассчитываться при иных условиях, и, казалось бы, уже поэтому завещание составить необходимо. Действительно, оно и составлено, вы его видели, вы читали его здесь. Оно подписано просто: «К. Беляев». Весьма почтенные, по-видимому, люди засвидетельствовали его, и, следовательно, весь вопрос исчерпывается и мы собрались сюда и трудимся напрасно. Но, однако, несмотря на то, что завещанию следовало бы быть и что оно есть, являются сомнения, то ли это завещание, которому надлежало быть? Завещание составлено правильно в смысле требований закона гражданского, но сомнение, вытекающее из задач уголовного закона, идет гораздо далее: оно рассматривает документ не только с его формальной стороны, не только по существу содержащихся в нем завещательных распоряжений, но оно изучает всю обстановку, при которой документ произошел на свет, и исследует те обстоятельства, которые способствовали его происхождению, и, вглядываясь, так сказать, в рождение завещания, иногда может прийти к заключению, что документ, совершенно правильный в смысле наличности гражданских формальностей, есть документ незаконнорожденный.
Таким отсутствием законности своего рождения отличается и завещание Беляева, которое я признаю подложным. К доказательству этой подложности я приступаю. Здесь возникают прежде всего следующие главные вопросы: как и когда завещание открыто; каково его содержание; кем оно подписало и при какой обстановке и каковы те обстоятельства, которыми сопровождалось открытие завещания? Итак, первый вопрос: когда и как найдено завещание Козьмы Беляева? Мы знаем отчасти обстоятельства его нахождения: нам их рассказывала госпожа Беляева. Я не стану повторять подробностей ее до-? проса, тем более, что он тянулся очень долго, и вы, вероятно, вполне удержали его в памяти, равно как и то, что на вопросы мои госпожа Беляева отвечала с нескрываемым неудовольствием, а на вопросы тех лиц, которых она считала особенно вредными для себя, т. е. на вопросы поверенных гражданских истцов, она отвечала крайне лаконически, «да» и «нет», и притом чаще «нет», чем «да», и с очевидным раздражением. Ввиду этого отсутствия хладнокровия, ввиду того, что отзывалась запамятованием очень многих существенных обстоятельств, — не помнила, например, когда ей была вручена сохранная расписка, забыла, что И. Мясников уехал в мае 1858 года на Кавказ, и говорила, что он бывал у ее мужа в это время каждодневно,— и в то же время помнила такие мелочи, как то, что запонки ее мужа остались в целости — ввиду этого странного свойства ее памяти, удерживающей мелочи и бессильной удержать крупные факты, я считаю необходимым обратиться к тем ее показаниям, которые были здесь прочтены. Этих показаний ею было дано четыре: два при предварительном следствии в 1868 году и два в 1870 году. В 1868 году она была свидетельницею, в 1870 — обвиняемою. Она заявила здесь, как она была напугана привлечением ее к делу в качестве обвиняемой. Я совершенно верю ей и потому не хочу ссылаться на эти ее показания; но когда она была свидетельницею в деле, она не могла быть испуганною, и на эти-то показания я считаю себя вправе ссылаться. Между прочим, я считаю нужным сказать, что причину, побудившую ее к разным, по ее словам, неправильным показаниям у следователя, я не могу себе уяснить хорошенько. Она показала здесь, что ее ужасно волновало и беспокоило то, что целый день с парадного крыльца звонили, тревожа ее, а когда она спрашивала, кто приходил, то получала от прислуги ответ, что полицейские или сыскные чиновники приходили узнавать, что делается в доме. Мне кажется, что это одно из многочисленных, к сожалению, обстоятельств, о которых госпожа Беляева помнит как-то странно, как-то до очевидности несогласно с действительностью. Сыскная полиция действовала в этом деле, — по свойствам его это было необходимо, — но действовала очень искусно, и нет возможности допустить, чтобы агенты петербургской сыскной полиции, первой в своем роде в России, настолько уже не понимали своих обязанностей, чтобы приходить звонить с парадного крыльца и спрашивать, что делается в доме, хозяйка которого прикосновенна к уголовному делу. Но каковы бы ни были причины ее волнения, я буду основываться на показании ее, данном в качестве свидетельницы, так как тогда еще никакой тревоги не существовало, да память, надо думать, была свежее. Из этого показания можно вывести следующее: незадолго до смерти муж ее призывает ее к себе в кабинет и вручает ей сложенную бумагу, сказав: «Возьми, спрячь!» Удрученная горем, она ушла к себе в комнату; там, развернув бумагу, увидела, что это было завещание, и положила в стол. Сначала она не помнила, куда положила, но потом, на сороковой день, вспомнила, что бумага у нее в столе, и ее оттуда вынула. «Какая же это была бумага?» — спрашиваем мы. — «Духовное завещание ? » — «Почему ? » — «Да потому, что я его читала». — «В чем оно состояло?» — «Когда я раскрыла, я пробежала начало и конец». — «Что же там написано?» — «Отказано все в мою пользу». В завещании же, которое вам предъявлялось, господа присяжные, вы, вероятно, заметили, что отказ находится посредине, а не в начале и не в конце. «Что же вы смотрели?» — спрашиваем далее. — «Да подписи смотрела». — «Вследствие чего подписи?» — «Любопытно было посмотреть». — «Ну, а в завещании не было ли еще каких-нибудь выдач?» — «Яне помню, я только взглянула на него и из общего смысла поняла, что все оставлено мне». — «Что же затем: говорил ли вам покойный о завещании, не говорили ли вы сами кому-нибудь?» — «Нет». — «Когда вы вспомнили о завещании?» — «На сороковой день». Вот это-то обстоятельство, т. е. передачу завещания, мы и разберем сначала. Летом 1858 года Беляев жил в Петербурге; у него были торги в Сенате, где он бывал еще в начале августа, но он уже страдал, ему было тяжело ездить в Ораниенбаум, где жила на даче его жена. Спрашивается, для чего это он вручает жене сложенный лист с завещанием и говорит лаконически: «Возьми и спрячь»? Разве он находил, что, хранясь у него в несгораемом шкапу, в собственном доме, духовная не будет в такой сохранности? Но предположим, что он это находил; в таком случае, зачем же он не сказал прямо, что духовное завещание, и тем не указал на важность бумаги? Если Беляева, по ее словам, была удручена горем до того, что вовсе забыла про существование завещания, то Беляев, видя, как на нее действует его недуг, не мог же, конечно, предполагать, что она сейчас начнет любопытствовать, кто подписался на завещании. А между тем ей, убитой горем женщине, он дает бумагу, не объяснив, что это такое. Если он считал нужным передать эту бумагу для хранения, то как было не запечатать ее в конверт за своею печатью? Наконец, собственно для чего он дает завещание в руки своей жене? Для того, чтобы выразить ей свою последнюю волю? Но, господа присяжные, вы слышали из писем, что он был человек нежный, ласковый, он даже Мясниковых называл уменьшительными именами. Неужели же этот человек, видя свою жену убитую горем, станет еще более растравлять ее сердце тем, что будет вручать ей завещание? Вы знаете, какая щекотливая вещь завещание, какое значение придается составлению завещания, особенно в купеческом быту. Но если он вручал его не для объявления своей воли, а лишь для сохранения, то разве не мог он сохранить его иначе. Есть известные присутственные места, где завещание могло храниться вне всякой опасности подмена, утраты или похищения. Отчего, наконец, не составить завещания крепостным порядком, раз еще имеешь силы заниматься откупными операциями? Нам скажут, может быть, что Беляев не хотел объявлять своего капитала, не хотел, составляя завещание крепостным порядком, объявить, в каком положении его дела. Но, господа присяжные, вы помните, что по содержанию завещания не видно вовсе, в чем состояли его предприятия и капиталы. Положим, однако, что он действительно не хотел прибегать к какой-либо официальности, не хотел сохранять завещания у себя и находил нужным передать его на сохранение жене; в таком случае, почему же он хранил его у себя целое лето, когда жена жила на даче, когда он чувствовал себя очень больным и мог думать о внезапной смерти? Почему он не боялся держать завещание в то время у себя и стал бояться тогда, когда жена его переехала с дачи, когда он знал, что около него близкое,, любимое существо, которое охранит его обиталище от того поругания над недавнею кончиною, которому подвергает одинокого богатого человека толпа более или менее чуждых и корыстных лиц, сбежавшихся разыскивать его наследство? Затем дальнейший рассказ Беляевой… Она приносит завещание к себе в комнату, развертывает его и смотрит с любопытством на подписи свидетелей. Странное любопытство! Почему она не поинтересовалась узнать, как ее муж разделался с окружающими лицами? Это гораздо важнее; ведь у него были родственники, ждавшие, что им будет что-либо отказано; но ей любопытно было смотреть только на подписи, значит, ей ничего не говорили свидетели, значит, Беляев просил их сохранить в тайне то, что они подписались на завещании. Для чего он мог это сделать? Для того, чтобы не огорчать бедную любящую жену призраком близкой своей смерти. Но в таком случае, для чего же он сам ей вручал это завещание? Для того, чтобы сохранить его? Но разве так сохраняют завещание? Затем мы видим, что пред фамилиею каждого свидетеля идет длинный, установленный законом период, удостоверяющий, что «завещание подписано свидетелем по личной просьбе завещателя, который при этом находился в здравом уме и твердой памяти», вследствие чего подписи свидетелей составляют ровно половину текста всего завещания. Беляева, по ее словам, видела, что на завещании, вслед за именем Беляева, было написано: «Сицилинский и Отто», но, во-первых, это не так, и фамилии разделены семью строками, и во-вторых, каким же образом среди указанных обязательных выражений она усмотрела только две фамилии и не запомнила, что предшествует целая официальная фраза каждой из них? Наконец, посмотрим на ее отношение к завещанию: Она не имеет никаких определенных средств, так как все имущество ее находилось в руках ее мужа, безотчетно им управлялось. Она видит, что муж умер и ее положение может стать еще более неопределенным и очень тяжелым. Как не поинтересоваться узнать, что он именно ей оставляет, как не задуматься над своею будущею материальною обстановкою, если не сейчас по смерти мужа, то чрез неделю, чрез две? Однако она ничего этого не делает. Предположим, что тягость утраты мужа была для нее так сильна, что она не могла заниматься делами, что ей было не до того, что она забыла даже о таком важном документе, как завещание. Но вспомните ее домашнюю обстановку после смерти ]мужа: детей нет, но существует целая дворня, есть разные приказчики и управляющие, которые долго жили у Беляева и из которых каждый считает себя вправе надеяться на получение после него известной суммы, есть, наконец, сестра покойного, Ремянникова, вся судьба которой зависит от того, что забыта или не забыта она в духовной, Ремянникова, которая” умоляет Мясникова на коленях не оставить ее и до того взволнована неизвестностью, что даже заболевает. Разве Беляева, так любившая мужа, так охранявшая его память, не понимала, что надо успокоить окружающих, смягчить их ропот, прекратить их недоумение? Разве, ухаживая за больною золовкою, она не понимала, что своим молчанием она только длит ее болезнь, только подтвержу дает ее страх остаться нищею, только вызывает упреки памяти покойного. Вся дворня, все домашние смотрят ей пытливо и тревожно в глаза, бедная Ремянникова лежит больная, а она молчит? Как не восстановить доброй памяти о муже, как не сказать: «Не плачьте, не скорбите, вы не забыты, вам оставлено, я помню, завещание есть!» Ведь это было бы лучшим лекарством для Ремянниковой! Но ничего этого не делается. Когда же найдено завещание? В сороковой день, как говорит Беляева; до тех пор Беляева о нем не помнит, потому что не занимается никакими делами, — согласен, — но что значит, однако, найденная у нее при обыске доверенность на имя Мясникова на полное управление ее имением, помеченная сентябрем? Сороковой день был в половине ноября, а доверенность помечена сентябрем, следовательно, выдана вскоре после смерти ее мужа, в то время, когда ей было так тяжело, когда спутника ее жизни только что унесли из осиротелого дома навсегда. Из доверенности видно, что она считала, однако, возможным немедленно после этого говорить о делах с Мясниковыми и даже составлять доверенность на управление всем имением ее мужа. Да и почему она знает, что все состояние ее, что она может им распоряжаться? Значит, выдавая доверенность, она вспомнила о завещании, вспомнила еще в сентябре. Но если вспомнила, то отчего не посмотрела? Отчего не огласила? Эта доверенность доказывает, что рассказ Беляевой о том, что она забыла про существование завещания, вымышлен; эта доверенность доказывает, что, составляя ее, Беляева знала, что право на имущество мужа — и притом во всей его полноте — должно принадлежать ей. Она говорит, что не знала, даже при выдаче доверенности, что завещание есть; я готов согласиться с нею, но прибавлю, что она в таком случае знала, что завещание будет.
Перехожу далее к роли, которую должно было играть завещание в глазах самого Беляева, если предположить на время, что он был его составителем. Вы знаете характер дел Беляева и Мясниковых, вы слышали из показаний обвиняемых, что ими в день смерти Беляева были взяты из кабинета его счеты, книги и бумаги, потому что тут были и их счеты, и им хотелось знать, в каком положении их дела, тесно и неразрывно связанные с его дедами. Беляеву они, конечно, были лучше чем кому-либо известны, и он один умел и мог бы их распутать надлежащим образом. Но он оставляет завещание, в котором даже не упоминает о том, какие именно предприятия и дела составляют его личное имущество. Он как будто не понимает, что после смерти его Мясниковы явятся прежде всего за отчетами по их имуществу и бедная вдова не будет знать, что объяснить, на какие документы сослаться, так как она ничего не ведает о делах мужа и не имеет к ним никакого руководящего ключа? Быть может, он надеялся, что Мясниковы поступят с нею добросовестно и не обидят ее, но при таком спутанном состоянии расчетов можно было с вероятностью рассчитывать и на фактическую, вполне добросовестную ошибку. Мясниковы могли по заблуждению, по неясности в счетах и записях присвоить себе такого рода капиталы, которые им не принадлежали. Да и едва ли Беляев мог рассчитывать, что в отношении разверстки имущества жена его не будет нисколько обижена. Уж если Мясниковы его, своего воспитателя, старого слугу своего деда, в известном письме, поздравляя его с днем ангела, все-таки упрекают в том, что будто он частию растратил их деньги, частию присвоил их себе, то они, конечно, не особенно поцеремонятся со вдовою его, требуя от нее полного расчета. Но Беляева говорит, что дела мужа были небольшие, что капитал был маленький и что ей в собственность по завещанию осталось очень и очень немного. Допустим, что это было так и в действительности, и станем на время на почву ее показаний. Мясниковыми была ей предъявлена расписка Беляева в 272 тыс. руб., которую она и признала за выданную мужем. Но Беляев, зная небольшие размеры завещаемого состояния, должен был понимать, что если жена его будет утверждена в правах наследства, то расписка эта послужит основанием к такому иску со стороны Мясниковых, который поглотит не только завещанное имущество, но и часть состояния самой Беляевой! Как же он, зная, что личные капиталы его скудны и что все остальное принадлежит жене, как же он, любя свою жену, называя ее своим «сердечным другом», оставляет в ее пользу такое наследство, по которому, если она его примет, она не только ничего не получит, но с нее будет еще взыскана значительная сумма? И сумма эта взыскана, так как известно, что Беляева передала Мясниковым все — и свое имущество, и оставшееся после мужа, за 392 тыс. руб., взяв с них условие в платеже 120 тыс. руб. и расписку в 272 тыс. руб. Между тем, лично принадлежавшие ей заводы стоили гораздо более 120 тыс. Не мог же не понимать Беляев, что такого рода завещанием он грабит свою жену, лишает ее собственного ее имущества. Правда, она могла не принять имущества по завещанию, отказаться от него, на то ее добрая воля, закона нет, который бы обязывал ее наследовать непременно, но тогда муж должен был предупредить ее, сказать, что такие-то н такие-то долги лежат на его имуществе, что они превышают его состояние. Но он того не делает, он говорит убитой горем женщине: «Спрячь эту бумагу», — не объясняя, что это за бумага и как велик его капитал, и за это, когда обнаруживаются размеры этого капитала, у нее отнимают ее собственное, кровное достояние. Мы смело можем утверждать, что такой поступок вовсе не соответствует характеру Беляева, он не только не объясняется любовью к жене, но, противореча этой любви, является скорее обдуманною и хитрою интригою против ее состояния.
Обращаюсь к содержанию завещания. Оно было прочитано здесь, и в нем прежде всего обращает на себя внимание то, что многие его несущественные части изложены чрезвычайно подробно и даже красивым слогом, но затем все остальное, вся душа завещания, написано крайне сжато, туманно. Так, начало завещания следующее: «Во имя отца и сына и святого духа, единосущной и живоначальной троицы. Аминь». Беляев писал много деловых бумаг, конечно, видывал и завещания и знал, что достаточно написать что-нибудь одно: или «во имя отца и сына, и святого духа. Аминь», или «во имя св. троицы»; вместе же эти слова никогда не употребляются, особенно в завещании, которое составляется больным человеком, на скорую руку. Очевидно, что завещание в начале писано широкою кистью, что выражений не жалели, так как затем идет целый период о тех причинах, по которым составляется завещание. Тут и подробно описанное чувство особенной слабости здоровья, и рассуждение о том, как и когда богу угодно будет отозвать его, Беляева, от жизни. В сущности все это совершенно излишне. Потом в кратком завещании дважды повторено, что такова покойного Беляева последняя воля. Самое же существо завещания очень кратко и очень неопределенно. Таким образом, человек, который вел множество дел, писал массу деловых бумаг, в такой важной бумаге, как завещание, распространяется о предметах несущественных и в то же время об имуществе говорит с краткостью непонятною. Посмотрим на самый язык; Беляев владеет языком хорошо: мы слышали здесь характеристическое письмо его к какому-то Алоизию Матвеевичу, очевидно, лицу весьма высокопоставленному, которого он весьма благодарит за то содействие, которое тот оказал опеке Мясниковых, и объясняет, что билеты, представленные Мясниковыми на сумму 10 тыс. руб., они оставляют в пользу евангелической школы. Письмо это написано очень умно, с большим достоинством и тактом; письмо это, указывающее на подарок, сделанный в пользу известного учреждения за содействие тех лиц, интересы которых связаны с этим учреждением, написано так ловко, осторожно, деликатно, что, очевидно, человек, писавший его, привычный и умный, знающий цену и значение каждого слова. И, однако, этот человек, писавший собственноручно сложные бумаги в Сенат, употребляет такое выражение: «Всю мою недвижимую и движимую собственность, все имущество мое оставляю жене моей в полную собственность» и тотчас же далее называет это «даром». Далее оказывается выражение: «друга моего прошу», но разве такой деловой человек, как Беляев, может допустить подобную неопределенность в выражениях? Можно догадаться, что он просит жену, но удостоверить этого положительно, по точным словам завещания, нельзя. И это-то пишет Беляев, который по словам Ивановой, даже за частным обедом выражался так официально, что «она, жена моя, оставила все состояние свое мне, а я ей, жене моей». Завещание переписано Целебровским. Почему им? Почему оно не писано самим Беляевым? Тут можно допустить только одно предположение,—что
Беляев был так слаб, чувствовал себя так дурно, что не мог писать и послал за Целебровским с тем, чтобы тот немедленно переписал завещание. Но где же указание на такое состояние Беляева? Выписывал ли он жену из Ораниенбаума? Являлась ли она к нему, чтоб в минуты крайней телесной слабости окружить его своими попечениями? Нет, ни разу в мае 1858 года он так дурно себя не чувствовал. Он страдал, бывал слаб, но скоро поправлялся. Быть может, ему вообще было тяжело писать самому. Мы имеем, однако, от 20 июня 1858 г. собственноручное длинное прошение его в Сенат. Подобную бумагу легче всего было отдать переписать, между тем она написана и перебелена им самим. Наконец, мы имеем дневник и исходящую тетрадь, доведенные до 14 сентября, где, очень уж не за долгое время до смерти, всего за 10 дней, он отмечал малейшие расходы свои и по делам Мясниковых. Но если человек записывает собственноручные расходы, если он пишет прошение в Сенат с перечислением залогов, почти на листе кругом, неужели он не чувствовал в себе достаточно силы, чтобы самому написать завещание, которое должно навсегда обеспечить и оградить его любимую жену?! Нам скажут, что он мог это сделать, но не находил этого нужным; в таком случае это был бы человек крайне неделовой, а известно, что Беляев был не таков. Он не мог не знать, что по завещанию, написанному от начала до конца рукою завещателя, спор о подлоге очень труден, почти невозможен, тогда как если оно только подписано, то опровержение его, сомнение в подлинности подписи всегда возможно, что и доказывается историею дел о подлоге завещаний. Он должен знать, что есть наследники — Мартьянова и сын ее, человек беспутный, растративший 30 тыс. на заводе Беляева. Эти люди, эти законные наследники, услыхав о смерти его, тотчас же слетятся в Петербург, а так как это было время старых порядков судопроизводства, когда раз начатое дело тянулось целые годы, то, без сомнения, мелкие ходатаи, те новейшие аргонавты, о которых я говорил, научат их завести спор о подлоге завещания, и бедную Беляеву будут таскать по судам. Не лучше ли, не безопаснее ли, не благоразумнее ли было переписать самому? Допустим на минуту предположение, что Беляев завещания этого не писал сам вследствие того, что чувствовал себя крайне нездоровым и не мог писать вообще. Но тогда является следующий вопрос: завещание подписано тремя лицами и переписано четвертым; все они писали различными чернилами, что показывает, что писали они не одновременно; надо, следовательно, допустить, что Беляев дал Целебровскому переписать завещание в тяжелую минуту, когда чувствовал сильные страдания. Он призвал Целебровского и продиктовал ему свою последнюю волю (хотя надобно заметить, что у него были другие более близкие лица, например Шмелев, которые были всегда под рукою). Продиктовав завещание, он оставил его у себя, не подписывая немедленно и не призывая немедленно свидетелей, а подписал впоследствии, так же как и предъявил завещание свидетелям. Но если он подписывал после, то нужно доказать, что все время после того, как завещание было составлено, он находился в таком состоянии, что не мог писать сам ничего, а мог только подписывать свою фамилию. А между тем известно, что он не только писал сам, но даже ездил на торги. Притом, если ему не трудно было диктовать, то, понятно, не трудно было подписывать и свой полный титул, по обыкновению, которого он так строго держался. Может быть, однако, и другое предположение. Чувствуя себя очень дурно, Беляев призвал Целебровского и свидетелей одновременно, хотя это и опровергается различием в цвете чернил. В числе свидетелей был и доктор Отто. Если Беляев не мог подписать полного звания, значит, он был страшно слаб, его одолел жестокий припадок, руки его тряслись. Разве доктор Отто не мог отклонить его от всяких занятий в эти тяжелые минуты, разве не мог успокоить его, уверив, что он останется живым, что это только припадок, что он может подписать завещание после, когда почувствует себя лучше? А это совершилось скоро, так как затем Беляев пишет длинные письма, ездит на торги и в конце августа 1858 года еще настолько здоров, что ходит по комнатам. Разве он не мог много раз уничтожить это завещание и написать вновь все собственноручно? Не мог разве сделать это в здоровые минуты?
Посмотрим, наконец, на самих свидетелей. Беляев оставляет все имущество своей жене, не назначая душеприказчика и не обозначая имущества. Кто же подписывается на завещании? Люди, знакомые с его торговыми делами? Нет! Сицилинский, старик, выживающий из ума, и доктор Отто, некоммерческий человек, тогда как у Беляева были такие старые знакомые, как, например, Бенардаки, Каншин,
Почему он не поставил состояния жены своей под защиту этих громких откупных имен? Почему он не пригласил подписаться на завещании этих лиц, знающих дела, имеющих вес на бирже и значение в обществе, людей, которые могли бы оградить его жену от всяких дальнейших имущественных нападений? Ничего подобного сделано не было! Эти друзья остаются в стороне, а призываются люди, которые случились под рукой. Скажут, завещание составилось на скорую руку. Предположим, что так; но завещание составилось 10 мая, 21 написана сохранная на 272 тыс. руб. серебром, расписка, которая, очевидно, изменяла положение дела, изменяла вопрос о состоянии Беляева. По выдаче этой расписки, разве ему не должно было прийти в голову, что нужно переменить завещание, что нужно написать новое? Посмотрим поближе на этот документ. Во-первых, имеет ли он общий характер всех завещаний зажиточных лиц купеческого сословия? Был ли в нем отказ на церковь? Беляев был человек добрый, вспомнил ли он, умирая, своих родных, оделил ли он их? Нет. Одной Ремянниковой только оставлена маленькая сумма. А этот двоюродный брат, ходивший без сапог, а Мартьянова, которая не имела денег на покупку лекарства и не могла выходить на воздух, потому что у нее не было теплой одежды, а на дворе было «студено»? Все это Беляев, конечно, знал. Как же у него — у несомненно доброго человека — не возникло в последние минуты желания хотя чем-нибудь наделить их, избавить их от нищеты, — у него, раздававшего широкою рукою деньги своим конторщикам и прислуге? Между тем, этого нет. Нет отказа на поминовение, нет никаких жертв в монастыри и церкви, нет благотворительных дел, которые характеризуют почти всякое завещание в том слое купеческого быта, к которому принадлежал покойный. Затем я не могу не указать еще на одну особенность этого завещания, именно на то, что наряду с ним идут найденные у Беляева обрывки почтовой бумаги, на которых рукой -Беляева написано — на одном: «сие духовное завещание составлено Фр. К. В. Бел.», на другом — «ей же, жене моей» и т. д. Очевидно, что эти клочки относятся к завещанию. Один есть проект свидетельской подписи, другой же — одного из пунктов предположенного завещания. Неужели тот, который собственноручно составлял черновой проект завещания, не мог переписать подлинного документа? Эти клочки указывают, что Беляев действительно хотел оставить имущество своей жене, но не оставил. Почему же? Для разрешения этого вопроса я обращусь к вашей житейской опытности, к вашему знанию практической жизни. Вы знаете, какого рода суеверные предрассудки существуют вообще у многих богатых людей, которые умирают без завещания потому, что выражение последней воли признается как бы предвестием смерти, потому что человек, составивший завещание, считает уже материальные расчеты с жизнью оконченными и думает, что на нем лежит уже печать скорого нетления. Вы знаете, конечно, что этот предрассудок сильно распространен, особенно в купеческом быту… Вот почему мы видим Беляева, делающего проекты завещания, приготовления к нему на клочках бумаги и не решающегося написать полное завещание. Он часто страдал, но ему затем становилось легче, а последнее время приглашен был доктор Тильман, опытный врач, который ему, заметно для всех окружающих, помог. Он мог думать, что здоровье его поправится, что он успеет написать завтра, послезавтра, но завтра нагрянула смерть — и завещания нет. Мне скажут, что завещание подписано свидетелями, что они его видели. По-видимому, здесь установилось у некоторых участвовавших лиц и, быть может, у вас, господа присяжные заседатели, неправильное понимание того, что хочет сказать обвинительный акт указанием на то, что свидетели подписали завещание после смерти. По-видимому, предполагают, что обвинение считает этих свидетелей глубоко бесчестными людьми, которые согласились с Мясниковыми помочь им ограбить, путем фальшивого завещания, несчастную и доверчивую вдову. Напротив, я признаю, что Сицилинский и Отто были прекрасные люди. Но что же из этого? Сицилинский был на краю могилы, забывчив и дряхл, а Отто— домашний врач, старый друг дома. Они слышали, что о завещании Беляев говорил не раз, говорил, что все имущество оставит своей жене. У них составилось нравственное убеждение в том, что имущество должно было перейти Беляевой; затем к одному являются и говорят: «Посмотрите, завещание нашлось, но покойный не успел пригласить свидетелей, вы видите его подпись, вы знаете, что все имущество должно следовать вдове, что такова всегда была воля умершего, вы помните, как любил ее покойный. Неужели вы не захотите охранить тишину и благолепие этого дома? Неужели вы допустите, - что придут какие-то неведомые наследники, будут тягаться, говорить, что завещание даже никогда не было написано, — а вот оно тут перед вами — и будут бедную женщину таскать по судам? Неужели вы откажетесь оказать такую услугу памяти покойного?» И вот человек, не понимающий хорошенько, что он делает вполне неправильную, незаконную вещь, уверенный, что завещание должно было остаться, добрый и привязанный к памяти покойного, дает свою подпись. Раз явилась подпись священника, надо еще подпись одного свидетеля. К кому же лучше обратиться, как не к старому Другу дома, постоянному доктору Беляевых, у которого даже личный интерес связан с сохранением имущества за Беляевой? Тот, быть может, спросит священника, несколько колеблясь исполнить просимое: «Батюшка, вы это завещание подписали?» «Да, подписал», — ответит тот и тем рассеет сомнение доктора, потому что он, Сицилинский, человек добрый, по словам его вдовы, даже «святой». Притом, просит удостоверить завещание разве Беляева, которая заинтересована в нем? Нет, нисколько! Просят Мясниковы. Они хотят оградить интересы бедной женщины, которая убита горем и в отношении имущества находится в затруднительном положении. Потом, быть может, эти свидетели и узнают, что завещание фальшиво, но, подписав его, они сделались участниками в его составлении, и сознаться в том, что завещание подписано после смерти, когда оно считается подложным, уже невозможно, потому что это значит сознаться в содействии преступлению, хотя бы и не вполне сознательном, — и на уста их невольным образом налагается печать молчания. Таково единственно возможное толкование, не опорочивающее без нужды памяти свидетелей и с житейской стороны совершенно естественное. Нет основания предполагать, чтобы Сицилинский был подкуплен для дачи своей подписи, нет такого основания и по отношению к Отто; но затем, когда эти люди подписались, им могли оказываться разные одолжения, чтобы этим еще более закреплять их молчание и загладить их вовлечение в темное дело. Иногда эти одолжения делались широкою рукою. Сын Сицилинского, женатый на сестре одного из показывавших здесь свидетелей, ходил к Мясниковым в карман, как в свой собственный. Были ли им выдаваемы документы Мясникову, мы не знаем, но знаем, что он имел привычку никогда не платить долги, что должно было быть известно Мясникову; мало того, что он ходил «взять у Мясникова», его сестра и муж его сестры точно так же обращались к Мясниковым и получали вспомоществования. Мне скажут, что все это предположения, что я не привожу прямых доказательств, что мои соображения почерпаются из обстановки окружающей жизни, а не из фактов дела. Это, быть может, и будет справедливо, но не надо забывать, что в целой массе дел — во всех наиболее серьезных и обдуманных преступлениях — прямые доказательства отсутствуют, а есть лишь косвенные данные, которые могут быть скреплены между собою лишь известными соображениями. Эти соображения именно оттуда и должны быть взяты, откуда я их беру; только жизнь с ее разнообразными явлениями, только бытовая обстановка может и должна служить тою палитрою, с которой следует черпать краски для обрисования условий возникновения известного преступления. Никакие теоретические, отвлеченные соображения для этого непригодны.
Но если это все одни предположения, то мы можем указать и на некоторые другие, более твердые данные, именно на экспертизу. Это уже нечто более прочное. Мы видели специалистов своего дела в огромном числе. Чуть ли не весь Петербург был лишен на несколько дней каллиграфии, и, конечно, эти 16 учителей чистописания и граверов должны дать более или менее точные данные для суждения о подлинности завещания. Нам говорили, что в экспертизе по настоящему делу — противоречия. Эксперты по этому делу распались на четыре группы: первая из них в 1868 году признала, что подпись на завещании, по-видимому, Беляева и нет основания в ней сомневаться вообще, кроме, однако, буквы "ъ"; вторая группа нашла подпись целиком сомнительною; третья группа, в гражданском суде, признала, что нет основания утверждать, чтоб это не была подпись Беляева; четвертая группа, на следствии 1870 года, положительно утверждала, что это не подпись Беляева, что она дурно скопирована, что это плохое подражание действительной подписи. Здесь все эксперты сведены вместе, и я думаю, что шансы обвинения и защиты были равны, так как мною было вызвано 9 экспертов, защитою 8, но на суд один из моих не явился, и остались 8 и 8, т. е. равное число голосов. К какому же-выводу пришли они при взаимной окончательной проверке своих мнений? Они признали, что подпись Беляева является при первом взгляде похожею на настоящую, т. е. имеет свойства, которые необходимы для того, чтобы человек, рассматривающий ее простыми глазами, мельком, признал ее действительною, но при внимательном рассмотрении буквы оказываются поставленными реже и написанными не так, как писал обыкновенно Беляев, и, наконец, при дальнейшем исследовании самая подпись является лишь искусным подражанием. При оценке этой подписи эксперты находят те же признаки, на которые указывали прежние эксперты, дававшие заключение против подложности завещания, а именно, что буква "ъ" написана не снизу вверх, как писал ее Беляев, а сверху вниз, и что подпись сделана дрожащею рукою. То же самое говорили и первые эксперты, но прибавляли, что так как Караганов имеет почерк твердый, то нельзя думать, чтоб он мог написать дрожащею рукою. Думаю, что это заявление не заслуживает никакого уважения. Если б они сказали противное, т. е. что Караганов писал дрожащею рукою, а подпись сделана твердою, тогда я понял бы это; но что человек, у которого почерк твердый, может написать дрожащей рукой — это не подлежит сомнению, и все зависит в этом отношении от того, что вы признаете в данном случае: если вы найдете, что эта подпись Беляева, то этим самым признаете, что здесь дрожала больная рука; если же вы согласитесь со мною, что это не его подпись, то, очевидно, дрожала рука — преступная. Таким образом, эксперты прямо признали, что почерк в подписи на завещании не есть почерк Беляева, что это только искусное подражание, что он сам такой подписи не мог сделать. Кто же сделал ее? Экспертам предъявлялись записки одного из лиц, находящихся здесь пред вами, и они сказали: «Да, это лицо способно писать таким образом; да, это лицо имеет такой почерк, который можно сделать весьма похожим на почерк Беляева,, это лицо могло подписаться под его руку». Это лицо Караганов. К нему-то мы теперь и обратимся.
Второй вопрос по делу: если завещание подложно, то каким путем оно составилось? Путь этот начинается Карагановым и кончается Мясниковыми.
Поэтому, прежде всего, следует обратиться к самой личности Караганова. Караганов, по моему мнению, в меньшем виде — тот же Беляев. Та же преданность своим хозяевам, верность их интересам, то же стремление управлять их делами, сохраняя выгоду всеми мерами, стремление всегда и во всем видеть их честными и правыми… Повторяю — это тот же Беляев, но в таком малом размере и без его ума, без его ловкости, житейские обстоятельства которого притом сложились иначе. Еще мальчиком он поступил к Мясниковым, служил довольно долго конторщиком и получал, наконец, жалованья до 600 руб. в год, при квартире в доме хозяев. При такой обстановке застает его день смерти Беляева. Она поразила его паническим страхам: «Такой богатый человек, — говорил он всем и каждому, совершенно потерявшись и не зная, за что взяться, — и так внезапно скончался! Ведь он всему делу был воротило, всем заправлял, как быть без него!?» Долго ли продолжался этот испуг пред неведомым будущим, нам неизвестно, но вскоре, однако, Караганов предлагает свидетелям паи по откупам, говорит, что у него есть небольшой капитал, дает взаймы тысячу и полторы. Вместе с тем положение его, по-видимому, улучшается. Он является к знакомым очень хорошо одетым, живет лучше, и, наконец, в нем, в этом необеспеченном приказчике, жившем изо дня в день, является желание устроиться семейным образом. Он и устроился; свадьба его несколько оригинальна: он женился на певице, бывшей в тесных отношениях с А. Мясниковым. Он, мелкий приказчик Мясникова, сделался мужем женщины, которая была в близких отношениях к его хозяину, которая стояла гораздо выше его в отношении образования и развития, — на женщине, к которой он являлся в переднюю с мелкими поручениями и за приказаниями от того, кто ею обладал, кто сиживал в первых рядах кресел, когда она пела. Он, вчерашний приказчик, сделался мужем изящной хористки, которая еще не так давно была близка к властелину его материального положения! Свадьба происходит тихо, без всякой торжественности. Затем, немедленно после свадьбы, Караганов с женою уезжают из Петербурга. Что вызвало эту поездку — нам неизвестно. Он был привычный человек, служивший у Мясниковых при петербургской конторе, но они почему-то решились отпустить его в Казань, куда он увез довольно большие средства. Я могу сослаться на то, что в показании Караганова говорится о 10 тыс. руб., которые он получил от Мясникова, причем он не выясняет, лично ли он получил их или в приданое за женою. Из тех записок, которые были отобраны от старика Караганова, мы имеем возможность заключить о его средствах. Через несколько лет после свадьбы, после того как Караганов-сын потерпел убытки и разорение от пожаров и других несчастных случаев, после того как хлебная и винная торговля ему не удалась, он оставил записку, в которой просил продать принадлежащие ему меха, шубы, серебро, бриллианты, всего на 30 тыс. руб. Очевидно, что это были остатки прежнего его семейного величия. Что затем делает Караганов — нам мало известно, но в 1865 году он обращается с письмом к Мясникову, в котором просит принять его вновь на службу. Мясников не дает сначала решительного ответа, однако в 1866 году Караганов уже был у него на службе. Защитник представил целый ряд писем Караганова, чрезвычайно характеристичных. Эти письма чрезвычайно почтительны, преисполнены выражений преданности и все писаны Александру Мясникову. В них Караганов очень подробно рассказывает о ходе торговых операций и не только описывает настоящее положение дела, но собирает статистические сведения о видах на будущее и старается определить то направление дел, которое они должны, ввиду разных данных, принять. Свидетель Беляев говорит, что Караганов вел себя в Ставрополе сначала очень хорошо, служил честно, но вдруг с ним сделалась какая-то перемена. Первый признак этой перемены замечается в нем в октябре 1868 года. Он был приказчиком Мясниковых, так сказать, небольшим агентом в их обширной администрации, агентом зависимым, имевшим определенные обязанности. И вдруг этот подчиненный агент начинает вести себя несоответственно своему положению. 10 августа он выезжает из Ставрополя и едет неизвестно куда. Кошельков — его ближайший начальник — телеграфирует главному управляющему в Ростов, в Новочеркасск, чтобы дали знать, там ли Караганов, наконец, сносится с Воронежом, мало того, телеграфирует в Петербург А. Мясникову о том, что Караганов выехал неизвестно куда. Скажут, быть может, что это была поездка в Козьмодемьянск для свидания с отцом, о которой он просил прежде, но мы знаем его покорность хозяину, знаем, что в течение двух лет Мясников постоянно отказывал ему в этой просьбе. Встревоженные его поведением начинают следить за каждым его шагом. Вы имели перед собою целый ряд телеграмм, в которых выражено ясно желание иметь постоянно сведения о месте нахождения Караганова. Телеграммы адресуются от Кошельковако всем управляющим отдельными складами. Наконец, для успокоения Караганова делаются по телеграфу справки, конечно, на счет конторы, о таких делах, которые вовсе дел Мясниковых не касаются, как, например, о здоровье отца Караганова, о времени его предполагаемого выезда из Козьмодемьянска. Как же ведет Себя Караганов, столь тщательно оберегаемый и получающий 1200 руб. жалованья? Мы имеем весьма характеристические письма Цыпинз и Гудкова. Из них видно, что в конце 1868 года и в начале 1869 года он ничего не делает, хотя и считается ревизором; вся его обязанность заключается только в том, чтобы прийти за жалованьем и взять спирт, как будто для пробы, который он и не возвращает более. Он пьет горькую чашу. Есть указание, что он напивался до того, что лез искать брата в мельничном колесе, что в наряде, более чем легком, ходил по улицам, так что семейные люди вынуждены были затворять ставни, что он буйствовал, стрелял в соломенные крыши, ходил пьяный в театр, где отдавал за билет палку, а не деньги, и в трактир, где бил посуду и окна, говоря, что ему душно. Знает ли, однако, Мясников о таком безобразном поведении своего приказчика? Да, знает, потому что знает о нем Кошельков, который не мог не донести об этом и еще до августа 1869 года писал Мясникову, что Караганов ведет себя так неудовлетворительно, что он «за дела его, хозяина, с ним поговорил». Для чего же он держит при заводе человека, ничего не делающего или, лучше сказать, бог знает что делающего и получающего свыше тысячи рублей жалованья? Для чего узнают о здоровье его отца, следят за ним из Ставрополя и Петербурга, желают непременно знать, куда он именно поехал, и не разрешают ехать к отцу? Для чего его удерживают при заводе, когда он даже для Кошелькова становится невыносимым? Быть может, его держат из милости? Он давно служил, старый слуга, почему же не дать ему пристанища— это не разорит. Но он, прежде всего, не старый, выбившийся из сил слуга, и ему притом дается не одно пристанище, а гораздо более, да и так ли ведет себя Караганов как человек, который обязан своему хозяину приютом? Разве так человек может настойчиво требовать вперед жалованья, требовать таким образом, что, по словам Гудкова, во избежание худшего он должен был удовлетворить его? Может ли человек благодетельствуемый позволять себе такие поступки, какие позволял себе Караганов? Он знал же, что всякому благодеянию есть мера, что его могут прогнать. Наконец, можно ли предполагать, чтобы благодеяния Мясниковых, у которых были обширные занятия и дела, которые сами были большими господами, простирались даже до таких мелочей, как выкуп Мясниковым из ломбарда вещей для Караганова? Караганов постоянно писал Мясникову, извещая его о том, куда он едет, но не прося разрешения и совершенно не желая знать местное начальство, и обращался за выдачей денег непосредственно к нему. Человек облагодетельствуемый не решится писать таким образом. Остается, следовательно, неизбежный вывод: Караганов — бесполезный, но опасный человек. Почему же он опасен? Мы знаем, каким образом поступал Караганов в 1866—68 гг., мы имеем возможность проследить его душевное состояние. В письмах 1868 года он выражает просто желание повидаться поскорее с отцом, но затем эти письма начинают принимать более мрачный характер, и, наконец, от 14 декабря 1870 г. мы находим письмо, в котором он изъявляет свою последнюю волю отцу, говоря, чтобы он сохранил эту духовную, так как впоследствии она оправдает их обоих. Но что значит эта последняя воля? Это не есть завещание, это не есть отказ имущества, так как у него уже ничего не было. Это — крик больной души, желание покаяться, рассказать кому-нибудь близкому, дорогому то, что тяготит душу, но высказать не прямо, а намеками на то, что в нем происходит. Караганов пишет, что он не портил ничьего здоровья, что он никому не продавал женщин, что он соблюдал хозяйский интерес правильно, свято, а если совершил какие-нибудь преступления, то по молодости, неопытности и своим служебным обязанностям. Что за намеки именно на то, что он никогда не торговал женщинами, не продавал их? Почему он не говорит, что никогда не воровал, не поджигал, не делал фальшивой монеты? Почему он говорит, что хозяйские интересы соблюдал, и вскользь прибавляет, что если совершил преступление, то по службе, следовательно, соблюдая хозяйские интересы? Затем мы имеем еще одно сведение о Караганове, которое вы слышали из обвинительного акта, а именно, что Караганов был крайне подозрителен, что он постоянно боялся чего-то, спал с револьвером и однажды заставил горничную съесть коробку пудры, подозревая, что это отрава. Если мы сведем это вместе, если представим себе Караганова сначала бодрым, свежим, имеющим целую жизнь впереди, женившимся и взявшим за женою довольно большое приданое, имевшим свои собственные торговые дела и, наконец, управляющим Мясниковых в Ставрополе, — и затем представим себе того же Караганова мрачного, рассеянного, делающего скандалы, дерущегося на кулачках с мужиками, не платящего долгов, требующего жалованья и не оказывающего никакого почтения к представителям хозяев, находящегося постоянно йод гнетом какой-то одной мысли, пьющего мертвую чашу и пользующегося при этом особенным привилегированным положением; представим, наконец, Караганова, которого преследует постоянная боязнь, Караганова, пишущего свою последнюю волю, в которой слышится вопль наболевшей души и разбитого сердца; если мы представим себе все это, то мы увидим, что есть страшная разница между Карагановым первым и Карагановым вторым. Когда же произошла эта перемена, этот перелом? Мы знаем, что это случилось после допроса в Ставрополе, 20 августа 1868 г. Он был допрошен о духовном завещании Беляева. Его спрашивали, «не он ли подписал духовное завещание?» Он отвечал, что нет. Но почему же допрос этот так на него подействовал, почему он так упал духом? Потому что он увидел, что то, что смутно, в отдалении, по временам его смущало, вдруг ожило, возникло с новой силой, стало пред очами и вещает недоброе. Он упал духом, затосковал, стал мрачным, потерял почву под ногами и махнул на все рукою. Вот это-то поведение Караганова и вызвало два ряда действий относительно его. С одной стороны, такой человек не мог оставаться на виду многолюдного общества и не мог быть около близких людей, которые могли узнать от него истину, которым он мог бы проболтаться. Поэтому его приурочивают к одному месту, запирают в ограниченные пределы и, отдавая его на жертву бездействию, дают ему возможность топить свою тоску, свою думу, свой ум в водке и спирте. С другой стороны, надо было знать, что такое делает Караганов, как он себя держит. И вот о нем ведется постоянная переписка. Требования Караганова исполняются в точности и с быстротою; для него делается все: ему дают жалованье и полную свободу, ничего от него не требуя, лишь бы он жил на заводе и пил, сколько душе угодно, — и он пьет. Но вот, однажды, в пьяном виде, он проговаривается проезжему купцу, рассказывает, что он лысого, беззубого старика, лакея Мясниковых, так обчистил, что миллион от него отбил своим хозяевам и старику ни гроша не оставил — не с чем было на тот свет проехать.
Из некоторых заявлений защиты надо думать, что она будет стараться доказать вам, что проезжий купец и его приказчик были агенты сыскной полиции, приехавшие с целью разузнать от Караганова о настоящем деле. Я не знаю, так ли это было на самом деле, не стану отрицать возможности этого, но скажу, что если это были агенты полиции, то их ловкости должно приписать удачу открытия первого повода к возбуждению дела. Так или иначе, но до сведения судебной власти дошло, что Караганов проговорился. Нам, быть может, скажут, что его подпоили, но мы имеем сведения, что он пил мертвую чашу задолго до этого, что еще в 1869 году он уже делал вещи, совершенно ни с чем не сообразные. Караганов, конечно, уже совершенно трезвый, допрошенный судебным следователем, повторил то, что было сказано в бытность его на заводе, Сущность этого показания он повторил здесь. Он говорил, что ему стыдно, что он сделал нехорошее, постыдное дело, как он выразился, и если бы он не сделал, то не имел бы чести находиться здесь; в присутствии Мясниковых ему неловко, больно. Он урывками, постепенно, после долгих допросов, начинает рассказывать, что он сделал. А сделал он вот что: он подписал принесенный ему лист бумаги подписью'«Козьма Беляев». Сначала он говорил, что подписал один разно когда его стали расспрашивать, не писал ли он прежде, не пробовал ли до этого, он сознался, что пробовал, писал несколько раз и наконец подписал.
Что же это за бумага, для чего послужила она? «Не знаю, — говорит он, — мне неизвестно; а казенный интерес я соблюдал всегда и хозяевам был верен». Вот сущность его показания. В нем, в кратких чертах, ясно выразилось, что он, по предложению Мясникова, подписал лист бумаги и что учился делать подпись; а затем, в целом ряде вариаций на эту тему постоянно звучит одно и то же, именно, что он сохранял хозяйский интерес, что он им большие выгоды предоставил, что он несчастный человек был молод, неопытен и прочее. Но, господа присяжные, посмотрите на Караганова первого, такого, каким вы знаете его из дела, сравните его с тем, который дает перед вами показания. Из всех его объяснений ясно, что этот человек предан хозяевам, любит их; недаром он сказал, что хозяева были Мясниковы, а Беляев только воротило. Он до сих пор считает его за лысого лакея Мясниковых и до сих пор считает Мясниковых вправе поступить так, как они поступили. Он видит в них идеал хозяев, и здесь, отдавая себя на жертву, говоря совершенно ясно, что он подписал завещание, целым рядом отступлений старается доказать, что он был вообще человек честный, старается не говорить ничего о Мясниковых, не решается упомянуть об их дальнейшем участии в преступлении. Это показание Караганова достаточно объясняет, почему, несмотря на то, что он был бесполезен, несмотря на то, что он пил постоянно, его призревают на задонском заводе. Он был бесполезен, но опасен, он мог проболтаться. Мне скажут, что он мог проболтаться и прежде, а между тем его отпустили. Прежде Караганов был молодой человек, только что связавший свою судьбу с женщиною, которую он любил; у него было состояние, целая будущность впереди, — понятно, что тогда ему говорить что-нибудь о своем поступке было опасно для него же самого; даже дело еще тогда не возникало, т. е. дело было гражданское. Но когда в 1868 году возникло дело уголовное и он был допрошен, он уже был не тот. Будущего у него не было, и тогда оказалось нужным держать его в одном месте, запереть его в заколдованный круг, никуда не выпускать и поскорее поставить в такое положение, чтобы показание его не имело никакого значения. Пусть он пьет, пусть развивается его пагубная страсть, он крепок телом, много вынесет физически, следовательно, ни на чьей душе не будет лежать его физическая смерть, а между тем его разум померкнет, его ум ослабнет, и когда его сознание потонет в водке, когда он потеряет образ божий, можно будет возбудить сомнение в нормальности его умственного состояния. Он падает нравственно, он гибнет, его надо удержать строгостью, отдать его отцу, и он может быть спасен. Нет!.. Не пускать его к отцу! Пусть гибнет, пусть падает! Чем ниже он упадет, чем менее будет разницы между ним и скотом, тем менее будет он заслуживать доверия, тем более будет он безопасен. Вот почему Караганов должен был оставаться на заводе во что бы то ни стало. Мне скажут: «А письма, написанные к Мясникову?» Ведь если он знал, что совершил преступление по желанию Мясникова, так он мог обращаться с ним небрежно, без уважения, а, между тем, как почтительно он пишет. Да что же из этого, что он знал, что по желанию Мясникова совершил преступление? Ведь с минуты совершения преступления он связал себя тесною, преступною связью с Мясниковыми; выдавая ее, он выдавал себя; он поставлен в магический круг, очерченный их общим преступлением, но внутри круга все осталось по-старому, отношения не изменились; он был, по-прежнему, подчиненный, приказчик, обязанный писать почтительные письма, с тою только разницею, что прежде он был честный приказчик честного хозяина, а теперь стал преступным приказчиком преступного хозяина. Наконец, мы знаем, каким обыкновенно тоном пишутся письма в коммерческих сношениях; мы знаем, что вежливость в них часто внешняя, формальная; мы знаем, что человек, выше поставленный,— Ив. Мясников — письмо к Беляеву, где он упрекает его в растрате денег, начинает словами: «Милый дяденька!» и кончает уверениями в преданности и просьбою не сердиться. Очевидно, что такой стиль письма ничего не доказывает в пользу добрых, ненатянутых отношений. Поведение Караганова в связи с его прежним пьянством побудило обвинительную власть произвести исследование об его умственном состоянии в то время, когда он давал свои объяснения. Мы не хотели предстать перед вами с сознанием, данным человеком умалишенным; мы хотели знать, что «трезвость» этого сознания подкрепляется целым рядом исследований и экспертизой; мы хотели предстать перед вами в этом отношении с полною уверенностью в том, что сознание дано правильно. Вы слышали обстоятельную, твердую, строго научную экспертизу доктора Дюкова. Что же он сказал? «Этот человек притворяется, — объяснил он, — потому что я и доктор Баталин наблюдали его и нашли, что в его действиях нет ничего похожего на сума-шествие: сумасшедший всегда верен самому себе, между тем как Караганов вполне свободно управляет собою и бывает весел, разговорчив, внимателен и даже играет на скрипке, лишь только остается наедине с доктором Баталиным». Защита спрашивала: «Если будет доказано, что Караганов не притворяется, что он действительно так рассеян, что не понимает того, что говорят, — что это будет тогда?» — «Тогда это состояние ненормальное», — ответил господин Дюков. Но на мой вопрос: «Не находит ли он третьего исхода, не видит ли он в этом постоянном повторении одного и того же о казенном интересе, о пожарах и несчастиях отчасти забывчивости, а отчасти и желания оправдать себя в глазах суда?» — доктор Дюков ответил: «Этот третий вывод тоже вполне возможен». На нем я и останавливаюсь. Говоря пред вами о своем житье-бытье, под влиянием тяжелых воспоминаний, Караганов кратко говорит о преступлении, но затем, весь отдаваясь желанию предстать пред вами не окончательно дурным человеком и объяснить свой поступок, он постоянно приходит к тому, что сделал это дело по неопытности, по молодости, а человек вообще был честный, оберегал хозяев. Пускай утверждают, что теперь Караганов сумасшедший, это не может поколебать действительности его показания. Важно не то даже,, лишен ли он ума в настоящее время, а важно то, что, давая свои показания на предварительном следствии, он был в здравом уме, о чем мы слышали письменное и устное заявление экспертов; важно то, что когда на предварительном следствии ему было предъявлено завещание, он показал, где была подпись, объяснив, что сделал только подпись и больше ничего. И действительно, когда мы начинаем рассматривать завещание, то видим, что сначала оно написано разгонисто, потом сжато и опять разгонисто. Это доказывает, что текст подгонялся к подписи. Наконец, если нам станут говорить, что Караганов безумен в настоящее время, то что же из этого? Кто допустил его сделаться таким, кто заключил этого человека на бездействующий завод в задонских степях, кто не давал ему работы, а давал водку в изобилии, кто лишил его свободных свиданий с родными, кто оставил его одного на жертву угрызениям совести, на жертву воспоминаниям о проданном семейном счастии, кто лишил его возможности говорить с отцом, который один был ему близок, кто заставил этого человека и здесь собирать последние силы своего разбитого сердца, чтоб, погибая самому, защищать своих хозяев, кто виноват в таком его душевном расстройстве, если оно действительно существует, кто не оградил, не спас его от губительной страсти, когда к тому имелись все способы и средства! Если он находится здесь перед вами безумный, то это только живое и наглядное свидетельство того, в чем он сознался. Он сам своею личностью — очевидное и вопиющее доказательство подложности завещания, и не столько по тому, что он говорит, сколько по тому, в каком положении он находится. И чем ближе это живое доказательство к духовной смерти, тем громче и красноречивее говорит оно о сделанном преступлении! И чем больше силится он собрать свои скудные душевные силы, чтобы свидетельствовать о преданности хозяевам, тем виднее, как злоупотребили этою преданностью, тем понятнее, отчего у Козьмы Беляева дрожала рука, когда он будто бы подписывал свое завещание!
Перехожу к третьему вопросу.
Определив путь, каким составилось завещание, нужно будет еще определить, кто виновен в составлении завещания духом, как виновен в этом Караганов телом.
Из всего высказанного мною можно вывести заключение, что завещание подложно. Кто совершил, т. е. задумал и осуществил. это преступление? Есть старинное правило, что преступление совершается обыкновенно теми, для кого оно представляется наиболее выгодным. Кому же могла быть выгода в составлении этого духовного завещания?
Прежде всего, конечно, Беляевой. Нет сомнения в том, что ей было выгодно иметь завещание в свою пользу: я уже говорил о том, что по самому умеренному расчету у Беляева после его смерти осталось на 400 тыс. руб. личного имущества; кроме того, Беляева до того времени играла роль богатой женщины, владетельницы заводов, обладающей известным капиталом, гордой капиталистки, с которой какой-нибудь Красильников не смел даже и говорить. Ей, понятно, хотелось иметь завещание в свою пользу, чтобы избавить себя от необходимости сойти с первенствующего места и уступить его родственникам своего мужа. Мы знаем несколько сторон характера этой женщины, довольно ярко рисующих ее: мы знаем, что она не удостоивала родственницы своего мужа откровенностью по тому вопросу, разъяснение которого избавило бы ее от удручения и болезни, и не удостоивала Красильникова разговором, несмотря на то, что он обращался к ней по делу. Мы знаем также из показаний Махаевой, что Беляева держала себя неприступно и надменно. И вдруг она, взирающая на окружающих с высоты своей денежной гордыни, она — глава, хозяйка в доме, должна сойти на второй план, уступить свое место, стушеваться, потерять окружающий ее штат и вообще умалиться в своем величии! Разве это легко, разве это не есть такая рана тщеславию, которую трудно перенести? Вот почему Беляева должна была желать, чтобы завещание это было составлено в ее пользу.
Но могла ли сама она это сделать? Конечно, нет. Какою вы видели женщину эту здесь, такою же, вероятно, была она и 14 лет тому назад. Вы видели, что она — лицо, способное являться орудием в чужих руках, но без всякой инициативы, без ясного сознания своих целей и средств.
Она не умела даже говорить здесь так, чтобы не путаться и не сбиваться; она не умела приготовиться к объяснениям; она не умела избежать тех явных противоречий и недомолвок, которыми так богато ее показание. А приготовиться было время — было много времени!
Очевидно, не она измыслила фальшивое завещание, но и это вовсе, по народному выражению, «не женского ума дело». Итак, кто же другой мог совершить это преступление? Беляев умирает в сентябре, 25. В день его смерти приезжает Ал. Мясников и вывозит в узлах книги и дела своего дяди, Между этими книгами и делами были и деньги. Достаточно припомнить узел с 223 сериями на 150 тыс. руб., привезенный Александром Мясниковым к будущей жене Караганова и брошенный ею, по незнанию — и к великому изумлению Мясникова пред ее честностью — под кровать. Было забрано все, без разбору, под предлогом отобрать свои дела и бумаги, как будто ввиду того, что мы знаем о делах Беляева и Мясниковых, это так легко было сделать при отсутствии личных указаний покойного. При вывозе бумаг захватываются и деньги, которые, несомненно, составляли собственность Беляева, и даже бумаги третьих, совсем чужих лиц, как, например, закладная Махаевой. Выгрузка имущества производилась целый вечер, и его переправляют в дом Мясниковых — через улицу против дома Беляева.
В день смерти Беляева полиция, которая должна была охранять его имущество несомненно, отсутствует, но существует акт, указывающий, что она как бы припомнила о своих обязанностях на следующий день. Именно от 26 сентября был составлен старшим помощником квартального надзирателя Рошковским акт описи имущества умершего.
В акте этом значилось, что имуществу Беляева произведен осмотр и оно опечатано, причем найдено на 350 руб. золота и несколько старых серебряных монет. Затем, однако, подписавший этот акт чиновник полиции показал, что акт писался им в конторе, под диктовку квартального надзирателя, и что на месте осмотра он не был, не было при этом также и понятых, подписавших акт. Квартальный же надзиратель объяснил, что никакого акта он не диктовал и сам вовсе не был в доме Беляева. Итак, акт этот составлен неизвестно кем и по чьему поручению в конторе квартала и содержит в себе вымышленные данные. Ясно, что настоящей описи произведено, не было и полиция не явилась своевременно в дом покойного, хотя, как видно из показаний прислуги, впоследствии были какие-то печати кем-то наложены на пустые шкапы и жирандоли. Затем, 6 ноября предъявляется в гражданскую палату для засвидетельствования завещание. Засвидетельствовано оно 16 ноября, а 22 декабря между Мясниковыми и Беляевой заключается договор или условие, по которому Беляева отдает Мясниковым все принадлежащее ей имущество, как доставшееся по завещанию, так и свое собственное, взамен сохранной расписки в 272 тыс. руб., выданной мужем ее Мясниковым, и 120 тыс. руб., которые они обещали выплачивать по 12 тыс. руб. в год, в течение 10 лет.
Сделка эта, несомненно, выгодна для Мясниковых. Это, мне кажется, не требует дальнейших доказательств. Не говоря уже о том, что Беляева уступила им все состояние мужа, которое впоследствии сама определяла в расчетах, найденных у нее при обыске, в 700 тыс. руб., она отдала им и свои заводы, да они сами взяли среди бумаг умершего, сколько успели и могли, и, во всяком случае, не менее тех 150 тыс. руб., которые хранились под кроватью у Обольяниновой и служили ей потом поводом к вымогательству денег от Мясниковых. При состоянии их уплата 12 тыс. руб. в год в течение 10 лет не представляла бы никаких затруднений, даже если бы и производилась аккуратно, а известно, что Беляева должна была, изверившись в «божбу своих крестников», жаловаться неоднократно на неплатеж ими условленной суммы. Таким образом, вся выгода от существования завещания Беляева оказалась исключительно на стороне Мясниковых. Благодаря ему они получили возможность отобрать от «милой крестной мамаши» и «дорогой тетушки» почти все ее достояние. Поэтому, даже с точки зрения простой наглядной выгоды, им было полезно и желательно появление завещания. Но есть и другая точка зрения, с которой завещание было необходимо для целей гораздо более широких. Взглянем на дело с этой стороны. Беляев умер в 1858 году; перед вами был его дневник и счеты, из которых вы могли усмотреть, что дела Беляева и Мясниковых были тесно переплетены между собою. Как Мясниковы имели участие в делах Беляева, так точно и Беляев, с своей стороны, негласно участвовал в предприятиях и делах покойного Ивана Федоровича Мясникова. Один из них участвовал в предприятиях своим основным капиталом, другой — отчасти капиталом, отчасти своим умением делать обороты и выгодно помещать средства. Капиталы эти, соединенные вместе, скопленные общим трудом, составляли такую силу, которая заставляла говорить о чрезвычайном богатстве Мясниковых. Но между Мясниковыми и Беляевым не были заключены какие-либо условия, по которым, в данную минуту, можно было немедленно отделить капитал одного от капитала другого. Доказательство этому, между прочим, в том, что когда Мясниковы были приглашены Беляевым участвовать в паях на рыбные ловли, он обратился в Комиссию рыбных промыслов с заявлением, что принимает Александра и Ивана Мясниковых к участию в Самосдельско-Образцовской рыбной ловле на равных правах и что контракт между ними будет доставлен, — и никакого контракта не доставил. Между тем, Мясниковы, несомненно, были его пайщиками в этом деле. Даже «отступное» на торгах было между ними разделено поровну. Однако, несмотря на это, права Мясниковых ничем не были ограждены. Что могли они сказать в случае предъявления наследниками Беляева претензий к Самосдельско-Образцовскому рыбному делу? Мы участвуем в предприятии в 2/з. «Из чего это видно?» — спросили бы их наследники. Беляев заявил об этом в Комиссию. Но им ответили бы, что на основании 27 параграфа кондиций необходимо, чтобы между пайщиками был заключен договор, а его нет в наличности. Мясниковы сказали бы тогда, что все основывалось на взаимном доверии. «Да, вы могли доверять друг другу, а мы вам не доверяем, — ответили бы наследники, — докажите ваши права формально, а пока признайте, что мы его наследники во всем предприятии». То же самое могло повториться и относительно других дел Беляева. Беляев имел откуп в Херсоне и Николаеве. Я готов согласиться, что из 25 паев он владел Vs частию, остальные 20 паев принадлежали Мясниковым, но в объявлении, поданном в Сенат, все 25 паев объявлены принадлежащими Беляеву. И когда явились бы наследники и стали требовать себе эти паи, что могли бы представить Мясниковы в доказательство своих прав? Расчетные книги Беляева, где записывались разные суммы, или его истрепанный дневник? Но коммерция требует книг шнуровых, книг бухгалтерских, веденных в строго определенном порядке, а их не было. Какое доказательство при торговых расчетах мог представлять, например, дневник Беляева, в котором находятся такие записи как, например: «4 тыс. взято у Ванюши 4 августа; 2 сентября выдано задаточных денег за Устюг 4 тыс., а 14 сентября опять выдано Ване на расход 4 тыс.». Дневником ничего нельзя было бы доказать, кроме разве только того, что наследникам прилично было бы прислушиваться к требованиям Мясниковых, сознавая нравственно, что и их деньги были у Беляева, но в делах коммерческих такие нравственные соображения стоят на последнем плане; на первый же план выступают документы. А документов нет, и дела Мясниковых и Беляева так спутаны вместе и перемешаны, что трудно различить, где кончаются одни и начинаются другие. Между тем, Беляев умер в то время, когда они намеревались пуститься еще в большие предприятия и, между прочим, купить громадный, знаменитый завод Берда. В § 14 проекта договора сказано, что Беляев намерен участвовать в 2/з предприятия (а эти 2/з составляли 1800 тыс.); едва ли у Беляева была свободною, при других его делах, такая громадная сумма; следовательно, он участвовал в предприятии вместе с Мясниковыми, но их участие, по-видимому, опять предполагалось негласное. Итак, смерть взяла Беляева, когда обширные предприятия еще задумывались, когда откупа были разбросаны по всей России, причем в одних Мясниковы участвовали негласно, в других гласно. Мы слышали здесь характеристическое показание свидетеля Ненюкова, который, когда его спросили, почему он думает, что Беляев не имел больших средств, отвечал, что Беляев слишком раскидывался в делах. Что это значит? То, что в коммерции требуется известная специализация и сосредоточение занятий и что в торговом мире не особенно благоприятно смотрят на человека, который сразу пускается в различные отрасли промышленности и разнородные предприятия, требующие громадных сумм. Но в руках Беляева были не одни его собственные средства, превышавшие полмиллиона, у него были и средства внуков его наставника и хозяина — старика Мясникова. Беляев и его компаньоны действовали, по-видимому, независимо друг от друга, но в сущности каждый из них участвовал в части дел и оборотов другого. Смерть Беляева последовала в 1858 году, когда были уже введены и вводились многие реформы; так, тогда начиналась крестьянская реформа и впервые были приняты меры к уничтожению откупа, который доживал свои последние дни. Министерством финансов, в особой комиссии, были выработаны новые временные правила, при посредстве которых откупная операция должна была завершиться. Это были последние годы существования учреждения, благодаря которому создавались громадные капиталы, которое одно служило главным источником громадных состояний Бенардаки, Кокорева и Других откупщиков. Понятно, что все откупщики старались: удержать за собою участие в откупах, чтобы в последнее-золотое для них время добыть как можно больше, выжать из откупов все, что только можно. Это-то легкое, ускользавшее и уничтожавшееся, вероятно, навсегда, добывание средств заставляло Мясниковых и Беляева стараться удержать -за собою откупа на последнее время, и они действительно остались за ними на 1857—1858 год. Вместе с тем наступила пора акционерных предприятий; акционерные общества создавались одно за другим; наплыв публики и ее рвение для приобретения акций новых предприятий вынуждали нередко вмешательство полиции, и даже люди почтенные, солидные в торговом отношении, совершенно теряли голову с этими акциями и пускались в еще более азартную игру, чем впоследствии была биржевая, железнодорожная игра. Словом, наступало то время заманчивых надежд, когда пред всякими коммерческими предприятиями раскрывались широкие горизонты. Надо было для того, чтобы вовремя воспользоваться этим положением дел, сосредоточить в своих руках как можно больше капиталов, удержаться в обширных предприятиях и затем играть крупную роль. А тут, как нарочно, оказывается, что завещания нет; ничто в их общем имуществе с Беляевым не разграничено, не распределено, — непременно возникнут споры, процессы, и когда же? Когда всякий час дорог, всякий рубль ценен. Тут появятся неизвестные лица, какие-то мещане из Сарапуля, которые, во-первых, отберут три четверти состояния у Беляевой и, во-вторых, заставят Мясниковых отказаться от участия во многих откупах, лишат их возможности иметь на будущее время лишние капиталы, а главное, вынудят их войти в бесконечное число процессов, которые будут тянуться годы, так как о гласных судах еще и помину не было. Побуждение устранить все споры, забрав все в руки, являлось само собою. И вот созрела мысль, что завещание было бы для этого самым удобным средством. Но сделать его в свою пользу неудобно, так как, уже помимо возможности подозрений, тогда придется для соблюдения правдоподобности , назначить большие выдачи вдове и другим лицам, а между тем каждая копейка дорога, ибо известно из дела, что в конце августа Мясниковы не могли выплатить 36 тыс. руб. и Беляев писал им, что если они не вышлют этих денег, то на честное имя Мясниковых в коммерческом отношении ляжет черное пятно.; Поэтому остается сделать его на имя вдовы Беляева. Но сделать без ведома ее неудобно и даже опасно, ибо придется сочинять, к ее удивлению, целую сказку о том, как завещание попало им в руки, да и от завещания, ими найденного, в глазах подозрительных людей недалеко и до завещания, ими подделанного. Поэтому надо явиться к ней и сказать, что вот все имущество остается в пользу родственников ее мужа, а они, ее племянники, не хотят, чтоб ее обижали, и что поэтому, так как покойный всегда желал оставить все ей, самое лучшее, что она может сделать, — это положиться на них и… завещание будет готово. Правда, Беляевой могло показаться подозрительным, что они так о ней хлопочут, но Мясниковы взяли все бумаги из кабинета Беляева, следовательно, могли сказать, что в делах и бумагах, взятых ими, нашелся документ, по которому надо получить и им, а именно сохранная расписка в 272 тыс. руб. серебром. Я уже подробно доказывал, что сохранная расписка в 272 тыс. руб. была давно погашена, будучи выдана, по расчетам Беляева с Мясниковыми, в течение 1857 и 1858 годов затем, чтобы регулировать счеты пред отъездом И. К. Мясникова в Астрахань, причем рядом с нею росли другие расчеты, по которым, как я удостоверял вчера документами, уже Мясниковы становились мало-помалу должниками Беляева, так что расписка погасилась и была, по всем вероятиям, возвращена Беляеву, который ее сберег, по своей аккуратности, как один из оправдательных документов для будущего отчета. Эта расписка являлась отличным средством для того, чтобы заставить Беляеву принять завещание. Ей могли сказать: «У насесть расписка да, бог знает, может быть еще с наследниками придется вести процесс, а вы слышали разговоры о ней, знаете, что она была выдана; поручитесь по ней, а когда будет завещание, заплатите нам, и дело будет окончено к общему удовольствию; вы получите капитал, мы — принадлежащий нам долг, и вся неведомая ни вам, ни нам компания сарапульских родственников, которых покойный и знать не хотел, останется ни с чем». И вот, еще до представления Александром Мясниковым духовного завещания в палату, Беляева делает надпись на расписке. Знала ли она в точности, как велико состояние ее мужа? Нет, потому что, давая доверенность Мясниковым, вскоре после смерти мужа, на управление всем имением, она отдала в управление имущество, размеры которого ей были неизвестны и по которому все книги и документы уже не находились в ее руках. Когда же завещание утверждено, тогда отступать поздно, тогда ей сказано, что имущество всего на 392 тыс. руб., что цифра эта точная, что больше этого нет ничего. Что могла ответить на это Беляева? Разве то, что она не заплатит, потому что завещание подложное, но она сама согласилась на это и сделала все зависящее, чтобы ввести правосудие в обман; признание завещания подложным равносильно сознанию своей вины в уголовном преступлении. Таким образом, сама собою, в силу неизбежности, совершается сделка о передаче всего имения, как самой Беляевой, так и ее мужа, за сохранную расписку и за 120 тыс. руб., ибо Беляева, согласившись на завещание и сыграв комедию его нахождения на сороковой день, отрезала себе путь к отступлению и не могла, не губя и не роняя себя, обличить действия Мясниковых. Я забыл еще сказать, как я смотрю на участие Целебровского в переписке завещания. Он, несомненно, переписал завещание после смерти Беляева, но он ни в каком случае не мог подвергнуться ответственности и был более всех гарантирован. При разности чернил в подписях и в тексте он мог всегда сказать: «Беляев просил меня переписать завещание, и я исполнил его просьбу, но завещания он в то время не подписал, оставил его у себя, и что сталось с ним потом, не знаю. Может быть, оно и было подписано кем-нибудь после его смерти». И против такого объяснения трудно было бы что-нибудь возразить, ибо свидетелями того, как подгонялся текст к подписи, были, конечно, одни лишь обвиняемые. Не делалось же это всенародно. Притом молчание Целебровского можно было приобрести. Он служил у Беляева за весьма небольшое жалованье, употребляясь для выполнения разных щекотливых поручений по откупным делам, а через полтора года после смерти Беляева, в то время, когда он сам умирал в сумасшедшем доме, у него оказалось 20 тыс. капитала.
Таким образом, вот тот путь, которым, по моему мнению, составилось завещание. Могут сказать, что это одни только предположения. Да, но, однако, основанные на экспертизе, на показаниях Караганова и на тех данных, которые почерпнуты из житейской обстановки и отношений подсудимых. Могут сказать: если Мясниковы преступники, то где же свойственное преступнику стремление скрывать следы совершенного им, стараться устроить так, чтобы не возникло вопроса о наследовании?
Действия, клонящиеся к сокрытию следов преступления, существовали и со стороны Мясниковых. Мы знаем, что они предпринимали неоднократные попытки к прекращению дела миром, переходя от пустых сумм к весьма большим и увеличивая свою тароватость по мере усиления опасности уголовного преследования, и что эти попытки усилились при возникновении дела в 1868 и 1870 годах. Так, еще в 1860 году Гонин посылался в Сарапуль к Мартьяновой с предложением примирения за 20 или 25 тыс., что подтверждено Дедюхиным и священником Домрачовым. Затем, в 1864 году, А. Мясников предлагал Ижболдину 4 или 5 тыс., увеличивая эту сумму постепенно до 40 тыс., а когда возникло следствие, то призывал в место своего служения, в третье отделение, свидетеля Борзаковского и опять настойчиво предлагал покончить дело с Ижболдиным, причем поверенный его, некто Коптев, называл и сумму, предлагаемую за примирение,— 100, даже 150 тыс.
В деле есть, наконец, еще один свидетель против них — свидетель, который старается теперь всеми средствами скрыть следы совершенного ими преступления. Это — Беляева. Против воли, косвенно, уклончиво, но она свидетельствовала против Мясниковых. В 1864 году возникло дело об опеке Шишкина. Шишкин, 14-летний мальчик, нежно любимый внук Беляевой, состоял под опекою у нее, Ивана Мясникова и Отто и в доме Беляевой жил. Мясников и Отто потребовали от дворянской опеки устранения Беляевой. Чем это было вызвано — судить трудно; из производства видно, что Беляева объясняла предводителю дворянства, что не хочет лично возить Шишкина к Мясниковым, ибо дала честное слово, что до исполнения ими их клятвы о выдаче ей 120 тыс. руб. сразу нога ее у них в доме не будет. Очевидно, однако, что это было сделано по желанию Мясникова, так как Отто считал нужным извиняться в том пред Беляевою, написав ей письмо, где говорит, что сделал это, чтобы избежать каких-то известных ей, очень неприятных для него слухов. Это, вместе с неплатежом Беляевой денег, чрезвычайно раздражило ее. А тут подоспел еще уход Шишкина тайно из ее дома к дядям. Я излагал перед вами, господа присяжные, подробно ту переписку, которая предшествовала этому уходу и которою он сопровождался. Сначала письмо Шишкина в опеку о том, что он желает исполнить священную волю отца и остаться у бабушки, так как дяди его не знают и не любят; потом письмо его к Беляевой из дома дядей с указанием на то, что так как она его восстановляла против них, а они его любят и дают ему «настоящее» направление, то он не может вернуться к ней; а в промежутке между этими письмами письмо Беляевой к предводителю дворянства, с присовокуплением найденных ею в комнате ушедшего от нее внука записок, в которых неизвестный руководитель советует мальчику сказать своей бабушке, что он бросает ее «собачий дом», что она «каналья, которая хочет его обокрасть», что она мужичка и т. д., и, наконец, письмо некоего Риццони, почтенного наставника юношества, который, сознаваясь, что по просьбе Мясникова подговаривал Шишкина уйти от Беляевой и для этого писал ему эти записки про бабушку, жалуется, что Мясников, по уходе Шишкина от Беляевой, не исполнил своего обещания «особенно поблагодарить» его. Эти письма характеризуют ту недостойную игру, жертвой которой был мальчик, едва вступивший в отроческие годы. Для нас все эти письма с наглядностью объясняют, почему в 1865 и даже в 1866 годах Беляева очень дурно отзывалась о Мясниковых, почему она считала возможным говорить, что они ее обманули, ограбили, что они воспользовались ее доверием и ее «оплели». Эти слова ее повторял повсюду ее поверенный Чевакинский, который в 1865 году писал Ижболдину жалобу на Мясниковых в Комиссию прошений и, предлагая свои услуги для их преследования, просил только у Ижболдина записи о том, что тот не станет преследовать Беляеву, а в 1868 году, после того как Беляева примирилась с Мясниковыми, сделался их ходатаем и просил Герасимова не показывать у следователя то, что он от него, Чевакинского, слышал про завещание. Участие Чевакинского в попытках сделок с Ижболдиным для возбуждения дела о подлоге завещания — не подлежит сомнению. Он научал, собирал материалы, ободрял, подстрекал робкого сарапульского мещанина, он предлагал свое бескорыстное руководство, но желал, однако, всегда оставаться в тени, в стороне, держа у себя в руках лишь пружинки действий Ижболдина. На это ясно указывают показания Герасимова и Шимановского. Но он был поверенным Беляевой, и без ее согласия в таком рискованном — и для него далеко не безразличном деле — действовать не мог. Поэтому в его умелых руках Беляева косвенным образом являлась обвинительницею Мясниковых, но обвинительницею осторожною, у которой всегда было приготовлено, на всякий случай, отступление. Ко времени ссоры Беляевой с Мясниковыми относится желание ее, даже не жалея себя, под влиянием гнева и оскорблений, раскрыть все по этому делу, на что указывают письма ее к Мясниковым, найденные в ее бумагах, где она грозит открыть все «со дня смерти ее мужа» и представить это на суд государя. Натянутые и враждебные отношения продолжались между ними до 1868 года. Но в этом году состоялось, при посредстве денежных обязательств, примирение Беляевой с Мясниковыми, а вслед за тем возникло следствие. Общая опасность тесно соединила Беляеву с Мясниковыми, и вчерашние враги стали сегодняшними друзьями.
Таким образом, господа присяжные, обвинение мое окончено. Я старался, не увлекаясь, спокойно и сжато изложить пред вами существенные обстоятельства этого сложного дела и те данные, которые почерпнуты мною из письменных документов. Если я упустил что-либо, то дополнит это ваша память, в которой отпечатлелись, без сомнения, все черты, все оттенки этого дела. Мне остается распределить ответственность между подсудимыми.
Я обвиняю Александра Мясникова в том, что он задумал составить подложное завещание от имени Беляева и привел это намерение в исполнение. Ни в общественном его положении, ни в его богатстве, ни в его образовании не нахожу я никаких обстоятельств, по которым можно бы говорить о снисходительном отношении к его поступку: он виновен — и только виновен. Обращаясь к Ивану Мясникову, я по совести должен заявить, что в деле нет указаний на его непосредственное участие в преступлении. Это не значит, однако, чтобы он не участвовал в нем косвенно. Нет сомнения, что Александр Мясников не мог бы решиться составить подложное завещание, не имея на то предварительного, быть может, молчаливого согласия со стороны брата, он не мог бы действовать с сохранной распиской, не зная, что скажет на это брат, он не мог составить завещания, не быв наперед уверен в том, что брат его беспрекословно примет завещанное имущество, что при этом между ними не выйдет недоразумений. Ему надлежало быть уверенным, что Иван Мясников будет смотреть сквозь пальцы в то время, когда он станет действовать. Иван Мясников знал хорошо, какое преступление подготовляется, и не остановил брата, не предупредил своим влиянием содеяние преступления, не напугал своими угрозами. Лица, которые так действуют, по закону считаются менее виновными, чем те, которые совершили преступление непосредственно, они считаются попустителями преступления, но виновность их имеет значение уже потому, что очень часто преступления не совершились бы, если бы люди честные и могущие иметь влияние приходили на помощь колеблющимся и удерживали их на опасном пути, а не смотрели, сложа руки, на то, как подготовляется нечистое и злое дело. Поэтому я обвиняю Ивана Мясникова в попустительстве. Караганова я обвиняю в том, что он, после подготовительных занятий, подписал бумагу чужим именем, зная, что это делается для духовного завещания. Вместе с тем, не могу не заметить, что Караганов был орудием в руках других, умственно и материально более, чем он, сильных лиц, что он находился под давлением своей привязанности к хозяевам и что жизнь его разбита, навсегда и непоправимо. Я прошу вас поэтому признать его заслуживающим полного снисхождения; равным образом, думаю я, что не будет несправедливым признать заслуживающим снисхождения и Ивана Мясникова. Взглянув на него, близкого к гробу и разбитого параличом, вы, господа присяжные, поймете, под влиянием какого чувства я указываю вам на возможность этого признания. Излишне говорить вам, что приговор ваш будет иметь большое значение. Дело это тянется четырнадцать лет и возбудило целую массу толков. Общественное мнение клонилось по отношению к нему то в одну, то в другую сторону, и судом общественного мнения дело это было несколько раз, и самым противоположным образом, разрешаемо. Мясниковых признавали то закоренелыми преступниками, то жертвами судебного ослепления. Но суд общественного мнения не есть суд правильный, не есть суд, свободный от увлечений; общественное мнение бывает часто слепо, оно увлекается, бывает пристрастно и — или жестоко не по вине, или милостиво не по заслугам. Поэтому приговоры общественного мнения по этому делу не могут и не должны иметь значения для вас. Есть другой, высший суд — суд общественной совести. Это — ваш суд, господа присяжные.
Мы переносим теперь дело Мясниковых из суда общественного мнения на суд общественной совести, которая не позволит вам не признать виновности подсудимых, если они действительно виноваты, и не допустит вас уклониться от оправдания их, если вы найдете их невиновными. Произнеся ваш приговор, вы или снимете с них то ярмо подозрений и слухов, которое над ними тяготеет издавна, или скрепите его вашим спокойным и решительным словом. Если вы произнесете приговор обвинительный, если согласитесь с доводами обвинительной власти и проникнитесь ее убеждением, то из него будет видно, что перед судом по Судебным уставам нет богатых и бедных, нет сильных и слабых, а все равны, все одинаково ответственны. Вы докажете тогда, насколько справедливо можно применить к людям, которым приходится стоять перед вами, слова, что «несть эллин и иудей» *
ПО ДЕЛУ ОБ АКУШЕРЕ КОЛОСОВЕ И ДВОРЯНИНЕ ЯРОШЕВИЧЕ, ОБВИНЯЕМЫХ В УЧАСТИИ В ПОДДЕЛКЕ АКЦИЙ ТАМБОВСКО-К03Л0ВСК0Й ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ,
А ПОСЛЕДНИЙ, КРОМЕ ТОГО,
В ПРИГОТОВЛЕНИИ К ОТРАВЛЕНИЮ *
Господа судьи, господа присяжные заседатели! Вам предстоит произнести приговор по делу весьма сложному и во многих отношениях весьма интересному. Оно интересно по свойству преступления, по обстановке, при которой оно совершено, и по личностям самих подсудимых. Вам, господа присяжные заседатели, в течение вашей довольно продолжительной сессии приходилось встречаться преимущественно с подсудимыми обыкновенного типа. По большей части это были обвиняемые в обыденных преступлениях, преимущественно в краже. Бедность, неразвитость, отсутствие безвредных развлечений и иногда крайне печальная нравственная и бытовая обстановка являлись причинами, привлекавшими их на скамью подсудимых. Совершив преступление, нарушив закон, они заслуживали по большей части наказания, но тем не менее нельзя не пожалеть, что они были поставлены судьбою в положение, которое благоприятствовало совершению преступления. Но ничего подобного в настоящем деле мы не видим. Перед нами другие подсудимые. Перед нами люди, которые, во всяком случае, имеют некоторую претензию считаться лицами развитыми, которые имеют средства к существованию довольно определенные, а один из них — даже сравнительно весьма большие. Эти лица могли бы совершенно иначе сложить свою жизнь, чем они ее сложили, могли бы отдать ее такой деятельности, которая не привлекает в конце концов на скамью подсудимых. Я думаю, что напряженное внимание, с которым вы относились к судебному следствию, избавляет меня от необходимости указывать вам на многие мелочные подробности дела. Поэтому я буду касаться только выдающихся его сторон, будучи убежден, что остальное дополнят ваша память и совесть. Вы точно так же не упустите из виду и того, что дело это приподнимает кусочек завесы над деяниями, совершаемыми во мраке и редко всплывающими на свет божий, над действиями, которые совершенно напрасно старается приурочить один из подсудимых к целям общего блага и спокойствия. Вы вглядитесь в эти деяния пытливым взором и в приговоре вашем оцените их нравственное достоинство. Я начну с истории возникновения настоящего дела. В конце ноября или начале декабря 1871 года полиции дано было знать акушером Василием Петровичем Колосовым, что его приготовляются отравить, причем он просил принять против этого меры. Еще прежде того он являлся к начальнику секретного отделения генералу Колышкину и заявлял ему о каком-то обнаруженном им в Петербурге политическом преступлении. Он пришел к нему взволнованный, крайне раздраженный, бессвязно говорил, что его хотели побить, что положение его очень неприятное, что существует политическое преступление и проч. Чрез несколько времени он заявил, что существует уже не политическое преступление, но что его хотят отравить, как человека, знающего о другом общем преступлении… По его указанию был установлен надзор за некоторыми лицами, и, действительно, в конце декабря было обнаружено такое обстоятельство, которое ясно указывало на созревшую мысль убийства посредством отравления. Это было письмо Никитина, которое вчера' вам было прочитано. В нем говорилось о прохладительных средствах, о прописании ижицы и т. д. Когда затем, в январе 1872 года, Колосов и Ярошевич поехали за границу, они были задержаны в Динабурге и у одного из них найден яд. Ярошевич был привезен в Петербург, и дело передано судебной власти. Затем был произведен обыск у Никитина, причем найдены 253 акции Тамбовско-Козловской железной дороги, измятые и перегнутые, согласно предварительным указаниям Колосова.
Таково было первоначальное положение дела в половине января. Распределение ролей было следующее: с одной стороны, явился Никитин, который с ужасом заявлял, что он жертва какой-то интриги, ему непонятной, но, по его выражению, «адской», и объяснял, что акции получены от Колосова, о чем была, сделана и надпись на бумаге, в которую они были завернуты; с другой стороны, был Ярошевич, который ни в чем не сознавался и упорно ото всего отпирался, ведя свою борьбу с замечательным умением и выдержкою. Наконец, ждал защиты человек, потерпевший от преступления, на жизнь которого самым коварным образом покушались и который был едва-едва спасен. Эта жертва преступного замысла — был Колосов. В таком положении дело стояло почти месяц. В нем, в сущности, был установлен только один факт, что акции поддельные. Почему они признавались поддельными — повторять излишне. Вы слышали здесь третьего дня показания полковника Жеванова и видели как самые акции, так и фотографии с инструментов и машин, посредством которых они приготовлялись. Такое положение дела не могло, однако, продолжаться долго. Необходим был какой-нибудь случай, который заставил бы задержанных сделаться более откровенными и каждого поставил бы на принадлежащее ему по праву и по заслугам место. Этот случай явился на помощь правосудию. Он выразился в письмах, явившихся сразу с трех сторон. Господину Колышкину было написано четыре письма Феликсом Ярошевичем из-за границы, отрывки из них были вам прочтены. В то же время у Никитина было взято, при внезапном обыске в тюрьме, написанное на клочках бумаги письмо к жене, и, наконец, одновременно с этим прокурор окружного суда получил письмо от Ольги Ивановой с приложением письма на имя Александра Ярошевича. В письмах Феликса Ярошевича он сознавался, что подделывал акции, просил только снисхождения для своего семейства и указывал на участие в этом деле Колосова. Затем в письме, написанном Никитиным, которое, по нашему мнению, представляет непрерывный стон отчаяния, стыда и гнева на сознанное бессилие, он указывает неоднократными намеками на то, что Колосов должен быть привлечен к делу, в которое втянул других. Но самое решительное влияние на дальнейший ход следствия произвело письмо Ольги Ивановой. В этом письме она упрекала
Ярошевича за то, что он в тайно переданной записке уговаривал ее дать ложное показание. Она отказывается исполнить его просьбу, она негодует, прерывает с ним всякие сношения и спешит поделиться своим негодованием с прокурором. Когда это письмо было предъявлено Ярошевичу, Он заявил, что во всем желает сознаться. Очевидно, что оно поразило его глубоко и неотразимо. Сознание последовало через два дня после этого. Он подробно рассказал обстоятельства дела и оговорил Колосова. Тогда прокурорский надзор привлек к делу и «жертву преступления», и Колосов из потерпевшего обратился в обвиняемого. Таким образом, роли изменились и явилось трое обвиняемых. Из этих трех лиц одно в настоящее время находится в предсмертном состоянии. Это — Никитин. Жизнь его, богатая треволнениями, угасает, и он скоро предстанет пред другого судию… Но двое других находятся теперь пред нами, и вам, господа присяжные, предстоит решить, какую роль играл каждый из них в деле и преимущественно какую играл Колосов, так как Ярошевич во многом довольно откровенно сознался. Вам предстоит решить, что за личность Колосов: есть ли это действительно горячий патриот, неуклонно шедший по пути к славе, человек, который старался оградить Россию от опасности и защищал русское государство, как он выразился, «от шатких» людей, человек чрезвычайно добрый и благотворительный, вытаскивающий за свой счет и страх из грязи людей и имеющий значительные общественные и служебные связи, или это простой, обыкновенный смертный, очень желчный, весьма недобросовестный, который навязывался со своими услугами по соглядатайству и которого из простой вежливости не выталкивали вон, неосторожно дозволяя ему думать, что он оказывает бескорыстные услуги, под покровом которых он обделывал собственные нечистые дела. Обвинение полагает, что он человек второго рода, а не первого. Это я и постараюсь доказать, а вы решите окончательно.
Подсудимые обвиняются в подделке акций. Подделка акций есть преступление весьма сложное, она не может быть совершена одним лицом, для нее необходимо участие нескольких лиц, необходима взаимная помощь, взаимная поддержка, проверка и контроль. Затем, такое преступление не может совершиться в узких пределах одного места: необходимо развозить, сбывать поддельные бумаги, что-бы получить от них барыши. Поэтому участвующие в преступлении лица могут быть раскиданы на большом пространстве, между ними в этом случае должно быть распределение работы по общему согласию,' должна быть переписка, должны оказаться связанные между собою следы их действий. Наконец, люди, которые решаются такое преступление, — люди опытные и знающие жизнь; у них все заранее бывает предусмотрено и, главным образом, придумано — на случай неудачи — более или менее ' правдоподобное объяснение своих действий; чтобы соединиться на такое преступление, люди не могут прийти без своего рода «аттестата зрелости» прямо с улицы: это не то, что украсть со взломом. Наконец, для организации такого союза нужно иметь известную, удобную бытовую обстановку. Если при исследовании такого преступления мы находим, что бытовая обстановка обвиняемых такова, что им было удобно его совершить; если подделка несомненна, и мы находим между заподозренными следы таинственной корреспонденции и остатки деловых сношений; если объяснения участников неудовлетворительны и противоречивы, то есть основание говорить, что эти люди виновны. Я полагаю, что все эти данные в настоящем деле существуют.
Прежде всего начну с личностей, которые принимали участие в этой подделке. Вы знаете, что в 1867 году в Петербурге разбиралось дело письмоносцев. Это было воровство, организованное в широких размерах, к которому было приобщено много лиц, в центре коих стоял Феликс Ярошевич. Это человек бывалый; он, как вы слышали, был управляющим в нескольких имениях, в Петербурге устраивал общество земельного удобрения, занимался разными аферами, был частным ходатаем по делам и, наконец, пастырем весьма ловких воров и весьма плохих письмоносцев. Будучи осужден по делу письмоносцев и содержась под стражею, он бежал и очутился за границею. Мы имеем целый ряд его писем и вообще разные указания для характеристики его личности. Письма его, вам прочитанные, указывают на то, что у него весьма наблюдательный, живой и, вместе с тем, тонкий ум. Вместе с тем — это человек холодный и черствый, потому что только такой человек способен хладнокровно и язвительно подшучивать над будущею судьбою «милого друга» и «больного», которого он собирается отправить на тот свет, «прописав ему ижицу»; только такой человек может сознательно и систематически втянуть двоих юношей, своих сыновей, в опасное и преступное дело. Очутившись в Константинополе после бегства, без знакомых и без определенных средств к существованию, он не упал духом; из писем его видно, что уже там он начинает различные предприятия и уже тогда задумывает он что-то, тщательно маскируя свои замыслы. Он пишет в первом письме из-за границы, что очень желает служить России, хотя такая услуга ему кажется мечтою, «Как могу я, — восклицает он, — оказать услугу такому громадному, могущественному государству!?» Вы знаете, господа присяжные заседатели, во что выродилось это желание оказать услугу нашему «громадному и могущественному» отечеству. Вообще, Феликс не разборчив на средства. Узнав, что Олесь, сын его, арестован, он предлагает взамен его помилования устроить переплетную и типографию для своих соотечественников поляков-эмигрантов и ручается, что будет их выслеживать с знанием дела до тонкости и, пользуясь своим положением, выдавать их тайны, их замыслы, а при случае — и их самих. Он никогда не сидит сложа руки и постоянно занимается за границею составлением проектов особого устройства пушек, колодцев и разных горнозаводских машин. Все это указывает на человека энергического, духом не падающего, деятельного. Таков отец подсудимого Ярошевича. Этот человек оставил в Петербурге семейство, состоящее из малолетнего в то время сына Болеслава, сына Александра, дочери и жены. Он оставил им небольшое состояние. Это не подлежит сомнению и, помимо сознания А. Ярошевича, доказывается и тем, что ни в одном из писем Феликса нет указания на то, чтобы он беспокоился о том, чем существует его семья, нет указания на то, чтобы он горевал, что оставил семью без куска хлеба, нет вопроса — чем живет покинутое семейство? Он стоял в центре весьма большого, правильно организованного предприятия письмоносцев. Плоды этого преступления, вместе с остатками прежних средств, и составили капитал семьи Ярошевичей. Средства эти расходовались чрезвычайно осторожно и скупо. Конечно, иначе было нельзя поступать, так как главный их приобретатель, кормилец семьи, был за границей; он первое время ничего не зарабатывал, а еще самого его необходимо было содержать. Вот чем объясняется та скудная обстановка, в которой, по-видимому, жило семейство Ярошевича. Александр Ярошевич познакомился с Колосовым в то время, когда, после бегства отца за границу, семья осталась хоть с средствами, но не столь большими, чтобы не иметь прямо расчета не платить по векселям отца, чтобы не желать выйти без убытка из разных исковых неприятностей. Жена Ярошевича, не знающая по-русски, часто бывала в затруднительном положении, и подрастающие дети оставались без руководителя. Очевидно, семья нуждалась в друге, в руководителе, в мужчине, и он действительно явился в лице Василия Петровича Колосова. Мы знаем нечто из прошлой жизни этого человека.
Он кончил курс в Московском университете, был уездным врачом в Валдае, потом в Крестцах. Врачом он был недолго, так как на него пало обвинение в подлоге и он был приговорен уголовною палатою и просидел четыре года в крестецком остроге, до рассмотрения дела Сенатом, который оставил его «в подозрении». Он, вероятно, не ладил со своими сослуживцами, потому что обвинялся еще и в составлении ложного доноса на валдайского исправника, которого он называл делателем фальшивых ассигнаций. Вырвавшись из Крестцов, он приехал в Петербург. Здесь он начинает понемногу заниматься акушерством и знакомится с семейством Ярошевичей, скоро делается другом их дома, вытягивает их из грязи… В чем, однако, состояло это вытаскиванье, Колосов не объяснил нам. По-видимому, оно заключалось в том, что он приобщил к своим средствам капитал Ярошевичей и явился руководителем Олеся в его первых шагах на житейском поприще. Он сделался другом Олеся в его первые юношеские и даже отроческие годы, когда все впечатления особенно живы и остаются навсегда в душе. Мы знаем, как Колосов воспользовался своим положением и какое развитие дал своему питомцу. Мы здесь слышали весьма характеристическое заявление самого Олеся о том, что впервые он был «представлен» в публичный дом Колосовым и что он же приурочил его к занятиям по пенсионным книжкам и по кассе ссуд, а какое это было занятие — понятно. Достаточно лишь указать на то, что, по показанию Колышкина, секретному отделению специально было поручено следить за лицами, выдававшими ссуды под пенсионные книжки, так что по этому поводу был привлекаем к спросу и Ярсшевич. Очевидно, что такое занятие — занятие не чистое, а темное и по своим приемам предосудительное. Когда операция по ссудам под пенсионные книжки оказалась мало доходною, была устроена гласная касса ссуд. Это было в 1868 году. Вы помните, господа присяжные заседатели, то время, когда у нас в Петербурге особенно много расплодилось подобных гласных и негласных касс. Почти на всех главных улицах, на углах больших домов, как хищные птицы, уселись вывески «Гласная касса ссуд». Как мягко действовали подсудимые в своей гласной кассе ссуд, как брали они вперед по 10 процентов в месяц с процентами на проценты, мы знаем из показания Ярошевича. Правда, Колосов утверждает, что это была не ростовщическая контора, а напротив — благотворительное учреждение, нечто вроде парижского Mont de Piete[7], которым он хотел благодетельствовать бедному люду. Но так красиво и громко только ему угодно называть свое учреждение, а в деле есть печатные объявления об открытии самой обыкновенной «гласной кассы ссуд» с капиталом в 5 тыс. руб. Насколько в действительности благодетельствовал Колосов окружающему его бедному люду, можно себе представить. Известны и его любовь к человечеству, и его щедрость. Недаром же он был обвинен в Новгороде в неподании медицинской помощи задавленному ребенку. И, конечно, явное указание на его щедрость содержится в том, что он записывает в дневник «на память» о всяком несъеденном любимою девушкою куске, прибавляя: «а деньги заплачены», и подбирает сослуживший и разорванный купон, сравнивая разорвавшую его — с содержанкою. В благотворительных учреждениях Колосова прошли первые годы юности Ярошевича. Здесь он привык видеть бедность лицом к лицу и привык сочувствовать этой бедности посредством выдачи ссуд за большие проценты. Затем, после ряда операций по гласной кассе ссуд, совершилась первая поездка Ярошевича, вместе с Колосовым, за границу. Они отправились 2 мая 1868 г., и путешествие их продолжалось месяц, причем они пробыли в Брюсселе, по показанию Ярошевича, двадцать, а по показанию Колосова, — пятнадцать дней. Колосов говорил, что он ездил изучать Mont de Piete; до этого он заявлял, что поехал изучать тюрьмы, и, наконец, теперь он объясняет, что ездил вообще поразвлечься. Я полагаю, что ни одно из этих объяснений неудовлетворительно. Первое потому, что такие учреждения существуют и в России, и его собственное Mont de Piete уже действовало более года с успехом, достигая благотворительных для своего учредителя результатов. Что касается до посещения тюрем, то я думаю, что человек, который просидел в тюрьме 4 года, едва ли возымеет охоту посещать другие тюрьмы, особенно такие, в которых ему, вероятно, сидеть не придется. Наконец, относительно «вообще развлечения» вы знаете, что Колосов выезжал за границу первый раз, а известно, как большинство русских людей ездит за границу развлекаться: их путь лежит прежде всего на Париж. Между тем, Колосов отправляется сначала в Брюссель, который в стороне от прямой линии железной дороги на Париж, и живет в этом городе, в этой бледной и скучной копии Парижа, две, три недели. Ярошевич говорит, что Колосов хотел видеться в Брюсселе с его отцом, что в то время между ними завязались первые переговоры о будущем «деле». Хотя Колосов отрицает всякое знакомство с Ф. Ярошевичем, но мы знаем, что они были знакомы, да и можно ли предположить, чтобы, при близости Олеся к Колосову, последний хоть раз не зашел к отцу своего друга, чтобы он не видался и не беседовал с этим хитрым и предприимчивым стариком. С пребывания их в Брюсселе начинаются первые указания на предприятие подделки акций. В этом отношении у нас пред глазами оговор А. Ярошевича и документы, которые были прочитаны. Но оговору подсудимых верить, господа присяжные заседатели, не всегда следует, потому что это оружие обоюдоострое, и притом оговор очень часто является под влиянием различных соображений, совершенно чуждых истине и делу правосудия. Ввиду этого и к настоящему оговору следует относиться очень осторожно. Но когда, кроме такого оговора, вне его, существует ряд обстоятельств, его подтверждающих, тогда можно поверить и ему. Кроме оговора, у нас есть письма участников дела, откровенные, искренние во всем, что касается подделки, так как они не предназначались для постороннего взора, и в конце одного из них есть даже внушительная приписка, что «камин есть лучшее хранилище писем». Это письма
Никитина к Феликсу Ярошевичу и наоборот. В одном из писем Ф. Ярошевича, присланном уже после арестования Никитина, между прочим, есть такие выражения: «Вы думаете, что Колосов не станет мстить. Нет, он не таковский; он станет мстить, но сначала выберет из предприятия все то, что ему следует на его долю, а затем отомстит. Он не настолько глуп, чтобы этого не сделать, и притом он зол». В одном из писем Никитина говорится: «Вы скажите доктору (Колосову), что при первом известии о ссоре вы, боясь, что нагрянет дядя Том, тотчас же уничтожили «товар». Но это, мол, ничего. Вы, мол, ступайте в Париж, погуляйте там в Мабилях и пр., а через две недели будет все готово. Главное, что слухи о ссоре вас напугали и товар потому был уничтожен. Покажите ему полное доверие». Из этого письма ясно, что и Никитин и Ф. Ярошевич нисколько не сомневались, что Колосов знал о товаре и что судьба товара его интересовала. Иначе какое основание было бы Ярошевичу утверждать Колосову, что при первом известии о ссоре с ним сына он уничтожил акции. Если Колосов был чужд делу акций, то какие опасные последствия могла влечь для Феликса ссора сына с Колосовым? Ну поссорились, поругались, даже подрались,— что же из этого? Неприятный скандал — и только. Где же роковая опасность? Рассмотрим объяснения самого Колосова о том, каким образом он узнал о подделке акций. Колосов говорит, что когда он поссорился с Никитиным и Олесем и они, обругав его, чуть не побили и, на приглашение выкушать чайку, удалились с бранью, тогда он пошел к Никитину, чтобы разъяснить обстоятельства этой ссоры. Тут, по словам Колосова, Никитин объяснил ему, что его наговор на Ярошевича ставит его в опасное положение, что полиция может следить за ним, репутация его, Ярошевича, испортится и тогда откроется их предприятие. Какое? Подделка акций. Поэтому Никитин, только что собиравшийся бить Колосова, предложил ему посмотреть эти акции и просил не оставить их своим покровительством в этом деле, обещая за это 100 тыс. руб. Разберите это объяснение и вы увидите, что оно сшито белыми нитками и не заслуживает никакого уважения. Во-первых, кто сообщил об этих акциях? Никитин? Но наговоры Колосова касались только Олеся. Причем же тут был Никитин и зачем ему было сознаваться вдруг, неожиданно, с первых слов? Ведь Никитин был человек, стоявший вне всяких подозрений, человек привилегированный по своему ученому положению и застрахованный своим званием ученого библиотекаря ученого учреждения от наговоров Колосова. Никитин, говорит Колосов, боялся его как агента тайной полиции, но зачем же он, в таком случае, бросается на него, на опасного агента, с палкой? Зачем он этому агенту, у которого, быть может, уже зреет донос на Никитина, вдруг, забыв всякую осторожность, раскрывает душу и кошелек, показывая на дне его 100 тыс. руб.? Зачем он, боясь указаний на неблагонадежность Ярошевича, самоотверженно дает богатый и обильный материал для доноса самого определенного и притом — для доноса на себя? Где тут смысл, где логика, где естественное чувство самосохранения? Вот лучшее доказательство неправдоподобности объяснений Колосова.
Первый вопрос, который возникает относительно участия Колосова в деле подделки акций, — мог ли он иметь побуждение участвовать в нем, было ли такое опасное предприятие ему удобно и заманчиво? Мы знаем, что он человек без всякой служебной карьеры; крестецкий острог и ложный донос на валдайского исправника многое ему испортили в этом отношении. Ему нужно поправиться. Но поправиться на служебном поприще едва ли можно, да если бы и занять какое-нибудь место, то — при всяком неудовольствии начальника — его новгородское прошлое ложилось бы тяжкою гирею на чашу весов служебного доверия и благоволения. Что же делать? Поправиться в другом отношении, сделаться капиталистом, крупным биржевым деятелем, занять в этом отношении видное место в обществе, где, по мнению Колосова, «все воруют», тем более, что, по его взгляду, богатство, само по себе, как бы то ни произошло на свет, должно внушать уважение к человеку. Итак, надо увеличить свои средства и обратить их из «средств» в «капитал». Притом известно, какими операциями он занимался в последнее время: ростовщическими ссудами, игрою на бирже и т. д. Это такая деятельность, которая не может не развивать алчности к деньгам и постоянно возрастающего желания приобрести побольше. Но игра на бирже бывает рискованна, а операции со ссудами слишком мелки; уж если рисковать, так на приобретение средств в широких размерах и сразу. Конечно, такое приобретение мог бы дать обширный спуск по номинальной или биржевой цене дешево стоящих в подделке бумаг. Надо только найти подходящих людей. В этом отношении интересно посмотреть, кем был окружен Колосов за границею. Около него находится Олесь, юноша решительный, но еще живущий чужим опытом, бесконечно преданный, верующий в Колосова, «как в бога»* и находящийся в полном его распоряжении. Потом существует за границей такой человек, который предприимчив, деятелен, энергичен, но тоскует без работы, находится совсем без практического, приносящего видимые плоды, дела, это — Феликс. Такая личная обстановка чрезвычайно удобна для подделки фальшивых бумаг. Можно воспользоваться этими лицами, их двусмысленным положением и родственною связью: одного можно сделать руководителем заграничной фабрики, а другого лицом, посредствующим между фабрикою и Россиею. Оба они в руках: старик у него в подчинении потому, что Колосов дает ему работу, что семья далеко и судьба ее всегда в руках Колосова; юноша еще в большем подчинении: он молод и доверчив, любит Колосова, воспитался в его школе и верит в него, как в бога. Притом Колосов именует себя агентом тайной полиции и этим всегда может пугать своих помощников, да и все их состояние доверчив во отдано в его руки, помещено в его операции. Подобные соображения, которые вытекают из их взаимной житейской обстановки, могли навести Колосова на мысль заняться подделкою акций. Феликс Ярошевич будет действовать в Брюсселе — работать, Олесь будет провозить, будет рисковать, а Колосов будет направлять их деятельность и получать хороший барыш. Поэтому мне думается, что обстановка этих лиц, письма Ярошевича и Никитина, неправдоподобность объяснений самого Колосова о том, каким образом сознались ему эти лица, — все это указывает на то, что оговор А. Ярошевича имеет в себе много правдоподобного. Если мы проверим показание Ярошевича и действия Колосова по документам, то найдем, кроме того, что оговор подтверждается целым рядом письменных данных, которые идут параллельно с действиями Колосова.
Зачем же в действительности Колосов ездил в Брюссель? Эта поездка, по моему мнению, объясняется тем, что, он хотя и был несколько знаком с Феликсом, но, ввиду предположенного дела, ему,, конечно, нужно было изучить поближе, что это за личность, присмотреться к нему, убедиться, можно ли ему доверить сложное дело и способен ли он во всех отношениях выполнить задуманное предприятие. Вот почему Колосов так долго оставался в Брюсселе. Когда Колосов и Ярошевич вернулись в июне в Петербург, у них еще существовали операции с кассою ссуд. По приезде они принимают меры, чтобы ликвидировать это дело, которое и было окончательно прекращено в 1870 году. Нужно было развязать себе руки для будущего и осмотреться вокруг. Мы знаем, что в это время они ездили к господину Дедевкину, маленькому помещику Новгородской губернии, который вчера не мог нам удовлетворительно объяснить, зачем именно являлись к нему эти «петербургские» господа. В первый раз они приезжали будто бы потому, что услыхали о смерти господина Дедевкина, а во второй раз явились без всякого повода, «по пути» проездом из г. Москвы в Крестцы, хотя Крестцы на сотню верст отстоят от прямой дороги в Петербург. Но известно, что они в это время в Москве вовсе не были. Господин Дедевкин не мог даже запомнить, в какое время дня они были, ночевали ли, кормили ли лошадей и т. д. Очевидно, что для самого господина Дедевкина это посещение представляется загадочным и странным. Ярошевич объяснил нам, что в имении Дедевкина они рассчитывали хранить акции. Присмотревшись вчера на допросе к хозяину имения, я полагаю, что Колосов весьма основательно нашел, что такое хранение едва ли будет удобно: не такого склада нужен для этого человек. Тогда-то явилась необходимость найти другое лицо, на ум и ловкость которого можно рассчитывать и которому можно, с облегченною душою, передать бремя хранения акций. Тогда-то на горизонте дела стал обрисовываться образ сдержанного и умного Никитина. Одновременно с этим приготовлялась вторая поездка Ярошевича за границу. Она состоялась 3 июля 1870 г., а 18 мая мы встречаемся с первым документом, имеющим непосредственное отношение к обвинению. Именно 18 мая, чрез международный банк и контору Брюгмана сделан перевод на имя Феликса Сивича (Ярошевича) 500 руб. Этому переводу соответствует под 18 мая, в книжке чеков Колосова, чек с оторванною нижнею частью на 500 руб. Олесь объясняет, что эти деньги были отправлены отцу по его требованию на первоначальное обзаведение. Это правдоподобнее слов Колосова, что деньги даны Олесю из его собственных средств.
Деньги посланы Феликсу в Брюссель. Если бы это были деньги Олеся, то зачем ему препровождать их, возясь с конторами, когда он сам чрез несколько дней едет за границу к отцу? Поэтому чек в 500 руб. и выдача этой суммы Брюгманом Сивичу связывают Колосова с Феликсом довольно прочно. Олесь вернулся в начале июля, а под 21 июля в книжке чеков Колосова значится 2146 руб. Ананьеву и в деле есть счет Ананьева Колосову, что он продал ему 21 июля 300 двадцатифранковых золотых монет за 2146 руб. В тот же день почтамт отправил Сивичу 300 таких монет. В книжке Ярошевича записано: «Отцу на открытие 6 тыс. франков — всего 2146 руб. — следует получить с Колосова половину— 1073 руб.» — и потом замечено: «24 ноября получено». Соответственно этому, по книге чеков Колосова номера 29 и 30 от 24 ноября, на сумму 1350 руб., выданы чеки «на покупки». Очевидно, что золото было куплено Колосовым на средства Ярошевича, бывшие на текущем счету Колосова, и при окончательном расчете он внес за эту «покупку» причитающуюся половину, вместе с другими мелочными выдачами, следовавшими по расчету Ярошевичу к 24 ноября. Таким образом, Феликс Сивич получил от сына и от Колосова сообща 6 тыс. франков в конце июля 1870 года. Олесь говорит, что отец его требовал эти деньги на открытие типографии. Единственное объяснение, которое может дать Колосов, это то, что он покупал эти деньги по поручению Олеся. Он старается постоянно выставить Олеся как своего приказчика, как человека, находящегося у него в услужении. В письме к матери его он говорит: «Ваш сын позволил себе не явиться, когда я приказал, и осмеливается говорить со мной неуважительно». Мог ли, однако, такой подчиненный, «вытащенный из грязи», поручать Колосову исполнять для себя то или другое, ходить по меняльным лавкам и т. п.? Это, с точки зрения самого Колосова, — немыслимо. Следовательно, деньги были куплены Колосовым потому, что в отсылке их он сам деятельно и сознательно участвовал. Эта посылка денег Феликсу соответствует, по словам Олеся, начатию действий типографии. Действительно, из бельгийского производства мы знаем, что типография открылась в сентябре 1870 года, а 19 ноября того же года мы имеем опять чек Колосова в 1000 руб. с отметкою в книге текущего счета «19 ноября, f000 руб. F.». В тот же день Сивичу от Ярошевича, чрез банкира Брюгмана, переведено 1000 руб. Колосов говорит, что не помнит, кто этот F., но потом он указывает на какого-то Фелинского, часто бывавшего у Скотницкой, прабабки Олеся. Но Коссиль-да Ярошевич и Стронская никогда не слыхали ни о каком Фелинском, да притом Скотницкая умерла в 1869 году, а чек выдан в конце 1870 года, старика же Ярошевича зовут, как нам известно, Феликс. Я считаю этого Фелинского личностью вымышленною, так же, как вымышлено Колосовым деятельное и энергическое участие в банковых операциях не знающей по-русски Коссильды и неграмотной «ясновидящей» Стронской, глубокую неразвитость которой вы, господа присяжные, конечно, уже оценили, посмотрев на нее здесь, на суде.
Таким образом, после второй поездки Олеся за границу в июне 1870 года между Колосовым и Феликсом существовали несомненные денежные сношения, совпадавшие с открытием типографии. Зачем же была предпринята эта поездка? Я объясняю ее себе тем, что Феликсу для работ нужен был верный и близкий помощник. Таким явился младший брат Олеся, Болеслав, работавший потом у отца и осужденный вместе с ним бельгийскими присяжными. Но нужны были отцу и образцы для работ. В это время весною
1870 года, временные свидетельства Тамбовско-Козловской железной дороги были заменены акциями. Посылать такую акцию по почте неудобно и подозрительно. Вот зачем нужно было поехать Олесю за границу, увозя с собою и брата Болеслава и подлинную акцию Тамбовско-Козловской дороги, которая так хорошо была потом воспроизведена его братом. Нет сомнения, что после получения 6 тыс. франков и открытия типографии деятельность Феликса и Болеслава увеличилась; оба они, отец и сын, были поглощены работой. Тогда-то явилась необходимость, чтобы кто-нибудь близкий заведовал их домом и хозяйством, давая им возможность всецело отдаваться работе. Феликс потребовал помощницу, которая и явилась к нему в лице Кошанской, которая давно была близка с семейством Ярошевичей, будучи притом их дальнею родственницей. Она отправилась в декабре 1870 года за границу, зная куда и по какой причине ее вызывают. Приговор брюссельского суда, осудивший и Кошанскую, указывает на это. На чей счет поехала Кошанская? В записной книжке Олеся есть подробный счет этой поездки, которая стоила 200 франков или 91 талер. Под этим расчетом содержится указание, что расход произведен в общий счет с Колосовым. Если можно, хотя и безуспешно, пытаться объяснить, что Колосов посылал деньги за границу Ф. Ярошевичу по просьбе сына, то как объяснить, что он послал на свой счет Кошанскую? Ему не было никакого дела, по его словам, до Ф. Ярошевича и он даже не знал его. А-в то же время он участвует в общих расходах на такой важный предмет, как отправка хозяйки для человека, который, должно быть, всецело предан серьезной работе и которому поэтому нужно иметь около себя верного и преданного человека и быть свободным от мелочных забот своего житья-бытья. Потом, в начале 1871 года состоялась вторая поездка А. Ярошевича вместе с Колосовым за границу. Эта поездка, очевидно, находится в связи с ролью, которую начало играть в этом доме семейство Никитина. Колосов признал неудобным иметь склад в имении Дедевкина; значит нужно было найти другое лицо в качестве хранителя. Конечно, нужно было искать его в близко окружающих семью Ярошевича и Колосова людях. Кто же был одинаково близок и к нему, и к Ярошевичам, с кем он чаще мог встречаться, кто мог принимать к сердцу их общие, неразрывные интересы? Колосов стал приглядываться к Никитину. Но прежде чем принять его в участники, нужно узнать поближе и поглубже, что он за человек. Для этого необходимо потеснее познакомиться с кем-нибудь из самых близких к нему людей. И вот является приглашение госпоже Никитиной ехать за границу, а так как ей одной ехать неловко, то приглашается сопутствовать Ольга Иванова. Едва ли нужно припоминать из судебного следствия те данные, которые указывают, что Никитина ехала на счет Колосова, а за Ольгу Иванову он взыскал потом с отуманенного любовью Олеся 750 руб. Он сам этого прямо не отрицает. Относительно цели этой поездки Колосов, по своему обыкновению, дает несколько различных объяснений. Цель ее была — поправление здоровья, прогулка с «развлечением» и, наконец, исполнение поручения «проследить русскую эмиграцию». Относительно поправления здоровья надо заметить, что трехмесячным скаканьем из города в город по железным дорогам здоровья не поправляют, а скорее расстраивают. Относительно развлечений, как мы слышали здесь, главнейшие воспоминания Колосова сводятся к расходам на обеды в «скверненьком трактирчике» и т. п.
Очевидно, что главную роль в его объяснениях играет поручение «проследить эмиграцию». Колосов старался и до сих пор старается придать себе характер лица, которому была поручена важная политическая миссия. Когда ему задавались вопросы о том, сам ли он предложил свои услуги или его просили, он отвечал уклончиво и неопределенно, говоря: «Я пришел, объявил, что еду за границу, мне поручили и т. д.». Господа присяжные, вы уже достаточно знакомы с личностью Колосова, и она, вероятно, на-гравировалась в вашей памяти навсегда. Я не буду подробно очерчивать ее пред вами; вы уже третий день, шаг за шагом, изучаете этого человека и вы, вероятно, согласитесь со мною, что он обладает большою практическою опытностью и некоторым житейским тактом, что в нем есть способность действовать по определенной системе, есть и находчивость. Но, господа, ловкость и сметливость еще не делают человека умелым и умным; мелкая хитрость и обыденный опыт составляют, по словам поэта, «ум глупцов». В Колосове нет того необходимого умственного развития, только обладая которым и можно бы состязаться с лицами, деятельность которых он хотел проследить и разоблачить. Вы слышали его отчет о том, как он смотрит на русских политических деятелей за границею. Он разделяет их на две категории: на людей неблагонадежных, или, как он любит выражаться, «шатких», и на мошенников. Все что совершают первые — суть политические преступления, а все что совершают вторые —«социальные». Я полагаю, что такая характеристика нашей эмиграции и вообще заграничных революционеров слишком поверхностна. Среди них, без сомнения, есть люди, обладающие, несмотря на свои крайние взгляды, умом и развитием и умеющие влиять на окружающих. Вспомните, кого он хотел, между прочим, «исследовать»? Маркса. Вероятно, некоторым из вас известно, что Маркс есть один из главных руководителей, один из самых видных вождей международного революционного союза, известного под именем «Интернационали», что он стоит во главе людей, которые стремятся к тому, чтобы радикально и самыми крайними средствами пересоздать не только государственный, но и общественный быт. Человек, который умел поставить себя во главе такого союза, — очевидно, человек, умеющий распознавать людей и, играя мыслями и страстями, влиять на других, человек образованный, с огромною волею и энергиею, который недаром занимает властительное положение в среде «шатких» людей. Этого-то человека отправился прослеживать… Колосов! Какие средства у него были для этого? Был ли он знаком с сочинениями Маркса, с его книгою о капитале? Знал ли языки? Нет. Скажут: у него были дамы. Но они знали только, и то, вероятно, с грехом пополам, на институтский лад, французский язык. Вообще, знаком ли он с современным положением революционной пропаганды? Нет. Он даже не умеет отличить мошенников от политических агитаторов, а преступления против чужой собственности считает «социальными». Его уменье обходиться с людьми? Но мы слышали от свидетелей, что его уменье состояло, главным образом, в том, что при малейшем проявлении самостоятельности он грозил, без всякого на то права, «петропавловскою крепостью». Но такая угроза применима к женщинам, вроде его спутниц, да к незнающим жизни отрокам и всего менее могла действовать на лиц, живущих в государствах, не выдающих политических преступников. Во всем его путешествии мы не встречаем, по части знакомства с политическими агитаторами, ничего, кроме кое-каких ссылок на Серебряникова и более или менее продолжительного знакомства с Шевелевым, которого он сам считает более социальным, чем политическим преступником. И в Петербург-то он возвращался, везя, по его словам, в портфеле «коммуну, которая хуже Парижской» и «план бегства из Сибири» — два документа, весьма сомнительного, даже по своему названию, происхождения. По всему этому я полагаю, что подделыватель акций напрасно присваивает себе какое-либо политическое поручение. Оно ему не по плечу. Я не думаю, чтобы такого человека, как Колосов, могло отправить какое-либо ведомство за границу с каким-либо поручением уже по тому одному, что всякий неумелый и не по разуму усердный агент своими промахами усиливает враждебную сторону, раскрывая перед нею всю свою игру и те сведения, которыми его, по необходимости, пришлось снабдить. С этой точки зрения, Колосов являлся бы деятелем бесполезным и даже вредным для дела, которому брался служить. Тем не менее, он был, по его словам, таким деятелем, он писал письма в Петербург, заявлял о своей деятельности за границею и даже обещал привезти и Нечаева *. Как же это объяснить? Полагаю, что объяснение просто. Хотя Колосов и обвиняется в том, что он «социальный» деятель, но он не имел никакого социального положения, а в каждом человеке более или менее гнездится честолюбие, и Колосову, без сомнения, хотелось вновь приобрести доверие, снова показаться полезным, по его мнению, человеком. Он желал «славы» — он сам это сказал вчера, тем более, что, по его недостойным предположениям, такая слава помогла бы ему освободиться от высказанного Сенатом «подозрения» по делу о подлоге завещания. Он желал явиться охранителем русского царства от шатких и преступных людей. Роль очень заманчивая и казавшаяся ему особенно выгодною. И вот, едучи за границу по собственным своим делам, он должен был поставить вопрос так: ему необходимо и во всяком случае полезно играть роль, которая оградила бы его от подозрений в действительной его деятельности; ему следует воспользоваться этою поездкою и для того, чтобы заручиться воображаемым покровительством и заступничеством по поводу своих будущих заслуг. С этой целью он является к начальствующим лицам, имена которых он, по его словам, позабыл, с предложением своих услуг. Можно себе представить положение этих лиц относительно Колосова. Деятельность, на которую предлагал себя Колосов, тяжелая; она требует навыка, такта, большой ловкости, особого склада ума и особых душевных свойств. Найти людей, совмещающих в себе все условия, необходимые для такой деятельности, довольно трудно, тем более, что подобная деятельность не всегда сопряжена и с личною безопасностью. Вспомните, господа, лукавый совет Феликса — послать «больного» в Лондон, «к друзьям», которые примут его «с распростертыми объятиями, зная о его дружбе с дядею Томом». Но вот является человек, который охотно и с особым удовольствием принимает на себя такую деятельность, который лезет, клянется, просит, навязывается с своими услугами. Что же тут делать? Во-первых, от него нужно отвязаться, а во-вторых, почему же и не воспользоваться его предложением? Это волонтер весьма неожиданный, он ни к чему не обязывает, а при своей бескорыстной деятельности может быть, пожалуй, и полезен — ему дозволяется корреспондировать. И вот начинается ряд его писем, остающихся без ответа. Но, корреспондируя и, конечно, играя, в глазах получателей писем роль вольнопрактикующего доносчика, он старается вместе с тем сделать факт своей односторонней корреспонденции известным своим спутницам и придать себе особую важность. Такая роль находилась в тесной связи с его предприятием. Очевидно, зачем он все это делал. Человек, который за границею играл роль спасителя отечества, который Феликсу и другим своим сообщникам мог всегда пригрозить своими сношениями с Петербургом, а в случае каких-нибудь недоразумений сказать: вы знаете, какая у меня миссия; если мне поручено уже Нечаева привезти в С.-Петербург, то переправить в надлежащие руки подложные акции мне ничего не будет стоить; я стою вне подозрений, потому что сам всех подозреваю, я не боюсь доносов, потому что таковые исходят от меня. Как он исполнял свою миссию, — говорить много нечего.
В Лондоне, этом международном очаге крайнего политического движения, он пробыл всего дней пять; он, очевидно, не имел даже никакого понятия о том, как распределяется эмиграция за границей. Он даже в Вене, столице строго монархической Австрии, с особым вниманием искал политических эмигрантов. В Вене он старается приурочить Ольгу Иванову к своей деятельности и предлагает ей содействовать ему в выслеживании эмиграции и в завлечении Нечаева — за бриллиантовые серьги… Иванова согласилась и, следовательно, уверовала в его миссию. Также, конечно, уверовала в нее и Никитина, которая тоже согласилась выслеживать «шатких людей». С подспорьем этих двух женщин Колосов явился в ореоле политического агента самой чистой воды. Он мог обещать, руководить, а при случае — и это главное — грозить, а вдали ему могла улыбаться какая-нибудь случайная удача относительно эмигрантов… Относительно пребывания Колосова в Брюсселе А. Ярошевич показал, что в эту поездку в Брюссель Колосов видел первые образцы акций, а по ним мог судить о достоинстве подделки. Действительно, во время этой поездки он провел около 10 дней в Брюсселе. Что он делал? Он говорит, что все время был с дамами. Но Ольга Иванова и Никитина говорят, что он почти ни одного дня не обедал вместе с ними, а куда-то постоянно отлучался и говорил, что ходит к Ярошевичу или к князю Орлову, русскому посланнику в Бельгии. Но нет сомнения, что к обязанностям наших дипломатических представителей за границею не относятся сношения с личностями, подобно Колосову принявшими на себя по личной охоте задачу «прослеживать эмиграцию» и не имеющими никакого секретного поручения официального характера. Если и допустить, что он мог быть у князя Орлова, то разве только один раз, чтобы заявить ему о своем желании следить за эмигрантами и при этом, конечно, узнать, что посольству до него нет никакого дела. Итак, стало быть, Колосов бывал у Ярошевича, где он и обедал. Он сам соглашается, что раз «взял кусок» со стола, за которым сидели: Олесь, какой-то старик, которого он называл своим отцом, кинжалист Онтаржевский, вешатель Маевский и другие. Спутницам своим, как они показывали, он говорил, что между ним и Ярошевичем при этом произошла ссора. Вы знаете, по какому поводу она возникла. Ф. Ярошевич требовал половину или одну треть из барышей, а Колосов предлагал только 10%. Об этой ссоре показала даже Никитина, которая вообще была сдержана в своих словах. Предложение со стороны Колосова этих 10% объясняется тем, что в расчетные книжки А. Ярошевича с Колосовым у них постоянно вносилось 10% отцу с барышей по разным предприятиям, по кассе ссуд и т. п. Выдав деньги Колосову для общих оборотов, А. Ярошевич выговорил 10% в пользу своего отца. Колосову, очевидно, хотелось оставить этот обычай и в деле сбыта подделанных акций. Но Ф. Ярошевич — человек опытный; он хорошо знал цену своего труда и значение своего риска и не согласился на такое сравнительно ничтожное вознаграждение, и между ними произошла в Брюсселе ссора.
15 апреля Колосов с дамами уезжает из Брюсселя в Петербург, а Олесь остается в Брюсселе. Он говорит, что Колосов запрещал ему возвращаться в Петербург. Колосов старался показать, что все это время Олесь был его приказчиком, так как дела по кассе продолжались. Олесь жил в Брюсселе до половины мая, потом приехал в Петербург, а в июне опять уехал за границу, где и пробыл до октября. Известно также, что Колосов посылал ему в это время деньги: есть чеки, написанные на имя Ярошевича, и переводы денег на его же имя за границу. Колосов может сказать, что послал эти деньги из общих прибылей по кассе. Но за что же? Разве за то, что Олесь, ответственный и подчиненный приказчик, ничего не делает в это время. Таким образом, вопрос должен быть поставлен так: или Колосов действительно не позволял Ярошевичу возвращаться, или же почему-то допускал, чтобы этот приказчик, «осмеливающийся не. явиться, когда ему приказано, и позволяющий себе неуважительно с ним говорить», позволял себе жить за границею полгода, ничего не делая и, притом, не кончив счетов по кассе? Если мы проверим чеки, то окажется следующее: Колосов вместе с дамами приезжает после 15 апреля в Петербург, а 26 апреля является чек на имя Сивича, т. е. Феликса Ярошевича, — в 1 тыс. руб., записанный в книжке чеков Колосова. Осенью, 16 сентября, мы имеем другой перевод чрез Брюгмана в 1 тыс. франков на имя Феликса Сивича в Брюсселе. Наконец, последний чек относится к 27 сентября в 500 руб. на имя Сивича. Куда же посылались эти деньги, кому и на что? Колосов не может сказать, что они посылались по просьбе Олеся его отцу, потому что сам Олесь был в то время за границей и получал бы свои деньги прямо на свое имя. Поэтому нужно принять объяснение А. Ярошевича, что эти суммы переводились для дела по типографии. Мы знаем из его показания, что акции были готовы весною 1871 года и Колосов одобрил их. И действительно, их нельзя было не одобрить, потому что, как вы слышали, даже один из директоров Тамбовско-Козловской железной дороги, полковник Жеванов, находил, что их очень трудно отличить от настоящих. Акции нужно было доставить. Я полагаю, что Колосов не провозил акций, найденных впоследствии у Никитина, с собою; да этого и не нужно было. Я уже говорил, что распределение ролей было таково, что весь личный риск должен был выпадать на долю Олеся. Колосов мог взять одну акцию, чтобы показать ее здесь кому-нибудь из людей, в этом деле опытных. Когда она будет признана удовлетворительною, тогда можно послать деньги на дальнейшее напечатание (чек 26 апреля) и разрешить А. Ярошевичу прибыть с готовыми акциями в Петербург. Мы знаем, как А. Ярошевич перебрался за границу. Он и в этот раз, не имея паспорта, прошел чрез имение Госцимской, которое расположено на границе Пруссии и России и в котором есть пруд, находящийся на самой границе, так что там весьма удобный путь миновать таможню и пограничную стражу. Колосов сам говорил вам, что Олесь занимался, при их отъезде за границу, «шатким делом», отправляясь за границу «прямым путем». Наконец, в деле есть письмо от самой госпожи Госцимской Олесю весьма таинственного содержания; в нем говорится о каком-то подарке в 300 руб., который поровну следует как ей, так и сыну ее Владиславу. Итак, указание на подарок в 300 руб. госпоже Гоецимской со стороны Олеся, несмотря на то, что она в ссоре с его отцом, и возможность перехода через границу в ее имении без паспорта, неоднократно осуществляемая Олесем, которого, конечно, не могла бы выдать родная тетка полиции, дают полное основание предполагать, что, переходя в мае границу без паспорта, он перешел ее с акциями. Я не могу поэтому верить рассказам о зеленом портфеле Колосова и придавать серьезное значение улики против него в провозе акций, его бледности и тому, что имел в руках какой-то портфель. Акции провез или, вернее, пронес Ярошевич в конце мая.
Потом является вопрос: куда девать их, где хранить? Судя по заявлениям Колосова, он хочет доказать, что провоз и хранение акций был личным делом Феликса и Александра Ярошевичей. Но между отцом и сыном лежала целая пропасть лет и опытности: Ф. Ярошевич человек энергический, опытный, бывалый; сын его, Александр, человек пассивный, который только под влиянием сильной страсти или увлечения дерзает на самостоятельный поступок. Мог ли решиться отец облагодетельствовать «могущественную» Россию своими акциями при содействии своего сына, еще юноши, мальчика без определенного положения? Конечно, нет. Ф. Ярошевич должен был обратиться к лицу более опытному, более в летах и стоящему притом близко к его семье. Кто же это лицо, как не Колосов? Он руководил уже несколько лет Олесем, он знаком с разными Ананьевыми, с денежными оборотами и с биржею, где, если бы туда пришел «уволенный гимназист III класса» и предложил купить акции на большую сумму, его сейчас заметили бы, заподозрили, задержали… Но, с своей стороны, Колосов был осторожен. Чтобы связать себя с этим делом, ему необходимо было распределить роли наиболее для себя выгодно: один будет изготовлять, другой переносить, третий хранить, а четвертый распространять. Таким образом, занятия каждого будут совершенно отдельны. Все будут связаны между собою, и каждый, в случае беды, может ответствовать только сам за себя. Тот, кто продаст поддельные акции, зная о том, что они поддельные, но не умея указать продавцов (мало ли их?), будет судим только за мошенничество и, т. д. Я говорил уже, что Колосов остановился на Никитине как на хранителе. Никитина, по весьма понятному чувству, говорила здесь, что она не рассказывала за границею о муже Колосову. Но вы слышали от Колосова, что он знает такие вещи о Никитине, которые он мог узнать не иначе, как только от человека самого ему близкого. Наконец, из письма самого Никитина, которое было взято при обыске, видно, что если бы он узнал об откровенной исповеди своей жены Колосову, то К. и Я. (т. е. Колосов и Ярошевич) никогда уже не узнали бы о его существовании. Очевидно, что госпожа Никитина рассказала Колосову о всех подробностях своей семейной жизни. Она могла также при этом рассказать, что муж, будучи библиотекарем Медико-хирургической академии, ведет жизнь очень скромную, человек очень сдержанный, знающий себе цену, умеющий сообразовать свои поступки с окружающею его обстановкою, и вместе с тем человек, который не прочь нажиться сразу и крупно, но, однако, осторожно. Такой именно человек и нужен был Колосову. Как они сошлись и на чем — это неизвестно. Но выбор был сделан и выбор хороший, потому что избранный отдался делу серьезно и понимая его возможные последствия. Я могу это утверждать, потому что недаром Никитин, самый развитой из участников этого дела, в письме своем говорит, обозрев поле предстоящей битвы с правосудием: «Я не могу жить, я умру, я должен умереть. Я не могу быть оправдан». Он понимает, что зашел так далеко, что ему выхода нет. Теперь посмотрите на обстановку Никитина. Он библиотекарь Медико-хирургической академии. Он целый день сидит в библиотеке среди ученых книг и фолиантов, погруженный в созерцание каталога. Кто заподозрит его в хранении акций, его, этого тихого, обязательного, ученого и скромного человека, украшенного орденом (что, с точки зрения Колосова, должно было внушать к нему особое доверие) доктора. Станет ли он заниматься сбытом фальшивых акций? Это вовсе не его дело. Сверх того и его официальное положение внушает полное к нему доверие; оно гарантирует его от подозрений; потом он сам имеет до 20 тыс. руб. капитала, получает хорошее жалованье, казенную квартиру. Станет ли он рисковать, пойдет ли он на преступное дело? А библиотека такое славное место для хранения! В ее 18 тыс. томов многое можно спрятать… Привезенные Ярошевичем акции были представлены Колосову, а потом оказались в квартире Никитина. Как они туда попали? Мы знаем, что акции не были у Никитина до отъезда его жены в Москву. Она уехала в июне, а по возвращении ее в сентябре акции уже находились в ее комоде. Следовательно, они были переданы в период от июня до сентября. Есть основание предположить, что они переданы в половине августа. На это есть некоторые указания в списке Колосова. Конечно, можно предположить, что они могли попасть к Никитину и раньше, но, во всяком случае, несомненно то, что они были принесены ему Колосовым. Об этом говорят все свидетели, близкие к Никитину в библиотеке, и сам Никитин нисколько не скрывал, что получил акции от Колосова. В этом был его прямой и дальновидный расчет. Хранить акции в тайне неудобно; семейные могут узнать, пойдут разговоры. Оно даже и небезопасно. Лучше с самого начала не скрывать от близких получения акций, рассказывая, что Колосов принес акции в залог, взял под них деньги; можно даже сделать подпись произвольную, вымышленную, что акции приняты в залог от Колосова тогда-то. Потом, если что, несмотря на изящную и прекрасную подделку, откроется, то всегда можно воскликнуть: «Боже мой, какое несчастие! Бедный Василий Петрович был нагло обманут кем-нибудь из «шатких людей»: ему, под видом настоящих акций, продали поддельные, и он их отдал в залог! Ну, да мы свои люди, сочтемся безобидно, а правительство, вероятно, раскроет обманщиков» и т. д. Для этого надо говорить жене: «Смотри, не отдавай Колосову акций: за них отданы деньги», нужно позвать помощника библиотекаря Браша и сказать ему, похлопывая по акциям: «Вот, батюшка, капитал-то, 12 тыс. за него Колосову отдано». Одно только забыл Никитин, что все свидетели видели у него Колосова и слышали об акциях в июне и июле, а подпись на бумаге говорит, что акции принесены 28 сентября. Есть еще одно обстоятельство характеристичное— это телеграмма «о братьях Тома». Что название «дядя Том» было условлено, видно из того, что оно повторяется и в письмах между Феликсом и Никитиным. Телеграмма была отправлена 9 мая и в тот же день была получена в Брюсселе. По почерку видно, что черновая была написана Никитиным. Колосов говорит, что он ничего не знает об этой телеграмме. Но мы кое-что о ней знаем. Содержание ее понятно. Газеты сообщили об открытии подделки русских бумажек на франко-бельгийской границе, и в то же время в Петербурге пронесся тревожный для друзей слух о предстоящей поездке за границу полицейских агентов — братьев дяди Тома. Нужно было предупредить об этом. В книжке Колосова есть следующая отметка: «5 мая вечером писал О. в Брюссель об отмене торговли табаком». По словам Колосова, говорится об одесском табаке, но это объяснение ничем не подтверждается, 8 мая в той же книжке записано: «Вечером т.» (т. е. телеграмма). В книжке мелочных расходов Колосова (но не безвозвратных, которые записывались в другой книжке) 9 мая значится «телегр. 2 руб. 13 коп.». Из расписки телеграфа видно, что телеграмма в Брюссель о братьях дяди Тома стоила именно 2 руб. 13 коп. Затем в ней говорится: «Ждите письмо». Но если телеграмма посылается с тем, чтобы ждать письма, которое будет отправлено вслед за нею и все разъяснит, то она не имеет смысла. Очевидно, что она относится к письму, отправленному прежде, за несколько дней. Тревожные слухи повторились, и тогда последовала телеграмма. Это прежде отправленное письмо — мы его находим в указании о писании к О. об отмене торговли табаком. Вы припомните, что в письмах Никитина советуется рассказать Колосову «об уничтожении товара». Товар — это было условленное название акций, торговля, очевидно, обозначала их изготовление. Колосов говорит, что телеграмма отправлена со станции № VIII в здании окружного суда, а он жил в Коломенской части. Но он каждый день бывал у Никитина, в здании академии на Выборгской стороне, а идти оттуда в Коломну нельзя иначе как мимо окружного суда. Итак, телеграмма написана Никитиным, подписана условным именем Колосова — Пьетро и отправлена на его счет в Брюссель. Участие в ее составлении было, очевидно, понимаемо Колосовым как знак доверия Никитину, как «ввод его во владение» относительно предприятия, осуществляемого в Брюсселе. Вот все, что я хотел сказать относительно оговора А. Ярошевича. Я полагаю, что он подтверждается целым рядом обстоятельств: обстановкой, взаимным положением лиц и массою переписки и, наконец, тем, что объяснения Колосова не вызывают к себе ни малейшего доверия.
Перехожу к происхождению заявления Колосова о подделке акций. Вы помните из показания Колышкина, что пришедший к нему Колосов был вне себя, взволнован, раздражен и заявлял, что его хотели побить, оскорбили и т. д. и что существует в Петербурге какое-то политическое преступление, на след которого он напал и пострадал. Понятно, что Колышкин должен был поставить вопрос категорический: Какое преступление? В чем оно состоит? Кто его участники? Но такого преступления в действительности в виду Колосова не было; что было ему делать? Сочинить политическое преступление с признаками правдоподобия трудно и даже невозможно, а между тем надо же что-нибудь указать, кого-нибудь изобличить, иначе весь авторитет потеряется, утратится предполагаемая вера в способности Колосова, а с другой стороны, нужно отплатить, насолить Никитину и особено Ярошевичу. Они ругали его и относились к нему с неуважением; очевидно, авторитет Колосова в их глазах погиб. Никитин хотел даже бить… Но когда бьют и ругают, то могут, пожалуй, и выдать: ведь принесенные Колосовым- акции у Никитина. Такой исход надо предупредить во что бы то ни стало. Тогда-то должна была наступить в Колосове большая борьба, приходилось или отказаться от заявления о политическом преступлении, или же, скрепя сердце, открыть о подделке акций. Он достигал этим двух целей: губил «друзей» и решительным образом становился из подделывателя открывателем и преследователем преступления. Он терял только 5750 руб., положенных им в дело, но разве слава, к которой он, по-своему, стремился, спокойствие и безопасность не стоят 5750 руб., особенно когда остается еще около 60 тыс. руб. капитала? Исследуя оговор Ярошевича, мы дошли до того времени, когда Олесь возвратился в третий раз из-за границы, в октябре 1871 года. В Петербурге, кроме семьи его матери, была другая семья, куда его влекло. В этой семье была девушка, которая нравилась одновременно и А. Ярошевичу, и Колосову, и на этой-то почве они столкнулись. Между ними начинается взаимное раздражение. Ярошевич не щадил Колосова в своих рассказах, но еще менее щадил Колосов Ярошевича. Раздражение это вскоре дошло до того, что А. Ярошевич не мог выносить Колосова. Надо заметить, что во всех подобного рода преступлениях, где есть несколько участников, сходящихся на общем преступном деле, они, конечно, не могут иметь особого уважения друг к другу. Их связывают другие чувства: жадность, страсть к наживе, чувство общей опасности. Но первый признак, всегда присущий их отношениям,—это отсутствие уважения, отсутствие доверия. Если всматриваться в каждое подобное дело, то можно всегда проследить эту нить недоверия от самого начала. Так было и в настоящем случае. Недоверие началось еще с начала 1871 года. Уже тогда Никитин приходил к Ивановым и, между прочим, говорил: «Да, Колосов огонь, воду и медные трубы прошел». Ярошевич говорил о Колосове также весьма нехорошо и не раз в той же семье Ивановых. Наконец, Колосов не только всячески чернил Ярошевича, не доверяя ему до очевидности и считая мать пособницею сына в растратах, в которых его обвинял, но, привозя Олеся впервые к Дедевкину, заявлял, кивая ему вслед, что он «ловкий мошенник, с ним нужно быть осторожным». При столкновениях на почве общей любви и взаимного презрения, подобных бывшим у Колосова и Ярошевича в доме Ивановых, необходимо было одному уйти, вместе им быть было немыслимо. Но их положение в доме Ивановых было не одинаково. Ярошевича принимали как юношу, покровительственно и пренебрежительно, но на него смотрели, как на что-то, состоящее при Колосове, при человеке, ему ненавистном. Наоборот, человеку этому отец семьи вполне доверяет и относится к нему с уважением, нам непонятным, девицы бывают у него в гостях; в то же время туда ходят какие-то господа, которые нагло ухаживают за ними, тогда как он, Ярошевич, совершенно отстранен от этого общества. Весьма естественно, что в нем должно было развиться чувство зависти и даже ревности к Колосову, а там, пожалуй, и злобы. И это чувство было очень ловко эксплуатировано. Я, кажется, достаточно указал на то, что первоначальное распределение действующих лиц было таково, что душою всего был Колосов, оба Ярошевича, отец и сын, были в его руках. Но когда в дело вступил Никитин, человек самостоятельный, по-видимому, более умный и рассудительный, нежели Колосов, он неохотно, конечно, стал играть второстепенную роль. Из письма Никитина виден характер его действий вообще; он не любит действовать сразу, вдруг, а идет к своей цели постепенно, медленно, но верно, хлопоча, «извиваясь и изгибаясь». Он видел, он знал, что между Олесем и Колосовым существует скрытая вражда. Он, ученый-библиотекарь, знал, конечно, старую латинскую поговорку: divide et impera — разделяй и повелевай. Для того, чтобы играть первую роль, чтобы стать первенствующим лицом, держащим и Колосова и Олеся в руках, надобно попробовать воспользоваться их скрытым раздражением, восстановить их еще больше друг против друга, произвести вспышку и тогда явиться миротворителем и единственным, связующим их, в видах безопасности и общей выгоды, человеком. И вот Никитин сообщает Олесю отлично рассчитанный рассказ, что в квартире у Колосова были оскорблены девицы Ивановы, что к ним относились, как к потерянным женщинам. Ярошевич знал, что в числе их находилась и та, которую он горячо и страстно любит со всем пылом и ослеплением первого чувства. Понятно, он тотчас же стал на дыбы. Дело дошло до студента Иванова и кончилось объяснением в квартире Колосова. Когда они пришли, Колосов понял причину прихода, он увидал, что дело неладно, хотел как-нибудь отделаться от неожиданных гостей. Ему пришлось выслушать весьма много прискорбных вещей; его самого причислили к разряду «социальных деятелей», замахивались даже палкою. Он, однако, остался верен себе. Лица, которые занимаются такими делами, как Колосов, обыкновенно храбры только из-за угла, в письмах, на бумаге. Так поступил в данном случае и Колосов: он стал приглашать гостей остаться выкушать чайку, а когда они ушли, тотчас же побежал с жалобами и донесением о существовании шайки политических преступников. На другой день он стал делать вид, что старается помириться, являлся к Ярошевичу, бросался ему на шею, целовал его предательским поцелуем, а потом пошел к Никитину, чтоб «разъяснить обстоятельства ссоры», как будто они не были ясны и осязательны сами по себе. Никитин действовал как человек опытный и умный. Он произвел вспышку, восстановил одного против другого — цель достигнута. Можно на время успокоить врагов; желчь в них накопится опять сама собою, как электричество, и та же опытная рука Никитина вновь разрядит его в случае нужды. Он ласково принимает Колосова и старается успокоить его. Примирение состоялось, и Андрей Иванов уже через несколько дней, к удивлению своему, видит в библиотеке Колосова и Ярошевича в дружбе и согласии. По-видимому, все устроилось хорошо, но было забыто одно важное обстоятельство: среди Никитина и Колосова, людей глубоко испорченных, опытных в делах нечистых, людей черствых и бессердечных, замешался человек хотя тоже порочный, но еще молодой, еще не совсем погибший, у которого есть сердце, в котором еще живут какие-то понятия о чести и в котором тревожно и болезненно нарастает первая любовь. Они забыли об А. Ярошевиче. Возбудив такого человека, его возмущенное сердце нельзя было закрыть по произволу, как паровой клапан, и дальнейшие столкновения, с забвением условий общей безопасности, были неминуемы. Только искренностью мог бы Колосов опять привязать к себе Олеся. Что же делает он? Он начинает писать анонимные письма в семью Ивановых, пишет к отцу Ярошевича весьма оскорбительное для отца и для сына письмо. В нем он трогает самую чувствительную струну отца: говорит, что сын называет его вором. Пишет письма к дяде Ярошевича и к его матери. Письмо к ней он отсылает через семейство Ивановых, предоставляя им прочесть его. В нем он говорит о Ярошевиче, который считался почти женихом любимой им девушки, что его нужно «посечь» и предлагает для этого свое участие. Письмо было в руках весьма неразборчивой на знакомства семьи невесты. Конечно, это было рассчитано на то, чтобы окончательно уронить Ярошевича. Но в лета и в положении Олеся предложение «посечь» — не забывается и не прощается. %
Рядом с этим является более чем странный образ действий со стороны Ольги Ивановой. Здесь я должен с крайне тяжелым чувством коснуться некоторых эпизодов этого дела, с которыми, к сожалению, неразрывно связано обвинение Ярошевича в отравлении. В этом деле играла роковую роль Ольга Иванова. Мы знаем это семейство по его представителям; знаем, что у них нет матери, что все дочери воспитывались в институте — закрытом заведении. Известны свойства подобного воспитания в закрытых стенах: отчуждение от общества, полное непонимание того, что делается за этими стенами, и потом вдруг, сразу — прямо переход к практической жизни. Около Ивановых не было той, которая, чуя сердцем недоброе, охраняла бы их и остерегала от ложных шагов на непривычном поприще, не было матери, лучшей охраны и руководителя для девушки, вступающей в жизнь. Был слабый отец. Мы видели его здесь в суде, и мне кажется, что, несмотря на его седины, отношение его к житейской и семейной обстановке дочерей едва ли не следует с полным правом назвать печально-легкомысленным. Отец, у которого дочери-невесты, радушно принимает в свой дом Колосова и Ярошевича как дорогих гостей. Знал ли он, что это за личности? Он сказал, что о Колосове он знал, что он ростовщик, а о Ярошевиче совсем ничего не знал, кроме того, что он что-то такое при Колосове. Ему, однако, было известно, что Ярошевич ухаживает за его дочерью и хочет на ней жениться, и следовательно, может сделаться его зятем. Кто же этот будущий член семьи? Он человек «капитальный», сказал господин Иванов, потому что… его сестра живет за границей, а сам он одевается чисто. Вот единственное право Ярошевича на вход в порядочное семейство! При каких разговорах приходится присутствовать Ольге Ивановой и, быть может, ее еще более молодым сестрам? Как проводят они время? Они или дома принимают Ярошевича и Колосова, который пользуется полным доверием отца, или бывают у него, у одинокого человека, в гостях, где его гости позволяют себе держать себя с ними свободно, развязно, даже оскорбительно. Вместо естественных между молодежью живых и веселых бесед Ольге Ивановой приходится выслушивать рассказы Колосова о вымышленных доблестях в области его предательства и об особом почтении, которое они должны к нему вызывать. И никто не возражает, все молчат, и только один голос Олеся раздается, робко протестуя, — голос вопиющего в пустыне… Колосов особенно сошелся с Ольгою Ивановою. Он, по-видимому, имеет свойство весьма сильно подчинять себе людей, конечно людей неразвитых, слабых, молодых. А. Ярошевич верил в него, «как в бога»; Ольга Иванова совершенно отдалась в его руки, и он, как марионеткою, играл ею. Чем он этого достигал — постичь трудно. Только из намеков Ольги Ивановой можно предполагать, что он, сталкиваясь с молодежью, играл роль человека, угнетенного судьбой. Он знал, что молодой душе всегда свойственно сострадание, и своими рассказами умел искусно затрагивать чувствительные струны в молодых сердцах; этим он, вероятно, привлек и Ольгу Иванову, возбудив в ней чувство сострадания к человеку, «много испытавшему в жизни». Быть может, при нашей распущенной доверчивости и отсутствии нравственной брезгливости, «выдавая себя за пострадавшего за правду», Колосов имел не менее удачи, не менее внушал к себе доверия, чем и знаменитый герой знаменитейшей русской повести *. Завоевав привязанность Ивановой, он совершенно подчинил ее себе; она забыла для него и нежную прелесть стыда, и осторожность, и Олеся, который ее любил и который самой ей нравился. А Колосов забыл, что он женат и имеет четверых детей и что Ольга Иванова была вверена его чести и благородству. Когда А. Ярошевич вернулся в 1871 году в Петербург, в нем прежняя привязанность к Ольге Ивановой развилась еще сильней. Он не встречал отпора или холодности и в Ивановой. Нельзя не признать, что ее действия были крайне легкомысленны. Если же сопоставить ее действия с действиями Колосова, то действия последнего являются глубоко преступными по отношению к молодой девушке, которою он руководил, как некогда руководил Ярошевичем. Ольга Иванова дозволяет Олесю считать себя своею невестою и в то же время продолжает быть более чем дружною с Колосовым, она выслушивает откровенные признания Олеся, что Колосов ему невыносим, и в то же время бывает у Колосова, который от нее узнает все, что говорит и делает Ярошевич. Она ходит с Ярошевичем в маскараде, но ездит ужинать с Колосовым, который смеется вместе с нею над «леденцом» — Ярошевичем, а на другой день рассказывает Олесю, что Колосов ей ненавистен, что он ее оскорбляет. Вы слышали, господа присяжные, подробный рассказ Ярошевича о том, как она рассказывала ему, что Колосов ее унизил и скверно с нею обращался. Понятно, как отражается на человеке влюбленном всякое оскорбление, наносимое любимой им девушке. Тут же оскорбление было нанесено еще человеком, который и Олеся советовал «посечь», следовательно, было вдвойне больнее. В момент крайнего раздражения Ярошевича против Колосова Ольга Иванова говорит ему после всех своих жалоб: «Разделывайтесь с ним, как знаете, а я дам ему пощечину». Но как разделаться? Побои и брань против этого человека не помогают: свидание 15 ноября и бывшее притом объяснение это доказали. Надо не разделаться, а отделаться. И вот в голове Ярошевича впервые мелькает мысль уничтожить Колосова — этого человека, который стоит ему поперек дороги, который держит его в своем подчинении, который имеет в руках все нити, которыми может связать его и его отца, обратив нити в кандалы, который порочит и унижает его и, наконец, жестоко оскорбляет любимую им девушку. Олесь говорит здесь, что, получив благословение Никитина, сообщил о своей мысли Ивановой, и она поощрила его. Но я не хочу этому верить, я не хочу допускать мысли, чтоб она могла сознательно поощрять в нем такое ужасное намерение. Я думаю, скорее, что она просто отнеслась к его словам поверхностно и легкомысленно. Иванова сказала о предположении Ярошевича Колосову и потом, вероятно, не хотела более и думать о нем. Она умыла руки, она знала, что Колосов примет меры, и потому спокойно выслушивала откровения Ярошевича и «индифферентно», как она здесь объяснила, отнеслась к предложению его показать ей яд, когда он ехал вместе с Колосовым на верную судебную гибель с уликами налицо. Она не остановила его, не крикнула ему: «Не езди, я все сказала; ты будешь арестован, Колосов предупрежден»… Чем, как не влиянием Колосова, который наложил на ее душу свою нечистую руку и вырывал оттуда одно за другим все хорошие чувства, можно объяснить такое поразительное отсутствие сострадания к Ярошевичу, который из-за нее же ехал прописывать «ижицу» Колосову? Нет сомнения, что Колосов оценил известие о замышляемом отравлении и хорошо воспользовался им. Отравление бесспорное и в то же время, ввиду предупреждения Ивановой, не грозящее опасностью могло возвышать его в глазах тех, чьего расположения он добивался, кому навязывался со своими услугами. Они будут видеть, что он не только добровольно и бескорыстно «прослеживает эмиграцию», но даже следит за социальными людьми и в России, подвергая опасности свою жизнь, готовый «в некотором роде проливать кровь свою за отечество!» Таким образом он еще более может упрочить свое положение, завоюет себе еще более доверия… Приготовление к отравлению было драгоценным событием для Колосова, и он постарался извлечь из него всю возможную пользу… С такой же точки зрения относился к этому предположению и Никитин. И ему оно было с руки. Обстоятельства дела дают возможность верить Ярошевичу, что он имел в виду уничтожить Колосова не потому, что опасался его доносов о подделке — он об этом и не думал в это время. Ему нужно было отомстить за оскорбления, упразднить Колосова как конкурента и врага в доме Ивановых. Но иначе должен был относиться к делу Никитин. В показании Ярошевича есть одно место, весьма характеристичное. Конечно, от вас будет зависеть поверить его показанию или нет, но я думаю, что обстоятельства дела, подробно разбираемые перед вами, сами создают известного рода образ каждого участника дела. Объяснения Ярошевича очень подходят под такой образ Никитина. Когда он задумал отравить Колосова, то пришел к Никитину и сказал, что копошится в его душе. Ничего не ответил Никитин, а зашагал по комнате, ходил долго взад и вперед, молча и задумчиво, и, наконец, остановившись перед Ярошевичем, поднял голову и сказал: «Да, когда змея заползет в нашу среду, то ее нужно задушить, и чем скорее, тем лучше». Это показание как живого рисует этого сдержанного человека! Он все оценяет умом, сердце и совесть стоят у него назади, в большом отдалении. Поэтому, когда Олесь сказал об отравлении, он не возмутился, не заспорил, а замолчал. Он походил, подумал, взвесил все и оценил про себя и, спокойно рассуждая, нашел, что — да! желательно, полезно и, следовательно, надо отравить… Дело было решено. Этими словами он произнес приговор Колосову. Те же выражения, которыми он отвечал Олесю, мы встречаем в его письме, от 24 декабря, к Феликсу. И там он называет Колосова «гадиною, которая втерлась в среду нашу», и т. д. Предложение об отравлении было хорошим выходом в глазах Никитина, тем более, что главную роль принимал на себя Олесь. Колосов — человек, внушающий подозрение; он постоянно говорит о сношениях с разными лицами, которые, быть может, ему доверяют; этот человек опасный, Олесь влюблен и раздражен, не ручается за себя, управлять им трудно, может произойти какая-нибудь слишком резкая ссора. Колосов донесет. Тогда все, а может быть, и все пропали. Если его устранить, можно бы занять в деле первое место и брать себе половинную часть. А устранить легко: Олесь ждет только позволения. Вот почему я верю показанию Ярошевича, подтвержденному и письмами, что он получил «прохладительное лекарство» от Никитина. Что касается этого прохладительного средства, то для дела не особенно важно, можно ли было им отравить до смерти Колосова или нет. Если б было доказано, что это сахар или какое-нибудь другое, совершенно безвредное вещество, тогда не было бы и вопроса об отравлении. Но это был яд, хотя и «шаткий», но все-таки яд. Ярошевич говорил, что он часть порошка высыпал, но это нисколько не изменило дела, потому что его оставалось еще достаточное количество. Эксперт показал здесь, что слишком большой прием морфия не может отравить человека, так как морфий будет извергнут рвотою. Эксперту приходилось, однако, наблюдать отравления старух 5 гранами морфия.
Положим, Колосов не старуха, но у Олеся было не 5, а 14 гран яду. Притом припомните письмо Никитина: у Олеся есть «прохладительное средство», которым он тем или другим способом пропишет другу «ижицу». Если б это ему не удалось до Брюсселя, то можно и прямым способом прописать ижицу где-нибудь в Париже, например в чужой стороне, где чужой язык и новые, неизвестные ему порядки, «отобрав только непременно вслед за этим письменные документы». Вместе с тем мы знаем, что морфий, не всегда убивая наверняка, отлично усыпляет, делая человека почти мертвым, отнимая у него всякое сознание и волю. С ним можно делать все, что угодно, и «прямой способ», рекомендуемый Никитиным, тут будет весьма кстати. «Больной» заснет крепко и почти непробудно, а руки или подушка посодействуют тому, чтоб сладкий сон не был нарушен прозаическим пробуждением. Опьяненный, задурманенный морфием, «больной» не станет кричать или барахтаться, и полиция чужой страны даже не будет знать, кто этот скоропостижно умерший человек без всяких бумаг. Вот те основания, по которым я полагаю, что здесь были приготовления к убийству Колосова при посредстве яда.
Дальнейший ход дела я прослежу лишь в нескольких словах. Иванова своими действиями много содействовала раскрытию истинной его обстановки. Сидя в тюрьме, Ярошевич тайно переписывался с невестою. Вы слышали его письмо к ней. Оно исполнено живого и неподдельного чувства человека, горячо и искренне любящего. В то же самое время получательница подобных писем бывала постоянно у Колосова и, даря ему свою любовь, сообщала ему все об Олесе, а он, в свою очередь, как вы слышали из черновых его писем, сообщал кому следует аккуратно о всех действиях Ивановой, о словах и намерениях, высказанных в письмах «леденца»… В это же время он продиктовал ей ответное письмо к Ярошевичу с упреками за то, что Ярошевич подстрекает ее решиться на «криминальный» поступок. Происхождение этого письма легко объяснимо. Колосов должен был бояться, что Ярошевич, сидя в тюрьме, надумается и расскажет истину и что некоторые свидетели, например Ольга Иванова и Никитин, могут своими показаниями бросить на него тень. Их-то,. впрочем, можно настроить и уговорить, но особенно важно заранее лишить показания Ярошевича -всякого доверия в глазах судебной власти, нужно указать, что обвиняемый лжет и других учит тому же, что он подговаривал свидетельниц давать ложное показание. Как же это сделать? Прямо заявить неудобно: будет похоже на сплетню, да и бездоказательно и, притом, требует личного участия. Надо послать письмо чрез прокурора, который, разумеется, должен будет передать письмо судебному следователю для соображений при допросе Ярощевича. Таким образом Колосов заранее обезопасит себя со стороны Ярошевича. Действие этого письма, однако, было неожиданное. Ярошевич, убитый им, оскорбленный и преданный любимою девушкою, сознался во всем и довольно прочно оговорил Колосова.
Таковы обстоятельства дела. Колосов и Ярошевич обвиняются в деятельном участии в подделке акций и ввозе их для распространения в России. Ярошевич, сверх того, обвиняется еще и в приготовлении к отравлению. Закон не наказывает приготовления к общим преступлениям вообще, но когда человек готовится убить другого, приготовляет яд, покупает оружие, то он имеет тысячу случаев остановиться, отбросить свой преступный замысел, ужаснуться его. Если он этого не делает, а продолжает осуществлять свое приготовление, то замысел созрел и глубоко запал в его душу. К подобному упорству злобы и ненависти закон не может относиться безразлично. Такой человек крайне опасен для тех, кто ему не нравится, такой человек вреден для общества. И закон наказывает за приготовление к убийству. Такое деяние совершил в настоящем случае Ярошевич. Он положил на весы, с одной стороны, жизнь ближнего, а с другой — свое самолюбие. Он не отступил пред мыслью отделаться от ненавистного человека коварным и предательским образом. Он должен потерпеть за это и посредством сурового урока быть обращен на другую, более честную дорогу. Юридическая ответственность большая лежит на Ярошевиче, меньшая — на Колосове. Но иначе распределяется их нравственная ответственность.
Ярошевич — человек нравственно испорченный, неразборчивый на средства и имевший преступные цели, несмотря на то, что мог бы жить честным человеком… Но мне кажется, что он еще не окончательно погиб нравственно, у него еще целая жизнь впереди, и настоящее дело может и должно отрезвить его… Я думаю, что нравствен-пая ответственность другого подсудимого — Колосова — гораздо больше. Он — душа действия и побуждений Ярошевича, и он виновен и за себя, и за Ярошевича. Вспомните, каким юным он взял Олеся в свои руки и как воспитал его. Кто толкнул его, еще отрока, в разврат? Колосов. Какие примеры видел этот юноша, оставленный на произвол судьбы преступным отцом, какие впечатления он получал в школе Колосова? Кто, наконец, его раздражал и уязвлял в самое больное место, как не Колосов? Кто своими действиями довел его до такого ослепленного, озлобленного состояния, что он не остановился даже перед мыслью об отравлении, как не Колосов? Колосов его вовлек в преступление, Колосов его погубил. Но на душе того же Колосова лежит другая жертва, за которую он также нравственно ответствен. Не он ли играл, как игрушкою, Ольгою Ивановою, подчинив ее себе и овладев ею для своих нечистых целей? Не он ли заставил ее играть двусмысленную и двуличную роль; не он ли создал ей тяжелое положение на суде, не он ли приготовил ей в будущем постыдные и горькие воспоминания? Я полагаю, что он заслуживает строгой кары.
От вас, господа присяжные, зависит судьба подсудимых. Вы можете оправдать их или обвинить, но, стараясь предугадать ваш приговор, я полагаю, что оправдательного им услышать не придется. Личности, подобные Колосову, вредны не только как люди, совершающие известное, караемое законом преступление, они еще более вредны как вносящие всюду, куда они проникают, во все, к чему они прикасаются, нравственную заразу. Такие люди, в видах ограждения общества, должны быть устранены из него. Вот почему я думаю, что, услышавши ваш обвинительный приговор и о себе, и о Колосове, Ярошевич, который верил, что его руководитель счастливо прошел «огонь, воду и медные трубы», поймет, что, кроме огня, воды и медных труб, есть еще нечто, чрез что гораздо труднее пройти — это суд.
ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ ИЕРОМОНАХА ИЛЛАРИОНА*
Господа судьи, господа присяжные заседатели! 10 января нынешнего года отец Илларион, иеромонах Александро-Невской лавры, был найден в своей келье окончившим жизнь насильственным образом от чужой руки. Ровно через месяц, сегодня, 10 февраля, перед вами находится на скамье подсудимых человек, который приносит повинную голову в совершении этого убийства. Казалось бы, что с этой минуты задача ваша становится очень проста и несложна: остается применить к подсудимому то наказание, которое он заслужил по закону. Но такой взгляд, по моему мнению, не соответствовал бы ни важности вашей обязанности, ни достоинству правосудия. Вы, представители суда в настоящем деле, не можете быть орудием ни в чьих руках; не можете поэтому быть им и в руках подсудимого и решить дело согласно одним только его показаниям, идя по тому пути, по которому он вас желает вести. Вы не должны безусловно доверять его показанию, хотя бы оно даже было собственным сознанием, сознанием чистым, как заявляет здесь подсудимый, без строгой поверки этого показания. Сознания бывают различных видов, и из числа этих различных видов мы знаем только один, к которому можно отнестись совершенно спокойно и с полным доверием. Это такое сознание, когда следы преступления тщательно скрыты, когда личность совершившего преступление не оставила после себя никаких указаний и когда виновный сам, по собственному побуждению, вследствие угрызений совести является к суду, заявляет о том, что сделал, и требует, просит себе наказания, чтоб помириться с самим собою. Подобного сознания в настоящем деле нет, а есть сознание другого рода, которое подходит к разряду сознаний, вынужденных самою обстановкою дела и теми обстоятельствами, при которых оно дано.
В самом деле, вглядевшись в дело, вы увидите, что сознание подсудимого далеко не чисто, что в нем есть некоторые примеси и что, во всяком случае, он говорит не полную правду, заявляя на суде, что показывает одну истину как перед богом и перед начальством, так и перед нами. Для этого необходимо рассмотреть вкратце обстановку дела и прежде всего взглянуть на личность потерпевшего от преступления. В показаниях монахов, проживающих в Лавре, она охарактеризована довольно ясно: человек старый, сосредоточенный, суровый, живший постоянно одиноко, умевший в многолюдном монастыре создать себе совершенную пустыню; видающийся в 10 лет раз с людьми, которые живут в одном коридоре с ним, позволяющий себе, в виде развлечения, покормить булками маленьких певчих и лишающий самого себя даже и этой малости, словом, человек угрюмый, замкнутый в себе, идеальный, если можно так выразиться, монах. Этот одинокий человек, постоянно запертый в своей келье, ни с кем не сходившийся, не подает никаких признаков жизни в течение целого вечера, ночи и половины следующего дня, не возбуждая ничьего беспокойства, что указывает, как вообще мал надзор за тем, что происходит в коридоре. Но, наконец, все-таки беспокойство возбуждается — смотрят в щелку, видят ноги, думают, что с ним дурно, посылают за доктором, отворяют дверь и находят, что он мертв, убит; тогда является полиция, следователь и начинается следствие.
Подробный акт осмотра указывает на все подробности исследования, и я считаю излишним напоминать их. Укажу только те вопросы, которые прежде всего возникли у лиц, исследовавших это дело, и вы увидите, как полно и красноречиво отвечала на эти вопросы самая обстановка найденного. Прежде всего, что это такое? Убийство, очевидно. С какою целью? Разломанная шкатулка, раскрытые комоды, разбросанная одежда — все это прямо говорит о совершении преступления с целью грабежа. В какое время? Отцу Иллариону после вечерни, следовательно в 5 часов вечера, в 6-м, были принесены дрова и вода для самовара; затем у него найден самовар, почти полный водою, в чайнике, налитом доверху, заварен чай, чашка суха; видно, что, вернувшись от вечерни, он заварил чай и не успел напиться. Итак, приблизительное время совершения убийства— около 6 часов вечера. Затем, обстановка убийства также довольно ясна: убийство совершено колющим орудием, нанесен ряд очень сильных ран, вызвавших обильное истечение крови, повлекшее смерть, и, как удостоверяет осмотр ран, нанесены они человеком, подошедшим сзади. Видны даже переходы, которые имела борьба между убийцею и покойным; кровь особенно скопилась в двух местах: в одном месте ее довольно много, и тут же находится колотый сахар, нож, которым кололи, и самовар — очевидно, что тут место нанесения первого удара. Затем масса крови около двери и отпечатки окровавленных рук на самой двери и на ручке замка. Очевидно, что кто-то хотел уйти в эту дверь. Но уйти всего необходимее было покойному отцу Иллариону; итак, он дошел или дополз до двери, и здесь ему нанесены вторые удары; борьба была очень сильная; у покойного выдернута почти вся его весьма длинная борода, клочья которой валялись по всей комнате; он оборонялся, потому что окровавленный нож, которым наносились раны, найден согнутым перпендикулярно к своей ручке; самые кисти рук покойного изрезаны; очевидно, что он хватался за нож, которым наносились удары, и хотел его вырвать. Наконец, из обстановки видно даже, что делал подсудимый после убийства, видно, что он стал рыться в комоде, выдвинул все ящики, взял сапожный тупой нож и стал им взламывать шкатулку; вы знаете из акта осмотра, что на чашке медного подсвечника оказалась налитою кровь, что, наконец, рубашка, о которую убийца вытирал руки, имеет двоякого рода пятна: бледно-розовые и посредине их ярко-красные пятна крови. Это показывало, что убийца мыл руки и что он должен был быть ранен; свежая кровь натекла на подсвечник и оставила следы посредине каждого розового пятна и на ручке ножа, которым производился взлом. Эти данные привели к тому, что убийца ранен, что убийство совершено в такое время, когда никого в коридоре не было, и совершено человеком, подошедшим сзади, следовательно, человеком своим, которого не опасались.
Соображаясь с этими данными, сыскная полиция начала производить розыски. Между прочим, узнали, что накануне убийства в монастыре ночевал Иван Михайлов, человек, приезжавший просить о месте, не получивший его и уехавший назад. Послали за ним на станцию Окуловку. Когда агент сыскной полиции явился на станцию, то нашел подсудимого «гулящим», нетрезвым и прячущимся; на нем оказались панталоны и жилет покойного отца Иллариона, а в кармане панталон золотые монеты и в том числе двадцатифранковые; у брата его найдены часы покойного, а у него самого — другие, также принадлежавшие отцу Иллариону. Он путается, он испуган, у него ранена рука. Его берут. Что он может сказать, какое дать объяснение? Ему остается только одно — сознание. Сказать, что вещи получил от кого-нибудь другого — надо указать, от кого; сказать, что не был в Лавре — нужно указать место, где был. Ни человека, ни места он указать не может. Упорно молчать — но кругом так все сложилось, что молчать нельзя! Остается сознаться—и он сознается. Поэтому я и называю сознание его вынужденным обстоятельствами дела, оно было неизбежно; но раз оно вынуждено, мы не можем вполне доверять ему, мы должны отнестись критически к главным его частям, именно к тому, что касается преступного намерения. Вы слышали, подсудимый говорит, что мысль убить отца Иллариона пришла ему внезапно, вдруг, что грех его попутал, что сам он не знает, зачем шел, но шел без всякого намерения убить отца Иллариона, словом, он старается доказать перед вами, что, входя к отцу Иллариону с словами: «Боже наш, помилуй нас», он вовсе не знал, что через несколько минут должен выйти из этой кельи убийцею. Я думаю, однако, что это не так, что мысль об убийстве явилась вовсе не внезапно, что он имел возможность в течение некоторого времени оценить и взвесить ее, или изгнать ее из своей головы, или удержать — и избрал последнее. Я думаю, что указанием на присутствие заранее обдуманного намерения служат как данные дела, так и некоторые нравственные соображения.
Во-первых, посмотрите на отношение подсудимого к отцу Иллариону. Он говорит, что шел к отцу Иллариону сам не знает зачем. Но допустить такое толкование, неосновательное и неправдоподобное, решительно невозможно. Можно допустить другое — что он шел к нему как к знакомому, у которого когда-то служил коридорным. Отчего же ему, в самом деле, и не навестить отца Иллариона?
Но вы знаете характер иеромонаха Иллариона. Он был такой человек, который не любил, чтобы к нему ходили, человек, который держал себя вдали от всех, а тем более, конечно, от коридорного. С какой стати коридорный, который уже не служит и случайно остался в Петербурге только потому, что поезд, на котором он хотел уехать, ушел раньше, чем он мог собраться, пойдет к отцу Иллариону, о котором он и не думал, проживая два с половиною дня в Лавре? Почему из всех петербургских знакомых он избирает отца Иллариона? Отчего он не идет, например, к Лаврову, с которым был хорошо знаком и который писал ему докладную записку? Отчего он не идет к иеромонаху Нектарию, который рассказывает, что считал его хорошим человеком, нередко паивал его чаем, рекомендовал его на железную дорогу и вообще до сих пор относится к нему более благосклонно, чем прочие? Уж если идти в монастырь для того, чтобы посетить кого-нибудь, то скорее всего ему следовало бы посетить отца Нектария. Наконец, он мог посетить тех сторожей, живших у ворот, у которых он ночевал две ночи. Напротив, он идет тайком, минуя сторожку и никуда не заходя, прямо в келью покойного. Для чего же он туда идет? Какое отношение может иметь к нему отец Илларион, этот замкнутый человек, не интересующийся даже тем, что делают более близкие ему, окружающие его лица? Никакого. Затем посмотрите, как выбрано время, когда совершается преступление. Выбрано именно то время, когда, по монастырским обычаям, в коридоре никого не было. В коридоре было всего шесть келий: одну занимал монах Григорий, в двух других жили два приезжих архимандрита, две были в этот день пустые, а в одной жил отец Илларион. По монастырским правилам, приезжие архимандриты должны быть на службе в Крестовой церкви у митрополита. Об этом, конечно, знают все служители. Поэтому знал об этих порядках и подсудимый Иван Михайлов. Кроме того, он мог об этом еще раз слышать от тех, у кого ночевал. И вот, в то время, когда в коридоре никого из этих лиц не было, когда отошла вечерня и когда началась всенощная, к которой не должен был идти только отец Илларион, потому что он был очередной для служения панихид, когда он остался один и нет в коридоре ни архимандритов, ни рясофорного монаха отца Григория, который тоже должен быть у всенощной, — тогда-то и приходит в келью Иллариона подсудимый. Отчего же, если он желал повидаться с отцом Илларионом, не отправился он к нему тотчас же, как ушел с железной дороги? Отчего он не пошел к нему в 4 часа, когда ушел с вокзала? Отчего он пошел именно в 6 часов, когда в коридоре никого нет и быть не может? Я думаю оттого, что ему нужно было застать отца Иллариона одного. Затем посмотрите еще на одну сторону дела — на сторону внутреннюю. Подсудимый говорит, что он совершил преступление вдруг, что мысль об убийстве пришла ему внезапно, только тогда, когда он вошел в келью. По его словам, он взял отца Иллариона, человека здорового и высокого роста, за ворот. Тот его оттолкнул. Тогда подсудимый взял «ножичек», как он выразился весьма нежно, и стал его колоть! Но мы знаем из мнения врача, что это было не так, что раны нанесены человеком, подошедшим сзади, человеком, который подкрался, подобрался коварно. Следовательно, он не брал отца Иллариона за ворот, ибо если бы он схватил его за ворот и ударил, то тот не стал бы поворачиваться спиной и давать возможность наносить удары сзади, но стал бы лицом к лицу с нападающим и начал бы с ним бороться, как это он сделал впоследствии. Затем посмотрите с нравственной стороны на последующие действия подсудимого. Он убил внезапно, убил, сам не зная, как и для чего, его «грех попутал», но, тем не менее, он пролил потоки крови по всей квартире, истерзал старика, вырвал у него по клочьям, в долгой и озлобленной борьбе, всю бороду и, наконец, порешил с ним. Он хотел затем украсть что-нибудь. Он это и сделал. Но убийца, который внезапно совершает убийство, не стал бы действовать так спокойно и обдуманно, как действовал Михайлов. После убийства, столь неожиданно совершенного, когда убийца опомнится от разгара борьбы, он поспешит убежать, что-нибудь захватив поскорей, потому что все, совершенное им, должно предстать пред ним во всем своем безобразии. Им должен овладеть ужас, он схватит, что попало под руку, и удалится скорей от страшного места, где он внезапно и почти против воли стал преступником. Видим ли мы что-нибудь подобное у подсудимого? Нет, он очень спокойно перерывает все вещи покойного, настолько спокойно, что даже взвешивает, где искать и где не искать. По акту осмотра найден был отворенный ящик комода с бельем, на котором есть капельки крови. Этого ящика он не трогает, так как все белье в нем в порядке, без сомнения, потому, что подсудимый рассудил, что в белье не может быть денег. Зато он открыл и перерыл другие, перебрал все-вещи, оставив многие и взяв только часы и деньги, оставив даже больше 10 руб. медных денег, которые могли его стеснять. Когда отец Илларион лежит рядом — умирающий, истекающий кровью, — подсудимый снимает с себя всю одежду, сжигает ее в печке, надевает одежду своей жертвы, затем уносит свечку и ставит ее в спальню, отгороженную перегородкой от гостиной, в которой, таким образом, становится ничего не видно снаружи, умывает руки и тогда уже уходит, заперев дверь на ключ, так как она оказалась запертою, а ключ унесенным. Таким образом, он обдуманно рассуждает, оценивая все последствия своих действий. Он соображает, что если оставить дверь незапертою, то вскоре после 8 часов могут прийти с ужином и с хлебом, и тогда увидят мертвого,— подымется беспокойство, начнут искать, могут увидеть подсудимого в окрестностях монастыря, могут задержать его и т. д. Поэтому нужно преградить путь скорому исследованию, нужно запереть дверь: придут, постучат и, конечно, оставят до утра, а тогда он будет уже в Окуловке. Вот как рассуждал или должен был рассуждать подсудимый, что вытекает даже из его показания. Таким образом, обстановка его действий вовсе не указывает на внезапность умысла, а на предумышленность убийства, где все было известно, все обдумано и взвешено заранее, хотя и незадолго до убийства, и где последующие действия были предприняты спокойно, с полной уверенностью в себе.
Но говоря, что здесь было предумышленное убийство, я обязан указать, каким образом создался, по моему мнению, обдуманный заранее умысел убить отца Иллариона. Подсудимый служил стрелочником в Окуловке, службу свою он там оставил, остался без работы и затем поехал в Петербург, сказав домашним, что едет искать места. Какое же место он может себе найти? Конечно, скорее всего на железной дороге, где он уже служил. Но он плохо рассчитывает на получение его после оставления первого и потому даже не торопится; спустя лишь два с половиной дня после своего приезда идет он на железную дорогу. Все это время проводит он у своих прежних знакомых, у сторожей в Лавре. Здесь он снова припоминает подробности монастырского житья, снова видит все монастырские порядки, опять перед ним темный коридор, дурно освещенный, в котором все живут, как в пустыне, опять этот богатый монах отец Илларион, опять сторожа, которые никогда в коридор не заходят, за которыми нужно каждый раз сходить вниз, чтобы вызвать их наверх… А места не предвидится, денег мало и скоро вовсе не будет, деваться некуда, возвращаться же назад без места не стоит, стыдно даже. Конечно, от мысли об убийстве было еще далеко. В Лавру приходит его приятель Лавров. Зачем? Получил письмо от послушника отца Сергия, что они уезжают в среду в 2 с половиной часа. Следовательно, коридор еще больше опустеет и освободится от части приезжих. Таким образом, он узнает, что в среду вечером, после трех часов, в коридоре останутся только отец Илларион, Григорий да два приезжих архимандрита. На другой день он отправляется на железную дорогу с прошением, передает его свидетелю Барро. Барро ему отказал, как и следовало ожидать; между тем поезд уходит, остается подождать следующего и уехать домой. Тут возникает опять в уме обстановка монастыря: архимандрит Сергий уехал, послушники при нем тоже, отец Григорий и два архимандрита пойдут в 6 часов в Крестовую церковь, и тогда останется один отец Илларион. Отец Илларион богат, стар… А коридор пуст. Вот когда должна была явиться первая мысль об убийстве. Вот когда подсудимый решился прийти, по его словам, без всякой надобности к отцу Иллариону. Под влиянием такой мысли он и старался никому не показываться. Он говорит, не представляя, однако, никаких доказательств, что время до убийства провел в трактире, находящемся недалеко от Александро-Невской Лавры. Я не думаю, чтобы это было так. Я припомню здесь слова иеромонаха Ювеналия, который показал, что чердак, находящийся в конце коридора и из которого можно видеть, кто уходит из коридора вниз по лестнице и кто приходит, незадолго до убийства был заперт, а после убийства оказался отпертым. Не указывает ли это на то, что подсудимый был на этом чердаке, что было удобно сделать тем более, что чердак никем не посещался и о нем даже не все знали, как заявил об этом свидетель Яков Петров. А с чердака удобно было видеть, когда все уйдут, когда отец Григорий и приезжие архимандриты пойдут ко всенощной и когда, следовательно, отец Илларион останется один в своей келье. Затем шла речь о железной балясине. Какого она происхождения — это трудно сказать; откуда она явилась в комнате отца Иллариона —- мы не имеем определенных указаний. Но мы знаем одно, что ее не было до убийства. Об этом показывают все свидетели единогласно. Конечно, если бы она была в хозяйстве отца Иллариона, то об этом бы показала Панкратьева, которая мыла в келье полы два раза в неделю и которая, конечно, видела бы эту балясину. Откуда же она явилась? Я полагаю, что можно не без основания предположить, что она была принесена обвиняемым с собой. Идя с железной дороги, когда у него явилась мысль об убийстве, он мог ее купить в первой попавшейся лавке со старым железом, которых так много на пути от Николаевской железной дороги в Лавру. Подсудимый пришел в келью, когда отец Илларион остался совсем один, без соседей; тот встретил его сурово и на слова его «боже, помилуй нас!» не сказал ему даже обычного приветствия, а пошел колоть сахар около самовара, где лежали хлеб и нож, всем свидетелям известный. Наступило удобное время для нападения на отца Иллариона. Но этот нож гораздо лучшее орудие для причинения смерти, чем балясина, и она оставлена. Подсудимый говорит, что он начал наносить раны перочинным ножом. Может быть, какая-нибудь и была нанесена перочинным ножом, но затем они наносились уже большим ножом. Он говорит, что сам защищался против этого ножа, что он вырывал его. Это не так, потому что раны, которые образовались от вырывания ножа на руках, находились у отца Иллариона, а не у подсудимого. Следовательно, отец Илларион вырывал нож, а не защищался им. Вы слышали описание этих ран. Ни одна из них не мельче 1.5 и 2 дюймов глубины. Такие раны должны произойти от большого ножа, и, конечно, находящийся пред вами острый, большой нож является тем ножом, которым были нанесены эти раны: недаром он залит кровью и так сильно согнут. Такие широкие раны, из которых одна совершенно перерезывает все горло, неудобно нанести маленьким ножом с узким и коротким лезвием.
Вот каким образом создался умысел подсудимого и вот каким образом он привел его в исполнение. Поэтому я думаю, что вы, быть может, отнесетесь к его сознанию с сомнением и признаете, что это сознание неполно, что подсудимый не совсем так сделался преступником, как это он объясняет. Я полагаю, что когда вы представите себе этого подсудимого без средств и без места, идущего без всякой цели с железной дороги, где он получил отказ, к нелюдимому и чуждому ему отцу Иллариону, затем совершающего там убийство и спокойно переменяющего белье, вытирающего руки и выбирающего имущество отца Иллариона в то время, когда рядом с ним тот умирает израненный и истерзанный; когда вы представите себе этого человека, рассчитанно запирающего дверь, уходящего и, наконец, гуляющего и пьянствующего в Окуловке, то, я думаю, вы признаете, что у такого человека мысль о преступлении явилась не внезапно, что почва для него была приготовлена, что мысль об убийстве выросла и созрела за несколько часов прежде, чем самое убийство было совершено.
Я обвиняю подсудимого Михайлова в том, что он совершил преступление с обдуманным заранее намерением. Подсудимый хочет доказать, что оно совершено внезапно, без предумышления. Кто из нас прав — решит ваш приговор. Закон считает оба эти преступления весьма тяжкими. Но не о строгости кары думает в настоящее время обвинительная власть. Есть одно соображение, которое, как мне кажется, в настоящем деле следует принять, во внимание. Подсудимый молод, ему 18 лет, вся жизнь еще пред ним. Он начал ее очень печальным делом, начал преступною сделкою с своей совестью. Но надо думать, что он не погиб окончательно и, конечно, может исправиться, может иначе начать относиться к задачам жизни и к самому себе. Для этого исправления строгий и правдивый приговор суда должен быть первым шагом. Со сделкой с совестью ему не удалось. Теперь он находится пред вами и, по-видимому, хочет вступить в сделку с правосудием: признаваясь в убийстве, ввиду неотразимых фактов, он сознается, однако, не во всем, он выторговывает себе внезапность умысла. Не думаю, чтобы на него хорошо подействовало нравственно, если эта вторая сделка удастся. Вот почему я думаю, что она ему может и не удаться.
ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ КОЛЛЕЖСКОГО АСЕССОРА ЧИХАЧЕВА *
Господа судьи, господа присяжные заседатели! 26 ноября прошлого года в Захарьевской улице совершилось происшествие, кончившееся убийством. Убит был почетный мировой судья Чихачев. Дело это наделало много шуму как в Петербурге, так и в той местности, где действовали и постоянно проживали Чихачев и обвиняемые. Оно вызвало самые разнообразные толки, самые крайние и смелые предположения. В них то обвиняемые рисовались чрезвычайно мрачными, отталкивающими чертами, то Чихачев унижался и топтался в грязь, как человек, недостойный даже простого сожаления. Но молва, основанная на догадках и праздных толках, должна кончиться сегодня, в день, когда определится настоящее положение участвующих в деле лиц и когда их действия выяснятся в надлежащем своем свете. Судебное следствие, развило перед вами все существенные обстоятельства дела, в наших судебных прениях мы постараемся разъяснить пред вами их значение и характер, и затем вы постановите беспристрастный приговор, который должен иметь большое значение. Он укажет, возможно ли безнаказанно распоряжаться чужою жизнью под влиянием гнева и ненависти и может ли каждый сам делаться судьею в своем деле и s приводить в исполнение свои, выработанные страстью и озлоблением, приговоры…
Подсудимые обвиняются в том, что они в запальчивости и раздражении, — один убил Чихачева, а другая покушалась убить его. Так поставлено обвинение высшею обвинительною инстанциею — судебною палатою. При таком убеждении остается обвинительная власть и в настоящую минуту. Преступление, в котором обвиняются подсудимые, закон резко отделяет от тех, в которых убийство было задумано задолго, заранее подготовлено и затем хладнокровно совершено. Убийство в запальчивости и раздражении бывает обыкновенно последствием внезапно прорвавшегося наружу гнева, увлечения, ненависти. Эти страстные чувства выражаются в стремлении уничтожить ненавистного человека, стоящего пред глазами. Понятно, что главными и существенными свойствами этого преступления должно считать, во-первых, запальчивость или раздражение как внешнее выражение гнева или ненависти и, во-вторых, намерение убить, желание лишить жизни. Поэтому для того, чтобы в каждом данном случае доказать, что убийство совершено в запальчивости и раздражении, необходимо доказать, что гнев и ненависть действительно существовали, что последняя постепенно развивалась и созревала, дойдя, наконец, до такой степени, что стремление утолить ее заглушило в человеке все остальные соображения. Необходимо проследить ее развитие до того момента, когда она обратилась в гневную вспышку, кончившуюся убийством, и затем разъяснить, насколько в этой вспышке проявилось желание виновного именно убить, уничтожить противника. Сообразно с этим я и буду строить мое обвинение. Прежде всего является вопрос о ненависти, о гневе и об условиях, которые их вызвали. Для того, чтобы судить об этом, надо обратиться к житейской обстановке участвующих лиц. Эта житейская обстановка есть лучший материал для верного суждения о деле; краски, которые накладывает сама жизнь, всегда верны и не стираются никогда…
Обращаясь к этой обстановке, мы встречаемся прежде всего с личностью подсудимого. Данные судебного следствия достаточно ее характеризуют. Подсудимый был земский деятель, энергический, трудолюбивый, пользовавшийся доверием и поэтому выбираемый на ответственные должности. Это был вообще человек, в честности которого никто не сомневался. Вы слышали, что вопрос о недостатке 3 тыс., который почему-то был возбужден на судебном следствии, объясняется беспорядком в ведении книг, в котором виновен не подсудимый, и никто из свидетелей не решился, хотя бы отдаленным намеком, связывать это ' обстоятельство с его недобросовестностью. Но одной честности и трудолюбия мало, чтобы внушать к себе симпатию. И мы знаем, что подсудимый симпатии к себе не внушал. Он стоял в уезде совершенно одиноко. Против него нередко собирались партии; ему приходилось терпеть нападения и бороться. Его не любили за его «злой» язык, за его резкость, за его образ действий — крутой, властный, ничем не смягчаемый. Это был человек, державший себя по отношению к окружающим так, что сочувствия ему у них искать было нечего. Он сам здесь признал себя «резким». Он слишком часто и скоро приходил в негодование, слишком несдержанно выражал это чувство. Письма, имеющиеся в деле, представляют многие подтверждения этим сторонам его характера. Для него весь уезд населен «идиотами» или «сволочью». Он один умный человек, стоящий неизмеримо выше всех, один, способный понимать всякое дело и хорошо вести его. При таком крайнем самолюбии, при пренебрежительном обращении с людьми, при обыкновении смотреть на них свысока, отказывать им в уважении и по малейшему поводу презирать тех, кого не уважаешь, и не щадить их в своих отзывах и мнениях он, понятно, не мог пользоваться особенно добрым личным расположением уездного населения, и представители этого населения, сознавая его нравственную безупречность, тем не менее, по-видимому, терпели его лишь как необходимое зло. Этот человек женился на девушке молодой, недавно вышедшей из института. Свидетельские показания рисуют нам ее как девушку довольно наивную, подпавшую с выходом замуж вполне под власть и влияние мужа. Это действительно высказывается во всем. Даже из показания самого обвиняемого видно, что она постоянно действовала по его воле, как «самая преданная и самая верная жена», вполне согласная со всеми его мнениями. В ее действиях по делу видно очень мало самостоятельной мысли, самостоятельной решимости. Наконец, ее письма и ее дневник показывают, что она принадлежит к тем, нередким преимущественно среди женщин, личностям, которые умеют плакать, тосковать, страдать, раскаиваться в том, что сделано, и в особенности в том, что сказано, но не умеют, а иногда даже и не хотят сами решить, что же делать? Как найти выход из ложного и тяжелого положения? Им нужны чужая воля, чужой пример… Из ее письма видно, что даже выражения ее, ее стиль, ее приемы являются совершенно теми же, какие употребляет ее муж. Я припомню здесь одно характеристическое выражение подсудимого. Он раза два здесь заявлял, что хотел объясниться с Чихачевым «честно — благородно». В письме подсудимой к Чихачеву встречается несколько раз это как-то странно звучащее выражение «честно — благородно». Его же повторила она и здесь, на суде, говоря, что хотела доказать Чихачеву, что она была всегда «честна — благородна». Очевидно, она заимствует от мужа все, от образа мыслей и действий до способа выражаться и, к сожалению, браниться… Понятно, впрочем, что человек болезненно самолюбивый, желчный, раздражительный, считающий себя выше окружающих, и не стал бы выносить около себя женщины самостоятельной; только с женщиной мягкого, уступчиво-восприимчивого, так называемого пассивного характера такой человек и может быть счастлив. Мы имеем указания на то, что жизнь подсудимых в течение первых шести лет была спокойна и счастлива, по крайней мере до катастрофы, о которой идет дело, нет указания на то, чтобы они жили не дружно, чтобы их не связывала искренняя любовь. Что обвиняемый любил свою жену сильно, это ясно и из тех неразумных, преступных действий, которые привели его на скамью подсудимых. Свою любовь к нему она доказала тем, что связала свою судьбу с ним до самой скамьи подсудимых. В эту мирную семейную жизнь, однако, стали прокрадываться сомнения. В довольно отдаленном прошлом, семь лет назад, на жизнь обвиняемой легло пятно, оставившее неизгладимое и тяжелое воспоминание. Тогда она была еще молодою девушкою, недавно вышедшею из института, и гостила у своих родственников. Туда ездил человек несчастный в семейной жизни, который горевал о своей разбитой жизни и плакался на свою судьбу, только в этом семействе находя себе утешение. Понятно, что в молодой девушке должно было развиться чувство сострадания к нему. Это чувство, эта доверчивость к несчастию и нежность к обиженному судьбою есть одно из лучших, из завидных качеств молодости. Понятно также, что и Чихачев, искавший теплого, сердечного участия, потянулся, как растение к солнцу, к той, в ком это участие выражалось в наиболее привлекательной и горячей форме, и стал искать преимущественно около обвиняемой душевного отдыха. Всякий, вспоминая свою молодость, конечно, признает, что ничто так не заманчиво в эти годы, как сознавать, так или иначе, приносимую пользу, сознавать, что существуешь недаром, что кому-то помогаешь и кого-то облегчаешь, возвышаясь, таким образом, нравственно в собственных глазах. И тот, к кому приходит молодость на помощь, кого она утешает, становится для нее особенно дорог и ничуть не тягостен. Здесь легко развивается великодушная дружба и затем нередко и другое, более сильное, чувство… То же произошло и в настоящем случае. Чувство дружбы и сострадания привело обвиняемую к связи с Чихачевым. Излишне приподнимать завесу с их отношений, так как, я думаю, для вас ясно, что это были обыкновенные близкие отношения, которым не предшествовало ни насилия, ни обмана, ни обольщения. Если и было здесь обольщение, то оно состояло в обстановке, в которой сошлись Чихачев и обвиняемая, в семейственных скорбях одного и в наивном, но заманчивом стремлении другой заставить его позабыть эти скорби. Если и был здесь обман, то лишь относительно силы и значения ощущения, овладевшего ими, вследствие неумения отличить сильное, прочное и глубокое чувство от мгновенной вспышки страсти. Что здесь не было ни насилия, ни обольщения, видно из того, что обвиняемая созналась, к сожалению, быть может, слишком поздно, что она обманывала своего мужа, рассказывая ему, как будто бы было дело, и скрывая от него неприкрашенную истину. Кроме того, обстоятельства дела вызывают некоторые соображения, убеждающие, что она не могла иметь к Чихачеву иных отношений, кроме совершенно добровольных с ее стороны. Стоит только представить себе ее положение. Она молодая, малоопытная девушка, гостящая .у родных. С нею зачастую ведутся разговоры — вы слышали показание ее родственницы, у которой она жила, — о том, какие опасности предстоят девушке в жизни, как неосторожность для нее бывает пагубна, как нужно быть осмотрительной в отношениях к мужчинам, какие гибельные для чести результаты может влечь увлечение и т. д., и т. п. И вдруг человек насилует ее, употребляет во зло ее неопытность, ее доверчивость, оскорбляет и подавляет ее своею физическою грубою силою. Если бы это было так в действительности, она не могла бы не ужаснуться как самого своего поругания, так и могущих произойти из этого печальных последствий, почти неизбежных по естественному ходу вещей. Чтобы она, ввиду таких последствий, была хладнокровна, спокойна, чтобы она не плакала, не волновалась, не жаловалась, не искала у близких совета, утешения, помощи — это почти невозможно. Нам известно затем многое о характере и, лучше сказать, о бесхарактерности Чихачева. Это был человек слабый, без воли и энергии, любитель красоты, поклонник искусства и женщин. Это был, судя по общим отзывам, человек безусловно добрый и мягкий, снисходительный и робкий, деликатный и далеко не храбрый. Это был, очевидно, один из тех людей, которые по слабости воли умеют всего желать и ничего не умеют хотеть. Можно ли допустить, чтобы такой человек, не скрывая того, что он женат, стал обдуманно и рассчитанно обольщать девушку, которая его так трогательно сожалеет, и врываться в ее спальню, чтобы восторжествовать над нею диким порывом физической силы? Там, где существует изнасилование, — там безрассудная наглость, там отсутствие всякого чувства и одна жестокая, злая чувственность, одна животная страсть. Но разве для удовлетворения даже такой страсти, обыкновенно неразборчивой относительно предмета своих вожделений, могло быть необходимо и неизбежно нападать человеку робкому, доброму и слабому в чужом доме на невинную и порядочную девушку? Одно только и можно допустить, что Чихачев пошатнулся нравственно и, не устояв, был увлечен вместе с обвиняемой общим потоком страсти, овладевшей одновременно обоими ими… Связь их длилась недолго. К Чихачеву приехала жена. Да и, вероятно, в нем проснулось благоразумие, заговорило чувство долга, и он овладел собою настолько, что решился не продолжать таких отношений, не имевших, к счастию, своим последствием ничего, кроме тяжелых воспоминаний… Он стал простым знакомым и, по своей бесхарактерности и некоторой нравственной распущенности, даже допустил себе сделаться впоследствии посаженым отцом обвиняемой. Брак не вызвал со стороны подсудимого никаких подозрений. Он слишком верил в свою жену. Он сам заявил, что только иногда и то лишь мельком, в весьма туманных выражениях, касался он каких-то «физических», как он выразился, сомнений… Но ему и в голову не приходило подозревать ее. У нее, однако, старое, печальное воспоминание осталось. Выходя замуж, она, конечно, как это по большей части бывает, искала и выхода из окружающей обстановки, и жизни с любимым человеком. Очень еще молодая и не одаренная решительностью, она могла не иметь в себе достаточной силы, могла не иметь довольно значительного личного мужества, чтобы сказать мужу всю правду. И стыд, и страх могли ей сковывать язык. Это было нехорошо, это было неправдиво, но это было так естественно, так понятно, так простительно… Дело обошлось благополучно. Но когда у них началась согласная, чистая и честная семейная жизнь, когда подсудимая из роли кратковременной утешительницы Чихачева перешла к роли сознательной и любящей помощницы своего мужа, то у нее не могло не явиться внутренних упреков за прошлое, за свой обман. У таких впечатлительных натур, какою, по-видимому, была она, такие упреки растут с каждым днем, и чем меньше они находят себе исхода, тем глубже колют смущенную совесть. Обвиняемая, несмотря на свою сравнительную безличность, не могла не сознавать своего значения для мужа. Человек, не любимый обществом, которое он сам презирает, человек, против которого постоянно интригуют ничем не брезгающие противники, отвечая на его резкости так, как отвечал, например, Церешкевич, упрекавший его в «физическом и нравственном безобразии», такой человек должен находить счастье только в семейной жизни, искать утешения только у домашнего очага, где его любят, где ему знают цену, где его слушают… Туда должен он приносить извне свое горе и там ревниво хранить свои радости. Она не могла не сознавать, что ввиду разношерстных противников и врагов ее мужа она единственное существо, с которым он может быть вполне и без оглядки откровенен и около которого он исключительно находит необходимый покой. Она не могла не сознавать этого своего значения. И вот, когда, с одной стороны, он любит горячо и верит вполне, у нее в душе постоянно копошится воспоминание, что она обманула этого доверчивого человека, что она его провела, что она не стоит его доверия. Это должно было ее мучить. Я вполне верю ее объяснениям в этом отношении, я радуюсь, что со скамьи подсудимых раздаются объяснения, которые дают право вспомнить о хороших свойствах человеческой природы. Отчего не поверить, что голос совести зазвучал в обвиняемой, наконец, очень сильно, так сильно, что она нуждалась только в толчке, чтобы признаться. Притом ввиду постоянной, неизменной любви мужа у нее могло явиться предположение, что он отнесется спокойно к ее признанию, что он простит ей, что он даст ей облегчить свою наболевшую душу и забудет об ее лжи, давно искупленной и искренностью ее чувства, и верностью ее своему долгу. С другой стороны, у нее должна была существовать постоянно возраставшая боязнь — неизбежный спутник всякой тайны — боязнь, что все откроется помимо нее. Вы слышали, как относилась к ней госпожа Чихачева, и знаете, что она с подозрительным чувством обманутой супруги предполагала существование связи. Ревнивая женщина, не давая мужу, по его словам, никакого проблеска счастия, требовала от него безусловной любви и затем ревновала его ко всем. Вследствие какого-то инстинкта, как выразился свидетель фон Раабен, она возымела подозрение на обвиняемую и, невзлюбив ее, стала делать сцены мужу и, по свойственной многим привычке, приходя жаловаться на свои семейные дела, конечно, не всегда таила свои подозрения от посторонних. То, что ее обвиняет Чихачева, и то, что она состояла в связи с ним, должно было связаться в голове обвиняемой в один факт, и она могла думать, что ее потому подозревают, что Чихачев проболтался жене. Она могла бояться, что все будет открыто мужу каким-нибудь окольным путем. Тогда прощай все — и его уважение, и его любовь, и надежда на прощение, потому что тогда для нее не будет даже того смягчающего обстоятельства в глазах мужа, которое состояло бы в сознании своей вины… Вот разнообразные причины, которые могли побудить ее сознаться. Она это и сделала 22 июня прошлого года. Но человек, господа присяжные, исполнен противоречий, и рядом с порывами благородных и высоких чувств, рядом с великодушием, желанием раскаяния и жаждой правды гнездятся нередко разные мелкие побуждения, ложный стыд, желание оградить себя от опасности, желание выторговать что-нибудь у судьбы или даже у самого себя, одним словом, — разные сделки с самим собою… Бывают случаи, когда человек отдается порыву правдивости и сознает свою вину. Но если вглядеться в это сознание, то окажется, что по большей части человек не может удержаться, чтобы не сказать о себе или не вынудить других сказать: «Да, виновен, но заслуживает снисхождения». И затем нередко все дело представляется в таком виде, что кающийся только и заслуживает снисхождения, а виновными оказываются посторонние, другие… То же, полагаю, было и с подсудимою. Она созналась, что виновна, но не вооружилась достаточною правдивостью и добросовестностью, чтобы сказать мужу всю истину. Она сочинила целое повествование, в котором играла роль жертвы, и опрометчиво, в своей полуоткровенности, рассказала мужу такие вещи, которые не могли не задеть его самым больным образом. Она необдуманно подняла в его душе бурю, которую уже не могла утишить и которая увлекла и ее самое, вырвав с корнем из той спокойной обстановки, в которой она до тех пор находилась. Можно представить себе положение человека самолюбивого до крайности, каким был обвиняемый, после того как он выслушал признание жены. Вся предыдущая его семейная жизнь явилась в его глазах отравленною. К каждому воспоминанию о прошлых счастливых минутах, о каждой ласке жены должна была с этой минуты примешиваться мысль о лжи, об обмане; к каждому порыву нежности примешиваться воспоминание, что эта же нежность могла принадлежать и другому, и чем дальше шел обвиняемый в своих воспоминаниях, чем ближе подходил он к первым дням брака, тем сильнее и сильнее должны были развиваться эти жгучие мысли, и в конце концов все сходится на чувстве негодования против Чихачева. Но, кроме того, понятно, что когда он узнал от жены, что она шесть лет молчала, шесть лет скрывала такое важное обстоятельство, то в нем поколебалось прежнее его доверие к ней, а с ним пошатнулось и уважение. Это уничтожение доверия должно было вызвать мысль о том, что она, и признавшись, еще скрывает кое-что, что чего-то не договаривает. Подсудимый —- человек жизни, человек практичный — не мог не понимать, что в ее рассказе об изнасиловании есть много неверного, много неправдоподобного. И в нем должно было проснуться тяжкое сомнение о любви жены к Чихачеву, о добровольной связи с ним, могло даже явиться предположение, не продолжалась ли эта связь и после брака — ведь они встречались, могли видеться… Кто обманул до брака и обманул искусно, тот после брака может сделать это еще лучше. Такие выводы, такие мысли могли волновать обвиняемого и тяжелым гнетом ложиться на его встревоженную душу. Он весь отдался сомнениям и стал сам растравлять свою рану, требуя от жены объяснения различных частностей ее связи с Чихачевым, заставляя ее в сотый раз повторять все мельчайшие и не совсем даже чистые подробности. Он сам объяснял нам здесь, как овладело им сомнение, как — то веря, то не веря жене — он с болезненным любопытством расспрашивал ее «обо всем»… Но всего этого ему казалось мало, недостаточно. Тогда должна была у него возникнуть мысль о поездке в Ашево, чтобы заставить Чихачева сознаться, что он действительно изнасиловал, что он «взял то, чего ему не давали», и заставить жену рассказать все на очной ставке с ним. Перейдя от искренности к враждебному недоверию, начав видеть в жене не друга, а обманщицу, колеблясь и видя в ней то жертву, то предателя, обвиняемый требовал от жены доказательств правдивости ее рассказа. Он говорил здесь, что хотел разъяснить им, т. е. Чихачеву и жене, что между ними не было любви и нет ее, — иными словами, ему нужно было воочию убедиться, что жена не любит Чихачева, что она его презирает, ненавидит… Только ясное выражение таких чувств удовлетворило бы его уязвленное сердце и уменьшило бы его сомнения. Конечно, что обо всем этом в деревенском уединении, мир которого был так неожиданно нарушен, говорилось много и долго, настойчиво и требовательно. И тогда-то, постепенно, между обоими супругами должно было родиться и развиться предположение о том, что лучшим доказательством совершенного отчуждения ее от Чихачева может послужить предложение ему лишить себя жизни. Там, где делается подобное предложение, там нет ни любви, ни памяти об ней, а одна прочно сложившаяся ненависть, которая даже и человеку, подобному обвиняемому, могла бы показаться на первых порах достаточным доказательством правдивости слов жены.
Я не стану повторять историю, которая разыгралась в Ашеве. Ее фактическая обстановка не подлежит сомнению. Здесь достаточно описаны и этот грязный кабак, и комната, перегороженная тесовою перегородкою пополам, и запертая дверь в перегородке, и предшествующие посещению Чихачева дружелюбные объяснения с ним обвиняемого, и, наконец, выход Чихачева из этой конуры — бледного, испуганного, растерянного, почти больного. Для вас важно то, что происходило при этом объяснении. В общих чертах все показания свидетелей и предсмертное показание Чихачева сходятся на том, что после длинного и подробнейшего рассказа обвиняемой о своих к нему отношениях, причем муж был зрителем и слушателем, ему внезапно было сказано: «Вы клялись пожертвовать для меня вашею жизнью, она мне теперь нужна, отдайте ее мне». Я не придаю значения той части рассказа, где говорится, что на столе лежали револьвер и кинжал или нож. Они могли лежать потому, что были дорожными вещами, взятыми в путь и положенными на стол случайно.. Во всяком случае трудно предположить в обвиняемых совершенно бессмысленное желание, чтобы Чихачев тут же, при них, порешил с собой. Это всякого навело бы на мысль, что Чихачев коварно убит ими. Но не подлежит сомнению самое предложение лишить себя жизни. Сами обвиняемые не отрицают его, придавая ему только характер шутки. Но в таком случае и убийство 26 ноября также может быть объяснено шуткою, только неосторожною. Подсудимый говорит, что отнесся к этому предложению своей жены Чихачеву спокойно, даже со смехом, как к вещи совершенно несбыточной и невозможной. Но я не думаю, чтобы это было так, и ввиду того, что последовало затем, я полагаю, что для обвиняемого было весьма интересно, чем это кончится и как отнесется Чихачев к сделанному ему приглашению. Если бы предложение о самоубийстве было принято, то это указывало бы лучше всяких очных ставок, что Чихачев считает себя глубоко и безусловно виновным. А если он считает себя виновным до такой степени, что по просьбе чуждой ему в данную минуту женщины добровольно сходит с лица земли, то она сказала правду и одну только правду. И если она нашла в себе настолько жестокой смелости, чтобы потребовать самоубийства, то значит действительно она была опозорена им и между изнасилованием и предложением самоубийства не лежит ничего, кроме постоянной и глубокой, вырвавшейся, наконец, наружу, ненависти и полнейшего презрения; значит, она его никогда не любила, значит, она нравственно была чиста пред мужем и верна ему. Тогда можно ее и простить за ее невольный проступок… Подсудимый говорил нам здесь, что через все это дело проходит, по его мнению, одна нить, связывающая все его поступки, — сомнение. Он вечно сомневался, вечно недоверял, постоянно находясь в борьбе с самим собою. Я думаю, что это отчасти справедливо для первого времени — от признания жены до поездки в Ашево. Но дальнейшие события указывают на нечто другое; через дело проходит другая нить, приводящая к выводу, что если подсудимый — человек деятельный и честный, то, с- другой стороны, это человек злобный и себялюбивый, в котором мало сердца, которому недоступно чувство настоящей любви, неразлучной с снисхождением, с прощением, с извинением слабостей, ошибок и даже проступков близких этому сердцу людей. Может ли говорить о действительной любви человек, который заставляет свою молодую жену в грязной харчевне рассказывать своему бывшему, давным-давно оставленному и мимолетному любовнику все мелкие и щекотливые подробности их отношений и, горя стыдом, напоминать ему вещи, которые давно следовало выбросить из памяти, рискуя притом всякую минуту выслушать: «Вы лжете, вы клевещете; дело было не так; вы отдались мне добровольно». Человек, который способен проволочить свою жену через все обстоятельства настоящего уголовного дела, подвергать ее терзаниям своих допросов и поруганиям уездной молвы, бранить и бить — и притом не за то, что она виновна, а только потому, что он сомневается, — такой человек связывает свои действия не только нитью «сомнения», но обнаруживает глубоко раздраженное себялюбие, под властью которого, в своих злобных и желчных порывах, он беспощадно и бессердечно относится ко всему, что его окружает, ко всему, с чем он сталкивается… В этом суть дела, на этом основываются все поступки подсудимого. Когда было сделано предложение самоубийства, он не счел нужным разъяснить Чихачеву «шуточное» значение этого предложения — лучшее, доказательство, что он сам считал его серьезным. Недаром же впоследствии в письме, написанном под диктовку мужа, подсудимая говорит Чихачеву, что «честь женщины смывается только кровью», и советует ему последовать примеру его застрелившегося брата. Чихачев был поражен и совершенно расстроен. Нам достаточно рисовали здесь его характер, чтобы понять состояние его духа в это время. Он был привязан к жизни; хотел жить сам и, делая вокруг себя посильное добро, старался давать жить и другим; он любил красоту, ухаживал за женщинами, занимался живописью, был немножко сибарит, немножко художник, немножко ловелас и, в довершение всего, — мягкий, податливый, нерешительный человек. На такого человека предложение лишить себя жизни должно было подействовать чрезвычайно сильно, поразить его, как обухом по лбу, и нельзя поэтому было требовать, чтобы он таил все про себя, не делясь ни с кем своим страхом, своим изумлением, не сказав ни слова даже самому близкому в то время к нему лицу. Нельзя было ожидать, что он не примет мер, чтобы по мере сил освободиться от подсудимого, приказав не принимать его. Это и было сделано. Подсудимый удалился к себе в деревню со всеми своими сомнениями и прожил там две недели. Конечно, он не мог рассчитывать, что его приезд в Ашево и все его последствия могут остаться никому неизвестными и пройдут незамеченными. Достаточно припомнить рассказ Церешкевича и представить себе обстановку села, куда приезжает мировой судья и, остановившись с женою в какой-то трущобе, ведет, запершись, какие-то разговоры с бледным и испуганным Чихачевым, чтобы понять, какие толки должны были пойти уже по этому одному в окрестности. Спустя две недели, подсудимый снова является в Ашево к Чихачеву уже с намерением предложить ему поединок. Хотя Чихачев разъяснил, по-видимому, его сомнения положительным отрицанием изнасилования и отказом от самоубийства, но оскорбленное самолюбие — этот главный рычаг всех поступков обвиняемого — все-таки продолжало влиять, и к нему примешивалось еще чувство ревности, хотя и задним числом. Все это должно было держать его, отдавшегося своему несчастию с неразумною страстностью, в возбужденном состоянии. Вместе с тем он не мог не сознавать, что поездка его в Ашево кончилась весьма странно и даже нелепо. Предложение не принято, а театральная обстановка осталась. История эта разгласится, и к представлению о нем, как о человеке крутом, желчном, неуживчивом, присоединится сказание о том, какую он играл смешную и жалкую роль в Ашеее. Понятно, что вследствие этого сознания ему не могло казаться все поконченным посредством трагикомического ашевского свидания, а нужно было вывести дело из смешного положения и придать ему более определенный характер. Тогда могла, естественно, явиться мысль вызвать Чихачева на дуэль, мысль принести дань общественному предрассудку, очень старому, но не дряхлеющему и не сходящему со сцены. Защитник подсудимого в одной из своих блестящих речей сравнил дуэль с войной. Если бы войны совсем прекратились, если бы наступили годы «жирного мира» — он сказал бы «finis Euroрае!» (Конец Европе! (лат.)) как сказал бы то же по отношению к обществу, в котором понятие о чести стало бы столь бесцветно, так заглохло бы, что в защиту его человек хотя изредка не рисковал бы своим лучшим достоянием — жизнью. Я в значительной степени с ним согласен. Хотя государство не может не преследовать и не карать дуэли, видя в ней преступление против личной безопасности, хотя дуэль не слита органически с правильною жизнею и правильным развитием общества, а имеет в каждом данном случае горячечный характер, но нет сомнения, что это явление, вошедшее в плоть и кровь европейского общества и причины которого не устранимы уголовными карами. Иногда, после годов затишья, вдруг происходит ряд дуэлей в разных слоях, и это лучшее указание на то, что болезнь не излечена, что она таится в организме и время от времени прорывается наружу. Нужно много самообладания, много нравственной стойкости, чтобы в крайних случаях не поддаться этой болезни, не дать собою овладеть этому «предрассудку». Но такой стойкости в подсудимом не было, его характер был иной, и понятно, почему, лихорадочно ища выхода из своего странного положения, негодуя на своего «посаженого отца» и ревнуя его, он сделал вызов. Чихачев, однако, не выслушал этого вызова лично. Он остался верен своему робкому, нервному характеру. Он был еще слишком под влиянием удручающей обстановки первого приезда подсудимых в Ашево, он весь поддался страху преследования и растерялся до того, что на него, как на пьяного, надели шапку и пальто, посадили его в коляску и увезли. Но еще непоследовательней вел себя подсудимый, держа себя с полным отсутствием какого-либо достоинства. Он не хотел дождаться, пока Чихачеву будет передан его вызов, он вполне удовлетворился ответом Церешкевича и снова дал волю своему гневу. Совершенно забыв всякую сдержанность и приличие, и он, и его жена производят в чужом доме шумный обыск, громко и непристойно ругая Чихачева, и, таким образом, приподнимают еще более завесу над тем, что должно бы быть для всех посторонних тайною. Они сами своим поведением развязывают язык Церешкевичу и дают повод к ряду невыгодных для них толков и пересудов. Чихачева никак нельзя упрекать в том, что он «не хранил свято» тайну своих отношений к подсудимой. Лучшим доказательством этого служит показание фон Раабена о том, что когда была получена телеграмма от Церешкевича, где говорилось, что «они» гонятся за Чихачевым, то все семейные разумели под словом «они» жену Чихачева и близкое к ней лицо. Никто из них не подумал на подсудимых. Значит, Чихачев даже своим друзьям, своим близким никогда не говорил о странных требованиях, о преследованиях подсудимых и о том, что выставляется причиною этих бедствий. Итак, подсудимые своими обысками, своею гоньбою за Чихачевым, всем шумом и суматохою, которую они наделали, сами разоблачили свою историю, сами дали богатый материал для досужего любопытства и рассказов. Подсудимый был для Ашева «особа» и, конечно, возбуждал своими действиями общее внимание. Приехал мировой судья с женою, таинственно заперся втроем, потом не был принят, немного спустя опять приехал и опять с женою, а другой мировой судья в то же время, в чужих шапке и экипаже бежал,— производили обыск, ругались, гнались, преследовали… какая обширная канва для всевозможных рассказов! Для вымыслов и догадок! Надо прибавить к этому еще то, что сам обвиняемый нисколько не обязывал Церешкевича молчать, что, встретившись с ним в Новоржеве, он сказал: «Передайте Чихачеву, что я вызываю его на дуэль», и когда Церешкевич ответил, что Чихачев, вероятно, не станет драться после сделанного ему предложения, то обвиняемый заметил: «Да, это было тогда, а теперь я предлагаю дуэль», подтверждая этим, что было предложено самоубийство. И если сопоставить все сказанное мною о действиях обвиняемых с обстановкою, в которой они действовали, то станет, как я думаю, понятно, что подсудимый, зайдя так далеко, не мог уже удовлетвориться покупкою дуэльных шпаг и непринятым вызовом на дуэль…
Господа присяжные заседатели, вероятно многим из вас известны условия жизни в уезде и вообще уездная обстановка. Известно, какой сон, какое вялое спокойствие царит в уголках так называемой провинции, как мало, в большинстве случаев, занято местное население интересами общественными и живыми вопросами, которые волнуют и занимают жителей столиц и больших городов, и, наоборот, какую особую цену имеют в глуши уезда такие новости, которые связаны с определенным лицом, так сказать, осязаемым, всем лично известным… В особенности возбуждают интерес новости о лице, занимающем какое-либо общественное положение, какой-нибудь видный в уезде пост. Понятен интерес, с которым местное общество следило за похождениями такого человека, как подсудимый, бывший мировой посредник, председатель земской управы, мировой судья, а тем более за поступками, действительно выходившими из ряда обыкновенных. Слух, пошедший после резких и неблагоразумных действий подсудимого, должен был оживить и возбудить все местное общество, скудное новостями, богатое любопытством. Ашевская история с ее подробностями — самоубийством, вызовом и погоней — была камнем, брошенным в стоячую воду, от которого все заколыхалось и пошли расходиться все далее и далее круги, волнуя болотную тишь и гладь. Лучшие доказательства того, как разрастались рассказы и сплетни о подсудимых и Чихачеве, находятся в письмах Церешкевича, по ним можно проследить, как молва к простому предложению самоубийства постепенно присоединила револьвер, потом кинжал, затем стакан яду, наконец петлю, так что бог знает, до каких способов самоубийства добралась бы эта молва, если бы события не дали ей другого материала… Притом, вспомните личный характер и положение подсудимого в уезде. Человек всех ругал и корил, и вдруг у него у самого оказывается больное место, да еще какое больное! Он — который на всех смотрел презрительно — у себя дома поставлен в фальшивое положение обманутого мужа; он — считавший всех идиотами — сам действует совершенно безрассудно; он — этот самолюбивый гордец — унижен, осмеян, обманут… Какой богатый материал для недоброжелателей, которые, конечно, должны были за него ухватиться, захлебываясь от радости, ухватиться и разглашать его, выпуская «чихачевскую историю» в разных изданиях и с новыми вариантами, вроде стакана яду, петли и т. д. Уйти от этих сплетен и слухов было не только трудно, но просто невозможно. Подсудимый— мировой судья; ему по должности приходилось принимать ежедневно приезжавших по делам, объясняться с ними, и все слухи и пересуды, им же самим вызванные, должны были вторгаться к нему в виде намеков, косвенных взглядов, непрошенного оскорбительного участия, лживо-сочувственных вопросов и т. п. И так каждый день! И более мягкий человек раздражился бы при мысли, что в его семейный мир внесен разлад, который всякий считает себя вправе заметить, что его частная жизнь сделалась добычею любопытных глаз и праздных языков. Понятно, как это действовало на обвиняемого при его желчности и раздражительности, при том безграничном самолюбии, которое выказывал он не раз. Понятно, что он мог до крайности негодовать на виновника всего этого и, забывая в своем ослеплении про себя, про свой образ действий, начать ненавидеть Чихачева всеми силами души. Он уехал за границу… Я не стану утверждать, что он это сделал с тем, чтобы догнать Чихачева: на это нет указаний в деле. Вероятно, он это сделал с тем, чтобы хоть немного забыться и вырваться из той среды и атмосферы, где ему тяжко дышалось и жилось после всего, что он наделал. Но это ему не удалось. Иные люди и новая природа не облегчили, не развлекли его. Он унес с собою и за границу свои тревоги и свою домашнюю едкую печаль. Он проводил бессонные ночи и посвященные бесцельной беготне дни за границей, как сам это объяснил здесь. Но, кроме того, у нас есть один факт, который указывает на его душевное состояние, а именно письмо, которое он писал к Чихачеву из Берлина, из первого города, где впечатления новой жизни должны были обступить его, письмо, в котором говорится: «Нет ничего возмутительнее, когда личность, пошлая и ничтожная во всех отношениях, прозябает, не сознавая своей гадости. В вас нет ничего цельного. Вы глуповаты, пошленьки, мерзеньки… Одно только прилагательное применимо к вам не в уменьшительной степени: вы трус! Чем больше вдумываюсь в вашу личность, тем все гаже и гаже она мне становится. Ни одного смягчающего обстоятельства!»
Вы видите, господа присяжные, как быстро развивалась ненависть подсудимого к Чихачеву, как из человека, который, по своим собственным словам, был почти спокойным зрителем очной ставки жены своей с Чихачевым, из человека, который затем предлагал способ серьезно решить дело поединком, он обращается в простого ругателя, стараясь излить накопившуюся злобу хоть на бумаге, и пишет письмо, если можно так выразиться, с пеною у рта. По возвращении подсудимых из-за границы уезд принял их в свои объятия, и их, конечно, встретило все прежнее — и обстановка, и рассказы, еще более разросшиеся в их отсутствие, которое объясняли погонею за Чихачевым. Они уединились у себя и снова показываются на свет лишь 26 ноября, в день убийства. Но у нас есть хороший материал, чтобы судить о том, что они делали в это время. Это дневник подсудимой. В нем, как и во всяком дневнике, надо отличать две стороны: личную и фактическую. Всем личным рассуждениям дневников доверять следует весьма осторожно. Человек против воли, ведя дневник, всегда почти рисуется пред кем-то третьим, пред каким-то будущим читателем, даже каясь в прегрешениях и пылая негодованием против самого себя. Поэтому, мне кажется, что в дневнике вообще трудно найти правдивое изображение личности и ее внутреннего мира; наконец, эта часть составляет такую сокровенную принадлежность каждого, что ее приличнее вовсе и не касаться. Но факты, выставленные в дневнике, события, указанные в нем, принадлежат исследователю и заслуживают, в значительной степени, веры. Из дневника обвиняемой мы узнаем, что, вернувшись в Андрюшино, муж ее окончательно предается своему гневу; Чихачева нет, сорвать злобу не на ком, отомстить некому, и вот эта злоба и месть обрушиваются на жену. Она начинает горькими страданиями и унижениями искупать ту неосторожность, о которой сама теперь сожалеет, упрекая себя в том, что созналась мужу. Подсудимый всю почти первую половину ноября обращался с женою, как самый неразвитый, ослепленный и бессердечный человек, сменяя это обращение, по какому-то особому настроению, ласками и нежностью… Он не только заставляет ее вновь и вновь рассказывать все мелкие подробности своих отношений к Чихачеву, не только мучит ее по временам своим молчанием по целым дням, не только называет в глаза разными неприличными именами, но замахивается на нее стулом, бьет ее чубуком и наносит удары кулаком, от которых лицо ее заливается кровью. Он подвергает ее медленному мучению выпытывания признаний, так сказать, поджаривает на медленном нравственном огне, и при одном имени Чихачева, около которого, однако, вращаются все пытливые расспросы, приходит в ярость. Очевидно, что этот человек отдался всецело своему страшному гневу. Отсутствие снисходительности и терпимости, ему свойственное, так дало восторжествовать этому чувству, что оно заглушило все проблески других благородных чувств: не видно и следа сострадания к жене, жалости и уважения к женщине… Он или молчит, или бушует один в доме. Ничто его не интересует, он весь отдался своему недостойному, животному гневу, который сам себя питает… Жена его плакалась, по институтской привычке изливалась в дневнике, уличала себя в том, что считает «днями блаженства» дни, когда его нет дома, и, убегая ночью с постели, ложилась на снег в надежде захворать и умереть… Нет сомнения, однако, что не жена была главным предметом его злобы. Она просто попадалась под руку. Это был Чихачев, заводчик всему, в его глазах, злу, заставивший жену стать в такое положение; которое вызвало впоследствии с ее стороны сознание, а со стороны подсудимого необходимость- разъяснить это сознание, наделав при этом ряд несообразностей, которые подали повод к различным сплетням и т. д. Вот против кого должен был питать главным образом злобу подсудимый. Вот чьего имени он не мог слышать, не сопровождая его бранью и побоями той, которая являлась пред ним живым напоминанием о ненавистном человеке. Но человек, подобный подсудимому в этот период его жизни, не может относиться к своему недругу с каким-нибудь получувством; он должен его ненавидеть глубоко и страшно, а ненависть неразлучна с желанием устранить, уничтожить ненавистный предмет, лишить его возможности физически и нравственно давить и возмущать своим присутствием. И чем недоступнее этот предмет, тем он ненавистнее! А Чихачев был почти недоступен для подсудимого; он скрывался и только, на общее несчастие, постоянно вставал перед ним в его воспоминаниях. Я думаю, что в припадках гнева, во время которых последний истязал жену, у него не могло не быть желания нанести вред еще больший и неизгладимый Чихачеву, настолько более сильный, насколько, по его мнению, Чихачев являлся сравнительно с женою более преступным. Мы видим намеки на это в письме подсудимой к Чихачеву. Оно писано ею самою, но проникнуто мыслями и выражениям» мужа, который его исправлял и редактировал. Из него видно, до какого озлобления дошел он сам, дошла и жена его. Они «не хотят пачкать рук в жалкой и презренной крови Чихачева», им нужно «удовлетворить свою злобу», нужно «избить очень больно», — Чихачеву посылается пощечина, в надежде сделать то же и на деле, его называют «идиотом и бессознательным подлецом», ругаясь над его родственным чувством, ему советуют последовать примеру брата — застрелиться на охоте и т. д. Такое письмо, написанное женою под диктовку мужа, указывает на нескрываемую ненависть, на злобу, которая кипит и льется через край, так что слова «честь женщины восстановляется только смертью» звучат в нем вовсе не простою угрозою. Притом, там, где можно написать такие вещи издалека, там гораздо худшее можно сделать вблизи, лицом к лицу. Но такое состояние не может длиться долго — необходим исход, какой бы то ни был. Подсудимой, очевидно, жаждал встречи с Чихачевым… Дуэль отдавала бы ему хоть на несколько минут Чихачева в руки, дуэль застилала бы собою глупую историю в Ашеве и показывала бы, что с ним шутить нельзя… С этим предложением он и является к Чихачеву. Мы знаем, как оно было сделано, подсудимый согласен в этом с Церешкевичем, фон Раабеном и Поповым… Имел ли Чихачев основание отказываться от дуэли, имел ли подсудимый право негодовать на этот отказ и считать себя затем вправе на все против Чихачева? Если человек оскорбленный может, согласно существующему обычаю, вызвать другого на дуэль, то он во всяком случае должен удовольствоваться тем, что сделал вызов и потребовал удовлетворения. Он принес свою дань предрассудку и показал, что его нельзя безнаказанно оскорблять. Если противник отказывается от дуэли, он заслуживает, быть может, в глазах вызвавшего громкого названия труса, жалкого и мелкого человека, который имеет дерзость оскорблять и не имеет смелости расплачиваться за свои оскорбления. Но этим и должно все окончиться. Там же, где человеку, отказавшемуся от дуэли, настойчиво и неотступно предлагают ее, где его преследуют, и несмотря на доводы, что он не считает себя обязанным принимать вызов, всячески принуждают идти драться, там будет уже не дуэль, а нечто худшее. Там его заставляют или самого выйти под пулю, следовательно, подготовляют ему убийство, или заставляют против воли посягнуть на жизнь другого, т. е. сделаться убийцею. Во всяком случае совершается преступление или против него, или его самого заставляют совершить преступление. Я думаю, что всякий, кто не считает себя обязанным принять вызов, имеет нравственное право отказаться, приняв и все общественные последствия такого отказа, а тот, кто станет после отказа насильно, угрозами и запугиванием, тащить его к барьеру, тот станет в положение нападающего. Чихачев не захотел драться. Это его личное дело, не подлежащее нашему суду. Он мог иметь свои основания, общественные, личные… мог думать, что уже поквитался с подсудимым. Наконец — и это главное — он не считал себя виноватым. Этому отказу предшествовал, однако, целый ряд писем, полученных Чихачевым от Церешкевича. Нельзя не пожалеть о той роли, которую играл в этом случае господин Церешкевич. Увлекаемый чувством дружбы, он хотел охранить своего друга от несчастия, а между тем близоруким образом волновал и только пугал его, поселяя в нем излишние опасения своими подробными отчетами о том, что делается и говорится в уезде. Письма эти постоянно держали Чихачева в страхе. Мы знаем, что произошло 26 ноября. Приехав сюда, подсудимый прежде всего отправился в адресный стол и взял справку о Чихачеве, который отмечен был поехавшим в Москву Желая узнать, когда он вернется, и вообще разузнать о нем, подсудимый, как всегда неразлучный с женою, вдруг узнает, что Чихачев здесь и живет у своей сестры. Идя по лестнице к сестре Чихачева, обвиняемые, конечно, были под давлением всего пережитого ими и всех мыслей, волновавших их… Лишь только перемолвили они несколько слов с Чихачевым, ему была вновь настойчиво предложена дуэль, и когда он от нее отказался, произошел тот факт, который мы признаем убийством в запальчивости и раздражении.
Мне приходится перейти ко второй части обвинения и разобрать, существовало ли действительно намерение совершить такое преступление, выразился ли в действиях обвиняемых в данном случае умысел убить Чихачева. Я старался подробно выяснить дело и то, что должно было происходить с подсудимым до самого приезда его на квартиру Чихачева. Ненависть его к Чихачеву должна была дойти до крайнего предела. Недоставало только толчка, чтобы эта ненависть, прорвавшись гневной бурей, проявила себя каким-нибудь насильственным, кровавым действием. Этот толчок был дан отказом Чихачева от дуэли; вслед за ним произошло насилие со стороны подсудимого, состоявшее в убийстве. Обращаясь к доводам о том, что он имел намерение убить Чихачева, восстановим то, что произошло в квартире Чихачева. Из показаний свидетелей картина происшествия представляется довольно ярко. Когда подсудимый с своею женою быстро и смело вошли в квартиру Чихачева, последний вышел к ним навстречу, оставив в соседней комнате фон Раабена и Попова. Эти лица услышали разговор о письме; за разговором последовало какое-то предложение, на которое последовал решительный отказ от дуэли со стороны Чихачева; затем наступил момент молчания, смененный движением, шумом, вознею. Произошел, как характеристически выразился здесь дворник Ильин, «бунт». Этот бунт услышали и другие лица. Первое лицо, которое явилось усмирять бунт, был дворник Ильин. Вы помните его оживленное показание, хотя краткое, но очень ясное. Он застал подсудимого стоящим перед Чихачевым, который был прижат к дивану, и наносящим ему удары. Когда он бросился к ним, чтобы оттолкнуть нападающего от Чихачева, и когда хотел схватить его руки, то почувствовал, что ему что-то поранило пальцы. Тогда он увидел в руке подсудимого нож и закричал об этом. Выбежали Попов и фон Раабен. Последний бросился на подсудимого и стал его оттаскивать от Чихачева, а Попов крикнул дворнику, чтобы он держал обвиняемую. Когда фон Раабен оттаскивал подсудимого, держа его за одну руку, он в то время действовал другою рукою, отталкивая от себя Чихачева, который был в самозабвении и, наступая на него, бессознательно, очевидно потерявшись, наносил удары. Наконец фон Рабену удалось свалить подсудимого на диван и обхватить; Чихачев, стоявший тут же, сказал, несколько успокоившись: «Ну, слава богу, все кончено, теперь надо за полицией!» Действительно, для него все было кончено: у него оказались тяжкие и глубокие раны, от которых он на другой день и скончался, протестуя до последней минуты против обвинения, взведенного на него подсудимою… Для определения, было ли в этом нанесении ран желание совершить убийство, надо обратить внимание на орудие, которым нанесена смерть; рассмотреть, когда именно орудие это было пущено в ход, каким образом им действовали, как обвиняемые вели себя потом, и вообще вглядеться в характер их действий. Орудием преступления был нож, хорошо отточенный, довольно массивный, который, по показаниям самого обвиняемого, был с довольно тугою пружиною. Обвиняемый говорит, что когда он был свален на диван, то там он вынул нож, обеими руками раскрыл его и затем не помнит, как нанес удары.
Но, господа присяжные, я думаю, что вы не поверите этому рассказу. Вы слышали показание дворника. Он первый вошел в комнату, бросился на борющихся и получил раны ножом по пальцам. Что это было до появления фон Раабена, видно из того, что, когда фон Раабен оттаскивал подсудимого от Чихачева, дворник держал уже обвиняемую на другом конце комнаты. В' это время кровь шла у него из руки и испачкала кофту и рукав обвиняемой, следовательно, он был ранен до того, т. е. до того, как Раабен, схватив подсудимого за руки, приказал ему держать обвиняемую. Она стреляла, находясь в руках дворника, уже в то время, когда муж ее был пригнут к дивану Раабеном, а Чихачев стоял подле. Следовательно, дворник мог получить раны в руку только до участия в деле фон Раабена. Затем, из показаний фон Раабена видно, что он обхватил подсудимого и держал его крепко, когда они были на диване. Если даже предположить на минуту, что подсудимый мог вынуть из кармана и открыть нож в это, время, то кому же достались бы его удары, если он, как говорит, наносил их бессознательно, как не тому, кто лежал на нем, и раны были бы нанесены не по рукам, которые его обхватывали, и не в грудь противника, потому что он плотно прилегал ею к подсудимому, а только в спину или в бок. Этим противником, против которого мог защищаться подсудимый, был фон Раабен. Между тем фон Раабен, как вам известно, остался невредим, исключая незначительной царапины на руке, а раны нанесены были Чихачеву, который стоял в стороне, около дивана. Каким образом человек, обхваченный и крепко прижатый к дивану, наносил удары не тому, кто его держит, а другому, стоящему около дивана? Наконец, если и предположить, что подсудимый в это время нанес Чихачеву удары, то куда же они могли быть нанесены? Очевидно, в ту часть тела, которая была на одной линии с лежащим на диване, т. е. в нижнюю часть живота или в верхнюю часть ног, в бедра, а, между тем, раны нанесены в верхнюю часть груди. Подсудимый говорит, что стал наносить удары ножом лицам, которые его держали, сам себя не помня и силясь обороняться. Но если обороняться, то значит сознавать, что и зачем делаешь. От чего же и от кого обороняться? От лиц, которые его держат, чтобы прекратить драку и передать его полиции, так как Чихачев его уже не трогал. Но набуйствовать и нашуметь в чужой квартире и защищаться с ножом в руках от грозящего прихода полиции — это такое странное объяснение, которое не заслуживает доверия. Для такой защиты нож был не нужен. Затем, если бы он действительно защищался, то раны и были бы нанесены тем, которые его держали, а не Чихачеву, который стоял в стороне. Припомните, как им вообще объясняется употребление в дело ножа. Он помнит все: как вынул нотку как раскрыл его обеими руками и даже как держал его лезвием вниз и т. д., а затем совершенно забывает, как и кому наносил удары. Но обе части его объяснения стоят в противоречии, которое ему и было замечено одним из членов суда. Или он помнил все, или ничего не помнил… Если поверить объяснению, что он не действовал ножом, покуда не был на диване, то можно ли допустить, чтобы ему дали время не только достать и раскрыть нож, но еще и нанести четыре раны, и притом, по странному стечению обстоятельств, именно тому, кого он не выносит и ненавидит. Все эти объяснения подсудимого неправдоподобны, и надо их отбросить. Они противоречат истинным обстоятельствам дела. Когда же он наносил удары и когда открыл нож? Этого не могло быть в то время, когда фон Раабен оттаскивал его за одну руку и когда другая была свободна, так как он сам признает, что одною рукою нельзя было открыть тугой, снабженный пружиною нож. Следовательно, он был вынут и открыт еще до того, как фон Раабен схватил его за руку и стал тащить от Чихачева. Чихачев, идучи на подсудимого в это время, в самозабвении ударял его руками, махая ими, и на них оказались следы режущего оружия: на ладони одной руки порез, на соединении кисти левой руки с предплечием еще порез и около локтя другой руки два пореза. Очевидно, что в это время в руках его уже был раскрытый нож. Следовательно, главные раны были нанесены до того времени, когда фон Раабен стал разнимать дерущихся. Мы знаем, что фон Раабен и Попов слышали из соседней комнаты вопросы и ответы, затем, как говорит фон Раабен, наступил момент молчания. Потом раздался шум от падения и началась возня и крики, и когда они выбежали, борьба была уже в разгаре. Так и должно было случиться. Возмущенный отказом Чихачева от дуэли, получив тот нравственный толчок, о котором я уже говорил, подсудимый отдался весь своему гневу и почувствовал в себе прилив крайнего бешенства. Известно, что в такие минуты дыхание спирается в стесненной груди, голос иссякает, чтобы замениться затем, после нескольких мгновений зловещей тишины, бессмысленными, дикими звуками, которые все разом силятся вырваться из горла, облегчая болезненно сжатое сердце… В жестоком гневе наступает обыкновенно несколько секунд молчания, характеризующего момент, в который разум быстро исчезает, уступая место животной злобе, и, наконец, ярость разражается — ударами, криками, пролитием крови… То же, без сомнения, было и здесь. Момент молчания, подмеченный свидетелями, обличает именно этот переход от гнева сдержанного к гневу, не знающему никаких преград. Мы знаем, что подсудимый ударил кулаком в лицо Чихачева. Чихачев упал. В эту минуту был самый удобный момент выхватить и раскрыть нож и, пока Чихачев подымался с полу, приготовиться встретить его ударами ножа. И действительно, посмотрите на расположение ран. Обе они находятся в груди, одна посредине, другая несколько выше и ближе к боку. Одна представляет резаную рану и, проникая в грудь, идет сверху вниз; другая нанесена спереди назад и представляет колотую рану. Если допустить, что. подсудимый нанес удары в другое время, а не тогда, когда Чихачев поднимался после падения, то никак не могли образоваться такие раны. Они были бы обе колотые, если предположить, что он нанес их в то время, когда фон Раабен оттаскивал его за левую руку, и во всяком случае были нанесены снизу вверх, ибо Чихачев был выше его ростом. Чтобы нанести резаную рану сверху вниз, подсудимому нужно было сделаться ростом выше Чихачева. А такое положение могло бы быть только, когда он стоял, а Чихачев приподнимался после удара кулаком. Вторая рана — колотая и ниже резаной — нанесена, очевидно, когда Чихачев, встав во весь рост, бросился на подсудимого, чтобы защищаться. Определив по возможности, когда были нанесены раны, надо посмотреть и на места, куда они нанесены. Человек, в бессознательном состоянии защищающийся от нападения, стал бы наносить раны ку-. да попало. Но здесь удары были нанесены верною, твердою рукою в одно преимущественно место и проникали глубоко. Они нанесены почти рядом в грудь, около сердца. Наносивший не мог не понимать, что по месту, куда он направляет удары, он наносит смертельные раны. Подсудимый не был в бессознательном состоянии. Где сознательно открывают нож, там не действуют им тотчас же бессознательно. Выхватив нож против человека, которого он первый же ударил и с такой силой, что сшиб с ног,— не значит защищаться, а значит желать нанести ему серьезный вред, большое зло. Но зло, наносимое ударами длинного и отточенного ножа в грудь, — есть смерть… Защита, может быть, будет утверждать, что тут была простая драка и раны нанесены в пылу обоюдной свалки. Но драки происходят обыкновенно так: сойдутся люди без всякой предварительной ненависти, выпьют, поспорят по пустому и всегда неожиданному поводу и… подерутся, норовя ударить в лицо, «съездить» в зубы, схватить за волосы, за бороду, «оттаскать» противника… Если причинится кому-нибудь при этом смерть, то это несчастная случайность, неожиданная, никем не желанная. Но там, где перед убийством так долго накипала ненависть, где она постоянно возрастала, там убийство совершено не в драке, которая не предполагает предварительной долгой, заглушаемой и, наконец, прорвавшейся наружу злобы. Кроме того, посмотрите на поведение подсудимых. Убивший другого в драке и узнавший, что вместо того, чтобы «побить», он «убил», придет в ужас, падет духом, не будет знать что делать, особливо если он сколько-нибудь развитой человек. Но что делает подсудимый? Запертый в комнате, он закуривает папироску, чувствует аппетит, просит чаю, спрашивает, умер ли Чихачев, и, отвечая на вопрос своей жены, что он, а не она его убила, берет на себя заслугу этого дела, а когда ему говорят, что Чихачев умер, провожает его спокойными словами: «Ну, и бог с ним!» Когда человек убивает в драке, он бывает поражен, озадачен, сам убит случившимся, а когда человек убивает другого вследствие глубокой к нему ненависти и когда пролитая кровь завершает эту ненависть, он бывает спокоен, он притихает, чувствует некоторое удовлетворение, как это обыкновенно бывает после всякого страстного душевного движения. Такое удовлетворение своей ненависти и гнева почувствовал и подсудимый. Его папироска, его аппетит, его «Не ты, а я его убил» и его «Ну, и бог с ним» указывают на это. Притом, если бы он хотел только драться, то какая же была бы цель этой драки? Он пришел для того, чтобы вызвать Чихачева на дуэль, т. е. или своею жизнию пожертвовать, или убить его. Это ему не удалось. Чего же может он желать затем? Поколотить противника, подбить ему глаза, разбить зубы и за это быть отправленным в полицию, судиться у мирового судьи и, быть может, быть прощенным тем же Чихачевым?! Но разве такого человека, каким мы знаем подсудимого, мог удовлетворить этот пошлый исход? Разве это довольно было бы для его израненного сердца и омраченной ненавистью души, для его раздраженного самолюбия? Тогда ведь он еще более будет смешон в уездных глазах. Тогда создастся целая легенда о мировом судье, судимом мировым судьею за побои, нанесенные мировому же судье. Нет, здесь не было драки! А не было драки, так было желание убить. Это вывод, по моему мнению, неизбежный.
Но, быть может, скажут, что Чихачев тоже нападал на подсудимого, наносил ему удары. Можно ли, однако, требовать, чтобы он оставался спокойным и не трогал человека, свалившего его и бьющего ножом в грудь? Можно ли это требовать, в особенности когда этот человек почти насильственно пришел в квартиру Чихачева и когда последний видел пред собою давнего преследователя и смертельного врага? И если Чихачев умирает от ударов, нанесенных ножом в такое место, где смерть почти неизбежна, нанесенных человеком, который давно кипел против него гневом и преследовал его, добиваясь своей или его смерти, и встретил окончательный отказ в удовлетворении этого желания, мы имеем право сказать, что человек этот хотел убить своего врага, сказать, что подсудимый убил его в запальчивости и раздражении. Он весь отдался своему гневу. «Ты не хочешь мне дать удовлетворения как человек общества — я на тебя нападу, как на зверя, беспощадно и с оружием в руках; ты не хочешь видеть дуло пистолета — я тебе дам отведать ножа; ты волей или неволей испортил мне мою жизнь — я у тебя отниму твою!» И он убил Чихачева…
Остается сказать о подсудимой. Ее участие в этом деле является преступным. Мы видели, что она постоянно ходила за мужем на буксире и, действуя под его руководством, не отрезвляя и не останавливая его, охотно присоединялась к его озлоблению. И для нее Чихачев являлся таким же ненавистным роковым человеком, как и для мужа; он казался и ей причиною всего зла; ему писала она, что жаждет его крови, забывая, что не он, а она сама вместе с мужем причина всех уездных историй и сплетен… Принеся мужу повинную, признав себя пред ним обманщицею, она не могла уже заявлять претензий на самостоятельность и, смотря на все из-под его руки, стала разделять его ненависть и злобу. Бросаясь в снег, плача и перенося побои, она, конечно, искала, подобно мужу, выхода и думала, что все может, согласно его мнению, разрешиться и успокоиться дуэлью. В надежде на то, что состоится что-нибудь окончательно, что устроится с ненавистным человеком поединок, она является с мужем к Чихачеву. Тот снова отказывается. Следовательно, опять пойдут сомнения, опять нравственная пытка, долгие расспросы, необходимость выворачивать свою душу и шевелит постыдные подробности прошлого: это невозможно, невыносимо!.. И вот и в ней должно было развиться крайнее раздражение, и, увлеченная шумом борьбы, видя пред собою виновника своих зол, она дважды стреляет в Чихачева с тем, чтобы его убить. Она хотела его убить. Вспомните ее письмо, вспомните бесчеловечное предложение, которое она решилась сделать Чихачеву в Ашеве, вспомните ее желание знать: ей ли принадлежит право считать себя убийцею Чихачева, обратите, наконец, внимание на то, что нельзя бессознательно дважды стрелять из револьвера, курок которого надо каждый раз взводить. Вы можете к ней отнестись снисходительно: не она убила Чихачева, а выстрадала очень много, но вы не должны забывать, что вследствие ее двукратного обмана возникли у ее мужа сомнения, разрешившиеся убийством Чихачева… Я обвиняю подсудимых, согласно с определением судебной палаты, в том, что одна покушалась на убийство Чихачева, а другой убил его в запальчивости и раздражении. От вас, господа присяжные заседатели, зависит решить их участь. Пробегая мысленно все это дело, к невеселым мыслям прихожу я. Оно сводится к смерти человека, безусловно доброго, который в нашем обществе, небогатом бескорыстными деятелями и сознательно честными людьми, приносил свою значительную долю пользы, содействуя народному образованию, устроив училище, помогая учреждению ссудо-сберегательных товариществ и выводя бедняков из мрака к свету… За слабость характера, за давно прошедшее увлечение он заплатил ценою жизни. Его далеко не бесполезную жизнь прекратил не человек неразвитой, грубый, который не ведает, что творит во гневе своем, но человек образованный, развитой, могущий правильно оценивать свои поступки, человек, который был судьею и преподавал другим уроки уважения к личности и закону, уроки обуздания своих порывов. Мне думается, что с вашей стороны по отношению к нему должен последовать строгий приговор, который укажет, что на защите человеческой жизни стоит суд, который не прощает никому самоуправного распоряжения существованием другого. Подсудимому, стоявшему на видной ступени в обществе, умевшему быть полезным деятелем и слугою общественных интересов, много было дано. Но кому много дано, с того много и спросится, и я думаю, что ваш приговор докажет, что с него спрашивается много…
ПО ДЕЛУ О ПОДЛОГЕ ЗАВЕЩАНИЯ КАПИТАНА ГВАРДИИ СЕДКОВА *
Господа судьи и господа присяжные заседатели! Дело, по которому вам предстоит произнести приговор, отличается некоторыми характеристическими особенностями. Оно — плод жизни большого города с громадным и разнообразным населением, оно — создание Петербурга, где выработался известный разряд людей, которые, отличаясь приличными манерами и внешнею порядочностью, всегда заключают в своей среде господ, постоянно готовых даже на неблаговидную, но легкую и неутомительную наживу. К этому слою принадлежат не только подсудимые, но принадлежал и покойный Седков — этот опытный и заслуженный ростовщик, которого мы отчасти можем воскресить пе-. ред собою по оставшимся о нем воспоминаниям, и даже некоторые свидетели. Все они не голодные и холодные, в обыденном смысле слова, люди, все они не лишены средств и способов честным трудом защищаться от скамьи подсудимых. Один из них — известный петербургский нотариус, с конторою на одном из самых бойких, в отношении сделок, мест города, кончивший курс в Военно-юридической академии. Другой — юрист по образованию и по деятельности, ибо служил по судебному ведомству. Третий — молодой петербургский чиновник. Четвертый — офицер, принадлежавший к почтенному и достаточному семейству. И всех их свела на скамье подсудимых корысть к чужим, незаработанным деньгам. Некоторые вам, конечно, памятные свидетели тоже явились здесь отголосками той среды, где люди промышляют капиталом, который великодушно распределяется по карманам нуждающихся и возвращается в родные руки, возрастая в краткий срок вдвое и втрое. Мы не будем вспоминать всех их показаний и вообще оставим из свидетелей лишь самых достоверных и необходимых. Обратимся прежде всего к выяснению главного нравственного вопроса в этом деле, вопроса, касающегося сущности завещания. Соответствует ли оно желаниям покойного Седкова? Согласно ли оно с его видами и чувствами? Вытекает ли оно из отношений между ним и женою и пришла ли жена с своим подлогом на помощь решению, которое только не успела привести в исполнение остывшая рука ее любящего и окруженного ее попечениями мужа?
Что за человек был Седков? У нас есть данные о нем и в письмах, и в показаниях свидетелей, его близко знавших. Скромненький офицер, с капитальцем в 400 руб., он пускал его втихомолку в рост, не брезгуя ничем — ни платьем товарища, ни эполетами кутнувшего юноши. Собирая с мира по нитке, он распространял свои операции и за пределы полка и заполз было в Константиновский корпус, но оттуда его попросили, однако, удалиться, погрозив разными неприятностями. Тогда он захотел расширить не территорию, но размер своих операций. Для этого нужен был большой капитал. Для капитала был совершен брак — не по любви, конечно, и без всяких нравственных условий и колебаний. Медведев рассказал здесь, как «приезжала сваха, говорила, что 10 тыс., а ей, свахе, чтоб пять сотенных…» Сама Седкова заявляет, что ее предложили Седкову. Он не оскорбился предложением, по зрелом размышлении сам сделал таковое же и получил капитал, не роясь в подробностях истории своей невесты и не отыскивая в ней указаний на мир и согласие предстоящей жизни. От него не скрывали той «легкомысленной жизни», о которой говорила здесь Седкова, но давали вместе с тем деньги. Он также не считал нужным скрывать своих свойств и сразу показал бабке госпожи Седковой, с кем они имеют дело. Вы слышали интересное показание Клевезаля и Демидова. За Седковой было 5 тыс. руб. и бриллиантов тысячи на 3. Но надо было сделать приданое. Ермолаева заняла для этого у Седкова 1 тыс. руб. Будущий зять, давая деньги, взял в обеспечение вексель Демидова в 5 тыс. руб. и попросил Ермолаеву «для верности» написать на нем свою фамилию. Когда приданое было получено в виде мебели, белья и платья, старушка принесла и занятую тысячу рублей. Но Седков поступил с нею великодушно. Он не взял денег. Он предпочел оставить у себя вексель в 5 тыс. руб., на котором, к удивлению Ермолаевой, оказалась ее бланковая подпись. Правда, это стоило ему предложения господ офицеров Измайловского полка избавить их от его присутствия, но деньги по векселю он взыскал сполна и таким образом приобрел за женою 13 тыс. руб. Тогда-то развилась широко его деятельность с векселями, протестами и взысканиями, со скромными процентами по 10 в месяц… Но жизнь не вышла из скромных рамок. В обыкновенной квартире человека среднего состояния была одна прислуга; обед не всегда готовился дома, а приносился от кухмистера. Развлечений не допускалось никаких. Но Седков не был узким скупцом, который забыл жизнь и ее приманки для сладкого шелеста вексельной и кредитной бумаги. Он решился подавить себя на время, обрезать свои потребности, замкнуться в своих расчетных книгах лишь до поры до времени, чтоб развернуться потом и позабыть годы лишений. Недаром писал он свой расчет занятий, называя его планом жизни и определяя с точностью на много лет вперед, когда и что он сделает, когда выделит из складочного капитала оборотный, когда образует запасный, начнет ликвидировать дела и после «деятельности в таком разгаре», в 1879 году, будет иметь возможность осуществить написанное под 1880 годом слово «отдых»… Таковы были его планы, такова его деятельность, поглощавшая всю его жизнь. Они ручаются за то, что это был холодный и черствый человек.
Такой-то человек женился на Седковой. Она рассказала здесь, что была взята из института 15-ти лет, покинула затем бабушку и жила одна, не стесняясь нравственными требованиями общественной жизни. И эта жизнь с нею тоже не стеснялась, открывая ее почти еще детским глазам свои темные, но завлекательные стороны. Она принесла в дом мужа скудное полуобразование, состоящее лишь в уменье лепетать по-французски, любовь к развлечениям и удовольствиям, незнакомство с трудом и привычку не отказывать себе в расходах. При этом она, вероятно, принесла не особенно сильное уважение к своему купленному мужу. Дома ее встретили счеты, записные книги, учет в расходах и мелочная, подчас унизительная расчетливость ростовщичьего скопидомства. Отсюда споры, ссоры, попреки мотовством и расхищением имущества, сцены за потерянные горничною три рубля и целый ряд стеснений свободы. Отсюда раздражение против мужа, жалобы на него, попреки ему.
По институтской манере Седкова принялась за дневник и ему поверяла свои скорби, которых не понимал ее муж, видевший в ней хотя и неизбежную, но отяготительную и разорительную прибавку к полученному капиталу. Защита, конечно, познакомит вас, господа присяжные, с этим дневником. Вы отнесетесь к нему, без сомнения, надлежащим образом и припомните, что в такого рода документах человек всегда, невольно и незаметно для себя, рисуется и драматизирует и перед собою, и перед какими-то ему безвестными будущими читателями. Тем же направлением проникнут и этот дневник с его маленькою ревностью и длинным, многосложным и чересчур торжественным прощанием с мужем перед происшествием, состоявшим в том, что среди бела дня, близ Чернышева моста, в виду городового, Седкова бросилась в мутную воду Фонтанки с портомойного плота… После этого «покушения на самоубийство» отношения между супругами несколько изменились. Шум ли этого происшествия или усилившаяся болезнь Седкова были тому причиной — неизвестно, но только писание дневника с жалобами прекращается, и через два года мы видим Седкову, вошедшею отчасти во взгляды мужа и начавшую черстветь под влиянием вечных забот о векселях, отсрочках и вычислении процентов. Она начинает исполнять при муже иногда обязанности дарового чтеца, а в последние недели его жизни является и даровым рассыльным, которому поручалось иногда даже получение денег. И она, в свою очередь, вкушает от сладости лихвы и прелести роста и потихоньку от мужа, боясь ответа перед ним, выдает деньги под векселя. Вы знаете историю с векселем Киткина, векселем «венецианским», написанном на живом мясе. Вы слышали и о другом подобном же векселе. Но до последнего издыхания Седков не доверял жене, он жаловался на нее, роптал на ее мотовство, сердился на ее легкомыслие, указывал на ее холодность и безучастие к нему. Вы слышали Ямщикова, Алексея Седкова и Федорова. Вы помните показания Беляевой, что уже в последние дни жизни Седков еще ссорился и бранился с женою «и за деньги, и за поведение». Между ними и не могло быть ничего общего, ничего связующего. Дитя их, на любви к которому могли бы сойтись и легкомысленное сердце одной, и черствое сердце другого, вскоре умерло. В прошлом не было любви, в настоящем — ни уважения, ни сходства целей, наклонностей и характеров. Поэтому мы встречаем в дневнике Седковой знаменательное указание, что в первые годы брака и муж ее вел свой собственный, секретный от нее, дневник. Но, господа, семья, где муж и жена — «едино тело и един дух», по выражению церкви, — ведут два параллельных дневника и, скрываясь друг от друга, поверяют бумаге свое взаимное недовольство, семья эта есть поле битвы, на котором расположены два враждебных стана. И Седков не скрывал своего недоверия к жене. Он требовал от нее отчета во всех ее издержках и тщательно отделял их от «общих расходов» на стол и другие хозяйственные потребности; он отвел ее деньгам особую рубрику в книге с многозначительною надписью «чужие»; он запирался от нее в кабинете, занимаясь счетами, он хранил от нее зорко разные ценности в сундуках, которые она бросилась перерывать после его смерти; он выдавал ей утром скудные деньги на обед и к вечеру требовал письменного отчета в их употреблении. И даже в тот день, когда смерть уже простирала над ним свое черное крыло, он еще записал дрожащею рукою 1 руб. серебром на обед. Но отчета в израсходовании этих денег ему не пришлось читать, потому что на другой день глаза его были закрыты безучастною рукою слуги, чужого человека, так как неутешная вдова была занята в это время укладыванием зеленого сундучка.
Таковы муж и жена. Могли ли люди, прожившие совместно таким образом, рассчитывать, что любовь одного из них будет сопровождать другого и за гробом, отдавая ему все накопленное трудами многих лет? Могла ли Седкова серьезно думать, что муж умрет с мыслью об ее обеспечении, что он не найдет, если не около, так вдали от себя, более ее достойного в его глазах быть его наследником, что в нем не проснутся иные, более сильные, действительные привязанности? Мы знаем, что отношения Седковых между собою не давали никакого основания к таким предположениям. Он был чужой человек своей жене, чужим и умер. Но у него были родные. В Бессарабии жил его брат с семьею. Они, по-видимому, оказывали расположение покойному Седкову. И он был к ним расположен. В деле есть его письма к брату и его жене. В одном он восхищается их согласною жизнью, их взаимною любовью и доверием, их благоустроенным хозяйством, благодарит их за гостеприимство, говорит, что провел с ними самые отрадные дни жизни и даже умиляется до того, что с восторгом вспоминает о пении псалмов и духовных кантат, которое он слышал в доме брата. В другом письме, из Киева, он с горячностью извиняется перед братом, что не успел поздравить его с именинами жены, которая его так обласкала, так радушно приняла… Очевидно, что этими людьми в душе ростовщика, оглянувшегося перед смертью на окружающие чуждые лица, были затронуты такие струны, которые должны были звучать в нем долго. Эти люди, умилявшие покойного Седкова— его брат и жена брата, — были и прямыми его законными наследниками. В их пользу даже не надо было составлять и духовного завещания: сам закон принимает на себя защиту их прав. Поэтому если предполагать, что Седков мог действовать в силу привязанности, то он, конечно, пожелал бы скорее всего оставить свое имущество брату. Его не должно было смущать опасение, что жена останется не при чем. Он знал, что ей достанется вдовья часть. Имущество было все движимое, следовательно, ее доля должна составлять, по закону, четвертую часть. Имущества осталось на большую сумму. Что бы ни говорили о его размере, вы не забудете, господа присяжные, что по смерти мужа Седкова получила ворох векселей, 31 тыс. по чекам, все наличные деньги, бывшие в доме, и драгоценности, уложенные ею в зеленый сундучок. Четвертая часть всего этого, конечно, была бы не меньше полученных за Седковою 8 тыс. руб. и приобретенных, благодаря ее выходу в замужество, 5 тыс. руб. Следовательно, она .получила бы свое.
Но, быть может, скажут, что Седков мог иметь повод оставить ей все, как нажитое на ее деньги, что он считал ее нравственною владетельницею всего своего имущества. Для чего же тогда упреки за расточительность, попреки за мотовство, доводящие до Фонтанки? Да и потом, в создании капитала Седкова участвовали не одни деньги, взятые им за женою. Мы знаем, что, вступая в брак, он уже был в состоянии давать взаймы по тысяче рублей. Притом, разве Седковой обязан муж приращением тех денег, которые ее сопровождали? Разве она помогала ему в его занятиях, разве она была жена-помощница, верный друг и добрая хозяйка? Разве она сочувствовала занятиям мужа, уважала его самого, облегчала его заботы? Нет! С его точки зрения на жизнь, она отравляла ему эту жизнь своим легкомыслием и чрезмерными расходами. В то время, когда он беседовал с должниками, видел их кислые улыбки в расчете процентов, а от иных, слишком уже прижатых им к стене, выслушивал невольные резкие замечания, жена его покупала себе шубки и духи; когда он копил — копейку за копейкой — деньги, которые приносились ему с презрением к его занятиям, с негодованием к его черствости, когда, сталкиваясь с должниками, которые смотрели на него как на прирожденного и беспощадного врага, он подавал ко взысканию, описывал и продавал их имущество, вынося на себе их слезы и их отвращение, жена его франтила и предавалась удовольствиям. Мы скажем, что она хорошо делала, что мало участвовала в этих делах своего мужа, но то ли мог и должен был говорить он? Мог ли он считать ее верным и деятельным союзником в приращении капитала? Он один нес черную работу, он один имел право на все, что было им нажито после свадьбы на деньги, купленные ценою унизительного договора. Пусть укажут затем те факты, те слова и поступки, в которых выражалось его желание оставить все жене. Этих фактов нет! Показание Фроловой разбивается показанием близкого к Седкову человека — Ямщикова, на которого с самого начала ссылалась и сама подсудимая. Седков писал до самой смерти, записывал мелочные расходы и вписывал в книгу свои условия с должниками, но завещания не писал, однако. Он имел знакомых Федорова, Ямщикова, даже Лысенкова самого, к нему ездил доктор — и ничем не намекнул он им на желание оставить завещание, Оказывается, что он и не думал об оставлении завещания. Как многие чахоточные, он не верил в скорую смерть, и жизнь его потухла среди уложенных чемоданов для путешествия на юг и среди предположений о разгаре деятельности в 1879 году. Поэтому о завещании не могло быть и речи. Кроме того, если в иные минуты ему и приходила мысль о смерти, то глаза его встречали чуждую и нелюбимую жену, а вместе с тем шевелилось воспоминание о Бессарабии, о семье брата. Уж если делать, за неимением фактов, предположение о желании его оставить все жене, то вернее будет предположить, что он не хотел утруждать себя завещательными распоряжениями, а все предоставлял закону, который распределит сам его наследие между братом и женою. Нам скажут, может быть, основываясь на словах Седковой, что муж хотел наградить в ней привязанность и покорность. Но мы знаем, какова была привязанность госпожи Седковой к мужу. Сошлются, быть может, на то, что в умиравшем Седкове заговорила совесть, встрепенулись религиозные чувства, которые потребовали отдачи всего накопленного неправым трудом наивному созданию, для нравственного развития которого он ничего не сделал, по крайней мере ничего хорошего. Но нам известно, что прежняя Седкова имеет мало общего с тою Седковою, которую мы видим здесь и которая, действуя с знанием и дела, и жизни, никому не даст себя в обиду. Она испортилась в руках мужа, но в глазах его такая порча была, без сомнения, улучшением, в котором ему себя винить было нечего. Про совестливость его известно из поступка с Ермолаевой. О религиозном настроении его мы знаем мало. По-видимому, оно не было глубоко. В письмах к брату есть цитата из священного писания о необходимости милосердия, да в бумагах сохранилась тетрадь с нарисованным на ней крестом и с надписью: «Путь к истинной жизни: смирение, правда, чистота». В этой тетради, на обороте заголовка, описана с большими подробностями одна из тех болезней, от которых лечатся меркурием… Таким образом, ни в отношениях Седкова к жене, ни в свойствах ее привязанности к нему, ни в данных дела нет никакого указания на то, чтоб он желал отдать ей все свое имущество и составить завещание в ее пользу. Проект, составленный ходатаем Петровским, ничего не доказывает. Седкова явилась к нему под чужим именем и просила составить проект завещания между вымышленными лицами. Она говорит, что муж, имея дела, не хотел делать огласки этому предприятию. Но это объяснение сшито белыми нитками. Седков был человек деловой. Он знал и сам, как писать завещание, особенно такое несложное, где в общих словах все имущество оставляется одному лицу, где не нужно никаких специальных пунктов о разделе, о благоприобретенном и родовом имуществе и т. д. У него, конечно, был всегда под руками X том Свода законов, и он умел владеть им. А там написано все, что надо. Поэтому посылать к постороннему человеку было не нужно. И фамилию скрывать тоже нечего. Если б в завещании было еще перечисление всего имущества Седкова, то он мог, пожалуй, желать скрыть его размеры. Но и этого не было. Все имущество огулом, без всяких подробностей, оставлялось одному лицу.
Итак, завещания в пользу жены не было, да и быть не могло. Между тем, оно явилось. Седковой было отдано все. Забыты были родные, забыта девочка Ольга Балагур, другую сестру которой воспитывал, однако, несравненно более бедный Алексей Седков. Она просто была поручена попечениям госпожи Седковой, которая и начала эти попечения тем, что взяла Ольгу из института и поместила ее у себя в обстановке, показавшейся невыносимою даже денщику Виноградову своею вечною сменою гостей и их поздним сидением. С формальной стороны это завещание было, однако, правильно, и госпожа Седкова напрасно почему-то испугалась приезда брата покойного в конце июня, за несколько дней до утверждения завещания. Оно было утверждено. Но возникло предположение о подлоге, разрослось, вызвало следствие, и подсудимые сознались в том, что завещание действительно подложно. По-видимому, задача суда очень легка. Остается применить наказание, сообразно со степенью участия каждого, и пожалеть о двух днях, посвященных разбору такого простого дела. Но оно не так просто, как кажется. Идя по пути, на который ведут нас подсудимые своим сознанием, мы придем к тому, что найдем только двух виновных: Тениса и Медведева. Они действительно сознаются в преступлении. Их показаниям можно верить вполне. Подсудимый Медведев своим искренним и добродушно-правдивым тоном даже внушает гораздо большее доверие, чем многие свидетели, акробатические показания которых вы, конечно, помните. Эти двое не торгуются с правосудием, а смиренно склоняют перед ним свою повинную голову. Они всю жизнь действовали самым безвредным образом рапирою. Их привели, дали им в непривычную руку перо, сказали: «Пиши!» — и оба подписали — один, как сам выражается, «любя», а другой, прижатый судьбою, загнанный человек, семьянин с 2 руб. жалованья в месяц, за вычетом долгов, ввиду соблазнительной перспективы получить 5 руб.
Но другие подсудимые в преступлении не сознаются. Они перекладывают свою вину друг на друга. Седкова растерялась, была убита горем, и не она, а Лысенков составил завещание, он, следовательно, и виновен. Но Лысенков, в свою очередь, виновен лишь в том, что пожалел бедную вдову и не сделал на нее доноса. Петлин виновен в том, что доверял Лысенкову, Киткин в том, что убедился подписью Петлина, Бороздин в том, что был благодарен Лысенкову и уверовал в подписи Петлина и Киткина. Иными словами — все виновны в мягкости сердца, разбитого горестною утратою, в отвращении к доносу, в сострадании к беспомощному вдовьему положению, в доверии к людям, в благодарности к ним. Они покорно ждут того приговора, который их осудит за такие свойства. И если мы отнесемся с полным доверием к их объяснениям, то, повторяю, виновными окажутся только Тенис и Медведев да еще, быть может, покойный Седков, который оставил такой сладкий кусок, что в нем увязли все, слетевшиеся им попользоваться.
Но, господа присяжные, ваша задача в деле не такова. Каждое преступление, совершенное несколькими лицами по предварительному соглашению, представляет целый живой организм, имеющий и руки, и сердце, и голову. Вам предстоит определить, кто в этом деле играл роль послушных рук, кто представлял алчное сердце и все замыслившую и рассчитавшую голову. Для этого возвратимся к истории возникновения завещания. Первый вопрос — когда умер Седков? Беляева говорит, что в 8 часов утра, Седкова — что в 12 часов вечера 31 мая. Я готов не верить Беляевой, хотя думаю, что недостатки ее показания вызывались понятным влиянием торжественной и страшной для простой женщины обстановки суда. Но нельзя верить и Седковой. Если утром с мужем сделался только обморок, то он должен был поразить ее своею продолжительностью. Он должен был напомнить о входящей в двери смерти. Но где же естественная в таком случае посылка за священником, за доктором, где испуг, беспокойство, тревога? Седков не приходил в себя до обеда. Обед не готовился и не покупался в этот день, но и после обеда обморок не исчезал. У нас нет никаких указаний на это. Сама Седкова не говорит, чтобы муж пришел в себя с той минуты, как его снесли или свели на кровать. Вечером она выехала, потом вернулась, потом опять выехала. Она ездила за нотариусом и за Медведевым. Но если б муж уже не был мертв, разве она решилась бы оставить его на попечении кухарки, с которой она, по собственным словам, даже никогда не говорила; разве, выехав из дому, она не бросилась бы не к нотариусу, а к доктору. Она говорит, что застала мужа кончающимся, то же говорит и Лысенков, но доктор Флитнер в своем прекрасном показании объяснил подробно, что застал Седкова на спине, с головою, покрытою байковым одеялом, в положении несомненно умершего человека. Он нашел все признаки смерти и ни одного признака из той обстановки, которая обыкновенно окружает умирающего, которая носится в воздухе, которая так типична по своему шепоту, плачу, тревоге и суете, что ее незачем описывать. Седкова сказала ему, что муж умер, дала тройное вознаграждение и просила дать свидетельство и не говорить, что он умер раньше. Несомненно, что Седков уже был мертв и мертв давно. Она говорит, что муж велел «гнать» Флитнера, но ведь, по ее словам, он был в обмороке и, следовательно, видеть Флитнера не мог; а обморок так долог, так странен! А доктор так нужен, хотя бы и приехавший случайно, хотя бы и не во вкусе больного, но все-таки могущий помочь! Между тем, Флитнера проводят через кухню, не допускают до больного и выпроваживают поскорей. В 12 часов был Заславский. Он нашел Седкова лежащим на левом боку лицом к стене. Окоченение началось. Для этого должно было пройти не менее трех часов со времени смерти. Вот еще доказательство, что Флитнер видел уже мертвого. Если принять высказанное уже здесь предположение, что он умер в обмороке, то как объяснить то, что, не приходя в себя, он, однако, покрылся одеялом с головою, поворачивался на другой бок и все это в то время, когда члены его окоченели под холодным дыханием смерти. Очевидно, он умер еще до вечера, днем, прежде поездки жены к Лысенкову. Эта поездка объясняется затем легко. Седков умер. Завещания нет, проект не послужил ни к чему. О законной вдовьей части Седкова могла и не знать. Итак, она останется без средств? Что же делать? Конечно, ехать к знакомому, знающему человеку за помощью, за советом. Этот человек— Лысенков. Но сказать ему, что муж умер, у него — неудобна: могут услышать, в конторе всегда толпится народ. Лучше пригласить его к себе и тут сказать правду. Лысенков соглашается приехать, не зная о смерти Седкова. Это видно из того, что он взял с собою писца Лбова, которого потом пришлось удалить. По дороге, конечно по совету Лысенкова, Седкова заехала за Медведевым, как за свидетелем. Когда они приехали, нотариус потребовал еще свидетелей. Явились Петлин и его знакомый Лисевич. Стали писать нотариальное завещание в ожидании, пока уснувший, по словам Седковой, больной проснется и придет «в здравый ум и твердую память». Затем Седкова позвала Лысенкова в комнату мужа. Здесь-то и разъяснилось все. Лысенков говорит, что Седков был жив, но мы знаем, что в это время, около приезда Флитнера, он был уже несомненно мертв и, вероятно, только мешал своим видом спокойствию совещаний, так что его накрыли с головою. Здесь Седкова должна была сказать все Лысенкову и просить совета и помощи. Она говорит, что Лысенков запросил громадную сумму в 12 тыс. руб. Насколько это справедливо — решить трудно. Лысенков знал, что подвергает себя громадной ответственности за совершение подложного нотариального акта, он знал, что, скрепив акт, он явится и первым обвиняемым, по старой поговорке: «Где рука, там и голова». Поэтому требование такого вознаграждения понятно. Но еще понятнее боязнь ответственности, которая, по моему мнению, могла заставить Лысенкова отказаться вовсе от совершения нотариального завещания. Хотя последнее толкование и выгоднее для Лысенкова, но я не высоко ценю и эту боязнь ответственности. Это не широкая боязнь дурного и преступного дела — это узкий личный страх, не помешавший ему не побояться ответственности тех, кого он завлек в это дело и посадил здесь перед вами. Во всяком случае, какое бы толкование ни принять — не сошлись ли в цене или страх ответственности подействовал — несомненно, что Лысенков, войдя к Седкову, увидел, что тот уже мертв и что его обязанности кончены; оставалось удалить свидетелей. Но сделать это просто и прямо, объявив, что Седков умер, неловко. Могут возникнуть сомнения, неудовольствия. Поэтому лучше пусть это будет неожиданною вестью для всех. И вот Лысенков говорит: «Что-то подозрительно, пошлите за доктором». Доктор объявляет, что Седков мертв, вдова плачет, Лисевич и Петлин уходят, а Лбова увозит Лысенков. Вы видели и слышали Лбова. Этот человек нем, как рыба, и совершенно непроницаем, но он служит у Лысенкова и ему владеть какою-либо тайною своего принципала не приходится. Через некоторое время Лысенков возвращается назад. Здесь мы встречаемся с резким противоречием в показаниях Лысенкова и прочих подсудимых. «Я не возвращался», — говорит он. «Он вернулся, содействовал, советовал, ободрял, диктовал», — говорят Седкова, Петлин, Тенис и Медведев. Двое последних так просто и откровенно во всем сознаются, что нет основания им не верить. Они не имеют и основания лгать. Какая им выгода от привлечения Лысенкова к делу? Ведь они не ссылаются на его влияние на них, на его авторитет. Их виновность сложилась особо. Тениса привез полусонного Медведев, и он машинально написал то, что ему было продиктовано, не разбирая хорошенько смысла диктуемого. Медведев подписался сам, сознательно, по доброте душевной и «в память дружбы с покойным». Для него не было нужно уговоров нотариуса. Поэтому их показание заслуживает веры. Привлечение Лысенкова не ослабляет их вины, бесполезно для них, а оговаривая его напрасно, они брали бы тяжелый и бесцельный грех на душу. Итак, им можно верить. Можно верить и Седковой. Нельзя же думать, чтоб она сама «своим умом» смастерила всю сложную махинацию подделки завещания, чтоб она знала, кому, что и как писать и подписывать. Ведь на ее проекте подписей свидетелей и душеприказчика в их узаконенной форме обозначено не было. Да и могла ли она найтись в деле, в котором и знающий человек, нотариус, умыл руки? Конечно, нет. Ей нужен советник, нужен юрист, человек форм и обрядов. Кто же мог быть таким лицом около нее? Петлин? Но мы познакомились достаточно с Петлиным. Он, как видно по разным данным дела, способен совершить деяние вроде того, за которое он судится, и потом собирать жатву с этого деяния угрозами и вымогательствами, но едва ли в нем можно видеть подстрекателя и руководителя в исполнении сложного и требующего ловкости замысла. Да и, кроме того, он не знал Киткина и Бороздина. Откуда же мог надеяться он на них? Итак, не Петлин. Так Бороздин? Но он не был знаком с Седковой. Даже если б он пришел и по делу, то ему сказали бы, что Седков умер, и он не стал бы беспокоить своим посещением. Лысенков уехал в 12 часов и Бороздина не видел, а завещание было, несомненно, составлено в эту ночь. Когда же мог явиться Бороздин? После полуночи? Это невозможно для незнакомого человека. Итак, не Бороздин. Не Киткин потому, что тот подписал на следующий день. И если мы исключим Лысенкова, то подстрекателями на составление завещания, советниками и руководителями в составлении завещания явятся Тенис и Медведев. Но взгляните на них, господа присяжные заседатели, и вы поверите их показаниям. Лысенков был необходим в таком деле и, конечно, присутствовал почти всю ночь у Седковой не из одного праздного любопытства. Он вернулся, чтобы оказать действительное участие в составлении завещания, и под его руководством оно пошло быстро. Послали за Киткиным, послали Медведева за Тенисом, призвали снова Петлина, и к раннему июньскому утру завещание было готово. Тенис ушел с 5 руб., которыми потом хвастался перед товарищами, удивляясь добрым людям, которые за листок письма дали такую громадную для него сумму. На другой день подписали Киткин и Бороздин, а Седкова, выбрав разные бумаги и вещи поценней и уложив их в зеленый сундучок, отдала его своей приятельнице Макаровой. Денщик Виноградов, обмыв покойного с гробовщиком, сам уложил сундучок в ногах «генеральской дочери». Затем были написаны чеки задним числом, и Седкова, уверенная в дальнейшей ненарушимости своих прав, получила по ним в конторе Баймакова деньги.
Всякое дело, совершенное несколькими лицами, всегда представляет в своем дальнейшем ходе разные непредвиденные обстоятельства, зависящие и от случая, и от характера участников. Если это дело — преступление, то и обстоятельства эти не всегда красивы и всегда не безопасны для тех, в чью пользу главным образом совершено преступление. Так было и тут. В то время, когда Седкова считала себя уже полною обладательницею имущества мужа и писала письмо его матери, в котором говорила о «неусыпных попечениях», которыми она его окружала (ночь составления завещания она действительно провела без сна), участники завещания стали заявлять свои требования. Прежде всего, впрочем, ей пришлось выкупить из «дружеских рук» свой зеленый сундучок, оставив взамен его нотариальную отсрочку и услышав, если верить ее показанию, в первый раз грозное и непредвиденное слово — донос… Я не стану касаться этого происшествия. Вы сами слышали свидетелей Макарову и Карпова и оцените их показания. Обращу ваше внимание только на то, что обе стороны сознавали, что сундучок заключает ценности, немаловажные для Седковой, так как разговор об обмене сундучка на отсрочку длился, по словам Седковой, три часа в комнате незнакомого ей человека, причем за затворенною или, по ее словам, даже запертою на ключ дверью тщетно ожидала ее Ольга Балагур, уже раз приезжавшая за сундучком. Затем начались требования и вымогательства денег. О полученных суммах я вам скажу в своем месте, но думаю, что вообще в этом отношении можно полагаться на объяснение Седковой. Первая выдача — 500 руб. Лысенкову и 500 Бороздину — записана ею на лоскутке, который, очевидно, не предназначен для оглашения. Тут же записаны и гвозди, перчатки, шляпа, извозчик, так что счет имеет характер достоверный. Седкова говорит, что все выдачи шли через Лысенкова, кроме 500 руб., о которых сейчас сказано. Но какая цель может ее заставлять приурочивать имя Лысенкова к этим деньгам? Действуя под влиянием их, Лысенков давал ей корыстные советы, цели которых она не могла не понимать, сознавая, что услуги, за которые платятся такие деньги, — услуги преступные. И, между тем, она заявляет, что воспользовалась именно такими услугами, не ссылаясь ни на бескорыстные и потому заслуживавшие доверия советы Лысенкова, ни на его к себе сострадание и расположение. Вглядываясь в действия отдельных лиц по этому делу, мы найдем подтверждение ее объяснений о деньгах, которые то за услуги, то за недонесение, то за компрометированную честь, то, наконец, за молчание свидетелей брались с нее самым бесцеремонным образом. Когда она почувствовала имущество в своих руках, ей стали грозить тем, что к утверждению завещания не явятся без особой платы; когда оно было утверждено, с нее взяли 3 тыс. на расходы и ее стали пугать страшными словами — «протокол» и «прокурор», когда началось следствие, заставили заплатить за мнимое спасение от скамьи подсудимых 8 тыс. руб. Скамья подсудимых все-таки осталась, а около 20 тыс. руб. денег, приобретенных преступлением, пристало к рукам принимавшим в Седковой участие людей, оставив ей немного наличных средств и много векселей, ценность которых еще весьма загадочна.
Обращаясь затем к отдельным подсудимым, я нахожу, что на первом плане стоит Лысенков. Он говорит, что Седкова клевещет на него, что она привлекла его на суд своим оговором, по совету Дестрема, который за ней ухаживает. Все отношения его к Седковой ограничивались тем, что он согласился найти ей поверенного для утверждения завещания и, уступив анонимным письмам ее, вступил с нею в близкую дружбу. Получение от нее денег он отвергает с негодованием. Но, господа, кто верен в малом, тот и во многом верен. А Лысенков неверен в малом! Он, вопреки очевидности, вопреки показаниям, искренность которых нельзя заподозрить, отрицает свое возвращение к Седковой после отъезда с Лбовым. Он говорит явную неправду в этом отношении. Можно ли думать, что он говорит правду в этом отношении? Можно ли верить тому мотиву оговора со стороны Седковой, который он приводил? Месть, но за что? Желание отделаться от нелюбимого человека — но где на это указание? Ужели это нужно Дестрему, который вышел на свободу в этом же суде только десять дней назад, а лишился ее гораздо раньше Седковой. И для чего же это? Чтоб сохранить свое место в сердце Седковой. Но можно ли опасаться Лысенкова как соперника в этом сердце, когда Седкова способна его предать напрасно позору уголовного суда? Способность на это должна бы исключать всякую ревность со стороны Дестрема, исключать всякий оговор.
И где в характере Седковой черты такой свирепой злости, такого коварства, такой бессердечности? Мы их не видим и не можем принять романтического объяснения Лысенкова о мотивах оговора. Лысенков горячо отрицает корысть в своих действиях и сводит их к состраданию и сочувствию положению вдовы. Но это сочувствие весьма сомнительного свойства. Если б он сочувствовал Седковой так, как должен сочувствовать честный человек, занимающий официальное, вызывающее на доверие, положение, то он не взялся бы способствовать утверждению завещания. Он должен был сказать ей: «Что вы делаете! Одумайтесь! Ведь это преступление, вы можете погибнуть, а с вами и те, кто вас этому научил. Заглушите в себе голос жадности к деньгам мужа, удовольствуйтесь вашею вдовьею частью. Вы ее получите, эту вдовью часть, по закону, которого вы верно не знаете. Вот он, вот его смысл, его значение. Одумайтесь! Бросьте нехорошее дело». Он должен был, видя в ее руках фальшивое духовное завещание, отговорить ее, напугать, упрашивать. Это была его обязанность как нотариуса, как порядочного человека. От него требовался не донос, а участие и твердо, горячо сказанное слово совета, от него требовали объяснения с Бороздиным, которого он знал и которому он мог пригрозить за его подпись на завещании. Но ничего этого не сделано. Он получил завещание, поручил Титову его утверждение и взял на это 500 руб. В этом, по его мнению, состояла дружеская услуга Седковой. Но из слов Титова мы знаем, что он получил за труды и на расходы только 315 руб., остальные 185 руб. остались у Лысенкова. И это была услуга и сочувствие?! И в этом ли выражалось его бескорыстное и неохотное участие в деле укрепления за бедною вдовою состояния ее мужа? Лысенков отрицает и то, что он нуждался в деньгах, и то, что он способен был получать деньги за свои услуги. Но он нуждался, господа присяжные, он, привыкший к жизни широкой и не стесненной средствами, бывший гусар и блестящий нотариус, он, конечно, с трудом расстался бы с привычками роскоши и дорогого комфорта. Вы знаете, во что может обойтись в Петербурге жизнь молодому, полному сил и жизни человеку, который не пожелает особенно стеснять себя и примет дружески и предупредительно протянутую руку помощи разных ростовщиков. А у Лысенкова своего ничего не было. Нотариальный залог был дан ему отцом, который, быть может, видел в новом занятии сына избавление его от последствий прежней праздной жизни. Но эта жизнь не отставала, она' протягивала свои руки за сыном и в нотариат и давала себя чувствовать на каждом шагу. К 18 мая прошлого года в местном участке скопилось на 10 тыс. руб. взысканий с Лысенкова; вся его мебель и вещи были описаны, и «Полицейские ведомости» уже возвестили об их продаже. В эту критическую минуту явился на помощь отец и дал-10 тыс. руб. под вексель, однако на имя дочери. Продажа миновала, кредиторы были на время удовлетворены, но не все, далеко не все. Загорский получил вместо 4 тыс. руб. 1 500 руб., Перетц — половину, другие кредиторы, здесь выслушанные, тоже получили половинное удовлетворение. Опасность новой описи и продажи была не уничтожена, а только отсрочена. А между тем, кредиторы подходили новыми рядами, расходы на контору были большее, жизнь надо было вести, и она велась с прежним блеском и видимым довольством, при заложенных шубах и отсроченных исполнительных листах. В этом отношении характеристична книжка чеков Общества взаимного кредита и счет того же Общества. С 6 июня по 24 августа внесено и взято около 11 350 руб.; из взятых сумм, как видно по корешкам чеков, уплачено на пошлины по купчим Фохтса и Пилкина около 5 тыс. руб., около 800 руб. заплачено за квартиру, 875 руб. взято без указания предмета уплаты, следовательно на свои расходы, а все остальное отдано разным лицам в уплату по векселям. Из слов самого Лысенкова вы знаете, что к деньгам, взятым на купчую Пилкина с текущего счета, он должен был прибавить своих 800 руб. Следовательно, и из взятых на себя 875—800 руб. пошли на уплату долга, и только 75 руб. из 12 почти тысяч остались нотариусу для него лично. Но такое состояние счетов ясно показывает, как стеснен человек, как тяжело ему приходится, как желательны, как важны, как неизбежно нужны ему деньги! Итак, Лысенков нуждался, а 185 руб., присвоенные им, даже если верить вполне его показанию, из денег доверчивой вдовы, указывают, насколько в нем можно предполагать отсутствие желания попользоваться при удобном случае и без особого труда идущими в руку деньгами. Но человек такого пошиба не может удовольствоваться 185 руб., если можно получить больше. Эта сумма — капля в море долгов и претензий. Чтоб осушить и успокоить его, необходимы иные, большие средства. Для того, чтобы удержаться от добычи их способами недозволенными, эксплуатацией легковерия одних, стесненного положения других, необходим довольно твердый нравственный закал. С этой точки зрения мы имеем свидетельство о Лысенкове от трех лиц, знавших его не как нотариуса только. Одно — почтенного представителя нашего города Погребова. Обвинение питает столь глубокое и искреннее уважение к этому свидетелю, что вполне и безусловно поверило бы ему, если б он явился сюда заявить, что Лысенков не сделал подлога. Это поколебало бы все нравственные основы обвинения против Лысенкова. Но господин Погребов этого сделать не может, и его доброе, любящее показание сводится лишь к тому, что Лысенков вел себя прилично и хорошо и не просил никогда денег у своего дяди. В последнем и нельзя сомневаться, познакомясь с личностью Лысенкова по делу. Просить — значит унижать свое достоинство… обязываться, это можно сделать только в такой крайности, когда все правильные и неправильные источники получения средств будут исчерпаны. Двое других свидетелей — Шелешпанский и Цилиакус. Мне почему-то думается, что уклончивое, обоюдоострое, недосказанное показание Шелешпанского во многом помогало Лысенкову; что же касается до Цилиакуса, то его показание связано с свидетелем Загорским, который, обижаясь и гневно относясь к вопросам, рассказал вам о каком-то векселе, данном юным аристократом на 6 тыс. руб., взамен 21/г, и писанном на имена Цилиакуса и Лысенкова. Не станем, впрочем, касаться истории этого, во всяком случае, странного векселя, для регулирования уплаты по которому понадобилось даже вмешательство канцелярии градоначальника… Едва ли вообще эти показания указывают на особую нравственную твердость Лысенкова. Для этой твердости большим испытанием должно было быть положение Седковой, которой нужен руководитель и от которой можно получить хорошие деньги. Повторяю — Лысенков не мог же в самом деле быть праздным свидетелем того, что делалось ночью 1 июня в квартире Седкова. Он получил за свое содействие 6 тыс. руб., говорит Седкова, да 1 тыс. руб. на Бороздина, не считая 8 тыс. руб., полученных по возбуждении следствия, и 2500—3 тыс. на расходы по счету издержек на завещание. У ней не могло быть этих денег, этих 18 тыс., скажут нам. Отчего же не могло? Она получила с текущего счета в начале июня 31 тыс. руб., затем в течение лета внесла обратно 23 тыс. руб. и при начале следствия успела с большою ловкостью взять все, что оставалось—19 тыс. руб., следовательно, летом же она взяла из 23 тыс. руб. еще 4 тыс. руб. Таким образом, у ней было в течение июня, июля и августа 12 тыс. руб. Но в доме, кроме того, оставались деньги — 2500 руб. от Потехина, да другие суммы, быть может, даже выигрышные билеты в количестве 20 тыс. руб., о которых она здесь говорила. Не забудьте, что был сундучок, тщательно наполненный и увезенный. Конечно, не «дневники» и не «путь к истинной жизни» были в нем, а ценности. Поэтому она могла иметь нужные для господ составителей деньги, тем более, что 8 тыс. руб. были ею даны уже после начала следствия, когда она получила и остальные 19 тыс. руб. Первая выдача в 6 тыс. руб. была произведена, по словам Седковой, 1 июня. Так, 6 июня в приходе счета Общества взаимного кредита, веденного по взносам Лысенкова, значится 5600 руб. Эти деньги выручены за продажу бумаг Юнкеру, возражает Лысенков. Вот и два его счета да 5800 руб. Но из каких денег приобретены эти бумаги? Из денег, данных отцом. Но ведь отец отдал дочерние деньги 17 мая только для спасения сына от настойчивых кредиторов, а не для покупки бумаг, немедленной продажи их и внесения на текущий счет. Разве для этого брал Лысенков достояние сестер? Разве можно было вносить 5600 руб. на текущий счет, когда почти на двойную сумму есть неудовлетворенные кредиторы и шуба в закладе..? И потом, что это за счеты? Один написан на имя Лысенкова, другой на имя «господина…» Где доказательства, что это были бумаги, действительно принадлежавшие Лысенкову, а не взятые им на комиссию? Ведь он не ограничивался одною строго нотариальною деятельностию, а занимался и другими операциями. История с векселем графа Нессельроде это показывает. Можно ли думать, что, бросив часть денег, полученных от отца, на утоление кредиторов, Лысенков не отдал бы остальных денег сестрам, которых они достояние, а стал бы заниматься покупкою бумаг, когда у него за спиною взыскания и описи? Во всяком случае, чем же жил все лето Лысенков? Где указания на те суммы, которые ему были необходимы, чтоб вести широкую жизнь, чтоб содержать свою контору, которая стоила очень дорого? Его расходы превышали доходы по конторе, иначе не было бы долгов. Он говорит, что не все вносил на текущий счет — может быть, но тогда это не опровержение слов Седковой; если же вносил все, то где доказательства законности приобретения 5600 руб., внесенных 6 июня, после составления духовного завещания, несмотря на то, что деньги эти были, по его указанию, получены им уже 28 или 30 мая. Таким образом, оправдания Лысенкова распадаются. Он запутался в делах, кидался на разные способы приобретения, был стеснен кредиторами, не предвидел средств прожить лето, и, наконец, злая судьба послала ему Седкову. Совершить ей нотариальное завещание было опасно, он сковал бы себя неразрывно с ее преступлением. Гораздо безопаснее домашнее. Он, пользуясь своим авторитетом и знанием дела, может без труда его сделать. Рукоприкладчик и переписчик с виду люди добрые и простые. Последнему продиктуется завещание. Свидетели тоже найдутся — подходящих людей, слабых на деньги и прижатых обстоятельствами, всегда можно найти, — они даже ежедневно под рукою. Надо только, чтоб они понимали, что делают, и тогда они друг друга укрепят до конца утверждения и будут охранять после него, зная, что неосторожность, неловкость одного повлечет за собою ответственность всех. Они будут наблюдать друг за другом. Важно только сцепить их как звенья в одну преступную цепь. Для этого личного участия руководителя не нужно, нужен только авторитет, апломб, а не руки. Следа участия не остается, и даже когда они, паче чаяния, попадутся и станут ссылаться, то можно будет сказать: «Это люди, которые тонут и хватаются за меня, думая, что моя невиновность, — которая очевидна, ибо где же материальные следы моего участия? —спасет и их. Они клевещут на меня, чтоб купить себе свободу. Где моя подпись? Разве я удостоверял, что Седков просил подписаться, разве я подписался за него?» Но все-таки даже такого, так сказать, духовного участия нельзя принять даром, из одного расположения. Опасность все-таки существует. Отсюда понятно требование 6 тыс. руб. и еще 8 тыс., когда опасность действительно наступила, когда началось следствие. Если б Лысенков не участвовал в деле, то он не продолжал бы своих отношений с теми, кто в нем участвовал. Он не удалялся от Седковой, зная, что она может попасть не нынче-завтра на скамью подсудимых, он не разорвал с Бороздиным, который в его глазах должен был стать человеком, непригодным для серьезных и чисто деловых отношений. Напротив, он ездит к Седковой, пишет ей письма, ведет дружбу с Бороздиным, оказывается на вокзале Царскосельской железной дороги, когда нужно уломать Киткина, хранит у себя завещание и предварительный проект, дает письменные советы Петлину, совершает отсрочку Макаровой для получения сундучка. Он не спускается до сношений с Ариною Беляевою, но к нему обращаются все участники дела, через него сначала просят они денег у Седковой, от него получают свой пароль и лозунг, покуда один из них, Киткин, не выдержав по молодости лет, не рассказывает следователю «все, как было». Он обдумывает, распоряжается, диктует; он же требует от Седковой заслуженных денег, и, соболезнуя о «корыстолюбии и склонности к доносам» Бороздина, берет для него 1 тыс. руб. и советует уплатить ему за молчание другую; он, наконец, предъявляет счет пошлинам свыше 2 тыс. руб., тем пошлинам, которые исчислены в определении суда в 29 руб.! Правда, свидетели — не дети и понимали, что делали, но нельзя, однако, отрицать, что присутствие нотариуса действует успокаивающим образом, что Бороздин, никогда не знавший Седковой, никак не появился бы на завещании ее мужа, если б между ними не был посредником Лысенков; что завещание, сочиненное самою Седковою или Тенисом, никогда не было бы столь безупречно с формальной стороны, чтобы быть утверждено судом, несмотря на спор о подлоге, если бы по нему не прошла опытная в нотариальных делах рука.
Перехожу к Бороздину. Виновность его очевидна из его подписи. Он, человек опытный и по летам, и по службе, не мог не знать, что утверждать в завещании то, чего он не видел, преступно, потому что несколько таких подписей могут содействовать неправому приобретению имущества. Он знал, что то, что он пишет, есть ложь, ложь официальная и требуемая от него с определенною целью. В его лета не относятся к подобным вещам легкомысленно. Он объясняет свой поступок благодарностью к Лысенкову. Но за что эта благодарность? Он вел свои дела, имел доверенности и поручения, был человеком развитым и юридически образованным. Быть может, Лысенков и поручал ему исполнять какие-нибудь письменные или судебные работы, быть может даже, он состоял при конторе Лысенкова на тот случай, когда бывают необходимы свидетели самоличности, чем-нибудь вроде «благородного свидетеля», но в таком случае, вознаграждение, которое он получал от Лысенкова, получалось им не даром, а за действительный труд, совершаемый с знанием дела и с необходимою ,представительностью. Тут был обмен услуг, продажа труда, и, следовательно, об особой благодарности не могло быть и речи. А для того, чтоб совершить из благодарности не только лживый поступок, но даже и преступление, необходимо, чтоб благодарный был облагодетельствован так, что ему не жаль затем ни чести, ни совести, лишь бы видел благодетель его признательность. Но где признаки таких отношений между Лысенковым и подсудимым? Их нет. Поэтому он сделал подложное свидетельство из других поводов. Но эти другие поводы, по логике вещей, могут быть только корыстными. Он привык, по-видимому, жить с известными удобствами человека, принадлежащего к обществу. Он занимал летом, по выходе из долгового отделения, квартиру, за которую платил 120 руб. в месяц, в то самое время, как закладывал иногда свое платье и часы. У него большая семья — шесть человек детей. Привычки к внешней представительности должны быть удовлетворяемы, семью надо содержать, а занятий постоянных нет. Пребывать в приемной у нотариуса, ожидая зова в качестве свидетеля, унизительно, невесело, да и не особенно прибыльно. А деньги нужны, тем более нужны, что, как вы слышали от свидетеля Багговута, был вексель, который необходимо было выкупить во избежание неприятностей. Он и был выкуплен или иным образом погашен. Тут-то кстати явилось предложение Лысенкова дать подпись на завещании Седкова. Подсудимый объясняет, что он только раз и просил денег от Седковой, 10 или 15 руб., да и тех она не дала. Но трудно предположить, чтоб он, совершив ясное для него по своим последствиям дело, ограничился только такою скромною просьбою. Притом, мы имеем два конца в цепи его требований. У нас есть записочка Седковой от 1 июня, где написано, что ему дано 500 руб. и Лысенкозу 500 руб. Седкова объясняет, что думала, что так деньги эти, тысяча рублей, будут между ними разделены. Записку же она писала, конечно, не в ожидании следствия. Это начало выдач. А конец — в окружном суде. Седкова говорит, что подсудимый отказался явиться в суд для утверждения завещания, и он сам это подтверждает. Толкуют только причины этого они разно. Он, по его словам, хотел подсмотреть, как пройдет завещание на суде, чтоб подтвердить свою подпись в суде уже вне опасности споров против подлинности завещания. 5 июля был заявлен Алексеем Седковым спор о подлоге. Чего же больше? Оставалось отступиться от этого темного дела, в котором чувство благодарности могло привести на скамью подсудимых. Но нет! Он 19 июля является в суд и своим торжественным удостоверением придает окончательную силу завещанию. Очевидно, он ждал чего-то другого. Это другое, по словам Седковой, были деньги. Из показания Ольги Балагур мы знаем, что он их получил. Она видела, как он пересчитывал сотенные бумажки в конверте и получил вместе с ними вексель и свои оставленные в заклад Седковой аттестаты. Балагур прямо говорит, что присутствовала при этом мелочном и исполненном взаимного недоверия торге свидетельскою совестью. Подтверждается ее показание векселем на имя Карганова в 500 руб. Он не отрицает его получения, но говорит, что вексель этот ничего не стоил, ибо был дан на два года. Но зачем тогда было его брать и разве нельзя его дисконтировать? Подсудимый понимал важность своего показания и решился выжать из Седковой все, что можно. В то время, когда другие свидетели послушно шли свидетельствовать в суд, он уперся и получил деньги. В средине между этими получениями, после совершения завещания и при утверждении его в суде, есть, по показанию Седковой, еще одно — за недонос о подлоге. Она говорит, что подсудимый явился к ней после предупреждения ее Лысенковым и читал какой-то протокол, который грозился отправить или отнести к прокурору. Стали торговаться. Сошлись на 1 тыс. руб. Вы можете ей верить или нет, но мне кажется, что следует помнить письмо Петлина: «Примите благой совет, дайте Б. просимое», а также ночное странствование Петлина с Ариною Беляевою к памятнику Екатерины будто бы затем, чтоб дать подсудимому возможность узнать, действительно ли завещание было написано после смерти Седкова, как будто этого нельзя было спросить у Седковой и у самого Петлина. До утверждения завещания подсудимый ничем бы не рисковал; не являясь в суд, он всегда мог бы сослаться на то, что был введен в заблуждение. После утверждения донос уже немыслим, это будет самообвинение. Поэтому самое удобное время для угрозы доносом между писанием завещания и рассмотрением его в суде. Что касается до скромной просьбы о присылке 10—15 руб., то размер ее объясняется, по моему мнению, тем, что все, что можно было получить от Седковой, было уже получено, и что она писалась в то время, когда после заседания суда нельзя уже было угрожать и упорствовать. Этим объясняется и категорический отказ Седковой, и вызванная раздражением приписка подсудимого: «Отказывая — вы меня станете дразнить, а я, право, вам добра желаю»…
И подсудимый Петлин не может отговариваться незнанием того, что он делал, давлением на него авторитета закона в лице нотариуса и влиянием «плачущей женщины». Он — человек, испытавший жизнь, и в боях бывавший, и домами управлявший. Его зовут к совершенно незнакомым людям и держат целый вечер вместе с товарищем, затем увольняют за смертью хозяина, а потом опять посылают и предлагают подписать очевидную, явную ложь, предлагают прописать, в выражениях, не допускающих сомнений, будто бы он видел и слышал то, чего не было… Все это делается с незнакомым человеком, которого потом тревожат и явкою в суд и опять заставляют лгать. Но разве возможно это в действительности? Разве человек, не заинтересованный в подделке завещания, а действительно чужой, не сказал бы самому себе, что между «авторитетом закона» и лжесвидетельством — отношения самые враждебные, которых никакой нотариус изменить не может, не сказал бы окружающим: «Позвольте, однако, вы меня, продержав весь вечер, уговариваете подписать завещание потому будто бы, что этого желал покойный. Но я его не знал, я вас не знаю, я не могу вам верить, да и за кого, наконец, вы меня-то принимаете с вашими предложениями?»… Ничуть не бывало: он прямо подписывает и затем уже становится советником Седковой, входит в ее интересы, пишет ей письма, советует беседовать интимно с прислугою, и дело, к которому отнесся с таким доверием, уже называет «известным вам милым делом». Это ли положение человека, случайно и по военному прямодушию попавшего в милое дело? Да и случайно ли попал он в свидетели? Он жил на одной лестнице с Седковыми и был знаком «с девицею Аришею», как ее описывал Виноградов. Свойства этого знакомства понятны, и не для обмена же мыслей оно было заведено. Арина могла быть связующим звеном между Седковою и Петлиным, нравственную крепость которого барыня, конечно, могла понять из неизбежной болтовни служанки. А людей она видела столько, что могла научиться их разбирать по довольно тонким чертам. Этим предварительным заочным знакомством объясняется приглашение Петлина. Действовал ли он бескорыстно — указывают 200 руб., полученные им в день утверждения завещания, и записка с просьбою о 100 руб. с прибавлением: «Дадите — жалеть не будете». Свои последующие отношения с Седковой он объясняет тем, что был под давлением Арины. Но вы ее видели, господа присяжные заседатели. Это личность, быть может, готовая урвать ушко из общей добычи, но, во всяком случае, без собственного почина. И ужели Петлин мог быть в ее руках послушным орудием? Ужели она его, как малое дитя, без воли и желания с его стороны, водила ночью к памятнику Екатерины для заговоров с «сосвидетелем», водила к помощнику пристава Станкевичу, заставляла писать письма о милом деле и диктовать своей жене донос против себя самого? Это не в порядке вещей. А, между тем, все это было. Кто же был в этом старший, кто действовал, кто распоряжался? Вы не затруднитесь сказать, что это был Петлин и что Арина, со своими сведениями кое о чем, была послушным и прибыльным орудием в его руках. Чрез нее он мог действовать угрозами и постоянным томлением на Седкову, чрез нее, живя в одном доме, иметь постоянный надзор за ее барынею. Там, где Бороздин действовал один, он мог действовать через Арину; когда угроза доносом прокурору удалась так хорошо, присылается и Беляева с требованием денег. Но характер у Седковой неровный, да и измучили ее, должно быть, очень — она вспылила и выгнала Арину вон. Тогда вопрос о доносе стал иначе. Он был написан. Припомните, однако, что он пишется под диктовку Петлина его женою, в присутствии Тениса и Медведева. Они пойдут и скажут Седковой. Она испугается и пришлет деньги,а не испугается их рассказа, так испугается записки Станкевича, который ей пишет: «Ко мне поступил донос на вас, но прежде, чем дать ему ход, я хотел бы поговорить с вами». Действия Станкевича не подлежат нашему обсуждению, но есть основание предполагать, что он не отнесся серьезно к доносу Арины, приходившей с Петлиным, потому что не послал его в сыскную полицию или не приступил сам к дознанию, а доложил о нем приставу только после жалобы Седковой на вызов ее в участок. Быть может, Петлин, который был знаком в участке, убедил его в неосновательности доноса, который и сам по себе, никем не подписанный, содержал лишь голословное заявление о подлоге чеков и о вывозе имущества, ни словом не упоминая о подлоге завещания. Станкевич счел только за нужное вызвать Седкову, чтоб спросить у нее, где живет Арина, хотя, как кажется, это удобнее было сделать по справочным листкам и сведениям адресного стола. Очевидно, что донос безымянный и неосновательный, даже с точки зрения местного полицейского чиновника, не должен был получить дальнейшего движения и весь желательный результат его для заинтересованных лиц состоял лишь в получении Седковою повестки из полиции. Повестка, однако, произвела совершенно неожиданное для них действие. Седкова пошла жаловаться. Вымогательство, ловко задуманное Петлиным, который, соорудив донос, стоял все-таки от него в стороне, не удалось, но зато предварительное следствие, возникшее из этого случая, как мне кажется, удалось вполне. Корыстные цели Петлина очевидны. Его записка: «Дайте Б. просимое» явно указывает, что он был заинтересован в том, чтоб получить свой гонорар. Он отрицает всякие сношения с Седковой. Но как объяснить историю с векселем в 5 тыс. руб., который он разорвал после того, как он был ею объявлен подложным. Если бы он был получен за действительные услуги, как деньги, а не составлял орудия или плода нового вымогательства, рассчитанного против Седковой, то он не расстался бы с ним так легко. Ведь это все-таки была ценность в несколько тысяч. Таковы действия Петлина, подлежащие вашей оценке.
Киткин, после двух допросов, довольно откровенно рассказал все следователю. Его сознание, как электрический толчок, сообщилось неизбежно и неотвратимо и всем другим членам преступного кружка. Сознались, по-своему, и они. Киткину есть поэтому основание верить. Но оправдывать его нельзя. Он отлично понимал, что делал, недаром он так часто напоминает Седковой, что ему «все остается известным». Когда он был привлечен к подписке, он стоял в положении человека, находящегося отчасти в руках Седковой. У нее был против него весьма зловредный вексель. Впереди неприветно виднелось долговое отделение. Но он колебался, совесть в нем говорила. В эти минуты он заслуживает сочувствия. Но колебания были недолги. Он сообразил выгоды своего нового положения и принял предложение Седковой. Вырвав из ее рук ненавистный вексель, он сразу обменялся с нею ролями и перешел в наступательное положение. Он грозит Седковой, еще не подписав даже завещания. «Знайте, что мне все остается известным», — пишет он. «Если вы захотите иначе устроить это дело, то ведь мне все известно», — пишет он в другой раз и прибавляет «маленькую просьбу: прислать сто или двести рублей». Очевидно, что с самого начала он понимал, что сделал, и старался извлечь из этого возможную выгоду. Таков Киткин в этом деле.
Задача моя окончена. Мелкие подробности, опущенные мною, восстановит ваша совокупная память. Дело это очень неприглядное, и все его участники, за исключением двух, заслуживают строгого осуждения. Ни в их развитии, ни в их обстановке, ни в их силах и знаниях нет уважительных данных для их оправдания. Седкова не наивное дитя, не ведавшая, что творила. Она не раз обнаружила большую находчивость и знание житейских дел. Ее поступок с векселем Киткина весьма характеристичен. Она трезво смотрит на людей, умеет за них при случае взяться. С момента смерти мужа она явилась лицом, отдавшимся вполне жажде завладеть тем, что по закону принадлежало не ей одной. Желанье было, не было уменья приняться за дело. Слово осуждения одно может заставить ее одуматься и начать иначе оценивать свои поступки. Оно будет тяжело, но будет справедливо. Бороздин тоже заслуживает осуждения. Его образование и прошлая служба обязывают его искать себе занятий, более достойных порядочного человека, чем те, за которые он попал на скамью подсудимых. Россия не так богата образованными и сведущими людьми, чтоб им, в случае бедствий материальных, не оставалось иного выхода, кроме преступления. Ссылка его на семью, на детей — есть косвенное указание на необходимость оправдания. Но такая ссылка законна в несчастном поденщике, в рабочем, которому и жизнь, и развитие создали самый узкий, безвыходный круг скудно оплачиваемой и необеспеченной деятельности. Но при общественном положении подсудимого его несчастные дети только могли заставить его строже относиться к своим действиям. Необходимость дать детям чистое имя должна придавать силы для борьбы с соблазном и устранять оправдания себя ссылкою на детей, как на невольных и молчаливых подстрекателей к сделкам с совестью. Наконец, обвиняемый больше кого-либо из подсудимых должен был сознавать вред настоящего преступления, колеблющего законы, особенно нуждающиеся в охранении со стороны общества, потому что ими ограждается воля человека, который уже не встанет из гроба на защиту своих прав… Он забыл то, что сам еще недавно был призван к охранению законов. Всякое положение налагает известные обязанности. Кто был судьею, кто осуждал и наказывал сам, кто отправлял правосудие, тот обязан особенно строго относиться к себе, хотя бы он и оставил свое звание. Он должен высоко ставить и охранять его достоинство и беречь память о нем. Бывший судебный деятель, который делает подлоги, учитель, который развращает нравственность детей, священник, который кощунствует,— несравненно виновнее, чем те, кто совершает дурное дело, выйдя из безличных рядов толпы. Вот почему, отводя, по человечеству, справедливое место семейным материальным затруднениям подсудимого, вы, господа присяжные, однако, .едва ли перейдете за границу признания его лишь заслуживающим снисхождения. Не менее виновен и Лысенков. У него даже нет оправданий предшествующего подсудимого. Ему были открыты пути честно выйти из стесненного положения, вокруг него были близкие люди, готовые помочь… Он действовал в настоящем деле, как искуситель. Им вовлечены, им связаны все в этом деле. Не явись он со своею опытностью и с желанием поживиться на счет покойного Седкова, жена последнего так и осталась бы при желании, но без способов совершить завещание. Он нарушил и свои гражданские обязанности, и свои нравственные обязанности, забывая, что закон, вверяя ему звание нотариуса, доверял ему и приглашал других к этому доверию. Есть деятельности, где трудно отличить частного человека от должностного, и в глазах большинства нотариус, составляющий домашний подлог, все-таки подрывает доверие к учреждению, к которому он принадлежит…
Виновность Петлина и Киткина очевидна. Вы отнесетесь к ней с справедливым порицанием. Очевидна и противозаконность деяний Тениса и Медведева. Но, господа присяжные, в действиях Тениса столько машинального, столько добродушного и незлобливого в поступках Медведева, так мало гражданского развития можно требовать от этих лиц, всю жизнь проведших в сражениях на рапирах, так мало корысти в их действиях, что, по моему мнению, они заслуживают полнейшего снисхождения. И если вы дадите им снисхождение полное, такое полное, чтобы в глазах суда, имеющего право ходатайства о помиловании, оно почти исключало ответственность, то вы не поступите вопреки справедливости.
ПО ДЕЛУ О НАНЕСЕНИИ ГУБЕРНСКИМ СЕКРЕТАРЕМ ДОРОШЕНКО МЕЩАНИНУ СЕВЕРИНУ ПОБОЕВ, ВЫЗВАВШИХ СМЕРТЬ ПОСЛЕДНЕГО *
Господа судьи, господа присяжные заседатели!
Мне предстоит произнести перед вами обвинительную речь, которая должна составлять развитие оснований и соображений, изложенных в обвинительном акте. Этот акт, прослушанный вчера, был составлен мною во многих отношениях предположительно потому, что обстановка настоящего дела, порядок его возникновения, его ход и некоторые особенные свойства вызвали то, что многие обстоятельства, прямо относящиеся к обвинению, обусловливающие его, не могли быть выяснены с надлежащею полнотою на предварительном следствии. Приходилось, на основании отрывочных сведений, делать предположения и догадки. Ныне, на суде, они подтвердились, и потому в речи своей я могу идти по следам обвинительного акта. Но, приступая к обвинению, нельзя не обратить внимания на особенные свойства этого дела, тем более, что они влияют на характер приемов, необходимых для исследования истины в данном случае.
Предмет дела — нанесение побоев, от которых, рядом последовательных явлений, произошла смерть. Иными словами, предмет дела — действия, являющиеся последствием желания проявить свою личную грубую силу, последствием нарушения своих обязанностей по отношению к чужой личной безопасности. Грубость нравов и малое понимание важности и строгости закона, охраняющего личное достоинство всех и каждого, — вот условия, при которых наносятся обыкновенно такого рода побои в той среде, где они наиболее часто встречаются, в среде простого народа. Но в настоящем случае обвиняемым является лицо более развитое, стоящее выше подсудимых, обыкновенно встречаемых в суде. В действиях его не может уже сказаться непонимание закона, а скорей должно являться полное неуважение к этому закону. Подсудимый — человек образованный, знакомый с судебною практикою, сознающий, конечно, важность падающего на него обвинения, и потому он, без сомнения, гораздо более искусен в выборе и распределении средств защиты, чем обыкновенные подсудимые. Поэтому каждый довод его в свою защиту, является ли он в виде показаний свидетеля или объяснений самого подсудимого, должен быть строго проверен и внимательно взвешен. Такова первая особенность настоящего дела.
Вторая особенность дела — шаткое направление, полученное им при первоначальном возникновении, направление, которое характеризует отживший ныне судебно-полицейский порядок. Мы не имеем права входить в подробный разбор и оценку этого направления дела, так как это не относится к обвинению подсудимого, но не можем не заметить, что по отношению к настоящему разбирательству первоначальный ход дела представляется причиною того, что многое, необходимое для разъяснения истины, осталось неразъясненным и заставляющим прибегать к предположениям и догадкам. Отсюда трудность обсуждения, в основание которого кладутся вскрытие трупа, произведенное после четырехмесячного гниения, и показания свидетелей, данные впервые почти через год после происшествия. Мы знаем, что это дело началось заявлением Северина о нанесенных ему в Григоровке тяжких побоях. Вместо немедленного подробного освидетельствования следов побоев был сделан им поверхностный осмотр и произведено «легкое» дознание вместо передачи дела судебному следователю. Дознание это было прочитано здесь. Око прописано в акте осмотра врача. По нему оказалось, что Северин грубил Дорошенко и был им оттолкнут, но побоев ему никто не наносил, как удостоверили свидетели Ковалевский, Стефанович и Шевченкова — все лица, близкие к подсудимому в качестве служащих у него или получающих от него работу. При этом, к сожалению, не был спрошен один свидетель — Склаво, . показания которого могли иметь большое значение: Склаво — единственный человек из бывших свидетелями происшествия, независимый от Дорошенко. По окончании дознания, заключающего в себе такой существенный пробел, дело остановилось, а, между тем, через 12 дней после нанесения побоев Северин умирает. По получении известия о его смерти найдено нужным вскрыть его труп, но кто первый признал это нужным, до сих пор осталось неразъясненным. Между тем, это разъяснение представляется и ныне необходимым ввиду проверки правильности показания Севериновой и возможности отделить в ее рассказе истину от вымысла, буде таковой существует. Здесь свидетелями —исправником Танковым и врачом Щелкуновым — было упомянуто об отношении первого к последнему о вскрытии трупа Северина, но из этого отношения нельзя вывести заключения, кто же считал нужным производство вскрытия — сама ли Северинова или же распоряжение шло помимо ее воли? В отношении этом прописано лишь, «что врач уведомляется, что явилась Северинова и заявила, что ее муж. умер и что его следует вскрыть». От кого исходит это последнее «что» — от писавшего или от Севериновой, — не удалось разъяснить и на судебном следствии. Свидетель Танков показал, что о вскрытии просила сама Северинова, потом объяснил, что, считая это дело важным, сам распорядился о вскрытии, а потом вновь объяснил, что вскрытие Северина было произведено «согласно с заявлением» Севериновой. Но эти объяснения не могут, однако, служить к разъяснению дела. Если Северинова просила о вскрытии трупа, то ей, очевидно, нет надобности настаивать здесь на том, что она, напротив, просила всячески не вскрывать мужа. Просьба жены о вскрытии мужа вовсе не в нравах русского народа: известно, как боится простой народ всякого «потрошения». Притом же, показание Севериновой подтверждено свидетелями Бардаковым и приставом Гондаровским, по словам которых она умоляла не вскрывать мужа, отказываясь даже от всякого иска к Дорошенко. Но если она не просила о вскрытии, то оно, очевидно, сделано по распоряжению исправника Танкова, который сам заявил, что считал это дело серьезным и важным. Таким образом, является полное основание думать, что вскрытие было произведено под влиянием мысли, что если Северин и не умер прямо от побоев, то во всяком случае, они могли иметь связь с его смертью. Следовательно, смерть Северина не признавалась естественною, вследствие приключившейся, при обыкновенном ходе вещей, болезни. В последнем случае не должно бы быть вскрытия. Признавать смерть Северина за скоропостижную — тоже не было оснований, ибо он был болен 12 дней и вскрывать его, как скоропостижно умершего, не надлежало. По окончании вскрытия дело вновь принимает вид маловажного и прекращается под более чем странным заглавием: «Дело о скоропостижно умершем». Таким образом, здесь, очевидно, произошло какое-то ускользающее от объяснения недоразумение, отразившееся как на ходе дела, так и на невозможности представить ныне вам, господа присяжные заседатели, многие данные к обвинению подсудимого, данные, не собранные своевременно. Наглядною причиною такого положения дела был, по-видимому, акт вскрытия трупа Северина, который, в свою очередь, составляет также и одну из главных причин, почему обвинению в настоящем деле предстоит особая трудность в доказывании причинной связи между смертью Северина и нанесенными ему побоями.
Переходя к этому акту, нельзя не остановиться по пути на дальнейшем ходе дела, окончившегося преданием подсудимого суду. Здесь, на суде, Северинова подробно рассказывала свои похождения после смерти мужа, указывала на надежды, возлагавшиеся ею на Дорошенко, который, по ее мнению, должен был обеспечить участь ее детей, на опасения, внушаемые ей окружающими о «погибели дела», и на препятствия, встретившиеся ей к тому, чтобы добиться правды. Показаниям ее, женщины, лишившейся мужа и потому неспособной хладнокровно относиться к делу, трудно безусловно доверять, и, быть может, ей, удрученной и напуганной случившимся с нею несчастьем, могли представляться препятствия в таких размерах, которых в действительности не существовало, и обычно равнодушное отношение различных лиц к ее горю казаться действиями, направленными против нее, бедной и одинокой. Так, вчера на суде она много и долго толковала о какой-то записке исправника Танкова к Дорошенко, в которой предлагалось ему уплатить ей требуемую ею сумму и которая была впоследствии у нее Танковым отнята. Содержание записки поэтому осталось неразъясненным, но, во всяком случае, будем думать, это не была записка о даче Севериновой денег для примирения с нею, так как господин исправник как лицо должностное не мог не знать, что дела, подобные делу о Северине, примирением прекращаемы быть не могут. По объяснениям самого Танкова, это была записка, охранявшая Северинову в Григоровке от заарестования за неимение при себе паспорта, хотя нельзя не признать, что такая записка представляется вполне излишнею ввиду того, что вместо записки господин исправник мог снабдить Северинову советом взять паспорт, и ввиду затем законов о паспортах, по коим дозволяется лицам низших сословий кратковременная отлучка на 30 верст расстояния от города без паспорта, а Григоровка отстоит от Харькова всего на пять верст. По совету разных лиц Северинова обратилась к товарищу прокурора Морошкину, и дело о побоях, нанесенных Северину, было возбуждено прокурорским надзором. Здесь пришлось прежде всего встретиться с актом осмотра трупа, составленным врачом Щелкуновым, так как им, этим актом, могло быть объяснено многое в смерти Северина, труп которого уже предался разложению. Но, к сожалению, акт этот не только не помог разъяснению дела, но даже оказался составленным вопреки всем правилам судебной медицины и с нарушением прямых предписаний закона и элементарных обязанностей врача. Судебный врач должен идти об руку с судебною властью, должен помогать задаче правосудия и способствовать раскрытию истины в деле. Он является полным хозяином и распорядителем вскрытия, производит его по всем правилам, предписанным законом и установленным наукою, и удостоверяет, наконец, что все им сделано по долгу службы и присяги и по указаниям науки. Протокол таких действий врача есть могучее и надежное орудие к уяснению истины в деле. Но в настоящем деле правосудие не встретило себе помощника в судебном враче. Он выполнил вполне только последнюю часть своих обязанностей: удостоверил, что осмотр произведен им правильно, и удостоверил вполне неправильно! Вы слышали, господа присяжные, показание самого врача Щелкунова, который, вынужден был признать, что вскрытие произведено им с ошибками, с упущениями. С этим сознанием нельзя не согласиться вполне. Голова Северина вовсе не была вскрыта, а, между тем, в ней, как записано в акте, найдены многосложные и характеристические- явления — кровоизлияние, кровяные точки в мозгу и т. п. Мочевой пузырь тоже вскрыт не был. Осталась вскрытою одна лишь грудная полость и часть брюшной. Правильно ли они были вскрыты? Правильно, удостоверяет врач Щелкунов. Однако посмотрим, так ли это? Желудок был осмотрен фельдшером, он нюхал, его содержимое и нашел, что оно пахнет водкой, издавая спиртуозный запах напитка, которого, однако, Северин не употреблял во все время болезни, длившейся 12 дней. Следовательно, осмотр желудка произведен не тем лицом, которое на основании 1744 статьи Устава судебной медицины есть первое лицо при вскрытии. Поэтому эта часть осмотра произведена так, что ему доверять нельзя. В грудной полости остаются сердце и легкие. Вскрытие сердца необходимо производить с соблюдением особых приемов, которые начинаются с продольного, сверху вниз, разрезания сердечной сумки, причем отделение сердца производится, согласно 1804 статье Устава медицины, с надлежащим двойным перевязыванием больших кровяных сосудов. Из протокола вторичного вскрытия видно, что сердце было изрезано в мелкие куски, а на вопрос мой, было ли соблюдено требование 1804 статьи Устава судебной медицины, врач Щелкунов, со смелостью, которую, конечно, придавало ему сознание в себе специалиста-медика пред лицом прокурора — неспециалиста, отвечал, что перевязывание сосудов не производится на трупе. Но ст. 1804 помещена в главе «О судебном осмотре мертвых тел», да и, кроме того, я позволю себе утверждать, что перевязывание больших кровяных сосудов сердца, если бы оно и было возможно при жизни, может только всякий живой организм обратить в труп. Итак, вскрытие сердца произведено тоже неправильно. Остаются легкие… но можно ли доверять их вскрытию и результатам его при том, что мы знаем уже о вскрытии других частей трупа Северина? Можно ли полагаться на это вскрытие, когда вопреки ст. 1745 Устава судебной медицины и законные свидетели вскрытия, которые должны удостоверить правильность его и предупреждать беспорядки и упущения, могущие навлечь сомнение в правильности его, одни — не обратили даже внимания на то, вскрыта ли была голова, этот существеннейший предмет, подлежащий вскрытию, полагаясь во всем на врача и подписывая машинально протокол, другие же, как видно из показаний Бардакова и Стешенко, в ответ на изъявление ими сомнений о смерти Северина «от водки» получили приказание «молчать!», а один из понятых, шубник Иванов, находивший, что «уж коли резать, так всего резать», чуть не попал за это под арест. Можно ли, спрашивается наконец, верить осмотру, протокол которого составлялся на дому, на память, ибо врач будто бы утерял заметки и ссылается на то, что только что оправился пред этим от белой горячки, а потому и наделал ошибок? Свойство и характер этих ошибок господина Щелкунова будут вскоре исследованы в стенах другого суда, но теперь нельзя не заявить, что они, эти ошибки, имели очень прискорбное влияние на затруднение раскрытия истины в настоящем деле. Врач Щелкунов имел дело со свежим трупом только что умершего человека, с организмом, который только что перестал жить и, так сказать, еще красноречиво мог свидетельствовать о тех болезненных явлениях и изменениях, которые претерпел при жизни. Мы видели, что сделал Щелкунов из того материала, который ему представлялся… Когда, через четыре месяца, труп Северина попал в руки достойных представителей науки, когда к исследованию его были применены все предписания закона и правила искусства, тогда труп этот уже представлял полуистлевшую, разложившуюся, гниющую, покрытую плесенью и червями массу. Остались целыми лишь кости. Вывод о причинах смерти сделался труден и основывался уже на немногих признаках. Такова вторая особенность настоящего дела, особенность, состоящая в том, что первоначальная шаткость в направлении дела и неправильное вскрытие лишили обвинительную власть возможности основываться на твердых судебно-медицинских данных к обвинению подсудимого, данных, добытых, так сказать, по горячим следам и по только что охладевшему трупу.
Третья особенность настоящего дела состоит в том, что ввиду шаткости первоначальных данных, имеющихся в деле, здесь на суде пришлось допросить большое количество свидетелей, отличающихся самыми разнообразными свойствами. Я не считаю уместным входить в оценку нравственного достоинства тех или других показаний по отношению к личностям, их дававшим, я ограничусь лишь перечислением свидетелей, дававших здесь свои показания. Первою была спрошена Северинова, откровенно и просто, несколько непоследовательно, но крайне подробно рассказавшая все, что знает о деле. Ее показание дышит иногда некоторою аффектациею, некоторою излишнею картинностью, но это вполне понятно. Показание это дается не хладнокровным зрителем происходившего, не посторонним наблюдателем, а женщиною, потерявшею мужа и оставшеюся с тремя детьми на руках, в виду грозящей нужды и в совершенном сиротстве. Полного хладнокровия в рассказе от нее и требовать нельзя. Но она в то же время не старается искажать истину: стоит припомнить ее показание о ступеньках крыльца в их доме. Количество их играло важную роль на судебном следствии ввиду вопроса об одышке у Северина, одышке, составляющей один из признаков чахотки, — и Северинова, зная, что ее слов нельзя уже теперь, сейчас, проверить, все-таки утверждала, что крыльцо невысоко, хотя ей ничто не мешало надбавить ступеней 20 и тем повернуть вопрос об одышке в свою пользу, — вопрос, значение которого ей, как видно из ее показания, вполне понятно. Показания других свидетелей— Стешенко и Бардакова — тоже заслуживают доверия, показание последнего преисполнено искренности и простоты. Видимо, сочувствуя несчастию Севериновой, он, однако, не забывает сказать, что Северин приезжал к нему верхом, а это обстоятельство, надо сознаться, служит во вред обвинению. Просто и бесхитростно рассказывая, что знает, Бардаков отвечает на вопросы о предположениях его о причинах смерти Северина: «Этого я не знаю! Что видел — то и говорю, а чего не видел, о том и говорить не буду». Затем были спрошены свидетель Стефанович, живущий вместе с Дорошенко, жена Дорошенко и свидетельница Екатерина Шевченкова. О показаниях первых двух свидетелей особого ничего нельзя сказать, можно только припомнить ту энергию, с которою они оба утверждали, что подсудимый никогда не носи\ и не мог носить кольца на правой руке — энергию, к сожалению, потраченную даром, так как здесь же, пред всеми нами, кольцо в руках профессора Грубе входило легко и свободно на палец правой руки подсудимого. Шевченкова— свидетельница довольно оригинальная: ей всего 22 года, она молода, живет трудом, следовательно, трудовые дни ее едва ли так богаты впечатлениями, чтобы заставлять забывать явления повседневной жизни, а, между тем, свидетельница отличается удивительною беспамятливостью, не помнит, когда она была у Дорошенко в Григоровке, в котором часу ушла оттуда, не слышала даже, был ли там шум или ссора, потому что она, молодая девушка, просидела целый вечер и половину ночи одна, в пустой комнате, не выходя в другую комнату к другим свидетелям, ее знакомым. Впрочем, она, быть может, и выходила, да и это позабыла, так как другие свидетели уличали ее в том, что она не только была с ними в другой комнате, но даже играла в карты и пила пиво. Чрезвычайно забывчивая свидетельница: она даже и до сих пор, постоянно работая на семейство Дорошенко, не слышала ничего о происшествии, подавшем повод к настоящему разбирательству. Был здесь спрошен и свидетель Стефанович, бывший при Дорошенко конторщиком григоровской экономии. Он дал четыре показания или, лучше сказать, его показание состоит из четырех частей, одна другой противоречащих. Сначала, по его показанию, извозчик «грозит», потом только «говорит дерзости», потом только «грубо говорит». Он входит сначала в комнату и говорит дерзости, потом уходит и, стоя в неосвещенной передней, требует прибавки, причем Дорошенко показывает часы, а он ломится в двери передней, которые за-творены, наконец дверь отворяется и извозчик толкает Дорошенко ее ручкою, а Дорошенко его выталкивает вон, то есть, прибавляет потом свидетель, отворив дверь, извозчик махает руками и толкает Дорошенко, который тогда уже выталкивает его вон и т. д., все в этом роде. Одним словом, в показании свидетеля самым очевидным и неискусным образом смешаны понятия об угрозах и дерзостях, о грубом обращении и о требовании следующего по уговору, о руке и ручке двери, причем извозчик то ударяет подсудимого рукою, то дверью, «ломится» в притворенную дверь, которую никто не держит, и не доверяет часам, которые Дорошенко показывает ему сквозь запертые двери… Защитник во время судебного следствия на указание этих противоречий заметил как бы с упреком, что ведь свидетель вызван самою обвинительною властью. Что же из этого? Не думает ли защитник укорять обвинительную власть за то, что она, в интересах истины, вызывает на суд и свидетелей, выставленных подсудимым в свою защиту? Представители обвинительной власти, по существу своих обязанностей, не заинтересованы лично в том или другом исходе дела и поэтому без боязни исхода могут содействовать обвиняемому в собирании средств к своему оправданию, буде только таковое возможно. Затем здесь было прочитано показание Склаво и показание «лесного пана», поручика Ковалевского. Пед-судимым был возбужден вопрос о том, что при следствии права его были нарушены тем, что ему не дано было очной ставки с Ковалевским. Но подсудимый, заявивший, что занимается хождением по делам, должен знать Судебные уставы и, следовательно, знать 292 статью Устава уголовного судопроизводства, по которой если окажется нужным допросить свидетеля, живущего вне участка, где следствие возникло, то снятие допроса возлагается на местного судебного следователя, причем показания отбираются по допросным пунктам. Он должен также знать, что присутствие обвиняемого при допросе не всегда требуется Уставом и что необходимо только предъявление всех показаний обвиняемому при заключении следствия. Показание Ковалевского было предъявлено подсудимому, и он выставил против него трех свидетелей о кольце, которые и были здесь допрошены; следовательно, права его ни в чем нарушены не были. Показание это дано под присягою, святость и значение которой свидетель ясно сознавал, ибо сознался даже в том ложном объяснении, которое дал при дознании, сознался, ничем к тому не вынуждаемый и движимый только голосом совести. Показание Ковалевского должно было особенно поразить подсудимого. Это был человек, как видно из его показания, про которого подсудимый мог думать, что «приобрел» его в свою пользу — и что же? Этот человек платит ему черною неблагодарностью, забыв и данные обещания, и рекомендацию новому управляющему, и полученные в подарок серые драповые брюки! На предварительном следствии Дорошенко возражал на это показание лишь относительно кольца, хотя вчера эксперты и подтвердили блистательным образом, что Ковалевский, говоря о кольце, был прав, но здесь он выставляет новое опровержение этого показания. Ковалевский, говорит он, украл у меня пальто, но я его не хотел преследовать и потому (почему же потому?) он показывает теперь на меня по злобе и ложно. Это неправдоподобное и ничем не подтвержденное заявление сделано здесь впервые. На следствии, когда показание Ковалевского было предъявлено подсудимому в первый раз и должно было особенно поразить его и вызвать в нем взрыв негодования, если только оно могло иметь место, о таком заявлении и помину не было. Появление этого заявления здесь нам вполне понятно — это одно из средств, которыми защищается подсудимый, одна из тех особенностей, на которые было указано в начале обвинительной речи. Мы не станем строго судить подсудимого за подобные приемы защиты: некоторая неразборчивость в средствах защиты со стороны человека, сидящего на скамье подсудимых, более или менее понятна, Следует, однако, быть уверенным, что защитник подсудимого не поддержит таких приемов своего клиента. А цель этих приемов вполне ясна. При предварительном следствии еще не было известно, явится ли сам Ковалевский на суд, теперь оказывается, что он не явился, следовательно, что бы про него ни говорили, возражать не будет, а потому можно и взвести на него бездоказательное обвинение в краже. Положительных данных никто не потребует, судьи, быть может, даже и не поверят рассказу, но все-таки некоторая тень на показание опасного свидетеля наброшена, все-таки мысль об украденном пальто закинута в голову судей и, быть может, незаметно для них самих повлияет на их решение. Сделать смешным противника в деле пустом, сделать его лицом подозрительным в деле серьезном— это старая и жалкая, но, к сожалению, довольно верная и испытанная уловка… Я полагаю, однако, что расчет, подобный настоящему, не всегда бывает удачен, и что' показанию Ковалевского будет дана полная вера. Остается указать на показание свидетеля священника Соколовского, которое, по моему мнению, не может иметь большого значения в деле. Это хвалебный отзыв о Дорошенко как о человеке смирном, который не любил драться. Но подсудимый вовсе не обвиняется в наклонности драться, а лишь в нанесении однажды побоев Северину. Притом свидетель показал, что он не часто видался с Дорошенко, откуда возникает вопрос: да знает ли он хорошо привычки и жизнь Дорошенко, который далеко не все время проводил в Григоровке и который не мог быть особенно близок с Соколовским? Кому не известно положение сельского священника на Руси, кто не знает тех, не всегда согласных с достоинством его сана отношений, в которых он находится к помещикам и большим арендаторам (а Дорошенко был полномочным управляющим Григоровкой), от коих он вынужден, при своей скудной обстановке, ожидать пожертвований и вспомоществований? Не таковы эти отношения, чтобы способствовать изучению характера и привычек местного властелина! Для полноты свидетельских показаний можно еще указать на показание кучера Буймистрова. Показание это служит лучшим мерилом точности объяснений людей, бывших подчиненными Дорошенко, в деле, где их хозяин играл такую небезопасную для него роль. Нам скажут, что Буймистров и другие при опросе во время следствия уже не служили у Дорошенко. С этим мы согласны. Но они служили при дознании. Данные при дознании показания — краткие и категорически-оправдательные — стесняли и не могли не стеснять их в дальнейших показаниях при следствии. Притом — это все русские люди, люди уступчивые, снисходительные. Дорошенко, как видно, обходился с ними ласково, быть может, дарил им что-нибудь, а «русский человек добро помнит», и вот явилась в их показаниях мягкость выражений и некоторая уклончивость. Лучше всего это видно из показания Буймистрова. При дознании на краткий и определенный вопрос: «Избил ли барин его Северина?» он отвечал: «Я этого не видел» и с тем был отпущен, но при следствии, объяснив, что его более не спрашивали ни о чем, показал, что был свидетелем спора подсудимого с Севериным, видел, как первый толкнул Северина и тот пошатнулся, «поточился»; был ли нанесен ему удар в лицо — он не видел и объясняет это тем, что, стоя сзади Дорошенко, в шести шагах, в темной передней, мог не видеть нанесения удара. Показание, таким образом, приобрело совсем другой характер; свидетель, показавший столь категорически при дознании, вследствие полного отсутствия расспросов, не желая обвинять подсудимого, не отрицает, однако, при следствии возможности нанесения ударов Северину, а только утверждает, что находился в положении, в котором мог не видеть нанесения ударов. Не проглядывает ли и тут желание по мере возможности «не ломать души», желание, на осуществление которого Склавою так надеялся, умирая, Северин. Такова третья особенность настоящего дела: сложность, разнообразный внутренний характер и мотивы свидетельских показаний.
Приступаю к развитию обвинения. Подсудимый обвиняется в том, что он нанес фаэтонному извозчику Северину удары, от которых последовала смерть. Нанесение таких ударов или побоев, по мнению некоторых, есть проступок, близко граничащий с простым оскорблением действием, которое преследуется по Уставу о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Правда, преступление это довольно далеко от убийства и закон смотрит на него вовсе не так сурово, как на убийство, но, однако, считает нужным относиться строже к побоям, вызвавшим смерть, чем к простым побоям. Хотя в данном случае и не было желания причинить смерть этими побоями, но, тем не менее, эти побои сами по себе очень важны, вызвав смерть. Поэтому обвинению нужно, во-первых, доказать, были ли нанесены побои и, во-вторых, произошла ли от них смерть, т. е. были ли они причиною смерти? Обращаясь к первому вопросу, необходимо признать, что нанесение побоев представляется вполне доказанным. Покойный Северин 17 сентября прошлого года вечером выехал с фаэтоном на биржу; затем его позвали в квартиру Веприцкого, у которого в то время находился подсудимый Дорошенко; оттуда он развозил некоторых гостей и, возвратившись опять в квартиру Веприцкого, был совершенно здоров и мог совершить такую довольно дальнюю поездку, какова поездка с подсудимым в Григоровку. До того времени, как поехать в Григоровку, будучи нанятым Дорошенко, он вообще всегда пользовался здоровьем и на нанесение побоев никому не жаловался. Нанявшись везти Дорошенко, он едет в Григоровку и оттуда возвращается домой окровавленный, говоря, что его «убили». Очевидно, что побои нанесены в течение времени, прошедшего с отъезда его от Веприцкого с Дорошенко до возвращения его из Григоровки домой. Можно бы предполагать, что побои эти могли быть нанесены кем-либо другим на дороге, когда он возвращался домой, но для этого нет никаких данных, на это нет никакого намека, на это даже не указывает и сама защита, и, наконец, такое предположение опровергается всеми сведениями, которые имеются в деле. Правда, Северинова здесь заявила, что ее муж, приехавши домой окровавленный, говорил, что его побили «разбойники», но, очевидно, этому выражению придавать никакого особого значения нельзя, так как видно, что покойный вообще любил выражаться иносказательно. Так, отказываясь от закуски и говоря о побоях, он замечает, что «уже выпил и закусил», поэтому и слова его, что он побит разбойниками, иметь прямого значения не могут, ибо под именем разбойников он, очевидно, имел в виду то лицо, которое побило его в Григоровке. Итак, побои нанесены подсудимым. Это подтверждается свидетельскими показаниями трех лиц: показанием Склаво, которое было прочтено здесь, показаниями Ковалевского и кучера Буймистрова. Склаво и Ковалевский вообще подробно передают обстоятельства этого дела. Склаво рассказывает, что извозчик остановился на пороге передней и стал требовать прибавки денег. Насколько законно требование этой прибавки, я разбирать здесь не буду и входить в подробное рассмотрение этого обстоятельства совершенно излишне потому, что было ли это требование законно или незаконно — для дела это не имеет никакого значения, так как все-таки оно не давало права подсудимому драться. Как видно из показаний некоторых свидетелей, требование это было законно, ибо относительно требования прибавки у свидетелей и подсудимого существует недоразумение. Свидетель Стефанович показал здесь, что извозчик требовал 20 коп., а на предварительном следствии он же показал, что извозчик требовал 40 коп., тот же самый свидетель показал, что Дорошенко уплатил ему только рубль 20 коп., между тем сам подсудимый утверждает, что он отдал извозчику рубль 40 коп. Таким образом, вопрос этот остается неразъясненным, хотя и разъяснение его не имеет никакого значения, тем более, что, во всяком случае, для Северина явилась возможность требовать прибавки, так как свидетель Веприцкий показал здесь, что он не может сказать, платили ли извозчику те гости, которых он отвозил от него. Извозчик Северин просил прибавки денег, подсудимый говорит ему, что он прибавки ему не даст, и в то время, когда извозчик начал доказывать справедливость своего требования, подсудимый, говоря: «Как ты смеешь рассуждать!?», начал, как это видно из показаний Склаво, бить его по лицу. Из объяснений того же Склаво оказывается, что в словах извозчика никакой дерзости не было; Ковалевский и Буймистров, в свою очередь, тоже утверждают, что дерзостей со стороны Северина не было никаких. Итак, извозчик из Григоровки выехал побитым. Свидетель Склаво, бывший в это время у подсудимого Дорошенко, слышавший удары, продолжавшиеся минуту, и голос обиженного извозчика, обращался к подсудимому и, чтобы прекратить эти удары, говорил ему: «Не смейте бить человека, который не заслуживает», на что подсудимый отвечал: «Я хозяин дома, а вы не смеете распоряжаться!» Склаво, желая помочь извозчику и, быть может, возмущенный всем виденным, хотел ехать вместе с ним. Извозчик недаром рассчитывал на него, когда, приехавши домой, говорил, что если этот человек не поломает души, то он покажет правду. Но перед тем, как Склаво хочет выйти вслед за извозчиком, в темной передней щелкает замок и подсудимый его не выпускает, а дает приказание выпроводить извозчика из Григоровки и лишь только через полчаса, когда извозчик уже уехал, Склаво мог выйти из комнаты. Это показание Склаво подтверждается показанием Ковалевского и Буймистрова.
Затем возникает вопрос: как, каким образом и куда были нанесены удары Северину? Для этого есть показания только что упомянутых свидетелей, из которых один слышал, что побои, судя по их звуку, наносились рукою по лицу, другой видел, как подсудимый толкнул извозчика так, что тот «поточился» и разронял деньги, а третий присутствовал при самом нанесении Северину подсудимым, со словами «пошел вон», ударов рукою со стальным перстнем в лицо. Кроме этих показаний о том, что извозчик пошатнулся после удара, упал и согнулся на полу, что скорей всего могло произойти от удара в лицо, удара столь обыкновенного при кулачной расправе, из показаний всех свидетелей, видевших Северина после происшествия, оказывается, что у него было разбито лицо и разбито, как уже мною сказано, в Григоровке. Показаниям о нанесении побоев противоречит показание Василия Стефановича, по словам которого извозчик, оттолкнутый подсудимым, отскочил в переднюю, а вовсе не пошатнулся и не падал. Но, не говоря уже о неправдоподобности показания Стефановича о показывании часов, о том, что извозчик «ломился» в едва притворенную дверь, и даже не говоря о противоречии этого показания с объяснениями самого подсудимого, нельзя не заметить, что свидетель Стефанович, несмотря на все старания при перекрестном допросе, не мог ни удовлетворительно объяснить сбивчивости своего показания, ни разъяснить, что он понимает под словом «отскочить» — придает ли он этому слову общеупотребительное значение прыжка назад или разумеет что-либо другое. Здесь возникал вопрос о кольце. Признаюсь, указания Склаво и Ковалевского на ношение подсудимым кольца на правой руке, кольца весьма солидного и тяжелого, я считал довольно слабою уликою для обвинения ввиду настойчивых уверений подсудимого, что он никогда на правой руке кольца на четвертом пальце не носил. Эти уверения, подкрепленные показаниями домашних, продолжались и здесь на суде с прежнею настойчивостью, сам подсудимый даже примерял пред нами свое кольцо на правую руку, и оно, очевидно, для всех, несмотря на видимые усилия подсудимого, не входило ни на один из больших пальцев правой руки. Приходилось сознаться, что одна из улик, и ввиду заключения экспертов при вторичном вскрытии — улика довольно важная, пропадала. Оставалось прибегнуть к последнему, почти безнадежному после всего предшествовавшего, средству — просить господ экспертов рассмотреть, нет ли на правой руке обычных следов от долговременного ношения кольца, нет ли полоски, ободка на пальце… Эксперты, с свойственным им вниманием, рассмотрели правую руку обвиняемого, неповинную в ношении кольца, и нашли не только ободок, не только следы ношения кольца, нашли даже, чего, полагаю, никто уже не мог ожидать после происходившего пред этим, нашли, что и самое кольцо, не входившее на палец в руках подсудимого, довольно легко и без особых усилий, при небольшом поворачивании, входило на четвертый палец правой руки подсудимого. Вы помните, господа присяжные, этот опыт, и я полагаю, что и на вас, как на всех, он произвел впечатление неожиданности и некоторого удивления. Удивления этого нельзя не разделить. Остается думать, что или подсудимый Дорошенко забыл, что еще в прошлом году носил на правой руке это злосчастное кольцо, или же что он, приготовляя доводы в свою защиту, несколько неосмотрительно избирал приемы и способы этой защиты, забывая, что если извета о краже неблагодарного Ковалевского и нельзя проверить тотчас, то вопрос о кольце подлежит зато проверке воочию, проверке, которая неминуемо должна повести к оценке искренности оправданий подсудимого и к некоторым неблагоприятным для него выводам относительно свойств тех способов, которыми он думает защищаться здесь на суде, где все происходит гласно. Итак, побои были Северину нанесены в лицо рукою, на которой был тяжелый чугунный перстень.
Остается решить, чем вызваны были эти побои и насколько при нанесении их Дорошенко действовал сознательно, понимая, что он делает? Подсудимый объясняет, что был раздражен и рассержен грубостями и дерзким обращением извозчика. Но свидетели Склаво, Ковалевский и Буймистров единогласно утверждают, что в требованиях извозчика не было ничего дерзкого и он грубостей никаких не говорил, а тем более не размахивал руками и не задевал подсудимого. Он, быть может, только громко говорил, но это еще не причина к раздражению. Отсутствие раздражения доказывается и тем, что другие лица, находившиеся на месте происшествия, не видали поводов к раздражению, и одно из них даже сделало замечание Дорошенко в защиту Северина. Притом, это был не единичный случай, не случай, в котором человек тихий и смирный был выведен из себя и на время забыл и благоразумие, и осторожность. Побои, нанесенные Северину, не были припадком вспыльчивости, в которой человек не помнит себя, но затем тотчас же остывает. Это было, по-видимому, делом довольно обыкновенным для подсудимого. «Не смеете распоряжаться в моем доме, здесь я хозяин!» — кричит он в ответ на замечание Склаво о том, что извозчика бить не за, что, и затем объясняет, что «бьет всех извозчиков без различия». Защита старалась выяснить здесь своими вопросами свидетелям — хорошо ли обращался подсудимый с женою? Я хорошенько не понимаю, к чему служат эти вопросы. Что же доказывается хорошим обращением с женою? Дорошенко не обвиняется в отсутствии семейных добродетелей, и хорошее обращение с женою нисколько не доказывает, чтобы он не был способен дурно и самоуправно обращаться с другими лицами, а особенно с извозчиками, которых он «бьет всех без различия». Притом если бы и было доказано, что подсудимый действовал в пылу раздражения, более или менее основательного, то и это не может" служить к его оправданию, а лишь, по закону, к смягчению его вины. Перехожу к вопросу о том, действовал ли подсудимый сознательно? Вопрос этот должен быть решен утвердительно. Подсудимый не только не был пьян до бесчувствия, до отсутствия сознания своих поступков, но он не был даже просто в состоянии опьянения. Он был лишь только навеселе, т. е. в том состоянии, когда человек может себе отдавать полный отчет в своих действиях. «Господин Дорошенко уехал от меня слегка навеселе, как обыкновенно после именинного ужина», — говорит свидетель Веприцкий. «Господин Дорошенко приехал в Григоровку не пьяный, — говорит Стефанович, — а только «под фантазией». Из показаний свидетелей ясно, что подсудимый действовал с полным сознанием и своих обычаев, и своих прав. Он понимал также и значение того, что делал, понимал, что нанесение им извозчику побоев не есть действие законное — и вот почему, когда Склаво собирается ехать с Севериным и выходит в переднюю, в темной передней щелкает ключ, кто-то пробегает и слышится голос Дорошенко: «Теперь можете ехать!» Склаво, таким образом, насильно удержан, а Ковалевскому дано приказание поскорее выпроводить извозчика из Григоровки. Ковалевский в точности и покорно выполняет это поручение, как покорно вносил за Дорошенко в комнату привезенное им вино и как покорно обещал впоследствии скрывать истину, если возникнет дело о побоях. Только последнего поручения он во всей точности не исполнил: пришлось показывать под присягой, и совесть взяла верх над благодарностью за рекомендацию и подарок. Таким образом, Дорошенко сознавал свои действия и старался предотвратить их последствия, конечно, последствия только по отношению к себе. Я полагаю, кончая первую часть обвинения, что едва ли может возникнуть сомнение в том, что побои были действительно нанесены Северину подсудимым сознательно и с намерением, т. е. с целью причинить именно какую-либо телесную боль Северину, без всякого, впрочем, умысла на убийство, на причинение ему смерти. Однако смерть причинилась…
Приступаю ко второй части обвинения, к доказыванию, что смерть Северина последовала от побоев, нанесенных ему подсудимым. Основанием к разрешению этого вопроса служит главнейшим образом акт судебно-медицинского вскрытия, произведенного вторично, так как первый акт вскрытия, составленный врачом Щелкуновым, составлен незаконно; он подложен и должен быть вычеркнут, выброшен из числа каких бы то ни было доказательств в деле» Затем, важное значение в деле имеют объяснения господ экспертов, разъясняющих судебно-медицинские вопросы в деле. Судебная медицина — важное подспорье для разрешения многих уголовных дел — не есть еще наука вполне развившаяся. Многие части ее вовсе еще не разработаны или разработаны очень мало. Сами деятели этой науки сознаются, что главная задача их состоит пока еще в собирании примеров, и воздерживаются от общих выводов и твердых положений, признавая, что для этих выводов еще не все приготовлено и что многие настоящие положения нередко недалеко отстоят от простых предположений. Судебная медицина стоит в тесной связи с, общею медициною, т. е. со всеми остальными медицинскими познаниями, а медицина вообще допускает не мало предположений и догадок. Факты, добытые наукою, составляют ее драгоценное достояние и непреложные истины, но выводы из этих фактов в их взаимной связи, толкование этих выводов, понимание их могут быть весьма различны и нередко совершенно противоположны один другому. Это не лишает выводы эти своей цены и достоинства, это только лишает их безусловной непреложности и указывает на возможность смотреть с разных точек зрения на предмет. Недаром старая латинская поговорка, сопоставляя имена двух великих врачей древности, говорит, что «Гиппократ твердит одно, а Галлиен совсем другое». Но если медицина, обладая известным количеством твердых правил и положений, представляет в то же время обширное поле для предположений и догадок, то из этого вовсе не следует, чтобы этим предположениям нельзя было доверять, чтобы ввиду того, что приходится встречаться иногда с несколькими предположениями, можно было отказываться от разрешения представляющихся вопросов и умывать руки. Можно ли в тех случаях, когда действия обвиняемого и многое множество бытовых причин соединились так, что затруднили отыскание очевидной истины и добытие определенных, осязательных результатов и заставили прибегать к предположениям, можно ли, повторяю, отказываться от исследования истины? Необходимость довольствоваться предположениями, если только в основание их положены данные действительно существующие, не должна останавливать правосудие в отыскании истины, так как предположения, исходящие от людей, близко и хорошо знакомых с наукою, суть добросовестные выводы, к которым они приходят, идя разными путями, смотря с разных точек зрения и в конце концов иногда приходя к одинаковому результату. Какое их предположение вполне согласно с истиною — сказать трудно, да и невозможно, да и не нужно; но для определения, по мере сил человеческого разумения, какое из предположений ближе всего подходит к истине, есть могучее и верное средство. Средство это — здравый смысл. Он не останавливается на одних выводах науки, он вслушивается во всю совокупность свидетельских показаний, всматривается во всю житейскую обстановку дела, посредством нее, посредством указаний практического опыта проверяет он разное образные и многосторонние выводы науки и приходит, наконец, к заключению, к заключению, по возможности верному… Вот почему обвинение считает весьма хорошим явлением то, что эксперты в настоящем деле высказали три различных мнения. Это указывает, что они обсудили предмет со всех сторон и дали большой материал для обсуждения суду, который должен постановить приговор, мысленно проследив все слышанное и виденное здесь и оценив свидетельские показания относительно болезненных явлений у Северина, в связи с объяснениями экспертов и с указаниями практической жизни. Но, прежде чем приступить к оценке показаний экспертов, необходимо припомнить, что при вторичном вскрытии доказано, что носовая кость у Северина переломлена. Основываясь на найденном, судебные врачи, производившие вскрытие, признали, что, судя по виденному ими и слышанному о ходе болезни Северина, надо прийти к убеждению, что смерть его последовала вследствие горячечного состояния, которое было обусловлено потерею крови, бессоницею и душевным волнением. Причинную связь между повреждением носа у Северина и смертью его врачи не отрицали, но заявили, что не могут ее безусловно признавать, а только предполагают. Это свидетельство врачей и послужило исходною точкою для заключений, данных здесь на суде почтенными представителями медицинской науки, профессорами университета Питра, Грубе и Аямблем. Я внимательно следил вчера за этими заключениями, старался уловить все их оттенки и особенности и, как полагаю, могу их здесь повторить перед вами, господа присяжные заседатели, в главнейших и существеннейших чертах. Так, на предложенные вопросы господин Питра отвечал, что вообще смерть последовала с припадками горячки, но причины, вследствие которых произошла горячка, вскрытием не обнаружены. Профессор Лямбль нашел, что колотые раны и ранения от удара, ушиба, разможжения отличаются тем неблагоприятным обстоятельством, что они сопровождаются обыкновенно сотрясением. Сила, производящая это сотрясение, недостаточна для того, чтобы прекратить жизнь или отправление важных органов, но вполне достаточна для того, чтобы произвести такой беспорядок, такое нарушение нормального состава нервных центров, от которого они не легко оправляются и последствия которого, в иных случаях, могут окончиться печальным исходом. Все опытные хирурги знают, что сложные повреждения носа иногда влекут за собою важные заболевания мозговых оболочек, а именно — острое воспаление мягкой оболочки. Проводником подобного заболевания могут быть, в некоторых случаях, кровеносные сосуды; в других случаях может быть воспаление надкостной плевы; но главною причиною такого воспаления считается сотрясение. Перелома горизонтальной пластинки решетчатой кости при этом может и не быть; по опытам оказалось, что при ударе тяжелым молотком, нанесенном прямо на нос, при самом обширном и глубоком разможжении носовых косточек и почти всего лабиринта решетчатая пластинка может оказаться неповрежденной. Обращаясь к признакам болезни Северина, профессор Лямбль нашел, что при исчислении их поневоле подумаешь прежде всего об остром поражении мозговых оболочек. Конечно, горячечное состояние со всеми отдельными признаками, как они приводятся здесь, — головною болью, слабостью, жаром, отсутствием аппетита, жаждою, головокружением, шумом в ушах, мутностью зрения, бредом, — все это бывает еще и при других болезнях, как-то: при тифе, скарлатине, оспе и кори. Но тот порядок или, лучше сказать, беспорядок болезненных признаков, какой был замечен у Северина, та шаткость и незначительная резкость явлений, при которых он, еще незадолго до кончины, мог прощаться и говорить о приближающейся смерти, — это все не соответствует обыкновенной горячке, от которой взрослый человек обыкновенно и не умирает на двенадцатый день. Так, например, тиф обыкновенно не начинается с побоев или ушибов, а с предвестников, т. е. неопределенных явлений, обнаруживающихся в течение нескольких дней, с общего нерасположения, некоторой вялости, человек при этом не в духе, у него легкая наливная краснота глаз или же легкий насморк, а потом уже настает озноб и жар. Если же человек средних лет умирает в тифозной горячке на двенадцатый день, что редко бывает, тогда он последние дни наверно находится в полном беспамятстве и глубоком, так называемом коматозном состоянии, а таких признаков при жизни Северина не замечено. Острые травматические воспаления мозговых оболочек убивают человека, средним числом, на второй неделе; при остром воспалении мозговых оболочек бред у человека средних лет наступает приблизительно под конец жизни, до появления параличных явлений. Северин был до 17 сентября. здоров, повальных горячек в то время не было, он не находился в такой зловредной атмосфере, в которой окружающий воздух мог бы подействовать заразительным образом на его здоровье, а заболел он вслед за травмическим повреждением, после которого появились преимущественно головные припадки. Поэтому профессор Лямбль затрудняется допустить у него существование какого-либо другого горячечного состояния, кроме упомянутого острого воспаления мягкой мозговой оболочки. Таким образом, он пришел к заключению, что связь между наружным повреждением и горячечным заболеванием Северина не оказывается сомнительною, именно по причине невозможности подвести случай под какую-нибудь другую болезнь.
Профессор Грубе, прежде чем отвечать на заданные ему вопросы, разобрал два следующих вопроса: 1) может ли такого объема перелом носовых костей повлечь за собою смерть? и 2) могли ли изменения, найденные в трупе при вскрытии и описанные в протоколах, остаться без видимых проявлений при жизни, до ушиба? В ответ на первый вопрос эксперт привел статистические выводы из многочисленных наблюдений хирургов. Эксперт отрицает возможность смертельного исхода после столь незначительных переломов носовых костей, как в данном случае, если они не сопровождаются другими, опасными для жизни, осложнениями. В ряду последних первое место занимают обильные кровотечения. Даже более объемистые переломы, с раздроблением не только носовых, но и носовых отростков челюстных костей, в огромном большинстве случаев оканчиваются выздоровлением. Следует, впрочем, заметить, что кровотечения, постоянно сопровождающие переломы носовых костей, всегда оказывают большее или меньшее влияние, смотря по количеству потерянной крови. Второй вопрос решен экспертом отрицательно: изменения, найденные в легких при вскрытии, не могли остаться без болезненных проявлений при жизни. Из дела же и показаний свидетелей видно, что извозчик Северин был крепкого телосложения, до нанесенных ему побоев всегда пользовался отличным здоровьем и никаких проявлений грудного страдания не представлял. Непосредственным следствием побоев было значительное кровотечение. Поэтому эксперт объясняет причину смерти Северина следующим образом: у совершенно здорового человека воспоследовал ушиб с переломами носовых костей, сопровождаемый сильным душевным потрясением и быстро развившимся малокровием вследствие обильного кровотечения. Эти две причины, по мнению профессора Грубе, были совершенно достаточны, чтобы вызвать скоротечную просовидную бугорчатку легких, которая, по обыкновению, повлекла за собою смерть. Припадки болезни вполне соответствуют такому объяснению. В заключение эксперт привел известный научный факт, что не только после случайных ранений, но также после различных хирургических операций, сопровождаемых кровотечениями и нравственным потрясением больных, нередко наблюдалась эта форма легочной бугорчатки.
Обращаясь к рассмотрению мнений экспертов, я нахожу, что все три мнения, при своей строгой научности и одинаковости фактов, подлежавших разбору экспертов, одинаково служат для поддержания обвинения и подкрепления мысли о причинной связи между побоями и смертью Северина, причем одним из наиболее соответствующих обвинению является мнение профессора Питра. Оно дает возможность правильной оценки всего остального, относящегося до болезни и смерти Северина. Являясь судебным врачом в строгом смысле слова, профессор Питра ставит самые резко очерченные границы для своей экспертизы. Факты и анатомические данные — вот его материал, все остальное — одни предположения, а судебный врач должен их избегать. Доказано лишь то, что открыто судебным вскрытием, до чего проник анатомический нож, что рассмотрено в микроскоп; все, чего этим путем не добыто, — не доказано. Может ли основываться судебный врач (я не говорю просто врач, прибавляет эксперт, но судебный врач), спрашивает эксперт, на предположениях, а не на анатомических данных? Его задача ограничена. По тому, что найдено при вскрытии, он должен сказать, что именно найдено и почему найдено, без всякого предположения о причинах найденных явлений, если только они сами громко не свидетельствуют о себе. Можно только сказать, утверждает эксперт, что смерть Северина последовала от горячечного состояния, но чем вызвано это состояние — сказать решительно нельзя. Оно могло быть вызвано развитием чахотки, проявившейся вдруг, при конце жизни Северина, оно могло явиться вследствие сотрясения мозга и его воспаления, т. е. вследствие удара, оно могло явиться и от каких-нибудь других причин, но все это лишь предположения, очень, быть может, вероятные, но все-таки предположения, делать которые судебному медику несвойственно. Мы не считаем уместным, в свою очередь, разбирать, насколько широким представляется подобный взгляд на задачу судебного медика, но с глубоким уважением относимся к выполнению поставленной себе задачи господином экспертом. Какой Же вывод из его заключения? Как судебный врач эксперт не считает себя вправе делать какие-либо выводы, кроме тех, которые не вытекают прямо из анатомических данных. Но ведь, с другой стороны, не может же все разъяснение дела покоиться на мертвых, глухих и молчаливых анатомических данных? Конечно, нет. Из этих данных могут быть, по соображении их с обстоятельствами дела, сделаны различные научные и практические выводы. Выводы эти будут предположениями более или менее вероятными, но делать их, по мнению профессора Питры, задача обыкновенных медиков, а не судебного медика, кругозор которого ограничен довольно тесными рамками, которые называются анатомическими данными. Суд выслушает эти предположения, применит их к жизни и выведет свое заключение. Таким образом, эксперт Питра, разъяснив, что судебно-медицинским путем он дошел до того, что у Северина было горячечное состояние, вызвавшее его смерть, сходит со сцены, оставляя нам свободное и обширное поле предположений и ставя нас лицом к лицу с двумя экспертами-врачами, не судебными медиками, и с целым рядом свидетельских показаний, выхваченных из жизни. Другие эксперты пошли разными путями и пришли к одному результату, на котором построено обвинение, к выводу, что смерть Северину причинена подсудимым. Вы слышали, господа присяжные, показания экспертов-профессоров Лямбля и Грубе. Оба они нашли, тщательно проверив все добытое здесь на суде и блистательно развив свои выводы, что Северин умер от потрясения организма, вызванного ударом и сотрясением мозга, говорит один из них, вызванного рядом ослабляющих влияний и душевным огорчением, говорит другой. Оба эксперта пошли путями, намеченными в виде предположений профессором Питра и в его заключении, и в подписанном им акте вторичного освидетельствования трупа Северина. Этих предположений было два: смерть от чахотки и от воспаления мозговых оболочек. Профессор Грубе доказывал, что смерть могла произойти от скоротечной просовидной чахотки, вызванной потерею крови и душевным огорчением, причиненными — и то, и другое — действиями Дорошенко.
Профессор Лямбль, с своей точки зрения, доказывал, что смерть могла произойти от воспаления мозга, вызванного ударом, причиненным Северину подсудимым. Оба эксперта основывались во всем на тех анатомических данных, которые имелись в виду эксперта Питры. Были при вскрытии найдены бугорки. «Бугорки эти, в том виде как они найдены, не могли вызвать смерти, с ними можно прожить до 75 лет», — говорит господин Лямбль; «бугорки эти, в том виде как они найдены, не могли существовать до нанесения удара Северину, а явились вследствие этого удара», — говорит господин Грубе. Таким образом, расходясь во взгляде на происхождение бугорков, «мысля розно» в этом отношении, эксперты оба с совершенным единством сходятся в одном выводе, что смерть Северина вызвана деянием подсудимого. Этот вывод очень важен. Чем больше путей к отысканию истины, тем лучше; нужды нет, что отыскатели идут разными путями и действуют разными способами,— важно то, что они приходят к одному и тому же выводу.
Таков вывод господ экспертов. К какому же выводу приводят обыкновенно житейские соображения? Подкрепляют ли они выводы науки? Можно смело сказать: вполне подкрепляют. До 17 сентября прошлого года Северин был совершенно здоров. Стоит припомнить показание всех свидетелей, знавших его. Это был честный и смирный человек, хороший семьянин и усердный работник. Сколотив себе деньги для покупки фаэтона, он женился, прожил с женою в согласии пять лет и прижил двоих детей при жизни. Всегда, по показанию свидетелей, веселый, здоровый и румяный, он вовсе не пил водки и вел жизнь вообще умеренную, отлично, «богатырски» спал сном человека трудового, никогда не страдал бессонницею или ночными потами, никогда не кашлял, разве после горячего чаю .выбежит зимою на крыльцо или на двор. 17 сентября он уезжает в Григоровку здоровый, а возвращается побитый, с разбитым переносьем и окровавленным платьем и лицом. Он глубоко оскорблен полученными им побоями, отказывается от предложения закусить, так как еще в Григоровке «выпил и закусил», и чуть свет отправился к доктору и жаловаться. Он, человек, не знавший еще нового суда или, лучше сказать, узнающий его уже после смерти, решается вести дело о нанесенных ему оскорблениях тем судом, которого так боялись прежде простые люди; жена его закладывает шубу, чтобы из последнего внести 3 руб., необходимые для бумаги, на которой будет написано свидетельство врача. Видно, оскорбление не на шутку задело Северина. Он идет рассказывать о нем Бардакову и, наконец, вернувшись домой, должен слечь. Еще доктор усмотрел у него налитие глаз кровью, причем нашел нужным заметить, что зрение, однако, не повреждено, — значит глаза-таки порядочно были налиты кровью. У него боль головы и переносья, шум в ушах и слабость. У Бардакова он еле стоит, еле смотрит своими, «водою налитыми», по показанию свидетеля, глазами. Нужны бы «приличные средства», о которых говорил доктор, но эти средства не прописаны, потому что «об них не просили», да и купить их не на что. Дома с ним делается все хуже и хуже. Он не ест ничего и ничего не пьет, не может пройтись по комнате, жалуется на головную боль, не спит. Да и до сна ли?! Хозяйство стало, денег нет, едва ли «вычухается», смерть близка, а тут все, накопленное долгим трудом, придет в разорение, придется нанимать работника, платить ему 6 руб. в месяц, жена остается одна, без поддержки, — вдову-то легко всякому обидеть, да еще с детьми, да еще беременную, где тут спать! Вот что должно было приходить неминуемо и вполне естественно в голову больному и усиливать его огорчение.
Между тем, Северину становится хуже и хуже; временами сказывается у него любовь к тому скромному труду, который ему предназначила судьба, — он выходит на крыльцо взглянуть на своих кормильцев-лошадей, посмотреть овес, но уже назад взойти не может, силы его покидают. Начинается бред, в котором воображение, рисуя недавнюю обиду, не может оторваться от обыденной, извозчичьей обстановки: ему чудится, что его бьют кнутами в Григоровке, он прощается с женою, плача и говоря, что «за ним приехали!» Наконец он умирает в бессознательном состоянии. Неужели же во всем ходе этой болезни мысль наша не обращается постоянно в Григоровку, не вспоминает о нанесенных там Северину побоях? Можно ли, не греша против очевидности, допустить, что побои, после которых тотчас захворал Северин, «сами по себе», а болезнь и смерть тоже «сами по себе»?! Разве не видна, не чувствуется связь смерти с побоями? И где же указания на иные причины смерти?.. Нам скажут — чахотка. Но где ее признаки? А они должны быть ясны, если только она началась до нанесения побоев. Вы слышали, господа присяжные, экспертов. Возьмем еще одного в помощь — знаменитого эксперта по части грудных болезней, профессора Нимейера. Какие признаки чахотки указывает он в своем «Трактате о легочной чахотке»? Эти признаки: бессонница, ночные поты, кашель с кровью, одышка, золотуха на детях, рожденных или зачатых во время болезни одного из родителей. Где эти признаки у Северина? Смело можно сказать, выслушав свидетелей, что признаков этих нет… Вы слышали, что дети Северина цветут здоровьем и никогда ни золотухою, ни английской болезнью больны не бывали. Итак, Северин умер не от чахотки; он умер от многих причин, стоящих между собою в связи и сводимых к одной главной, к удару, нанесенному ему Дорошенко. Это удар вызвал, во-первых, кровотечение, и кровотечение обильное, так как повреждения носа всегда влекут за собою большие потери крови, что объяснено здесь экспертом Грубе. Что крови вышло много — это видно из того, что она полилась у Северина еще в Григоровке, как видно из показания Склаво: он уехал из Григоровки в 2 часа ночи, а приехал домой в 4, и кровь, по показанию свидетелей, еще сочилась из поврежденного места, следовательно, она шла слишком 2 часа. Во-вторых, удар вызвал повреждение костей носа и, конечно, повреждение всех окружающих мест на голове; в-третьих, удар этот был причиною крайнего ослабления Северина, так как от потери крови неминуемо должен был произойти упадок сил, располагающий к дальнейшему развитию всякой болезни; в-четвертых, он вызвал, вследствие истощения сил, припадки скоротечной чахотки и, в-пятых, вызвал сильное душевное потрясение. В последнем сомневаться нельзя: последние минуты Северина указывают на это потрясение, возможность же его нельзя отрицать у Северина как по той обстановке, в которой ему были нанесены побои, так и по тем последствиям, которыми они грозили участи этого бедного рабочего человека, будущности его жены и детей. Я не полагаю, чтобы мне решились возразить, что Северин, будучи извозчиком, не мог иметь достаточно развитого чувства чести для того, чтобы оскорбиться побоями. Для этого вовсе не нужно утонченного развития чувства чести, и притом здесь чувство нанесенного оскорбления, вероятно, играло не главную роль, а на первом плане должен был стоять страх и огорчение за последствия, которые Северин ясно предвидел, говоря, что «ему не вычухаться»… Наконец, можно с полной уверенностью сказать, что, к чести русского простого народа, в нем встречаются, и весьма даже нередко, личности, которые, несмотря на грубоватую внешность и «черную» работу, имеют настолько развитое чувство справедливости, что могут весьма оскорбляться и огорчаться грубым и незаслуженным поруганием над собою или над другими. Все указанные причины произвели в Северине горячечное состояние, кончившееся его смертью. Она последовала от побоев, нанесенных Дорошенко. Об этом говорят два эксперта-профессора, твердят все свидетели, на это указывают естественный ход вещей и голос здравого смысла. Нам, быть может, скажут, что смерть не была прямым последствием побоев, а была вызвана развитием указанных нами причин, тогда как если бы своевременно были устранены эти причины, то и смерть могла бы не последовать. Например, если бы своевременно было унято кровотечение, если бы подана была надлежащая медицинская помощь и приняты «приличные средства», если бы Северин не ездил верхом к Бардакову и на тряском «ваньке» к исправнику и т. д. Но влияние известных причин на тот или другой исход дела должно обсуждаться в связи со всею средою и обстановкою дела. Самые серьезные повреждения могут быть излечены знаменитыми врачами, но следует ли из этого, чтобы повреждения эти, если они были нанесены где-нибудь в глуши, где не только нет знаменитых, но и вовсе никаких врачей, и если они вызвали смерть, могли бы не считаться причиною смерти? Нужно только, чтобы не было какой-нибудь совершенно посторонней причины смерти, но вполне достаточно, если смерть произошла от известной причины, от того или другого вызванного ею страдания, которое особенно сильно развилось вследствие неблагоприятной обстановки. Северин сделал возможное: лечился домашними средствами, не имея денег для приглашения врача, ставил себе горчичники, перестал выезжать на работу и т. д., одним словом — сделал все, что мог сделать для своего выздоровления человек в его звании и с его обстановкою, его ли вина, что Григоровка далеко и что, покуда пришлось приехать домой, утрачено было много крови? Его ли вина, что у него не было средств пригласить врача и что ездить он должен был к врачу и к Бардакову не в карете на лежачих рессорах, а верхом и на тряском «ваньке»? Он действовал согласно с условиями своего быта и с обстоятельствами. Да, наконец, я полагаю, что большая часть этих побочных причин не могла иметь никакого влияния на смертельный исход болезни Северина, так как, по положительному и категорическому заявлению экспертов, причиной — главною и единственною — смерти Северина были нанесенные ему побои. Другой вопрос, который может быть возбужден, — о том, не могут ли такие причины, вызываемые неудобствами обстановки, вызывать отрицательный ответ о существовании причинной связи между побоями и смертью? —разрешается не только указаниями закона, который нигде не говорит о том, что побои должны быть непосредственною, прямою причиною смерти, а требует только, чтобы последствием побоев была смерть, чтобы между побоями и смертью существовал ряд разнообразных причин, которые все, в «начале начал», исходят из побоев и в «конце концов» приводят к смерти, но и установившеюся у нас судебною практикою. Вашим предшественникам на скамье заседателей, господа присяжные, пришлось разрешить в этом самом суде ряд дел, где также возбуждался вопрос о том, последовала ли смерть вследствие насильственных действий подсудимого, и указывалось на побочные обстоятельства, которые могли ускорить смерть, и во всех этих делах предместники ваши, выслушав заключения экспертов-врачей, признавали, что смерть была последствием действий обвиняемого. Вы слышали из объяснений профессора Лямбля, что таковы, например, были дела Сидоренко-Кравца, обвинявшегося в нанесении чубуком удара в глаз рядовому Губанову, дело Ивана Калиты, нанесшего смертельные удары в голову Павлу Калите, дело Тарана, убившего мещанку Павеличенкову, и др. Губанова везли ночью» в мороз, по тряской дороге, с начинавшимся воспалением мозга, за несколько верст, и это, без сомнения, должно было усилить развитие воспаления, но эксперты признали, что смерть была причинена рукою человека, воткнувшего Губанову в глаз чубук. Калита, после нанесенных ему побоев, ездил лечиться к знахарке в дальнюю волость, пил воду и даже покушался пировать на крестинах, но, болея постоянно, через 10 дней умер, и смерть была признана происшедшею от побоев, нанесенных ему. Заключая вторую часть моего обвинения, мне остается заявить, что, по моему убеждению, если доказано, что Северину нанесены подсудимым побои, то не менее того доказано, что ими вызвана смерть.
Обращаюсь, наконец, к заключению моего обвинения, к определению, в каком деянии, предусмотренном уголовным законом, обвиняется подсудимый Дорошенко. Подсудимый обвиняется в нанесении Северину с намерением побоев, от которых последовала смерть последнего. Это преступное деяние указано в 1464 статье Уложения о наказаниях и возбуждало нередко различные прения и вызывало разнообразные толкования. Ввиду возможности таких прений и в настоящем деле, я считаю нужным заранее заявить, что статья эта положительно разъяснена высшим законодательным учреждением в России — Государственным советом, и в смысле этого разъяснения толкуется и кассационным Сенатом. Государственный совет, рассмотрев дело помещицы княгини Трубецкой, нанесшей побои палкою больному, страдавшему удушьем старику, который через три дня затем умер, хотя после наказания встал и ушел и хотя смерть последовала, согласно мнению врача, от неразрешившегося воспаления в легком, к которому он имел уже расположение вследствие давно бывшего падения с крыши и прироста легкого к ребрам, признал, что к деянию Трубецкой должна быть применена 1464 статья, которая, по мнению Государственного совета, говорит о таких побоях, которые, по всей вероятности, не могли подвергнуть жизнь опасности и только по стечению особенных обстоятельств причинили смерть, что иногда может произойти и от одного удара, нанесенного в нежную или больную часть тела.
Очевидно, что и пример, на котором основано это решение, и самое решение как нельзя более подходят под деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый. Он нанес Северину побои в опасную часть головы — в переносье, где мозг отделяется от полости носа довольно тонкими костями, он нанес эти побои без всякого желания причинить смерть Северину, но с определенным и ясным намерением побить его; побои не были особенно тяжелыми и, по всей вероятности, не могли подвергнуть жизнь Северина немедленной опасности, но вызвали, однако, различные болезненные явления. Эти болезненные явления, эти особенные обстоятельства стеклись так, что вызвали смерть Северина. В деянии подсудимого закон не видит убийства, он относится к нему гораздо снисходительней, но не может, однако, не считать серьезным преступлением деяния, которым, в нарушение закона и права, отнимаются у общества граждане, а у семьи работники и кормильцы.
Обвинение мое кончено. Я представил вам, господа присяжные, все, что мог и что считал необходимым для разъяснения обстоятельств, на которых основывается обвинение в настоящем деле. Пробегая мысленно все мною сказанное, соображая вновь все сложные обстоятельства дела, его ход здесь на суде и всю его обстановку, я выношу полнейшее убеждение в виновности подсудимого Дорошенко. Разделяете ли вы мое убеждение — покажет ваш приговор. Но каков бы ни был этот приговор, осудит ли он подсудимого или торжественно признает его невинным, у обвинительной власти останется все-таки сознание, что она, насколько было в ее силах, выполнила свою задачу, возбудив настоящее безгласное и погребенное в полицейском архиве дело, доведя его до возможной ясности и представив на ваше обсуждение. Подсудимый обвиняется в том, что, действуя незаконно, нанес обществу ущерб, лишив жизни одного из его членов. Вам, представителям всех слоев этого общества, всего лучше и справедливей произнести решительное и окончательное слово о виновности подсудимого пред законом, стоящим на страже общественной и личной безопасности…
ПО ДЕЛУ ОБ ИГОРНОМ ДОМЕ ШТАБС-РОТМИСТРА КОЛЕМИНА*
Господа судьи! Подсудимый, отставной штабс-ротмистр Колемин, предан вашему суду по обвинению в том, что в доме его была организована игра в рулетку. Для того, чтобы признать это обвинение правильно направленным против Колемина, предстоит разрешить два существенных вопроса. Первый из них: есть ли игра в рулетку игра запрещенная? Второй: есть ли в деянии Колемина признаки содержания им игорного дома? Оба эти вопроса тесно между собою связаны. Рассматривая первый вопрос — есть ли рулетка игра запрещенная, — следует обратиться к прямому указанию закона. Рулетка — игра, основанная на случае; в ней расчет, известные математические соображения, ловкость и обдуманность в игре не могут приводить ни к какому положительному результату. Если и есть некоторые, как говорят, более или менее верные приметы в игре в рулетку, если можно замечать чаще других повторяющиеся нумера и т. п., то это все-таки не изменяет характера игры и она остается основанной на случае, а не на расчете. Закон наш, в 444 статье XIV тома Устава о пресечении и предупреждении преступлений, говорит, что запрещается играть в азартные игры и открывать свой дом для них; статья эта основана главным образом на Уставе благочиния, изданном при императрице Екатерине в 1782 году. Устав благочиния прямо определяет, что игрой запрещенной или азартной считается всякая игра, основанная на случае. Ввиду этого положительного определения, рулетка, по самым свойствам и приемам игры, не может не считаться игрой запрещенной. Власть, следя за появлением различных новых азартных игр, постепенно их изъемлет из употребления, запрещает их, но она не может уловить все разнообразные виды игры, все новые способы и приемы ее; Жизнь слишком разнообразна и представляет многоразличные способы и развлечений, и незаконного приобретения средств к существованию. Законодательство не может никогда идти в уровень с этой изобретательностью; оно обыкновенно несколько отстает, но в нем всегда содержатся общие указания на главные свойства игр, которые оно считает запрещенными и против которых оно считает нужным бороться. Так и в нашем законодательстве такие указания содержатся в ст. 444 т. XIV и в силу их последовали распоряжения администрации. Мы имеем циркуляры министра внутренних дел от 11 марта 1863 г. за № 31 и от 18 февраля 1866 г. за № 33, которыми запрещены домино-лото, игра в орлянку и игра в фортунку. Если вглядеться в существо этих игр, то окажется, что все они основаны на случае, на счастии, на азарте, и, в сущности, игра в фортунку есть не что иное, как вид простонародной рулетки. Ясно, что преследование уже было направлено на игры, очень сходные с рулеткой, но чаще, чем она, проявлявшиеся в жизни. Наконец, и практика иностранных законодательств признает рулетку запрещенною игрою. Мы знаем, что маленькие, по большей части ничтожные, государства, где государственные доходы рассматриваются как личная собственность и как хозяйственный прибыток владетельного лица, считали возможным допускать у себя игорные дома с рулеткою, в которую, однако, не дозволяли играть собственным подданным; игра в рулетку в настоящее время удержалась, как кажется, только в Saxon les bains [8] и в маленьком княжестве Монако. Как только сильная государственная власть вступала в обладание теми землями, где процветала рулетка, она уничтожала ее. Пруссия, вступив во владение Нассауским герцогством, сосчитала дни рулетки в Висбадене и Гомбурге, а вскоре и совсем уничтожила ее. Когда в истощенной войною Франции раздались голоса об учреждении открытой игры в рулетку, чтоб увеличить наплыв путешественников и усилить прилив золота в, стране, лучшие представители общества и литературы с негодованием восстали против этого, и правительство отвергло предложение о таком недостойном средстве обогащения. Ввиду всего этого нельзя не признать рулетку игрой азартной, а следовательно, запрещенной. Надо притом заметить, что для определения того, что она имеет признаки азартной игры, суд не нуждается в прямом указании на это карательного закона. Я уже сказал, что законодатель не может уследить за всеми проявлениями быстро текущей общественной жизни. Это, в иных случаях, задача суда. Кассационный Сенат по делу Аксенова в решении 1870 года № 1791 признал, что от суда зависит разрешение вопроса, была ли та или другая игра запрещенной или нет. Если суд признает, что игра основана на случае, то он признает, что она азартная и этим самым включает ее в разряд запрещенных игр. Такое определение суда должно быть основано на существе дела и не может подлежать проверке в кассационном порядке. Сенат признал, что один из мировых съездов имел право, вникая в существо дела, признавать игру в «ремешок» азартною, и не счел возможным отменить это решение съезда, несмотря на отсутствие указаний закона на такую игру. Очевидно, что в этом отношении суду предоставлена большая власть и, быть может, и в настоящем случае суд не откажется закрепить своим веским словом запрещенный характер за рулеткой.
Перехожу к разрешению другого вопроса: устроил ли господин Колемин дом для запрещенной игры в рулетку? Условия игорного дома довольно ясно определены в приложении к 444 статье XIV тома. В источниках, на которых она основана, указано прямо, что «запрещается играть в запрещенные игры», «открывать свой дом игрокам для запрещенной игры днем или ночью», «запрещается иметь счетчика, продавать своим гостям или иным образом давать и передавать золото, серебро и иные денежные ценности», наконец, запрещается иметь постоянную прибыль от этой игры. Это последнее условие ясно выражено в указе императрицы Екатерины, вошедшем в Полное собрание законов за № 13 677. В нем прямо говорится, что в случае «раскрытия» игорного дома, «буде происходит прибыток запрещенный, то, о том исследовав, учинить по законам». Итак, вот главные условия игорного дома: он должен быть открыт днем и ночью, в определенные часы, для желающих играть в запрещенную игру; в нем должна происходить запрещенная игра; в нем могут быть лица, которые занимаются счетом в помощь хозяину; в нем может происходить для удобства размен золота, и, наконец, все это должно вести к общей, к главной цели учреждения подобного дама —к-неправильной прибыли, к запрещенному прибытку. Я прибавлю, что, насколько можно представить себе общую картину игорного дома, жизнью еще выработано одно условие в дополнение к этим условиям закона — именно доступность игорного дома, доступность хозяина его лицам, которые пожелают принять участие в игре. Закон, впрочем, указывает и на отрицательные данные для непризнания игорного дома. Эту отрицательную сторону закон обрисовывает в ст. 448 XIV тома, где говорится, что «если игра служила для забавы или отдохновения, с друзьями и в семье и не была запрещенною, то вины нет». Поэтому, если будет открыто учреждение или дом, где происходят такие запрещенные игры и происходят не в тесном кругу лиц, связанных узами дружбы, и не в кругу родных и близких, и если, кроме того, главная цель этой игры не отдохновение, а неправильный прибыток, то мы имеем дело с игорным домом. Применяя эти общие начала к настоящему делу, я полагаю, что мы найдем, что все условия, указанные законодателем, существуют в деянии Колемина. Игра была запрещенная, игра происходила днем и ночью. Мы знаем из показаний свидетелей, что были определенные, ясно установленные наперед дни, в которые можно было являться играть в определенные часы. Хотя Колемин заявил здесь, что он приглашал лиц, игравших у него, особо каждый раз, хотя господин Тебеньков показал, что он получал особые приглашения каждый раз, но надо думать, что эти лица или запамятовали, или ошибаются, так как большая часть свидетелей прямо указывают, что дни и часы были всем известны заранее. Один из последних свидетелей весьма характеристично заявил даже, что «общая молва» указывала безошибочно на эти именно игорные дни. Наконец, нельзя упускать из виду, что даже если бы подобные дни не существовали, а существование их подтверждается записными книгами, то несомненно, что они должны бы быть установлены для того, чтобы каждый, желающий играть, мог ехать не на «огонек», как объяснил подсудимый, а на нечто более определенное. Это были не одни дни, это были и ночи. Следовательно, два первых условия, требуемые законом, существуют. Затем того, что были счетчики, отрицать невозможно, ввиду показания господина Тебенькова и данных, которые мы имеем относительно участия в счете господина Бендерского. Из этих данных, среди которых важно показание прислуги, видно, что деятельность счетчиков была довольно определенная и исполнялась преимущественно одним лицом, привычным к этой деятельности. Она сопровождалась известным гонораром, который, несмотря на участие в проигрыше, имел своим результатом, однако, то, что в 8 месяцев, из которых 2 было летних, так сказать «малоигорных», составлял сумму в 2 тыс. руб. — жалованье, весьма хорошее за обязанность считать. Счетчик приходил несколько ранее и уходил несколько позже остальных гостей. Господин Тебеньков объяснил, что он оставался для сведения итогов после каждого рулеточного дня и ночи. Следовательно, он исполнял все вспомогательные обязанности по рулетке и был тем счетчиком, которого разумел закон, запрещая иметь такового. Наконец, последнее условие, указанное законом — выдача золота, — точно также выяснилось свидетельскими показаниями. Закон, конечно, не имел в виду соединить с понятием об игорном доме понятие о меняльной лавке. Он имел в виду другое. Для того, чтобы удобнее играть в запрещенную игру, нужно предоставить посетителям игорного дома некоторые удобства и некоторые приспособления, которые дали бы им возможность приступить к игре без особенного стеснения, без особенного приготовления. Эта легкость приступа к азартной игре, создание этой легкости есть одна из особенностей игорного дома. Нельзя стеснять гостей необходимостью приносить на значительные суммы мелкие деньги в кармане, менять их, заходить для этого в лавки и т. п. Предупредительный хозяин может сам принять эту обязанность на себя и, с возможно меньшею потерею, предлагать свое золото гостям, избавляя их от предварительных забот об этом. Вот что предвидел закон, запрещая такую отдачу или передачу золота. Я никак не думаю утверждать, чтоб господин Коле-мин пользовался какими-нибудь выгодами от этой продажи золота; притом, при выгоде, которую ему приносила рулетка, потеря нескольких копеек на курсе не составляла существенной потери. Таким образом, в деянии его существуют те условия, которые указаны в законе: дом его открыт днем и ночью; в доме его существует счетчик, существует размен золота. Все эти условия, очевидно, направлены к тому, чтоб, по возможности, облегчить игру в рулетку тем, кто пожелает в нее играть. Для чего же делается это облегчение? Для того, чтоб рулетку охотно посещали, чтоб к ней могло приступить наибольшее количество лиц. Это наибольшее количество лиц должно доставить пятое указанное законом условие: неправильный прибыток. На него указывают счетные книги Колемина, его собственные указания и, наконец, признание большинства свидетелей, что они остались, в конце концов, в проигрыше. Этот «неправильный прибыток» состоял в том, что содержатель банка, несмотря на расходы, которые он нес на угощение ужинами, как показали некоторые свидетели, «даром», все-таки остался в большом выигрыше. Хотя здесь заявлялось господином Колеминым, что одной книги недостает, что вообще вычисления следователя произведены неправильно, но такое заявление запоздало, так как следствие предъявлялось ему; перед окончанием его подсудимый был спрошен, что он может еще прибавить или сказать в свое оправдание, и он мог своевременно обратить внимание следователя на ошибки в вычислениях, и тогда они были бы еще раз проверены при его помощи и по его указаниям. Я не отрицаю, впрочем, что у него могли быть большие траты и должники, и притом весьма неисправные. Человек, державший рулетку, несший тяжелые обязанности банкомета, конечно, мог отдыхать от этой деятельности, ведя жизнь широкую и шумную и не жалея денег, выигранных в рулетку. Я утверждаю лишь, что из книг несомненно можно вывести, что им выиграно с 1 августа 1873 г. по 11 марта 1874 г. 49554 руб. 25 коп. Этот выигрыш выводится из ежедневных заметок, сколько было в начале каждой игры в банке и сколько в конце ее. Этих цифр нельзя отвергнуть, и если даже исключить 14 тыс. руб., о которых говорит господин Колемин, как о неуплаченном ему долге, то все-таки останется достаточно значительная цифра прибытка. Закон называет этот прибыток неправильным, и едва ли суд может посмотреть на него иначе. Как ни разнообразны средства приобретения в современном обществе, но все-таки у большинства взгляд на свойство и происхождение прибыли и дохода более или менее одинаков. Только то, что приобретается личным трудом или трудом близких лиц, есть приобретение почтенное, облагороженное в самом своем начале работою и усилиями; что же приобретается без труда, без усилий, шутя, что приобретается посредством эксплуатации дурных страстей и увлечений других людей, есть прибыток неправильный.
Я говорил уже, что для того, чтоб признать существование игорного дома, необходимо, чтобы существовало еще одно житейское условие: легкость и удобство доступа. Я думаю, что и это условие в данном случае существует. Я не стану повторять показаний всех свидетелей, но думаю, что суд не может не согласиться, что из показаний свидетелей видно, что они не состояли с господином Колеминым в тех дружественных или семейных отношениях, о которых говорит ст. 448 XIV тома. Напротив, вглядываясь в эти отношения, видим, что знакомство с господином Колеминым завязывалось не лично для него, что не его личные достоинства привлекали большинство к нему в дом, что многие, будучи ему представлены впервые, уходили, не сказав с ним ни слова и прямо принявшись за знакомство с тем предметом, который привлекал их более, чем хозяин, — с рулеткою. Я думаю, что не очень ошибусь, сказав, что рулетка знакомила большинство посетителей с господином Колеминым, а не их собственное желание. Знакомство завязывалось вне всяких правил общежития. Хотя человек холостой может держать себя просто и не требовать соблюдения относительно себя всех форм и обрядов общественной жизни, но я не думаю, чтоб по отношению к человеку светскому, у которого бывали люди хорошего круга, можно было отрицать все обрядности общежития, чтобы можно было приезжать к нему в 11 и 12 часов ночи в первый раз, не делать ему визита, не рассчитывать на его визит и не находить необходимым знакомить его со своим домом. Знакомство это имеет характер особенный, оно является чем-то случайным, проникнуто отчуждением, носит характер знакомства более с учреждением, чем с лицом. Нам скажут, может быть, что круг знакомых господина Колемина был ограничен, что у него было всего человек 35 знакомых. Но, по-видимому, господин Колемин впадает в ошибку, определяя таким образом количество своих знакомых. Во всяком случае, большой оборот рулетки, на который он сам указывает в своей книге, едва ли мог происходить при ограниченном количестве знакомых. Один из свидетелей заявил здесь, что состав гостей при рулетке постоянно менялся, что это были люди, незнакомые друг другу, которых связывала только рулетка. Притом, количество знакомых господина Колемина и не должно быть особенно велико, чтоб соответствовать понятию об одном из условий игорного дома. Понятно, что доступ к господину Колемину не мог быть открыт всякому, что всякий не мог войти к нему с улицы, как в трактир или ресторан. Этого требовало удобство играющих. Играть в рулетку пойдут только люди со средствами, люди светские, с лоском развития и образованности; они должны быть обеспечены от разных неприятных встреч, от неблаговидных знакомств и приключений. Для того, чтобы обеспечить их спокойствие, необходимо было, чтоб вводимые лица были, по крайней мере, кем-нибудь рекомендованы, кто их хоть немного, хоть с внешней стороны, знает. Такая рекомендация требовалась и у господина Колемина. Она была необходима, потому что если б доступ был открыт всем, то в число гостей попали бы на первых же порах вовсе нежелательные чины полиции, интересующиеся рулеткою совсем с другой точки зрения. Наконец, надо оградить гостей от прихода человека неразвитого, нетрезвого, который мог бы ругаться, негодовать на проигрыш в грубой форме и, пожалуй, стал бы обращаться с играющими в рулетку, как обращаются с играющими в орлянку. Вот для чего были установлены некоторые гарантии, которых, однако, оказалось недостаточно, чтобы предотвратить вход таких лиц, последствием которого явилось настоящее дело.
Подсудимый не признал себя виновным; но я думаю, что, отрицая свою виновность, он не отрицает фактов, наглядных и очевидных, не отрицает 8 рулеток, которые лежат перед судом, не отрицает темных занавесей своих окон, существование счетчиков и того, что у него было найдено 13 человек, игравших в игру запрещенную, не отрицает, конечно, и того, наконец, что из них он не всех знал по фамилиям и только трех — по имени и отчеству. Вероятно, отрицая свою виновность, он смотрит на дело так же, как смотрели довольно многие после того, как оно возбудилось. Начатие этого дела, привлечение господина Колемина к ответственности возбудило самые разнообразные толки в обществе. Оно для многих явилось неожиданным и неприятным происшествием, не находящим себе оправдания ни в законе, ни в нравственной необходимости, и вызвало горячие толки и нарекания. В начатии дела многие видели не только нарушение существеннейших прав русских граждан, но даже нарушение чуть ли не святости семейного очага… Окончательное слово суда, конечно, покажет, согласно ли со своими обязанностями и требованиями закона воспользовалась обвинительная власть по этому делу своими правами и напрасно ли нарушила она спокойствие господина Колемина и его гостей. Но если господин Коле-мин основывает свои соображения на взглядах лиц, упомянутых нами, то его оправдания едва ли заслуживают уважения. Нельзя говорить, что рулетка не есть запрещенная игра и что всякий может играть в нее сколько хочет, по правилу «вольному воля». Этого нельзя говорить, потому что рулетка есть игра азартная, рассчитанная на возбуждение в человеке далеко не лучших его страстей, на раздражение корыстных побуждений, страсти к выигрышу, желания без труда приобрести как можно больше, одним словом — игра, построенная на таких сторонах человеческой природы, которые, во всяком случае, не составляют особого ее достоинства. Быть может, скажут, что у господина Колемина собирались люди с характером, с твердою волею, которые знали меру, не переступали границ» не увлекались. Но кто поручится, что в числе лиц, которые могли приводить отовсюду знакомых к господину Коле-мину, не было людей среднего сословия, трудовых, живущих «в поте лица», особенно если бы рулетке дано было пустить свои корни в разных слоях общества? Кто поручится, что к господину Колемину не являлись бы играть люди, живущие изо дня в день с очень ограниченными средствами, люди семейные, которые искали бы случая забыться пред игорным столом от забот о семействе и о мелочных хозяйственных расчетах, и что, входя в этот гостеприимный, хлебосольный дом для развлечения, они не выходили бы из него, чтоб внести в свои семьи отчаяние нищеты и разорения? Нельзя требовать от всех одинаковой силы характера и воздержания. Когда разыгрывается корыстолюбие, когда выигрыш мелькает перед глазами, когда перед человеком обязательно и заманчиво рассыпается золото, нельзя требовать, чтоб всякий думал о необходимости давать детям воспитание, хранить для семьи средства к жизни. Это не суть соображения теоретические. Я основываюсь на соображениях, которые имело в виду правительство, запретив в клубах домино-лото, наделавшее в свое время не мало несчастий. Нельзя говорить, как, к сожалению, говорят многие, что достаточно, чтобы зло не проявлялось наружу, чтобы оно не бросалось в глаза, не причиняло публичного соблазна, и что общество не страждет, если зло происходит в четырех стенах. Во-первых, это взгляд не правовой. В четырех стенах дома могут совершаться самые мрачные преступления, и даже семья, ввиду совершаемых в ней иногда жестокостей, не совершенно изъята из ведения судебной власти. Законодатель и судья не могут смотреть лицемерными глазами на то, что происходит вокруг. Они не могут закрывать глаза на зло потому только, что оно не попадается на глаза, не выставляется наружу, а существует где-то тайно, притаясь и помалкивая. Раз зло существует, будет ли оно на площади, в подвале или в раззолоченной гостиной, оно все-таки останется злом, и его следует преследовать. Господин Колемин, отрицая свою виновность, указывает, что общество, в котором он вращался, которое играло у него, есть общество людей достаточных, для которых проигрыш не составляет сильной потери, а выигрыш — не имеет значения приобретения. Но он обвиняется не в том, что они проигрывали, а не выигрывали, а в том, что их небольшой, быть может в отдельности, проигрыш составлял для него весьма существенный выигрыш. Во-вторых, — и это главное — закон не знает сословных преступлений, не знает различий по кругу лиц, в среде коих совершается его нарушение. Он ко всем равно строг и равно милостив. В последнее время всякий, кто следил за общественною жизнью в Петербурге, конечно, слышал или знает, что азартные игры развиваются очень сильно в низшем слое населения, что во многих местах Петербурга существуют притоны, где играют в разные азартные игры люди, живущие ежедневным трудом,— приказчики, мелкие торговцы, прислуга, извозчики, рабочие. Им не досталось в удел развитие, у них нет или почти нет, кроме вина, других, более разумных развлечений. Развлечение после скучного, трудового дня представляют такие притоны. Здесь проигрывается, после хорошего дарового угощения, заработок многих дней, и отсюда, благодаря разным ловким мошенничествам, неразвитой бедняк выпускается ограбленный и нередко со скамьею подсудимых в перспективе. Такие притоны, бесспорно, составляют большое зло, и допустить существование игорных домов между простым народом решительно невозможно по их растлевающему значению. Но если преследовать их устройство у людей низшего сословия, то на каком основании оставлять их процветать между людьми высшего сословия? Разве основные условия игорного дома не везде одинаковы? Почему разгонять тех, кто на последние трудовые деньги, после усталости от работы, не имея других развлечений, прибегает к азартной игре, и оставлять в покое тех, которые, ради «незаконного прибытка», устраивают игорные дома и строят свое благосостояние.-на пользовании увлечениями своих гостей? Ввиду этого я полагаю, что суд не разделит взгляда на неправильность возбуждения этого дела и согласится со мною, что в деянии господина Колемина были все признаки содержания игорного дома.
Что касается наказания, то его следовало бы назначить в высшей мере. Статья 990 Уложения о наказаниях назначает наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. руб. Штраф этот должен, конечно, соразмеряться со степенью развития и образованности обвиняемого. Степень развития и образования господина Колемина, кончившего курс в одном из высших военных учебных заведений, может быть признана достаточно высокою, чтоб применить к нему наказание в высшей мере, т. е. в размере 3 тыс. руб. Затем, из книг его видно, что он выиграл 49 554 руб. 25 коп. Деньги эти приобретены посредством игры в рулетку, которая производилась в игорном доме; содержание игорного дома есть деяние преступное, следовательно, деньги эти суть плод преступного деяния; вещи же, приобретенные преступлением — плоды преступления, — возвращаются тем, от кого они взяты; в случае, если не окажется хозяев, они поступают на улучшение мест заключения. Поэтому я полагал бы из арестованных у господина Колемина денег удержать, для соответствующей выдачи и дальнейшего распоряжения по 512 статье т. XIV Свода законов, ту сумму, которая, по мнению суда, составит его незаконный прибыток.
ПО ДЕЛУ ЗЕМСКОГО НАЧАЛЬНИКА ХАРЬКОВСКОГО УЕЗДА КАНДИДАТА ПРАВ ВАСИЛИЯ ПРОТОПОПОВА, ОБВИНЯЕМОГО В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПО ДОЛЖНОСТИ *
Господа сенаторы! Кандидат прав и бывший земский начальник Харьковского уезда Протопопов жалуется на несправедливость приговора судебной палаты и с фактической, и с юридической точки зрения. Неправильно истолковав понятия о превышении власти и о нарушении правил при лишении свободы в применении, к недоказанным обстоятельствам, палата, по его заявлению, постановила крайне суровый приговор, разрушающий его служебную карьеру и не принимающий во внимание его молодость и неопытность. Поэтому прежде всего приходится обратиться к фактической стороне дела и взвесить степень доказанности вмененных подсудимому в вину обстоятельств. Протопопов, определенный на должность земского начальника 1 сентября 1890 г. и вступивший в нее
8 сентября, 23 ноября был уже от нее уволен. Нам известна вся его деятельность за этот кратковременный период, но с достоверностью можно сказать, что в небольшой начальный промежуток ее, с 8 по 27 сентября, в течение всего 19 дней, подсудимый, в кругу подведомственных ему местностей, ознаменовал себя служебными действиями, энергический характер которых имел результатом предание его, по постановлению совета министра внутренних дел, суду, и тесно связан, как усматривается из того же постановления и из показания двух компетентных свидетелей — управляющего экономиею князя Голицына Бауера и начальника харьковского жандармского управления Вельбицкого, с беспорядками в слободе Должике, результатом коих были вызов войск для восстановления порядка, суд над 18 крестьянами этой слободы и присуждение 10 из них в арестантские отделения с лишением прав и 4 к содержанию в тюрьме. По личному мнению подсудимого, все его действия носили отпечаток энергии человека, вступившего в новую деятельность одушевленным лучшими и самыми горячими желаниями искоренить беспорядки, накопившиеся в последние десятилетия. Иначе смотрит на эти действия Харьковская палата, усматривающая в них насилие и злоупотребление властью. Среднего пути между этими двумя взглядами нет, и, по изучении существа дела, я присоединяюсь не ко взгляду Протопопова, а ко взгляду палаты.
Власть имеет сама в себе много привлекательного. Она дает облеченному ею сознание своей силы, она выделяет его из среды безвластных людей, она создает ему положение, с которым надо считаться. Для самолюбия заманчива возможность приказывать, решать, приводить в исполнение свою волю и, хотя бы в очень узкой сфере, карать и миловать; для суетного самомнения отраден вид сдержанной тревоги, плохо скрытого опасения, искательных и недоумевающих взоров… Поэтому люди, относящиеся серьезно к идее о власти, получая эту власть в свои руки, обращаются с нею осторожно, а вызванные на проявление ее в благородном смущении призывают себе на память не только свои права, но также свои обязанности и нравственные задачи. Но бывают и другие люди. Обольщенные прежде всего созерцанием себя во всеоружии отмежеванной им власти, они только о ней думают и заботятся — и возбуждаются от сознания своей относительной силы. Для них власть обращается в сладкий напиток, который быстро причиняет вредное для службы опьянение. Вино власти бросилось в голову и Протопопову. Мы не знаем, что он думал о своей новой должности, когда возможность получения ее впервые выросла перед ним, не знаем и того, как готовился он к ней со времени назначения до дня вступления, но вступил он, очевидно, с твердым представлением, что ему надо проявить власть простейшим и, по его мнению, не возбуждающим никакого сомнения средством. «Я всегда бил и буду бить мужиков», — заявил он, по словам свидетеля Евсея Руденко. «При постоянном обращении с народом исполнение обязанности не может не сопровождаться иногда резким словом, без чего и служба была бы невозможна», — заявляет он сам. Но прежде разбора отдельных случаев его деятельности по водворению порядка или, вернее, по производству беспорядка во вверенном ему участке, нужно заметить, что свидетели по делу распадаются, как и всегда, на две категории — свидетелей обвинения и свидетелей оправдания. Но разнятся они между собою не только по значению фактов, о которых показывают, но и по личным свойствам своим. Свидетели обвинения — обыкновенные люди, память которых тем яснее, чем ближе к событию, причем показания их в существе одинаковы и при следствии, и на суде, хотя между тем и другим прошло довольно много времени. Если некоторые из них, а именно городовые заштатного города Золочева — Борох и Семен Гладченко — и забывают на суде некоторые подробности, то стоит пред ними прочесть первоначальные их показания, как они их тотчас и вполне подтверждают. Это свидетели «здравого ума и твердой памяти», на которых всегда спокойно может опираться правосудие. Иными свойствами обладает большинство свидетелей, подтверждающих оправдания Протопопова. Память или совершенно изменяет им на суде, так что они «ничего не помнят», или же, напротив, чрезвычайно просветляется, обратно пропорционально количеству времени, прошедшему от события и от следствия.
9 сентября Протопопов, на другой день вступления в должность, является в Золочев и делает выговор двум городовым, не узнавшим в нем земского начальника, а затем приказывает старшему городовому Ивану Гладченко сказать им, что если они не будут вежливее, то он «будет бить им морды». Так определяется им с первых же шагов внутреннее содержание и внешнее проявление своей власти по отношению к подчиненным. Иван Гладченко, подтвердивший такое приказание у судебного следователя, ныне отрицает его, но получившие его от него Борох и Семен Гладченко при всей своей сдержанности не забыли, что имение так передал им приказание Протопопова старший городовой, «Я говорю одним языком, городовой другим,— объясняет подсудимый, — но оба мы имели в виду сказать одно и то же». Но старший городовой — не случайный и болтливый собеседник земского начальника, а подчиненный, получивший приказание сделать внушение нижним чинам и передающий слова начальства, конечно, без произвольных вариантов. Поэтому, доверяя его первому показанию, я вполне соглашаюсь и с подсудимым. Да, они оба «имели в виду сказать одно и то же» — и сказали это. За внушением городовым надлежащего страха следует приведение в порядок, в том же Золочеве, Ворвуля, который, «обернувшись» на призыв подсудимого «Эй! Рыжий— поди сюда!» и прервав разговор с собеседником, получил удар палкою по плечу, сопровождаемый ругательством, за то, что, стоя задом к проходившему по площади Протопопову, не поклонился ему. Это подтвердил на суде свидетель Лебединцев. Надзиратель Аксененко при следствии заявлял, что, стоя в отдалении, видел лишь, как подсудимый грозил палкою Ворвулю. Свидетель Лебединцев, тоже стоявший в отдалении, видел, что подсудимый ударил Ворвуля, как ему показалось, три раза. Приходится, однако, поверить потерпевшему, что он получил лишь один удар, причем заблуждение Лебединцева о числе ударов объясняется тем, что, по собственным словам Протопопова, он Ворвуля «не ударил, а только жестикулировал его», что подтверждает и Аксененко, говорящий, что «угрозы Протопопова скорее имели вид жестикуляции». Эта «жестикуляция» не без основания могла быть принята Лебединцевым за удары, один из которых действительно и был получен Ворвулем. Интересное единства в выражениях между подсудимым и Аксененко по поводу «жестикуляции» нарушается, однако, когда дело идет о том, чем именно жестикулировал Протопопов. «Если бы во время выговора Ворвулю я даже и коснулся его тоненькою тросточкою, — объясняет последний, — то нельзя же это считать ударом палкою». К сожалению, тоненькая тросточка — не магический жезл, прикосновение которого не может быть вменяемо в вину, да и Аксененко— эта опора оправданий подсудимого — говорит об угрозах палкою…
С 24 сентября неправильный взгляд Протопопова на свою задачу принимает особенно широкие размеры и проявляется с крайнею резкостью. Явившись на сход в Золочев, где для выбора волостных судей собрано было до тысячи человек, он приступает к объяснению этой толпе «значения реформы». Приказав, согласно показанию свидетелей Завадского и Семена Гладченко, полицейскому «дать по морде» мальчику, выглядывавшему в шапке из-за забора, и сбить шапку, Протопопов указал, по его словам, что крестьяне должны жить по-братски, избегая сутяжничества и столкновений, оканчивающихся судом, и, по единогласному удостоверению ряда допрошенных палатою свидетелей, заявил требование, чтобы крестьяне не подавали ему жалоб и прошений, угрожая, что если они этому не подчинятся, то «всякая жалоба будет на морде, а прошение на… задней части тела подающих». Когда при выборах судей посредством выкриков фамилий поднялся шум, Протопопов, выйдя из себя и стуча палкою по столу, начал кричать сходу: «Тише, а то я вас половину перебью», что удостоверяется свидетелями, чего и сам он в существе не отрицает, объясняя, что, когда ему удавалось прекратить шум не сразу, он раздражался и мог произнести какую-нибудь угрозу по адресу крестьян. Во время схода крестьянин Слепущенко, будучи хмельным, сочувственно повторял народу слова подсудимого и был за это, по приказанию последнего, вполне основательному, «удален», «убран» или «арестован». Сила не в том, в какой редакции было дано это приказание: нельзя же допускать пьяную и неуместную болтовню на сходе, а сила в том, что по окончании схода, как усматривается из показания семи свидетелей, Протопопов, проходя мимо арестантской или, как выражаются свидетели, «каютки» и услышав просьбы Слепущенко об освобождении, велел его выпустить и кланявшегося в ноги с мольбою о прощении избил до крови кулаками и ногами, приказав снова посадить. Слепущенко просидел пять часов, и протокола об его аресте составлено не было. Оправдываясь по поводу последних событий, подсудимый опирается на показания надзирателя Аксененко, доктора Арефьева и городового Вороха. С характером объяснений первого мы уже знакомы, да и притом, заявляя на суде, что он не слышал ничего о месте, где окажутся у прибегающих к помощи земского начальника прошения и жалобы, Аксененко ссылается на свое показание на предварительном следствии, а там он говорил, что не всегда был на месте, где происходили объяснения подсудимого со сходом. Борох положительно не слышал угрозы сходу, а остальных свидетелей Протопопов не почел за нужное об этом расспрашивать. Но ведь не шепотом же говорил он со сходом, и, быть может, отрицательные показания членов схода, стоявших пред подсудимым, сильнее убедили бы нас в том, что угроз не было, чем слова подначального человека, городового Бороха. Остается врач Арефьев, гимназический товарищ Протопопова и друг его по университету, находившийся при подсудимом во время разъездов по службе. Показание его пришло издалека, из Бреста, Гродненской губернии, записано в довольно неопределенных выражениях («дверь была немного приотворена, но я не слышал ударов, а слышал, что Протопопов будто толкнул Скрипку в двери», говорится в нем) и действительно отрицает произнесение подсудимым угроз и разъяснений о прошениях, побитие Слепущенко и т. д. Но почтенное чувство дружбы и товарищества может иногда невольно умалять в наших глазах резкость образа действий друга, особливо когда наше показание против него могло бы положить большую гирю на чашу обвинения. Тут и сожаление, и боязнь повредить близкому человеку, и разные другие хорошие личные чувства могут заслонять от нас общественную обязанность не закрывать глаза на деяния неправого. Наконец, может возникать и боязнь упрека в нравственной солидарности с неодобрительными действиями товарища. Доктор Арефьев ездил по волостям с Протопоповым. Для чего? Конечно, не для подачи медицинского пособия, которое могло, пожалуй, оказаться нужным при своеобразном взгляде подсудимого на свои задачи. Из любопытства? Или для практического назидания, имея намерение самому пойти по служебным стопам товарища? Но тогда как же можно было не вразумить друга, не напомнить ему об уважении к человеческому достоинству, не удержать чрезмерной энергии, пожирающей новобранца с вредом для него и для окружающих? Как быть просто любознательным наблюдателем всего, что творил Протопопов с 8 по 27 сентября? Ответ один — этого ничего не творилось. Но ряд свидетелей говорит, напротив, что творилось. Нужен выбор. Палата, видевшая этих свидетелей воочию, слышавшая их показания, данные под присягою, под огнем перекрестного допроса, верит им. Приходится и нам им поверить.
За сходом в Золочеве быстро следуют остальные происшествия, принявшие, по отношению к подсудимому, уголовную окраску. 25 сентября к нему пришел крестьянин Забийворота с жалобою на сына крестьянина Мирона Серого, нанесшего ему побои. Лежащие на земском начальнике обязанности прямо указывают на образ действий, обязательный в этом случае. Его, по-видимому, и захотел держаться Протопопов. Он послал Забийворота ко врачу для освидетельствования следов побоев. Оставалось затем передать дело в волостной суд и наблюсти за скорым и справедливым решением. Но 26 сентября, собравшись ехать в этот день в Мироновку, Протопопов приказал привести в волостное правление сына Серого, чтобы, как он объясняет, «поговорить с ним относительно его вчерашнего поступка». Очевидно, что для этого разговора нужно было дознать, какой именно из сыновей Серого виновен в этом поступке, так как Забийворота не мог назвать его по имени. Сначала хотели привести Игната, но посланный за ним сторож Олейников выяснил, "что виновным мог быть не Игнат, а Михаил Серый. От вторичной посылки уже за Михаилом и от того, что он должен был запереть содержимую им гостиницу, произошло неизбежное промедление. Подсудимый объясняет, что Серый будто бы выразил нежелание «идти к начальнику», но судебным следствием это ничем не подтверждено, а удостоверено лишь то, что при самом входе Серого в волостное правление Протопопов спросил его: «Слыхал ли ты о новом законе?» и начал его бить кулаками по лицу, говоря: «Я вас выучу по-своему, чтобы вы знали новые порядки». Обучение продолжалось четверть часа и притом так усердно, что не только лицо Серого было разбито в кровь, которая перепачкала и его одежду, но Протопопов не пожалел и собственных рук, разбив себе на них пальцы. Затем без всякого протокола Серый был посажен в карцер. Побоев Серому не отрицает и сам подсудимый, только в них и сознаваясь. Это сознание было для него, впрочем, неизбежно, ибо вслед затем он уехал на сход в Мироновку, где, по показанию восьми свидетелей, произнес речь о том, что отныне у крестьян не должно быть ни краж, ни неуважения к родителям и старшим, а если это будет продолжаться, то виновных он будет до суда жестоко бить и поколотит так, как Сейчас поколотил одного богача в Золочеве: «До сих пор рука болит, перчатки снять невозможно!» Таким образом, опьянение ложным взглядом на свою власть совершило свой круг. Начавшееся угрозами «побить морды» 9 сентября — 26 сентября оно выражается уже в похвальбе совершившимся в этом смысле фактом. Наконец, 27 числа подсудимый в Должике, на выборе волостных судей. Когда предложение его идти в церковь помолиться пред выборами встречает заявления, что собравшиеся были накануне в церкви, а крестьянин Старченко громко возражает, что «Нонче не праздник», то он, с возгласом: «Что, что?!» бросается на него, в толпу, с поднятою палкою. Это приводит толпу в волнение, ему кричат: «За что сунулись драться! Ничего не разъяснили, а стали биться», раздаются крики: «Бьют нас, бьют! Бей его!» — и начинаются беспорядки, которые, быстро разрастаясь, продолжаются до 5 октября, требуя призыва военной силы и вызывая строгий судебный приговор.
Подсудимый оправдывается тем, что народ был вообще восстановлен против власти земских начальников, что ходили слухи о предстоящем будто бы восстановлении крепостного права, что Серый пользовался прежде, по своему влиянию, явною безнаказанностью, которой надо было положить предел. Я готов согласиться, что все это именно было так, что, быть может, нужно было установить в некоторых из обществ, подведомых Протопопову, большее благочиние и согнуть выю каких-нибудь мироедов под справедливое ярмо закона. Но этого следовало достигнуть законными мерами и приемами. Положение о земских л участковых начальниках 12 июля 1889 г. дает для этого средства. Оно вводит земского начальника в близкое соприкосновение со всеми сторонами сельской жизни, вооружает его судебною и административною властью, дает ему контроль над местными крестьянскими учреждениями. Он может судить виновного, он может лишать свободы не исполняющего его законные требования, он может «бить его рублем», т. е. штрафовать. И твердое, но справедливое проявление такой власти, спокойное, неотвратимое и неизбежное, в связи с доброжелательным и верным объяснением нового закона крестьянам, без сомнения, сразу рассеяло бы все народные толки о нем и произвело доброе действие, заменив тревожные слухи ободрительными фактами. Как же поступает Протопопов? «Горячие» речи о необходимости мира и согласия он сопровождает бранью и побоями, постоянно приходит в такое состояние, когда, по его же собственным словам, «рассудок уступает место раздражению», грозит и хвалится этими действиями пред смущенною и без того толпою, запрещает прибегать к себе за защитою нарушенных прав и вызывает, наконец, верную оценку своей системы в упреках этой толпы: «Ничего не разъяснили, а начали биться».
Вся известная нам по делу деятельность его с 8 по 27 сентября представляет нечто вроде музыкальной фуги, в которой звуки раздражения и презрения к закону все расширяются и крепнут, постоянно повторяя один и тот же начальный и основной мотив — «побить морду». И эти-ми-то средствами думал он внушить спокойствие, уважение к старшим и к порядку, зная, что именно этих-то средств, о которых ходили смутные и злые толки, и боялся тот народ, с которым ему нужно было стать в близкие отношения. Он думал внушить не опасение законной ответственности, а просто житейский страх. Но одним страхом, и только страхом, не поддерживается уважение и не создается спокойствие. Имея возможность рассеять ложные слухи о «новом законе», Протопопов, безрассудно относясь к своей задаче и грубо-самонадеянно к области своей деятельности, так «по-своему учил новым порядкам», что усиливал волнение, и, предшествуемый правдивыми, к сожалению, слухами о своих подвигах, дал в Должике окончательный толчок возродившимся беспорядкам. Кстати, я должен припомнить, что, по словам подсудимого, свидетелям его поведения в Должике нельзя доверять, ибо они все были привлеченными к суду за участие в беспорядках. Это неправда. Из восьми свидетелей, допрошенных по этому поводу, лишь двое — Чайка и Крапка — были в числе привлеченных. Поэтому надлежит признать, что фактическая сторона обвинения доказана и что с этой точки зрения приговор палаты должен быть утвержден.
Перехожу к юридической стороне дела. Протопопов признает неправильным применение к нему первой части 348 статьи Уложения, говорящей о взятии кого-либо под стражу хотя и по законным, достойным уважения причинам, но без соблюдения установленных на то правил. Палата усмотрела несоблюдение этих правил в отсутствии установленных ст. 61 Положения о земских участковых начальниках протоколов об арестовании Слепущенко и Серого. Подсудимый находит, что протокол по 61 статье не есть постановление, ограждающее личную свободу, ибо он должен быть составляем и при наложении штрафа, а лишь простое письменное изложение приказа начальника об арестовании, для составления которого нет ни формы, ни срока; протокол этот не относится к заключению под стражу, о котором говорится в 348 статье Уложения и в 187 статье Правил о производстве судебных дел у земских начальников, а есть лишь результат наложения дисциплинарного и притом дискреционного взыскания, которое почитается, согласно 64 статье Положения, окончательным и тотчас же приводится в исполнение. Но с этими возражениями никак нельзя согласиться. В ст. 61 совершенно точно сказано, что о каждом случае ареста до трех дней или денежного взыскания до 6 руб. должен быть составлен особый протокол. Содержание под стражею по ст. 348 Уложения имеет в виду всякого рода места заключения, не исключая и волостного правления, как это разъяснено Правительствующим Сенатом еще в 1871 и 1874 годах по делам Тарабанина и Казинцева, почему всякое арестование уполномоченным лицом есть лишение свободы, соответствующее взятию под стражу. Несоставление протокола по 61 статье прежде всего нарушает права арестованного. Несомненно, что он не может жаловаться в порядке инстанций на наложение взыскания по 61 статье, опровергая действительность оказанного им неисполнения Законных требований земского начальника; но если это требование вовсе не было предъявлено или было в явном противоречии с законом, не вытекало из прав земского начальника и составляло превышение им власти, т. е. преступное со стороны его действие, то арестованный имеет точно так же несомненное право, на точном основании 66, 121, 132, 135 и 136 статей Положения о земских начальниках и статьи 1085 Устава уголовного судопроизводства, обратиться к начальству земского начальника — губернатору или губернскому присутствию с жалобою или с просьбою о вознаграждении за вред и убытки. Для выяснения правильности этих жалоб, для проверки при ревизиях законности действий земских начальников и должны быть составляемы протоколы по 61 статье. Особой формы их и не нужно. Она ясно указана содержанием ст. 61. Протокол, очевидно, должен содержать в себе изложение причин заарестования, указание на то, какое именно требование не исполнено, и определение срока ареста или размера денежного взыскания. Он должен быть составлен немедленно по наложении взыскания, в первую свободную для этого минуту. Без такого протокола не останется никакого следа распоряжения, не будет налицо основания для права жалобы на превышение власти, права, которое возникает тотчас по отбытии наказания, не будет и материала для надзора начальства и для ревизии по ст. 66, 101 и 102 Положения, которая может наступить ежечасно. Предоставить земскому начальнику составлять такой протокол, когда ему вздумается, не указывая для этого срока, значит подвергать должностное лицо соблазну составлять такие протоколы лишь при наступлении ревизии, по памяти, которая нередко изменяет людям, имеющим сложные обязанности; значит, с другой стороны, подвергать считающего себя обиженным соблазну прибегать к лживым уверениям, что он бесконтрольно и бесследно засажен на больший срок или уплатил большую сумму взыскания, чем разрешает закон. Ссылка на 187 статью Правил о производстве судебных дел не представляется убедительною для подтверждения той мысли, что только постановление о протоколах по той статье служит для ограждения прав арестуемого. И эта 187 статья, и статья 430 Устава уголовного судопроизводства говорят об арестовании не наказанного, а лишь обвиняемого. Если обвиняемому разрешается жаловаться на неосновательность его арестования по ст. 422 Правил о производстве судебных дел и ст. 491 Устава уголовного судопроизводства и, конечно, на незаконность этого арестования, то не может же последнее право быть отнято у наказанного. На этой почве могли бы в некоторых случаях развиться злоупотребления и со стороны тех, кто подвергает аресту, и со стороны тех, кто фактически осуществляет этот арест. А чтобы оставить это право жалобы, закон требует составления протокола по 61 статье. Не убеждает меня и ссылка на то, что наказание по 61 статье есть дисциплинарное взыскание. Во-первых, это взыскание, только более мягкое и не требующее формального производства, за нарушение вовсе не дисциплинарного характера, а в сущности предусмотренное 29 статьей Мирового Устава, во-вторых, и дисциплинарное взыскание налагается не бесследно. Если бы председатель суда арестовал кого-нибудь из публики на сутки по ст. 155 Учреждения судебных установлений или обер-прокурор подверг чиновника канцелярии аресту на семь дней по 262 и 267 статьям того же Учреждения так, просто, на словах, не отдав письменного приказа, с указанием причины и срока арестования, он подлежал бы, по моему мнению, уголовной ответственности по первой части 348 статьи Уложения.
Поэтому Протопопов, не составивший после схода в Золочеве протоколов об арестовании Слепущенко и затем об арестовании Серого, во всяком случае нарушил 348 статью Уложения и притом без всякого к тому повода. Я допускаю, что земский начальник, присутствуя во время выборов на сходе и вынужденный арестовать нарушителя порядка, может не иметь времени писать протокол, подобно тому, как председатель, арестуя во время судебного заседания такого нарушителя, не может прерывать, для писания постановления, судебного следствия или, в особенности, прений, но затем, освободясь от присутствования, требующего непрерывности, оба они должны оформить свое распоряжение. И подсудимый поступил бы более правильно и законно, если бы посвятил хоть частицу того времени, в течение которого он утруждал себя нанесением побоев Серому и Слепущенко, на написание приказов об их арестовании. Ему не следовало бы жаловаться на эту часть приговора. Прокуратура и палата отнеслись к нему мягко, и он подвергнут слабейшему из всех наказаний по первой части 348 статьи — строгому замечанию, тогда как он мог быть, по моему мнению, обвиняем прокуратурою, от которой зависит, согласно 1096 статье Устава уголовного судопроизводства и решению Сената по делу Алексеева 1880 года за № 36, квалификация преступных деяний должностных лиц по второй части 348 статьи, подвергающей виновного в арестовании кого-либо, без всяких достойных уважения причин, наказанию как за противозаконное лишение свободы, гораздо более строгому, чем замечание. Он ничем не доказал, чтобы им было предъявлено Серому законное требование, которое Серым не было исполнено, и, следовательно, не доказал, что имел достойные уважения причины для применения к нему 61 статьи Положения о земских начальниках. Я не хочу сказать этим, что по соображении всех обстоятельств дела к подсудимому неправильно применена первая часть ст. 348 Уложения, но думаю указать этим, как преувеличены жалобы Протопопова на чрезмерную суровость приговора.
Обращаюсь к обвинению в превышении власти. Казалось бы, что о нем не может быть и спора. Что такое все судимые деяния Протопопова, во всей своей совокупности, как не одно сплошное превышение им вверенной ему власти?! Закон не может предусмотреть заранее всех разнообразных способов и случаев злоупотребления чиновником своими правами. Это злоупотребление обусловливается местом и временем. По существу своему административная деятельность объемлет такие разнообразные стороны практической жизни, так живо и близко соприкасается со всеми ее сторонами, что законодатель никогда не мог бы выполнить удовлетворительно задачу, решив заранее перечислить всевозможные случаи превышения власти в области административных действий. Потребности и условия жизни быстро растут, видоизменяясь и развиваясь, а закон вырабатывается с осторожною оглядкою и вдумчивостью. Он лишен возможности заранее отметить все, что может сделать орган власти, но он дает ему, в ряде своих постановлений, общие руководящие начала и основные правила деятельности, он вручает ему своего рода компас, который всегда и при всех условиях указывает, где север и как надо направлять свой путь. Поэтому и наше Уложение о наказаниях в общей главе о превышении власти и о противозаконном ее бездействии, перечисляя в ст. 344—350 отдельные, точно обозначенные случаи превышения власти, вовсе не упоминает о таковых же случаях бездействия, а в ст. 338 и 343, определив общие понятия и условия превышения и бездействия власти, назначает за то и другое, смотря по обстоятельствам и последствиям, различные наказания. Должностное лицо признается, говорит между прочим ст. 338 Уложения, превысившим власть, ему вверенную, когда, выступив из пределов и круга действий, предписанных ему по званию или должности, учинит что-либо в отмену или вопреки существующих узаконений или предпишет или примет меру, которую мог бы установить лишь новый закон, и т. д. Действуя по закону, а не вопреки ему, говорит эта статья чиновнику, не присваивай себе права, принадлежащего лишь власти законодательной, но если ты находишь нужным сделать какое-нибудь распоряжение, на которое у тебя нет прямого уполномочия от твоего высшего начальства, то испроси таковое, а не действуй с самонадеянным самоволием. Это требование с достаточною полнотою указывает на образ поведения должностного лица, ставя основанием ему закон или основанное на законе же разрешение высшего начальства. С достаточною полнотою — потому, что неведением закона, на основании 62 статьи Законов основных и 99 статьи Уложения о наказаниях, никто отговариваться не может, что чиновники приносят, на основании 714 статьи Устава о службе гражданской, присягу «исправлять свою должность по существующим Уставам и Учреждениям» и что, наконец, по ст. 715 того же Устава «всякий служащий должен поставить себе в непременную обязанность ведать законы и Уставы государственные», не простирая, как говорится в ст. 717, «своей власти за пределы, предназначенные ей законом», который должен быть исполняем без «обманчивого непостоянства самопроизвольных толкований». Вот почему совершенно справедливо составители нашего нового Уложения признают, что превышение власти, предусмотренное 338 и 341 статьями настоящего Уложения, соответствует превышению полномочий, присвоением себе власти законодателя, вот почему уголовный кассационный департамент еще в 1870 году, в решении по делу Егорова, № 377, высказал, что нарушение основных форм и обрядов, установленных для деятельности должностного лица, есть превышение власти, предусмотренное 338 статьей Уложения. А что, как не ряд действий, вопреки закону и с нарушением всяких допустимых законом приемов и форм, представляют все меры, которыми знакомил с «новыми порядками» крестьян Протопопов? Эти меры выросли как сильные и быстрые побеги из бывшей их зерном мысли, что для водворения того, что подсудимый называл порядком, никакой закон не писан, никакая власть не имеет пределов в своем усмотрении. Но мысль эта ложная и опровергается целью издания Положения об участковых земских начальниках. Этот закон вызван, как то выражено в именном высочайшем указе Сенату, одною из главных причин, затрудняющих правильное развитие благосостояния в сельском населении России, состоящею в отсутствии близкой к народу твердой правительственной власти, соединяющей попечительство над сельскими обывателями с обязанностями по охранению благочиния, общественного порядка, безопасности и прав частных лиц в сельских местностях. Положение о земских начальниках должно, по мысли закона, «устранить этот недостаток и поставить местную власть в подобающее ей и согласное с пользою государства положение». Поэтому, сам нарушая благочиние, которое он был призван охранять; вызывая в имеющих с собою дело людях опасение за свою безопасность, нарушая их права побоями, бранью и угрозами, подсудимый коренным образом искажал идею и задачу учреждения, которому он служил, и превышал, действуя вопреки существующим узаконениям и уставам, свою власть, создавая себе не подобающее и не согласное с пользою государства положение.
Одним из выдающихся проявлений наличности превышения власти в действиях подсудимого является приказание его не сметь подавать ему прошений и жалоб, сопровождаемое угрозою принимать их «на морде» и «на задней части тела». Оно сделано на сходе, при разъяснении собравшимся крестьянам нового закона, сделано лицом, прибывшим как представитель новоустановленной власти, права и обязанности которого темному люду не могут быть в точности известны. Поэтому это не пустая и не простая угроза. Это есть предварение, под угрозою беззаконной расправы, о том, что пользование правом жаловаться, искать защиты у власти отныне в участке подсудимого осуществлению не подлежит. Внушение сделано властью определенно и вразумительно — и притом человеком, который доказал уже и которому предстояло тотчас же опять доказать, что он шутить не любит и часто выражение о морде не одна лишь метафора, человеком, который и в апелляции своей говорит о произнесении «довольно резких» речей с целью показать, что он не из тех начальников, распоряжения которых могут быть не исполняемы, и который упрекает Серого в том, что тот сразу подает жалобы губернатору, прокурору и в уездный съезд за побои, имеет намерение жаловаться министру и, лишь сознав, что в земском начальнике можно нажить «опасного врага», начинает действовать другим путем. Поэтому судебная палата совершенно правильно признала это внушение приказанием, составляющим преступление, предусмотренное первой частью 341 статьи Уложения. Такое приказание было распоряжением, идущим вразрез с прямыми обязанностями земского начальника.
По ст. 54 Положения он обязан принимать словесные и письменные просьбы всегда и везде. Не говоря уже о прошениях и жалобах, которые подаются ему как судье и случаи подачи которых, так сказать, рассыпаны по всем «правилам о производстве судебных дел у земских начальников», он должен, как попечитель о нуждах сельских обывателей, принимать жалобы по 26 статье Положения неправильно избранных на должности крестьян, по 28 статье — на должностных лиц волостного и сельского управлений, по 33 статье — на отказы в наделах малолетним и продажу их имущества, по 34 статье — на приговоры сельских обществ об удалении порочных членов и непринятии опороченных судом в свою среду и по 38 статье — на действия опекунов малолетних крестьян, Нужно ли говорить о значении, которое могут иметь эти жалобы и для жалобщика, и для надзирающей инстанции в лице уездного съезда, и для общественного порядка? Достаточно вспомнить, что постановления, о которых говорится в 34 статье, суть прямые последствия 48 и 49 статей Уложения о наказаниях и что ими определяется, в значительной мере, дальнейшая судьба жалобщика, а обязанность прислушиваться к жалобам на обиду малолетних касается одного из очень больных мест нашего сельского быта. Наконец по праву надзора за деятельностью волостного суда, земский начальник обязан принимать, по ст. 30, жалобы на решения этого суда и по 31—представлять уездному съезду жалобы на приговоры о телесном наказании. Последние жалобы при обсуждении закона о земских начальниках были предметом особого рассуждения, и предположение предоставить право принесения их лишь совершеннолетним было отвергнуто Государственным советом ввиду исключительного характера этого наказания, требующего возможной осмотрительности и того, что благодаря влиянию школы уровень умственного развития крестьянской молодежи значительно повысился, а с тем вместе развилось в ней чувство собственного достоинства. Приказание не подавать всех этих жалоб, ставя преграду между уездным съездом и населением, освобождая подсудимого от значительной части обязательного труда, придавая законному праву жаловаться характер личного противодействия желанию земского начальника, было, в сущности, отказом в правосудии, а отказ этот, по смыслу 13 статьи Устава уголовного судопроизводства, карается по 341—343 статьям Уложения о наказаниях. Поэтому присуждение Протопопова к законной ответственности за превышение власти является, по моему мнению, справедливым.
Остается сказать об указаниях на суровость приговора, выразившуюся в исключении подсудимого из службы. Палата не приняла во внимание объяснений Протопопова о своей молодости… И правильно сделала! По закону земским начальником можно быть с 25 лет, как и мировым судьею, судебным следователем и присяжным заседателем. Этот возраст обеспечивает известный житейский опыт, вдумчивость и выдержку, необходимые для того, чтобы пользоваться властью, проявление которой отражается на судьбе других людей. Протопопов на пять лет — ему было в 1890 году 30 лет — ушел вперед от этого срока. Когда же признает он себя зрелым человеком, считая 30-летний возраст еще таким, к которому применимо мерило, созданное жизнию для молодости, смотрящей на все неопытными, отуманенными легкомысленною радостью существования, глазами? Не менее неосновательна и ссылка его на новизну дела и незнание, чем руководиться в своих действиях. Приступая к новому делу по собственному желанию, он должен был изучить закон, который считал себя призванным исполнять. Закон этот очень не велик. На подробнейшее изучение по нему своих прав и обязанностей достаточно одной недели. Да и содержание его в большей части ничего нового не представляет для того, кто выдержал экзамен из уголовного и гражданского судопроизводства и должен был знать, что такое Мировой Устав и Уложение о наказаниях. Характерные стороны народного быта тоже должны быть известны подсудимому. Он местный помещик, а следовательно, знаком с народом не из книжек. Не помешала же новизна дела мировым посредникам первого призыва с честью и безупречно исполнить свои обязанности.
Протопопов ссылается на то, что приговор палаты уничтожает его права на дальнейшую службу. Таким образом, пропали годы его университетского учения и преимущества, даваемые степенью кандидата прав! Да, пропали! Это грустно, но заслуженно. Напрасно ищет он в ссылке на свои университетские годы основание для особого снисхождения. Своею деятельностью он доказал, что они прошли для него бесследно. Студент обязан выносить из университета не один багаж систематизированных сведений, но и нравственные заветы, которые почерпаются в источнике добра, правды и серьезного знания, называемом наукою; эти заветы и в конце жизни светят студенту и умиляют его при мысли об университете. Наука о праве в своих обширных разветвлениях везде говорит о началах справедливости и уважения к достоинству человека. Поэтому тот, кто через год с небольшим по окончании курса бросил эти заветы и начала, как излишнее и непрактичное бремя, кто, вместо благодарной радости о возможности послужить на добро и нравственное просвещение народа, со смиренным сознанием своей ответственности пред законом, вменил спасительные указания этого закона в ничто, напрасно ссылается на свой диплом. Звание кандидата прав обращается в пустой звук по отношению к человеку, действия которого обличают в нем кандидата бесправия. Лишены значения и указания апелляции на третировку имени подсудимого неразборчивым общественным мнением и советы суду не прислушиваться к этому мнению, а просвещать его. Общественное мнение действительно было бы очень неразборчиво, если бы его не смущал образ действий Протопопова и если бы оно находило его заурядным и не стоящим внимания явлением. Суду не следует служить органом общественного мнения, которое бывает изменчиво и слагается иногда случайно, под слишком разнородными и неуловимыми влияниями. Но суд, оставаясь живым организмом, а не мертвым механизмом, не может не отражать в своем приговоре голоса общественной совести, которая выражается и в твердом слове закона, и в проникающем этот закон духе. И если пред судом есть доказанное обстоятельство, оскорбляющее такую совесть, — суд исполняет свою обязанность, произнося слово осуждения без той ложной чувствительности, за которою столь часто скрывается черствое равнодушие к положению потерпевших.
Подсудимый настаивает пред Правительствующим Сенатом об отмене приговора палаты во всех частях, кроме одной, и об открытии ему вновь дверей государственной службы. Будучи в настоящем деле прокурором апелляционного суда, т. е. представителем обвинительной власти, я выражаю надежду, что Правительствующий Сенат оставит приговор палаты в силе, а ходатайство подсудимого без последствий. Устав о службе гражданской т. III Свода законов определяет в ст. 712 «общие качества должностного лица и общие обязанности, которые должны быть всегда зерцалом всех его поступков». К ним принадлежат: здравый рассудок, человеколюбие, радение о должности, правый и равный суд всякому состоянию и т. д. Мы видели, как часто гнев потемнял здравый рассудок подсудимого, мы знакомы с характерными способами выражения им своего человеколюбия, мы знаем, как радение о должности обращалось у него в радение о своей власти, нам известно, как облегчал он обращение к своему правому и равному суду… Он не может, без опасения причинения дальнейшего вреда поручаемому ему делу, оставаться матросом на корабле государственной службы. Его следует высадить за борт, и когда он, предавшись частной жизни, сольется с массою людей, не имеющих никакой власти, он взглянет на последнюю снизу вверх и, вероятно, поймет, как дурно для других и опасно для себя распоряжался он тою властью, которая была ему с доверием дана…
РУКОВОДЯЩИЕ НАПУТСТВИЯ ПРИСЯЖНЫМ
Ворота здания Петербургских судебных установлений
ПО ДЕЛУ КОЛЛЕЖСКОГО СОВЕТНИКА КОНСТАНТИНА ЮХАНЦЕВА, ОБВИНЯЕМОГО В РАСТРАТЕ СУММ ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО ПОЗЕМЕЛЬНОГО КРЕДИТА*
Господа присяжные заседатели! Чем сложнее дело, подлежащее нашему разрешению, тем более внимания должны вы употребить на то, чтобы из массы мелких подробностей и частностей выделить те обыкновенно немногие, но коренные данные, по которым составляется ясное представление о существе самого дела. Забудьте на время эти подробности. Они не в силах создать зрелого убеждения о вине или невиновности подсудимого; они только могут более или менее ярко окрасить впечатления, выносимые вами из дела. Сосредоточьте всю силу разумения вашего на немногих, но неизбежных вопросах. Позвольте мне помочь вам в этой работе. В каждом уголовном деле есть три вопроса, тесно между собою связанные. Они одинаково достойны серьезного обсуждения. Их можно рассматривать отдельно, но итог надо подводить по всем вместе. Иначе решение будет неполно, односторонне, не будет проникнуто живым чувством правды. Прежде всего, доказано ли преступление, в котором обвиняется Юханцев? Подсудимый и прежде, и здесь на суде не отрицал совершения растраты денег, в огромной сумме вверенных его хранению. Подсудимый не умаляет требований гражданского истца, не смягчает размеров своего деяния. Собственное сознание всегда признавалось одним из лучших доказательств, если оно дано было без принуждения, нравственного или физического, или если нельзя было заподозрить, что признающийся сознательно, в виде каких-либо великодушных порывов, губит себя и приносит себя в жертву, или, наоборот — торгуется с судом, и сознанием в меньшей вине старается купить возможность умолчания о большей вине и оставления ее без рассмотрения. Вы посудите, есть ли в словах Юханцева признаки такой жертвы или попытка войти в сделку с правосудием. Если вы не найдете ни того, ни другого, то припомните, что сознание сделано им откровенно и без колебаний, впервые даже и не суду или его органам, а кассиру Мерцу. Следовательно, оно не было вынуждено, но было добровольное. Но этого мало. Опасно приписывать человеку преступление только потому, что он сам себя обвиняет, когда обстоятельства, эти молчаливые свидетели и доказчики преступления, идут вразрез с сознанием или не подтверждают его. Они должны сопровождать сознание. Они придают ему цену и как доказательству преступления, и как указанию на отношение подсудимого к своей вине. Отыскивая эти обстоятельства в деле, вы остановитесь на экспертизе, весьма редкой по своему содержанию. Бухгалтерская экспертиза требует особого навыка и особых специальных знаний. Если в представителях ее вы не найдете признаков навыка или ручательства в полном обладании прочными знаниями счетоводной техники, если заключение их нетвердо, шатко, уклончиво, вы хорошо поступите, если отвергнете экспертизу и не будете ее считать доказательством. Но если экспертиза произведена и выражена со спокойствием и достоинством истинного знания, если сами эксперты являются настоящими представителями своей специальности, то экспертизу надо принять и прислушаться к ней со вниманием и уважением. Вы слышали, что говорили эксперты, вы знаете, кто они: один — опытный чиновник министерства финансов, другой — бухгалтер частного банка, третий — представитель счетоводного учреждения и изобретатель новой системы, системы тройной бухгалтерии. Они подтверждают цифрами и строгим исследованием то, что по своим воспоминаниям говорит Юханцев. Поэтому вы, вероятно, признаете деяние Юханцева доказанным. Тогда из ряда подробностей и отдельных объяснений, данных на суде, вы восстановите простейшую картину того, что делал он. Вы увидите, что, имея в руках чековые книжки по текущему счету Общества взаимного поземельного кредита, открытому Государственным банком, подсудимый брал по чекам, доверчиво подписанным управляющим и -иногда даже бухгалтером, деньги с текущего счета, показывая затем чеки на меньшую против действительности сумму или вовсе не показывая их в своих ведомостях или памятных записках, т. е. совершал или перебор денег Общества, или прямое их присвоение. Вы припомните затем, что подобные действия повторялись и с деньгами, на взнос которых на текущий счет подсудимый получал ордера. Он или не вносил их вовсе, присваивая себе, или же вносил меньше, чем следует, оставляя недостающую сумму себе. Когда, по некоторым признакам, начинала на его казначейском горизонте показываться туча, называемая ревизиею, подсудимый пополнял пробелы и прорехи своих текущих счетов и для этого сводил концы с концами взносами наличных денег. Из его х:лов вы знаете, что он изглаживал таким образом следы одного злоупотребления посредством другого. Это другое состояло в том, что он закладывал в Государственном банке облигации, которые хранились в кассе в пакетах. Это были большие и прочные ценности, рассчитанные на фунты стерлингов, т. е. на золото, и составлявшие часть вспомогательного капитала, данного правительством Обществу, чтобы придать его операциям наибольшую солидность. В 1875 году в ревизии кассы был внесен несколько больший, хотя все еще недостаточный порядок, и подсудимый, прекратив свои действия с чеками, начал с этого времени исключительно пользоваться вверенными ему ценными бумагами, закладывая их, продавая в разные руки и получая разницу между ценою, по которой они бывали заложены, и биржевою, по которой их продавал Зингер, причем к началу 1878 года дошел до громадной цифры, превышающей два с половиною миллиона рублей. Эксперты определили вам, сколько приблизительно осталось в его пользу за вычетом расходов по оплате купонов, платежу куртажных денег, процентов по ссудам из банка и т. д. Остается все-таки большая сумма. Что сделано с нею? Истратил, роздал, разбросал в неудержимых тратах без оглядки назад, без заглядывания вперед, говорит подсудимый. Припрятал, утаил, припас на черные дни, говорят обвинители. Растратил, выражаясь юридическим языком, говорит Юханцев, присвоил — утверждает прокурор. Я должен вам сказать, господа присяжные заседатели, что для нравственного суда над Юханцевым без сомнения полезно определить, что именно он сделал с деньгами, которые он так широко черпал в кассе Общества. Между растратою и присвоением существует серьезная нравственная разница, и о какой бы сильной распущенности ни говорила растрата, разбрасывание чужих денег, но она все-таки по отношению к обвиняемому лучше, чем та преступная предусмотрительность и запасливость, которыми характеризуется присвоение, в котором место увлечения занимает уже расчет. Но, с точки зрения закона, присвоение и растрата суть преступления равносильные. Закон видит исходную точку преступления в обоих случаях одинаково в обмане доверия, злоупотреблении положением и указывает на результат преступления — вред или убыток, одинаковый и от растраты чужих денег, и от их припрятания.
Вот почему я не советую вам долго останавливаться над рассмотрением этого спора, тем более, что для точного и справедливого его разрешения не представляется достаточных данных, а есть только предположения, основанные на сомнении в возможности истратить в пять лет такие суммы. Но предположения и сомнения, как бы правдоподобны они ни казались, без фактической опоры— непрочный материал для верного решения. Вот почему и суд спрашивает вас не о том, растратил ли или присвоил себе Юханцев деньги, а ждет вашего ответа на более широкий вопрос — употребил ли Юханцев в свою пользу ценности, вверенные ему Обществом?
Когда будет уяснено, когда и как сделал Юханцев злоупотребление своим положением кассира, надо будет вглядеться в условия, при которых совершены его деяния. Человек действует не в пустом пространстве, и чтобы правильно оценить его действия, необходимо знать условия, в которые он был поставлен, обстановку, в среде которой совершено было преступление. В речах сторон вам намекалось, что эта обстановка была слишком заманчива для человека со слабою волею и широкими замашками, каким считает Юханцева защита, для смиренного хищника, как называет его представитель обвинения. Обстановка, по мнению сторон, слишком облегчала преступление, слишком широко открывала ему доступ в недра кассы Общества. При обсуждении этой стороны дела вы, вероятно, остановитесь, господа присяжные, на этом свойстве кассовой обстановки Юханцева._ Я только советую вам не разбрасывать ваших сил и не вдаваться, следуя за сторонами, в слишком подробную оценку участия членов правления и администрации Общества в допущении порядков или, пожалуй, беспорядков, под покровом которых действовал Юханцев. В настоящем деле вы призваны судить Юханцева, а не их. Те ошибки и недосмотры, на которые указывают вам, не могут оправдывать Юханцева и не должны мешать вам разглядеть свойство его действий; притом, вопрос об имущественной ответственности членов правления и администрации Общества настоящим делом отнюдь не исчерпывается. Поэтому обсуждайте действия этих лиц постольку, поскольку они касаются кассирской деятельности подсудимого, и не вступайте в путь, без сомнения интересный и богатый выводами, но отвлекающий вас от прямой задачи вашей. «Не клади плохо, не вводи вора во грех», говорит пословица — выражение народной мудрости, и в жизни она часто приводится как объяснение действий «введенного во грех». Но мудрость не всегда одно и то же, что нравственность. Нравственное достоинство этой пословицы весьма сомнительного качества, а мудрость в ней заключается более в совете и предостережении кладущему, чем в оправдании берущего. Действительно, если вы припомните все раскрытые здесь факты об устройстве контроля над кассиром, то вы, вероятно, придете к заключению, что контроль этот почти отсутствовал, был какой-то мнимый. Он состоял, в общих чертах, в поверке показаний кассира по справке из контокоррентной книги Общества, веденной согласно с сведениями, которые сообщал тот же кассир. При таком контроле ревизия кассира сводилась к тому, что, в сущности, кассир ревизовал бухгалтера в правильном записывании сообщаемых им сведений. Такая мнимая ревизия сопровождалась приемами, преисполненными неосторожного доверия. Вы припомните показание подсудимого о бланковых чеках, выдаваемых ему бесконтрольно на руки, и о том, что если бы, по словам Юханцева, при ревизии хоть раз была сосчитана в книжке текущего счета сумма, то подведенный им итог оказался бы неверным и все бы открылось. Не подлежит сомнению, что отношения правления и управляющего к Юханцеву были проникнуты не спасительною в финансовых делах осторожностью и зоркою наблюдательностью, а безграничным доверием, которое проявлялось с самым открытым простодушием. Нельзя не пожалеть об этом, нельзя не видеть вреда в таком нецелесообразном и неуместном доверии, но для оценки его значения по отношению к Юханцеву надо принять в соображение, при каких условиях оно ему оказывалось и в какие условия оно его ставило. Доверие и особенно такое безграничное, оказанное сразу, без колебаний и испытаний, человеку новому, пришлому, мало известному, в некоторых случаях являлось бы преступною неосторожностью. Человек взят из чужой сферы и сразу бесконтрольно и безнадзорно допущен к миллионам, к золоту, которого он прежде, быть может, и не видывал в таких массах. Это его может опьянить, пошатнуть слабую волю, смутить дряблую совесть. Вы посудите, однако, был ли Юханцев таким человеком, было ли ему оказано такое доверие сразу как человеку новому и пришлому, или начало растрат относится ко времени, которое следовало за шестилетнею безупречною и регулярною деятельностью его в качестве испытанного кассира. В последнем случае этому доверию вы отведете небольшое место в числе тех факторов, которые привели Юханцева к тому, в чем он сознается. Вы обсудите потом, насколько отсутствие правильного контроля облегчало совершение растрат и их размер. Вы вспомните при этом, что, по мнению экспертов, при правильно построенном контроле растрата была бы открыта на первых же порах, т. е. в 1873 году, и не превышала бы 9 тыс. руб., и возобновите в вашей памяти эпизод о слухах, доходивших до правления о жизни Юханцева и о появлении на бирже именно тех, по удостоверению Зака и Эстеррейха, консолидированных облигаций, которые должны были храниться в кассе Общества. С другой стороны, вы обратите внимание и на то, что отсутствие правильного контроля, обусловливая легкую возможность пользования ценностями Общества, в это же время давало и возможность подсудимому не раз одуматься, остановиться и собраться с силами, чтобы восполнить, до обнаружения, те недочеты, которые он сделал в кассе, ему вверенной. Где контроль строг и действителен, там обыкновенно нет времени и возможности оглянуться, как уже растрата выяснена и закреплена каким-нибудь актом. В этих случаях оттяжки рокового часа открытия и возможности исправления не существует. Вы спросите себя, так ли было в деле Юханцева. Если не так, то вы найдете, что существовавший до 1876 года контроль, дававший возможность совершать растраты, не отнимал в то же время возможности исправить сделанное, не махая в безнадежном отчаянии рукою на будущее.
Третий вопрос — внутренняя сторона действий подсудимого, его мотивы, побуждения, Вы слышали историю происхождения растраты, рассказанную Юханцевым. Страстная любовь к жене, которая, по словам его, не хотела признавать за мужем никаких прав, а допускала с его стороны лишь обязанность удовлетворять своему избалованному вкусу к роскоши, вовлекала его в долги, которые были покрыты из текущего счета Общества взаимного поземельного кредита, а этот счет был покрыт из кассового сундука с ценностями, причем оттуда было захвачено много более, чем было нужно для погашения долгов, ибо в это время, окончательно лишившись жены, Юханцев потерял голову и сам не знает, как и куда тратил громадные суммы, отыскивая развлечения и забвения… Вы решите, насколько правдоподобна эта история растраты и насколько необходимы для укрепления этой правдоподобности разоблачения, сделанные подсудимым, из такой области своей домашней жизни, которая обыкновенно скрывается от чужих взоров и любопытства. Вам главным образом принадлежит право оценить, насколько, для справедливого освещения дела, следовало «оживлять» на суде ту семейную жизнь, которая, по словам письма подсудимого к брату, должна была «умереть между ними», и изображать себя игралищем судьбы между одинаково непринадлежавшими ему — ценностями и женою. Люди житейского опыта, вносящие в свою деятельность знание жизни в ее обыкновенной, трезвой обстановке, вы, быть может, найдете в объяснениях подсудимого, отбрасывая в сторону их подробности, указание на то, что он, так или иначе, не был счастлив в семейной жизни. Насколько же в несчастливой или даже несчастной семейной обстановке можно искать объяснения поступкам Юханцева? Счастие семейное — далеко не общее правило, и бывают переходные времена, когда в известных слоях общества вследствие разных нравственных колебаний счастливый склад семейной жизни вместо общего правила становится исключением из него. Вы видывали, конечно, в жизни такие положения, знаете и обыкновенный более или менее понятный исход из них. Человек развитой, не весь преданный стремлениям к личному счастию и одаренный волею, ищет обыкновенно утешения во внешней деятельности, в общественных заботах, в таком труде, который, хотя бы материально, наполнял его жизнь, не давая времени задумываться над неприглядностью своего домашнего положения. Быть может, если бы заглянуть в глубину частной жизни некоторых горячих тружеников общественного или государственного дела, в ней была бы открыта именно такая неприглядность домашней обстановки. Человек со слабой волею, не находящий удовлетворения вне своего я, будет искать утешения и забвения нередко в вине. Этот тип встречается, как вы знаете, чаще. Итак, — или честная, поглощающая деятельность, или стремление заглушить свое сознание. Но можно ли, натурально ли искать утешения в том, что к ощущению семейной пустоты еще прибавляет сознание совершаемого преступления и совершаемого притом не в минутном увлечении или порыве? Этот вопрос решите вы, не забыв притом, что обыкновенно у человека, теряющего голову от семейного несчастия, даже в чаду хмеля и кутежа сквозит скорбь о разбитом счастии и сознание невозможности замены его чем-либо иным, новым, ибо — раз эта замена найдена — несчастие отходит в область прошедшего и теряет едкую силу горькой действительности. К какому из двух типов ближе подходит Юханцев, помогает решить он сам рассказами о своей жизни за последние годы. Если вы признаете, что та несчастная обстановка, на которую указывает Юханцев, могла заставить его, для удовлетворения прихотей жены, тронуть кассу и для утешения в разлуке с нею продолжать черпать из этой кассы деньги для грандиозно организованных пиров, то вы отведете этой обстановке надлежащее место в обсуждении причин, приведших Юханцева на скамью подсудимых. Решая эту сторону дела, вы, однако, не упустите из вида и того, что траты на жену здесь на следствии оказались не могущими идти ни в какое сравнение с тратами после разлуки с нею, когда в один год было истрачено Юханцевым в свою пользу более 550 тыс. руб. серебром; что, затем, тоска по нежно любимой жене выражалась, по сознанию самого Юханцева, в кутежах с кокотками и в нескольких связях и что, наконец, в действиях его по опустошению кассы, совершенных «сам не знает как», по мнению экспертов, проглядывает ясная и обдуманная, приноровленная к обстановке, система…
Когда вы разрешите, по совести и убеждению, основанному на всем здесь виденном и слышанном, указанные мною вопросы, у вас может возникнуть мысль о значении того, что сделал Юханцев. Каждое преступное деяние имеет двоякое значение — по отношению к личности обвиняемого и по отношению к обществу. Личное значение того, в чем обвиняется Юханцев, едва ли может возбудить споры. Это огромное нарушение доверия, это широкое злоупотребление своим положением, личным и официальным. Сама защита Юханцева признает это свойство деяния подсудимого как бесспорное. Но в оценке общественного значения стороны существенно расходятся. Обвинитель указывает нам на вред, который причинен Обществу взаимного поземельного кредита как учреждению, имеющему государственный характер; защитник видит лишь ущерб для обособленной группы весьма достаточных людей, которые соединились для преследования своих личных выгод, не всегда соответствующих интересам окружающего населения, не имеющего никаких кредитных учреждений. Господа присяжные заседатели, когда было упразднено крепостное право, тогда были ограничены в своей деятельности и вскоре вовсе упразднены кредитные государственные учреждения, помогавшие своими ссудами помещичьему сословию. Но новое хозяйство, возникавшее на облагороженной почве свободных отношений, нуждалось в поддержке и помощи. Эту помощь мог оказать кредит, не случайный, приходящий извне, а внутренний, взаимный, основанный на единстве целей и потребностей. Ему должно было служить обширное Общество, на помощь которому пришло правительство, гарантируя прочность его операций своим вспомогательным капиталом. Россия вовсе не страна крупного землевладения; в ней развито землевладение средних размеров, как вы это можете заключить даже из той оценки, которая делается, по словам защитника, имениям наибольшего числа заемщиков Общества. Притом, это землевладение, с упразднением крепостного права, утратило свой исключительный сословный характер, и Общество взаимного поземельного кредита приходит на помощь преимущественно к землевладельцу средней руки. Кредит, помощь в ссуде — дает возможность поддержать в тяжелые экономические минуты хозяйство, с которым естественным образом связано предложение труда и заработка окружающему населению. Печально, что это население не имеет своих кредитных учреждений или что они, вернее говоря, плохо принимаются, но каждый шаг на пути развития народа приближает их распространение и укрепление. Следует ли, однако, из этого отсутствия или малого развития кредитных учреждений в народе, что надо отрицать значение для страны и такого кредитного учреждения, как Общество? Можно ли смотреть на него как на нечто не только чуждое, но даже враждебное хозяйственному развитию страны, искусственно противополагая интересы одной части населения другой и забывая, что экономическое благосостояние государства зависит от взаимодействия всех сил страны, причем одни могут быть более организованы, другие, к сожалению, менее? Вы взгляните на этот вопрос с трезвой, житейской точки зрения, и если вы найдете, что Общество не есть учреждение исключительное и что поддержание кредита во всех его видах желательно, то вам станет ясно, что деяние Юханцева имеет значение общественное. Оно подрывает, расшатывает авторитет Общества и ослабляет доверие к нему. Но если в стране начинают колебаться и не внушать доверия такие большие учреждения, как Общество взаимного поземельного кредита, имеющее правительственную поддержку, то нельзя от стесненного в своих хозяйственных делах землевладельца ждать особого доверия и к другим частным кредитным учреждениям, к так называемым ипотечным банкам. А без поддержки поземельным кредитом землевладельцу в тяжелые экономические минуты приходится стать лицом к лицу с действительным эксплуататором, с кулаком, барышником, скупщиком земель и уступить ему свое место. Но такой человек, тип, народившийся в последнее время, ничем не связан с землею. Она для него не «кормилица», с нею не связано для него привычки труда или дорогих личных воспоминаний. Она — предмет, из которого надо вытянуть всю наживу, она — тот грош, на который надо норовить, по русскому выражению, накупить пятаков. И лес вырубается, и земля безжалостно истощается, и начинается хищническое хозяйничанье, при которых эксплуатация окружающего бедного и темного люда уже, конечно, не меньше той, о которой упомянул защитник. Вот почему вы, быть может, признаете, что всякий удар, наносимый большому кредитному учреждению, имеет общественное значение.
Порядок совещаний ваших, господа, вам известен. Вы кончаете сессию и, конечно, хорошо изучили свои права, обязанности и способ их выполнения. Скажу вам еще несколько слов о постановленных судом на ваше разрешение вопросах. В первом вопросе вас спрашивает суд, виновен ли Юханцев в употреблении в свою пользу денег, которые были у него на должности кассира? Здесь был возбужден спор о том, был ли должностным лицом в Обществе Юханцев и не совершил ли он свои деяния как частный человек, не имевший по отношению к Обществу никакого официального, служебного положения? Параграф 25 устава Общества говорит, что служащие, и в том числе кассир, снабжаются подробною инструкциею. Такой инструкциею, однако, Юханцев снабжен не был. Она существовала только в проекте и имела, по словам Герстфельда, значение обычая, но обязательной силы не приобрела. Если вы найдете, что отсутствие инструкции ставило Юханцева в неопределенные отношения частного человека к Обществу, случайно вручившему ему свои ценности, то вы отвергнете служебный характер и скажете, «не исполняя должности кассира». Но если вы признаете, что отдельные недосмотры и пробелы не изменяют существа организации Общества; что Общество не могло существовать без кассира и обращаться для ведения своих денежных операций к частным, непричастным к его организации, лицам; что Юханцев был определен журнальным постановлением правления от 30 июля ,1865 г. на должность кассира и от него или, лучше сказать, за него был взят установленный залог в 5 тыс. руб.; что он сам считал себя кассиром и именовался этим званием, то вы ответите на первый вопрос утвердительно или отрицательно, но, во всяком случае, без ограничительных слов. Во втором вопросе суд желает слышать ваше решение о сломании печатей. Вы знаете, что Юханцев, при той организации, которая существовала в кассе за его время, имел право распечатывать пакеты с ценными бумагами для отрезывания купонов, нумерации и т. п. Распечатанный пакет переходил в категорию тех, которые подлежали подробной проверке своего содержимого при ревизии. Я должен сознаться, что, на мой взгляд, история с теми печатями, которые оказались на пакете с остатком консолей второго выпуска, совершенно не выяснилась на судебном следствии. Это что-то неясное и вполне неопределенное. Поэтому вы поступите правильно, если оставите совершенно без рассмотрения вопрос о том, кем, как и какие именно печати оказались наложенными на этот пакет. Затем вам останется решить, распечатал ли Юханцев пакет для законных целей, пользуясь своим правом кассира, или же он распечатал его без законной надобности, с исключительною целью взять в свою пользу хранившиеся в нем облигации. Вы разрешите этот вопрос только по внутреннему убеждению вашему, не вступая на путь юридических тонкостей, чуждых вашему призванию судей по совести.
В первом случае вы ответите отрицательно, во втором положительно и притом с возможною определенностью.
В третьем вопросе существенна первая его часть. По букве закона, по точному содержанию ст. 362 Уложения о наказаниях, рапорты, сведения и т. п. сообщения для совершения подлога должны иметь официальный характер и носить его признаки, т. е. иметь печать, быть написанными на бланке за номером и т. д. По духу ст. 362 Уложения, сведения эти должны, в целях совершителя подлога, вводить в заблуждение того, кто их получает. Справки и памятные записки, которые Юханцев сообщал в бухгалтерию, для занесения в контокоррентную книгу, никакого официального признака не имеют. Поэтому, по букве закона, они под ст. 362 Уложения, следовательно, под понятие подлога не подходят. Поэтому, если вы станете на эту точку зрения, то вы по третьему вопросу можете произнести отрицательное решение. Но вы его произнесете, однако, лишь тогда, когда убедитесь, что нет указаний, что по существу своему деяние Юханцева подходит под те действия, которые указаны в этой статье. Вы будете при этом иметь в виду, что закон о подлогах по службе применяется по Уложению о наказаниях и к кассирам частных кредитных учреждений, и эти лица, по свойству своих служебных отношений, никаких рапортов, донесений и т. п. не пишут. Сношения служащих в частных учреждениях не вставлены в такие строгие официальные формы. Между тем, закон применяет 362 статью к кассирам и казначеям частных банков. Что это значит? Это значит, что закон связывает понятие о преступлениях подлога по службе не с формою, не с названием, не с рангом бумаги, а с назначением, которое имеет или должно иметь ее содержание. Если содержание бумаги, как бы она ни называлась, было таково, что ею кассир вводил, с корыстною целью, в обман тех, кому сообщал он свои ложные сведения; если эта бумага, в какой бы форме она ни являлась, удостоверяла перед другими органами учреждения такие вещи, которых в действительности не существовало, такая бумага и такие действия кассира, подходят под смысл и дух статьи закона, говорящей о должностных подлогах. Если в двух случаях вред одинаков, если преступное намерение одно и то же, если служебное положение, права и обязанности обвиняемых тождественны, то закон был бы лишенною смысла безжизненною формулою, карая одного за то, что он выставил нумер и написал на бланке, и отпуская другого только за то, что у него не было под рукою бланка или он забыл выставить нумер. Вы обсудите поэтому, господа присяжные, на чем более следует вам остановиться: на букве закона или на его внутреннем смысле, и если остановитесь на последнем, то определите затем, соответствуют ли действия Юханцева указаниям закона.
Вам говорилось здесь о вашей задаче и о значении вашего приговора. Вас приглашали признать, что подсудимый достаточно наказан десятимесячным предварительным заключением и теми нравственными страданиями, которые должен испытывать он при сознании пред вами неприглядности своей прошлой деятельности. Поэтому от вас ждут вменения подсудимому того, что он испытал, вменения, которое на языке суда присяжных называется оправданием. Вам говорят, что такой ваш приговор, указывая, что вы рассматриваете действия Юханцева лишь как последствие дурной организации Общества взаимного поземельного кредита, будет иметь влияние на законодательные меры к улучшению внутреннего устройства кредитных учреждений. Таким образом, побуждая законодателя прислушаться к вашему приговору и именно тем объяснить себе оправдание растраты в два с половиною миллиона, вы сами косвенным образом примете участие в законодательстве, содействуя его оживлению и улучшению. Вам указывают также и на необходимость обвинительного приговора ввиду общественного мнения Европы, ввиду оценки иностранцами вашей способности к отправлению правосудия. Я советую вам, господа, совершенно отрешиться от этих взглядов. Следуя им, вы отступите от вашей прямой обязанности пред обществом, которого вы являетесь представителями. Вы войдете в область, где ваша ясная и высокая задача сделается неопределенною и гадательною. Вы произнесете приговор не о том, достаточно ли наказан подсудимый, а о том, виновен ли он. Вы не имеете права говорить «ты невиновен потому, что, по нашему мнению, ты уже довольно испытал неудобств и стеснений». Это значит не оправдывать, а прощать. Скамья подсудимых видит на себе не мало людей преступных, но между ними есть люди, которые, нарушив закон, не упали, однако, нравственно до того, чтобы успокоиться на сознании, что их не оправдали, а простили. Притом, вы всегда имеете возможность примирить строгие требования закона с голосом сострадания к его нарушителю. Вам принадлежит широкое, ничем не стесняемое право давать снисхождение, и слово снисхождения, сказанное вами, обязательно для суда. Да и можно ли становиться на почву понесенного, предварительно, неизбежного по сложности дела, наказания? Где ручательство, что даже в вашей среде не окажется одних, которые скажут, что десять месяцев ареста — достаточная кара, и других, которые найдут, ослепляясь чрезмерною строгостью, что за растрату двух с половиною миллионов во всех наших законах нет достаточной кары. Что касается до страданий душевных, испытываемых на суде, то, как бы они тяжелы ни были, они не должны ложиться в основание вашего приговора. Здесь все неуловимо и все зависит от нравственной природы, характера, восприимчивости и взглядов человека на окружающую жизнь. Эти страдания, отрицать которые было бы несправедливо, не поддаются никакому мерилу. Я говорю вам не о Юханцеве, и вы, вероятно, не усомнитесь, что ему и горько, и тяжело сидеть пред вами. Но я хочу сказать вам вообще, что могут быть случаи, когда пред вами предстанет лукавый лицемер и будет вызывать вас на оправдание картиною тяжких душевных мук и раскаяния; и предстанет человек хотя и преступный, но в гордой душе которого, несмотря на действительные страдания, никогда не найдет места мысль, чтобы выставлять их напоказ и ради их униженно просить у вас, как милостыни, прощения. И что же? Как распознаете вы того или другого, и чем оградите вы себя от того, чтобы не помиловать первого и не осудить сурово второго? Вы также и не законодатели — ни прямые, ни косвенные. Если на законы влияют благотворно судебные процессы, то, конечно, не приговорами, в них постановленными, а фактами, в них раскрытыми. В этом великое значение гласности суда. И каков бы ни был ваш приговор, поучительная сторона этого процесса вполне и окончательно раскрылась еще вчера, когда закончилось судебное следствие. Ни изменить, ни иначе осветить фактов, в нем раскрытых, приговор ваш не может. Нельзя отрицать, что есть, однако, исключительные случаи, где и ваши приговоры, повторяясь однородно в течение долгого времени, могут служить для законодателя указанием на то, что представители общественной совести не видят вины в деянии, которое признается с формальной точки зрения нарушением закона, такого закона, который устарел вследствие того, что экономические административные условия, его вызвавшие, исчезли или изменились. Но таковы проступки не против прав известных лиц или общества, а против целой системы правил, которые уже опережены жизнью. Таковы, например, некоторые проступки против паспортной системы и т. п. Но законодатель никогда не может черпать для себя указаний в таких приговорах, которые относятся не к проступкам против временной системы, а к преступлениям, нарушающим вечные понятия, давным-давно выраженные словами: «не убий», «не укради» и т. д. Исполняя свой долг, вам также незачем оглядываться на Европу и задумываться над тем, что там скажут, как истолкуют ваш приговор и какого мнения будут о русском правосудии. Помните, что одно из условий отправления действительного правосудия — слушать голос своей совести и не заботиться о том, «что скажут». Если следует вам помнить о ком-нибудь, так это о честных людях на родине вашей, сердца которых жаждут справедливости, состоящей в оправдании невиновного и в признании вины за виновным. Чувства этих людей для вас должны быть дороже выводов законодателей и мнений иностранцев. Господин старшина, получите вопросный лист. Передаю его вам с уверенностью, что присяжные приступят к исполнению своей обязанности спокойно, с сознанием всей ее важности.
ПО ДЕЛУ О ФРАНЦУЗСКОЙ ПОДДАННОЙ МАРГАРИТЕ ЖЮЖАН, ОБВИНЯЕМОЙ В ОТРАВЛЕНИИ *
Господа присяжные заседатели! Двухдневное судебное следствие и оживленные прения сторон дали вам богатый разнообразный материал: он так велик и имеет такую разнородную доказательную силу, что, быть может, вам полезно получить от меня несколько указаний на те приемы, посредством которых надо обсуждать и оценивать этот материал. Закон обязывает меня дать вам эти указания, но отнюдь не считает их обязательными для вас.
Вам говорилось о характере преступления, подлежащего вашему рассмотрению. Указания обвинителя согласны с сущностью этого преступления и с обыкновенною житейскою обстановкою его. Действительно, это преступление коварное и, если можно так выразиться, трусливое. Совершитель отравления не имеет обыкновенно той смелости, которая заставляет более или менее рисковать собою, на-падая на другого. Он действует тайно и иногда с видимым спокойствием удаляется прочь, когда его орудие и невидимый союзник — яд — только еще начинает свое дело. Между орудием преступления и виновником нет, обыкновенно, непосредственной тесной связи, ему нечего бояться брызг крови от удара ножом, криков жертвы, борьбы с нею, шума и дыма выстрела. Когда яд начнет действовать, виновник может быть уже в полной безопасности, скрывая и извращая следы своего участия, а иногда даже приходя с лицемерною и позднею помощью. Коварство — главное свойство отравления. Оно — продукт слабости, а не силы, — ненависти и корысти, но никогда не гнева. Из этих свойств отравления вытекает трудность собрания доказательств, из них же вытекает, с другой стороны, и возможность широких предположений и догадок, не всегда основанных на действительных обстоятельствах или на верной и спокойной их оценке. Когда предлагается вопрос об отравлении, первое, что должно занять внимание, — это вопрос о том, было ли отравление? Не имеем ли мы дела с естественной смертью? Если найдено, что отравление было, тогда, естественно, взоры обращаются к тому, кто заподозрен. Изучается его личность для того, чтобы определить, был ли он способен на такое преступление, и затем рассматриваются его отношения к покойному. Они должны содержать ответ на то, была ли причина ненависти, был ли повод к такому ее проявлению. Но это далеко не все. Этого достаточно для того, чтобы заподозрить человека. Но для того, чтобы обвинять, необходимо, чтобы между отравою и личностью заподозренного была связь, было соединение, смычка. Для того же, чтобы обвинить, чтобы выразить не мимолетное мнение, а обдуманный и взвешенный приговор о судьбе человека, всегда необходимо, чтобы это соединение было прочно, чтобы оно выдерживало серьезный напор возражений.
Нет сомнения, что в большинстве дел об отравлении нельзя искать и странно было бы требовать прямых доказательств виновности. Самая природа преступления противоречит этому. Могут быть только улики, только косвенные доказательства, из которых должно складываться предположение о виновности, о том, что именно это лицо дало этот яд и что иначе объяснить себе его присутствие в организме невозможно. Предположение это должно быть веское, должно покоиться на твердо установленных данных дела. Если житейский опыт, если обстоятельства дела говорят, что это предположение самое правильное, что оно естественно и неуклонно вытекает из сведений о личности обвиняемого, об его отношениях к отравленному, об его действиях, то смычка между личностью обвиняемого и найденным ядом существует, и обвинение тем более доказано, чем прочнее эта смычка. Но если, наряду с предположением о существовании связи между личностью обвиняемого и ядом, можно представить несколько противоположных, но равно правдоподобных, равно логичных и практических соображений и предположений, основанных тоже на прочно доказанных фактах дела, то смычка может быть разорвана и обвинение должно оказаться шатким.
Итак, умер ли Николай Познанский естественною смертью или от яду? Вы слышали экспертизу. Она произведена профессором-специалистом при участии прозектора и полицейского врача, которые, по своей специальности, особенно привыкли обращаться с трупами и видели на своем веку многих людей, умерших естественною смертью или насильственною, от своей или чужой руки. Двое последних сами производили вскрытие Николая Познанского и говорят нам не о том, что слышали от других или прочли, а о том, что видели. Вы знаете, как шло их исследование. Они двигались ощупью, боясь ошибиться, тщательно исследуя почву под ногами. Они долго колебались, прежде чем произнесли роковое слово — отравлен. Они призывали к себе на помощь других специалистов и, в окончательном результате свидетельствуют здесь, что Познанский лишился жизни от приема морфия в количестве, достаточном для причинения смерти взрослому человеку. Когда экспертиза произведена знающими людьми и с тою осторожностью и недоверчивостью к себе, которые вызываются ее важностью для дела — ей можно верить. Вы, конечно, можете ее отвергнуть, но так как, вероятно, вы этого не сделаете, то вам надо будет перейти к рассмотрению сведений о личности Жюжан, о характере и свойстве отношений ее к покойному.
В этом отношении данные дела разделяются на две группы — за и против Жюжан. К первой группе относятся показания свидетеля Мягкова, квартирных хозяек подсудимой и письма, написанные к ней и о ней, представленные вам на суде. У вас может явиться мысль, что те, кто в письмах так горячо относится к ней, так молит бога поддержать ее в несчастии, лучше бы сделали, если бы явились сюда подкрепить живым словом свое письменное участие к Жюжан. Но я должен вам объяснить, что свидетели такого рода могли явиться лишь в случае вызова их подсудимой). Явка в суд и продолжительное ожидание допроса не всегда признаются приятною обязанностью, а эти лица принадлежат к тем, в среде и в заведениях которых Жюжан давала уроки. Если она уверена в своей невиновности, если она питает надежду выйти из суда оправданною, естественно, что она не хочет тревожить тех, к кому ей, может быть, придется обратиться потом за помощью, — и она ограничивается их письмами. Вам было представлено весьма характеристическое разделение знакомых Жюжан на два слоя. В одном Жюжан была строгою, высоконравственною воспитательницею, в другом — сама собою, со всеми порывами страстной французской натуры, вращающейся в среде русского распущенного добродушия. Свидетельство, идущее из первого слоя, должно поэтому рисовать перед вами не настоящую, а искусственную Жюжан — и не заслуживает доверия. Вы оцените основательность такого разделения знавших Жюжан, но вы примете, однако, во внимание живые национальные особенности подсудимой, при которых, быть может, ей было бы трудно постоянно играть роль и раздвояться, а также и то, что ее квартирные хозяйки едва ли могут быть отнесены к первому слою.
Вторая группа данных весьма разнообразна. Прежде, чем оценивать их, я советую вам припомнить, что обыкновенно, когда преступление или какое-нибудь тягостное событие взволновывает и иногда даже совершенно разбивает какой-нибудь кружок или семью, то подозрения и предположения, спавшие мертвым сном до события, вдруг всплывают наружу самым неожиданным образом. Тут появляется обыкновенно то, что можно назвать предусмотрительностью задним числом. Рядом с этим, подозрительность нередко внушает такое одностороннее истолкование фактов, что на деле, рядом с серьезными уликами, образуются излишние наслоения, лишенные внутреннего содержания пузыри.
Обязанность суда, господа присяжные заседатели, срезать эти наслоения, снять эти пузыри. К таким данным, которые можно без ущерба для справедливости выбросить совершенно из соображений по делу, относятся — рассказ о котлетах, поданных накануне смерти Николаю Познанскому и возвращенных в кухню «в растерзанном виде», и рассказ о подкупе подсудимою няни Рудневой. История о котлетах явилась на суде так неожиданно, так непроверенно и неопределенно, что ей нельзя придавать значения, а о подкупе Рудневой тоже трудно сказать что-нибудь точное. Могло быть недоразумение, весьма понятное между русскою нянею и француженкою, не умеющей правильно употреблять слова «свой», «себе». Но суд должен иметь дело с фактами, а не с недоразумениями. Здесь говорилось много о поведении Жюжан во время похорон Познанского и в первое время по получении известия о его смерти. Поведение подсудимой, после совершения приписываемого ей преступления, может быть рассматриваемо двояко: как ряд действий, выражавших стремление скрыть следы преступления, отклонить или направить исследование на ложный путь, или как ряд поступков, слов, движений, выражающих душевное ее настроение. Действия для скрытия следов преступления должны подлежать тщательной проверке; иногда они содержат в себе неотразимые указания на виновность. Но душевное настроение обвиняемого после приписываемого ему преступления — это скользкая почва, на которой возможны весьма ошибочные выводы, произвольность которых бывает связана с отсутствием каких-либо для них границ. Лучше не ступать на эту почву, ибо на ней нет ничего бесспорного. Подсудимая целовала голову отца Познанского, убирала гроб его сына цветами, ночевала невдалеке от трупа; встревоженная и ослабевшая, по словам юнкера Бергера, в первую минуту, она была потом, по-видимому, спокойна и только на последней панихиде впала в истерику и звала госпожу Познанскую, от которой перед тем получила на память запонки отравленного. Какая закоренелость, какое преступное бездушие!— воскликнут одни… А быть может спокойствие сознаваемой невиновности — ответят другие. Где правда? Где мерило для оценки значения душевного настроения Жюжан? Несомненно лишь то, что горе, которое, как близкая в семье Познанских, Жюжан должна была чувствовать, если она была невиновна, могло выразиться в ряде действий, о которых я только что сказал. И свидетели, и подсудимая — в этом согласны. Но законов для выражения горя не существует. Горе pi радость, больше чем все другие душевные настроения и порывы, не подходят под какие-либо психологические правила. Все зависит от личных свойств, от темперамента, от нервности, от обстановки, от впечатлительности. Одного горе поражает сразу и «отпускает» понемножку; другие его принимают бодро и холодно, но хранят его в душе, как вино, которое тем сильнее, чем старше. От одного и того же нравственного удара один человек застывает и, уходя в себя, не в силах даже облегчить себя слезами, тогда как другой разливается рекою слез. Вот почему, господа, вы можете оставить поведение Жюжан, после смерти Познанского, без рассмотрения. Но если вы пожелаете ему придать значение, то в интересах правосудия, советую вам смотреть на него, как на последнюю дополнительную черту к преступлению, которое перед вами «доказано», а не как на улику, «доказывающую» преступление, в котором обвиняется подсудимая.
Когда эта группа данных будет очищена от излишних наслоений, в ней останется ряд показаний об отношениях между Жюжан и покойным Познанским. Подсудимая говорила здесь, что все существенное, что показывают эти свидетели, — ложь или, как она выразилась, «вранье». Вы припомните весь ряд этих свидетелей, начиная с шести молодых учащихся людей, в обществе которых Жюжан, по их словам, допускала слишком вольное с собою обращение, переходя к няне Рудневой и горничной Яковлевой, которые слышали от нее сознания, исполненные грязных подробностей о ее связи с иевышедшим еще из отрочества Познанским, и кончая Татьяною Казанской, которая, не щадя и себя, нарисовала пред вами последствия ее пированья с Жюжан. Если вы найдете, что все эти свидетели, несмотря на разность лет, положений и отношений к Жюжан, несмотря на связующую их всех присягу, поголовно говорят ложь, вы отвергнете их показания, и в деле останется пробел, который трудно будет чем-либо наполнить; но если вы не отвергнете эти показания, то вам придется припомнить существенные их черты и дополнить рассказами Николая Познанского. Эти существенные черты содержат в себе указания на первоначальную нежность отношений между Жюжан и ее учеником, которого расположил к ней ее веселый, необидчивый нрав, на довольно скорый переход от нежности к страсти со стороны Жюжан и к пробуждению инстинктов в Познанском, последствием которого явились их близкие отношения между собою. Если признавать существование этих отношений, то необходимо иметь в виду, что по самой разности лет отношения эти не могли долго оставаться одинаковыми. По естественному ходу вещей, каждый месяц должен был приближать подсудимую к старости, каждый месяц должен был открывать перед мужавшим отроком, который притом пользовался полною свободою, новые горизонты и возможность иных, лучших отношений. Отсюда могли, по мнению обвинителя, вытекать охлаждение, с одной стороны, и стремление удержать за собою привязанность юноши, с другой стороны, стремление, от которого легок переход к ревности. Житейский опыт поможет вам, господа присяжные, осветить эту часть дела надлежащим образом, а память восстановит разные мелочные подробности, о которых вы слышали преимущественно при закрытых дверях. Для оценки характера этих отношений, во всяком случае, не следует забывать неотвергаемой и самою подсудимою сцены ссоры с Николаем Познанским, начавшейся требованием Познанского, чтобы Жюжан увели из его комнаты,, за что она взяла его за ухо, и кончившейся тем, что приведенного в исступление юношу пришлось крестить и запирать на ключ. Не надо упускать из виду и того цинического выражения покойного о Жюжан, которое написал вчера, по моему предложению, на бумаге гимназист Соловьев. Если вы поверите ему, что такие именно слова были произнесены Познанским в кругу товарищей, то вы, конечно, найдете, что в них нет следа любви, нежности или просто даже уважения, с которым обыкновенно относится молодое существо к предмету своей привязанности, и что они представляют собою выражение грубого, чувственного молодечества, от которого недалеко до охлаждения и даже до отвращения. Когда пред вами, так или иначе, выразится Жюжан в отношениях своих к Николаю Познанскому, вам придется вернуться к причине смерти его — отравлению и удостовериться, существует ли между ядом в теле Познанского и Маргаритой Жюжан та связь, та смычка, о которой я вам говорил.
Данные, которые должны смыкать отравителя с его жертвою, распадаются на два неизбежных звена: желание причинить вред и самое причинение вреда. Они должны быть тесно связаны одно с другим, они немыслимы, при умышленном отравлении, одно без другого.
Рассматривая вопрос о желании Жюжан причинить вред или погибель Познанскому, вы прежде всего остановитесь на доносе. Он был подвергнут двоякой экспертизе, по содержанию и по способу письма. Защита доказывала вам, что каллиграфическая экспертиза вообще не заслуживает доверия. Я должен сказать, что хотя такая экспертиза в последнее время, в особенности во Франции, и сделала большие успехи, но она еще не достигла полной степени совершенства. Здесь, впрочем, экспертом Буевским был употреблен не только прежний прием сравнения очертания букв, но и новый прием исследования «привычек» письма. Поэтому экспертиза эта представляется произведенною с достаточною полнотою. Рядом с нею идет экспертиза «стиля», т. е. языка доноса. Если б экспертизы расходились или противоречили одна другой, их бы следовало исключить из числа соображений, но они сходятся в выводах. Вы столь внимательно вникали в производство их, сами тщательно рассматривая, читая и сличая донос, что, конечно, придете в оценке экспертиз этих к правильному выводу. Напомню только, что эксперты второго рода признали, что донос написан человеком, владеющим французским языком, но с такими грубыми ошибками, которых не нарочно не может сделать знающий язык и не делают обыкновенно учащиеся языку. Мог ли русский лакей Василий, прислуживавший на гимназической пирушке, написать такое письмо — разрешите вы сами.
Переходя к обсуждению значения этого доноса, приходится встретиться с двумя крайними мнениями. Защита, не допуская вообще возможности написания такого доноса, высказывает предположение, что если б он и был написан подсудимою, то не иначе, как в виде шутки, необдуманной и глупой, но все-таки шутки. Обвинение видит в доносе проявление глубокой и долго сдерживаемой ненависти против Познанского и всей его среды. Это крик неразборчивого и ослепленного мщения, желающего гибели отнимаемому и отнимающим. Вы припомните обстановку подсудимой и то, что она всего более была близка с семейством, где она не могла не слышать неоднократно о том, какие тяжелые результаты могут иметь обвинения вроде тех, которые взводятся в доносе на Познанского и товарищей его, где она не могла не понять, каким, в тревожные времена, опасным оружием является донос с обвинением «е дистиллировании ядов для целей образовавшегося заговора». Вы определите, таким образом, могла ли здесь быть только шутка и для чего было так странно шутить. Если окажется, что это мало похоже на шутку, то придется обратиться к предположению обвинения в том, что желание погубить Николая Познанского было довольно несомненным. Но, обсуждая обвинение с этой стороны, следует, однако, разрешить вопрос: было ли это исключительное желание гибели этого юноши, суда над ним, строгой кары, которая отразилась бы на всей его жизни? Не был ли донос вызван желанием вернуть к себе охладевающего юношу, которого отвлекает кружок молодых людей и девушек, и для этого разогнать, распугать этот кружок производством о них какого-то «дела», которое, без сомнения, кончилось бы пустяками, ибо не имело бы фактических оснований, но которое заставило бы испуганных родителей принять меры, чтобы дети побольше сидели дома, с книгами и друзьями, вроде Маргариты Жюжан, и поменьше бывали в навлекающем подозрение кружке. Вы оцените каждое из этих трех возможных объяснений доноса и остановитесь на том, которое ближе других к жизни и характеру подсудимой.
Второе звено — причинение вреда — должно заставить вас тщательно обсудить ряд предположений, высказанных на следствии и вытекающих из дела. Но прежде всего два слова о предположении самой подсудимой, помещенном в обвинительном акте и о котором говорил здесь полковник Познанский. Хотя о нем в прениях не упоминалось и самая чудовищность такого обвинения против родителей, по-видимому, остановила и Жюжан от повторения его на суде, но я все-таки считаю нужным напомнить вам отношения семьи к покойному, воспоминания о которых должны изгладить самый след такого подозрения. Вы найдете, может быть, что в семье этой, к сожалению, невмешательство в поведение сына основывалось не на разумной свободе действий, а на смутной неопределенности отношений, и что между распущенностью перезрелого организма, с одной стороны, и неокрепшим духовно и физически организмом сына — с другой, родительская власть не становилась, как преграда, не только законная, но в данном случае даже обязательная. Но вы найдете также, без сомнения, в показаниях родителей, данных пред вами, такую горячую любовь к сыну и такую глубокую скорбь о его безвременной кончине, что вы решительно отвергнете всякую, даже отдаленную, возможность мрачного предположения Маргариты Жюжан. Оно не более, как змейка, которая скользнула по делу, никого не успев ужалить. Затем, вы придете к ряду предположений, заслуживающих внимания и разбора. При этом вы не забудете, конечно, что яд, который найден в теле покойного, найден после весьма сложных исследований со стороны специалистов и в лекарстве, которое принимал покойный. Йодистый калий, который находится здесь пред вами в склянке, содержит в себе, вопреки сигнатурке аптеки, морфий в таком количестве, что столовая ложка раствора заключает в себе около трех гранов морфия. Это обстоятельство надо иметь в виду при всех соображениях, и в какие бы предположения о причинах смерти мы ни вдавались — лекарство с морфием должно служить компасом, не допускающим слишком уклоняться в сторону произвольных выводов. Первое предположение — случай. Возможно ли отравление случайное? Морфий, как показали свидетели, был обыкновенным лекарством полковника Познанского. Он не очень охранялся. Он составлял домашнее снадобье, находившееся всегда под рукою. В деле нет непреложных указаний, чтоб он не мог попасть в комнату или в руки Николая Познанского. Йодистый калий принимался с прибавлением яблочно-кислого железа. От прибавления морфия вкус, по мнению экспертов, значительно измениться не мог. Николай Познанский был болен краснухою, которая вызывает слабость глаз, он носил консервы и мог смешать железо с морфием. Обсуждая это предположение, вы не забудете, однако, что морфий был в порошке, который приходилось бы «всыпать» в склянку или в ложку, а яблочно-кислое железо было прописано в каплях, которые приходилось бы «вливать»; что покойный вообще не принимал лекарства ночью и что он был до крайности, как видно из нескольких эпизодов, осторожен относительно здоровья и употребления лекарств.
Второе предположение — ошибка аптеки, о которой прежде всего стала думать и говорить госпожа Познанская, найдя в комнате сына склянку с белыми потоками, а на губах сына смытый ею осадок белого порошка. Ошибки аптек и неосторожные, вследствие этого, отравления возможны и, как показывает судебная практика, хотя не часты, к счастию, но все же иногда бывают. Николай Познанский принял с 16 апреля не менее четырех ложек — и следов отравления не было. Вы не забудьте, что раствор Kali jodatum [9], в момент смерти Николая Познанского, содержал на каждую ложку такое количество морфия, которого достаточно, чтобы отравить взрослого человека.
Третье предположение — самоубийство. В последние годы, господа присяжные заседатели, наше общество страдает тяжелым нравственным недугом. Развитие его не может не озабочивать всякого мыслящего человека. Недуг этот — самоубийство. Известиями о лишивших себя жизни полны вседневные известия газет. Быть может, недуг этот врывался и в среду близких или знакомых нам людей. В этом явлении есть одна особенно тяжелая сторона. Лишают себя жизни не только люди утомленные, пресыщенные или измученные жизнью, самоубийство простерло свое черное крыло и над юностью, и над детством, когда ни о пресыщении, ни об утомлении не может быть и речи. Здесь не место исследовать причины этого явления, но нельзя не заметить, что иногда, при рассмотрении обстоятельств жизни некоторых юных самоубийц, оказывается, что они вступили в жизнь, предъявляя к ней большие и нетерпеливые требования, богатые сырым материалом знаний и бедные душевною жизнию, равнодушные к вечным вопросам веры и преждевременно разочарованные. Жизнь никому не дает пощады, и когда она наносит свои первые удары таким людям, пред ними сразу меркнет всякая надежда, смущенная душа ни в чем не находит опоры, да и не умеет ее искать, и они в бессильном отчаянии опускают руки, а затем — поднимают их на себя.
Вглядитесь в личность Николая Познанского и обдумайте, принадлежит ли он, по свойствам своим и воспитанию, к таким людям, были ли у него причины тяготиться едва начинавшеюся жизнью и поводы к разлуке с нею? Вы слышали, что в дневнике своем он выражает недовольство собою, с холодным потом вспоминает последствия волнения, в которое была приведена его кровь с 14-летнего возраста; боится разочарования и неизбежного, по его мнению, одиночества в жизни и с горем сознает, что потерял веру в бога, которую ему ничто уже возвратить не может. В этом же дневнике он огорчается на нравящуюся ему девушку и предвидит, что ему или его сопернику рано или поздно придется переселиться в лучший мир… Если эти места дневника возбудят в вас предположение о самоубийстве, то вам придется тщательно обсудить вопросы, зачем он отравился посредством лекарства, а не прямо? Зачем морфием, а не ядом из сильнейших и быстрейших ядов — цианистым калием, который был у него в лаборатории в большом количестве? Почему по примеру большинства образованных самоубийц, лишающих себя жизни не в припадке безумия, не оставил он предсмертной записки, нескольких слов о том, что в его смерти никто невиновен, чтобы иметь возможность уничтожить подозрения на невинных? Вы сопоставите также это предположение с указанной многими свидетелями любовью его к жизни и страхом смерти, о которой он не любил даже говорить или слышать, а при оценке степени его огорчения на госпожу Плюцинскую припомните те два письма, которые были прочитаны вчера. Эти письма явились, как две светлые точки, как два чистых звука среди массы неприятных и нечистых подробностей вчерашнего заседания. Они делают честь людям, их писавшим, и отнюдь не содержат в себе указания на огорчение, могущее довести до самоубийства. Наконец, надлежит припомнить дневник во всем объеме, прочитанном на суде. Рядом с недовольством собою, с горькими открытиями об «отношениях к женщинам и к родителям» Николай Познанский выражает в нем заботу о здоровье, стремление воздерживаться от пылкости, жажду деятельности и славы, желание облегчить родителей своим трудом, надежду на успех в музыке и медицине. «Я свой собственный кумир, — говорит он, — я люблю себя, как нежная мать свое дитя». «Работы! Работы!»— восклицает он в другом месте. Вообще я должен сказать вам, что дневник всегда является доказательством, к которому надо относиться очень осторожно. Кроме тех редких случаев, когда дневник бывает результатом спокойных наблюдений над жизнью со стороны взрослого и много пережившего человека, он пишется в юности, которой свойственно увлечение и невольное преувеличение своих ощущений и впечатлений. Предчувствие житейской борьбы и брожение новых чувств налагают некоторый оттенок тихой грусти на размышления, передаваемые бумаге, и человек, правдивый в передаче фактов и событий, обманывает сам себя в передаче своих чувств и мнений. Притом — и всякий, кто вел дневник, вероятно, не станет отрицать этого — юноша обыкновенно почти бессознательно отдается представлению о каком-то отдаленном будущем читателе, к которому попадет когда-нибудь в руки дневник и который скажет: «Какой был хороший человек тот, кто писал этот дневник, какие благородные мысли и побуждения были у него» — или «как бичевал он себя за свои недостатки, какое честное недовольство на себя умел он питать». Поэтому дневник может служить скрепою и дополнением между другими уликами, но как к самостоятельному доказательству к нему надо относиться весьма осмотрительно.
Четвертое предположение — отравление постороннею рукою. Здесь вы встретитесь неизбежно с обвинением, взводимым на Жюжан. Вы обсудите его со всем вниманием, призвав на помощь вашу совесть, разум и житейский опыт. Вы выведете решение, которое вам подскажет первая и которое не должно противоречить ни второму, ни третьему. Я только напомню вам, что Жюжан, пред уходом, около часу ночи, давала лекарство Познанскому, что в седьмом часу Лидия Шульц слышала у него в комнате стук, похожий на чирканье спичкой и удар твердым телом, что в 9 часов он был найден еще теплым, в необычном положении на своей постели, что, по мнению экспертов, при отравлении морфием, до наступления спячки, возможны конвульсивные движения и что срок смерти зависит от особенностей организма и состояния желудка, что покойный не ужинал и принял слабительное и что, наконец, по словам свидетелей, Жюжан выражала особое опасение за его здоровье, когда другие такой опасности не замечали. В этих данных и в тех подробностях, которые вы припомните из дела, вы будете черпать основы для суждения о том: была ли смерть Познанского делом рук Жюжан и есть ли это самое сильное и прочное из всех предположений, которые можно сделать в этом деле…
Порядок совещаний ваших вам известен: решение постановляется по большинству, при равенстве голосов решение основывается на голосах, благоприятных подсудимой. Сомнение, строго продуманное и оставшееся таким после тщательного разбора, толкуется в пользу обвиняемого. При признании виновности во всяком случае вы можете дать снисхождение. Закон требует, чтобы оно было основано на «обстоятельствах дела». Но из всех обстоятельств дела, конечно, самое главное — сам подсудимый. Поэтому если в его жизни, в его личности, даже в слабостях его характера, вытекающих из его темперамента и его физической природы, вы найдете основание для снисхождения, вы можете к строгому голосу осуждения присоединить слово христианского милосердия. Вашему разрешению подлежит трудное дело. Желаю вам выйти из него с величайшею принадлежностью судьи — спокойною совестью пред обществом, которое вы должны ограждать и от осуждения невиновных, и от безнаказанности виновных.
КАССАЦИОННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Фото А. Ф. Кони Петербург, начало 1880-х годов
ПО ДЕЛУ БЫВШЕГО НОТАРИУСА НАЗАРОВА, ОБВИНЯЕМОГО ПО 1525 СТАТЬЕ УЛОЖЕНИЯ *
Правительствующему Сенату предстоит произнести решение по делу, существо которого возбудило и при его возникновении, и при дальнейшем судебном движении горячий интерес и самые противоречивые толкования. Но на спокойной высоте кассационного разбирательства, не простирающегося на чуждую ему область существа дела, задача сводится лишь к разрешению одного вопроса: были ли в деле употреблены все указанные законом способы для выяснения истины? И если при этом выяснении были шаги поспешные, односторонние или излишние, то не было ли затруднено их разъяснение и направление? Вопрос этот, совершенно независимо от обстоятельств дела, разрешается на основании законов и общих начал, выводимых из многолетней кассационной практики. Такими началами, по отношению к настоящему делу, могут быть признаны следующие: все, что может быть на судебном следствии проверяемо, а также разъясняемо и опровергаемо объяснениями сторон, относится к нарушениям несущественным; всякий вред от преступления, как материальный, так и личный, делает человека, коему он причинен, потерпевшим от преступления; судебное состязание имеет целью выяснить истины совокупною работой и состязанием равноправных сторон, а не личное единоборство равных по количеству сил, и, наконец, предварительное следствие, в тех его частях, которые могли быть обжалованы и были обжалованы установленным порядком, не подлежит оценке кассационного суда.
Руководясь этими началами, надлежит рассмотреть и те три отдела кассационных поводов, которые указаны в жалобе. Первый из них — нарушения при предварительном следствии. Едва ли нужно подробно останавливаться на объяснениях кассатора об обязанности судебного следователя Сахарова устранить себя от производства следствия на основании 274 статьи Устава уголовного судопроизводства и на неисполнении судом требования 273 статьи Устава уголовного судопроизводства об отводе его, так как под причины для отвода судей и следователей, указываемые 600 статьей Устава уголовного судопроизводства, настоящий случай не подходит ни прямо, ни косвенно. Кроме того, Правительствующим Сенатом еще в 1869 году № 808 и 899, по делам Вуколова и Ибрагим-Бек-Аллахверды, разъяснено, что в кассационном порядке никакие жалобы на пристрастное производство следствий не допускаются, а подлежат разрешению суда и палаты по 491—509 статьям Устава уголовного судопроизводства. При этом Правительствующий Сенат в 1875 году, по общему собранию, признал по делу Мясоедова и Сабурова, что 507 статья Устава уголовного судопроизводства, говорящая о передаче следствия от одного следователя другому, применяется не только в случае признания действий его неправильными, но и при простом обнаружении пристрастия с его стороны, т. е. весьма расширил власть суда по осуществлению прав, установленных этою статьей. Поэтому суд, усмотрев пристрастие следователя, всегда мог взять от него производство. Жалобы Назарова на действия следователя и ходатайства его об изъятии от него следствия были в рассмотрении суда и судебной палаты и оставлены ими без последствий. Затем ныне вопрос этот обсуждению кассационного суда подлежать не может.
Обращаясь к указаниям на другие нарушения, прежде всего надо заметить, что Правительствующим Сенатом издавна (1868 год, по делу Лаланд, 1870 год, по делу Пасечникова, 1875 год, по делу игуменьи Митрофании и 1876 год, по делу Овсянникова) твердо установлено, что следственные действия не подлежат обжалованию в кассационном порядке, так как следствие доставляет лишь материал для разрешения вопроса о предании суду — материал, подлежащий переработке и проверке на суде. Из этого общего правила должно быть, однако, сделано одно исключение, а именно тот случай, когда жалобщик был лишен возможности обжаловать следственные действия, нарушающие его права, и если, как сказано в решении № 695 за 1868 год, по делу Никитина и Максимова, нарушения эти не могли быть исправлены на суде и притом доказано, что они могли иметь и имели положительное влияние на решение присяжных заседателей. Доказано ли, что Назаров был лишен права и возможности обжалования действий судебного следователя? Нет. Он воспользовался своим правом вполне. Будучи привлечен 23—24 декабря 1884 г. и допрошен 29, он подал ряд жалоб, последняя из которых рассмотрена судом 12 сентября 1885 г. Постановления суда по большей части из этих жалоб были им обжалованы судебной палате. В докладе, только что выслушанном, они перечислены в подробности. Следовательно, право свое доказывать неправильность следственных действий Назаров осуществил невозбранно. Он не был стеснен и в пользовании материалом для жалоб. Следствие было, как указано в том же докладе, открыто для его обозрения после его привлечения, окончательно предъявлено ему, как заключенное, 28 августа 1885 г. и затем еще раз, по получении дополнительных сведений, 2 октября. Но и после этого он имел право обжаловать неправильности следствия, ибо решениями по делам Лаланда 1868 года, № 34, и Овсянникова 1876 года, № 97, признано, что и после поступления дела в суд с обвинительным актом все вновь усмотренные обвиняемым следственные нарушения могут быть обжалованы во время предварительных к суду распоряжений, в порядке, установленном 547—549 статьями Устава уголовного судопроизводства. Эти распоряжения продолжались в настоящем случае до мая 1886 года. Таким образом, о существенном нарушении прав обвиняемого непредъявлением ему следствия не может быть и речи, существо же определений палаты и суда кассационному суду рассмотрению подлежать не может. Разнообразные указания Назарова на неправильности следствия обсуждались в двух инстанциях и неоднократно, вызывая отмену некоторых неосновательных распоряжений следователя. Так, было отменено его постановление об обязании Назарова представить требование о дополнении следствия в семидневный срок и признана недействительною по приемам и нецелесообразною экспертиза душевного настроения Черемновой — чрез артисток драматической труппы. Поэтому на первый вопрос о существовании условий, при которых кассационный суд может рассматривать предварительное следствие, ответ должен быть отрицательный.
Но если бы он и не был таков, то второй вопрос все-таки разрешается не в том смысле, как решает его кассатор. Хотя судебная палата, предавая Назарова суду, удостоверила, согласно требованию 534 статьи Устава уголовного судопроизводства, что следствие произведено без нарушения существенных форм и обрядов судопроизводства, но кассатор доказывает, что таким существенным нарушением следует считать допрос свидетелей об образе жизни, связях и занятиях Назарова, тогда как об этом могло быть исключительно произведено лишь дознание чрез окольных людей, установленное 454 статьей Устава уголовного судопроизводства. По мысли кассатора, обстоятельства, удостоверяемые повальным обыском, никоим образом не могут быть предметом свидетельских показаний. Иными словами — все, что не относится непосредственно к факту преступления, что не входит в материал для установления состава преступления — все это, если оно касается обвиняемого, может быть добыто лишь путем повального обыска. Такой взгляд представляется крайне односторонним. Дознание чрез окольных людей имеет двоякую цель: собрать необходимые для разъяснения дела или же для проверки ссылки подсудимого сведения о его личности и поведении, т. е. об образе жизни, связях и занятиях, и не отвлекать от обычных условий жизни многих лиц, могущих дать такие сведения. При выработке и начертании статей 454—466 Устава уголовного судопроизводства эта двоякая цель была прямо указываема. Сведения о поведении обвиняемого, состоящие в подробных и ясных данных о занятиях, связях и образе жизни его, необходимы, — говорилось в комиссии по составлению Судебных уставов, — в делах, где существуют одни лишь улики. «Без них такие дела были бы не ясны и для судей, и для присяжных заседателей, причем предъявление таких сведений не может ввести последних в заблуждение, ибо председатель суда обязан предостеречь их от неосторожных заключений по этому предмету. При суждении о степени виновности невозможно обойтись без соображения поступка подсудимого с прошедшею его жизнью!» При этом было высказано, что «судом всегда судится не отдельный поступок подсудимого, но его личность, насколько она проявилась в известном противозаконном поступке; преступление, составляющее в жизни подсудимого изолированный факт, не может иметь пред судом одинакового значения с тем, которое проистекает из глубоко укоренившейся наклонности ко злу, а эта большая испорченность может явствовать не только из справки о судимости, но доказывается и другими предосудительными поступками обвиняемого, не подлежавшими судебному разбирательству, по отзывам людей, коротко его знающих и заслуживающих доверия». Рассуждая таким образом, составители статей с дознании чрез окольных людей признавали, что «сведения о личности подсудимого можно почерпать и из свидетельских показаний, для чего не представляется безусловной невозможности», но усматривали вместе с тем в тягостной повсюду, и в особенности в России, обязанности личной явки свидетелей в суд важное, почти равносильное невозможности, неудобство, так как вызов значительного числа свидетелей сначала к судебному следователю, а потом в суд, при наших огромных расстояниях, был бы сопряжен с большими затруднениями и увеличил бы чрезмерно судебные издержки.
Рассматривая подробно статьи Устава, говорящие о дознании чрез окольных людей, мы найдем, что процедура дознания, установленная ими, возможна лишь в селениях и маленьких местечках и городках. В больших городах, и особливо в столицах, этот способ собирания сведений совершенно неприменим. Ни домохозяева одного околотка с обвиняемым, ни старшие в их семействах лица, о которых говорит 457 статья Устава уголовного судопроизводства, не могут в действительности дать никаких указаний не только об образе жизни, но даже и о наружности обвиняемого, живущего обособленною столичною жизнью в населенном квартале, среди каменных громад, жители которых обыкновенно вовсе незнакомы между собою. Расспрос отдельных, определенных групп людей, применяясь к 457 статье, был бы нецелесообразен, ибо допрос сослуживцев, сотрудников и начальства может выяснить личность лишь с одной официальной или профессиональной стороны, да и по условиям служебного быта будет, по большей части, довольно бесплоден по своим результатам; допрос прислуги и домовой администрации давал бы крайне односторонний и во многих случаях даже опасный, ввиду степени развития допрашиваемых, материал. Следует ли из этого, что за отсутствием разумной возможности произвести дознание чрез окольных людей, надо совершенно отказаться от собрания тех сведений, необходимость которых признается, однако, ст. 457 Устава уголовного судопроизводства? Но в таком случае не обратится ли спрос окольных людей в привилегию жителей маленьких местечек, а у городского и столичного жителя не будет ли отнята возможность сослаться и, в свою очередь, на людей, рассыпанных спорадически в разных уголках этого города, и требовать, чтобы было выслушано их мнение, основанное на давнем знакомстве, о том, способен ли такой обвиняемый на совершение того, что ему приписывают и в чем он не признает себя виновным? А, между тем, такой допрос в некоторых случаях существенно необходим. Знаменитая надпись в судилище Венецианской республики, гласившая судьям «ricordatevi del povero fornajo», — «вспоминайте о бедном (т. е. невинно казненном) хлебнике», одинаково применима и к случаям осуждения только на основании сведений о дурном характере, и к случаям осуждения только на основании преступного факта, который может быть следствием несчастного и рокового стечения внешних обстоятельств и против которого, вместе с заподозренным, громко вопиет безупречная и чуждая злу прошлая жизнь подсудимого. Поэтому в тех случаях, когда сведения о личности обвиняемого необходимы, как освещающие темные стороны преступного дела, и если, по условиям места, дознание чрез окольных людей было бы нецелесообразно и даже вовсе не осуществимо, возможен допрос свидетелей, указания на которых почерпнуты путем дознания или ссылки самого обвиняемого. Приведенные мотивы к ст. 454 не отрицают такого допроса, если вызовом этих свидетелей они не ставятся в необходимость бросать надолго свои занятия и место своего жительства и удаляться от них на большие пространства. Есть даже случаи, где и при возможности произвести дознание на месте его приходится заменить допросом свидетелей. Таковы, например, случаи, предусмотренные пятым пунктом 707 статьи Устава уголовного судопроизводства, когда явится необходимость допросить окольных людей в местечках, населенных евреями или раскольниками, по делу о их бывшем единоверце, обратившемся в христианство или православие. Здесь поневоле придется допрашивать свидетелей, стоящих вне предполагаемой религиозной нетерпимости, дающей обвиняемому право на отвод, по 462—464 статьям Устава уголовного судопроизводства, всех своих бывших единоверцев. Затем, практикой Правительствующего Сената по делам Рыбаковской 1868 года, № 829, и по делу Умецких, 1869 года, № 160, допрос свидетелей, характеризующих личность подсудимого, хотя бы произведенный и не в порядке дознания чрез окольных людей, признан не нарушающим его прав и не подлежащим обжалованию, если только показания этих свидетелей были своевременно ему предъявлены и он не был лишен возможности, согласно 449 статье Устава уголовного судопроизводства, представить какие-либо обстоятельства в их опровержение, а решениями по делам Насавина, 1869 года, № 564, и Паскаля, 1876 года, № 185, установлено, что и независимо от дознания чрез окольных людей вопросы о занятиях, образе жизни и связях обвиняемого, как такие, которые не могут быть признаваемы не относящимися к делу, могут быть предлагаемы в судебном заседании, а следовательно, и при следствии каждому свидетелю. Наконец, на возможность и, в некоторых случаях, даже необходимость допроса таких свидетелей указывают и права, принадлежащие сторонам, ходатайствовать о вызове новых свидетелей. Прокурору, в силу 573 статьи Устава уголовного судопроизводства, не может быть отказано в вызове лиц, указываемых им в особом требовании, предъявленном до открытия судебного заседания, хотя бы они и не были допрошены на предварительном следствии или, будучи допрошены, были вычеркнуты обвинительною камерой из списка, как это объяснено в решении по делу Маляревского, № 118, за 1874 год. Очевидно, что между такими лицами могут быть и свидетели о поведении подсудимого. Но если они могут появиться прямо на судебном следствии, то в интересах самого обвиняемого желательно, чтобы они были вызываемы на предварительное следствие, в течение которого с их показаниями можно ознакомиться заранее, до поступления дела в суд, как было, например, в настоящем случае, где ознакомление подсудимого с делом произошло почти за год до заседания, и подготовиться к опровержению и обороне. Судебная практика обыкновенно предоставляет подсудимому широкий простор в вызове свидетелей, могущих сказать что-либо о его личности и в его пользу. От этого приема правосудие ничего не теряет, но живая правда дела иногда много выигрывает. Так было и в настоящем деле, и Назаров широко воспользовался правом вызова благомыслящих о нем свидетелей.
Отрицая безусловно допрос свидетелей о поведении при следствии и ограничиваясь одним дознанием чрез окольных людей, необходимо отрицать и вызов свидетелей со стороны подсудимого на суд, когда они могут показать о нем, а не о деле. Но это значило бы в массе случаев лишать обвиняемого возможности призвать в свидетельство свою прошлую хорошую жизнь и ценою ее испытаний, светлых сторон и добрых поступков приобрести то право на снисхождение, о котором говорилось при начертании 454 статьи Устава уголовного судопроизводства. Поэтому вызов и допрос свидетелей об образе жизни и занятиях обвиняемого, и при следствии и на суде, не представляет собою никакого нарушения. Свидетельствуя о ближайшем прошлом подсудимого, такого рода свидетели, по самой своей роли, не будучи по отношению к нему совершенно случайными людьми, подобно большинству свидетелей факта преступления, могут не быть вполне свободны от пристрастия, могут показывать односторонне, но их показания подлежат проверке на перекрестном допросе, оценке в речах сторон, разъяснению в председательском заключительном слове. Эти показания даются, наконец, под присягой, в торжественной обстановке суда. Почти все эти гарантии отсутствуют при дознании чрез окольных людей, которые не предстоят на суде лично. С этой точки зрения показания таких свидетелей представляют лучшие ручательства правдивости. Необходимо только, чтобы свидетельские показания такого рода действительно относились к делу, т. е. чтобы ими разъяснялись такие стороны жизни обвиняемого, в коих выразились именно те его свойства, которыми вызваны движущие побуждения его судимого деяния или, наоборот, с которыми это деяние стоит в прямом противоречии. Поэтому нельзя отрицать, что там, где, как в данном деле, речь идет о насильственном поругании целомудрия девушки в обстановке, не допускающей посторонних свидетелей, и где оно усложнено еще последующим ее самоубийством, допрос свидетелей о той роли, которую играли в жизни обвиняемою чувственные стремления, и о том, как выражал он в жизни своей взгляд на характер отношений своих к женщинам вообще, не может быть признан совершенно не относящимся к делу. Несомненно, что необходима связь между внутренними свойствами преступления и сведениями о личности. Там, где ее никогда не может быть, сведения эти совершенно излишни. Расточительность обвиняемого, весьма важная, например, в делах о банковых хищениях, не имеет никакого значения при богохулении, а вспыльчивость, имеющая серьезный смысл при обсуждении убийства в раздражении, совершенно утрачивает его при обвинении в государственной измене. По-видимому, судебный следователь переступил в вызове свидетелей для характеристики Назарова за пределы необходимости и занес в свои протоколы обстоятельства, не имевшие отношения к движущим мотивам преступления, в котором обвинялся Назаров. Можно сожалеть, если такие свидетели были внесены судебною палатой в свое определение о предании суду как подлежащие вызову к судебному следствию, но Правительствующий Сенат лишен возможности судить о том, насколько показания их относились к делу или наоборот. Это не входит в его задачу. Это лежит на обязанности обвинительной камеры. Состоя, по словам составителей Уставов, из «опытных юристов», обвинительная камера судебной палаты, рассматривая сырой материал предварительного следствия и выводя из него окончательный вывод в виде утверждения обвинительного акта или составления определения о предании суду, должна устранять все, не идущее к делу и могущее лишь служить к напрасному опозорению личности обвиняемого, безо всякой пользы правосудию. Судебная палата должна стоять на страже частной жизни обвиняемого, ограждая ее от бесцельных вторжений болезненного любопытства, чуждого истинному стремлению разыскать истину. Но если судебная палата признает, по обстоятельствам дела, необходимым вызвать на суд присяжных лиц, допрошенных уже на предварительном следствии, то это ее признание есть окончательное и никакой проверке в кассационном порядке не подлежит. Правительствующий Сенат неоднократно признавал полную невозможность входить в оценку правильности определений палаты в этом отношении. Он допускал лишь отмену предания суду при нарушении, при рассмотрении дела, в самой палате установленных для того форм и обрядов судопроизводства, при нарушении пределов ведомства, при формальной преждевременности этого предания и, наконец, при отсутствии в деянии преданного суду признаков преступления. «Вопросы о том, достаточно ли исследовано дело, — говорится в решении по делу Рыбаковской, 1868 год, № 829, — и если достаточно, то не наполнено ли оно излишними подробностями, могут подлежать суждению только судебной палаты, определяющей результаты предварительного следствия (ст. 534), и окружного суда, поверяющего это следствие на суде; но кассационный департамент Сената, не рассматривающий дела в существе (Учреждение судебных установлений, ст. 5), не может входить ни в какое суждение по этому предмету».
Таким образом, соблюдая постановленные законом и необходимые для устранения смешения судебных функций пределы кассационного разбирательства, надлежит признать, что правильность помещения в определении Московской судебной палаты ссылки на свидетелей, указываемых кассатором, не подлежит проверке Правительствующего Сената. Не может, затем, быть признан нарушением и допрос свидетелей этих на суде. Если бы даже он и представлял собою нарушение, то, для признания его существенным, следовало бы признать, согласно тому, что уже указано выше, что оно непоправимо и имело притом положи-дельное влияние на решение присяжных, Но в чем может состоять непоправимость нарушения? Очевидно, в том, что устранена возможность проверки того, что составляет предмет нарушения. Таким образом, все нарушения при осмотрах, обысках, освидетельствованиях и при составлении актов о них — суть нарушения непоправимые, ибо повторение этих следственных действий по большей части уже не представляется возможным. Сюда относятся вообще упущения, коих, по условиям места и времени, нельзя уже исправить, по крайней мере, нельзя исправить в данном заседании. Сюда относится, например, отсутствие вещественных доказательств, приобщением коих следователь своевременно не озаботился, и т. д. Наоборот, поправимо все, что производится путем допроса; устранимо все, что может быть противополагаемо фактам и фактически опровергаемо. Если только подсудимый имел возможность взвешивать, проверять, опровергать и разбирать представляемые против него доказательства и получил возможность выставлять против них свои, его права не нарушены столь существенно, чтобы можно было говорить об отмене приговора. Суд вообще, а суд присяжных в особенности — не мертвый механизм, а живой организм. Его самодеятельность должна быть направлена на оценку всего, что пред ним происходит — и не излишние показания против подсудимого пред ним опасны, а показания, против которых не предоставлено подсудимому возможности защищаться.
Этот взгляд проведен с полною определенностью в решении 1874 года, № 360, в котором Сенат признал, что допущение допроса свидетелей об обстоятельствах, не имеющих никакого отношения к делу и даже явно клонящихся к бездоказательному опорочению подсудимого, не подлежит проверке в кассационном порядке, если только у подсудимого не была отнята возможность возражать и, следовательно, опровергать все, что он считал для себя невыгодным и бездоказательным. Был ли лишен Назаров возможности бороться против показаний свидетелей о личности? Нет. Во-первых, он знал об этих свидетелях и о сущности их показаний за полтора года до судебного заседания; во-вторых, он имел двух защитников, из которых один, принесший настоящую жалобу, стоял, как видно из протокола, бодро и зорко на защите прав своего клиента, и, в-третьих, Назаров выставил ряд свидетелей в свою защиту и разъяснение дела. Прошением от 4 февраля 1886 г. он просил суд о вызове 44 свидетелей и экспертов, из которых 29 вызывались в опровержение неприятных отзывов о его образе жизни; затем, защитник его Швенцеров просил еще о вызове двух свидетелей и одного эксперта. Определением от 20 февраля 1886 г. окружной суд уважил это ходатайство всецело, за исключением вызова двух свидетелей, показания коих заменялись актом осмотра, и поверенного гражданского истца Плевако, на которого обвиняемый ссылался как на свидетеля о месте и времени предполагаемого преступления, тогда как было несомненно доказано, что Плевако в это время был за пределами России. Затем, имело ли то нарушение, на которое указывает кассатор, положительное влияние на приговор присяжных? Протоколом удостоверено, что при допросе каждого свидетеля председателем были выполняемы статьи 716—718 Устава уголовного судопроизводства, т. е. сделаны также и напоминания об ответственности за ложные показания. На заключительное слово не было сделано никаких возражений или замечаний, и, следовательно, утверждение протокола, что оно было изложено с соблюдением требований 801—812 статей Устава уголовного судопроизводства, должно быть понимаемо в том смысле, что значение показаний об образе жизни Назарова и их отношение к предмету обвинения были разъяснены председателем. Вопрос присяжного о том, раскаивается ли Назаров в карточной игре, не может служить Доказательством обнаружения мнения о вине подсудимого в преступлении изнасилования. С гораздо большим основанием он может быть рассматриваем как желание знать, признает ли обвиняемый приписываемый ему факт.
Обращаясь, наконец, к указанию на неправильное расположение материала предварительного следствия, выразившееся в том, что обвиняемый был привлечен лишь после допроса ряда свидетелей, я нахожу, что это указание не подлежит рассмотрению в кассационном порядке и что, вообще говоря, закон вовсе не требует немедленного привлечения лица, на которого пало подозрение, в качестве обвиняемого, к следствию. Привлечение без вполне выясненных оснований крайне нежелательно и должно пагубно отзываться на личности и общественном положении человека, который потом может оказаться привлеченным поспешно и неосмотрительно. Поэтому в делах, где нет прямых доказательств, а лишь улики, одна лишь совокупность которых способна вызвать определенное убеждение в следователе, привлечение самою силою вещей отодвигается на конец следствия. Обвиняемый при этом лишается возможности присутствовать при допросе свидетелей, вызванных до его привлечения; но если ему эти показания предъявлены, если он имел возможность возражать против них и противополагать им новых свидетелей и если, притом, он не был стеснен в праве жаловаться, то нет оснований возбуждать вопрос об отмене состоявшегося впоследствии решения присяжных. Поправить результаты отсутствия обвиняемого при допросе свидетелей — отсутствия, предвиденного и разрешенного законом, всегда возможно законными способами; но где найти способы загладить бесследно позор привлечения должностного лица по обвинению в изнасиловании, привлеченного слишком поспешно и непроверенно? Ввиду этих соображений и того обстоятельства, что жалобы Назарова на допущение при следствии свидетелей о его образе жизни были в рассмотрении судебной палаты, возбуждались в ней, как видно из производства, подробные прения и разномыслия и, наконец, были разрешены в отрицательном смысле, а также и того, что этот вопрос возникал и при предании Назарова суду и снова был разрешен в смысле признания этих свидетелей относящимися к делу, надлежит признать жалобу Назарова на следственные действия не подлежащею удовлетворению.
Переходя затем к отделу нарушений во время приготовительных к суду распоряжений, я не нахожу возможности согласиться с доводами жалобщика относительно гражданского иска и вполне разделяю соображения моего предместника Н. А. Неклюдова, высказанные в заключении по делу Мироновича по вопросу о том, составляет ли даже неправильное допущение гражданского иска существенное нарушение. Установляя судебное состязание, закон имеет в виду две стороны — обвиняющую и защищающую, и задачей их законной борьбы ставит исследование истины в уголовном деле, насколько она доступна силам человеческого понимания. Представитель гражданского иска в ближайших целях, к которым он стремится, в способах их достижения и в правах, которыми он пользуется на судебном следствии (исключая права отвода присяжных заседателей), примыкает к стороне обвиняющей, и во всем, что касается доказательств виновности подсудимого, сливается с обвинителем. Поэтому он — не третья сторона; он, когда допущен к осуществлению своих прав, есть нераздельная часть одной из двух действующих на суде сторон. Количественное неравенство сил не имеет в этом отношении значения. Оно лишь случайный признак. Против одного подсудимого могут выступать по два прокурора, против одного прокурора — несколько защитников. Гораздо важнее количества представителей сторон — их качества. Рассматриваемые с точки зрения таланта или знания, несколько заурядных защитников не могут составить надлежащего противовеса одному талантливому обвинителю и три-четыре рядовых прокурора не идут в сравнение с одним богато одаренным защитником, горячим словом которого движет глубокое внутреннее убеждение. Становиться на почву учета сил в этом отношении было бы и опасно, и произвольно. Но если нельзя говорить о качестве представителей сторон, то еще менее можно говорить об их количестве. Поэтому даже и неправильное допущение гражданского истца в уголовном деле не есть повод для кассации приговора. Недаром при составлении Судебных уставов, когда была сделана, при обсуждении ст. 911 Устава уголовного судопроизводства, попытка исчислить коренные поводы кассации, о неправильном допущении гражданского иска не было и помину. Но и, кроме того, допущение отца Черемновой к предъявлению гражданского иска не представляется неправильным и по существу своему. По смыслу ст. 6 Устава уголовного судопроизводства, всякий потерпевший от преступления, в случае заявления иска о вознаграждении, признается участвующим в деле гражданским истцом; потерпевшее же лицо есть всякое, понесшее вред или убытки от этого преступления (ст. 302, п. 3). Уже из того, что понятию убытка противополагается понятие вреда видно, что вред не всегда может быть выражен в виде материального, непосредственного ущерба. Этот вред может иметь и личный характер. В решении Правительствующего Сената по делу Сосунова, 1869 года, № 843, выражено, что так как причиняемый преступлением вред может состоять в нарушении и личных прав, а к числу нарушений последнего рода несомненно принадлежит нарушение спокойствия домашнего очага, то, например, хозяин дома, в котором произведено буйство, не может не быть признан лицом потерпевшим. Очевидно затем, что такое потерпевшее лицо может предъявить иск и явиться гражданским истцом в уголовном деле. Едва ли затем нужно доказывать, что отец дочери, над которою совершено изнасилование, является не менее потерпевшим лицом, чем такой хозяин, и что вред, ему нанесенный, и глубже, и острее, и непоправимее.
Обращаясь к вопросу о неопределении Черемновым цифры отыскиваемого им вознаграждения, я нахожу, что ввиду зависимости производства о размерах присуждаемого вознаграждения от обстоятельств, признанных присяжными, незаявление такой цифры в первоначальном прошении о предъявлении иска не дает основания к устранению гражданского истца. По существу отношения Черемнова к делу нельзя отрицать его права на иск с Назарова, во-первых, потому, что потерпевшая со времени совершения над нею деяния, указанного 1525 статьей Уложения, до своего самоубийства находилась в болезненном состоянии и могла требовать помощи от отца, у которого по закону (174 статья X тома ч. 1) . она находилась на попечении и который поэтому и в силу примечания к статье 1532 Уложения имел равное с нею право на принесение жалобы, и, во-вторых, потому, что изнасилование Черемновой, связанное с ее последующим самоубийством, давало отцу, лишившемуся будущей опоры, право иска, ввиду 194 статьи I части X тома и 143 статьи Устава о наказаниях. Но, независимо от этого, нельзя не признать, что отказ отцу в случае, подобном настоящему, вправе доказывать факт преступления, хотя бы и ввиду самого малого вознаграждения, едва ли соответствовал бы требованиям справедливости. Возможно ли устранить от участия в процессе человека, относительно дочери которого ставится альтернатива: или продажная женщина и шантажистка, или несчастная жертва грубого насилия?.. Честь и доброе имя безвременно сошедшей в могилу дочери, которая не может сама встать на свою защиту, есть достояние ее отца и матери, и они должны быть допущены к охранению этого достояния от ущерба путем живого участия в деле, которое возможно лишь в роли гражданского истца. Я вовсе не желал бы чрезмерного расширения гражданского иска на суде уголовном, но полагаю, что есть случаи, редкие и исключительные, в которых узко-формальные требования по отношению к гражданскому иску не должны быть применяемы. Если наряду с прокурором по каждому делу о пустой краже пускают гражданского истца, имеющего право доказывать факт преступления даже и при отказе прокурора от обвинения, то ужели можно безусловно устранить от этого потерпевшего, детище которого, грубо опозоренное, покинуло жизнь в горьком сознании невозможности добиться правды и защиты? Правительствующий Сенат признавал правильным допущение гражданскими истцами жен по делам о лжесвидетелях, выставленных их мужьями по (бракоразводному делу. Так было по делу Тупицына, 1876 года, № 14, и по делу Залевского, Хороманского и Гроховского в 1874 году. Очевидно, что не о материальном убытке шло здесь дело. Он слишком отдален, условен и неопределен. Дело касалось чести жены, обвиняемой в прелюбодеянии, для которой признание факта лжесвидетельства было равносильно признанию ее чистоты и верности супружескому долгу. Аналогичное положение представляет собою дело Назарова, и, по мнению моему, суд исполнил свою задачу, признав отца Черемновой потерпевшим и допустив его в качестве гражданского истца.
Приступая, наконец, к отделу нарушений, допущенных при судебном разбирательстве, я нахожу, что, ввиду содержания протокола судебного заседания, экспертиза профессора Нейдинга могла бы не подлежать вовсе рассмотрению, но так как никто не отвергает, что письменное изложение, представленное Нейдингом и приложенное судом к протоколу, соответствует тому, что он говорил, то эту экспертизу я готов подвергнуть разбору. Эксперт — судебный врач может быть призываем для определения: а) вида и свойства повреждений и б) значения и происхождения повреждения. Первый вопрос, сравнительно легкий, может быть разрешен лицом, имеющим лишь профессиональные познания, но второй требует глубоких научных знаний и многолетнего опыта. В вопрос о происхождении повреждений входит исследование, путем проверки и сопоставления, обстоятельств, указывающих на преступный, или случайный, или добровольный источник этого происхождения. Одна и та же рана — по виду — продолговатая, по свойству— резаная, по значению — безусловно смертельная — может произойти и от собственной неосторожности, и от самоубийства, и от чужой преступной руки. Экспертиза, которая ответит на вопросы о направлении, глубине и безусловной смертельности раны и оставит без объяснения вопрос об ее происхождении, будет бесплодна. Она не может происходить в пустом пространстве, констатируя лишь анатомические изменения в трупе и не освещая «здравым суждением, почерпнутым из опыта и наблюдения», как говорит 1753 статья Устава судебной медицины, фактов., с которыми находятся в причинной связи эти изменения. По условиям, в которых эксперт — судебный врач дает свое показание, по принимаемой присяге, по праву сторон на отводы и, наконец, по отсутствию какой-либо обязательности своих выводов для суда — эксперт есть свидетель; но внутри своего свидетельства, в рамках своего удостоверения, он есть научный судья, передающий суду непосредственные впечатления внешних чувств и выводы из фактов, им сопоставленных и научно проверенных. Поэтому нельзя требовать от эксперта, чтобы он безусловно не касался обстоятельств дела, имеющих соотношение с судебно-медицинскими вопросами. К таким обстоятельствам, подлежащим научной проверке на основании «здравых рас-суждений, почерпнутых из наблюдений и опыта», относятся и объяснения участников факта, предполагаемого преступным, о происхождении повреждений, подлежащих судебно-медицинскому исследованию. Иначе, если экспертиза должна была бы ограничиваться лишь автоматическими изменениями, зачем дозволять, как это делает судебная практика, с разрешения Правительствующего Сената, экспертам оставаться в зале заседания во все время судебного следствия? Против увлечений и односторонней экспертизы есть гарантия и в показаниях других экспертов, обыкновенно вызываемых в суд, и в обязанностях председателя, который должен регулировать показание эксперта и разъяснить присяжным его значение и необязательность. Из рассмотрения экспертизы профессора Нейдинга видно, что по разрешении трех вопросов, касающихся судебно-медицинских выводов из сведений о состоянии физического организма потерпевшей Черемновой и определения времени изменений в этом организме, эксперт Нейдинг переходит к четвертому вопросу о том, были ли эти изменения вызваны насилием. Заявляя, что под изнасилованием надлежит понимать не одно насилие, но и пользование беспомощностью и вообще всякое действие этой категории, совершаемое против воли потерпевшей, эксперт Нейдинг доказывает, что следы сопротивления насилию встречаются поэтому редко и обыкновенно скоро исчезают, так что при осмотре, произведенном по настоящему делу через три месяца, таких следов быть не могло ни на теле, ни в помещении, где произошло происшествие, ни на одежде участвующих, если не считать указания на разорванную фалду фрака обвиняемого. Приступая, затем, к разрешению вопроса о бытии в настоящем случае насилия, как оно понимается судебною медициной, эксперт Нейдинг прибегает к психологической диагностике, рекомендуемой, по его удостоверению, в трудных для распознания случаях преступления всеми авторитетами судебной медицины, начиная с Каспера. Он установляет данные события 28 декабря, относительно коих согласны показания Назарова и Черемновой. Переходя к оценке показаний каждого из них в том, в чем они расходятся между собою, Нейдинг находит показание Назарова неудовлетворительным, а, напротив, рассказ Черемновой правдоподобным и, по мнению его, искренним в своей непоследовательности. Останавливаясь на ее объяснении, что она «сама не знает, было ли над нею совершено насилие», Нейдинг объясняет это тем сначала возбужденным, а затем расслабленным состоянием, переходящим в обморок, в котором должна была находиться девушка, поставленная в положение Черемновой, страдавшая и прежде обмороками. Отметив, затем, то обстоятельство, что при выходе Черемновой из Эрмитажа ее нужно было поддерживать и что она, по отзыву всех знавших ее, не была девушкой свободного обращения и не производила впечатления таковой, Нейдинг относится с доверием к ее рассказу, и, установив, что по своей обстановке Эрмитаж являлся удобным для насилия местом, он разбирает судебно-медицинский вопрос о соотношении сил участников события 28 декабря и признает, что каждый случай подлежит рассмотрению «in concreto» (Предметно (лат.)) Наконец, признав, что над Черемновою было содеяно действие, предусмотренное 1525 статьей Уложения, Нейдинг указывает, какие вообще последствия для жизни, здравия и душевного состояния потерпевшей может иметь изнасилование, и находит, что оно в данном случае вызвало нравственное расстройство с меланхолическим оттенком, непосредственным следствием которого было самоубийство Черемновой чрез четыре месяца. Таким образом, профессор Нейдинг в сущности поставил на свое разрешение главный вопрос о том, овладел ли Назаров Черемновою против ее воли, но без насилия? К постановке такого вопроса он был управомочен как существом обвинения, выраженного в обвинительном акте и вопросах присяжных, так и жалобою, которую Черемнова подала прокурору, где она говорит, что вследствие обморочного состояния не может судить, путем ли прямого насилия или пользования ослаблением ее сил оскорбил ее Назаров. Очевидно, что для разрешения этого вопроса анатомические выводы не дают никакого материала, ибо анатомические изменения одинаковы при насилии и при добром согласии. Поэтому я нахожу, что профессор Нейдинг не вышел из пределов своей задачи, разрешая вопрос о наличности ослабления, ввиду коего делается исключение из общего правила, которому соответствуют даже разные народные пословицы, что преступление, предусмотренное 1525 статьей, не может быть совершено взрослым над взрослою, находящеюся в нормальном состоянии. Этот упадок сил, это ослабление может произойти под влиянием психических моментов — испуга, гнева, отчаяния и т. п. Для определения такого состояния Нейдинг и оценивает место и время события, предрасположение Черемновой к обморокам, объективные последствия предполагаемого деяния и переходит к оценке общих свойств личности потерпевшей, поскольку ими обусловливается ослабление и упадок сил. Несомненно, что эти свойства не могут не иметь значения для разрешения вопроса об упадке сил. Где дело идет о девушке порядочной, воспитанной и целомудренной, там такой упадок сил от испуга, стыда, негодования и т. п. понятен, где дело идет об обычной посетительнице «отдельных кабинетов», где не может быть речи о непорочности, там такой упадок сил едва ли вероятен и предшествующая ему борьба только увеличивает цену последующей бесславной победы. Поэтому, производя свою «психологическую диагностику», профессор Нейдинг не нарушил обязанностей экспертизы. Он высказал свой вывод безусловно и категорически. Такая категоричность едва ли желательна в интересах нравственной ответственности эксперта пред самим собою. Житейским и судебным опытом рекомендуется большая условность выводов, но, с другой стороны, это дело убеждения и темперамента свидетеля, а обязанность председателя указать на необязательность мнения эксперта надлежащим образом парализует эту категоричность.
Переходя к нарушениям на суде, я полагаю, что вопрос свидетелей о том, способна ли была Черемнова, по своим взглядам и образу жизни, торговать собою — не представляется неправильным в таком деле, где, по существу обвинения, вопрос ставился о том, кому верить — обвиняемому или потерпевшей, что разноречие в показаниях свидетельницы Черемновой на следствии и на суде не может считаться кассационным поводом, ибо присяжные слышали и видели Черемнову и могли, следовательно, отвергнуть все, что записано в ее первом показании; что нарушение 471 статьи Устава уголовного судопроизводства непрочтением свидетельнице ее показания на предварительном следствии не является кассационным нарушением, ибо свидетельница не была допрошена на судебном следствии; что прочитанное показание Оленина не может считаться измышленным или продиктованным следователем, ибо оно собственноручно подписано директором Строгановского училища живописи и ваяния, бывшим 15 лет председателем мирового съезда и не могущим, поэтому, быть слепым и полуграмотным орудием в руках следователя; что чтение протокола осмотра Эрмитажа с заключающимися в нем показаниями Цемирова и Внукова, допрошенного в суде, не составляет нарушения, ввиду решения уголовного кассационного департамента 1867 года № 178, и 1869 года № 849, и того, что объяснения их относились не к предмету дела, а к особенностям места осмотра, и что, наконец, произвольное удостоверение следователя о том, что признанная судебно-медицинским осмотром борьба самоубийцы Огонь-Догановского со своею жертвою — задушенною им проституткою — сопровождалась несомненно криком, всегда могло быть отвергнуто председателем в случае просьбы защиты с разъяснением, что это место протокола, как видно из подлинных производств, составляет собственный вывод следователя, не имеющий значения какого-либо доказательства.
Обращаясь, наконец, к оскорбительным для Назарова выражениям, помещенным в прочитанных показаниях, я признаю, что требования 453, 408 и 409 статей о записывании показаний свидетелей их собственными словами вовсе не вынуждают следователя вносить в протокол приводимые ими бранные выражения, кроме случаев, когда эти выражения относятся к составу исследуемого преступления. Во всяком случае, на суде такие выражения не должны быть повторяемы. Имея право, даже обязанность остановить всякого свидетеля, оскорбительно относящегося к личности подсудимого, председатель тем самым управомочен исключить такие же выражения и из читаемого показания или предложить суду сделать это особым постановлением, тем более, что, ввиду решений № 1320, 1871 года, по делу Гофмана и № 137, 1869 года, суду предоставлено право допускать прочтение показаний свидетелей и сообвиняемых, умерших до предания их суду, в отдельных частях, т. е., следовательно, с определением того, что не подлежит прочтению. Но так как употребление каким-либо свидетелем на суде грубых выражений по отношению к обвиняемому, не остановленное своевременно председателем, является лишь поводом к возбуждению вопроса об ответственности председателя, но никогда не было признаваемо за повод к отмене решения, то и прочтение показаний с такими выражениями не может влечь за собою кассацию приговора. Правительствующий Сенат отменял приговоры присяжных вследствие оскорбительных выходок и извращающих смысл закона толкований, допускаемых сторонами, но не свидетелями, и притом выходок, оставшихся неисправленными со стороны председателя, но и это делалось только в крайних случаях и лишь при несомненности воздействия таких выходок и толкований на присяжных. Поэтому допущенное в данном случае нарушение не может служить поводом к отмене приговора.
Заключая выводом об оставлении кассационной жалобы Назарова без последствий, я считаю необходимым обратиться к указаниям кассатора на оскорбительные о Назарове выражения, помещенные в постановлении судебного следователя Сахарова о его привлечении. По праву надзора, в силу первого пункта 249 статьи Учреждения судебных установлений, Правительствующий Сенат не может оставить без последствий тех грубых и поносительных выражений, которые позволил себе употребить следователь Сахаров по отношению к обвиняемому. Подобный образ действий следователя, несмотря на вложенный им в дело большой личный труд, подрывает в обвиняемом доверие к его беспристрастию и вынуждает его прибегать в свою защиту к средствам недостойным. Следователь — судья, и личное раздражение против обвиняемого не должно иметь места в его деятельности; оно только роняет его звание, нисколько не содействуя целям правосудия и даже идя вразрез с ними. Правительствующий Сенат в решении общего собрания по делу Чистякова 1869 года, № 23, признал, что употребление должностным лицом выражений, хотя бы не содержащих прямого оскорбления, но нарушающих правила пристойности в бумаге, подлежащей рассмотрению присутствия, составляет деяние, предусмотренное вторым пунктом 347 статьи Уложения. В настоящем случае постановление следователя заключает в себе не только непристойные, но прямо оскорбительные выражения, помещенные в бумаге, подлежащей рассмотрению присутствия суда и судебной палаты. Поэтому действия судебного следователя Сахарова, как предусмотренные 347 статьей Уложения и могущие влечь за собою, на основании третьего пункта 362 статьи Учреждения судебных установлений и второго пункта 1080 статьи Устава уголовного судопроизводства, предание его суду, подлежат передаче на уважение соединенного присутствия первого и обоих кассационных департаментов Правительствующего Сената.
ПО ДЕЛУ ОЛЬГИ ПАЛЕМ, ОБВИНЯЕМОЙ В УБИЙСТВЕ СТУДЕНТА ДОВНАРА *
Решение присяжных заседателей по делу, подлежащему рассмотрению Правительствующего Сената, вызвало крайние и противоречивые мнения, страстная поспешность которых, во всяком случае, превосходит их основательность и обдуманность. С одной стороны, это решение выставляется образцом правосудного урока из области личной нравственности, направленного на защиту тягостного положения покинутой женщины, с другой стороны, в нем усматривается яркое доказательство непригодности суда присяжных, не дающего своими оправдательными приговорами удовлетворения чувству справедливости и безопасности. Но не в таких односторонних мнениях и не в неуместных рукоплесканиях, встретивших провозглашение этого решения, содержится истинная оценка его правильности. Она должна исходить из вопроса о том, состоялся ли приговор присяжных в таких условиях, которые, по закону, дают ему силу судебного решения. Если эти условия не соблюдены, если присяжным не была дана возможность свободно выразить все оттенки своего внутреннего убеждения по делу, или они не были ознакомлены с полнотою своих прав по ответу на вопросы о виновности, или если они были призваны высказаться в области, им не подлежащей, или же, наконец, обсуждали дело, сущность которого затемнена усиленным нагромождением излишних и чуждых рассматриваемому преступлению подробностей, то о значении их приговора и о степени его правильности говорить преждевременно, ибо при такой обстановке — есть ответ присяжных, но приговора — нет.
Обращаясь к делу об убийстве Ольгою Палем студента Довиара, надлежит признать, что такие условия соблюдены не были и что состоявшийся о ней приговор не может иметь силы судебного решения. На суде, правильно устроенном, каждое обвинение в убийстве подлежит обсуждению не только с точки зрения совершившегося преступного события, но и по тому, что хотел совершить виновный в этом событии, как и когда возникла в нем и окрепла преступная воля и была ли она проявлением свободного самоопределения, а не результатом болезненно-помраченного сознания. Поэтому, призывая присяжных для ответа на вопрос о виновности, закон заботится о том, чтобы, в случае возникновения при рассмотрении и разрешении дела одного или некоторых из этих коренных вопросов, им была предоставлена возможность подвергнуть их своему обсуждению. Этой возможности присяжным заседателям в деле Палем предоставлено не было и им не было указано на полноту их прав в этом отношении.
Подсудимая была предана суду по обвинению в убийстве студента Довнара по заранее обдуманному намерению, для чего она пригласила его на свидание, т. е. по обвинению в предумышленном убийстве, по признакам 1454 статьи Уложения. Суд постановил дополнительный вопрос об убийстве в запальчивости и раздражении, предусмотренном второй частью 1455 статьи Уложения. Оба вопроса, различаясь видом умысла, сходны, однако, в одном — в цели лишить жизни жертву преступления. Но подсудимая, как видно из протокола суда, заключения его на замечания сторон и из обвинительного акта, виновною себя в производстве выстрела в Довнара, с целью лишить его жизни, не признавала, а заявляла, что стреляла по направлению к Довнару с целью его напугать и что, таким образом, смерть его произошла случайно. Поэтому и на основании 801 и 812 статей Устава уголовного судопроизводства присяжным должно было быть разъяснено, что они имеют право дать на каждый из поставленных вопросов ограничительный ответ именно по отношению к умыслу Палем лишить Довнара жизни. Этим им давалась бы возможность, в случае признания ими объяснений подсудимой справедливыми вполне или отчасти, признать ее виновною в нанесении, без умысла на убийство, смертельного повреждения Довнару. Без указания же на право дать такой ограничительный ответ присяжные были замкнуты в пределах вопросов, центром тяжести которых была цель лишить жизни, и если они почему-либо отрицали эту цель, то были поставлены в безвыходное положение — или признать Палем виновною свыше содеянного, или оправдать ее, не имея возможности осудить за то, в чем она, по убеждению их, виновна. Между тем, объяснение подсудимой своей вины, проверяемое личным впечатлением присяжных и развертывающеюся перед ними картиною обстоятельств дела, имеет на суде по внутреннему убеждению, не стесняемому формальными доказательствами, весьма важное значение. Недаром Судебные уставы, в противоположность отжившим судебным порядкам, поставили одним из главных условий уголовного разбирательства право, а по всем серьезным делам даже обязанность подсудимого присутствовать на суде, недаром и не бесплодно ему присвоено всегда и во всем, касающемся предъявленного к нему обвинения, последнее слово. Ввиду этого и кассационная практика всегда придавала особое значение разъяснению присяжным права их давать ограничительные ответы, и из решений 1876 года № 48 и в особенности 1880 года №41 по делу Игумновой вытекает, что умолчание об этом праве только тогда не составляет нарушения, когда по содержанию вопроса не существует возможности ограничительного ответа. Но преступлений, где такой возможности нет, не много, и убийство ни в каком случае к ним не принадлежит. Поэтому мы имеем здесь дело с нарушением и притом ввиду особой важности в процессе постановки вопросов и разъяснения способов ответа на них — с нарушением существенным.
Этому нарушению по отношению к содержанию ответа присяжных на вопросы соответствует и другое, столь же, если даже не более важное, нарушение по отношению к содержанию вопросов или, точнее, к объему того, что предоставлено было обсуждению присяжных. Возможность осуждения невинного всегда волнует постороннего наблюдателя. Она всегда должна тревожить совесть судьи, вызывая в нем сознательную и иногда очень трудную борьбу между возникающими сомнениями и слагающеюся уверенностью. Но сомнение в виновности при наличности преступного события может быть различное. Оно может направляться на виновность обвиняемого в совершении приписываемых действий или на его вменяемость. Бездоказательное, лишенное всякого основания осуждение должно так же болезненно отражаться на душе всякого, в ком не замерло чувство справедливости и человеколюбия, как и осуждение человека с померкшим или исступленным рассудком, переставшим освещать ему его пути и деяния. И то и другое осуждение суть своего рода общественные несчастия. Поэтому, если у судей или присяжных возникает сомнение в том, не находились ли душевные силы подсудимого при содеянии им преступного дела в болезненном состоянии, исключающем возможность вменения, и если это сомнение не мимолетно и неуловимо, а выражено точно и определенно, оно должно найти себе возможный способ разрешения в постановляемых судом вопросах, а не висеть на воздухе между словами «да, виновен» и «нет, не виновен».
По делу Палем такое сомнение у присяжных возникло, когда защита ходатайствовала, как записано в протоколе, о постановке дополнительного вопроса по 96 статье Уложения о наказаниях о том, не совершила ли подсудимая преступление в припадке умоисступления, ибо к этому ходатайству присоединились четыре присяжных заседателя, несмотря на выслушанное ими заключение лица прокурорского надзора об оставлении домогательства защиты о постановке вопроса без удовлетворения. Это было, по существу своему, заявление одной трети присяжных о том, что им представляется сомнительным, чтобы подсудимая стреляла в Довнара, сознавая смысл своих действий и имея возможность управлять ими. Разрешение этого сомнения в ту или другую сторону представляется чрезвычайно важным в интересах истинного правосудия. Оставлять это сомнение не только без надлежащего разъяснения, но и без предоставления ему законного способа выразиться при обсуждении виновности подсудимой, значило и по вопросу о вменяемости ставить присяжных в такое же безвыходное положение, как и по вопросу о составе преступления. Когда присяжному заседателю, сомневающемуся в здравом рассудке подсудимого при совершении его деяния, предоставляется на выбор лишь обвинение или оправдание, едва ли возможно сомневаться в его выборе. Относясь совестливо к своим обязанностям и памятуя, что от его слова очень часто зависит вся судьба человека, им судимого, присяжный заседатель, конечно, скажет это слово за оправдание—и скажет его не только в силу глубокого правила in dubio mitius[10], но и из чувства нравственного самосохранения. Суд не принял, однако, мер к разъяснению и дальнейшему разрешению сомнения, на которое так ясно указывала внушительная для всякого голосования треть присяжных. Суд устранил это сомнение, признав достаточным преподать присяжным заседателям описание порядка освидетельствования сумасшедших и умоисступленных по 353— 355 статьям Устава уголовного судопроизводства и указать им, что при предварительном следствии не обнаружено обстоятельств, вызывающих предположение о болезненном состоянии подсудимой, предусмотренном 96 статьей Уложения о наказаниях. Такое устранение надлежит признать вполне неправильным и стесняющим свободу суждений присяжных заседателей.
Оно, во-первых, нецелесообразно по своему приему. Приглашением присяжных обдумать свое ходатайство в совещательной комнате, последствием чего был отказ от этого ходатайства, суд ставил себя в возможность услышать подтверждение этого ходатайства. Но он знал, однако, что и на это подтверждение, хотя бы даже оно исходило от всех присяжных, безусловно необходимо ответить отказом, ибо твердые и не подлежащие никакому колебанию указания Сената, идущие еще с 1867 по 1892 год, начиная с дела Протопопова и кончая делом Сергеева, воспретили постановку вопросов о невменении без предварительного соблюдения порядка освидетельствования по 353—355 статьям Устава уголовного судопроизводства. К чему же было это бесплодное совещание присяжных? В судебном деле все излишнее и напрасное является вредным тормозом для правильного исхода.
Во-вторых, это устранение является нарушением правильного течения дела на суде. Совещание большинства присяжных о том, следует ли ставить не могущий быть поставленным вопрос о причинах невменения, вытекающих из сомнения, возникшего у меньшинства, есть совещание по существу дела, есть предрешение ответа на вопрос об ответственности подсудимого, при котором необходимо обсудить все обстоятельства дела в их совокупности. Отказ присяжных от своего ходатайства в данном случае есть выражение подчинения меньшинства мнению большинства, которое может быть результатом нежелательного для правосудия компромисса в узких пределах уже поставленных вопросов. Но закон требует, чтобы решительное совещание присяжных по существу предъявленного пред ними обвинения происходило не только после утверждения судом вопросов, но и после руководящего напутствия председателя, разъясняющего смысл, значение и способы разрешения этих вопросов и преподающего основания для суждения о силе доказательств, имеющихся в деле. Принимая во внимание, что окончательное совещание присяжных продолжалось, как видно из протокола, 35 минут, а процедура обсуждения ходатайства о постановке вопроса по 96 статье Уложения судом и присяжными заняла 2 часа и 10 минут, нельзя не признать, что совещание присяжных, занявшее некоторую часть этого времени, было именно тем преждевременным обсуждением имеющих последовать ответов, которое существенно нарушает законную хронологию судебного рассмотрения дела.
В-третьих, это устранение представляет собою смешение области суда и присяжных. По силе 762 статьи Устава уголовного судопроизводства каждый из присяжных имеет право делать замечания относительно дополнения или исправления поставленных судом вопросов, но от суда зависит признавать их уважительными или нет. Это дискреционное право суда, за исключением лишь случаев отказа в постановке вопросов о причинах, исключающих вменяемость, когда основательность такого отказа подлежит, согласно решениям 1869 года № 536 и 1871 года № 1401, проверке Правительствующего Сената. Отказ суда, несомненно, должен основываться на соображении обстоятельств, выясненных на судебном следствии, и если удовлетворение ходатайства присяжных стоит в зависимости от разрешения вопросов судопроизводственных, то вопросы эти должен разрешить суд, один суд, который исключительно призван к этому. Возлагать на присяжных разрешение процессуальных вопросов — значит выводить их из принадлежащей им области ведения. Между тем, суд по настоящему делу, предпослав совещанию присяжных о постановке вопроса по 96 статье Уложения изложение порядка свидетельствования душевнобольных, установленного 353—355 статьями Устава уголовного судопроизводства, предоставил им решить, следует ли им настаивать на своем ходатайстве ввиду невыполнения этого порядка при предварительном следствии, т. е. решить вопрос процессуальный, сводящийся к тому, возможно ли судить о душевном состоянии Палем без исполнения целого сложного судопроизводственного обряда. С другой стороны, не предприняв никаких действий к разъяснению присяжным возникшего по делу в среде их сомнения и поставив их в такое положение, что они пришли к необходимости отказаться от ходатайства по поводу этого сомнения, суд, тем самым, принял на себя окончательное разрешение одного из важнейших вопросов по существу дела, постановка которого на основании 763 статьи безусловно обязательна, если только на судебном следствии он возникал и притом существует законный способ для собрания надлежащих и всесторонне проверенных для разрешения его материалов.
Оба эти последние условия по делу Палем существовали. Вопрос о болезненном душевном состоянии на судебном следствии возникал. Суд в своем постановлении по поводу постановки вопросов утверждает, что на судебном следствии не обнаружено обстоятельств, указывающих на совершение подсудимою преступления в припадке болезни, доходящей до умоисступления, но это утверждение не может быть признано правильным. Судебные уставы вовсе не требуют для возбуждения вопроса об умоисступлении подсудимого «обстоятельств, указывающих» на таковое, т. е. доказательств, — напротив, ст. 355 1, применимая, согласно ст. 356 и примечанию к ст. 353 Устава уголовного судопроизводства и решению Сената за 1892 год № 20 по делу Сергеева, к возникновению вопроса об умоисступлении не только при предварительном, но и на судебном следствии, указывает лишь на «открытие обстоятельств, дающих повод предполагать, что преступное деяние учинено в припадке болезни, приводящем в умоисступление' или совершенное беспамятство». Поэтому нужны лишь своего рода косвенные улики нарушенного равновесия душевных сил, а не доказательства такого болезненного состояния. Такие доказательства нужны лишь для применения 96 статьи Уложения по судебному приговору. И такие «поводы предполагать» во время судебного следствия по делу возникали в известном изобилии. Прежде всего в числе данных, предложенных на обсуждение суда обвинительным актом, на выводах которого строится, согласно 751 статье Устава уголовного судопроизводства, главный вопрос о виновности, указано на возбужденное состояние Палем не только после совершения убийства, но и осенью 1893 года, выразившемся в нанесении, с криком, ударов подсвечником одновременно Довнару и себе и в производстве в больнице, где лежал в тифе Довнар, сцен, в которых подсудимая проявляла «страстный, отчаянный характер». Затем подобные же данные были изложены на судебном следствии. Было допрошено восемь лиц и оглашены показания трех лиц, совокупность которых рисует отчетливую картину, дающую основательный «повод предполагать», о котором говорит 355 статья Устава уголовного судопроизводства. Показания свидетелей не занесены, согласно закону, в протокол судебного заседания, но содержание того, что слышал от них суд и присяжные, определяется 718 статьей Устава уголовного судопроизводства, а отсутствие указаний на противоречие в показаниях и на применение 722 статьи того же Устава прочтением прежнего показания указывает на то, что на суде свидетелями повторены всецело показания, данные на предварительном следствии. Итак, вот эта картина: в детском и отроческом возрасте, до 14 лет, Палем является нервною, крайне раздражительною девочкою, причем приступы раздражения сопровождаются обмороками; в период зрелости эта нервность продолжается и усиливается, ее сопровождают иногда пугающие близких галлюцинации, истерика, крайний упадок сил, приводящий ее на несколько дней в беспомощное состояние; на секретаря министра путей сообщения она производит впечатление женщины больной психически; когда чем-либо вызывается в ней припадок гнева или раздражения, она быстро приходит в исступленное состояние, бросает и швыряет все, что попадет под руку, хватается за нож, угрожая себе и другим, вся трясется и глядит бессмысленным взглядом, со страшно вращающимися белками; «смотришь», говорит Кураева, «она уже лежит, где попало, ее трясет, она стонет, зубами клокочет, лицо бледное»… Такова она до убийства Довнара. Но и после убийства она отдается своим порывам, не взирая ни на что. По свидетельству помощницы начальника дома предварительного заключения, она приходит иногда в неистовство, рвет на себе волосы, бьется головою об стену, швыряет разными предметами и т. д. На суде читалась, наконец, ее переписка. Уже за два слишком месяца до убийства она жалуется на смертную тоску, давящую до боли горло и грудь, как будто обваренную кипятком. Все это слышали присяжные заседатели и на все это должны были обратить, согласно принятой присяге, «всю силу своего разумения».
Но не одни только приведенные обстоятельства дела развертывались перед судом, так сказать, в сыром виде, без выводов и обобщений. Они подвергались анализу, который, по смыслу своему, соответствовал возбуждению вопроса о свойстве вменяемости обвиняемой. Не только защитник был допущен допрашивать врача Руковича, вызванного в качестве эксперта, о психическом состоянии подсудимой во время совершения ею преступления, причем последним высказано, что Палем страдает крайнею возбужденностью нервной системы и резко выраженною неврастенией, но и Рукович, в свою очередь, получил разрешение допрашивать доктора Зельгейма о душевном состоянии подсудимой вслед за убийством Довнара. Из удостоверенных судом замечаний на протокол видно, что на требование научных выражений и на желание знать, было ли психическое состояние Палем, описываемое Зельгеймом, «психозом» или «неврозом», Зельгейм «ничто же сумняшеся» отрезал Руковичу, что «всякое убийство есть психоз».
Ввиду этих данных нельзя утверждать, чтобы вопрос о душевной нормальности вовсе не возникал и не был затронут на судебном следствии. Он возникал ясно и вразумительно, и притом по поводу состояния, указанного именно 96 статьей Уложения и IV к нему приложением, а также ст. 355 1 Устава уголовного судопроизводства. Закон говорит именно о припадках болезни, доводящих до умоисступления и беспамятства. Если на обязанности суда не могло и не должно было лежать точное и окончательное определение, суть ли несомненные и удостоверенные на суде свидетелями истерические припадки Палем, названные Руковичем резко выраженною неврастенией, результаты той именно болезни, о которой говорит 96 статья Уложения, то еще менее суд имел основание принимать на себя окончательное разрешение такого специального невропатологического вопроса и решать, что резкая неврастения не может быть болезнью, приводящею в исступление.
Суд, безусловно, должен обладать полнотою юридических сведений, но желательно, чтобы в действиях его сказывалось и знакомство с сопредельными с юриспруденцией) знаниями, с широкою областью судебной медицины, хотя бы настолько, чтобы установлять границу, до которой идет усмотрение судьи и за которою начинается разъяснение специалиста, сведущего человека. С этой точки зрения надо заметить, что с тех пор, как истерию перестали считать капризом и принадлежностью сварливых женщин, а увидели в ней серьезную болезнь, бывающую и у мужчин, и с тех пор, как известный Бирд начертил мастерскою рукою картину неврастении, стоящей часто на самой опушке сумасшествия, достаточно развернуть серьезное руководство по судебной психопатологии, чтобы найти ценные и подробные указания на «быстротечное помешательство на почве неврастении», так называемое furore morboso, на «истерический невропсихоз» и на скоропреходящее душевное расстройство у истерических больных, между прочим, выражающееся в меланхолическом порыве — raptus melancholicus hystericus. Разъяснений специалиста не должны чуждаться или опасаться ни суд, ни обвинительная власть. Не имеющее юридической обязательной силы, проверяемое на суде указаниями здравого смысла, житейского опыта и логикою фактов, сопоставляемое с другими, мнение это, почерпнутое притом из специального наблюдения, никакой опасности для правосудия не представляет и если несколько усложняет процесс, то зато уменьшает вероятность роковой ошибки в тех случаях, когда за устранением надлежащей экспертизы каждому присяжному приходилось бы делаться психиатром «на свой счет и страх» или прислушиваться к случайным мнениям какого-нибудь самозванного знатока. Если суд не соглашается с объяснениями эксперта, если обвинитель спорит против них, у всех, следящих за отправлением правосудия, остается сознание, что все-таки сведущий человек имел возможность предстать пред судом, что он сказал ему и сторонам классическое «Бей! Но выслушай» и что житейская правда дела, к которой всемерно должен стремиться суд, освещена со всех сторон. Эта правда учит нас, что в каждом человеке, несмотря на духовное развитие его, сидит зверь, стремящийся, при раздражении или возбуждении, растерзать, истребить, удовлетворить свою похоть, и т. д. Когда человек владеет этим сидящим в нем зверем — он нормален в своих отношениях к людям и обществу; когда он сознательно дает зверю возобладать в себе и не хочет с ним бороться — он впадает в грех, он совершает преступление; но когда он бессилен бороться сознательно — тогда он больной. Призовите первого в судьи, покарайте второго, но не наказывайте, а лечите третьего, и если есть повод к сомнению, кто стоит пред вами — второй или третий, — призовите на помощь науку и не стесняйтесь потерею времени и труда. Исследование истины стоит этой потери!
Поводы к возбуждению сомнения возникли притом не внезапно, ибо еще во время приготовительных к суду распоряжений защита ходатайствовала о вызове экспертов-психиатров, и еще в первый.день пятидневного заседания эксперт Рукович, допрошенный по предмету повреждений, причиненных выстрелом, был по ходатайству защиты и старшины присяжных оставлен в зале заседаний, из чего видно, что уже тогда признавалось необходимым выслушать мнение сведущего по врачебной части лица и притом не только о телесных повреждениях Довнара. Это сомнение ясно выразилось в ходатайстве присяжных. Его нельзя было оставить неразрешенным надлежащим, указанным в законе, порядком или считать, что оно разъяснено коренным образом и бесповоротно двумя выслушанными присяжными диаметрально противоположными мнениями — доктора Руковича о том, что припадки резко выраженной неврастении не имеют ничего общего с психическими болезнями, и доктора Зельгейма о том, что всякое убийство — психоз.
Вот почему суду надлежало отнестись с глубоким вниманием к ходатайству присяжных и, вместо бесплодной процедуры совещания о постановке не могущего быть поставленным вопроса, обратиться к законному исходу, указанному 549 статьей Устава уголовного судопроизводства и решением Сената по делу Сергеева 1892 года № 20, которым признаны правильными действия суда, усмотревшего в заявлении защитника и объяснениях подсудимого повод к предположению о страдании последнего болезнью, приводящею в умоисступление, и представившего о том судебной палате для разрешения ею, не представляется ли необходимым освидетельствование подсудимого по 353—355 статьям Устава уголовного судопроизводства. Сомнение присяжных, выраженное согласно 762 статье Устава уголовного судопроизводства, конечно, имеет еще больший вес и значение, чем заявление стороны или слова подсудимого, и составляет доказательство возникновения в деле нового обстоятельства, не бывшего в виду или упущенного из виду обвинительною камерою, на разрешение которой и должно быть о том представлено на основании 549 статьи Устава уголовного судопроизводства. Это был единственный правильный исход из дела. Многодневный труд суда и присяжных не мог бы при этом считаться потерянным, ибо результатом его явилась необходимость осветить одну из важнейших сторон дела, да и, наконец, что значит потеря труда пред таким шагом, который обеспечивает получение, в пределах человеческой возможности, правосудного решения? Вследствие этих соображений приговор суда и решение присяжных заседателей над Палем не могут быть оставляемы в силе за нарушением 762, 812 и 549 статей Устава уголовного судопроизводства.
Всестороннее рассмотрение дела не было бы, однако, исчерпано, если бы ограничиться только что приведенным выводом. Он не объемлет всех нарушений, допущенных по делу. Решение присяжных не может считаться состоявшимся в нормальных условиях и тогда, когда сущность дела затемнена и усложнена нагромождением излишнего, не относящегося к исследуемому преступлению материала и когда судебное расследование далеко переходит за границы, определяемые сущностью отношений обвиняемого к преступному событию, и вторгается в беспредельную область житейских обстоятельств, разворачиваемых не для выяснения судимого преступления, а по поводу этого преступления. Чрезмерное расширение области судебного исследования, внося в дело массу сведений, быть может, иногда и очень занимательных в бытовом отношении, создает, однако, пред присяжными пеструю и нестройную картину, в которой существенное перемешано со случайным, нужное с только интересным, серьезное со щекочущим праздное или болезненное любопытство. Этим путем невольно и неизбежно создается извращение уголовной перспективы, благодаря которому на первый план вместо печального общественного явления, называемого преступлением, выступают сокровенные подробности частной жизни людей, к этому преступлению не прикосновенных. При этом самый виновник всего дела постепенно окутывается туманом, отходит на задний план и стушевывается, уступая, незаметным образом, свое место на скамье подсудимых одному из тех отвлеченных обвиняемых, которые под именем слабого характера, страсти, темперамента, увлечения, общественной среды, бытовых неустройств и т. п. дают удобный повод высказаться свойственной у нас многим жестокой чувствительности у жестокой к пострадавшему или обиженному и чувствительной к виновнику мрачного или злобного деяния.
Жалоба гражданского истца с подробностью перечисляет не относящиеся, по его мнению, к делу обстоятельства, исследование которых было допущено при производстве следствия о Палем. Допущение судом их рассмотрения давало бы основание к усмотрению неправильности в действиях суда по охранению задачи исследования при признании, что суд имел право и законные способы для полного устранения такого рассмотрения. Право это, однако, как то разъяснено решением 1878 года, № 34, суд имеет во всей полноте лишь по отношению к письменным доказательствам и свидетельским показаниям, впервые предъявляемым или даваемым на судебном следствии. Но право это существенно ограничено касательно тех доказательств, которые добыты предварительным следствием, были в виду обвинительной камеры и подлежат на суде лишь проверке — по отношению к свидетелям, на основании 521, 538, 574, 718, 722 и 726 статей, а по отношению к вещественным доказательствам и к письменным актам предварительного следствия — на основании 687 и 697 статей Устава уголовного судопроизводства, в силу коих протоколы осмотров, освидетельствований, обысков и выемок по требованию сторон безусловно подлежат прочтению, а вещественные доказательства подлежат осмотру и оглашению. Точно так же прочно установлена в законе и в кассационной практике безусловная, под угрозою отмены решения, обязанность суда вызывать, по требованию сторон, допрошенных при предварительном следствии свидетелей. Несомненно, что в силу 611 статьи Устава уголовного судопроизводства и на основании решения Сената 1887 года, № 11, по делу Маслова, председатель имеет право устранить из показания свидетеля, допрашиваемого на суде, рассказ об обстоятельствах, не идущих к делу, но применение это может быть связано с такими практическими затруднениями, которые весьма смягчают значение допущенного в этом отношении бездействия. Свидетель был вызван к следователю иногда издалека, провел томительные часы в ожидании допроса; по расспросе его следователь признал, что то, о чем он может свидетельствовать, относится к делу; занес все это в протокол, им подписанный, заявил ему, что все сказанное и записанное он должен подтвердить присягою… но наступил день заседания по делу и этому же свидетелю, явившемуся по повестке чрез полицию, сделавшему, быть может, большой путь, оставившему свои занятия или уволенному от них начальством, снова проведшему тревожные часы и даже дни в ожидании допроса, принявшему затем торжественно присягу, выслушавшему увещания председателя и угрозы карою за лжесвидетельство, приходится сказать: «Идите, вы не нужны, известное нам, но не присяжным, показание ваше к делу не относится». Но свидетель может с изумлением, даже со справедливым негодованием спросить себя: «Зачем же меня тревожили?» и принять затем все происшедшее к сведению уже и на тот случай, когда он со своим показанием действительно будет относиться к делу. Да и на одном ли свидетеле может отразиться такое применение 611 статьи? Решите-ли дела — присяжные заседатели, и у них может родиться всегда вредное для правосудного исхода дела подозрение, что от них что-то скрывают, о чем-то пред ними стараются умолчать, и притом о таком, что, однако, уже было исследовано самою же судебною властью. Это «что-то», записанное там, в деле, лежащем на судебном столе, о чем не позволяют говорить свидетелю, несмотря на отобранную присягу показать правду, должно смущать совесть присяжных и вести их к произвольным догадкам, порождающим и произвольное решение. Наконец, как это нередко, к сожалению, случается, не относящиеся в сущности к делу показания внесены в обвинительный акт и уже выслушаны присяжными. Идя последовательно, надо признать и обвинительный акт в надлежащих частях не относящимся к делу, но на это ни председатель, на основании 611 статьи, ни весь суд права не имеют, ибо обвинительный акт утвержден судебною палатою, которая признала его соответствующим закону и одобрила список вызываемых по нему свидетелей. Поэтому центр тяжести нарушения, приводящего к извращению уголовной перспективы, лежит не в судебном, а в предварительном следствии и в деятельности лиц и учреждения, наблюдающих за правильностью и законностью его производства. Отсюда вытекает необходимость и по делу Палем обратиться к периоду, предшествовавшему преданию ее суду. Этим определится и то звено дела, на котором может сосредоточиться отмена приговора.
По закону, изображенному в 531 и 534 статьях Устава уголовного судопроизводства, судебная палата, в качестве обвинительной камеры, выслушав словесный доклад о поводе, по которому возникло дело, и о всех следственных действиях, причем обращается ее внимание на соблюдение установленных форм и обрядов судопроизводства и прочитываются в подлиннике существенные протоколы, постановляет определение о предании суду, лишь признав следствие достаточно полным и произведенным без нарушения существенных форм и обрядов, так как в противном случае она должна обратить следствие к дополнению или законному направлению. Таким образом, на палате лежат две обязанности: оценка следствия по существу и надзор за законностью его производства. Оценка полноты следствия, по свойству всякого преступления вообще, должна быть направлена на разрешение вопросов о том, есть ли основание считать событие преступления совершившимся? есть ли основание к обращению заподозренного или привлеченного к делу обвиняемого в подсудимого? и выяснены ли все данные его личности в отношении общественном (права состояния), судебном (судимость), физическом (возраст) и психическом (вменяемость)? Из последних данных — самые важные, самые чреватые последствиями для правосудия, без сомнения, те, которые касаются психического состояния обвиняемого, ибо только сознательная воля обращает противозаконное нарушение общественных и личных прав в преступление, а не в несчастие.
Обращаясь к рассмотрению того, исполнена ли судебною палатою ст. 534 Устава уголовного судопроизводства в надлежащем ее объеме, необходимо заметить, что хотя по общему, практически установившемуся, правилу Сенат в кассационном порядке не входит в существо и способы производства предварительного следствия, но из этого им же самим, в интересах поддержания судебного порядка, установлен ряд исключений. Сенат в ряде решений признал, что и нарушения при предварительном следствии подлежат его обсуждению, а именно в тех случаях, когда они, во-первых, такого рода, что не могли быть исправлены на суде, во-вторых, когда они могли иметь влияние на решение присяжных и, в-третьих, когда они не могли быть своевременно обжалованы. К этому последнему виду нарушений необходимо с полным основанием и последовательностью отнести и те случаи, когда эти нарушения не могли вообще быть фактически обжалованы, потому что обжалованию не подлежали, или когда, несмотря на очевидность их, не было жалобщика, т. е. лица, которое заступалось бы за нарушенные свои права. Такие случаи касаются преимущественно свидетелей, право и спокойствие которых могут быть грубо нарушаемы напрасным призывом и требованием ненужных, а иногда и очень тягостных разоблачений. Свидетели, по смыслу 492 статьи Устава уголовного судопроизводства, могут жаловаться лишь на притеснения и взыскания, которым они подверглись при следствии. Речь идет, очевидно, не о привлечении их к допросу, да притом следственное производство не открыто свидетелю, как обвиняемому, он не может поэтому жаловаться уже в силу того, что не знает, почему его допрашивают. Сюда же относится и случай, когда потерпевшего нет, как, например, в настоящем деле, в живых или когда обвиняемый находится в таком состоянии, что в его померкшем сознании нет понимания значения ни производимых действий, ни своих интересов, и где обвинительная' власть действует односторонне. Во всех этих случаях прежде всего страдает начало правосудия, которому может прийтись, вследствие предвзятого взгляда следователя на дело, пережить оскорбительные минуты, если в его положение не войдет судебная палата или при ее бездействии Сенат. Решение 1869 года, за № 724, окончательно устанавливающее начало кассационного обжалования определений судебных палат о предании суду, доказывает, что Сенат не считает возможным умывать руки относительно деятельности судебной палаты, да это было бы и невозможно, ибо на основании решения 1867 года, № 204, суд не вправе входить в обсуждение правильности и полноты следствия, по которому состоялось определение палаты, а, между тем, судебное следствие по материалу своему есть повторение следствия предварительного. Там, где палата не исполнила своих обязанностей по 534 статье Устава уголовного судопроизводства и где суд обязан ей безусловно подчиняться, Сенат должен войти в оценку ее действий и, следовательно, в рассмотрение тех нарушений и пробелов следствия, по коему она не предписала доследования или не дала делу законного направления. Не сделать этого при указаниях кассационных жалоб, значило бы поставить во всех случаях бездействия палаты по 534 статье Устава уголовного судопроизводства уголовное дело в такое положение, что Сенат может исправлять его, в смысле устранения нарушений, ограниченно и только сверху вниз — до палаты, а следователь и прокуратура зато могут почти безнаказанно портить его снизу вверх, тоже до палаты. Не было ли бы это похоже на заявление авторитетного технического учреждения, что оно может ремонтировать и укрепить грозящее падением здание только от крыши до бельэтажа, а колеблющееся основание здания должно оставить без прикосновения?! Строго держась кассационной роли, Сенат, по возможности, чтобы не сказать слишком, воздержался от рассмотрения действий палат по 534 статье Устава уголовного судопроизводства; но практика его в этом отношении должна быть расширена. Этого требуют интересы правосудия, это вызывается и практическими требованиями судебного дела. В нашей следственной части проявляются болезненные припадки, грозящие обратиться в хронический недуг. Эти припадки надо лечить местными судебными средствами, а при бездействии местной судеб-но-врачебной инстанции нужно прибегнуть к средствам кассации и надзора. В следствии, производимом односторонне, без ясного и твердо очерченного, основанного на смысле и духе уголовного закона, плана, утрачиваются строгие деловые контуры его анатомического строения, преподанные Судебными уставами, оно извращается, одни его части атрофируются, другие вздуваются и опухают. Неполное, с одной стороны, и чрезмерно обремененное.—-с другой, оно всегда грозит недоумениями и осложнениями на суде, а следователь, между тем, без руководящей идеи о производимом им деле, стоит беспомощно пред морем житейских фактов и подбирает без разбора все, что оно приносит с песком, илом и грязью к ногам…
Переходя от этих общих соображений к действиям Петербургской судебной палаты по делу Палем и останавливаясь прежде всего на достаточной полноте следствия, нельзя не видеть, что этой полноты в действительности не существует. На многочисленные основания, дававшие повод предполагать ненормальное психическое состояние Палем и требовавшие именно в интересах полноты следствия возбуждения на основании 355 1 статьи Устава уголовного судопроизводства вопроса об исполнении следователем обряда освидетельствования, указанного в ст. 353—355 того же Устава, уже было мною указано. Но в виду палаты были и еще другие данные, не подлежавшие проверке на судебном следствии — и данные в своем роде красноречивые. Не говоря уже о показании доктора Чацкина, у которого, ввиду переходившей обычные пределы у нервнобольных мнительности Палем, мелькало подозрение о ненормальном ее психическом состоянии, достаточно указать на самое первое показание Палем о том, что она не желает ничего отвечать, ибо слишком высоко себя ставит в связи с безрассудным заявлением о лице, которому она, пожалуй, «кое-что» расскажет, и на составленный следователем 7 сентября 1894 г. протокол о том, что вследствие отказа освободить Палем на поруки она грозила убить себя, зашагала в волнении по камере, зашаталась, упала в судорогах и слезах, произнося бессвязные слова: «Саша…» «на могилу…» и т. д. — и затем, жалуясь на озноб и жар, стала рыдать. Этого мало. Следователь предпринял даже некоторые шаги, предписываемые 353 статьей Устава уголовного судопроизводства. Он собирал сведения о том, не страдала ли чем-либо обвиняемая, и допрашивал ее родителей; он призвал и судебного врача, доктора Руковича, смешав при его допросе в одно — экспертизу психического состояния Палем с экспертизою расстояния, на котором был произведен выстрел. Но все это делалось как-то нерешительно, ощупью и не доделывалось. Так, например, 353 статья предписывает расспросить обвиняемую и освидетельствовать ее чрез судебного врача, но этого исполнено не было, а Рукович, как видно из точного содержания протокола от 12 сентября 1894 г., не свидетельствовал надлежащим порядком Палем, а был приглашен дать свое заключение на основании прочитанных ему протоколов и свидетельских показаний, как будто наука и практика допускают возможность постановления такого «заочного психиатрического приговора». На обязанности обвинительной камеры лежало принять меры к разрешению следователем вопроса о вменении прямо н согласно с указанием закона, не оставляя эту важную область исследования незатронутою со всех сторон и в то же время не разъясненною указанным в Уставе уголовного судопроизводства порядком. Возвращение следствия к доследованию и освидетельствование Палем по 353—355 статьям этого Устава, в случае признания ее подлежащею вменению, дало бы возможность суду и присяжным выслушать настоящих экспертов-психиатров и устранило бы, путем постановки вопроса по ст. 96 Уложения, неразрешимое столкновение сомнения присяжных с формальным требованием судопроизводства. Излишне говорить, насколько выигрывало бы от этого спокойное отправление правосудия.
Но если исполнение первой части 534 статьи Устава уголовного судопроизводства палатою не может быть признано правильным, то не менее неправильно и обсуждени с ею следствия с точки зрения его соответствия требованиям Устава уголовного судопроизводства. Судебной палате на основании второй части 249 статьи Устава уголовного судопроизводства принадлежит надзор за состоящими в округе ее определенными лицами, к числу которых относятся и судебные следователи. Надзор этот, согласно решениям общего собрания 1875 года за № 63 и 1880 года за № 25, касается всех нарушений законного порядка, которые палата усмотрела и обнаружила или о коих иным образом осведомилась; он производится в силу 2491 статьи Учреждения судебных установлений и по делам, доходящим в установленном порядке до ее разрешения. Поэтому, усмотрев, при обсуждении вопроса о предании суду, нарушение законного порядка при производстве предварительного следствия, обвинительная камера имеет право восстановить этот порядок, отменив те действия и распоряжения следователя, которые идут вразрез с лежащею на нем задачею и с его обязанностями. Статья 250 Учреждения судебных установлений прямо указывает на то, что высшее судебное место, обнаружившее неправильное действие подведомственного ему лица, разъясняет ему, в чем именно состоит неправильность или упущение в каждом данном случае, отменяет постановления и распоряжения, противные законному порядку, и принимает меры к восстановлению нарушенного порядка. Именно согласно с этими своими правами должна действовать обвинительная камера, когда, усмотрев нарушение существенных форм и обрядов судопроизводства, она, согласно 534 статье Устава уголовного судопроизводства, обращает дело к законному направлению. Практически говоря — это значит, что палата, найдя, что какое-либо следственное действие произведено без указанных в законе оснований, или без соблюдения гарантий, или посредством способов, не указанных и даже прямо воспрещенных законом, отменяет это действие и признает его ничтожным, вследствие чего и протокол, в который занесено это действие, должен быть признан как бы несуществующим, причем к нему, конечно, не может применяться и ст. 687 Устава уголовного судопроизводства. Пользование этим правом надзора, ставя обвинительную камеру на довлеющую ей высоту, должно служить могущественным средством для внутреннего улучшения следственной части и для ограждения законных прав тех из частных лиц, которые не могут, как уже было мною указано, обжаловать следственные действия. Предоставлять палате рассматривать и отменять только те действия следователя, которые признаны правильными обжалованным определением окружного суда, значит умалять роль палаты, как первой по времени и притом единственной инстанции, которая рассматривает оконченное следствие во всей его совокупности. Обвинительная камера является фильтром, пройдя сквозь который следствие должно представляться и полным, и законным во всех отношениях. Только в таком виде оно не подействует на судебное следствие подчас искажающим и разлагающим образом. Поэтому обвинительной камере, соблюдающей 534 статью Устава уголовного судопроизводства, надлежит обращать внимание не только на полноту следствия, но и на его содержание в смысле законности и отсутствия вредных для дела излишеств, не стесняясь узкими формальными взглядами в применении своего живого и жизненного права надзора. Практика указывает случаи, где палата даже по неправильно и по ошибке попавшему к ней делу в порядке частного обвинения изменяла, в порядке надзора, квалификацию и обращала дело к публичному обвинению. Так поступила Московская судебная палата по делу Крутицкого, обратив обвинение в обольщении несчастной гимназистки в дело об изнасиловании — и Сенат одобрил такое ее распоряжение. Та же палата уничтожила, как незаконную, экспертизу двух известных артисток по вопросу о душевном возбуждении молодой дебютантки, вслед за дебютом изнасилованной в элегантно устроенной западне. Но если бы палата обратила внимание на протокол этой экспертизы, рассматривая при отсутствии жалобы это дело по 534 статье Устава уголовного судопроизводства, ужели она должна бы дать этому акту существовать и даже разрабатываться на суде, отказавшись от своего права надзора. Это был бы взгляд, мертвенный и чуждый интересам настоящего правосудия.
Вопрос о пределах исследования — вопрос важный и трудный. Но эти пределы имеют такое серьезное значение, что установление их необходимо. Большинство юристов не сомневается, что отправною точкою исследования должно быть событие преступления. Оно подлежит обследованию вполне и со всевозможною подробностью, ибо в ней, в этой подробности, очень часто содержится и указание на внутреннюю сторону преступления. Точно так же подробно должен быть исследован и законный состав преступления. Здесь точность и даже мелочность исследования имеют прямое отношение к делу. Но затем должны быть, сообразно свойству каждого преступления и по каждому делу, установлены пределы, до которых должно идти исследование. Так, не все предшествовавшие преступлению события, а лишь ближайшие к нему и с ним связанные могут иметь значение для дела. Обстановка, в которой совершено преступление или в которой находились обвиняемый и жертва преступления, а также движущий и притом даже объективный мотив действий обвиняемого, конечно, подлежат исследованию, равно как и личность обвиняемого, уже потому, что они содержат в себе часто задатки снисхождения. Но пределы этого исследования, особливо по отношению к личности, зависят от рода преступления и от доказанности события. Личность должна быть, по меткому выражению одного из наших выдающихся юристов, исследована «постольку, поскольку она вложилась в факт преступления». Там, где самое событие налицо, дело требует и допускает меньший объем исследования, но где дело идет об отрицаемом обвиняемом событии, как, например, изнасиловании, поджоге застрахованного имущества, подлоге завещания и т. п., там обвинение, как это уже было мною заявлено Сенату в заключении по делу Назароза, может быть доказано или опровергнуто доказательствами, разъясняющими такие стороны личности и жизни обвиняемого, в которых выразились свойства, вызвавшие движущие побуждения его судимого деяния, или, наоборот, с которыми это деяние стоит в прямом противоречии. Но идти далее этого — значит вторгаться в такую область, которая суду не подлежит, да ему и не нужна для правильного исполнения его задачи. Он рассматривает не жизнь обвиняемого вообще, а преступное деяние, он осуждает подсудимого за те стороны его личности, которые выразились в этом деянии, а не за жизнь его. Иначе судебному исследованию и, да позволено будет сказать, любопытству отдельных судебных деятелей не будет предела. Такой порядок вещей не может быть признан нормальным ни в отношении обвиняемого, ни тогда, когда подобные приемы исследования направляются на потерпевшего, когда о нем производится своего рода дознание чрез окольных людей, причем жизнь и личность раскапываются с самою мелочною подробностью, точно дело идет исключительно о решении вопроса — достоин ли он был постигшей его участи? — как будто житейское поведение потерпевшего может изъять его из покровительства закона и по отношению к нему сделать дозволенным, по личному взгляду подсудимого, то, что не дозволено и преступно по отношению к другим людям. Такого взгляда, конечно, у судебной власти существовать не может и не существует; но поэтому и действия ее по собиранию доказательств не должны никому давать повода думать, что собранный ею материал может послужить для проведения в жизнь такого превратного и противоречащего условиям общежития взгляда.
Обращаясь к исполнению судебною палатою второго требования 534 статьи Устава уголовного судопроизводства, надо признать, что оно ею не исполнено, так же как не исполнена и 537 статья Устава уголовного судопроизводства, без сомнения обязывающая обвинительную камеру оценивать обвинительный акт не только по квалификации деяния, но и по его содержанию и способу изложения. Исследование не относящихся к делу подробностей нашло себе выражение прежде всего в обвинительном акте по делу Палем: в нем, после изложения события преступления, указано, что, по выражению Ольги Палем, Довнар был человек бесхарактерный, гаденький и нахальный; он закладывал ее вещи, пользовался ее деньгами и присвоил себе часть мебели, купленной ею на деньги, полученные от Кандинского, а затем подробно изложена проверка такого взгляда обвиняемой на убитого ею Довнара, предпринятая на предварительном следствии, причем ее собственное прошлое рисуется на пространстве двадцати девяти слишком лет, начиная с того дня, когда «у симферопольского еврея Мордки и жены его Гени Палем родилась дочь Меня». На обязанности обвинительной камеры лежало определить, какие части обвинительного акта представляются излишними, вредящими ясности и цельности дела и поэтому не соответствующими целям правосудия, и придать этому важному документу, формулирующему собою обвинение и предшествующему судебному рассмотрению дела, серьезный и деловой характер. Это требование палатою не было исполнено. Не видно в определении палаты и следов рассмотрения приемов и действий судебного следователя с точки зрения их законности и правильности.
Правительствующий Сенат не может оценивать действия обвинительной камеры по рассмотрению существа и результатов тех или других следственных действий, но его долг, не нарушая своего кассационного характера и не входя в существо дела, оценить характер действий следователя в тех случаях, когда им созданы нарушения, не могущие быть исправленными на суде или обжалованными. Так, статья 265 Устава уголовного судопроизводства обязывает следователя приводить в известность обстоятельства, оправдывающие обвиняемого. В чем оправдывающие? Конечно, в деянии, а не в поведении и образе жизни до совершения преступления. Но какое отношение к этой статье может иметь оглашение переписки и ряд допросов о принятии обвиняемою православия за 15 лет до преступления, об отношениях ее к родителям за то же время, о их средствах, об обстоятельствах ее крещения и об отношениях ее к крестному отцу? Какое отношение к обвинению ее в убийстве покинувшего ее сожителя имеет допрос ряда свидетелей о том, состояла ли она в разное время .и иногда задолго до совершения преступления с ним или с кем-либо другим в интимных половых отношениях? Причем одному свидетелю приходится отвечать на вопрос о том, думал ли он на ней жениться. Так, ст. 266 Устава уголовного судопроизводства обязывает следователя собирать доказательства. Это конечно, доказательства не безразличных, с точки зрения уголовной, обстоятельств, а доказательства преступления, согласно его законному составу. Но какое отношение может иметь к этим доказательствам по делу об убийстве обширное исследование о материальных средствах потерпевшего и обвиняемой, переписка о заложенных в частном ломбарде и в обществе для хранения движимостей вещах, о хранящихся в Государственном банке на текущем счету деньгах и о записях пересылки денег в более чем 537 почтовых книгах, задавшее, вероятно, не мало работы контрольным палатам? Могут ли быть основательным образом причислены к ним письма лиц, нуждавшихся в денежной помощи или покровительстве Палем, на которых она клала резкие резолюции? На основании ст. 371 Устава уголовного судопроизводства, вещественные доказательства, могущие служить к обнаружению преступления, приобщаются к делу с подробным описанием их в протоколе, причем эти протоколы и самые доказательства оглашаются и представляются на суде. Закон и кассационная практика воспрещают, однако, прочтение на суде актов полицейского дознания, не подходящих под требование 687 статьи Устава уголовного судопроизводства. Но приобщение целых полицейских производств, содержащих в себе при этом обстоятельства, касающиеся частной жизни совершенно посторонних лиц, составляет несомненный обход этого закона, не говоря уже о вторжении в жизнь людей, к делу никакого касательства не имеющих. Вследствие этого, признавая нужным приобщить какое-либо дело к следственному производству, судебный следователь обязан с точностью указать и описать в протоколе лишь то, что прямо относится к исследуемому преступлению, не припутывая к нему обстоятельств посторонних, от чего закон удерживает, на основании 718 статьи Устава уголовного судопроизводства, даже и простых свидетелей. Поэтому дело сыскного отделения, оглашенное на суде, могло подлежать приобщению и описанию в протоколе только в определенных, прямо относящихся до преступления Палем, частях.
Так, наконец, статья 357 Устава уголовного судопроизводства, относящаяся до исследования события преступления, дозволяет производить обыски и выемки лишь в случаях основательного подозрения о сокрытии обвиняемого, или предмета преступления, или вещественного доказательства, причем, конечно, выемки по отношению к письменным доказательствам можно производить лишь тогда, когда хранитель отказывается их выдать добровольно. Эти следственные действия до такой степени вносят смуту в жизнь частного человека и в отношения к нему окружающих, что должны быть предпринимаемы с особенною осторожностью. Но можно ли считать требование 357 статьи об основательном подозрении сокрытия соблюденным ввиду постановления судебного следователя о производстве в Одессе у купца Кандинского обыска и выемки его переписки и торговых книг, когда он еще не был допрошен, а следовательно, и не думал отрицать тех своих отношений к обвиняемой, подтверждением которых могли бы служить эти книги и переписка, и не заявлял никакого отказа в их представлении. При этом отобрание торговых книг, несмотря на просьбу Кандинского об оставлении их у него для ведения торговых дел и отчетности, происшедшее 11 июня и заключившееся 31 октября производством бухгалтерской экспертизы этих книг для определения того, какие суммы высылались на имя Палем и Довнара, представляет собою явное нарушение статей 529 и 530 Устава торгового, в силу которых такие книги составляют ненарушимую коммерческую тайну и только в случае признания несостоятельности по определению суда отбираются у несостоятельного и рассматриваются кем следует. Излишне говорить, что подобная бесцельная любознательность следователя, сопровождаемая предъявлением книг посторонним лицам, понятым и экспертам, нарушающая существенные интересы торгового лица и могущая подорвать его кредитоспособность, составляет своего рода опасность для спокойного существования лиц, непричастных к преступлению. Такая незаконная любознательность, граничащая с произволом, может заставить общество обратиться к справедливому извращению старой русской поговорки: «Не бойся суда,— говорила она, — а бойся судьи». Судебная реформа отучила бояться судей, а приучала их уважать. Но там, где вполне добросовестный судья “не будет отдавать себе ясного отчета в цели и значении своих действий, там само учреждение суда заставит общество взирать на него со страхом и говорить: «Не бойся судьи, а бойся суда».
Не касаясь разбора дальнейших указанных гражданским истцом осложнений и неправильных приростов следствия по делу Палем, тянувшегося, благодаря им, по ясному и неопровержимому событию, пять месяцев, нельзя отрешиться от мысли, что эти наслоения могли значительно затемнить истинную сущность дела и что такую свою роль они могут выполнить и вновь, если обвинительною камерою не будут приняты меры к устранению их при самом рассмотрении следствия. Поэтому одной отмены приговора было бы недостаточно для восстановления законного порядка в этом деле; отмена должна идти дальше и глубже и коснуться самого определения судебной палаты о предании суду, обязав ее в точности применить к делу 537, а по отношению к обвинительному акту — и 538 статьи Устава уголовного судопроизводства. Такое решение Правительствующего Сената вызывается не только существенными нарушениями, допущенными по настоящему делу, но и требуется интересами правильного отправления правосудия вообще. Это решение должно настойчиво указать обвинительным камерам их обязанность быть на страже правильного производства предварительного следствия и разрешить роковой судебный вопрос: «et quis custodit custodes ipsos?» [11].
По всем этим соображениям я полагаю отменить и определения палаты о предании Палем суду за нарушением 534 статьи Устава уголовного судопроизводства и передать дело для нового рассмотрения в порядке предания суду в другой состав той же судебной палаты.
ПО ДЕЛУ О МУЛТАНСКОМ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИИ *
Признавая, что жалоба на нарушение 578 статьи Устава уголовного судопроизводства невызовом всех экспертов, указанных защитою, и сообщением о вновь вызванных прокурором свидетелях не неграмотным и темным людям, какими представляются подсудимые по этому делу, а их защитнику, по установленной Сенатом практике и по существу своему не заслуживает уважения, перехожу к тем поводам кассации, которые признаю уважительными.
Составители Судебных уставов отказались от мысли заранее указать точно и определенно те нарушения судопроизводственных правил, которые должны быть считаемы существенными. Они совершенно основательно признавали, что существенность нарушения определяется, за исключением некоторых исключительных случаев, родом и свойством дела, характером представляемых доказательств и тем значением, которое имеет предъявляемое обвинение в судебно-бытовом отношении. Поэтому существенные кассационные нарушения могут быть разделены на нарушения безусловные, так сказать принципиального характера, и на нарушения, приобретающие значение существенных по свойству самого дела. При нарушениях первого рода, к которым относятся, например, нарушение подсудности, незаконный состав присутствия, не согласное с требованием Судебных уставов устранение гласности, приговор не может быть оставлен в силе потому, что дело разрешено не надлежащим судом и не в надлежащих коренных условиях производства. При нарушениях второго рода дело разрешается хотя и узаконенным судом, но при таких условиях, что суд не имеет пред собою материала для правильного суждения и потому может оказаться недостаточно осведомленным о деле. Ввиду этого область существенных нарушений относительно исследования судебного материала бывает довольно узка в делах, где имеется наличность не только события преступления, но и виновных, не отрицающих свои преступные отношения к этому событию, и где судебное исследование направлено исключительно на проверку обстоятельств, подтверждающих сознание, сделанное пред судом. Эта область расширяется там, где предстоит установить виновность по косвенным уликам и доказательствам и где сознание заменяется отрицанием обвиняемым не только своей вины, но иногда и самого события преступления. Эта область становится особенно широкою в тех случаях, где суду приходится иметь дело с исключительными бытовыми или общественными явлениями и где, вместе с признанием виновности подсудимых, судебным приговором установляется и закрепляется, как руководящее указание для будущего, существование какого-либо ненормального явления в народной или общественной жизни, в котором преступление получило свой источник или основание. Таковы дела о новых раскольничьих сектах, опирающихся на вредные в общественном или религиозном отношении догматы или учения; дела о местных обычаях, приобретающих, с точки зрения уголовного закона, значение преступлений, как, например, увоз девиц для брака, родовое кровомщение и т. п., таковы также дела об организованных сообществах для систематического истребления детей, принимаемых на воспитание, и т. п. В этого рода делах суд обязан с особою точностью и строгостью выполнить все предписания закона, направленные на получение правосудного решения. Он должен памятовать, что приговор его является не только разрешением судьбы подсудимого, но и точкою опоры для будущих судебных преследований и, вместе с тем, доказательством существования такого печального явления, самое признание которого судом устраняет на будущее время сомнение в наличности источника для известных преступлений бытового или религиозного характера в той или другой части населения.
К таким именно делам относится дело об убийстве Матюнина, совершенном вотяками для жертвоприношения их языческим богам. Признание по этому делу подсудимых виновными должно быть совершено с соблюдением в полной точности всех форм и обрядов судопроизводства, ибо этим решением утверждается авторитетным словом суда не только существование ужасного и кровавого обычая, но и невольно выдвигается вопрос о том, приняты ли были достаточные и целесообразные меры для выполнения Россиею, в течение нескольких столетий владеющею вотским краем, своей христиански-культурной и просветительной миссии. Установление путем судебного приговора несомненности существования такого обычая — до сих пор спорного между этнографами и учеными — должно быть совершено путем безупречного исполнения закона, чтобы раз навсегда прекратить сомнения по этому поводу. В этом отношении, уже при первой отмене приговора по делу, были даны надлежащие указания Правительствующим Сенатом, который в указе своем от 5 мая 1895 г. высказал, что настоящее дело требует, чтобы со стороны суда были приняты все меры для возможного разъяснения дела и для правильного и спокойного разрешения оного, так как нельзя не признать, что и в обвинительном акте не было ясно и точно установлено самое существование между вотяками человеческих жертвоприношений, не были указаны с достаточною полнотою фактические основания для обвинения каждого из 11 подсудимых в тяжелом, влекущем уголовное наказание, преступлении. Таким образом, Правительствующим Сенатом уже преподана суду необходимость особой осмотрительности в разрешении настоящего дела, выражающейся в соблюдении всех тех предписаний, которыми гарантирована эта осмотрительность. Между тем, надлежит признать, что Сарапульский окружной суд и при вторичном рассмотрении сего дела допустил ряд существенных нарушений.
Первое из них есть нарушение абсолютного характера, а именно нарушение 929 статьи Устава уголовного судопроизводства, выразившееся в том, что член суда Горицкий, председательствовавший при первом рассмотрении этого дела, принимал участие, в качестве докладчика, в распорядительном заседании после кассации приговора для рассмотрения ходатайства подсудимых о вызове свидетелей и экспертов, причем это ходатайство в значительной своей части не было уважено. Закон, изображенный в 929 статье Устава уголовного судопроизводства, совершенно определенно воспрещает рассмотрение дела, после отмены приговора, теми же самыми судьями, которые входили в состав присутствия, постановившего первый приговор. Еще в 1875 году, в решении по делу Собакарева, Правительствующий Сенат указал, что правило 929 статьи обязательно и для приготовительных к суду распоряжений, а в 1876 году даже распространил это правило на осуждение дел, переданных другому составу присяжных, по 818 статье Устава уголовного судопроизводства вследствие единогласного признания судей, что осужден невинный. В объяснениях своих по этому поводу член суда Горицкий ссылается на то, что в 1878 году состоялось решение по делу Ахназарова, коим признано, что правило 929 статьи Устава уголовного судопроизводства распространяется лишь на состав присутствия, постановляющий приговор по существу, а не частное по делу определение, но это объяснение не заслуживает уважения, во-первых, потому, что в 1893 году состоялось решение по делу казака Жилы, которое вполне определенно и категорически подтвердило взгляд, высказанный по делу Собакарева, причем действие лица, нарушившего 929 статью своим участием в приготовительных к суду распоряжениях, было признано подлежащим дисциплинарному взысканию и передано на рассмотрение соединенного присутствия первого и обоих кассационных департаментов; а во-вторых, потому, что изложенное в объяснении содержание решения по делу Ахназарова почерпнуто не из подлинного решения, а из краткого тезиса сборника Щегловитого, который по самому своему назначению не может передавать обстоятельств дела. Если дать себе труд прочесть подлинное решение по делу Ахназарова в официальном кассационном сборнике, то окажется, что в деле Ахназарова вопрос шел лишь об участии состава, решавшего в первый раз дело, в рассуждениях о том, какому из департаментов палаты — уголовному или гражданскому — надлежит в другом составе рассмотреть вновь кассированное производство. Поэтому решение по делу Ахназарова нисколько не идет вразрез с решениями по делам Собакарева и Жилы, и остается лишь пожалеть о том, что эти решения не были применены во всей их полноте по настоящему делу. Статья 929 Устава уголовного судопроизводства имеет коренную связь со всем кассационным производством и толковалась Правительствующим Сенатом всегда с особым вниманием. На такое же внимание к таким своим решениям, имеющим не только разъяснительный по данному делу, но и общий по всем делам императивный характер, со стороны подчиненных ему судебных учреждений имеет право рассчитывать
Правительствующий Сенат, ибо иначе пришлось бы повторить слова великого его основателя — «всуе законы писать, если их не исполнять» и допустить замену точного смысла закона, разъясненного высшим, призванным к тому судилищем, личным усмотрением суда по правилу: Sic volo, sic jubeo! Stat pro ratione voluntas! [12]
Уже одного нарушения 929 статьи Уголовного судопроизводства было бы достаточно для того, чтобы отменить приговор по настоящему делу. Но независимо от этого существует ряд других нарушений по свойству самого дела. Первое из них выразилось в постановлении суда от 19 августа 1895 г. об отказе жалобщикам в вызове оправданных при первом рассмотрении дела подсудимых Александрова и Гаврилова. Решениями Правительствующего Сената за 1871 год № 450, за 1873 год № 359, за 1877 год № 29, за 1878 год № 39 и другими вызов таких оправданных подсудимых в качестве свидетелей признан для суда обязательным, в порядке, установленном 557 статьей, и распространен не только на оправданных подсудимых, но даже и на осужденных. Поэтому отказ в вызове оправданных подсудимых по требованию обвиняемых, подлежащих суду второй раз, есть явное стеснение прав последних, которое ни в каком случае и никогда не может быть объяснено даже тем, что показания этих свидетелей не имеют непосредственного отношения к делу, ибо против этого свидетельствует самая скамья подсудимых, которая при первом разбирательстве дела одинаково приютила на себе и оправданных, и осужденных. Идя последовательно, пришлось бы признать, что и объяснения этих лиц, данные в первом заседании, к делу не относятся. Несомненно, что обвиняемый по одному и тому же преступлению есть и один из важнейших свидетелей, если только суд, по внутренней оценке, не найдет необходимым отнестись к нему с недоверием. Объяснения, сделанные по этому предмету судом, не представляются основательными. В них говорится об отсутствии основного закона, который делал бы такой вызов обязательным. Но Устав уголовного судопроизводства делает обязательным вызов всякого лица, могущего быть свидетелем по делу, и в статьях 713, 714 и 721 определено, в чем состоит то отношение человека к делу, которое придает ему характер свидетеля. Поэтому и за невозможностью признать показания оправданных не относящимися к делу они несомненно имеют право занять в деле положение свидетелей, причем это их право подтверждено и закреплено приведенными решениями. Об отсутствии какого же основного закона говорит объяснение суда? Едва ли можно предположить, чтобы оно имело в виду законы основные, помещенные в первой части первого тома Свода законов, ибо они по важности своей, конечно, не могут касаться таких вопросов, как вызов свидетелей. Поэтому говорить о применении их к настоящему делу невозможно, да и ничего относящегося к отправлению уголовного правосудия в них нет, если не считать ст. 65, обязывающей все без изъятия места, а следовательно и судебные, утверждать свои определения на точных словах закона — «не допуская обманчивого непостоянства самопроизвольных толкований».
Во второй части объяснения судом указывается, как на основание к отказу, на то, что после отказа ходатайство о вызове одного из оправданных подсудимых не было повторено и что защитник, по открытии заседания, не просил об его отсрочке, за отсутствием этих свидетелей, для вызова их. Но обсуждению Сената подлежит отказ суда в тех условиях, в которых он был сделан, и вне зависимости от тех действий, которыми он сопровождался, причем надлежит заметить, что отсутствие требований о вызове свидетелей на счет подсудимых, людей бедных, темных и давно уже содержащихся под стражею, ни в каком случае им в вину поставлено быть не может, суду же должно быть известно, что требование защитника об отсрочке заседания для вызова свидетелей, в котором судом уже было отказано, было бы требованием тщетным, незаконным и невыполнимым. Поэтому упрек в том, что такое требование не было предъявлено по открытии судебного заседания, несправедлив и, ввиду обязанности суда оставить такое требование без последствий, представляется более чем странным.
Второе нарушение выразилось в способе обсуждения ходатайства защиты о вызове неявившихся свидетелей. Закон дает суду дискреционное право отказывать в вызове новых свидетелей, признавая их не относящимися к делу, но закон требует, чтобы самое ходатайство о вызове было обсуждено во всех подробностях. Суд может отказать, но у просителя должно остаться убеждение, что, отказывая, суд вошел в оценку всех его доводов. К суду в подобных случаях вполне приложимо античное изречение «бей, но выслушай». Поэтому в ряде кассационных решений, между прочим, по известным делам Вельяшева 1890 года и Минцес 1889 года указано, что суд обязан каждый раз входить в оценку как важности показаний указываемых свидетелей, так и того, действительно ли их показания составляют новое в деле обстоятельство. При этом вся практика Правительствующего Сената по 8791 статье Устава уголовного судопроизводства основана именно на обязанности суда мотивировать подробно свои постановления в этом отношении. Между тем, постановление суда 19 августа 1895 г. отказывает в вызове свидетелей, долженствующих показать о новых обстоятельствах, на том основании, что обстоятельства эти не представляются новыми, «так как некоторые из них были известны при производстве полицейского дознания, другие при производстве следствия, на что указывают не только протоколы того и другого, но частью и находящиеся в производстве суда прошения подсудимых».
Но прежде всего прошения участвующих в деле лиц ни в каком случае не могут устанавливать собою таких обстоятельств, которые затем уже не признаются новыми, потому что прошения эти рассмотрению присяжных заседателей не подлежат. С другой стороны, обстоятельством не новым не может считаться такое, которое почему-либо сделалось известным полиции, но не было ни ею, ни следственною властью проверено надлежащим образом. Вопрос не в том, знал ли тот или другой агент полицейской власти об известном обстоятельстве, и даже не в том, придавал ли он ему значение или нет, а в том, было ли это обстоятельство обследовано теми способами и приемами, которые указаны в Уставе уголовного судопроизводства. Иначе пришлось бы допустить устранение из дела многих новых обстоятельств только потому, что было бы доказано, что слухи о них доходили до сведения полицейской власти, которая вследствие неопытности, поспешности, предвзятого взгляда или одностороннего отношения к делу не придала им значения. Инстанция, предающая суду, — судебная палата, — обязана разрешать вопрос о предании суду на основании актов предварительного следствия, а потому обстоятельства, имеющие существенное отношение к делу, не помещенные в актах предварительного следствия, должны считаться новыми. Правительствующий Сенат не признал нарушением, в решении по делу Мешкова 1871 года, отказ в вызове свидетелей по обстоятельству, которое именовалось новым, но уже было предметом предварительного следствия, и тем самым указал, что обстоятельства, не бывшие предметом предварительного следствия, подлежат обследованию путем свидетельских показаний и иными законными способами как новые. Поэтому отказ суда в вызове свидетелей о новом обстоятельстве без обсуждения его существенности, а потому лишь, что о нем было известно полицейской власти, представляется незаконным. При этом надо заметить, что и самое обсуждение поводов к отказу не представляется сделанным с надлежащей точностью и полнотою, ибо, например, ни в обвинительном акте, ни в актах предварительного следствия нельзя найти указаний на то, чтобы становой пристав, производя розыски, нашел за рекою Люгою не в том месте, где был найден труп Матюнина, следы крови; поэтому, если подсудимым об этом сделалось известным только после рассмотрения дела 11 декабря 1894 г., то обстоятельство это, могущее, по их словам, быть проверенным, должно быть признано судом вновь открывшимся.
Третье нарушение выразилось в отказе защитнику в отсрочке заседания по 734 статье Устава уголовного судопроизводства, дабы иметь время приготовиться к возражениям против новых доказательств, выставляемых прокурором в лице новых свидетелей, вызванных им по 573 статье. Ссылка суда на то, что прокурор имеет право не указывать на обстоятельства, по которым вызываются свидетели, представляется несогласной с неоднократно высказанным Сенатом взглядом, нашедшим свое окончательное закрепление в решении № 717 за 1886 год. Правительствующий Сенат признал, что требование прокурора о вызове новых свидетелей не подчиняется никаким срокам и может быть предъявлено суду до открытия судебного заседания; он признал также, что суд не имеет права входить в обсуждение степени важности подлежащего разъяснению новыми свидетелями обстоятельства и обязан их вызвать безусловно. Но, вместе с тем, в решении по делу Скачкова № 77 за 1878 год Сенатом высказано, что прокурор обязан выяснить суду те основания, по которым он признал показания известных лиц относящимися к делу и их самих подлежащими вызову, несмотря на то, что они не были допрошены на предварительном следствии.
Помимо этих указаний Правительствующего Сената нельзя не признать, что ни достоинство прокурорского звания, ни польза дела не могут ничего утратить от открытого заявления прокурора противной стороне о том оружии, которым он намерен против нее действовать. Подобный открытый образ действия вызывается необходимостью судебного прямодушия, которое должно руководить действиями всех участвующих в деле лиц. Прокурору не следует скрывать в открытом бою для выяснения истины, который идет на судебном следствии, зачем ему нужен тот или другой из вызываемых свидетелей. Достоинство судебного заседания требует всемерно избегать неожиданностей и сюрпризов, ожидающих противную сторону, как чуждых целям правосудия. Кроме того, с практической точки зрения незачем рисковать тем, что защита может усмотреть в показаниях вызванных прокурором свидетелей новое доказательство и согласно 634 и 734 статьям Устава уголовного судопроизводства потребовать отсрочки заседания для разъяснения и подготовления к возражениям. По этим соображениям суд не имел права отказывать защитнику в отсрочке судебного заседания по 734 статье Устава уголовного судопроизводства и объяснять правильность своих действий тем, что защитник, выслушав отказ в отсрочке, не проси \ вновь о такой после допроса свидетелей прокурора. Просьба об отсрочке заседания после допроса свидетелей в большинстве случаев была бы нецелесообразной. Она влекла бы за собою напрасную трату времени судом в случае ее уважения и лишила бы подсудимого возможности представить надлежащий отвод против допроса свидетелей. Сенат в ряде решений 1888 года № 199, 1871 года № 939 и 1888 года по делу Умецких и др. требует, чтобы, при представлении новых доказательств, сторона, желающая отсрочки заседания, заявила об этом суду своевременно.
Четвертое нарушение выразилось в том, что председатель не разрешил защитнику предлагать становому приставу Шмелеву вопросы о приводе им обвиняемых к присяге пред чучелом медведя для получения у них сознания в убийстве Матюнина. Товарищ председателя Сарапульского окружного суда объяснил, что запрещение это он счел нужным сделать не столько потому, что подобный допрос клонился к опорочению действий свидетеля Шмелева, как станового пристава, сколько ввиду того, что об обстоятельствах этих уже было дозволено рассказывать и подсудимым и свидетелям, причем недозволение спрашивать о том же Шмелева основывалось, согласно тому же объяснению, на том, что «обстоятельства эти не имели прямого отношения к делу». Ни воспрещение, сделанное товарищем председателя, ни объяснения его не могут, однако, быть признаны правильными. Статья 722 Устава уголовного судопроизводства разрешает свидетелю не отвечать на вопросы, клонящиеся к изобличению его в каком-либо преступлении; по ст. 611 Устава уголовного судопроизводства председатель устраняет в прениях все, что не имеет прямого отношения к делу, и не допускает ни оскорбительных для чьей-либо личности отзывов, ни нарушения уважения к религии, закону и установленным властям. Но ст. 722 не безусловна. Она воспрещает любопытствовать об обстоятельствах хотя бы и преступных, но таких, которые не имеют отношения к исследуемому делу или могут подорвать доверие к свидетелю выставлением его порочных наклонностей или преступных свойств. Но там, где то или другое обстоятельство, выясненное, раскрытое или установленное действиями свидетеля, послужило к изобличению подсудимого или к преданию его суду, там свидетель не может укрываться за ст. 722 Устава уголовного судопроизводства. Это в особенности относится до действий должностных лиц. На суде исследуется не только то, что добыто при предварительном исследовании, но и как оно добыто. Поэтому, дозволение лицу, участвовавшему в таком исследовании, рассказывать, что оно услышало от обвиняемого и какое именно сознание оно получило, и воспрещение в то же время спрашивать это лицо о том, в какой обстановке и при каких условиях оно добыло сознание, есть нарушение оснований уголовного процесса.
Правительствующий Сенат в решении по делу Кронштадтского банка высказал, что Устав уголовного судопроизводства не воспрещает предлагать свидетелю вопросы, касающиеся действий его по службе, коль скоро эти действия имеют отношение к обстоятельствам дела. Стремление к ограждению свидетеля от таких вопросов не только не соответствует целям правосудия, но и нецелесообразно, ибо если о неправильных действиях чиновника при производстве дознания и следствия его самого не позволяют спрашивать, а в то же время — как это было в настоящем деле — дозволяют говорить о том же другим свидетелям и подсудимым, то этим самым чиновника лишают возможности не только оправдаться, но и разъяснить ложь или преувеличение в том, что о нем рассказывалось. Притом судьею того, были ли преступны, неправильны или извинительны действия должностного лица, является не оно само, а согласно с Уставом о службе гражданской и с третьей книгою Устава уголовного судопроизводства — его начальство.
Поэтому должностное лицо, допрашиваемое на суде, несомненно имеет право не отвечать на вопрос о том, совершило ли оно общее, предусмотренное не только уголовным законом, но и заповедями, преступление, но не имеет права на вопрос о том, каким способом добыло оно то или другое доказательство по делу, доказательство, на достоверности и нравственной пригодности которого строится уголовный приговор, отвечать: «Это мой секрет» или ждать, что председатель скажет: «Оставьте его, это его тайна», тем более, что в данном случае умолчание должностного лица есть в сущности косвенное признание неправильности и, по смыслу 722 статьи, даже преступности своих действий. Наконец, где же предел в рассмотрении — на что отвечать должностному лицу по 722 статье и на что не отвечать? Закон признает служебными преступлениями и медленность, и нерадение, предусматривая их в 410 и 411 статьях Уложения о наказаниях. По отношению к ним тоже следует допустить молчание? Но ведь фактами, за которыми можно предположить медленность или нерадение, определяется достоинство, сила и, что иногда весьма важно, хронология доказательства. Настоящее дело, например, началось в мае 1892 года, а вскрытие трупа произведено лишь 4 июня, и в этот промежуток не было произведено ни осмотра тела, ни осмотра местности, где оно найдено; первый осмотр в шалаше Дмитриева, где предполагается совершенным убийство Матюнина, произведен 17 мая 1892 г., а второй, при котором найдены вещественные доказательства, считаемые по делу весьма существенными, лишь 16 августа 1892 г. Если должностные лица, производившие эти действия, будучи вызваны на суд, были бы допрошены о времени производства этих действий, то ужели они могли бы быть освобождены от ответов только потому, что может показаться, что их спрашивают о фактах, имеющих отношение к медленности или нерадению? Но тогда отчего же не пойти далее и не воспретить вообще всякие указания на неправильность следственных действий или неточность в изложении добытых доказательств? О неприменимости к настоящему случаю 611 статьи Устава уголовного судопроизводства говорить излишне, ибо, допустив допрос подсудимых и свидетелей о способе получения сознания первых из них приставом Шмелевым, председательствующий тем самым признал обстоятельство это относящимся к делу и его запоздалое объяснение, не нашедшее себе притом места в мотивах отказа, записанных в протоколе судебного заседания, о том, что вопросы об этом сознании «не имеют прямого отношения к делу», не может заслуживать уважения, тем более, что та же 611 статья вооружает его достаточною властью для устранения в форме вопросов всякого оскорбительного оттенка.
Хотя по закону и по кассационной практике объяснения суда и отдельных его членов не имеют значения заключений суда по замечаниям на протокол, установленных 844 статьей Устава уголовного судопроизводства, но за объяснениями этими нельзя не признавать цены, когда таковые более подробно и разносторонне излагают соображения, руководившие при принятии той или другой меры, подлежащей рассмотрению в кассационном порядке. К сожалению, это кассационное условие соблюдено далеко не во всех частях объяснения товарища председателя Сарапульского суда. Так, в заключении этого объяснения удостоверяется пред Правительствующим Сенатом, что «крайне печально, что судом присяжных дважды установлена виновность семи вотяков в убийстве русского человека с целью принесения его в жертву их языческим богам, но что же делать!—обстановка убийства Матюнина и экспертиза, как врачебная, так и этнографическая, положительно установили, что Матюнин был зарезан с означенной именно целью и этому не желают верить лишь только бывшие на суде — представитель прессы, корреспонденты да господин защитник, домогающийся во что бы то ни стало полного оправдания всех подсудимых, которого он, быть может, когда-нибудь и добьется». Автору объяснения должно быть из 5 статьи Учреждения судебных установлений известно, что Сенат в кассационном порядке не входит в существо дела и что удостоверения в виновности подсудимых, с какой бы компетентной стороны они ни шли, не могут в глазах его ослабить или устранить кассационные нарушения форм и обрядов судопроизводства, которые один только он и призван рассматривать. Поэтому излишне и вовлекать Сенат в оценку существа дела. Для него, в пределах его ведомства, печальным может быть лишь то, что по судебному делу огромной важности, имеющему не только юридический, но и бытовой интерес, судом дважды допущены такие существенные нарушения, что совокупной работе суда и присяжных должно, во имя нелицемерного соблюдения законов, вмененного Сенату в обязанность, обратиться в ничто. Печальными могут показаться и заключительные слова объяснения, столь странно звучащие при существовании в Судебных уставах коренных начал гласности разбирательства и судебной защиты и едва ли соответствующие спокойному достоинству того, кто писал объяснение, и высоте того места, куда оно предназначалось. По всем этим основаниям надлежит признать, что решение присяжных и приговор Сарапульского окружного суда по настоящему делу подлежат отмене за нарушением 577, 722, 734 и 929 статей Устава уголовного судопроизводства и дело должно быть передано для нового рассмотрения в Казанский или Вятский окружной суд.
КОММЕНТАРИИ
«Судебные речи (1868 — 1888)» — обвинительные речи, руководящие напутствия и кассационные заключения — были изданы в Петербурге в 1888 году. А. Ф. Кони называл их «отголосками своей деятельности на судебном поприще» и посвятил их любимому учителю, неоднократно вспоминаемому добрым словом в многочисленных очерках и воспоминаниях — Никите Ивановичу Крылову, профессору римского права Московского университета.
В сборник включены выступления А. Ф. Кони в суде с начала его прокурорской деятельности (1868 год — речь по обвинению Дорошенко в Харьковском окружном суде) по 1888 год. Помимо обвинительных речей им были произнесены руководящие напутствия и кассационные заключения в Сенате.
В книге содержалось 17 обвинительных речей, 3 руководящих напутствия присяжным заседателям и 7 кассационных заключений.
В 1890 году вышло второе издание этой книги, которое было дополнено кассационным заключением по делу Кетхудова и отдельным приложением, куда входили его речь «Достоевский как криминалист», произнесенная 2 февраля 1881 г. в общем собрании Юридического общества при Петербургском университете, и речь в память Константина Дмитриевича Кавелина.
В третье издание (1897 г.) этого сборника вошли уже опубликованные речи А. Ф. Кони, однако без приложения, помещенного во втором издании.
Все издания были посвящены Н. И. Крылову. О своем учителе
А. Ф. Кони говорил с особой теплотой: «…Память о Крылове — о Никите — сохранилась у его слушателей на всю жизнь; — воспоминание о даровитом и оригинальном наставнике неразрывно связывалось со светлыми представлениями о Московском университете — и часто где-нибудь в далекой глуши, за однообразною ежедневною работою, действовало благотворно, заставляя забывать серую действительность и перекоситься от будничных мыслей к широким историко-философским идеям и представлениям» («Никита Иванович Крылов» в сб. А. Ф. Кони, Очерки и воспоминания, СПб., 1906, стр. 234).
В 1896 году А. Ф. Кони выпускает вторую часть своих судебных речей, назвав сборник «За последние годы» (Судебные речи 1888—1896). В этот сборник были включены 3 обвинительные речи и 14 кассационных заключений, не вошедшие в предыдущие сборники. Судебные речи составляли примерно половину сборника, остальную часть составляли воспоминания о писателях, ученых и судебных деятелях, а также статьи (заметки) по различным правовым вопросам.
Этот сборник был посвящен Федору Петровичу Гаазу — «святому доктору». О нем А. Ф. Кони написал самостоятельное исследование— «Федор Петрович Гааз» (краткий биографический очерк), которое в дореволюционный период неоднократно переиздавалось.
К деятельности этого удивительного человека А. Ф. Кони обратился в связи с подготовкой материалов к предстоящему в Петербурге Международному тюремному конгрессу, состоявшемуся 3 июля 1890 г. Об удивительном филантропе, тюремном враче Ф. П. Гаазе Кони прочитал много лекций с благотворительной целью, В связи с этим А. М. Горький в ноябре 1899 года писал Кони: «О Гаазе нужно читать всюду, о нем всем нужно знать, ибо это более святой, чем Феодосий Черениговский… А Ваше слово о Гаазе — есть свет кроткий и ласковый, как сияние евангелия. Вы простите меня, Анатолий Федорович, за то, что я так пространно разговорился. Вы и без моих слов поймете, как нужно, по нашим дням, как необходимо говорить о Гаазе живым, в плоть и кровь облеченным словом, исходящим из уст такого человека, как Вы. Вы поймите и то, что я не льщу Вам, говоря так о Вас, — зачем бы я льстил? Я просто пользуюсь случаем сказать Вам, что я глубоко уважаю Вас и вижу — с радостью — человека там, где обыкновенно нет людей. Простите, может быть грубо. Но я давно Вас знаю, читал Вас и всегда удивлялся, слушая рассказы о Вас» (М. Горький, Собрание сочинений, т. 28, стр. 98).
В 1898 году вышло второе издание сборника «За последние годы», который во второй своей части имел небольшие дополнения. Это издание было посвящено Владимиру Федоровичу Одоевскому. Свое посвящение А. Ф. Кони рассматривал как «…долг благодарного воспоминания о людях, послуживших развитию русской мысли и общественного самосознания». Отмечая заслуги В. Ф. Одоевского,
А. Ф. Кони писал: «Одною из выдающихся сторон литературной деятельности Одоевского была забота о просвещении народа, в способности и добрые духовные свойства которого он страстно верил, забота тем более ценная, что она крайне редко встречалась в то время и многими рассматривалась как неуместное чудачество» (А. Ф. Кони, Очерки и воспоминания, СПб., 1906, стр. 51).
Таким образом, сборники «Судебные речи» и «За последние годы» не повторяют друг друга, вторая книга является продолжением первой.
В 1905 году вышло четвертое издание судебных речей А. Ф. Кони. Этот сборник наиболее полный. В него включены почти все ранее опубликованные судебные речи и руководящие напутствия. Сборник был дополнен несколькими кассационными докладами, заключениями, данными в мировом съезде, и выступлениями по юридическим вопросам в различных официальных учреждениях.
О значении, которое придавал сам Кони этому сборнику, свидетельствует его письмо к А. А. Чичериной от 17 июля 1905 г.: «В своем четвертом издании «Судебных речей» объемом в 1150 стр., в введении и предисловии я обществу отдаю отчет в моей ему службе за 40 лет. 30 сентября 1905 г. будет сорокалетний юбилей» (РО ГБЛ, ф. 334, карт. 15, ед. хр. 3).
Этот сборник А, Ф. Кони посвятил своему другому учителю, крупнейшему ученому, юристу и историку, профессору Московского университета Борису Николаевичу Чичерину.
Необходимо иметь в виду, что помимо сборников речей А. Ф. Кони его выступления публиковались полностью или пространными выдержками в некоторых газетах, журналах либо отдельными оттисками.
Все названные сборники неизменно тепло встречались рецензентами. Видный юрист и публицист К К. Арсеньев, наиболее точно определяя ораторскую манеру А. Ф. Кони, отмечал: «Главную его силу составляет, как нам кажется, простота — та самая простота, которую запечатлены лучшие произведения русской литературы. Русский судебный оратор, наиболее близкий к идеалу русского судебного красноречия, не становится на ходули, не надевает на себя трагическую маску, не гоняется за эффектами, не высоко ценит громкие, трескучие фразы. Он больше, беседует, чем декламирует или вещает… Он не чуждается украшений речи, но не в них ищет и находит главный источник силы. Он никогда не говорит только для публики, никогда не забывает о деле, к разъяснению которого призван, никогда не упускает из виду, что от его слов зависит, в большей или меньшей степени, судьба человека. Он не нарушает, без надобности, уважения к чужой личности, щадит, по возможности, даже своих противников, ни в чем существенном, однако, не уступая и не отступая» («Вестник Европы» 1888 г., кн. 4, стр. 810).
В советское время речи А. Ф. Кони были опубликованы в сборниках: А. Ф. Кони, Избранные произведения (Статьи и заметки. Судебные речи. Воспоминания), М., 1956; «Избранные произведения» в двух томах, М., 1959.
В настоящий том включено большинство речей, опубликованных в свое время в сборнике «Судебные речи», изд. 4-е, СПб., 1905.
Стр. 23 12 декабря 1872 г. в Петербургском окружном суде с участием присяжных заседателей рассматривалось уголовное дело об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем.
Суть дела состояла в следующем: 15 ноября 1872 г. в реке Ждановке был обнаружен труп женщины, в котором местные жители опознали Лукерью Емельянову, жену Егора Емельянова, служившего номерным в банях.
Емельянов, находившийся с 23 часов 14 ноября 1872 г. за нанесение побоев студенту Смиренскому под стражей, объяснял смерть жены самоубийством, последовавшим «от грусти при предстоявшей ей семидневной разлуке с недавно женившимся мужем». Объяснение было признано удовлетворительным, и тело Лукерьи предано земле. Но вследствие начавшихся разговоров полиция произвела дознание и установила, что Емельянов в присутствии Аграфены Суриной утопил свою жену Емельянов не признал выдвинутого против него обвинения и объяснил, что Аграфена оговаривает его «за то, что он не женился на ней».
Заседание суда происходило при открытых дверях под председательством товарища председателя К. Д. Батурина, обвинение поддерживал А. Ф. Кони, защищал обвиняемого В. Д. Спасович.
В лице В. Д. Спасовича А. Ф. Кони встретил достойного противника. Вспоминая об этом деле, он писал: «В деле Емельянова, по окончании судебного следствия, Спасович сказал мне: «Вы, конечно, откажетесь от обвинения: дело не дает Вам никаких красок — и мы могли бы еще сегодня собраться у меня на юридическую беседу». — «Нет, — отвечал я ему, — краски есть: они на палитре самой жизни и в роковом стечении на одной узкой тропинке подсудимого, его жены и его любовницы». Возражая на доводы А. Ф. Кони, Спасович назвал его речь «романом, рассказанным прокурором», романом «обстоятельным и подробным», в котором изображены все «мысли и чувства» подсудимого.
Останавливаясь на четырех версиях убийства Лукерьи, выдвинутых прокурором (покойная убита 1) Емельяновым,
2) Емельяновым и Аграфеной Суриной, 3) Аграфеной Суриной одной, 4) было самоубийство), Спасович обратил внимание на последние две, заявив: «Из всех предположений, которые есть в деле, самое поразительное, ясное, наиболее подходящее к обстоятельствам дела, это предположение о самоубийстве» («Судебный вестник» 1872 г. № 222). Однако Спасович считал вполне возможным, что Лукерья могла быть убита Аграфеной, «женщиной более здоровой и крепкой, имеющей вполне силы оттащить Лукерью на 200—300 шагов и столкнуть ее с откоса» в воду, свалив из чувства самосохранения всю вину на Емельянова. Заканчивая речь, Спасович сказал: «Мы ничего не знаем, впотьмах ходим, зги не видим, а при таких обстоятельствах следует оправдать Емельянова» («Судебный вестник» 1872 г. № 222). Однако «присяжные,— писал А. Ф. Кони, — согласились со мной, и Спасович подвез меня домой, дружелюбно беседуя о предстоявшем на другой день заседании Юридического общества» («Приемы и задачи прокуратуры», см. т. 4 наст. Собрания сочинений).
Решением присяжных заседателей Емельянов был признан виновным «в насильственном лишении жизни своей жены, но без предумышления и по обстоятельствам дела заслуживающим снисхождения».
Окружной суд приговорил подсудимого Емельянова к лишению всех прав состояния и ссылке на каторжные работы на восемь лет.
Стр. 39 Дело по обвинению купца второй гильдии Якова Сусленникова в присвоении имущества умершего купца Николая Назаровича Солодовникова слушалось во втором отделении Петербургского окружного суда 20 декабря 1871 г.
Председательствовал на заседании товарищ председателя В. А. Кейкуатов, обвинял А. Ф. Кони, защищал А. М. Унковский.
Преступление было совершено в августе 1870 года, когда умер Солодовников, купец-миллионер.
Подозрение пало на Якова Яковлевича Сусленникова, служившего у Солодовникова сначала в качестве лакея, а затем в должности управляющего и ночевавшего в день смерти Солодовникова на его даче.
Присяжные признали Сусленникова виновным без снисхождения «в краже и мошенничестве на сумму свыше 300 руб.».
Суд постановил по лишении всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ сослать Сусленникова в Томскую губернию с воспрещением выезда в течение четырех лет («С.-Петербургские ведомости» 1871 г. № 359).
Стр. 39 Скопцы — лица, подвергшиеся полной или частичной стерилизации.
В христианском мире первый случай оскопления относится к III веку. Первым скопцом в России называют монаха Адриана (1001 г.).
Первое официальное свидетельство о появлении скопчества, как ереси, относится к XVIII веку (указ императрицы Екатерины II от 1772 года о расследовании дела о скопцах, появившихся в Орловской губернии). Основателем скопческой секты в России называют Кондратия Селиванова (вторая половина XVIII века), входившего первоначально в секту хлыстов, а затем основавшего свою секту. Секты скопцов состояли из общин — кораблей с «кормщиками» во главе, обладавшими неограниченной властью над членами секты.
Скопчество в дореволюционном уголовном праве составляло преступление, относящееся к группе «религиозных посягательств», и каралось особо сурово. С - конца XVIII века начинаются массовые судебные процессы, направленные против скопцов, вследствие чего большинство из них переселилось в Румынию.
Стр. 54 19 октября 1871 г. в Петербургском окружном суде слушалось дело о подлоге расписки в 35 тыс. руб. серебром от имени княгини Щербатовой.
Суду были преданы титулярный советник П. П. Торчаловский и крестьянин Павел Аверьянов. Первый обвинялся в том, что, воспользовавшись неумением княгини Щербатовой читать, «дал ей подписать, вместо относящейся к управлению домом бумаги составленное им в свою пользу от имени ее денежное обязательство», которое и было им затем представлено в суд ко взысканию. Аверьянов обвинялся в том, что, зная о подложном происхождении этого обязательства, «удостоверил действительность его своею подписью в качестве свидетеля-очевидца».
Председательствовал на заседании товарищ председателя Н. Б. Якоби, обвинял А. Ф. Кони, защищали — П, А. Потехин (Торчаловского) и Ф. И. Ордин (Аверьянова).
«Сложность мелких подробностей», наличие самой расписки, выданной Щербатовой, послужили предметом «продолжительных и горячих прений». Причем «прекрасная речь прокурора», «чрезвычайно искусно сгруппировавшего прямые и косвенные улики», как писали «С.-Петербургские ведомости», встретила значительный отпор со стороны защитников, «в особенности Потехина», которые «не менее искусно опровергали выводы обвинения и мастерски сопоставляли данные судебного следствия в пользу подсудимых» (1871 г. № 290).
Решением присяжных заседателей Аверьянов был оправдан, Торчаловский признан виновным в подлоге, но заслуживающим снисхождения, и приговорен судом к «лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к ссылке на житье в Архангельскую губернию с воспрещением всякой отлучки из места жительства в течение трех лет» («С.-Петербургские ведомости» 1871 г. № 290).
Стр. 58 Особый департамент Сената, который вел родословные книги дворянства, утверждал гербы, почетные титулы и т. п.
Стр. 76 14 мая 1873 г. в первом отделении Петербургского окружного суда с участием присяжных заседателей слушалось дело о лжеприсяге, данной при расторжении брака супругов Зыбиных.
Суду были преданы Владислав Залевский, Александр Гроховский и отставной коллежский секретарь Генрих Хороманский. Первые два обвинялись в том, что под присягой дали в суде ложные показания, будто бы в феврале 1870 года видели в номере гостиницы «Роза» жену Зыбина и неизвестного мужчину прелюбодействовавшими. Хороманский обвинялся в том, что подготовил Залевского и Гроховского к ложному показанию. Ответственность за указанные преступления предусматривалась ст.ст. 236 и 942 Уложения о наказаниях.
Подобные судебные разбирательства не являлись в царской России единичными, так как бракоразводный процесс был сложным, затяжным и дорогим, а действовавшее законодательство о разводе не регулировало имущественных вопросов (женщина, добивавшаяся развода, теряла право на содержание).
Дела о разводе рассматривались в консисториях, решения утверждались архиереями. С 1805 года все дела о разводе обязательно должны были поступать на ревизию в Синод. Прелюбодеяние признавалось одним из главных поводов к разводу, причем виновный осуждался на вечное безбрачие, даже после смерти другого супруга, в связи с чем при бракоразводных процессах стали довольно часто прибегать к услугам лжесвидетелей, как это было и в настоящем деле.
Заседание проходило при открытых дверях. Председательствовал на нем товарищ председателя К. Д. Батурин, обвинял А. Ф. Кони, защищали А. М. Унковский и Р. Н. Аршеневский; поверенным гражданской истицы был присяжный поверенный В. Н. Герард.
В отношении подсудимого Хороманского дело было выделено в связи с тем, что к моменту рассмотрения дела его признали душевнобольным.
После оглашения вердикта присяжных окружной суд постановил: лишить подсудимых всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и сослать на житье в Енисейскую губернию с воспрещением всякой отлучки из места жительства в течение трех с половиной лет и выезда в другие губернии и области Сибири в течение одиннадцати лет («Судебный вестник» 1873 г. № 102—104).
Стр. 76 Консистория в качестве духовного учреждения существовала в России с 1744 года. В отношении гражданских лиц консистория рассматривала дела о браках, совершенных незаконно, а также дела о расторжении браков.
Стр. 84 В 970 году князь Святослав перед сражением с греками обратился к воинам со словами: «Да не посрамим земли Русской, но ляжем костьми тут: мертвые бо срама не имут».
Стр. 91 С 11 часов утра 25 до 7 часов утра 26 апреля 1870 г. с незначительными перерывами в первом отделении Петербургского окружного суда слушалось дело о петербургском купце первой гильдии Станиславе Янсене, его сыне французском подданном Эмиле Янсене и французской подданной Герминии Акар.
Янсены обвинялись в ввозе в Петербург из-за границы фальшивых кредитных билетов (преступление, предусмотренное ст. 573 Уложения о наказаниях); Акар — в выпуске их в обращение (преступление, предусмотренное ст. 576 Уложения о наказаниях). В суд было вызвано около 50 свидетелей.
Председательствовал на заседании товарищ председателя A. А. Сабуров, обвинял А. Ф. Кони, защищали — В. Д. Спасович (Эмиля Янсена), В. С. Буймистров (Станислава Янсена), B. Н. Языков (Акар).
Обстоятельства дела достаточно полно изложены в обвинительной речи А. Ф. Кони, отметим только некоторые существенные моменты.
3 марта 1869 г. сыскной полицией Петербурга были задержаны купец первой гильдии Станислав Янсен и его сын Эмиль. В деревянном ящике, который был у С. Янсена, находилось 360 фальшивых кредитных билетов. Поводом к задержанию послужило заявление дипломатического курьера французского посольства Обри петербургскому обер-полицеймейстеру.
Обвинение было предъявлено и находившейся в дружеских отношениях со Станиславом Янсеном модистке Акар.
Янсенам было предъявлено обвинение в том, что в марте 1869 года через посредство Обри они ввезли в Россию фальшивые кредитные билеты; Акар — в том, что она выпускала в обращение фальшивые государственные кредитные билеты десятирублевого достоинства, зная лиц, занимающихся их привозом. Защитники просили оправдать подсудимых.
Решением присяжных заседателей Янсены были признаны виновными в намерении выпускать в России фальшивые русские кредитные билеты; Акар — в сознательном сбыте фальшивых билетов, случайно к ней поступивших.
Суд приговорил: Янсена и его сына к лишению всех прав состояния и к ссылке на каторжные работы на заводах — первого на шесть лет, второго на четыре года; Акар — к двухмесячному тюремному заключению («Судебный вестник» 1870 г. № 110—117).
Стр. 104 Неточная цитата из произведения А. С. Пушкина «Полтава».
Стр. 118 8 марта 1872 г. в Петербургском окружном суде с участием присяжных заседателей слушалось дело по обвинению Порфирия Шляхтина в убийстве своего зятя статского советника Алексея Ивановича Рыжова, т. е. в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 1455 Уложения о наказаниях, которое влекло за собой лишение всех прав состояния и ссылку на каторжные работы сроком от 12 до 15 лет.
Председательствовал на заседании В. А. Кейкуатов, обвинял А. Ф. Кони, защищал П. А. Потехин.
29 января 1872 г. отставной поручик Порфирий Шляхтин убил из револьвера своего зятя Рыжова. Эксперты отметили у подсудимого «слабость нервов» и заявили, что «аффекта у подсудимого нельзя отвергать», хотя во время убийства он действовал в «полном здравии». На этом основании адвокат требовал признать подсудимого больным, которому необходимо не «наказание», а «лечение».
После вынесения вердикта присяжных окружной суд постановил: «Подсудимого Шляхтина лишить всех прав состояния, сослать на поселение в неотдаленные места Сибири» («Судебный вестник» 1872 г. № 3—7).
Стр. 126 А. Ф. Кони имел в виду популярное в то время учение Гегеля о наказании.
Стр. 136 Заседание по делу купца второй гильдии Г. Ф. Горшкова состоялось 19 июня 1873 г. во втором отделении Петербургского окружного суда.
Горшков обвинялся в том, что. являясь членом скопческой секты, совратил в нее в 1864— 1866 гг. своего малолетнего сына Василия и участвовал в его оскоплении, т. е. в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 201 Уложения о наказаниях.
Председательствовал на заседании К. Д. Батурин, обвинял А. Ф. Кони, защищал присяжный поверенный В. А. Кейкуатов.
Защитник, возражая на доводы прокурора, в своей речи обратил внимание суда и присяжных заседателей на следующие обстоятельства:
1) большой промежуток времени (9 лет) между совершением преступления и началом дела усугублял недостаток данных, на которых можно было бы построить обвинение;
2) согласно разъяснению кассационного департамента Сената закон преследует только за распространение скопчества, за совращение в оскопление других и за самооскопление, но не за принадлежность к скопчеству;
3) принадлежность Горшкова к скопческой секте является «духовной», что не карается законом;
4) неупотребление мяса и замкнутый образ жизни не обязательно свидетельствуют о принадлежности к скопчеству.
Защитник пришел к выводу, что человек, не принадлежащий к скопческой секте, никогда не принесет в жертву своего собственного сына, а если он и принадлежит к секте, то это еще не значит, что он участвовал в оскоплении.
Решением присяжных заседателей подсудимый был признан невиновным («Судебный вестник» 1873 г. № 131, 132, 134, 135).
Стр. 151 Речь идет о восьмитомной «Истории министерства внутренних дел», написанной бывшим управляющим канцелярии Рижского генерал-губернаторства Н В. Варадиновым, содействовавшим обращению эстонцев и латышей в православие. Книга содержит сведения об отношении царского правительства к расколу.
Стр. 158 Дело об убийстве Филиппа Штрама слушалось Петербургским окружным судом 23 октября 1871 г.
Александр-Филипп Штрам (23 года), его мать Елизавета Штрам и Эмануил Васильевич Скрыжаков (21 год) обвинялись в том, что по совместной договоренности убили Филиппа Штрама с целью завладения его имуществом. 8 августа 1871 г. Александр Штрам в присутствии своей матери Елизаветы Штрам привел этот общий умысел в исполнение, а после совершения убийства все трое скрывали следы преступления и пытались сбыть добытые преступлением ценные бумаги («С.-Петербургские ведомости» 1871 г. № 291).
Совершенное преступление предусматривалось ст. ст. 13, 1451 и п. 4 ст. 1453 Уложения о наказаниях, определяющими соответственно понятие соучастия в преступлении, наказание за убийство близких родственников и за совершение убийства в целях ограбления убитого, получения наследства или завладения какой-либо собственностью.
Председательствовал на заседании председатель окружного суда Н. Б. Якоби, обвинял А. Ф. Кони, защищали Е. А. Борщов, Поццо и С. В. Евреинов.
Присяжные заседатели признали всех троих виновными в соучастии в убийстве, указав, что Елизавета Штрам заслуживает снисхождения.
В заключительном слове о мере наказания для подсудимых А. Ф. Кони заявил, что Александру Штраму необходимо смягчить наказание ввиду того, что присяжные признали правдивыми его первоначальные показания.
Окружной суд приговорил: лишить подсудимых Штрама и Скрыжакова всех прав состояния и сослать: Александра Штрама в каторжные работы на пятнадцать лет в рудниках; Эмануила Скрыжакова — на работу в крепостях на девять лет. Елизавета Штрам осуждалась к 5-летней работе на заводах и к поселению в Сибири навсегда («С.-Петербургские ведомости» 1871 г. № 291-296).
Стр. 174 Дело по обвинению адъютанта начальника третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии ротмистра Александра Мясникова, его брата почетного смотрителя Вознесенского училища Ивана Мясникова и петербургского мещанина Амфилогия Караганова после длительного расследования слушалось во втором отделении Петербургского окружного суда с 17 до 23 февраля 1872 г.
Председательствовал на заседании В. А. Кейкуатов, обвинял А. Ф. Кони, защищали: А. Мясникова — К. К. Арсеньев, И. Мясникова — В. Н. Языков, А. Караганова — Н. Ф. Депп; поверенными гражданских истцов были А. В. Лохвицкий, А, П. Остряков.
В суд было вызвано 114 свидетелей, один из которых скончался во время суда по неустановленной причине.
23 февраля 1872 г. присяжные вынесли всем подсудимым оправдательный приговор.
В своих воспоминаниях А. Ф. Кони неоднократно обращался к этому делу. Он указывал на очень большой срок, который прошел со дня совершения преступления — 24 сентября 1858 г. — до дня рассмотрения его в суде. К моменту вынесения приговора многие свидетели умерли, а один из обвиняемых, Караганов, был тяжело болен.
Обстоятельства дела таковы. 12 сентября 1859 г. дальний родственник умершего купца К. Беляева И. Мартьянов обратился к петербургскому военному губернатору с жалобой на Мясникова, обвиняя его в подделке завещания.
Через три месяца, 18 декабря 1859 г., Мартьянов умер. В 1861 году его мать возбудила дело о подлоге завещания, но также вскоре умерла. Ее правопреемниками были муж и жена Ижболдины и купчиха Пешехонова. Не дожидаясь окончательного разрешения гражданского спора о подлоге завещания, Ижболдин 2 июля 1868 г. обратился к прокурору Петербургского окружного суда с просьбой привлечь братьев Мясниковых и Караганова к уголовной ответственности. Дальнейшие события обстоятельно изложены в речи Кони.
Мясниковы не признали себя виновными. Караганов же заявил, что он, по просьбе Александра Мясникова, на чистом листе бумаги «учинил» подпись от имени Козьмы Беляева, но самого текста завещания не писал.
Экспертиза установила, что подпись завещания подделана.
В дальнейшем ,А. Ф. Кони вспоминал: «Присяжные заседатели совещались пять часов (Кони, по всей вероятности, ошибся; газеты утверждали, что присяжные совещались всего 30 минут) и среди всеобщего напряженного внимания вынесли решение о том, что завещание не подложно, и тем самым произнесли оправдательный приговор относительно подсудимых. Приговор этот был понятен. Если с ним трудно было согласиться с точки зрения тяжести и доказательности улик, собранных по делу, совокупность которых должна бы привести присяжных к обвинительному ответу, согласному с логикой фактов, то, с другой стороны, с точки зрения житейской, решение присяжных было легко объяснимо. Пред ними были люди, выстрадавшие четырнадцать лет мучительного состояния под подозрением; один из них лежал пред ними бессильный н разрушенный физически, другой — Караганов — стоял полуразрушенный духовно, собирая последние силы своего мерцающего ума на защиту своих бывших хозяев. Если из дела выяснилось, что путем подложного завещания Мясниковы завладели имуществом Беляевой, то, с другой стороны, было с несомненностью ясно, что все это имущество было Беляевым приобретено от Мясниковых, благодаря участию его в их делах. Присяжным было видно, что Беляев с преданностью верного слуги любил сыновей своего старого хозяина, как родных детей, и что вместе с тем он думал, как видно было из клочков бумаги, на которых он пробовал написать проект завещания, об обеспечении своей жены, но не выразил этого окончательно, вероятно, лишь по свойственному многим боязливому отвращению к составлению завещания. Затем, в деле не было действительно пострадавшего от преступления и ввергнутого в нищету или тяжелое материальное положение, так как та спутница жизни Беляева, которой он несомненно собирался оставить часть своего имущества, признавала себя совершенно удовлетворенной и обеспеченной сделкой с Мясниковыми…
…Не избежала нападений, по этому делу, — продолжал А. Ф. Кони, — и адвокатура. Против К. К. Арсеньева было воздвинуто целое словесное и печатное гонение за то, как смел он выступить защитником одного из Мясниковых. Были забыты его научные и литературные заслуги, благородство его судебных приемов и то этическое направление в адвокатуре, которого он, вместе с В. Д. Спасовичем, был видным представителем… Быть может, в этих завистливых нападках лежала одна из причин того, что вскоре русская адвокатура утратила в своих рядах такого безупречного и чистого, как кристалл, деятеля» («Приемы и задачи прокуратуры», см. т. 4 наст. Собрания сочинений).
Необыкновенно трудной была роль прокурора, которую «С.-Петербургские ведомости» назвали «адской». Суворин в этой же газете, называя речь А. Ф. Кони «блестящей», писал:
«Я слышал его обвинительную речь и никогда, ни после одной речи, не выходил я из заседания суда с таким удовлетворенным чувством, с таким уважением к представителю судебной власти, как после речи Кони. Я считаю ее образцовою и по форме и по содержанию… Превосходный' критический разбор преступления, темного, запутанного, все нити которого порваны временем» («Недельные очерки и картинки», «С.-Петербургские ведомости» 1872 г. № 57).
Необходимо отметить, что приговор присяжных вызвал бурную реакцию печати. «Мясниковых оправдали!—писало с возмущением «Новое время». — Вот какой крик разнесся по всему Петербургу… Крик это обозначает общее недовольство» (1872 г. № 56).
Петербургские газеты посвящали этому делу передовые статьи. Не остались в стороне и журналы «Отечественные записки» и «Вестник Европы».
Оправдание лиц, совершивших подлог завещания на такую огромную сумму, при осязаемой виновности подсудимых дало пищу для обвинения судей, адвокатов и прокурора в серьезных злоупотреблениях. «С.-Петербургские ведомости» писали, что «присяжные подкуплены, они, как и адвокаты, получили по 300 тыс. руб.».
Упреки слышались и в адрес обвинителя, произнесшего слишком «объективную» речь.
В передовой статье «Московских ведомостей» (1872 г. № 103) говорилось, что Кони излагал до мелочей соображения, по которым прокуратура предала Мясниковых суду, словно имел целью выгородить ее от подозрений в несостоятельности обвинения. «Он шел словно ощупью, как будто стараясь убедить самого себя, медленно ступая, как бы неуверенный в твердости почвы под ногами, он как будто говорил присяжным: «Вы видите, господа, обвинительная власть имела много оснований привлечь Мясниковых к суду, ока была вправе начать преследование, ибо — посмотрите, сколько тут возникло сомнений».
Подробному рассмотрению этого дела была посвящена работа В. К. Иванова «Взгляд на дело Мясниковых с общественной точки зрения», СПб., 1872.
По протесту прокурора Сенат отменил оправдательный приговор, и дело было направлено в Московский окружной суд, который вновь вынес оправдательный приговор.
Стр. 178 Откуп — система взимания государственных налогов частными лицами, вносившими определенную сумму государству,
зачастую значительно меньшую, чем собранная ими. Откупа были тягостными и разорительными для народного хозяйства и обогащали в основном частных лиц. Система откупов характерна для дореволюционной России.
Стр. 208 Фамилия «Беляев» писалась с буквой «ять» — Беляев.
Стр. 231 «Несть эллин и иудей» — «нет ни эллина, ни иудея», т. e. все люди равны. Из послания апостола Павла к галатам.
Стр. 232 С 14 по 16 февраля 1874 г. продолжалось заседание первого отделения Петербургского окружного суда с участием присяжных заседателей по делу о лекаре-акушере Василии Колосове и дворянине Александре Ярошевиче, обвиняемых в том, что в 1870 году в сообществе с отцом последнего, Феликсом Ярошевичем, бежавшим из России после осуждения за различные преступления, основали сообща в г. Брюсселе типографию для подделки различных ценных бумаг, в том числе и акций Общества Тамбовско-Козловской железной дороги, часть из которых (253 акции по 100 рублей каждая) была привезена в Петербург для выпуска в обращение, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 1194 Уложения о наказаниях. А. Ярошевич обвинялся также в попытке покушения на жизнь Колосова, т. е. в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 1457 Уложения о наказаниях («Судебный вестник» 1874 г. № 36).
Заседание, за некоторыми исключениями, проходило при открытых дверях. Председательствовал на нем товарищ председателя К. Д. Батурин, обвинял прокурор суда А. Ф. Кони, защищали: В. Колосова — присяжный поверенный В. Н. Языков, А. Ярошевича — присяжные поверенные П. А. Потехин и Е. И. Утин. Со стороны гражданского истца — Общества Тамбовско-Козловской железной дороги — присутствовал присяжный поверенный В. И. Богаевский.
Подсудимый Колосов на следствии и во время судебного разбирательства пытался играть роль важного полицейского и политического агента, выезжавшего за границу для сбора сведений о русских эмигрантах, на что намекал в защитительной речи и Н. Н. Языков. «Вообще, — писали «С.-Петербургские ведомости», — он, видимо, старался выказать свое всеведение по части политической агентуры, но как-то выходило, что всеведением он отличался только по части плутов и мошенников, которых знал и в Петербурге, и за границей весьма обстоятельно» (1874 г. № 47). И заслуга А. Ф. Кони состояла в том, что своей обвинительной речью он сумел доказать не только виновность Колосова в преступлении, но и то, что последний не имел никакого отношения к политическим делам и не имел зачастую никакого представления о тех революционерах, за которыми якобы должен был следить.
Общее впечатление от процесса, как писали многие газеты, было крайне тяжелым. Перед судом проходила «среда лжецов, мошенников, нахалов, лжесвидетелей, людей без религии, нравственности, убеждений», виднелась «такая куча всякой грязи и человеческого падения, что сердце сжималось от боли…» («С.-Петербургские ведомости» 1874 г. № 47).
Решением присяжных заседателей В. Колосов и А. Ярошевич были признаны виновными. Петербургский окружной суд постановил: «Колосова лишить всех прав и сослать в Сибирь на поселение в места не столь отдаленные. Ярошевича, не лишая прав, сослать на житье в Тобольскую губернию. Гражданский иск Общества Тамбовско-Козловской железной дороги признать не подлежащим удовлетворению. Расходы по печатанию новых акций должны быть покрыты после описи имущества Колосова» («Судебный вестник» 1874 г. № 36— 43; «С.-Петербургские ведомости» 1874 г. № 45—56).
Стр. 249 Речь идет о революционере Сергее Геннадиевиче Нечаеве, основателе тайного общества «Народная расправа». После убийства студента Иванова, пытавшегося выйти из общества, бежал в Швейцарию, где в 1872 году был арестован и выдан царскому правительству как якобы уголовный преступник.
Стр. 262 По всей вероятности, А. Ф. Кони имел в виду широко известную в 50—60-е годы XIX в. повесть И. С. Тургенева «Андрей Колосов».
Стр. 269 Дело об убийстве иеромонаха Иллариона слушалось в 1873 году в первом отделении Петербургского окружного суда с участием присяжных заседателей. Подсудимый, крестьянин Новгородской губернии Иван Михайлов, 18 лет, обвинялся в том, что 10 января 1873 г., по заранее обдуманному плану с целью грабежа проникнув в келию иеромонаха Иллариона, убил его ножом И похитил ценное имущество, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 1453 Уложения о наказаниях (ред. 23 марта 1871 г.).
В установлении и розыске убийцы деятельное участие принимал известный в свое время начальник петербургской сыскной полиции И. Д. Путилин, воспоминанию о котором А. Ф. Кони посвятил специальный очерк (см. т. 1 наст. Собрания сочинений, стр. 92—98).
Председательствовал на заседании товарищ председателя К. Д. Батурин, обвинял А. Ф. Кони, защищал присяжный поверенный В. В. Самарский-Быховец.
Подсудимый признал себя виновным в убийстве, но заявил: «Я шел туда не с той целью, чтобы убить его… грех попутал, видно». Он показал, что покойный первый ударил его, после чего между ними началась борьба, во время которой иеромонах и был убит.
Защитник, не соглашаясь с обвинителем, выступил против утверждения, что подсудимый пришел в келью с заранее обдуманным намерением.
Присяжные заседатели признали подсудимого виновным в убийстве, но действовавшим без заранее обдуманного намерения.
Окружной суд приговорил подсудимого к лишению всех прав состояния и ссылке на каторжные работы в рудниках на тринадцать лет, после окончания которых — к вечному поселению в Сибири («Судебные ведомости» 1873 г. № 33—36).
Стр. 279 Дело об убийстве коллежского асессора Чихачева, совершенном 24 ноября 1873 г. штабс-капитаном Н. П. Непениным, 36 лет, при соучастии его жены, слушалось в Петербургском окружном суде 2 и 3 марта 1874 г.
Председательствовал на заседании К. Д. Батурин, обвинял А. Ф. Кони, защищали В. Д. Спасович и В. Н. Герард («Судебные ведомости» 1874 г. № 47—56).
В результате судебного разбирательства Непенина была признана невиновною. Окружной суд приговорил Н. П. Непенина к лишению всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к ссылке на житье в Енисейскую губернию с воспрещением всякой отлучки в течение восьми лет.
А. Ф. Кони сочувственно относился к семейной драме супругов и, публикуя свою речь по этому делу, не указывал фамилии подсудимых. Как в период отбывания наказания, так и после отбытия его супруги Непенины и Кони поддерживали между собой переписку.
Стр. 307 Дело о подлоге завещания Седкова слушалось во втором отделении Петербургского окружного суда с участием присяжных заседателей 27—28 марта 1875 г. Суду были преданы: вдова капитана гвардии С. К. Седкова 23 лет, отставной ротмистр В. Д. Лысенков 31 года, поручик А. С. Петлин 28 лет, отставной губернский секретарь А. П. Медведев 56 лет, отставной подпоручик А. М. Киткин 23 лет, отставной надворный советник К. А. Бороздин 46 лет и фехтмейстерский помощник (писарь) И. М. Тенис 31 года.
Подсудимые обвинялись в том, что 1 июня 1874 г. по предварительному между собой соглашению составили подложное от имени умершего капитана гвардии Седкова домашнее духовное завещание, представленное затем Седковой в Петербургский окружной суд к утверждению.
Председательствовал на заседании товарищ председателя окружного суда Н. Б. Якоби, обвинял А. Ф. Кони, защищали: Седкову — присяжный поверенный В. Н. Языков, остальных — А. В. Лохвицкий, В. Д. Спасович, А. Л. Боровиковский, И. С. Войцеховский.
Окружной суд постановил: Седкову, Тениса и Медведева признать по существу дела оправданными; Лысенкова, Бороздина и Петлина по лишении всех, особенно лично и по состоянию присвоенных им прав и преимуществ сослать на житье в Архангельскую губернию на различные сроки; Киткина, ввиду его явки с повинной, по ходатайству перед императором лишить лишь некоторых указанных в ст. 50 Уложения прав и заключить в крепость на один год и четыре месяца; признать духовное завещание Седкова подложным («Судебные ведомости» 1875 г. № 67—70).
Стр. 335 Дело о нанесении побоев, повлекших смерть мещанина Гаврилы Ивановича Северина, слушалось в Харьковском окружном суде с участием присяжных заседателей 26 и 27 ноября 1868 г.
Председательствовал на заседании Э. Я. Фукс, обвинял А. Ф. Кони, защищал кандидат на судебные должности А. Л. Боровиковский, интересы гражданского истца (вдовы убитого) представлял кандидат на судебные должности Ланг.
После введения в Харьковском судебном округе судебной реформы Северина обратилась с жалобой в прокуратуру на то, что убийца ее мужа остался безнаказанным.
Губернский секретарь Владимир Иванович Дорошенко был предан суду по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 1464 Уложения о наказаниях, гласившей: «Если вследствие нанесенных не по неосторожности, а с намерением, хотя и без умысла на убийство, побоев или иных насильственных действий причинится кому-либо смерть, то виновный в сем приговаривается, смотря по обстоятельствам дела: к заключению в тюрьме на время от восьми месяцев до двух лет с лишением некоторых, по ст. 50 сего Уложения, особенных прав и преимуществ, иди к заключению в тюрьме на время от четырех до восьми месяцев; сверх сего, если он христианин, то предается церковному покаянию по распоряжению своего начальства» (см. т. 1 наст. Собрания сочинений, стр. 504).
Возбуждение настоящего дела ярко характеризует принципиальность и непреклонность А. Ф. Кони в отстаивании своих выводов. Это одно из первых дел, по которому молодой Кони выступил в суде, не считаясь с той неблагоприятной обстановкой, которую создали вокруг смерти Северина определенные круги в Харькове.
Убийство Северина произошло накануне введения судебной реформы в Харькове. Пользуясь покровительством влиятельных лиц, Дорошенко добился того, что уголовное дело не было возбуждено. Но это происшествие «сильно занимало местную публику» и «возбуждало самые разнообразные толки», а пресса подчеркивала, что «дело это имеет не один местный, весьма, впрочем, немаловажный интерес, — оно не менее того заслуживает серьезного внимания и со стороны чисто юридической» («Харьковские губернские ведомости» 1868 г. № 17).
Сопоставление данных медицинского вскрытия с данными, полученными в результате эксгумации трупа, а также решительные действия, вспоминает Кони, «создали целую легенду о раздувании мною дела о невиновном в сущности человеке. Эта легенда, к удивлению моему, повлияла и на вновь назначенного прокурора судебной палаты Писарева, который в заседании обвинительной камеры с горячностью опровергал мой обвинительный акт и предлагал прекратить дело. Но судебная палата с этим не согласилась и предала Дорошенко суду присяжных заседателей, В судебном заседании в защиту Дорошенко выступил целый ряд «достоверных лжесвидетелей», из показаний которых явствовало, что чуть ли не сам Северин побил Дорошенко…» (см. т. 1 наст. Собрания сочинений, стр. 196).
Не исключая возможности вынесения присяжными заседателями оправдательного приговора, А. Ф. Кони помышлял об отставке. «В моей впечатлительной молодой душе, — писал он, — начинала зреть мысль о выходе в отставку, так как оправдательный приговор присяжных лишь послужил бы подтверждением мнения главы прокуратуры, которой я был младшим членом, о том, что я «раздул» дело, т. е. злоупотребил своим служебным положением» (там же, стр. 197).
Но своей продуманной, логически обоснованной речью, продолжавшейся более двух часов, А. Ф. Кони, удачно использовав показания свидетелей и заключения экспертов, сумел доказать неоспоримо виновность Дорошенко.
Присяжные заседатели признали Дорошенко виновным в причинении харьковскому мещанину Гавриле Северину «в запальчивости, но с намерением ударом по лицу повреждения, последствием которого была смерть Северина». Заслуживает в связи с этим внимания состав присяжных: 6 крестьян, 4 купца, один чиновник и один профессор.
Суд постановил: заключить Дорошенко в тюрьму на пять месяцев и взыскать с него в пользу семейства умершего Северина вознаграждение за причиненный преступлением вред («Харьковские губернские ведомости» 1868 г. № 17, 18).
Стр. 366 30 апреля 1874 г. началось заседание третьего отделения Петербургского окружного суда без участия присяжных заседателей по делу об отставном штабс-ротмистре В. М. Колемине, 26 лет, наделавшему много шума и сильно задевшему великосветские круги Петербурга.
Колемин обвинялся в том, что с ноября 1872 года по март 1874 года в своей квартире устроил «заведение» для запрещенной игры в рулетку, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 990 Уложения о наказаниях («Кто в своем или ином каком-либо месте устроит или дозволит устроить род заведения для запрещенных игр, тот за сие подвергается: в первый раз денежному взысканию не свыше 3 тыс. руб., во второй раз сверх того же денежного взыскания заключению в тюрьме на время от 4 до 8 месяцев»).
Председательствовал в судебном заседании председатель суда И. И. Шамшин, обвинял А. Ф. Кони, защищал присяжный поверенный В. Н. Языков («Судебные ведомости» 1874 г. № 92-97).
Колемин виновным себя не признал, заявляя, что «рулетка, по его мнению, не запрещена законом и что игорного дома он не держал».
Окружной суд признал Колемина виновным в предъявленном ему обвинении и приговорил: «Подвергнуть Колемина денежному взысканию в пользу государственных доходов в количестве 2 тыс. руб., а в случае несостоятельности заключить в тюрьму на шесть месяцев». «Обратить на него судебные по делу издержки, находящиеся налицо вещественные доказательства уничтожить, добытые посредством преступления Колеминым деньги в количестве 35 407 руб. 25 коп. возвратить лицам, от которых они поступили; с деньгами, которые не будут истребованы лицами, поступить в порядке, указанном 512 статьей XIV тома Свода законов» («Судебные ведомости» 1874 г. № 95).
В своих мемуарах А. Ф. Кони неоднократно вспоминает это дело. Подробно оно изложено в т. 1 наст. Собрания сочинений, стр. 84—91.
Стр. 377 22 февраля 1893 г. в уголовном департаменте Сената рассматривалось дело по апелляционной жалобе бывшего земского начальника Харьковского уезда Протопопова, приговоренного Харьковской судебной палатой к исключению из службы за превышение власти («Новое время» 1893 г. № 6103; «Юридическая газета» 1893 г. № 1 и 8).
Председательствовал на заседании первоприсутствующий сенатор И. И. Розинг, докладывал дело сенатор Г. К. Репинский, заключение давал обер-прокурор сената А. Ф. Кони. Благодаря убедительному и острому выступлению А. Ф. Кони «Дело Протопопова» приобрело в России широкую известность.
Преступления совершались Протопоповым в сентябре 1890 года в Харьковском уезде. Протопопову вменялись в вину угроза «бить морды городовым, если они не будут отдавать ему честь», угроза сельскому сходу «перебить половину собравшихся», заявление, что «жалобы будут на морде, а прошение на задней части тела», а также нанесение побоев крестьянам Слепушенко, Серому и Старченко и производство незаконных арестов.
Речь А. Ф. Кони имела решающее значение, и, несмотря на защитительную речь адвоката, стремившегося доказать «отсутствие злой воли в действиях Протопопова», и заключительное слово самого Протопопова, ссылавшегося на свою неопытность и раздражительность и просившего снисхождения, Сенат утвердил приговор Харьковской палаты.
Газета «Неделя» с возмущением сравнивала деяния Протопопова с действиями времен крепостного права, осуждая прихоть чиновников, их личный каприз, нежелание подчиняться закону и официальным разъяснениям (1892 г. № 45).
Царское самодержавие, насадив в сельских местностях земских начальников, наделило их почти неограниченными полномочиями. Несмотря на произвол и жестокую расправу с крестьянами, земские начальники к уголовной ответственности не привлекались. Как до рассмотрения этого дела, так и впоследствии А. Ф. Кони решительно выступал за изъятие у земских начальников судебных функций и ограничение их власти. Возражая против сосредоточения власти в руках земских начальников, ратуя за восстановление земских судов, упраздненных Александром III в 1889 году. Кони в своей речи 17 февраля 1912 г. говорил в Государственном совете, что дело Протопопова было единственным, «которому было дозволено дойти до суда. После этого процесса дела по обвинению начальников до суда уже больше не допускались, и не было ни одного случая, когда бы земский начальник был предан суду в общеустановленном порядке». Царское правительство не считало целесообразным привлекать к уголовной ответственности земских начальников, творивших произвол. Таким образом, делу Протопопова суждено было стать историческим.
Стр. 397 Дело о присвоении кассиром Общества взаимного поземельного кредита К.Н. Юханцевым процентных бумаг на сумму 278 тыс. фунтов стерлингов (2 123 295 руб.) слушалось с 22 по 25 января 1879 г. в Петербургском окружном суде.
Председательствовал на заседании А. Ф. Кони, обвинял товарищ прокурора князь А. И. Урусов, защищал В. И. Жуковский. На судебное заседание было вызвано 27 свидетелей.
К делу Юханцева было приковано всеобщее внимание. Среди присутствовавших в зале суда находился и министр юстиции.
О самом подсудимом говорили и писали много. Газета «Неделя» дала Юханцеву уничтожающую характеристику: «Нечто лицемерное, до крайности бесцветное, чтобы не сказать пошлое, появилось на сцене под оболочкой ординарно выхоленной». Правда, с неменьшим сарказмом писала «Неделя» и о деятельности кредитного Общества, в котором служил Юханцев, подчеркивая, что правление Общества взаимного кредита «заседает, но не управляет», находясь в беспробудной, «сказочной» и «феноменальной» спячке (1879 г. № 2, стр. 59—60).
О непорядках в Обществе поземельного кредита писала и газета «Русские ведомости»: «В бухгалтерских, книгах на приход и расход записывались суммы не по чекам, а со слов Юханцева», сумма взносов при ревизиях не проверялась, а «принималась на веру со слов Юханцева». Подчеркивалось, что кассир был полным хозяином кассы, а управляющий Герстфельд не считал нужным и должным его проверять (1879 г. № 26). Газета «Новое время» называла Герстфельда самым «комическим лицом» в процессе Юханцева, не умеющим даже объяснить состояние дел Общества и «напоминающего собою школьника», отвечающего на единицу. «Что самое чудесное было в управлении этого Общества, — продолжала газета, — это писание инструкций каждым для себя. Герстфельд пишет для себя инструкцию, Юханцев — для себя, контролер — для себя. Инструкция Герстфельда заключалась должно быть в словах: «Ничего не делай, но получай побольше денег»; инструкция Юханцева: «Делай побольше, но и бери все, потому что все можно взять» (1879 г. № 1044).
После сорокаминутного совещания присяжные вынесли решение, по которому окружной суд постановил: «лишить Юханцева всех особенных, лично и по состоянию присвоенных ему прав и преимуществ и сослать на житье в Енисейскую губернию с воспрещением отлучки с места, назначенного для его жительства, в течение четырех лет и в другие губернии в течение двенадцати лет» («Новое время» 1879 г. № 1043— 1045).
Стр. 412 Дело Маргариты Жюжан рассматривалось Петербургским окружным судом с участием присяжных заседателей с 6 по 8 ноября 1878 г. Французская подданная Маргарита Александровна Жюжан, 40 лет, обвинялась в отравлении сына начальника Петербургского жандармского управления дорог Николая Познанского, 17 лет, у которого она была гувернанткой.
Председательствовал на заседании А. Ф. Кони, обвинял товарищ прокурора В. Д. Шидловский, защищал К. Ф. Хартулари.
Как сообщалось в печати, часть заседаний и опрос ряда свидетелей происходили при закрытых дверях, а некоторые места из обвинительного акта прочитаны не были.
После речи председательствующего А. Ф. Кони присяжные заседатели вынесли оправдательный приговор.
Вспоминая об этом деле, А. Ф. Кони писал: «Задача руководящего напутствия в деле Маргариты Жюжан была особенно трудна и ответственна. Из раскрытых на суде обстоятельств было затруднительно вынести убеждение, что жизнь несчастного юноши пресеклась вследствие случайности или собственного его желания. С другой стороны, улики против подсудимой были довольно слабы. Между доказанными чувственными ее отношениями к Николаю Познанскому и правдоподобным заключением о возникшей в ее сердце ревности к расправлявшему свои молодые крылья юноше и умышленным отравлением недоставало некоторых, необходимых для полного убеждения, звеньев» (см. т. 1 наст. Собрания сочинений, стр. 188— J 89).
На формирование мнения присяжных заседателей, несомненно, большое влияние оказывало и другое очень важное, ко не отмеченное А. Ф. Кони, обстоятельство — крайняя распущенность, моральная опустошенность Николая Познанского, воспитанного в сытом довольствии и беззаботности. Не случайно в газете «Неделя» отмечалось: «Главный герой процесса не Жюжан, а Н. Познанский. В семнадцать лет от него «пахнет уже трупом». «Нет в нем ни сердечного пыла, ни страсти, ни благородных увлечений. Перед вами 17-летний холодный рассудок, мысль, направленная только на себялюбивые заботы да на мечты о личном счастье. Он всем недоволен, все надоело, во всем разочаровался» (1878 г. № 47, столб. 1557—1558).
Отчет о заседании опубликован в «С.-Петербургских ведомостях» за 1878 г. № 306—312, 315.
Стр. 427 5 мая 1885 г. на паперти храма Христа Спасителя в Москве застрелилась дворянка Черемнова.
Было установлено, что причиной самоубийства явилось изнасилование, совершенное московским нотариусом Назаровым.
На предварительном следствии были получены «веские данные» для предъявления обвинения. 12 и 13 декабря 1885 г. обвинительный акт обсуждался общим собранием Московской судебной палаты (заключение по делу давал прокурор палаты Н. В. Муравьев), постановившей предать Назарова суду и заключить его под стражу до представление залога в 50 тыс. руб. 14 декабря 1885 г. Назаров был заключен под стражу.
Судебное разбирательство этого дела началось 7 ноября 1886 г. и продолжалось в течение пяти дней при закрытых дверях.
Суд признал Назарова виновным и определил: «Подсудимого, домашнего учителя, по происхождению из московских мещан,( состоящего в числе московских нотариусов Николая Егорова Назарова, 33 лет, лишив всех прав состояния, сослать на поселение в отдаленнейшие места Сибири» («Московские ведомости» 12 декабря 1886 г.).
При назначении наказания принимались в соображение как обстоятельства, «сопровождавшие преступное деяние», так и «степень образования и самый возраст виновного и вероятные последствия его преступления для сделавшейся жертвою оного».
Кассационная жалоба в Сенат, заключение по которой давал А. Ф. Кони, была оставлена без последствий.
Как отмечал в своем заключении Кони, это дело «возбудило и при его возникновении, и при дальнейшем судебном движении горячий интерес и самые противоречивые толкования».
А. Ф. Кони остановился на ряде серьезных нарушений, допущенных при расследовании этого дела судебным следователем по важнейшим делам Московского окружного суда Сахаровым.
Следователь Сахаров в обоснование назначенной по этому делу так называемой «экспертизы чувств» привел следующие доводы в своем постановлении: «1884 года, 24 января судебный следователь Московского окружного суда по важнейшим делам Сахаров, рассмотрев настоящее дело, нашел, между прочим, что одной из существенных причин, обусловивших возможность Назарову овладеть Е. А. Черемновой в номерах Эрмитажа, она ставит крайний упадок физических своих сил вследствие волнений, парализовавших нервную систему ее, как в период ожидания момента первого выступления на сцену, так и в самый этот момент. Хотя не подлежит никакому сомнению тот психический факт, что продолжительное и притом напряженное ожидание важного или резкого момента в жизни, напрягая нервную систему, производит затем соответственный упадок сил организма, и потому приведенное показание Е. А. Черемновой об упадке ее физических сил по поводу ожидания спектакля и потом вследствие самого спектакля представляется вполне вероятным; но так как означенный психический момент, несмотря на общеизвестность его, должен быть в данном случае констатирован удостоверением лиц, находившихся в одинаковом с Е. А. Черемновой психическом положении, что в видах удостоверения вопроса о воздействии первого сценического дебюта на нервную систему, судебный следователь постановил: допросить о том артисток императорского Московского театра М. Н. Ермолову и частного театра Лентовского А. Я. Гламу-Мещерскую, как лиц по своим летам не утративших еще, вероятно, воспоминаний о впечатлениях их первых сценических дебютов. Подписал судебный следователь Сахаров»*
Обе артистки были обстоятельно допрошены следователем. Однако судебная палата, разрешая вопрос о предании Назарова суду, отметила в определении:
«Следователь неправильно допросил артисток Ермолову и Гламу-Мещерскую в качестве сведущих лиц, так как то обстоятельство, для разъяснения которого они были призваны к следствию, никаких специальных для уразумения его сведений не требует и, во всяком случае, скорее относится к кругу деятельности врачей-психиатров, а потому следственное действие это подлежит отмене. По всем сим основаниям судебная палата определяет: признать постановление судебного следователя от 24 января 1884 г. о допросе Глама-Мещерской и Ермоловой и протоколы допроса их 26 того же января недействительными».
Один из судей высказал особое мнение по этому вопросу, изложив его таким образом: «Допросом актрис Ермоловой и Глама-Мещерской в качестве экспертов и способом собирания сведений о нравственных качествах Назарова следователь Сахаров допустил существенное, по моему мнению, нарушение 325, 454 и след, статей Устава уголовного судопроизводства.
Я не разделяю мнения, будто допрос актрис не есть экспертиза, а только излишне незаконное действие.
Такие излишние действия вообще не предпринимаются; не призывают следствию лиц, делу совершенно сторонних, не сообщаются им сведения из дела, не предлагают им представить себя в положении жертвы преступления, как поступили бы они, и т. д.
В настоящем деле эти действия тем прискорбны, что вызваны были женщины, что предметом расспроса их были обстоятельства сами по себе неприличные, оскорбительные для женской чести, для чувства стыдливости, что эти женщины и по этим предметам рисковали быть поставленными на суд под перекрестный допрос сторон…
Для подачи мнения по возникшему вопросу необходимо, конечно, определить степень здоровья Черемновой, крепость ее сил, свойства ее нервной системы, степень ее возбуждения, ее опьянения, свойства того наркотического вещества, которым производилось курение, влияние всех этих условий на организм, действие, какое могло быть вызвано в этом организме нападением Назарова, и т. д.
Такая работа могла быть произведена только людьми, действительно сведущими, т. е. врачами, и при том непременном условии, чтобы они имели в своем распоряжении надлежащие фактические данные…
Думаю, что попытка господина Сахарова заменить врачей актрисами, сведения об организме Черемновой — рассуждениями актрис о том, чего они сами не знают, заслуживает полного и безусловного порицания…
Подписал А. Постельников» (РО ИРЛИ, ф. 134, оп. 4, ед. хр. 241).
Неоднократно вспоминая об этом деле, А. Ф. Кони в одной из своих работ подробно остановился на вопросе о допустимости подобного рода экспертизы и высказал свое отношение к ней: «Нельзя отказать такой экспертизе в оригинальности и не признать ее интересной. Но более чем сомнительно считать ее приемлемой вообще и в качестве судебного доказательства в особенности» (т. 1 наст. Собрания сочинений, стр. 236).
Стр. 448 16 мая 1894 г. в одном из номеров Петербургской гостиницы «Европа» Ольгой Палем было совершено убийство студента Института путей сообщения А. С. Довнара. В это же время Палем ранила себя в левую сторону груди и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии (пуля, задев легкие, застряла в спине), но после благополучной операции жизнь ее была спасена.
Судебное разбирательство уголовного дела Ольги Палем началось 14 февраля 1895 г.
Председательствовал на заседании председатель окружного суда Н. Д. Чаплин, обвинял Н. П. Башилов. Всего было вызвано 92 свидетеля.
На решение присяжных, несомненно, большое влияние оказала яркая и образная речь защитника Н. П. Карабчевского, вскрывшего глубокие причины происшедшей трагедии. Палем была признана невиновною.
Оправдательный приговор Ольге Палем вызвал в некоторых слоях общества нападки на суд присяжных. Наиболее резко критиковали это решение суда присяжных газеты «Московские ведомости» и «Новое время».
В брошюре с материалами этого процесса Л. Снегирев писал, что в «русской уголовной летописи дело Палем навсегда останется поучительным примером», что «только коренная реформа следственной части и ограждение оправдательных приговоров присяжных в интересах подсудимых, как приговоров
неприкосновенных, избавит правосудие от повторных дел, подобных Палем» (Л. Ф. Снегирев, Ольга Палем, СПб., 1895).
На оправдательный приговор в уголовный кассационный департамент поступил протест товарища прокурора Петербургского окружного суда и жалоба поверенного гражданской истицы.
21 октября 1895 г. дело слушалось в Сенате. Докладывал дело сенатор Н. С. Таганцев, заключение давал А. Ф. Кони.
Возражение на кассационный протест представил Н. П. Карабчевский. В своей речи он «доказывал, что принесенная жалоба представляет своеобразную попытку выйти из пределов состязательного процесса и ввести в кассационный суд разбор и анализ существа дела». Далее он отмечал, что большинство вопросов, которые были рассмотрены в заседании, относятся к числу общих. А. Ф. Кони «с свойственными ему глубокой вдумчивостью и чуткостью к внутреннему смыслу формальных вопросов представил в своем заключении талантливый анализ наболевших мест нашего судопроизводства. Выпукло и ярко обрисовал он темные стороны окутанного «непроницаемой тайной» предварительного следствия и «бездеятельную власть» его единственного стража и попечителя, «именуемого камерой предания суду» («Журнал юридического общества», 1895, кн. 5, стр. 162 и сл.).
Сенат по предложению А. Ф. Кони передал дело в Петербургскую судебную палату для нового рассмотрения в другом составе присутствия.
Стр. 474 По делу о мултанском жертвоприношении первоначально было привлечено 11 жителей села Старый Мултан по национальности удмуртов (дореволюционное название «вотяки»). Дознание и предварительное следствие велось полицейскими властями при помощи пыток и угроз в течение 29 месяцев. Показания обвиняемых и свидетелей настолько искажались, что одна из местных газет была вынуждена признать нарушение «самых элементарных начал правильного судебного процесса» (В. Г. К о р о л е н к о, Собрание сочинений, т. 9, стр. 376).
Зимой 1894 года 10 вотяков (один из подсудимых умер во время следствия) были преданы суду Сарапульского округа в г. Малмыже. Троим был вынесен оправдательный приговор, семерым — обвинительный, отмененный впоследствии Сенатом по жалобе защиты.
Подсудимые обвинялись в том, что они в ритуальных целях — приношения жертвы языческим богам — убили крестьянина Матюнина.
При рассмотрении дела в кассационном порядке Сенат отменил обвинительный приговор и передал дело на новое рассмотрение.
Однако и при вторичном рассмотрении (дело слушалось в сентябре 1895 года в г. Елабуге Сарапульского округа) суд допустил грубые нарушения прав подсудимых и защитников и вновь вынес обвинительный приговор, которым был ошеломлен даже товарищ прокурора Микулин — «ловкая, но совершенно бессовестная каналья» (В. Г. Короленко, Собрание сочинений, т. 10, стр. 237).
Поданная защитниками новая кассационная жалоба 22 декабря 1895 г. была рассмотрена уголовно-кассационным департаментом Сената.
Заключение по делу давал А. Ф. Кони, проявивший себя стойким защитником маленькой, жестоко притесняемой народности. Кони особо отметил, что приговор по мултанскому делу знаменует собой суд над целой народностью, создавая опасный прецедент для будущего.
Приговор был отменен вторично, что представляло, по словам В. Г. Короленко, «явление очень редкое в нашей практике» (В. Г. Короленко, Собрание сочинений, т. 9, стр. 377).
Вспоминая об этом деле, А. Ф. Кони писал: «Вторичная отмена обвинительного приговора по делу вотяков возбудила в петербургских официальных сферах значительное неудовольствие. При первом служебном свидании со мною министр юстиции Муравьев выразил мне свое недоумение по поводу слишком строгого отношения Сената к допущенным судом нарушениям и сказал о том затруднительном положении, в которое он будет поставлен, если государь обратит внимание на то, что один и тот же суд по одному и тому же делу два раза постановил приговор, подлежащий отмене. А что такой вопрос может быть ему предложен, Муравьев заключил из того, что Победоносцев, далеко не утративший тогда своего влияния, никак не может примириться ни с решением Сената вообще, ни в особенности с тем местом моего заключения, где я говорил, что признание подсудимых виновными в человеческом жертвоприношении языческим богам должно быть совершено с соблюдением в полной точности всех форм и обрядов судопроизводства… «Я думаю, — сказал я ему, — что в этом случае ваш ответ может состоять в простом указании на то, что кассационной суд установлен именно для того, чтобы отменять приговоры, постановленные с нарушением коренных условий правосудия, сколько бы раз эти нарушения ни повторялись, примером чему служит известное дело Гартвиг по обвинению в поджоге, кассированное три раза подряд». В этом же смысле высказался при встрече со мною и Плеве» (А. Ф. Кони, «На жизненном пути», т. 5, Л., 1929, стр. 296, 297).
Особенно велики заслуги в разоблачении подлогов и злоупотреблений по этому делу В. Г. Короленко, отдавшего много сил и энергии этому процессу, ставшему историческим. Приехав в г. Елабугу на вторичное рассмотрение дела, он был потрясен жестоким и несправедливым приговором.
В письме к Н. Ф. Анненскому 19 октября 1895 г. В. Г. Короленко писал, что произошло настоящее жертвоприношение невинных людей «шайкой полицейских разбойников под предводительством тов. прокурора и с благословения Сарапульского окружного суда. Следствие совершенно сфальсифицировано, над подсудимыми и свидетелями совершались пытки. И все-таки вотяки осуждены вторично, и, вероятно, последует и третье осуждение, если не удастся добиться расследования действии полиции и разоблачить подложность следственного, материала. Я поклялся на сей счет чем-то вроде аннибаловой клятвы и теперь ничем не могу заниматься и ни о чем больше думать» (В. Г. Короленко, Собрание сочинений, т. 9, стр. 741— 742). Короленко действительно повел длительную и настойчивую борьбу с реакционной прессой и реакционно настроенным судебным чиновничеством. В защиту неосновательно обвиненных в тяжком преступлении вотяков он сумел привлечь прогрессивно настроенные научные силы этнографов, медиков, юристов и представителей прессы.
Составленный В. Г. Короленко и двумя местными журналистами отчет о вторичном рассмотрении дела был напечатан в октябре-ноябре 1895 года в «Русских ведомостях» (№288— 314), Вскоре этот отчет вышел отдельной брошюрой — «Дело мултанских вотяков, обвиненных в приношении человеческой жертвы».
В связи с этим делом А. М. Горький в 1931 году в статье «О литературе» писал: «Мултанское жертвоприношение, процесс не менее позорный, чем дело Бейлиса, принял бы еще более мрачный характер, если бы В. Г. Короленко не вмешался в этот процесс, не заставил бы прессу обратить внимание на идиотское мракобесие самодержавной власти».
28 мая 1896 г. в г. Мамадыше Казанского судебного округа состоялось третье заседание по этому же делу.
Председательствовал на заседании В. Р. Завадовский, обвиняли — Н. И. Раевский (обвинитель и в первых двух процессах) и Симонов, защищали — М. И. Дрягин, Н. П. Карабчевский (он принял участие по просьбе Короленко), П. М. Красильников.
Энергичная деятельность В. Г. Короленко вызвала искреннюю и дружную поддержку прогрессивных сил дореволюционной России. Нелегкую, но благородную роль сыграл по этому делу А. Ф. Кони.
предметный указатель
Агент
— А. дипломатический — 99.
— А. полицейский — 215, 242, 243, 249, 251, 257. Анонимное письмо — 261, 321.
Арест —24, 31, 33, 94, 165, 178, 264, 381, 386—388, 410. Апелляция — 27, 391, 393.
Афера — 236.
Брак- 26, 30, 76, 128, 284, 308, 311.
Вина (виновность) - 36, 90, 165, 173, 175, 230, 397, 430, 449, 450, 475.
— Признание В.— 129, 158, 159, 165, 166, 235, 269, 270, 272, 286, 397, 398.
— Сомнение в виновности— 111, 424, 450.
— Отрицание В. — 373, 375.
Вменяемость — 450.
Власть — 378.
— В. государственная — 367.
— В. обвинительная — 37, 39, 77, 89, 117, 119, 175, 343, 394, 457.
— В. полицейская — 480, 481.
— В. прокурорская — 76.
— В. родительская — 145, 156, 420.
— В. следственная — 49.
— В. судебная - 23, 76, 93, 176, 177, 233, 267, 339, 375, 461, 469.
— Злоупотребление В. — 378.
— Превышение В. — 377, 386, 388—390.
Вор — 90, 261.
Вспыльчивость — 133.
Врач судебный — 339, 354, 357, 358.
Государственный совет — 364, 392.
Государство— 143, 145.
Грабеж — 270.
Гражданский истец— 19, 176, 190, 397, 439, 440, 460, 472.
Давность— 101, 174, 175.
Доверитель — 83.
Дознание — 331, 336, 337, 344, 346.
— Д. полицейское — 471, 480, 483.
— Д. через окольных людей — 430, 434, 469.
Доказательство (а) — 13, 471.
— Д. вещественные — 94, 192, 193, 436, 460, 471, 484.
— Дневник как Д. — 40, 45, 203, 221—223, 295, 296, 310, 311. 422.
— Документ (ы) как Д. — 75, 103, 193, 229, 240.
— Показания обвиняемого (ых) —35.
— Показание подсудимого (ых) — 77, 86.
— Показания свидетеля (ей)— 14, 23, 26, 33, 60, 119, 120, 356, 369, 371, 372.
Долговое отделение — 56, 57, 60.
Дом игорный — 368—372, 376.
Донос (чик) — 238, 242, 250, 264, 315, 320, 327, 329, 331, 332, 418, 419, 420.
Допрос — 71, 88.
— Д. обвиняемого — 50, 156, 214, 267.
— Д. перекрестный — 382, 434.
— Д. свидетеля — 71, 430, 432, 433, 434, 437.
Духовенство
— Архимандрит — 273, 276.
— Игумен — 43, 44.
— Иеромонах — 269, 273, 276.
— Митрополит — 273.
— Монах (монашество) — 270, 273.
— Священник — 207, 227.
Жалоба кассационная — 392, 440, 446, 460, 463, 464.
Завещание— 50, 74, 174, 175, 177, 179, 183, 193-209, 213, 214, 218—221, 224, 230, 250, 312—334.
Закон — 36, 76, 230, 370, 393, 394.
Законодатель(ство) — 367, 375, 411.
Залог— 186-188, 190, 203, 256.
Засада — 95.
Защита -40, 101, 108, 111—113, 119, 176, 185, 190, 193, 215, 217, 351, 400, 405, 418, 419, 451, 458, 474.
Защитник —6, 7, 19, 116, 143, 211, 291, 343, 345, 456, 479, 481, 482.
Земский начальник— 16, 377, 379.
Злоупотребление — 405.
Игры азартные — 366, 370, 376.
Изнасилование — 284, 287, 288, 291, 438, 440, 444, 467.
Иск-68, 70, 337, 439, 440, 441.
Исполнительный лист— 170.
Истец (цы) — 176, 190, 441.
Истина— 17, 23, 24, 166, 240, 270, 336, 337, 343, 352, 359, 427, 439, 457, 458, 482.
Кара — 120, 410.
Кассация
— Кассационное заключение— 17, 18.
— Кассационный повод — 427, 428, 474—476, 478, 479, 481, 482.
— Кассационный суд — 427.
Клевета — 79, 321.
Консистория — 76, 78, 85, 88—90.
Корыстолюбие — 374.
Кража — 20.
Личность
— Обвиняемого — 432.
— Подсудимого — 28, 70, 91, 173, 232, 236, 268, 430, 431
— Потерпевшего — 270, 444.
— Свидетеля — 24, 28, 29.
Лжесвидетельство— 13, 84, 87, 89, 90, 121, 177, 330, 441, 46.1«
Мера пресечения
— Арест — 85.
— Арест домашний — 116.
— Поруки— 148, 465.
Мировой судья — 48, 67, 68, 74, 170, 291, 293, 294, 304. Мировой съезд — 27, 368, 445.
Мотив — 33, 402.
Мошенничество — 254, 375.
Наказание - 126, 127, 134, 232, 269, 288.
— Карцер — 383.
— Н. телесное — 122.
— Штраф — 376.
Наследник (ца) — 39, 52, 53, 175, 176, 203, 207, 222, 223, 312. Наследство, наследование— 41, 175, 176, 227, 313.
Ненависть — 34, 413.
Нервное состояние-— 134.
Нотариус — 67, 69, 70, 74, 307, 316, 319, 322, 324, 327, 334 427.
Нравственность — 145.
— Нравственная ответственность — 267, 268.
— Нравственная помощь — 76.
— Нравственная солидарность — 382.
— Нравственная сторона дела— 156, 274.
— Нравственное влияние— 108.
— Нравственное воспитание ■— 7.
— Нравственное достоинство — 233, 401.
— Нравственное осуждение— 133.
— Нравственное самосохранение — 451.
— Нравственное совершенство— 138.
— Нравственное убеждение — 206.
— Нравственное чувство— 134.
— Нравственные заветы — 393.
— Нравственные начала— 163.
— Нравственные соображения — 223.
— Нравственный уровень — 66, 119.
Обвинение —6, 13, 37, 91, 176. 206, 229, 230, 278, 366, 388, 400, 413, 419, 423.
Обвинитель — 7, 66, 400, 405, 417, 457.
Обвиняемый — 36, 434, 438.
— Показание О.— 118, 235.
— Сознание вины О. — 235.
Обер-полицеймейстер — 84, 88, 89.
Обман — 54, 75, 130.
Общественное мнение — 230, 231, 393, 394.
Обыск —49, 96, 103, 155, 233, 234, 255.
— О. повальный — 430.
Оговор- 235, 240, 243, 257, 258, 267, 322.
Опека — 227, 228.
Опись имущества — 220, 323.
Освидетельствование — 336, 358, 452, 465.
Оскорбление — 263, 359—361.
Осмотр —220, 270, 271, 445, 484.
Острог — 148.
Ответчик (чица) — 87.
Отвод — 428, 432, 439.
Откуп - 178, 183-187, 190, 191, 222, 224, 500. Отравление — 264, 265, 267, 412, 423.
Оценка личности
— Обвиняемого — 404, 413.
— Подсудимого — 28, 91, 163, 167, 278, 280, 414, 424.
— Потерпевшего — 29, 30, 122, 123.
— Свидетеля — 23—26.,
Подделка — 105, 106, 234, 235, 240, 241, 243, 254, 258, 267.
Подкуп— 177.
Подлог-54, 55, 59, 62, 69-71, 74, 75, 116, 183, 203, 228, 229, 238, 250, 308, 315, 324, 328—331.
Подсудимый - 28, 31, 33, 39, 47, 48, 52, 53, 91, 106, 119, 271, 274, 382, 384, 394, 416, 417, 419, 436, 450, 480.
Подсудность— 87, 474.
Помилование — 237, 334.
Полиция-41, 46, 52, 88, 89, 95, 105, 114, 115, 147, 165, 195, 196, 220, 224, 233, 241, 254, 266, 270, 300, 301, 304, 331, 373, 461, 480.
— П. сыскная — 89, 94, 106, 271, 331.
Последнее слово — 450.
Пособник — 54.
Потерпевший (ая) — 18, 19, 54, 93, 112, 116, 117, 137, 174, 234, 235, 427, 439—441, 443, 463, 469, 470.
Правосудие уголовное — 49, 76, 117, 240, 269.
Предание суду — 428, 430, 435, 461—463, 466, 480.
Предварительное следствие — 77, 335, 338, 427, 433, 452, 461, 466, 480, 481.
Председатель суда— 16, 387, 388, 430, 437, 442, 445, 446,460,461, 482, 483, 485.
Прелюбодеяние — 81, 82, 441.
Прения сторон — 413, 420, 434, 483.
Преступление политическое— 180, 233, 248, 258.
Преступник политический— 178, 249, 260.
Приговор-75, 90, 112, 117, 134, 174, 230, 233, 265, 268, 278,306, 354, 409, 449, 454, 475.
— П. обвинительный— 134, 365, 377, 409, 410.
— П. оправдательный — 409, 448.
Присвоение — 399, 400.
Присяга — 87, 88, 344, 434, 461.
Присяжные заседатели— 12, 15, 17, 93, 331, 339, 392, 439, 449—
453, 461, 466.
Произвол- 16.
Прокурор — 20, 267, 481, 482.
— Прокурорский надзор за предварительным следствием — 235. Противоречие — 46.
Протокол судебного заседания — 441, 449.
Развод — 80, 82, 86.
Расписка — 62, 66, 68—71, 74, 205, 225, 226.
Растрата — 400, 401, 403, 404.
Реформа крестьянская — 223.
Розыск полицейский — 271, 481.
Ростовщичество— 160, 238, 242, 262, 307, 309, 312, 322. Руководящее напутствие— 16, 17, 453.
Рулетка — 366, 368.
Самолюбие — 130.
Самоубийство — 24, 32, 33, 289, 290, 291, 293, 294, 421, 422, 434,
440, 442, 444.
Свидетель — 23, 82, 84, 379, 437.
Свобода совести— 143, 144.
Сенат- 17-29, 145, 187, 188, 202, 203, 222, 238, 250, 364, 386, 388, 390, 427, 428, 433, 435, 437, 440-442, 446—448, 452—454, 458, 460, 463, 464, 467, 468, 470, 473, 474, 476-486. Синод — 493.
Скопец (цы) — 39, 41, 44, 47, 48, 136, 138, 140—142, 146—149, 151, 153,
Скопчество — 40, 137, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 150, 151.
- Оскопление - 40, 47, 136-138, 140, 145, 146, 150, 153— 155,
Скупость — 56.
Следственный Пристав — 181.
Следы преступления — 32, 37, 95, 168, 170, 416.
Совесть — 25.
Стороны — 400, 427.
Суд-6, 7, 112, 306, 368, 371. 372, 394, 415, 429, 436, 454, 457, 458, 460, 479, 481.
— С. апелляционный — 394.
— С. волостной — 383, 392.
— С. кассационный — 427, 429.
— С. надворный — 42, 48.
— С. новый (пореформенный) — 359.
— С. окружной — 467, 476.
— С. присяжных— 18, 436, 448, 453.
— С. старый (дореформенный) — 175.
Судебная деятельность — 339, 352, 353.
Судебная медицина — 339, 456, 457.
Судебная палата— 106, 388, 391, 429, 430, 435, 438, 461—464, 466, 469, 473, 480.
Судебная реформа — 5, 18, 181, 472.
Судебное заседание — 388, 433, 455, 481, 482.
Судебное красноречие — 5,6.
Судебное разбирательство — 441.
Судебное следствие— 17, 40, 67, 91, 119, 121, 171, 185, 233, 247, 337, 407, 410, 412, 427, 433, 453-455, 459, 465, 482
Судебные уставы— 176, 430, 439, 450, 454, 464, 474, 486.
Судебный деятель — 8, 9.
Судебный оратор — 5, 7, 9.
Судебный пристав — 46.
Судебный следователь — 71, 73, 171, 215, 267, 270, 343, 344, 383, 392, 435, 446, 447, 466, 470, 472.
— Следователь по особо важным делам — 155.
Судья - 7, 20, 334, 375, 447, 457.
Сыск политический — 334.
Тайна — 25.
Таможня — 96, 100, 114.
Труп(ы)- 159-163, 168—.170, 336—338, 341, 354, 414, 416, 442, 480, 484.
Тюрьма — 240, 266.
Убеждение внутреннее — 448, 450.
Убийство- 15, 31, 33, 90, 119, 120, 129, 133, 160-169, 171, 172, 232, 253, 266, 269-271, 273-277, 297—299, 305, 346, 363,449, 450, 454—456, 470, 482, 484.
Убийца —31, 33, 163, 272, 298, 306.
Увечье — 146.
Уголовный закон— 171.
Укрыватель — 171, 173.
Улики-66, 71, 106, 115, 165, 166, 254, 350, 413, 415, 417, 423, 430, 454.
Умысел —275—277, 449.
Фальшивомонетничество — 92, 93, 96.
Экспедиция заготовления государственных бумаг — 102.
Эксперт(ы) — 70, 125, 126, 134, 208, 209, 217, 218, 266, 344, 354, 356—359, 362, 363, 398—400, 403, 405, 415, 419, 421, 423, 429, 437, 441—444, 456, 457, 466, 474, 485.
Экспертиза— 183, 217, 227, 357, 417, 418, 429, 441, 442, 444, 457, 465, 467.
— Э. бухгалтерская — 399, 472.
— Э. каллиграфическая — 208, 418.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ[13]
Дкар Герминия— подсудимая— 12, 91 —117, 494, 495.
Александр I (1777—1825) — 138.
Александр III (1845—1894) — 508.
Александров Петр Акимович (1836—1893) — выдающийся русский адвокат — 5.
Андреевский Сергей Аркадьевич (1847—1919) — выдающийся дореволюционный адвокат, поэт — 5.
Анненский Николай Федорович (1843—1912) — публицист, экономист, деятель народнического движения 516.
Арсеньев Константин Константинович (1837—1919) — известный либеральный общественный деятель, литературный критик, адвокат, автор многочисленных литературно-критических и юридических работ, почетный академик — 5, 11, 489, 498, 499.
Баталин Анатолий Гаврилович (1841 —1897) — врач, инспектор петербургской врачебной управы — 217.
Батурин К. Д. — товарищ председателя Петербургского окружного суда _490, 494, 496, 501, 503.
Беляев Козьма Васильевич (умер в 1858 г.) — купец— 174—230, 498, 499.
Бирд Георг Миллер (1839— 1883) — американский врач-невропатолог — 457.
Боровиковский Александр Львович (1844—1905) — известный дореволюционный юрист, автор ряда юридических работ — 504. Бремер — свидетель по делу Янсенов— 13, 163, 167.
Варадинов Николай Васильевич (1817—1886) — член главного управления по делам печати— 151, 497.
Владимиров Леонид Ефстафьевич (родился в 1844 г.) — профессор, адвокат, автор ряда работ по вопросам права — 6.
Войцеховский Иосиф Станиславович — адвокат — 504.
Гааз Федор Петрович (Фридрих-Иосиф) (1780—1853) — главный врач московских тюремных больниц, известный своей филантропической деятельностью, — 488.
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — 496.
Герард Владимир Николаевич (1839—1903) — известный дореволюционный адвокат — 494, 503.
Гернет Михаил Николаевич (1874—1953) — известный советский правовед, автор капитальных трудов по истории царской тюрьмы и вопросам права — 9.
Глама-Мещерская Александра Яковлевна (1859—1942) — известная актриса — 511, 512.
Горшков Григорий — подсудимый— 136—157, 496.
Горький Алексей Максимович (1868—1936) — 488, 516.
Громницкий Михаил Федорович — известный дореволюционный судебный оратор (прокурор и адвокат) — 5.
Гроховский Александр — подсудимый — 78, 83—85, 88, 90, 441, 493.
Грубе Вильгельм Федорович (1827—1893) — профессор оперативной хирургии Харьковского университета — 342, 354, 356—359, 361.
Грузенберг Оскар Осипович — известный дореволюционный адвокат — 20.
Довнар Александр Степанович — студент Института путей сообщения — 448, 449, 451, 455, 456, 458, 469, 513.
Дорошенко Владимир Иванович — подсудимый — 335—365, 487, 504-506,
Достоевский Федор Михайлович (1821 —1881)— 487.
Дюков Петр Андреевич (1834—1889) — врач-психиатр — 217.
Евреинов С. В. — адвокат — 497.
Екатерина И (1729—1796) - 366, 368, 492.
Емельянов Егор — подсудимый— 14, 23—38, 490, 491. Емельянова (Фролова) Лукерья — 23—38, 490, 491. Ермолова Мария Николаевна (1853—1928) — 511, 512.
Йкуковский Владимир Иванович (1836—1899) — известный дореволюционный юрист — 508
Жюжан Маргарита Александровна — подсудимая— 17, 412—424, 509, 510.
Залевский Владислав — подсудимый — 78—81, 83—85, 88, 90, 441, 493.
3-на (Зыбина) — 76—-90, 493.
Иванов В. К. — публицист—500.
Ижболдин Иван Алексеевич—гражданский истец по делу Мясниковых— 175—182, 498.
Илларион — иеромонах— 15, 269—278, 502.
Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885) — публицист и крупный общественный деятель либерального направления—487.
Карабчевский Николай Платонович (1851—1925)—выдающийся русский адвокат — 5, 513, 514, 517.
Караганов Амфилогий Александрович — подсудимый— 183, 189, 209—220, 227, 230, 498, 499.
Каракозов Дмитрий Владимирович (1842—1866) — революционер, 4 апреля 1866 г. в Петербурге совершил покушение на Александра II — 177.
Каспер Иоганн (1796—1864) — немецкий профессор судебной медицины — 443.
Кейкуа?ов Владимир Андреевич — товарищ председателя Петербургского окружного суда — 491, 495, 496, 498.
Колемин В. М. — подсудимый — 366, 376, 506.«
Колосов Василий Петрович — подсудимый — 232—268, 501, 502,
Кони Анатолий Федорович (1844—1927) — 5-20; 487—517.
Короленко Владимир Галактионович (1853—1921)— 18, 515 —517.
Крылов Никита Иванович (1808—1879) — профессор римского права Московского университета — 487, 488.
Дентовский Михаил Валентинович (1843—1906) — актер и театральный антрепренер — 511.
Лохвицкий Александр Владимирович (1830—1884)—известный адвокат, автор ряда трудов по вопросам права— 123, 124, 498, 504.
Лямбль Душан Федорович ( 1824—1895) — профессор анатомии Харьковского университета — 354—356, 358, 359, 363.
Майков — мировой судья — 58.
Маркс Карл (1818—1883)— 248, 249.
Матюнин Канон Дмитриевич — крестьянин, убитый в Мултане, — 475, 481, 482, 484, 485, 515.
Миронович — обвиняемый по делу об убийстве Сарры Беккер — 439.
Митрофания (Розен Прасковья Григорьевна) — игуменья — 428.
Михайлов Иван — подсудимый—271—278, 502.
Морошкин Сергей Федорович (1844—1900)—в 1867—1868 гг. товарищ прокурора Харьковского окружного суда, университетский друг А. Ф. Кони ■— 339.
Муравьев Николай Валерьянович (1850—1908) — в начале своей карьеры занимал различные прокурорские должности. С 1894 по 1905 год — министр юстиции. Возглавлял особую комиссию по пересмотру Судебных уставов. Намечал большое количество реакционных изменений в законах о судоустройстве и судопроизводстве. После ухода с поста министра юстиции был послом в Риме - 180, 510, 515.
Мясников Александр Константинович — подсудимый— 177—231, 497—500.
Мясников Иван Константинович — подсудимый— 177—231, 497— 500.
Назаров Николай Егорович — подсудимый— 19, 427—446, 468, 510-513.
Нейдинг — профессор — 441, 443:—445.
Неклюдов Николай Андрианович (1840—1896) — известный дореволюционный юрист, автор ряда работ по вопросам права — 439.
Непенин Н. П. — подсудимый — 503.
Нечаев Сергей Геннадиевич (1847—1882) — революционер, организатор общества «Народная расправа». Был осужден царским правительством к двадцати годам каторги, умер в Петропавловской крепости — 249, 251, 502.
Нимейер — профессор — 360.
Овсянников Степан Тарасович — осужденный — 428.
Одоевский Владимир Федорович (1803—1869) — князь, писатель — 488.
Орлов Николай Алексеевич (1827—1885) — русский посол в Бельгии (1860-1870)-251.
Палем Ольга — подсудимая — 448—473,' 513, 514.
Патти Аделина (1843—1919) — итальянская певица — 83.
Пеликан Евгений Венцлович (1790—1873) — автор книги «Судебно-медицинские исследования скопчества» (1872) — 141.
Петр III (1728—1762) — 139, 151.
Писарев Николай Сергеевич (1837—1882) — прокурор Харьковской судебной палаты — 505.
Питра Альберт Самойлович — профессор судебной медицины Харьковского университета — 354, 357—359.
Плевако Федор Никанорович (1843—1908) — известный русский адвокат — 5, 9, 437.
Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) — министр внутренних дел и шеф жандармов, отличался крайней реакционной политикой. Убит 15 июля 1904 г. эсером Егором Сазоновым—516.
Плотицын— купец, распространитель скопчества — 47, 143.
Победоносцев Константин Петрович (1827—1907)—обер-прокурор Синода (1880—1905), профессор гражданского права — 515.
Познанский Николай — ученик гимназии — 414—424, 509, 510.
Постельников А. — член Московской судебной палаты — 513.
Потехин Павел Антиповнч (1839—1916) — известный русский адвокат-492, 495, 501.
Протопопов Василии — подсудимый— 16, 377—394, 452, 507, 508. Путилин Иван Дмитриевич (1830—1893 [1899]) — начальник сыскной полиции Петербурга — 503,
Реутский Николай Васильевич—следователь по особо важным делам при Московском окружном суде ■— 155.
Розинг Иллиодор Иванович (1830—1903) — член Государственного совета, сенатор — 507.
Рукович — судебный врач — 456, 458, 465.
Рыжов Алексей Иванович — статский советник— 118—135, 495.
Сабуров Андрей Александрович (1837—1916)—товарищ председателя Петербургского окружного суда — 494.
Самарский-Быховец В. В. — адвокат — 503.
Сахаров — следователь по важнейшим делам при Московском окружном суде — 428, 446, 447, 511—513.
Северин Гавриил Иванович — извозчик — 335—365, 504—506.
Седков — гвардии капитан— 12, 307—334, 503, 504.
Седкова Софья Константиновна — подсудимая — 307—334, 503, 504.
Селиванов Кондратий — проповедник скопчества—138—141, 151, 492.
Скрыжаков Эмануил Васильевич — подсудимый— 164, 168, 170— 173, 497.
Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — философ-идеалист, профессор Петербургского университета ■— 10.
Солодовников Николай Назарович — купец — 39—53, 491.
Спасович Владимир Данилович (1829—1907) — выдающийся судебный оратор, ученый-юрист, литератор, публицист — 5, 490, 491, 494, 499, 503, 504,
Сурина Аграфена — свидетельница по делу об убийстве Емельяновой Л. — 14, 24—27, 29—37, 490, 491.
Сусленников Яков Яковлевич — подсудимый — 43, 46—53, 491, 492.
Таганцев Николай Степанович (1843—1923) — известный дореволюционный юрист, автор ряда капитальных трудов по уголовному праву, сенатор, член Государственного совета -т- 5.14,
Торчаловский Петр Петрович — подсудимый— 55, 57—75, 492, 493.
Трепов Федор Федорович (1803—1889) — петербургский градоначальник — 125.
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 502.
Унковский Алексей Михайлович — видный дореволюционный адвокат и общественный деятель — 491, 494.
Урусов Александр Иванович (1843—1900) — известный русский юрист, публицист, театральный критик, друг А. Ф. Кони — 5, 10, 508.
Утин Евгений Исаакович (1843—1894) — известный дореволюционный адвокат и публицист ■— 501.
фукс Эдуард Яковлевич (1834—1909) — прокурор Петербургской судебной палаты — 504.
Хартулари Константин Федорович (1841 —1897) — известный адвокат, автор ряда работ по вопросам права — 509.
Хин Р. М. — друг А. Ф. Кони — 10.
Хороманский Генрих — подсудимый — 88, 441, 493, 494.
Чаплин Николай Дмитриевич — председатель Петербургского окружного суда — 513.
Черемнова Е. А. — потерпевшая— 19, 429, 440, 441, 443—445, 510—512.
Чихачев — коллежский асессор, почетный мировой судья — 279, 306, 482, 503.
Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — крупный ученый-правовед и историк, автор многих капитальных трудов по государственному праву, профессор Московского университета — 489
Чичерина Александра Алексеевна — жена Б. Н. Чичерина — 489.
Шамшин Иван Иванович (1835—1912) — председатель Петербургского окружного суда — 506.
Шевелев — свидетель по делу Мясниковых— 177—182, 249.
Шидловский Владимир Доминикович (родился в 1843 г.) — товарищ прокурора Петербургского окружного суда — 509.
Шилов Александр — основоположник скопческой секты в России — 138, 151, 152, 155