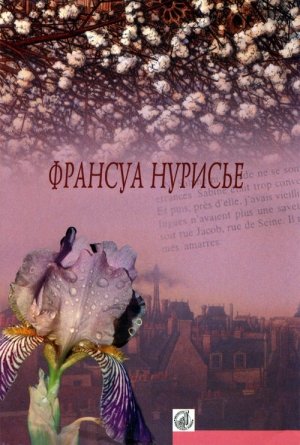
В былые времена, оставшись наедине с собой, я мечтал о наполеоновских эпопеях страсти. Я понял свою ошибку. Теперь я уже не столь наивен. Жизнь научила меня, что никогда не нужно смешивать подскок с полетом, а главное, что следует скрывать от всех, как тайную болезнь, потребность верить.
Жан Жионо. Ной
1. СЦЕНА
Похоже, что, слишком часто присаживаясь за стол, я уже успел опорожнить всю свою кладовую. И поэтому, начиная этот рассказ, я не буду пытаться извлекать на свет какие-то секреты, а изложу на бумаге одну непростую и еще совсем-совсем живую историю, которая произошла со мной несколько месяцев назад и до сих пор никак не выходит у меня из головы.
Хотя это и не бросалось в глаза, но в своих книгах, как бы они ни были испещрены воспоминаниями, я всегда стремился соблюдать определенные правила приличия. Под тем предлогом, что за свои откровения отвечать приходится мне одному, я, смею сказать, практиковал целомудрие, притворяясь, однако, из принципа, что осуждаю его. А чтобы безболезненно запретить себе его противоположность, я называл ее «свинством». Таким способом я старался извлекать двойную выгоду и из своей щепетильности, и из своей смелости. На этот раз я пренебрегу подобной хитростью. Мой сюжет — если таковой имеется — сделал бы ее смешной.
Дело происходило в конце января, когда из-за затянувшегося зимнего безвременья все начинает валиться из рук. Я согласился поехать в Б., куда меня пригласило местное Общество друзей французской словесности. Его председательница давно уже просила меня выступить с лекцией. Я же взамен предложил беседу, во время которой мог бы «без подготовки» ответить на заданные мне вопросы. Я рассчитывал, что вопросы будут острые, а то и провокационные. Почему бы нет? Я знаю себя: торжественные чествования писателей, устраиваемые старинными обществами, особенно в провинции, нагоняют на меня невыносимую скуку. Звук собственного голоса убаюкивает меня, и, чтобы не заснуть, мне время от времени нужно слышать пощелкивание кнута. К счастью, заурядные читатели (достаточно заурядные для того, чтобы не только читать наши книги, но и искать встреч с нами), в глубине души принимающие нас за фигляров, когда вдруг видят нас перед собой и получают возможность выступить, то никогда не лишают себя возможности воспользоваться и злоупотребить ею. Во время бесед вроде той, что мне предстояло «вести» в Б., им случается изрекать, быть может совершенно непреднамеренно, такие колкости, которые способны вдохновить меня, когда я в ударе, на неожиданные дерзости. В свою очередь эти дерзости задевают слушателей за живое, будоражат аудиторию, отчего я предстаю перед самим собой в выгодном свете и без особого неудовольствия дотягиваю до конца вечера, оказавшегося бы без этих приправ чересчур пресным. Такого рода сеансы в ритме матчей хороши, естественно, если находишься в превосходной форме и если они случаются не чаще двух-трех раз в год. Поскольку соглашаешься на них за много месяцев вперед, то дату намечаешь, не задумываясь. Тебе кажется, что испытание еще далеко-далеко. И вот оно уже завтра: нужно к нему приготовиться, пошевелить мозгами, что-то нацарапать на бумаге; начинаешь спрашивать себя, какой черт дернул тебя ввязаться в эту историю, — в таком состоянии духа я пребывал в то январское воскресенье, накануне своего отъезда в Б.
Люка побывал на улице Суре после обеда, и, естественно, не удосужившись меня предупредить. Прошел уже год с тех пор, как я перестал обращаться к нему с просьбой: «Позвони мне…» Совершенно бесполезно, и к тому же мои призывы почему-то представляются ему обидными. После развода с Сабиной я прилагаю все усилия к тому, чтобы лишить визиты Люка тех черт ритуальности, натянутости, которые незамедлительно появляются во встречах между отцом и живущим не с ним ребенком. Можно сколько угодно повторять сыну: «Ты здесь у себя дома…» Однако не являются ли уже сами эти слова свидетельством какого-то обмана? Ведь в нормальной семье с общими трапезами, с детскими комнатами, с неизбежным, когда живешь вместе, ворчанием, родителям и в голову не придет сообщать своим отпрыскам, что они находятся «у себя дома». Все и так говорит за себя! Так что вот уже больше года, как я отказался, или, во всяком случае, стараюсь отказаться, от разного рода нотаций, излишней предупредительности, чрезмерных излияний, способных подчеркнуть искусственность моих взаимоотношений с Люка. Преуспел ли я в этом? Он приходит ко мне, «когда хочет», то есть по вечерам в среду и еще один раз — либо в субботу, либо в воскресенье. Я не собираюсь ни жаловаться, ни страдать из-за подобной сдержанности в проявлении чувств. Я даже вынужден признать, что испытал бы нечто вроде досады, если бы Люка вдруг нарушил эти сложившиеся за шесть или семь лет привычки, соблюдаемые нами к обоюдному удовлетворению. Во всяком случае, так виделось мне происходящее в тот момент, когда начинались события, о которых я сейчас расскажу.
В то воскресенье Люка позвонил около четырех дня. Обычно он подъезжает только к вечеру, когда я, закончив работу, сижу в гостиной с книгой и с находящимся на расстоянии вытянутой руки стаканом. Я предлагаю выпить и Люка, который не отказывается, что тут же становится предметом какой-нибудь шутки, доставляющей нам обоим огромное удовольствие. Дело в том, что Сабина рассказывает всем направо и налево, будто я спаиваю нашего сына. Поскольку речь идет обо мне, вновь ставшем трезвенником, и об одном-единственном стаканчике в неделю, то она явно преувеличивает. Поэтому мы оба дружно смеемся, и я щедрой рукой наливаю ему в стакан. Я стараюсь воздерживаться при нем от каких-либо слов, которые он мог бы истолковать как «нападки» на его мать, но при этом не отказываю себе в удовольствии намекнуть с помощью невинных шуток, как Сабина постепенно отравила наше супружество своей склонностью к преувеличениям, своими безумными предположениями и манией порицания.
Думаю, мне удалось скрыть от Люка легкое раздражение, испытанное оттого, что он так рано вторгся в мое беспечное воскресное забытье, которое я привык называть «работой». Надо сказать, что разного рода бумажки, черновики, корреспонденция болтаются вокруг меня приблизительно в таком же количестве, как и в другие дни, а молчание телефона может создать иллюзию трудового уединения. Однако, по правде говоря, я люблю по воскресеньям только свою незанятость, некоторую расслабленность в отсутствие свидетелей, размягченность мыслей и жестов, которую я осуждаю у других и не люблю наблюдать у самого себя. Интересно, понял ли это Люка? Очевидно, он сразу же обратил внимание на мои мятые брюки и взъерошенные волосы. Будь в квартире женщина, он непременно заподозрил бы, что я только что освободился от ее бурных объятий. Но я был один, — он проверил это, поднявшись под предлогом, что ему нужно помыть руки, на второй этаж, — и тогда он, вероятно, предположил, что в момент, когда он позвонил, я спал.
— А, ты работал, — сказал он мне, сделав ударение на последнем слове.
И уже начиная с этой первой реплики все было готово для того, чтобы наш разговор принял дурной оборот.
Люка скоро исполнится девятнадцать.
На протяжении десяти лет, с того момента, как он вырос из младенческих воплей и топаний, и до самого отрочества я звал его «дитя чуда». Тот исторический эпизод, весьма живо запечатлевшийся в моем сознании, Сабина вспоминала с раздражением. Я-то, конечно, имел в виду совсем другое. Мне нужно было сказать, дабы правильнее передать свое ощущение, что Люка походил на чудо. Привыкший относиться к маленьким детям едва ли не с подозрительностью, тут я восхищался его грацией, гармонией его жестов, его умением ласкаться. Очень красивых детей любить легко, как, впрочем, и сильно обиженных природой несчастных малышей, чья беззащитность как бы компенсируется нашей нежностью. В этом соревновании между исключительным обаянием и полным его отсутствием средние дети оказываются в невыгодном положении. Любовь к ним, если можно так выразиться, сидит на двух стульях. С моим сыном все обстояло иначе; меня просто завораживали его приветливые взгляды из-под длинных ресниц, его чистая кожа, его кошачье молчание. От него хорошо пахло. Когда мы, Сабина и я, еще жили вместе, в его комнате никогда не чувствовалось того запаха затхлости и башмаков, который непонятно как выносят некоторые родители.
Однажды, войдя в гостиную, я увидел Люка; он развалился на диване, весь как-то изогнувшись и вытянув далеко вперед ноги. Оставаясь тем же самым, он вдруг стал как все. «Ну вот, — подумал я, — должно быть, это и есть трудный возраст, момент, когда скелет подростка начинает гнуться под воздействием какой-то странной вялости…» За несколько недель взгляд Люка помутнел, начал избегать моего взгляда, изменилась и отяжелела речь, обеднел словарь. Он ронял и разбивал предметы. К тому времени они с Сабиной уже на протяжении года жили вдвоем. У меня возникало искушение обвинить мою бывшую супругу в том, что именно она своей чрезмерной нежностью и постоянными оплошностями способствовала подобной метаморфозе нашего сына. Это была бы классическая ссора, вызванная классическим упреком. Однако, поразмыслив, я пришел к выводу, что Сабину можно скорее заподозрить в истеричности и суровости, чем в попустительстве. Она не была ласковой матерью. И вот в своих полных горечи рассказах о превращении Люка, навязываемых тем или иным редким друзьям (остальные считали меня плохим отцом, человеком с холодным сердцем), я сетовал на вред, наносимый разводами, на бесхарактерность детей, воспитываемых исключительно женщинами, и на многое другое. Подобные речи не очень вязались ни со мной как с человеком, ни с нашим внешне безболезненным разводом. Меня не волновали ни эта непоследовательность, ни банальность моих горьких жалоб. Я весь находился во власти переживаний, связанных с тем, что я считал испорченностью Люка, и мне даже в голову не приходило привести к какому-то общему знаменателю мою реакцию, мои слова и выраженные в моих книгах мысли. Он казался мне жертвой какой-то несправедливости, и я никак не мог отделаться от мысли, что мой сын не должен был бы подвергаться испытанию, которое, по заверениям других отцов, не представляет ничего серьезного. Их философия меня ужасала. Что касается меня, то я не хотел терпеливо переносить свою боль. Впрочем, боль-то испытывал не я, а Люка; я же просто делал вид, что озабочен состоянием сына, а не своим мелким отцовским тщеславием.
Под ногтями его появилась траурная полоска, дыхание мне казалось каким-то кислым и тяжелым. Теперь каждого его визита я ждал с тоской. Он чувствовал эту тоску, и у него пропадала всякая естественность. Я обращал внимание на его натянутый вид, натыкался на его нахмуренный лоб. Я предпринимал унизительные попытки приручить его, но никогда, даже в момент моих самых усердных стараний, меня не покидало тягостное ощущение собственной неловкости и тщетности моих усилий. Мне казалось, что это притягиваемое к земле длинное тело уже никогда не исцелится от овладевшей им апатии. Я мечтал уже о подпорках, о команде «смирно». Я даже стал убирать подушки с дивана в те дни, когда ждал Люка в гости. Еще немного, и я стал бы принимать его стоя, как, я слышал, принимал своих сотрудников главный редактор одной газеты, или наоборот, потащил бы с собой в какой-нибудь марш-бросок, заставил бы предпринимать интенсивные и бессмысленные усилия, чтобы только не видеть, как его тело обвисает, ищет повсюду ненужные точки опоры.
Эти наваждения и пробуждали, и сбивали с толку мою нежность. Она, впрочем, не сдавалась и поджидала удобного случая. Тем временем наши диалоги становились от визита к визиту все более скучными и прерывались все большим количеством пауз. В конце концов я стал предпочитать гомон ресторанов либо расслабленность кинозалов. В кино Люка обычно соскальзывал вниз, пока затылок его не упирался в спинку кресла. Рядом со мной оставалась только эта бесформенная кучка молодости, это нечто. Я реагировал, напрягаясь и вытягиваясь вверх, но тут начинал протестовать сидящий сзади меня зритель: моя голова и плечи заслоняли ему экран. Тогда я оседал, обнаруживая, что потерял сюжетную нить. Люка сидел, не поворачивая головы. В эту же пору мы завели привычку ужинать два раза в неделю в расположенном недалеко от меня ресторанчике; Люка понравилось, как там кормили, и к тому же мне казалось, что стиль этого ресторанчика соответствует вкусам подростка. Там он при мне раза два или три расслабился и добродушно поведал несколько эпизодов из своей лицейской жизни. Ничего из ряда вон выходящего, естественно, но подвигов я ни от него, ни от себя уже не ждал. Обыденного, банального мне было вполне достаточно. Моя не слишком упорядоченная жизнь одинокого мужчины избавляла меня от необходимости устраивать трапезы на улице Суре. Мне было трудно представить, как я буду стряпать ужин для Люка. Я не понимал, что выполняемые вместе простые действия, наверное, немного сблизили бы нас, в то время как повторение одного и того же маршрута, одни и те же колебания перед одним и тем же меню, — все, вплоть до слишком привычного лица метрдотеля, в конечном счете создавало впечатление, что время скользит у нас между пальцев, и одновременно, что каждый из наших вечеров бесконечен, взаимозаменяем.
С отчаяния я подумывал и о том, чтобы разбавить наше одиночество, оживить его, пригласив вместе с Люка кого-нибудь из его товарищей, или даже попросить присоединиться к нам одну из моих приятельниц. Никакой связи, как это называется, у меня не было. Поэтому проблема сводилась к тому, чтобы выбрать среди трех-четырех вероятных подруг ту, которая, по моим прикидкам, сумела бы понравиться Люка и которой теоретически мог бы понравиться и он сам. Однако помимо того, что такого рода инициатива, породив иллюзии, грозила связать меня слишком тесно с обыкновенной сообщницей, вообразившей, будто ей предстоит сдавать какую-то роль в моей жизни, я вскоре осознал, что ни одна из тех особ, с которыми мне приходилось иногда проводить ночь, не казалась мне ни достойной этого приключения, ни способной на него. Не то чтобы я превращал эту встречу в дело государственной важности, — просто мысленно я представил себе промахи, утрированные или неловкие позы и последующее смущение, может быть даже — на чьих губах? — язвительную усмешку. Короче говоря, мне было стыдно за моих подруг перед Люка, а Люка было стыдно перед своими приятелями за меня или же за них передо мной. Так что все мои попытки привлечь к нашим ужинам кого-нибудь из тех «друзей», как он их торжественно величал, чьи имена повторялись в разговоре Люка (я их называл: «твои приятели»), вызывали у него чувство неловкости. И по обоюдному согласию мы от этого проекта отказались. Что же касается некой Вероники, чье имя появляется здесь, очевидно, в первый и последний раз, то после нашего совместного ужина в «Кадоган-клубе», — в то воскресенье, в момент появления Люка, она, степенно держащая стакан в руке, как бы случайно оказалась у меня в гостях, — мой сын часов в двенадцать поинтересовался, кто она такая, а потом, помолчав, впервые спросил, почему мы с его матерью разошлись.
В то самое мгновение, когда он задал мне этот вопрос, моя машина остановилась перед зданием, в котором Люка и Сабина жили последние семь лет. Освещенное розовыми отблесками окно на втором этаже лишний раз напомнило мне, что уже поздно и что Сабина, очевидно, то и дело поглядывает на часы. Может быть, она даже время от времени отодвигала штору и вглядывалась в темноту. Минуты, проведенные в теплом сумраке машины, были всегда самыми лучшими минутами наших вечеров. Тут мне случалось иногда испытывать мимолетное ощущение достигнутого взаимопонимания; я видел, что Люка тоже колеблется, не торопится расставаться, растягивая удовольствие, возможно, похожее на мое собственное. В тот вечер я настолько не ожидал от него такого личного вопроса (стиль наших отношений делал их с его стороны почти невероятными), что я даже не сообразил, что ему ответить. Мне могут сказать, что лучшим ответом была бы правда. В полночь столь очевидные решения не часто посещают перенасыщенную неуверенностью голову. Поэтому я быстро сочинил речь, одновременно и замысловатую, и напыщенную, отразившую мою неспособность сделать выбор между комедийной ролью великодушного экс-супруга и обыкновенным уважением к собственным воспоминаниям. Люка немного послушал, играя ручкой дверцы, потом резко нажал на нее, и в машину ворвался холодный воздух. Я вздрогнул и замолчал. «Уже поздно», — сказал он. И, как обычно в момент прощальных поцелуев, пододвинул к моему подбородку свою макушку. Мои губы и нос наткнулись на его жесткие волосы, отдававшие ароматом сена и запахом подгорелого сала из ресторана «Кадоган». Зачем говорить? Я начал было движение рукой, чтобы погладить его по голове, взъерошить волосы, как я не без умиления делал это, когда у него была еще короткая стрижка. Но он уже отстранился, встал и хлопнул дверцей. Двумя минутами позже зажегся свет в другом окне на втором этаже, а потом шторы задернули, и оно резко потемнело. Я включил двигатель. В ту ночь я к вышеупомянутой Веронике не поехал.
В нашей беседе появились нотки раздраженности. Из-за чего? Знаю только, что от недоброжелательного январского света все вещи вдруг стали выглядеть уродливее, чем они есть на самом деле. Это был один из тех дней, когда уныние наступает раньше обычного. Никакого спора, насколько я помню, не было. Был только утомительный обмен репликами, которые я выговаривал с умоляющей сострадательностью, а он с обидой. Он подстерегал меня. Сейчас мне уже трудно сказать, к какой теме я пытался тогда подойти, — так у нас с ним обстоят дела! — но, по всей вероятности, я совершил все те оплошности, которые зарекался совершать: заговорил о его учебе (то есть о подготовительных курсах при лицее Карно, которые такому самоучке, как я, представляются чем-то таинственным, едва ли не враждебным), о его по-прежнему повисающем в воздухе решении бросить курить, о тех нескольких днях, которые его мать провела недавно в горах, совершенно одна. Стоит мне сказать что-то не так, все его начинает раздражать. У меня оставалась надежда только на какой-нибудь телефонный звонок, способный естественным образом положить конец этому бедствию, но обступивший нас нерушимый воскресный покой не оставлял никакой лазейки. К моему облегчению, Люка сам решил сократить свой визит. Он сослался на то, что ему нужно переписать какой-то конспект по философии у одного из своих товарищей, живущего недалеко от улицы Суре, и встал. «Он более цивилизованный человек, чем я», — мелькнуло у меня в голове.
— Поужинаем, конечно, вместе…
Он удивленно посмотрел на меня. Вероятно, ему было непонятно это мое упорство продлить нашу вечернюю встречу, которую ему только что удалось прервать. «Да, конечно», — ответил он вполголоса. Он как-то сразу постарел.
Лестница задрожала от его шагов, потом хлопнула дверь. Лоб у меня покрылся испариной, дыхание участилось. Я подошел к комоду, на котором стоял поднос с постоянно искушающими меня разноцветными бутылками и стаканами. Однако я тут же содрогнулся, представив себе, как пью в одиночку, днем, — впрочем, ночь была уже совсем не за горами, — словно внезапные появление и уход моего сына входили в разряд тех «волнений», после которых всегда найдется добрая душа, чтобы предложить вам «стаканчик укрепляющего». Так во времена моего детства говорили у нас в семье, говорили люди, из которых я вышел и у которых постоянно щемило в груди и учащенно билось сердце, по мере того как волны жизни разбивались у их ног и они то и дело оказывались на грани негодования либо обморока. Я похож на них больше, чем мне хотелось бы верить. Я изменил направление своего жеста, выдвинул ящик комода и извлек оттуда коробку, наполненную фотографиями, которые мне все никак не удавалось разложить по порядку. Удаляясь с коробкой в руках от подноса и от бутылок, я праздновал в душе нечто вроде полупобеды.
Там лежали в беспорядке сделанные со вспышкой во время вернисажей или коктейлей моментальные снимки, на которых вдруг обнаруживаешь у себя оптимистическое, слегка американское выражение лица; вырезки из газет и журналов; а на самом дне коробки — переданный мне по поручению Сабины одним нашим общим старым другом конверт, набитый семейными фотографиями. Мне было интересно узнать, что она не устояла перед искушением, столь наивным, отрезать на некоторых снимках свое собственное изображение, на других — изображение того, с кем, по слухам, у нее было приключение. Из-за этого кое-где Люка — ему было тогда лет десять или двенадцать — улыбался пустоте, либо его шею обрамляла волосатая рука лишенного головы и туловища Любовника. Посреди январской серости в памяти вдруг стали всплывать какие-то летние дни, воскресенья, теннисные игры, прогулки под парусом, уступавшие место друг другу по мере чередования снимков, старательно подписанных Сабиной, в том числе и там, откуда она изъяла воспоминания о себе и, по-видимому, о неких объятиях и тайнах, оставлявших меня удручающе безразличным.
Я сейчас обратил внимание на то, что еще не попытался описать Люка. Не его душу или его бездушие — здесь-то у меня все обстоит прекрасно, — а его лицо, тело. Не исключено, что, будучи подверженным столь распространенному ослеплению отцов, я и не способен на это. Я обнаруживаю в облике Люка не закрепление черт, а их изменение, углубление, становление. Мне в меньшей мере знакомы его лицо и его тело, чем испытываемая мною от встречи к встрече, от одного времени года к другому растерянность при виде его подвижности, при виде того, как ставшие было привычными выражения лица и жесты исчезают, растворяются в новой манере бытия, столь же мимолетной, неопределенной — и так до бесконечности.
Эту же историю рассказывали мне и фотографии из желтого конверта. И я задавал себе вопросы: как и когда серьезный мальчик, запечатленный на летних снимках в Аржантьере и на острове Ре, превратился в этого долговязого подростка, по-прежнему худого и немного томного, лицо которого напоминало уже не затравленного волчонка, каким он выглядел в детстве, а опустошающую курятники хитрую лису? Черты лица моего сына сделались более тонкими. Они казались мне одновременно и острыми, и расплывчатыми. Каждая фотография в отдельности казалась мне отчетливой, но в совокупности они создавали впечатление «смещения». При этом улыбка уже не умывала, не освежала его лицо, как это свойственно веселью, а накладывала на него, особенно в последние два года (фотографии с острова Ивиса, из Ирландии), отпечаток какой-то непонятной скрытности, или недоверчивости, или просто грусти, расстраивающей меня грусти. Как же мне описывать человека, которого я перестаю узнавать?
«Он вернется через час», — подумал я. Уже давно наступил вечер, зажглись лампы. Я попробовал классифицировать фотографии в хронологическом порядке, но вскоре заметил, что откладываю в одну сторону фотографии Люка, которые мне нравятся, а в другую те, где он кажется мне похожим на землеройку, на зайца-безбилетника. К счастью, в зтот момент зазвонил телефон. Не он ли? Я надеялся, что услышу его голос, сообщающий мне о каких-то новых планах и отменяющий наш ужин. Но нет, то была Сабина. «Малыш у тебя?» — спросила она меня. Потом, тут же: «Ты один? Я могу с тобой поговорить?..»
Сабина изменившимся голосом рассказала мне про одну «ужасную сцену», устроенную ей нашим сыном два дня назад. Она процитировала мне сказанные им фразы, привела слова, которые он «бросил ей в лицо», но они показались мне невероятными. Такое его поведение не укладывалось у меня в сознании.
— У тебя, может быть, и не укладывается, но я-то его слышу. Слышу на протяжении целого дня. Если бы ты хотя бы один-единственный раз согласился покинуть свою башню из слоновой кости и заняться нашими маленькими горестями…
И так далее. Ни для кого не составляет тайны, что говорит в подобных случаях один бывший супруг другому, особенно если испытывает зависть к его прекрасному амплуа отсутствующего, к роли еженедельного посетителя, роли Святого Людовика, сидящего под дубом, к заботам дарителя карманных денег. Предполагается, что я объединил в одном лице всех этих персонажей и наслаждаюсь всеми привилегиями и комфортом одинокого мужчины, вельможи, обедающего и ужинающего в ресторане и вырывающегося из объятий любовницы лишь для того, чтобы свозить своего сына в Венецию или Лондон, только на три дня, ни днем больше, и устроить там ему крещендо из музеев, баров и галстуков, дабы ошеломить невинного мальчика и укрепиться в и без того крепком сознании собственной непогрешимости. Ведь разве не рассказывал Люка Сабине о наших вечерах в «Кадогане», о наших перемежаемых паузами беседах?
— Для меня тоже, — сказал я, — это тяжелый момент. Пожалуйста, не думай…
Условия торга оказались для меня весьма благоприятными, и я противопоставил «ужасной сцене» свои душевные состояния. При упоминании о моих отцовских треволнениях Сабина успокоилась. «Ты доволен своей работой?» — спросила она меня, пьянея от собственного великодушия, но отрывисто, как и подобает современной женщине. «Абсолютно!» — сообщил я. Произнося это (своим жизнерадостным, бодрым голосом), я подумал, что сейчас у меня столь же «американский» вид, как на тех сделанных со вспышкой фотографиях.
— Постарайся хорошенько с ним поговорить, вложи хоть немного здравого смысла в его мозги…
Сабина в свои сорок лет пользовалась теми же выражениями, что и старухи из моего детства. К тому же еще эта ее манера говорить о нашем ребенке, как о дичи, которую важно не упустить… Тут уже никакая коробка с бумажками не смогла отвратить меня от заветного подноса. Я пошел и плеснул жидкости себе в стакан. Когда Люка позвонил (я дал ему ключ, но он его потерял), настроение у меня уже немного поднялось.
— Ну и этот вот ресторан, почему мы на протяжении трех лет приходим именно сюда? К тому же зачем спускать такую кучу денег в ресторанах?
Глаза его потускнели и смотрели куда-то рядом с моим галстуком. Когда я вижу, что Люка напружинивается, когда речь его становится порывистой, а слова натыкаются друг на друга, выскакивают самопроизвольно (догадываешься, однако, что они долго-долго вертелись у него в голове), или когда он произносит их с хорошо знакомым мне злым пафосом, я умолкаю и отворачиваюсь. Я начинаю опасаться, как бы он не зашел слишком далеко. Стараюсь, чтобы те непростительные слова, которые, я вижу, так и просятся ему на язык, не были сказаны. Я себя знаю; я обидчив, и потому не стерпел бы дерзких или оскорбительных правдивых слов Люка, произнесенных им в ответ на мои реплики. Меня больше устраивает угадывать их, когда они беснуются в нем, не находя выхода из-за моей пассивности. Как правило, например в супружеской паре, каждый знает, до какого рубежа можно дойти, не сжигая мостов. Дальше появляется риск разрыва, и, оценивая его, каждый испытывает нечто вроде сладострастия, когда продвигается вперед, подходит вплотную к этому запретному рубежу и внезапно переходит его. Во всяком случае, так представляешь себе ситуацию на протяжении долгого времени — всех тех лет, пока играешь в эту крупную адско-райскую игру. Однако тут речь шла и не о супружеской паре, и не о любви.
Так или иначе, но в тот январский вечер я не был настроен ни давать отпор, ни разыгрывать карту оскорбленного достоинства.
Нас выручил принесший наши блюда официант.
— Бифштекс по-татарски?
Люка указал на стол перед собою, слегка улыбнулся. «Правда, поскольку речь идет о моем любимом блюде…» В голосе его почти уже не было злости. Он добавил в свое мясо приправ, а в беседу — невинные соображения по поводу кетчупа. Можно было надеяться на передышку.
— Про что она, твоя завтрашняя лекция? Ты уже написал ее? Ты, наверное, знаешь их все наизусть, такой опыт!
Вопросы или атака? Я объяснил ему, что речь идет об импровизации, об ответах на вопросы, порой весьма неожиданные.
— Тогда, значит, тебе не нужно готовиться.
Все его фразы, несмотря на их вопросительную интонацию и школярский словарь, который в другое время мог бы меня умилить, являлись утверждениями и произносились с целью вывести меня из равновесия. Сила этих сокрушительных ударов настолько не соответствовала предмету разговора, что отражать их не составляло особого труда. Важно было только сохранять спокойствие. Начиная такого рода наскоки, Люка, вероятно натренированный в этом виде спорта Сабиной, обычно рано или поздно упоминает о деньгах. Интересно, как ему удастся сделать это сейчас?
— В качестве кого они тебя приглашают?
— Думаю, в качестве писателя.
Люка залпом выпил рюмку вина, которую я ему только что налил. «Журналисты, — сказал он, — эти дерьмокопатели…» Посреди лба у него вздулась вена, а на лице его была написана озабоченность.
Как ни агрессивно и как ни опрометчиво прозвучало это заявление, мне показалось, что после него бешенство Люка начнет спадать и он успокоится. Мои мышцы и моя бдительность ослабли. Мне хотелось улыбаться, шутить. Мои ссоры с Люка, или, точнее, разговоры, во время которых я ограничиваюсь тем, что ставлю преграды на пути его ярости, являются самыми неприятными моментами моей жизни, но, хотя они и делают меня несчастным, долго задерживать на них свое внимание я не могу.
— У тебя, кажется, опять была какая-то стычка с Сабиной, — сказал я почти весело.
Озабоченность на его лице уступила место ледяной собранности.
— Даже на расстоянии и то охрана не снимается. Мало того что вы разговариваете теперь друг с другом только за моей спиной, вы еще и сговариваетесь против меня. Мама вот никогда — ты слышишь? — никогда не говорит мне ни о тебе, ни о моих взаимоотношениях с тобой. Если моя просьба не покажется тебе чрезмерной, могу я тебя попросить поступать так же?
Всякий раз, когда Люка переходит в атаку, сердце мое начинает лихорадочно биться, ладони становятся влажными. К моему удивлению, в этот вечер мне удавалось сохранять спокойствие. Я решил парировать его удар.
— Я вожу тебя в этот ресторан, — сказал я, — потому что мне казалось, что он тебе нравится. А то зачем бы я его выбирал? Но мы можем пойти в другой, никогда больше сюда не возвращаться или пригласить, кого ты хочешь. А можем и вообще отказаться от наших ужинов.
— Догадываюсь…
На этот раз его обиженный вид показался мне трогательным. Я вспомнил маленького мальчика с серьезными глазами, воскресшего два часа назад благодаря фотографиям. Теперь он сидел и рисовал вилкой параллельные линии на лежащем в его тарелке сыром рубленом мясе. Его лицо, воплощенное упрямство, оставалось опущенным. Все это выглядело так мелодраматично. У меня опять появилась иллюзорная надежда, что я еще могу остановить наше стремительное скатывание вниз.
— Почему ты мешаешь мне любить тебя?
Я не стал ничего добавлять, потому что мне надоело разыгрывать эту комедию, надоело говорить поставленным, как у паяца, голосом. Люка поднял голову. Ну и глаза! Ни мои слова, ни их интонация не предназначались этим глазам.
— Это от любви, надо думать, ты отправился к Лансло оказывать мне свою протекцию?
Он выдавил это вполголоса, дрожа от гнева. Лансло? Его преподаватель, не знаю даже, то ли литературы, то ли философии, на подготовительных курсах в Карно, один из моих однокашников по лицею Людовика Великого, ставший студентом Эколь Нормаль, на сорок лет потерянный из виду и встреченный на тротуаре неделю назад. Неузнаваемый. А он меня узнал. «Еще бы, старина… телевидение… фото…» Его правая рука жала мою руку, а левой он вцепился мне в плечо. «Это твой мальчишка учится у меня на подготовительных курсах?» Получилось, что Лансло, попавший из открытых галерей Людовика Великого в коридоры Карно, так и не вышел из мира детства. Я с недоумением смотрел на него. Чего такого мог я наговорить в замешательстве, что вызвало этот яростный выпад Люка? Какие простые, а то и жалкие слова? Наверное, Лансло, с его лицом лысого ангела и сверлящим взглядом (я вдруг вспомнил пылкого блондинчика, карабкающегося по баррикадам летом 1944 года), не удержался от искушения поговорить перед четырьмя десятками лицеистов об этом «известном» отце (мне вдруг представилось, как он улыбается кривой улыбкой), чей сын, как это ни удивительно… Причем Лансло, не забывший про то, каким я был лоботрясом. «Твой дилетантизм…» — сказал он мне на перекрестке, оскалившись полным золотых зубов ртом. Упоминание о моей «популярности» он, конечно же, сопроводил недомолвками и вздохами. Я просто слышал его! А Люка почувствовал себя униженным из-за меня или оттого, что стал центром внимания всего класса. «К счастью, у тебя такая непримечательная фамилия», — сказал он мне однажды. Его незащищенность мне известна, но как это происходит, как жизнь ранит его, я не понимаю. Теперь он сидел весь разгоряченный и подстерегал меня.
— Не знаю уж, что Лансло мог рассказать, — начал я. Потом решил подойти с другого конца. «Я знаю его с сорокового или с сорок первого года… В лицее он был уже…»
— Лансло — классный преподаватель.
Ну вот, нас заклинило. Я так никогда и не узнаю, ни что этот болван сказал, ни каким тоном, но он задел Люка за живое, выделил его, а в восемнадцать лет такие обиды не прощают. Как я случайно узнал, во время прошлых каникул Люка целых два месяца жил под фамилией матери. В Греции, где нет никакого риска, что кто-то знает мою фамилию! Может быть, мне следовало поинтересоваться у него, что он хотел сказать этим своим детским вычеркиванием меня из своего сознания? Я знал ответ, но знал также и то, что сам Люка ответить на мой вопрос не сумел бы. Ну а если уж быть до конца честным, то разве и я тоже не испытывал облегчения, когда Люка таким вот образом сбрасывал балласт? Я был одновременно и воздушным шаром, и песком. Но сейчас было не время и не место для подобных рассуждений. Я угадывал у мальчика дрожь, предшествующую кипению, желание взорваться, беспричинный и потому еще более удушливый гнев. Откуда взять великодушие, терпение, которых он ждал от меня?
Бесполезно воспроизводить дословно все реплики, которыми мы обменялись в тот вечер в шумном оцепенении «Кадогана». Нас окружали буржуа, вынужденные из-за взятого служанкой выходного отправиться воскресным вечером в ресторан. Сидевшие за соседними столами за нами наблюдали. Так, по крайней мере, казалось мне. У меня был настолько типичный вид разведенного супруга, а у Люка — подростка, раздираемого слабодушием соперничающих сторон, что нас с успехом можно было бы использовать в качестве иллюстративного материала для какого-нибудь из столь любимых женскими журналами опросов. «Я поеду на метро», — сказал Люка. Однако я сунул ему в руку пятьдесят франков и подозвал такси.
Так что ничего непоправимого во время этой сцены, во многом похожей на другие, мы не сказали, ничего не разрушили. И все же, придя на улицу Суре, я почувствовал себя на пределе. Я понимал, что с каждой нашей встречей мои запасы истощаются. Я опасался, что наступит момент, когда я поддамся головокружению обиды и злости, овладевавшему мною все сильнее и сильнее.
Я разделся и стал в который уже раз перечитывать заметки, сделанные четыре или пять лет назад накануне дискуссии, аналогичной той, что ждала меня в Б. Я обнаружил в своих записях старые, гладкие, теплые слова, похожие на поношенную и ставшую слишком свободной одежду, которая, когда ее надеваешь, болтается на теле. Неужели я изменился? Образ сына, вырвавшиеся у него за ужином и напоминающие искорки злобы слова снова и снова вставали между мной и воскрешаемыми в памяти надоедливыми припевами. Потом они ушли куда-то в сторону. Я с усердием примерного ученика повторял и тщательно отделывал свои «спонтанные ответы». Лансло и не догадывался о том, каким я стал трудолюбивым. Он по-прежнему продолжал верить в несправедливость бытия, в то, что бездельники становятся баловнями славы, между тем как отличникам на протяжении всей их жизни приходится прозябать, до самой пенсии, до самой смерти выступая перед другими бездельниками, другими отличниками, другими крикунами. «Не мешайте мне работать», — взмолился я. Мой голос разбудил меня. Значит, я спал? Я выключил свет.
2. ДОРОГА
С Восточного вокзала, такого веселого даже зимой, освещенного оранжерейным светом, люди моего прошлого, люди, к которым тянулось мое сердце, отправлялись на войну. Я был маленьким лотарингским изгнанником в Париже, и мое детство купалось в их героических сновидениях. Отец брал меня за руку, останавливался посреди зала и с поднятым вверх подбородком начинал объяснять мне смысл огромной картины, висевшей под стеклянной крышей. Тона у нее были приглушенные из-за копоти от локомотивов. На ней было изображено отправление солдат с этого же вокзала в тысяча девятьсот четырнадцатом году. Мне в детстве еще довелось увидеть и запечатленных там восторженных будущих вдов и высоко сидящие на осях деревянные вагоны.
Полотно исчезло; вероятно, его сняли по приказу немцев в 1940 году, а потом, скорее всего, либо украли, либо оно сгорело в каком-нибудь разбомбленном ангаре; хотя не исключено, что его попросту не хотят больше выставлять на обозрение пассажирам, дабы уберечь их от размышлений на эти воинственные темы.
Что касается меня, то я ни на какие войны не уходил. Я участвовал только в тех смехотворных, наполненных болтовней и бумажками баталиях, с помощью которых добывается слава в нашей профессии. Мои предки носили свои солдатские мешки, а я, стараясь выглядеть как можно непринужденнее, нес на плече небольшую, но тяжелую сумку, куда лектор, помимо несессера и пижамы, никогда не забывает положить несколько книжек. Люди вроде меня изнашивают плечи, перетаскивая с места на место свою вечную духовную пищу, и портят глаза, поглощая ее.
В окнах вагонов второго класса смеялись коротко стриженные солдаты с детскими лицами. Вероятно, в те увековеченные на картине августовские дни 1914 года мой отец, если не считать усов, выглядел точно так же. Мне очень трудно простить моему отцу-мальчишке, моему отцу-покойнику, навсегда сохранившему свой возраст и позу мертвеца, то, что он, боец, так рано дезертировал, предоставив мне вести и проигрывать в одиночку долгую войну моей жизни.
Изнеженный подросток, воспитанный женщинами, я поклялся, что никогда не буду для своего сына призраком, не буду смутным воспоминанием. Я был уверен, что любовь и здоровье, бдительное внимание и неуязвимость позволят мне никогда не расставаться с моими близкими. Ничто не казалось мне столь простым, как иметь сына и воспитывать его: ведь после смерти отца я так долго бродил в поисках его тени, так страстно пытался угадать, что во мне от него, что он не мог не оставить во мне от себя. Я любил старинное выражение: поднимать сына. Я понимал его буквально и представлял себе, как от усилия моих рук маленький мальчик с серыми глазами подлетает кверху и величественно располагается рядом со мной. Именно таким казался мне Люка летом 1974 года в Аржантьере, когда ему исполнилось восемь лет и когда меня упрекали в том, что я разговариваю с ним, как со взрослым. «Ну не приставай к ребенку, — причитала Сабина, — дай ему поиграть…» Я совал книги ему в ранец, оставлял на кровати, искушая, клал их на его стол; расспрашивал книготорговцев, какие детские иллюстрированные издания они считают самыми лучшими; написал даже сказку для детей, где попытался применить на практике свои теории и свои иллюзии. Люка ее отверг. Люка вырос. Не успел я глазом моргнуть, как Люка взлетел на ветку, где его поджидали птахи вроде него самого. Мои речи о хорошо выполненной работе, мои крестовые походы против приобретенной им в лицее склонности к плутням, постепенно покрывавшим его всего пеленой грязи, воспринимались им все более неприязненно. Он начинал поднимать глаза к небу, иногда принимался насвистывать. У меня даже появилось искушение — не слишком ли скоро? — махнуть на все рукой и уже не поднимать его, а предоставить ему катиться вниз. «За кого же ты себя принимаешь?» — спрашивала меня Сабина. Надо сказать, что все мои поучения, исходящие как бы от человека, достигшего определенного уровня и рассматривавшего оттуда своего сына, действительно могли вызывать раздражение. «Нужно безумно любить высоту», — повторял я ей с полуулыбкой. Однако мое любимое изречение — я всегда преклонялся перед плохими наставниками — ее не трогало. Она только пожимала плечами. Люка вслед за ней тоже стал пожимать плечами, и этот жест, против которого я тщетно восставал, который во время приступов гнева становился для меня символом человеческого слабоволия, позволял мне охватывать в едином порицании и сына, и мать. В порицании, вскоре заменившем мне мораль. Тут-то и разбился наш брак, а я потерял дружбу сына. Дружба? Слово это теперь имеет для меня привкус поражения.
Наш вагон первого класса, подобно любому другому такому же вагону во французских поездах, оказался набитым людьми, обладающими привилегиями и покупающими билеты со скидкой. При приближении контролера они, совершенно опьяненные возможностью — придающей жизни особый аромат — не платить вообще либо платить меньше, замахали разноцветными карточками. Мои соседи свирепо взглянули на мой билет, за который я заплатил полную его стоимость; подозрительно посмотрел на меня и контролер. Прежде чем отнести чемодан в конец вагона и поставить его в предназначенное для громоздких вещей багажное отделение, — незаполненное, поскольку французы боятся воров, — я извлек из него книги. Читатель да еще к тому же страдающий доверчивостью, — взгляды, следившие за каждым моим жестом, сделались еще более мрачными. Я закрыл глаза. Эта моя поза способна была вызвать ко мне симпатию: вытащил книги, положил их перед собой и погрузился в спячку — подобная непоследовательность успокаивает: значит, какой-нибудь чудак. У меня пронеслась в голове мысль, что сегодня же вечером в Б. я окажусь лицом к лицу с двумя сотнями существ этой вот породы и что мне придется убеждать их — о чудо! — купить и прочитать триста страниц моей прозы. «Скорой и радостной победы!» — так ведь, кажется, они кричали в 1914 году, одетые в синее пассажиры Восточного вокзала. А может быть, это немцы так кричали?
Я вложил цветок в ствол своей винтовки, открыл глаза и принялся листать первый попавшийся мне под руку томик — двойное действие, сразу же опровергнувшее гипотезы моих соседей. Вскоре, однако, я поднял голову и повернулся к чистилищу покрытых инеем садиков и скелетоподобных грушевых деревьев, мимо которых с безразличной затяжной торопливостью катился наш поезд. Что за убогость! Посреди этой невзрачности я провел несколько лет своего детства, тогда, когда отец, истосковавшийся по родной провинции и уставший от Парижа, собрался с силами между двумя приступами кашля, подхваченного во время газовой атаки в 1915 году, и поселил нас, меня и мою мать, в одном из этих домиков, в самом унылом из этих мелькавших в утренней мгле домиков. До того унылом, хоть умирай. Он и в самом деле умер там через несколько лет. Но зато там в ветреные дни слышались свистки поездов, которые проносились мимо в вихре угольной пыли, спеша к излучающим колдовское очарование местам, каковыми были для него Верден, Вогезы, с их изрытыми снарядами полями сражений и прилегающими к ним кладбищами.
Я никогда не отказываюсь от горького удовольствия лишний раз проехать через родные края. Там я вновь обретаю в первозданном виде свое детство с запахом крытого гумна, с деревенским говором моей бабушки, с пучками люцерны, которые я срезал для кроликов садовым ножом. Медленная агония пригородов ассоциируется у меня с моим прошлым. «В это время года, господин Н., - сказала мне председательница Общества друзей французской словесности, — лучше ехать поездом. А то наш аэропорт часто бывает закрыт из-за тумана…» Благодаря этому предупреждению я теперь сидел сонный и одновременно нетерпеливый, страдающий от воспоминаний, окруженный запахом первых извлеченных из саквояжей бутербродов; ведь езда в поезде усиливает аппетит, и поэтому у людей со скидкой постукивание колес неразрывно связано с колбасным ароматом и ощущением бутылочного горлышка во рту. Хотя времена изменились, и теперь вместо пива пьют минеральную воду «Виттель».
Племя железнодорожных пассажиров состоит из железнодорожников, из судейских чиновников, из надменных дам, направляющихся в провинцию помочь дочери при родах, из молодых учителей, проверяющих домашние задания, из светловолосых стажеров, усердно решающих уравнения, из офицеров в штатском, из вдов, недавно похоронивших своих мужей, и из едущих в отпуск солдат. В вагоне для привилегированных лиц, безымянных и прозрачных, встречаются также рабочие-иммигранты, пересекающие его из конца в конец, слоняющиеся в проходе. Раньше были еще монахини и священники, но к концу шестидесятых годов они исчезли. В международных поездах к этому набору добавляются итальянцы в начищенных до блеска туфлях.
Поскольку железнодорожная линия проходит через несколько гарнизонных городов, поезд просто кишел чрезвычайно подвижными военными. Вереница худых одетых в джинсы и куртки парней постоянно забивала центральный проход вагона; они либо направлялись в бар, либо возвращались оттуда, иногда в сопровождении разбитных девиц одного с ними возраста, которых они угощали пивом. Какие же они все были красивые! Смеющиеся и красивые. Я вспоминал послевоенную Францию, приземистых ребят, девушек с тонкими губами. Мир переменился, или если не мир, то по крайней мере наше общество, ставшее более простым, более животным, и в то утро эта метаморфоза была мне по душе. Мне нравились силуэты, намеренная и одновременно невинная нескромность сжатых прилегающей одеждой тел, дерзкое выражение лиц с невидящими глазами, с глазами, устремленными в пространство поверх голов сидящих, поверх угрюмых лиц. Я попытался несколько раз привлечь к себе внимание какой-нибудь девушки, обменяться улыбкой с кем-нибудь из юношей, но напрасно; вероятно, я был похож на одного из тех надоедливых типов, сущее наказание в пути, которые, как милостыню, поджидают, чтобы им кинули хотя бы одну реплику, хотя бы словечко — во всяком случае, на меня никто не обратил внимания, и вскоре я постарался скрыть алчность своих взглядов.
Еще два года, и Люка мог бы тоже оказаться среди вот этих снующих по проходу парней. У него были и манеры такие же, и, очевидно, тот же словарный запас, те же пароли, правда с нюансами: в большинстве своем ребята из вагона были более угловатыми, чем Люка, более развязными; в них чувствовался костяк, некая жесткость, отсутствие которой у моего сына меня бесконечно удручало. А кроме того — как всегда, еще эти социальные нюансы, эти тонкие кастовые различия, в которые верят и которые уважают люди моего возраста. Люка притворяется, что не придает им значения, но в действительности и он тоже зависит от них нисколько не в меньшей степени, чем когда-то зависели мы.
«Я не хочу ничем быть тебе обязанным», — бросил он мне накануне в «Кадогане». Речь шла о рекомендациях, о той образовавшейся вокруг меня сети дружеских связей, которые столь часто облегчали ему жизнь и которыми, по его словам, он не желает пользоваться. «Мне нужно, чтобы я мог уважать себя», — добавил он. От громких слов я задыхаюсь, и вот эти столь благородно звучащие слова, тоже «выкачали» из меня, если говорить как Люка, когда он становится естественным, весь воздух. Я, однако, приспособился переводить дух так, чтобы он не замечал.
Зачем, опять спросил я себя, с такой опаской реагировать на подобные манеры, — на смесь беспечности и жесткости, — когда они обнаруживаются у Люка, и одобрять их у этих подростков из поезда? Ведь разве мне нравятся и трогают у них — в совсем-совсем немного усиленном виде из-за двух-трех лишних лет и более раннего «жизненного» опыта — не их характеры, с их незаконченностью и искусственностью, расстраивающими меня в характере моего сына? Причем не исключено, что мое фарисейство простирается еще дальше: чем больше я размышлял над этим вопросом, тем больше ощущал себя в шкуре стареющего греховодника, который умиляется податливости и аппетитам какой-нибудь девицы, но ужаснулся бы, обнаружив их у своей дочери. Дома — добродетель! А на стороне почему не погреться у огонька? Взять ту же самую животность, которую я с величайшим, гурманским и даже каким-то профессиональным свободомыслием приветствовал у незнакомых мне людей; не ее ли запахи я обнаруживал с отвращением у Люка, когда беззаботность называл «слабоволием»?
Я не видел, как ко мне подошел высокий парень («парнем» я называю все, что имеет шершавый подбородок и чему меньше сорока лет), присутствие которого я обнаружил только тогда, когда он наклонился ко мне.
— Извините меня, — сказал он настолько тихо, что ничего не услышала, несмотря на все свои старания, даже сидевшая напротив госпожа А-вот-я-месье, — но я сейчас понаблюдал за вами, и мне кажется, я вас узнал. Вы не… — Он смотрел на меня с очень близкого расстояния, подвесив между щек умоляющую улыбку, — не выступали совсем недавно по телевидению?
Я покачал головой несколько раз снизу вверх, не так, как делают, когда соглашаются, а как бы изображая уныние, с улыбкой, которая, надеюсь, выглядела все же менее глуповатой, чем у него. Госпожа А-вот-я-месье стала проявлять признаки беспокойства. Порода людей, видевших вас по телевизору, мне известна. Нам всем известна. Их манера унижать нас и нова, и опасна.
— Возможно, — сказал я скромно.
— А, я был уверен! Я так и сказал моему отцу. — Кивок куда-то в глубину вагона. — А ваша профессия… Что-то связанное с книгами, верно? Я прав? Или с песней…
— Скорее с книгами.
— А, вот видите! Я ведь, знаете, просто обожаю книги, я так люблю читать… Я поглощаю все… Вполне возможно, что я читал и ваши вещицы, если они есть в продаже…
— Что вы любите читать?
— Ну вот… Лувиньяка… Мартина Грея… Шанталь Ромеро! Вы знаете Шанталь Ромеро?
Да, я знал Шанталь Ромеро, и Лувиньяка тоже, а также многих других людей и многие другие вещи. Я знал, например, какую опасность представляют для сидящего, беззащитного литератора властные, ненасытные людоеды вроде того, чьи зубы блестели от вожделения в двадцати сантиметрах от моего лица. Должно быть, это самое лицо выразило какую-то частицу охватившей меня тоски, так как госпожа А-вот-я-месье посмотрела на меня с состраданием. Любитель Мартина Грея и Шанталь Ромеро снял свою осаду. Он выразил желание «не мешать работать», но пообещал до конца путешествия нанести мне еще один визит. Его улыбка сморщилась, и лицо потемнело, вдруг став суровым. Он уже начинал меня ненавидеть. Я ведь сказал: все это нам знакомо.
Я опять раскрыл книгу и сделал вид, что погрузился в чтение. Когда я оторвал от нее глаза, то обнаружил, что из глубины вагона меня внимательно кто-то разглядывает. Простая человеческая вежливость не позволила мне пересесть на другое место и повернуться к нему спиной. И я постарался раствориться в пейзаже, в пространстве, с удивлением ловя себя на мысли, что я с таким неуклюжим упорством изображаю «погруженность в размышления». По опыту я знал, что, играя в эту игру, быстро засыпаешь.
Несколько лет назад моя жизнь превратилась в сон. Осознал я это совсем недавно. Спасать репутацию мне удается лишь благодаря соответствующей маскировке и преимуществам холостяцкой жизни. У меня репутация литературной совы, существа, «работающего» в ночные, немыслимые часы. А раз так, то нет ничего более естественного, как восполнять днем израсходованные ночью силы. Так я совершенно официально обрел статус сторонника сиесты. «Не шуми, папа спит», — говорила когда-то Сабина сыну среди бела дня, когда ярко светит солнце и когда маленькому мальчику невдомек, как это взрослый может спать. «Он что, заболел?» — «Нет, он много работал».
Именно тогда в сознании Люка засело уравнение «работа равняется болезни», или «работа равняется сну», по крайней мере в том, что касается его отца, и можно себе представить, насколько это оказалось вредным. Свойственная его возрасту злая интуиция позволила ему быстро понять, что можно добиваться перевеса в борьбе со мной, намеренно не к месту затрагивая эту тему. Например, в присутствии посторонних. Или же коварно нежным голосом в тот момент, когда я собираюсь читать ему мораль. Ведь разве не этот прием, едва закрыв дверь, использовал он накануне, когда пришел ко мне раньше, чем я его ожидал? Вопрос: «А, ты работал?» — в кодексе наших прикрытых жестокостей приравнивался к констатации: «Так, значит, ты еще спал…» Решившись воспользоваться этим приемом в самом начале своего визита, он заведомо делал его неудачным, обрекал его на провал, и Люка знал это. Во всяком случае, в тот момент он играл на своем поле.
По мере обретения жизненного опыта я стал завидовать бюрократам, чьи жалкие поединки с работой протекают вдали от любопытства домочадцев, защищены дверью (во всяком случае, такой, может быть по-куртелиновски утрированной, видится мне ситуация…) и всегда сохраняют некую значительность. Или англичанам, о которых известно, что они спят в своем клубе, загородившись газетой. Или коммивояжерам, напивающимся в расставленных вдоль дорог темноватых кафе. Что за недомыслие — выставлять на обозрение супруги и детей все, что есть тривиального, мелкого, натужного в занятиях, окруженных столь благородным ореолом! Уже в двенадцатилетнем возрасте Люка относился ко мне не с тем уважением, на которое я мог бы рассчитывать, имей я обыкновенную профессию. Он очень рано начал испытывать стыд за отца, за этого маргинального буржуа, постоянно норовящего подчеркнуть свои отличительные черты, кривляющегося на тысячу ладов и словно сознательно пытающегося дискредитировать свою и без того достаточно химерическую деятельность. Зная все это, я должен был скрыть от Лансло, что являюсь отцом ученика из его подготовительного класса: отказываться от своих сыновей нужно вовремя.
Эйфория, наступающая после пробуждения, — некое удивление оттого, что ты еще не умер, — обычно бывает очень короткой. Только успел порадоваться, а уже прорезывается какое-нибудь беспокойство, смутное воспоминание о какой-то катастрофе, предчувствие поражения. Оно выходит на поверхность, его чувствуешь на ощупь, как чувствуешь пальцем внушающую тревогу опухоль. Вдруг обретаешь сознание, и из-за этого весь день идет насмарку.
Я открыл глаза, когда поезд остановился в Барле-Дюке. Тоска сразу же тут как тут — за тонкой пленкой оставшихся от сна растревоженных ощущений. Где источник боли? Мимо меня двигались лица, раздавались какие-то назойливые голоса. «А, ты работал…» Я вздрогнул. Холод. Люка никогда не узнает, — он-то рассчитывал на то, что я обижусь, разозлюсь, и никогда-никогда не сможет себе представить внезапное обледенение, внезапное падение в пустоту, испытанные мною, когда он произносил эти слова, — Люка никогда не поймет, как велика его способность причинять мне боль. Не раз за последние месяцы его удары попадали в самую середину мишени, в самый центр сердца. Не раз обрушивался мне на голову тяжелый груз, отнимавший у меня дар речи, парализовавший мускулы лица и одновременно отдававший меня во власть настроения, которое можно определить как после-меня-хоть-потоп. Не раз складывал я оружие. «Я никогда не употреблю оружие против тебя…» Почему я не сказал ему этого? Слишком патетично. Даже выспренно. Я же ведь всегда честно-благородно давал ему понять, что нам, в наших взаимоотношениях, лучше придерживаться строгого стиля. Я не буду хвататься за оружие, я просто возьму ноги в руки и буду спасаться бегством. Меня прихватит морозом, прихватит безмолвием, меня схватило — как бетон. Произнеся десяток слов, Люка обратил меня в мертвую, тяжелую глыбу, способную увлечь любого человека на дно реки, до самой тины. Прощай, друг! Холод. Я видел перед собой лицо сына, неузнаваемое, — застывшая маска спокойствия, — выражающее удовлетворение от причиненной боли, и я мысленно повторял, отказываясь верить: «Но почему? Почему?» Или же: «Не возражать, ничего не отвечать. Не черпать из моего словесного арсенала, гораздо более опасного и лучше оснащенного, чем его арсенал». Вокруг нас шумел, кружился «Кадоган». А во мне — безмолвие и Холод. Люка смотрел на меня так, словно я внезапно стал глухонемым или дебилом. Идиотизм — внешнее выражение моей любви.
Я встряхнул головой — я ловлю себя на том, что делаю этот жест отрицания всякий раз, когда мне нужно отогнать какую-нибудь неприятную мысль: связанную с болезнью, с унижением. То насмешливое, то замкнутое лицо Люка вставало между мной и сидящими напротив пассажирами. Рана тихо кровоточила. «Я не хочу ничем быть тебе обязанным». Жестокие слова, но не был ли тон, каким они были произнесены, еще более жестоким? Не слишком ли хрупкий у меня панцирь? Прибегая к испытанному способу, я повторял себе, что через неделю-другую ранившее меня острие успеет, как обычно, затупиться; что я переварю и эту обиду, как переваривал все остальные обиды, регулярно появляющиеся в моем меню с тех пор, как я стал отцом; что я забуду все, вплоть до воспоминания о том вечере. Напрасные старания. Жестокая мука не покидала меня. Она сверлила мозг и, как я ни старался отделаться от нее, оставалась со мной.
«Папа? Он играет в поддавки…» Сабина передала мне это высказывание нашего сына как-то раз, когда она призывала меня оказать ему сопротивление. («Если ты не хочешь пользоваться своей властью, то естественно…») Нет, я ею не пользовался. Во-первых, потому, что у меня ее нет, а во-вторых, потому, что я очень опасаюсь, что, неправильно воспользовавшись ею, заставил бы Люка произнести те роковые, непоправимые слова, которые ему не терпится бросить мне в лицо и которые я поклялся не услышать. Однако нельзя стать глухим по своей воле. Лучше уж комедия или молчание. Да, я играю в поддавки. Вот только забывать я не умею. Наша вечерняя встреча присовокупилась в досье Люка к бесчисленным другим архивным материалам, скопившимся там за последние четыре или пять лет. Такие вот слова — комедия, досье — приходили мне на ум в той пропитанной парами озлобленности пустоте, на которую обрекало меня мое путешествие. Они меня утешали лучше всякой нежности. Так уж я устроен — и так велит мое ремесло, — что я не могу не формулировать мысли, даже самые зыбкие, те, которым было бы гораздо благоразумнее позволить разлететься по клочкам и умереть. А я их чеканю, оттачиваю. В результате выслеживаемые ими и становящиеся их добычей чувства обретают статус неопровержимой действительности. А где же во всем этом любовь? Ибо, скажу сразу, и это слово тоже всплывало в моих размышлениях.
Всякий раз, когда я пытаюсь выразить причиняемую мне сыном боль, меня поражает ее мучительность. Неужели дела уже столь плохи? И как мы дошли до этого? В какой момент я перестал быть ласковым с Люка? С каких пор я уже не позволяю себе выказывать любовь к нему — или он не позволяет, — хотя это скрепляло наше согласие и доставляло мне радость в годы его детства. Почему молчание, в котором, как мне мечталось, должно было чувствоваться взаимное понимание, вдруг наполнилось враждебностью? Я уверен, что ни Люка, ни я не виноваты. Виноваты в чем? Виновата одна природа, которая искажает характер подростков, подвергает их непосильному напряжению, отдает их во власть дурных наклонностей эпохи, — у каждой эпохи они свои — и одновременно старит их отцов, наделяет их склерозом, делает жертвами непредвиденных огорчений и костенеющих принципов. «Я старый человек», — хочется мне иногда сказать сыну. Мне кажется, что невероятность признания вызвала бы шок и облегчила бы дальнейшие признания. Однако я заблуждаюсь: слово показалось бы сыну точным и естественным. Сравнивая меня с отцами своих приятелей, он, должно быть, находит меня скорее перезрелым. Нашей дружбе не хватало совместных пробежек, прыжков в воду. «А вы знаете, что мой сын выигрывает у меня в теннис?» — гордо заявляют некоторые господа. Напрасно радуются. Сегодняшнее их поражение предвещает другие, гораздо более болезненные поражения. «По сути дела, я сын старика», — отметил однажды он, улыбаясь. В тот день у него было лицо лукавого ангела, которое мне страшно нравится. «Да, — ответил я ему, — и это сразу видно: потому-то ты такой ледащий, дошлый и страшливый…» — «У-ля-ля! Подай-ка мне словарь!»
То был один из наших оазисов счастья.
На полях, мимо которых мы теперь проезжали, лежал снежный покров. Холодное, низко висящее над горизонтом солнце придавало им обманчиво веселый вид. В действительности же за окном простирались суровые плоскогорья с поблескивающими ото льда дорогами. Время от времени на них появлялись то какая-нибудь одинокая собака, то группа школьников, то фермы с огромными крышами. Прежний порядок вещей. Эти слова пронеслись у меня в мозгу: прежний порядок вещей. Ностальгия по этому порядку отчасти и возникает от огорчений, причиняемых мне Люка. Может показаться странным, но ту личность, какой стал мой сын, делает для меня неприемлемой именно определенный образ детства, который был едва приемлемым для меня и который полностью отвергали — к моему удовольствию — мои юные вагонные попутчики. Да, других я принимаю такими, какие они есть, а вот его нет. Я ожидал от него чего-то большего, какой-то большей тонкости и духовного сродства со мной, встречающегося только в книгах или — даже еще лучше — в кино. «Роман — это путешествие». Чудесная формула и, несомненно, точная, — правда, она как нельзя лучше объясняет, насколько же я все-таки не романист, — но я предпочитаю ей другую, обнаруженную в одном эссе об американском кино: «В самых прекрасных фильмах речь идет о двух людях и об истории их дружбы». Как много размышлял я над этой фразой! Поскольку я домосед, то такое определение более созвучно моим инстинктам. К тому же мне кажется, я был хорошим другом. Я так же лелею воспоминания о дружбе, как другие — воспоминания о пылкой любви. В один прекрасный день по моей вине ослабли самые старинные мои привязанности. Разорвались? Нет, только не это. Стоило мне потом встретиться вновь, услышать опять голос, увидеть лицо, и прежний порядок вещей восстанавливался. Когда Люка стал подрастать, я возымел надежду ввести его в наш рыцарский орден. Строя свои тайные планы, я без колебаний употреблял эти слова. В глубине души я, вероятно, уже давно предусмотрел отстранение Сабины, или, во всяком случае, мысленно принял его. Я надеялся, что Люка избежит того сугубо женского воспитания, которого не избежал я. Люка предстояло поверить в красноречивое молчание, в войну, в лесные походы, в грандиозные шумные пирушки, в невысказанные, но оттого еще легче угадываемые признания.
Да только вот как Люка, не имеющий друзей, мог научиться дружбе?
Когда я развелся, то с возмущением обнаружил, что он все глубже погружается в тепличную атмосферу, которую, как мне казалось, поддерживает вокруг него Сабина. Этого-то я и боялся! Как мне знакомо это детство в тени женщин, делающих ребенка нежным, — как делают более нежным с помощью какого-то неведомого мне способа свежее мясо — удушающих его советами, калечащих его! Откуда мне было знать, что Люка, расставшись с безмятежной, можно сказать, дачной жизнью, каковой всегда в той или иной степени является жизнь в семье, вдруг вместо того, чтобы зажить вольной жизнью, обратившись в мою сторону, станет жаться ко всему тому, что мне ненавистно? Сыновей, воспитанных женщинами, я узнаю среди сотен. Я так и вижу их, идущих рядом с какой-нибудь сорокалетней особой, сурово поджавшей губы, подстраивающихся под ее походку, немного чересчур опрятных, с лицами неопределенно-бледноватыми и неопределенно — хитроватыми от разделенной с матерью злобы. Мать, навязывающая своему сыну доверительность, портит его. Он уже никогда не излечится от запачкавшей его скрытности. Когда в тринадцати-четырнадцатилетнем возрасте Люка приходил ко мне на улицу Суре, то стоило ему открыть дверь, как я сразу же чувствовал на нем запах белья и доверительных разговоров и давал себе зарок развеять его. Я третировал сына, смешил его, заставляя смеяться до упаду над всеми преподносимыми жизнью свинствами. Однако я чувствовал, как с каждым месяцем он все больше уходит в себя, отказывается поддержать мои старания, а вскоре вообще стал относиться к моим шуткам как к чему-то неуместному, подчеркнуто реагировал на них молчанием.
Поезд подходил к Мецу. Читатель Мартина Грея и Шанталь Ромеро, сидевший в самом конце вагона, встал, вытащил из сетки чемодан и побрел к двери, стараясь не встретиться со мной взглядом. Госпожа А-вот-я-месье похрапывала, широко раскрыв рот и конвульсивно придерживая рукой на коленях пять или шесть захваченных в дорогу иллюстрированных журналов. Я понимал ее. Мне тоже свойственно принимать меры предосторожности. И я снова, в который уже раз, вытащил засунутые в карман листки с записями. Моя истрепанная, скомканная памятка расположила меня к мечтательности, иными словами, вы теперь уже понимаете, я заснул.
3. ГОЛУБЫЕ ДРАЖЕ
«Вам нужно будет только пересечь Вокзальную площадь», — облегченно сказала председательница. Мне с трудом удалось убедить ее не встречать меня при выходе из вагона. Естественно, госпожа Гроссер, личность в Б. известная, вовсе не горела желанием тащиться встречать меня на вокзале, да и у меня перспектива выслушивать посреди бела дня, в конце перрона, слова приветствия от какой-то незнакомой женщины тоже не вызывала никаких приятных ощущений.
Я люблю вокзалы этой страны. Там не столь часто, как где-нибудь еще, встречаются изможденные и подозрительные существа, притягиваемые большими городами и скапливающиеся в подземных переходах или в местах ожидания. Когда начинает смеркаться, когда улицы заволакивает туман, обращаешь внимание, какие у проходящих быстрым шагом девушек розовые щеки, как долго у них на лице держится загар, сохраняющийся благодаря воскресным прогулкам на лыжах даже зимой. Спешащему пассажиру эта свежесть, это здоровье могут показаться просто каким-то чудом. Однако присмотришься немного — и тут же замечаешь странную бессловесность, вялые, погасшие взгляды, холодную уверенность или такую же холодную тоску — всю гамму забот людей, жизнь которых ограничена узким горизонтом. Нет, легкого праздника сегодня не получится.
Вместо того чтобы сразу спросить, где находится гостиница «Райнишер Хоф», где мне забронировали номер, я прошелся по галерее, облицованное белой плиткой, подошел к стойке и там, зажатый с обеих сторон молчаливыми посетителями, выпил чашку кофе. Я прикидывал, что вторая чашка кофе, которую через час можно будет заказать в номер, окончательно снимет с меня оцепенение, оставшееся после дремоты в поезде. Увы, напиток, изрядную порцию которого я выпил, обжигая губы, на этот раз явно не обладал приписываемыми ему достоинствами. Я с сожалением вспомнил одну поездку с лекциями в Италию, когда достаточно было за полчаса до встречи выпить один espresso в первом попавшемся баре, чтобы обеспечить себе красноречие в нужный момент. Значит, сегодня вечером придется прибегнуть к более серьезному средству.
Отель снаружи смотрелся великолепно. Я почувствовал, что вдохновение ко мне возвращается. Скверные номера, неуважительное отношение, кухня «от святого Антония» делают испытание, подобное тому, что меня ожидало, еще более трудным. Меня проводили в тихий, очень жарко натопленный номер, где я обнаружил послание председательницы. Она поздравляла меня с благополучным прибытием и обещала зайти за мной перед самой встречей. Моя «программа» включала коктейль в семь часов, дискуссию в восемь, а потом, «когда наши друзья успеют познакомиться с Вами получше», ужин. «Вас будет принимать наш генеральный секретарь госпожа Лапейра, — сообщала также госпожа Гроссер, — в связи с тем, что ремонт в нашем доме лишает меня радостной возможности организовать ужин у себя».
Мне хвалили дом Гроссеров, патрицианский особняк в старом городе, со стенами, расписанными в романтическом и символистском духе. Известие о том, что меня сплавляют к этой самой госпоже Лапейра, носящей подозрительно французское имя, несколько подпортило превосходное впечатление от созерцания комнаты в «Райнишер Хофе». Подобно всем другим путешествиям такого рода, мое пребывание в Б. уже начинало походить на погоню за льстивыми высказываниями. Покидая отечество, писатели становятся падкими на уважение. Они делают вид, что предпочитают во всем простоту и сдержанность, а на самом деле только и мечтают о комплиментах в свой адрес. Поэтому, когда, прежде чем дать им слово, их представляют с благопристойной сдержанностью, они теряют дар речи; уверенности им придает только подхалимство. И я тоже не составляю исключения из правила.
У меня в голове пронеслась мысль о Люка и о том, как бы он реагировал, представься ему вдруг возможность прочувствовать все эпизоды ожидающего меня вечера, но в это время суток она показалась мне слишком уж неуместной, чтобы я мог позволить ей задержаться. Поэтому я прогнал ее и с удовлетворением человека, который, оставшись один, снимает ботинки, распускает живот, почесывается, вернулся к анализу своих ощущений.
Было четыре часа, и начинало смеркаться. Двойные стекла хорошо заглушали шум города, где уже зажглись первые огни. Я видел снование троллейбусов, геометрически правильные полосы разметки на асфальте, прохожих с поднятыми воротниками. Пойти прогуляться? Ни малейшего желания. Но, оставаясь в номере, я мог опасаться неожиданных телефонных звонков. Всякий раз, когда мне бывает необходимо появиться на публике с очередным рассказом о тонкостях моего ремесла, я испытываю потребность экономить силы в течение нескольких предшествующих этому событию часов. В такие моменты любой разговор оказывается похожим на пробоину, через которую слово за словом улетучиваются роящиеся во мне идеи. Я должен оставаться один и должен молчать.
Я еще раз взглянул на Вокзальную площадь, где с удивительной — для города, имеющего репутацию тихого, — быстротой проносились в разные стороны машины. Вероятно, на окружающих отель улицах полно банков, меховых и сигарных магазинов, а витрины ломятся от электробритв. Мне подумалось, что если в мире, открывшемся передо мной, когда я смотрел на улицы Б., и было отведено какое-то место для изысков романической кухни и для моей автобиографии, подробности которой я собирался обсуждать четырьмя часами позже, то, похоже, весьма и весьма скромное С высокого этажа, где находился мой номер, мне были видны резко уходящие вниз к озеру — к этой черной дыре — крыши, светящаяся реклама, а вдали — пунктир уличных фонарей вдоль проспектов, соединяющих Б. с пригородами. Город! Где они живут, эти две или три сотни людей, чье присутствие мне было гарантировано? В каких они прячутся домах и в каких кварталах? Не побоятся ли они сурового январского мороза, дабы прийти послушать, как я буду рассказывать о своих недоразумениях с чернилами и бумагой? Это выглядело бы просто смешно. Здания банков, отделанные мраморными плитами, скоростные автомобили, гладкие лица и все остальное, вплоть до моего номера — это настоящая жизнь. Другая же, та, которой мои книги, мои заметки, моя тоска, моя воля пытаются придать хоть какую-то реальность, существует лишь в воображении редких пустых мечтателей вроде меня, да еще в воображении школьных учителей, старых дев, подростков, богатых и пресыщенных дам, интересующихся нашими душами и нашими словами между двумя благотворительными акциями или между двумя приступами тщеславия. Даже огорчения, доставляемые мне сыном, какими бы химерическими они ни казались, и то обладают большей реальностью, чем эти мои бумажные голуби. Так что сегодня вечером гора разродится мышью. А почему бы не забежать сразу вперед, не заняться признаниями, не придать своим речам, воспользовавшись каким-нибудь подходящим вопросом, внезапно доверительный тон и не попробовать себя на ниве обыденности, куда, как предполагается, я никогда не забредаю? У меня ведь тоже, — мог бы я им сказать, — остался дома неуправляемый и жестокий мальчишка, к которому я не знаю, с какой стороны подступиться. Ведь завтра, когда я должен буду отражать его удары и искать слова, способные задеть его за живое, все эти мои парадоксы, с законным недоверием выслушанные вами, мне не помогут. Если бы вы только знали, как мы с вами похожи друг на друга! Вот вы, скажем, красуетесь в своих конторах, комитетах, советах, самолетах, а я притворяюсь, что верю всем похвалам, которые вы только что с мечтательным взглядом, держа в руке стакан, высказали в мой адрес; а при этом обнаруживается, что мы с вами одинаково ранимые люди. Правда, что касается меня, то я эту ранимость превращаю в профессию. Из своих недомоганий, из своих поражений я извлекаю и прозу, и выгоду. Именно в этом заключается главная причина вашего подозрительного ко мне отношения: вам не очень нравится спекуляция тенями и постыдными признаниями, к которым, как вам кажется, сводятся мои книги. Вы же верите в широкие полотна, в пылкие чувства и в то, что рано или поздно солнце все равно восходит над опустошенными землями. Вам нужны художники, — одно из ваших словечек! — стоящие выше повседневных невзгод. Вам нужны нищие, принцы, разбойники, столь же естественные в литературе, как туземцы, придающие элемент экзотики вашим путешествиям, столь же привычные, как тренеры по лыжному спорту. Какая неожиданность, какая неприятная неожиданность — увидеть вдруг, что мы говорим о тех самых ранах, которые вы научились столь мастерски скрывать от всех окружающих. Как! Значит, и мы тоже сгибаемся под тем же самым бременем, что и простые смертные?.. Ах, вам не нравится?..
Зазвонил телефон.
Гнусавый, но настоятельный и удивительно близкий голос спросил, точно ли это номер шестьсот четыре и точно ли он говорит с господином Н. Лично? На третьем «да» я был готов взвиться. Затем последовал жеманный монолог, за которым с первых же витиеватых фраз я различил маневр зануды, причем, возможно, зануды с рукописями. В своей котомке он наверняка носил пару или тройку текстов, и я угадывал его решимость всучить их мне. Поэтому я прибег к классическим отговоркам, предназначенным для того, чтобы обескураживать зануд. Голос тут же стал торжественным. Меня осуждали. Я, очевидно, думаю, что ко мне обращается сочинитель какого-нибудь вздора. Историй про задницу?.. Или про политику?.. Так вот, я ошибаюсь! Произведения, о которых идет речь, от начала до конца вдохновлены дорогими покойниками и подлинностью своей превращают буквально в ничто всю текущую продукцию, изготовлению которой я, очевидно, посвящаю все свои силы. Знаю ли я Пьера Ферма? Эвариста Галуа? А Чарльза Доджсона? Последний продиктовал моему собеседнику новую версию своей «Curiosa Mathematica», — творения, вне всякого сомнения, мне знакомого, — где в конце приведены изложенные на символическом, закодированном языке объяснения нескольких оставшихся нераскрытыми преступлений, и они, в частности, снимают вину с Джека Потрошителя, с герцога де Шуазель-Праслена и с нескольких англосаксонских отцеубийц. Так что воля моя…
Я уже чувствовал, как капельки пота начали струиться у меня по спине. Только бы этот сумасшедший звонил не из гостиничного холла! «Мне кажется, Шуазель во всем признался», — опрометчиво сказал я. И тут же вздрогнул от раздавшегося в ответ сардонического смеха. Голос стал еще более гнусавым… Да, воля моя во всем видеть влияние страстей, сексуальные подвиги, ярость садистов. Воля моя валяться в грязи инстинктов. Мне предлагают высокие умозрительные построения, тайны вечной жизни, чудеса медиумического письма, и тем хуже для меня, если я так стремлюсь остаться глухим к…
Слово «глухим» освободило меня. Вместо того чтобы просто отстранить трубку от уха, я нажал пальцем на вилку аппарата и прервал разговор. Когда я опустил палец, то услышал сначала потрескивание, а потом голос телефонистки. «Не соединяйте меня больше ни с кем, — попросил я, — ни под каким предлогом».
В течение какого-то времени я опасался еще какого-нибудь сюрприза: нового звонка, стука в дверь. Они ведь способны на все. Человек с не перебродившей в нем прозой способен на все. Прошло несколько минут, и я успокоился. Хотя осталось какое-то смятение. Точнее, муть. Нечто вроде поднявшегося кверху осадка в потревоженном флаконе с жидкостью. Вечер обещал быть плохим. Зануды излучают холодную, не имеющую последствий скуку. А вот сумасшедшие, напротив, приводят меня в лихорадочное состояние. Мне понятно, почему их так уважают на Востоке. Однако разве не является наша профессия, если взглянуть на нее под определенным углом, тоже своего рода Востоком? Ведь научились же мы относиться с уважением к безумцам, готовым ради словесной игры рисковать своей жизнью. Разве есть какая-нибудь разница между любым из нас и этим вот сумасшедшим, которому Льюис Кэрролл продиктовал свои замогильные откровения? (Хорошо еще, что он, бедняга Доджсон, не стал выдавать себя за Джека Потрошителя; такая, кстати, соблазнительная гипотеза…) Или совсем простой пример: в чем заключается разница между моим собеседником и мной? Я вижу одну-единственную: в моем праве на признание, на популярность, завоеванном (или заслуженном?) мной как раз благодаря моим химерам. Тем самым химерам, которые, когда они исходят от моего незнакомца, вызывают смех или страх. Бешеный? Нисколько не в большей степени, чем я, когда я в ударе. Сегодня вечером мне вполне достанет и бешенства, и безумия! Мой собеседник, — возможно, человек в сковывающем его движения пальто, который будет теребить застежку лежащей у него на коленях папки, словно у него там спрятано оружие; он будет сидеть вон там, в нескольких метрах от меня, не сводя с меня глаз, — вероятно, станет осуждать меня за мой рационализм, за банальность моих речей. И тогда в моих словах появится яд. Его глаза! Я буду пытаться избежать его горячечного взгляда, но, несмотря на все старания, обожгусь о него снова и снова. Услышу искаженный тембр собственного голоса. Мои слова понесутся далеко впереди меня, вырвавшиеся из-под контроля, абстрактные… Ах, ведь я же все это уже пережил!
Почему этот человек заговорил об отцеубийцах? В обычных беседах такие резкие, сочащиеся кровью слова почти не встречаются. Может быть, он подавал мне какой-нибудь знак? Откуда он взялся, этот дрожащий, властный голос?
Я подошел к окну и распахнул его. В комнате было очень душно. Я решил выйти на балкон и облокотился там между буквами Н и И слова «Райнишер», распространяющего в темноте жесткую электрическую вибрацию. Исходящее от светящихся букв сияние вносило теперь тревожную ноту в ночной городской пейзаж. Было очень холодно. Я вернулся в комнату и точно выверенными, как у хирурга, движениями набрал на телефоне тринадцать цифр, после чего голос сына должен был бы позволить мне вернуться в реальный мир. Разве не испытывал я с самого утра желания позвонить ему? Разве не дожидался этого вечернего часа, когда, по моим подсчетам, он должен находиться у Сабины, возможно, уткнувшейся в какую-нибудь газету, сидящий, облокотившись о кухонный стол, рядом с раскрытой дверцей холодильника, излучающего слабый неестественный свет?
Раздались долгие гудки, восемь, девять, десять. Я всегда считаю телефонные гудки. У меня правило вешать трубку после седьмого. Ни нетерпения, ни напористости. В рамках хорошего тона. Не дождавшись ответа, решил проверить содержимое своего мини-бара. Обнаружил там соответствующий моим вкусам сорт виски и вылил его на ледяные кубики. Немного поразмыслив и преодолев колебания, вызванные подобным излишеством, открыл вторую бутылочку, — в мини-барах бутылки коротают время парами, как жандармы или монахини, — и стакан сразу стал выглядеть привлекательнее. Еще раз набрал номер Сабины. (Сочетание «номер Люка» язык как-то не выговаривает.) Трубку сняли почти мгновенно. Мужской голос. Тут же остановивший мой порыв. «Люка, — сказал я. — Люка дома?» Голос ответил: «Нет, прошу прощения, кто его спрашивает?» Соотнеся это выражение с моим шалопаем-сыном, я нашел его чересчур манерным. А если бы он был дома и послушал бы мой уже не совсем трезвый голос… От чего только не зависит любовь? «Его отец», — буркнул я угрюмо и повесил трубку. Быстро, слишком быстро. Еще несколько лет назад я бы не решился разговаривать невежливо по телефону, притворяться немым, отказываться называть себя, хихикать, обрывать, разговор без заключительных реверансов — на протяжении очень долгого времени я считал все такого рода вещи проявлением невоспитанности. Теперь я уже не обращаю внимания на подобные тонкости.
Стрелки показывали шесть часов. Председательница должна была появиться через сорок пять минут. Пока наполнялась ванна, я извлек из своего несессера коробочку с голубыми пилюлями и предался точным математическим расчетам. Голубые драже (так я их называю, причем без всяких аналогий с крещением мальчиков, — обойдемся без лишней символики! — а просто потому, что этот холодный цвет, как мне кажется, не очень соответствует их эйфоризирующим свойствам) начинают действовать через час после их принятия. Эффект достигает высшей точки через полтора часа, сохраняется в ослабленном виде в течение сорока минут, затем быстро пропадает, появляется даже сонливость, а иногда и затрудненность речи. Следовательно, чтобы вечером, после всех потрясений, чувствовать себя уверенно, необходимо проглотить две голубые пилюли ровно в шесть тридцать; на коктейле они придадут мне воодушевления, сделают мой взгляд бархатным, жесты — плавными и позволят мне бесстрашно начать дискуссию. Однако это блаженство будет хрупким — какой-нибудь коварный вопрос, какая-нибудь заминка в речи, и вот оно уже нарушено, — и поэтому благоразумие подсказывало мне засунуть одну упаковку пилюль в карман пиджака, откуда, в нужный момент, примерно в полдевятого, я извлеку одну-две штуки и незаметно проглочу их с помощью традиционного причитающегося лектору стакана воды.
Конечно, эффект голубых драже наиболее очевиден и надежен, когда употребляешь их с чашкой обжигающего нёбо кофе. Холодная вода подчеркивает их достоинства не так убедительно. Что же касается спиртного, стакан которого я поставил рядом с ванной, то от него можно ждать как приятных, так и весьма неприятных сюрпризов. Машина от него может заработать лучше, а может и заглохнуть. Каково бы ни было первоначальное применение голубых драже, — болеутоляющее? понижающее аппетит? — но их изготовитель никогда не рекомендовал принимать их с виски. Однако риск является одной из составных частей моей морали. Если бы я не высвободил таким способом в себе некое анархическое начало, то у меня появилось бы ощущение, что я пассивно отдаю себя во власть химии, тогда как очарование голубых драже, очарование, против которого я не в силах устоять, заключается, в частности, и в том, что они сумели заслужить свое прелестное название speed, скорость, присвоенное им и другим такого же рода пилюлям в англосаксонском мире. Я уже давно — рукописи-черепахи, вялые прогулки — перестал предаваться какому бы то ни было опьянению скоростью. Так что подвернувшуюся возможность вновь испытать его благодаря сочетанию виски с голубыми драже — в расчете, что все обернется наилучшим образом, — упускать не следовало, даже если мой монолог в конце и начнет давать сбои, даже если меня начнет заносить и мне придется сойти с хорошо размеченной трассы «Блистательных лекций» Общества друзей французской словесности.
Надежда на то, что удастся воспользоваться ускоряющими свойствами голубых драже так, что никто не обратит на это внимания, достаточно иллюзорна. Можно, конечно, взять их в ладонь и потом проглотить, как я собирался сделать, изобразив приступ кашля, но весьма маловероятно, чтобы оригинальные фразы и бросающаяся в глаза легкость жестов сошли за проявление просто обыкновенной талантливости. Если дозы и ритм их принятия строго рассчитать, то наступает такой момент, когда ты перестаешь ощущать земное притяжение. Во время работы это воспарение можно и не заметить. Интенсивный, неистовый труд впитывает в себя без остатка всю волну жизненной энергии, высвобождающейся благодаря голубым драже. Однако в этом случае отрываться от своего листка бумаги нельзя; не то тебя тут же снесет, как соломинку, и ты увлечешься призрачными наслаждениями монолога, начнешь заговаривать с незнакомыми людьми, захочешь взяться за невыполнимые задачи. Мне до сих пор не ясно, догадываются ли слушатели, подобные тем, что ожидали меня в Б., в каком состоянии я предстаю перед ними. Во время мимолетных диалогов на коктейле мои собеседники, должно быть, отнесут мои блестящие глаза, мой дар убеждения, выверенность моего словарного запаса на счет щедрости натуры либо на счет некоторого избытка алкоголя. Опечаленные (но я даже не догадаюсь об их печали), они стушуются. Ну а я, весь в мурашках от нетерпения, с кровью теплой и стремительной, проникающей в самые потайные мои сосуды, я буду распаляться. Почему они не начинают? Чего ждут? Мне будет казаться, что я разбазариваю в мелкой монете болтовни сокровище, которым великодушно решил одарить всех.
Мне случалось, находясь в подобном состоянии, ранить женщин. Начиная с Сабины, жившей со мной в ту пору, когда я пользовался голубыми драже просто в качестве средства против летаргии или скуки и еще не пытался приурочивать их употребление лишь к таким чрезвычайным событиям, как выступление перед публикой. Я принимал их буквально поминутно. После чего становился агрессивным, придирчивым и в любом, самом что ни на есть банальном разговоре вел себя как собака, завладевшая тапком или куклой: вцепившись во что-нибудь зубами, я их больше уже не разжимал. В стороне от этих моих нервных срывов капризной примадонны, которыми, как правило, кончались тогда наши споры с женой, оставался только Люка. Он даже ни о чем не догадывался. Во всяком случае, мне приятнее думать, что это было именно так. Возможно, конечно, я ошибаюсь и в этом случае, и во всех остальных.
Вот теперь я был готов. Зуд нетерпения, появления которого я ожидал, уже ощущался на языке, в кончиках пальцев. Движения мои стали резкими и энергичными. У меня появилось желание увидеть новые места, новые лица, и если два часа назад мне хотелось остаться одному и предаваться ничегонеделанию, то теперь я жаждал встреч. Я сложил и засунул в карман свои десять раз читанные и перечитанные записки. Потом вынул их и положил на стол. Никаких костылей! Когда зазвонил телефон, — «Фрау Гроссер ждет вас в lobby…» — я увидел свое отражение в прикрепленном к шкафу зеркале; вид у меня был бравый. Я выпил последний глоток виски и вышел.
Председательница, ее стального цвета «мерседес», ее шофер, ее испытующий взгляд, ее трепещущая грудь — все было так, как мне хотелось. «Вы бывали в Б.? — спросила она меня. — Вас ждут здесь с нетерпением…»
4. ЛЮДИ
Крупная игра началась. Я всегда чувствую себя не на высоте положения. Я недостаточно степенный, недостаточно скучный, недостаточно гуманитарный. И я не являюсь великим умом. «Мерседес» госпожи Гроссер привык перевозить великих умов: ученых, немцев, одного лауреата премии Эразма, диссидентов, одного греческого поэта. Какое место во всем этом занимает Франция? «Нам пришлось сделать наши лекционные циклы более разнообразными, — вздыхает председательница, — наша публика…» Мы едем по запутанным, все более темным улицам Б. Я мельком замечаю парки, пятна снега. Кому придет в голову гулять в этот час в пустынных кварталах, которые мы пересекаем?
«Французская культура…» Многоточие на секунду повисает в воздухе и исчезает. В этой паузе я угадываю вежливое сострадание. «Мерседес» во французскую культуру больше уже не верит. Я с готовностью подхватываю. Может быть, даже слишком выпячиваю свое пораженчество, из-за чего оно, вероятно, выглядит подозрительным. Так я киваю головой, когда мне нахваливают профессора X. и профессора У., великих гуманитариев, которые приезжали и от которых «наша публика» без ума. Еще она без ума, естественно, от медицины и от дурманящего серьезные головы словечка «светила». Без ума от лимфы, от мозга, от печени и от бесподобной грамматической чистоты. Томной рукой госпожа Гроссер показывает мне более высокие либо более черные по сравнению с другими куски тьмы; музеи, университет, зоопарк. Внезапно вопрос: «А вы — дедушка, господин Н.?»
Удар был нанесен мне неожиданно. Я не успел его даже парировать. «Вот увидите, это такое счастье…» Как бы извиняясь, я лепечу какие-то объяснения: поздние браки, подросток…
— Восемнадцать лет?
По тону моей соседки я угадываю неодобрение. Неужели так уж неприлично иметь в моем возрасте восемнадцатилетнего сына? Я слышу свой собственный, какой-то блеющий голос, преувеличенно нахваливающий — у меня сегодня явный избыток усердия — мои отношения с сыном. Я выстраиваю друг за другом банальные истины, кажущиеся мне прямо-таки макиавеллиевскими хитростями, и пытаюсь с их помощью поддержать беседу.
— Вот как?
Председательница опять повернулась ко мне. Лица ее мне не видно. Губы ее издают выражающее сомнение почмокивание. А ведь обычно, когда я вру, мне верят. В машине витает запах герани.
— Что касается меня, то мне материнство удовлетворения не принесло. Но зато вот уже три года… Это новое начало…
Нечто невысказанное гнетет госпожу Гроссер; ей нужен воздух. Я подозреваю, что председательница не прочла и двадцати страниц моей прозы и теперь пытается прикрыться всякими пеленками. Вероятно, она обдумала эту свою хитрость по дороге в отель. Мне жаль ее: время ей кажется таким же тягучим, как и мне; она томится по свету, по объятиям, по очередным делам. К счастью, шофер уже показывает рукой на лестницу, на освещенную дверь и группу туевых деревьев в розовых отблесках. Люди топчутся на промерзшем асфальте, приветствуют друг друга, поднимаются по ступенькам, оборачиваются на звук захлопываемых нами дверец. «Видите, вас ждут!»
Во Франции у меня бы мелькнула мысль: «А стали бы они утруждать себя, если бы не было выпивки?» Тут же мне за весь вечер и в голову не придет такое подозрение. Мои будущие собеседники — невозмутимые, терпеливые — перекидывались между собой словами, держа в руке стаканы белого вина. Я не заметил ни одного из тех лиц праведников, что составляют славу Б. Царившая здесь добродетель сосредоточилась в сдержанных голосах, в пунктуальности. Такого рода вещи не вызывают у меня ни удивления, ни неприязни — частые посещения моей родной провинции приучили меня спокойно относиться к нравам, царящим у восточных соседей Франции. Меня, правда, слегка мучил один вопрос: следует ли мне удовлетворять грозившее вот-вот сфокусироваться на мне любопытство, раскрывая уже пламенеющие в моей груди дьявольские тайны? Вечно одна и та же история: а почему именно им? Почему именно это? Вот уже на протяжении тридцати лет я не устаю сокрушаться по поводу того, что всем уделяющим мне внимание людям я предлагаю одну-единственную форму литературы, причем такую, которая, как я догадываюсь, им, таким, какими они мне кажутся, не подходит. Скажу, однако, честно, что этот вопрос волновал меня совсем недолго: народу оказалось много, и мое удовлетворенное самолюбие заставило меня забыть обо всем остальном. Впрочем, госпожа Гроссер тут же похитила меня и подтолкнула ко входу в какой-то кабинет, где нас уже ждали, стоя, человек десять. «Члены нашего совета, — сказала председательница, — и одновременно почти все участники нашего сегодняшнего ужина…»
Имена, титулы, протянутые руки. «Декан нашего филологического факультета. Это он предоставил нам аудиторию, и сейчас мы в его кабинете». Брюшко — это был господин Гроссер. Красная лента — советник по культуре. Выпирающие ключицы христианской мученицы — его супруга. Я испытывал растерянность и ликование одновременно; мне казалось, что я контролирую ситуацию. Эти темные глаза? Рука как бы растаяла в моей руке, сделала невозможным пожатие. Я склонился над тонкими пальцами с выпуклыми ногтями, приблизился к ним губами, потом выпрямился. «Госпожа Сильвен Лапейра, — услышал я, — у которой вы сегодня будете ужинать». Этот поцелуй что за абсурд! Темные глаза пристально смотрели на меня, внимательные, веселые. Веселые? «Николь, — сказал я, — Николь Эннер…»
Председательница пришла в восторг. «А я тоже подумала… Вы, значит, знакомы? Ну и скрытная же вы, моя милая Николь, ничего мне не сказали о своей дружбе с нашим лектором!»
Я так и ожидал, что госпожа Гроссер произнесет именно эти слова: «скрытная», «наш лектор». Николь Эннер стояла неподвижно, вытянув руки вдоль тела, и выжидала, когда иссякнет это небольшое извержение восклицаний. Взгляд ее был по-прежнему устремлен на меня. Как раз такой я ее и запомнил: не обращающей внимания на присутствующих, на соседей, на то, что ее поведение может кого-то шокировать. Она показалась мне молодой. Молодой? Около сорока, во всяком случае. В этом платье, явно от очень хорошего портного, она смотрелась настоящей дамой, казалась выше ростом. Почти худой. «О, лет двадцать, наверное. Нет, поменьше?..» «Профессор Эрбст хотел вас спросить…» «Держу пари, что вы никогда не пробовали вот этого белого вина. Мой муж так гордится им!»
— А может, лучше виски?
Николь Эннер показала мне рукой на бутылки, расставленные прямо посреди папок на письменном столе декана.
— Ах, если бы вы знали его вкусы…
Жена советника по культуре налила в стакан виски и протянула его мне. «Значит, вы потеряли друг друга из виду?» — сказала она.
— Семнадцать лет назад, — ответила Николь на вопрос, обращенный не к ней.
Она все еще стояла неподвижно, все так же с опущенными вдоль тела руками. Кто из нас двоих первый обратится к другому? Заговорить первым означало построить настоящую фразу с глаголом, то есть употребить либо «ты», либо «вы» — от этого будет зависеть все остальное. Я обращаюсь на ты чуть ли не ко всем, но вот сегодня, в Б., к Николь?
— Мой муж просит тебя извинить его. Он не смог прийти. Он опоздает. В любом случае ты увидишь его очень скоро, у нас дома. Он сегодня ездил в Шафхаузен.
Пять коротких словно отрезанных ножом фраз, и неподражаемый, элегантный голос. Ей всегда был присущ гений молчания. Говорила она нехотя. Я даже дал ей прозвище «мисс Немая», в котором был также и элемент словесной игры, основанный на похожести этого слова на название ее улицы. «Я не молчаливая, — сказала она мне однажды, — я яростная. Я молчу, чтобы не кричать». Она сдержала слово: мы с ней никогда не кричали друг на друга, но в один прекрасный день возникла стена молчания. Стена молчания отгородила от меня госпожу Сильвен Лапейра.
— Мы не хотим держать вас здесь в плену. Наши друзья…
Удовлетворенная бабушка открыла дверь кабинета, увлекая меня за собой к гостям. Я не смог сдержаться и стал искать глазами Николь Эннер. Не пытаясь скрыть этого. Я снова подпал под власть своей стародавней вульгарной привычки, — не знаю уж, как этот порыв правильнее назвать: вульгарной привычкой или, может быть, бестактностью — оказавшись на ужине, на приеме, вроде того, где я был сейчас, или в путешествии, высмотреть в первое же мгновение какую-нибудь женщину и наброситься на нее с выражением симпатии и полупритворного, полуискреннего, но в любом случае непреодолимого вожделения. Я с благодарностью узнал и само ощущение, и сопровождающий его аромат былых времен.
Жена советника по культуре цепко держала меня за локоть. Она указывала мне дорогу между улыбками и рукопожатиями. «Вы опять встретитесь с госпожой Лапейра после дискуссии», — прошептала она. Я ничего не ответил. Я уже давным-давно научился смирению перед лицом третирующих меня свидетелей моих приступов горячки. Госпожа Ключицы принадлежала к лисьей породе; таких, как она, лучше не раздражать. Осмелев от моей пассивности, она прижала меня к буфету и с очень близкого расстояния доверительно спросила: «Как у вас сегодня будет, занятно или нудно?» Взрыв смеха. «Вы знаете, мой муж принадлежит к числу ваших страстных поклонников. Он наверняка будет задавать вам вопросы. Он был просто вне себя из-за того, что не сможет присутствовать на ужине. Хотя этот красавчик Лапейра… Да что там? Впрочем, вы сами увидите. Что касается нас, то это не наша чашка чаю».
Я заметил дверь, за которую люди удалялись, делая вид, что им нужно помыть руки, и спасся бегством. Стратегическое отступление. Судьба разметала мои когорты. Еще полчаса назад я выглядел хорошо подготовившимся к матчу атлетом, даже с небольшим допингом, а теперь вдруг оказался старым, предающимся тоске чемпионом с носовым платком, чтобы помахать на прощание, с платком, когда-то смоченным слезами, а нынче грязным комком лежащим на дне кармана. Я погрузил лицо в холодную воду и на какое-то мгновение замер, закрыв глаза и прижав салфетку к векам. Мне нужно было сосредоточиться. Дверь у меня за спиной открылась и закрылась, но никто не вошел. Должно быть, кто-то, увидев меня, испугался. Мною овладело чувство нереальности происходящего. Этот город, куда мне незачем было приезжать; эти люди, которым мне нечего было ответить и которым нечего было у меня спросить; договоренность, в соответствии с которой они тем не менее будут меня слушать в течение часа; этот мужской голос в квартире Люка; нестойкое возбуждение, сталкивающее во мне образы и мысли, причем с удвоенной силой из-за того, что после семнадцатилетнего отсутствия вдруг вновь появилась Николь Эннер, не изменившаяся и все же неузнаваемая, пустившая корни в жизни, о которой я ничего не знал, если не считать сообщений о том, что Сильвен Лапейра красивый мужчина, что он провел день в Шафхаузене и что он не был «чашкой чая» советника по культуре: мне не «освежиться» следовало бы, а принять душ, погрузиться в море и долго-долго качаться на волнах.
Двумя нажатиями пальца я выдавил из оболочки две дополнительные голубые пилюли. Они не были предусмотрены в программе, но, как мне показалось, обстоятельства вполне оправдывали некоторое смещение сроков их принятия. Солидная порция выпитой из-под крана горячей воды помогла мне проглотить их. «Что она подумает обо мне?» — спросил я себя, словно госпожа Лапейра застала меня за каким-то компрометирующим меня делом. Впрочем, разве ситуация, в которой я окажусь через минуту-другую, не является компрометирующей. Человек способен набраться смелости и снять с себя штаны, но желательно, чтобы в зале не было свидетелей. Мне было стыдно, а раз мне было стыдно, то следовало придать игре еще большую остроту, бросить свое сердце далеко вперед через препятствие. Внезапно я испытал потребность, чтобы сеанс начался немедленно, и когда какой-то старый молодой человек открыл дверь и посмотрел на меня с беспокойством, как бы опасаясь обнаружить во мне признаки недомогания, то увидел уверенного в себе, благоразумного, бодрого лектора и провел его через опустевший зал к низкой двери, ведущей на эстраду.
5. ПАРТИЯ
Председательница, стоя рядом со мной и дотрагиваясь, как это делают профессионалы, микрофоном до нижнего края губы, меня представила. Три минуты, не больше, она знала свое дело. Дабы жизнь казалась мне более приятной, она отпустила в достаточном количестве и сдобы, и меду. Когда отправляешься в плавание по незнакомому морю, то комплименты, даже крупнотоннажные, не кажутся чрезмерными. «Зал хороший», — шепнула, вставая, госпожа Гроссер. Зал — не совсем подходящее слово: это был университетский амфитеатр с очень крутым подъемом, так что лица располагались на уровне моего лица и далее выше; я был ими как бы окружен; настоящая крепость из лиц — впечатление необычное и успокаивающее. Были заняты все места — волна признательности — и даже некоторые ступеньки. Пока председательница говорила, я сквозь очки внимательно разглядывал публику. Бог с ними, с опущенными взорами. Когда же я встречал другие взгляды, то кое у кого намечалась улыбка. Ах, славные люди! «Лапочки вы мои, — подумал я, — я не собираюсь над вами смеяться. Досадно, конечно, что вам пришлось тащиться сюда из-за меня, но скажу вам искренне: мне это кажется нормальным и оправданным. И я вознагражу вас за ваше терпение, за повернутые в мою сторону ваши серьезные физиономии и даже за это шушуканье и этот смешок, которым обменялись, склонившись друг к другу, две сидящие внизу дамы. Я вам обещаю: через десять минут вы узнаете, почему вы шушукаетесь и над чем вы смеетесь. Не беспокойтесь».
Рядом с тем местом в первом ряду, куда должна была вернуться председательница, пустовало еще одно место, которое, я мог бы побиться об заклад, предназначалось для Николь Эннер и которому суждено было остаться незанятым. Для Николь, не захотевшей усаживаться здесь, прямо лицом к лицу со мной. Следует ли мне за этим отсутствием искать какой-нибудь оттенок сообщничества? Эти соображения и эта щепетильность показались мне неуместными. Значит, Николь боялась смутить меня. А ведь если бы я мог наблюдать за ее реакцией, воздействовать на нее, я говорил бы и лучше, и иначе; под ее взглядом мне на ум приходили бы фразы с двойным смыслом, внешне невинные слова, от которых ее лицо то светлело бы, то, напротив, становилось бы непроницаемым. Такие изменения происходят с годами. Все это было бы увлекательно вдвойне.
Я искал ее на самом верху амфитеатра, в затемненных уголках, куда забралась бы мадемуазель Немая в былые времена, но нигде не находил ее. Тут раздались аплодисменты, вознаградившие председательницу за ее выступление, и она наклонилась ко мне, чтобы закрепить микрофон на подставке, обдав меня при этом крепким запахом волнения и пота. Я заколебался, оставить мне очки или снять. Обычно, снимая очки, получаешь сразу двойное преимущество: публика превращается в расплывчатую массу, а записи читаешь свободно. Коль скоро мне не нужно было ни читать записи, ни концентрировать свое внимание на чьем-нибудь лице, то у меня появилась возможность выбора; и я выбрал отчетливое видение моих собеседников. Вокруг меня образовался вакуум. Я подождал, пока установится тишина, позволил ей углубиться, выждал несколько секунд, потом еще несколько секунд, отчего встрепенулись даже самые рассеянные, и потом начал партию.
Когда я услышал собственный голос, приглушенный деревянной обшивкой скамеек и ковровым покрытием ступеней, он мне не понравился. Управлять своим голосом трудно. Сегодняшний голос не оправдывал моих надежд, да и слова тоже. Уверовав в виртуозность, вроде бы гарантированную мне на целый вечер четырьмя голубыми драже, я продвигался вперед без прикрытия, без тех фраз и не в том темпе, которые могли бы мне подсказать намеренно забытые в гостинице записи. Я опрометчиво пытался развивать неопробованные мысли, употребляя незатасканные, но неловкие сравнения, а слова, на которые я рассчитывал, куда-то ускользали, подсовывая мне вместо себя какие-то приблизительные формулировки. Я попытался взять себя в руки. «Ведь они же никогда не подводили меня», — думал я, дотрагиваясь в кармане до притаившихся там в металлической фольге последних моих запасов, и снова пытался отыскать глазами Николь Эннер, а мое вступительное слово тем временем неслось вперед, оставив меня далеко позади, неслось вялой, неровной рысцой, как убежавшая и позабывшая все заученные изящные аллюры лошадь. Я попытался рассказать анекдот, потом еще один. Мне нужно было во что бы то ни стало вырвать у моей аудитории взрыв смеха или хотя бы улыбку. Когда я увидел, как две дамы внизу, склонившись друг к другу и прикрывая ладонями рты, но глядя в мою сторону, явно разочарованно или саркастически обмениваются впечатлениями, меня взяла злость. Мне нужно было, чтобы меня вывели из себя. Я кое-как закончил это подобие импровизированного предисловия, с помощью которого я, как правило, уже наполовину покоряю публику или, по крайней мере, овладеваю ее вниманием. Когда я объявил, что мой монолог подошел к концу и что теперь я жду вопросов, в зале не раздалось ни одного хлопка. Лица насупились: где-то поблизости включили реостат, и свет в амфитеатре стал более ярким, похоже, для того, чтобы я обнаружил эту метаморфозу. Меня подстерегали. За какие-нибудь три-четыре минуты мы оказались на грани войны. Я заметил только трех молодых людей; они сидели вместе: две девушки и юноша. Их присутствие было для меня своего рода оскорблением, так как оно по контрасту подчеркивало, что вся моя публика состоит из седовласых мужчин и теток с претензиями. Они раскрыли на коленях тетради — чтобы делать записи? — и наблюдали за мной с непроницаемыми лицами. С таким же успехом можно пытаться исторгнуть крик из камня. Виски, амфетамины, кофе клокотали во мне, стучали у меня в висках, руки мои дрожали, а в голове — словно кто-то налил мне туда смолы. Передо мной было двести лиц: либо ничего не выражавших, либо с написанным на них нетерпением, либо враждебных; если бы я прервал паузу первым, то тем самым признал бы себя побежденным; я не совладал бы со своими нервами, и это был бы крах. У меня был бы вид человека, упражняющегося в злословии и вымаливающего аплодисменты.
Именно в этот момент раздался голос Николь Эннер, спокойный, а по интонации можно было даже угадать улыбку. Да, улыбку, абсолютную непринужденность, прямую спину и серое, безупречно сшитое платье; теперь я видел перед собой только госпожу Лапейра. Как я мог не разглядеть ее, вон там, на уровне моих глаз, слева? Садиться с левой стороны — это так на нее похоже.
— …мне знакомы ваши книги, — говорил спокойный голос, — я думаю, что прочла их все, и уж чего-чего, а вопросов я могла бы задать вам много! Однако разве это не нелепо — делать вскрытие романа…
(Делать вскрытие — это точно из ее словаря, усвоенного на уроках французского языка и литературы в лицее Сент-Мари-де-Монсо; в нем еще есть слова скальпель, асептический. Мадемуазель Эннер всегда говорила о книгах, — когда она о них говорила! — либо как школьница, либо как хирург…)
— …рассказанная история — это и есть рассказанная история, зачем же подвергать ее декортикации? Мне кажется, мы должны были бы задавать вам вопросы скорее по поводу самых сокровенных эпизодов ваших произведений. Как вы сами говорите, нужно «брать быка за рога». Вот это соответствовало бы характеру дискуссии вроде той, что сейчас состоится, — если она состоится! — все выглядят такими молчаливыми. Почему? Дело в том, что мы сейчас рискуем показаться бестактными, а вы — циничным. Не к этому ли вы стремитесь? Не этого ли вы ждете от нас?
Пока Николь говорила, я успел подумать, что этот вопрос, сделанный, как по заказу, несмотря на его кажущуюся спонтанность, был тщательно подготовлен заранее, может быть, в соавторстве с госпожой Гроссер, стремящейся направлять ход дискуссии. Так что Николь оказалась моей кумой, если предположить, что слово «кум» с тем значением, которое я имею в виду, может — в чем я сомневаюсь — употребляться в женском роде. Мы как бы играли в карты, и Николь завлекала простофиль. Однако в моей ситуаций привередничать не приходилось, и я кинулся в образовавшуюся брешь.
Дискуссии, подобные той, что состоялась у меня в Б., обычно развиваются по трем потенциальным осям. В ней можно перейти либо на политику, либо на авангардистскую тематику (если в зале оказываются преподаватели литературы из местного лицея), либо она превращается в консультацию Школы родителей. Мы находились не во Франции, учителя из гимназии Б. иронически или осмотрительно помалкивали (они не были уверены в правильности своего акцента), и поэтому ко мне стали обращаться как к представителю социальной помощи. Ведь разве же я не пытался писать, то там, то здесь, да еще так хлестко, о художнике и семье, о супружеской паре и детях. Уж в этой-то области мог высказать свое мнение практически любой житель Б., осознающий свое арифметическое и моральное превосходство надо мной благодаря более многочисленному потомству и благодаря бракам, единичность и длительность которых, вероятно, составляют их основную прелесть. Одна грузная дама сразу же подошла к сути: «Господин Н., сколько детей вы воспитали?» — Услышав мой ответ: «Одного-единственного ребенка, причем мероприятие еще не завершено…», грузная дама удовлетворенно покачала головой, беря, как мне показалось, соседей в свидетели. В свидетели чего? У меня было такое ощущение, что я, сидя на своем стуле, вдруг стал маленьким-маленьким.
Тщетно пытался я вернуться к литературе, а меня уже расспрашивали — или еще только приближались к этому — о сексуальном воспитании девочек и о моем отношении к спорам вокруг школы. «Графиня Толстая…» — говорил я, но читал на оживившихся теперь лицах яростное желание ограничить меня рамками обыденных человеческих историй и заставить меня признаться в том, что я просто-напросто фанфарон, да еще к тому же и трус. Вот вы говорите, что человек, занимающийся творчеством, похож на всех остальных людей. Ну если так, то в качестве обыкновенного человека мы вас оцениваем не слишком высоко…
Я уже не раз замечал, что за свое желание не обособливаться нам приходится дорого расплачиваться. К этому моему наблюдению добавилось еще одно, на этот раз скорее забавное наблюдение, о котором я сейчас попытаюсь рассказать.
Несколько минут спустя мои слова разогрелись, подобно мышцам, получившим нагрузку, и моя боеспособность частично восстановилась. Я почитал делом чести отвечать в меру гибко, но честно на все, даже самые нелепые или агрессивные вопросы. Одно из моих любимых ощущений в подобных столкновениях проистекает из моего стремления тщательнейшим и точнейшим образом выразить в словах свою правду. Кстати, чем этот вечер походил на другие вечера? Любой из моих наиболее точных ответов, любой из ответов, требовавших от меня ясного сознания и мужества, принимался скептически, как какая-нибудь провокация или причуда. Я даже угадывал кое-где смешки. Правда, беззвучные. И наоборот, едва от моих слов начинало веять лицемерием или банальностью, — когда я хотел подвергнуть испытанию проницательность моих собеседников, — как они оживлялись, расслаблялись, и по их кивкам я узнавал, что они возвращают мне свое благоволение. Истина вызывала смех или шокировала, ложь успокаивала. Привыкнув к самообману, привыкнув мыслить иллюзиями, мои слушатели требовали тех же иллюзий и от меня.
В этом их смешении истины и лжи наблюдался такой автоматизм и мне было настолько легко, чередуя комедию и искренность, заставлять их любить меня или ненавидеть, что такая гимнастика стала даже нравиться мне.
Николь Эннер, молчавшая с тех пор, как она задала первый вопрос, вероятно, заметила, что вечер превращается в балаганное представление. Она подняла руку не столько для того, чтобы попросить слова, сколько для того, чтобы заставить меня прервать свою игру; ее жест мог также означать: «Остановитесь».
— У вас нет такого ощущения, — спросила она, — что ваши читатели читают не то, что вы написали, а нечто другое, то, что им хочется читать? Иными словами, представляется ли вам чтение некой встречей читателя и книги, или оно основывается на недопонимании?
А еще через несколько минут она задала мне третий вопрос, но сформулировав его таким образом, что присутствующие заулыбались; получилось так, что она обратилась ко мне на «ты». Она заметила это, тоже улыбнулась и объяснила:
— Я знаю господина Н. с давних пор, — сказала она, — и мне кажется глупым, выступая, обращаться к нему на «вы» во имя соблюдения не известно каких правил. Так что я продолжаю… Если бы тебя спросили, какое событие, случившееся на пересечении жизни и творчества, оказалось для тебя самым важным, что бы ты ответил?
— Вопрос слишком расплывчатый…
— Тогда я поясню. Любовь, брак, отцовство, одиночество — какой из этих опытов дал самую лучшую пищу для твоего писательского труда?
(Не знаю почему, но в этот момент мне вспомнились серые фланелевые юбки с четырьмя жесткими складками, которые назывались «юбки Шанель» и которые еще носили в те времена, когда я встретил Николь, некоторые важничающие и отставшие от своей эпохи юные особы.)
— Это не были опыты, — сказал я. — Это были куски жизни, страсти, испытания, компромиссы, моменты счастья. Слово опыт неприемлемо. Ну а теперь что касается самого вопроса, как я его понял. Творчество не имеет ничего общего с тем, что им не является. Эпизоды повседневной жизни, погода, превратности здоровья могут облегчать либо затруднять его, могут ему угрожать, но питается оно не ими. Причем длительного влияния они на него не оказывают.
— Значит, ответа не будет?
— Ну отчего же, просто ответ здесь возможен лишь неполный, приблизительный. С учетом того, в условиях какого нервного напряжения складывается или распадается то, чем ты занимаешься, на первом месте оказываются страсти и, как следствие и обрамление их, — одиночество.
— А отцовство?
— Нет, отцовство нет.
Наступившая затем тишина — легкий шепот облегчения, называемый тишиной, — ничем не отличалась от других таких же пауз. Только мне, мне одному она показалась более отчетливой, более вибрирующей, чем предыдущие паузы. И поэтому, вместо того чтобы дождаться следующего вопроса, после которого непременно и ко всеобщему удовольствию возобновилось бы прежнее мерное гудение голосов, я счел необходимым поделиться еще одной частицей самого себя, извлечь эту частицу из глубин души и отдать ее. У меня в голове мелькнуло смутное подозрение, что этим усилием я обязан Николь Эннер, чей голос, несмотря на всю ее непринужденность, показался мне изменившимся. Я вдруг подумал о Люка, отчетливо представил себе его сидящим на скамейке амфитеатра и, не дожидаясь новых импульсов, стал говорить:
— Удивительно все-таки и несколько тягостно для меня, что вы заговорили именно об этом. Я говорю «вы», хотя и себя тоже отнюдь не считаю непричастным. Ведь благодаря этой мимолетной, но напряженной взаимосвязи, которая возникла между нами и которая из-за моих откровений становится все напряженней, — как лук, натягиваемый, чтобы стрела летела как можно дальше, — преследующие меня мысли могут передаваться от меня к вам и подсказывать вам ваши вопросы. Не исключено, что именно так все и произошло. Я как раз уже много часов ломаю себе голову, в связи с некоторыми обстоятельствами моей личной жизни, над загадкой отцовства применительно к моей работе. Вы это обнаружили, по крайней мере некоторые из вас, чем и объясняется ваша любознательность. Довольно жестокая любознательность. Паразиты в первую очередь набрасываются на больные деревья, бродячие собаки — на раненых животных. Я вовсе не собираюсь сравнивать себя с дубом, — а вас с гусеницами или волками! Но вот встают у меня перед глазами образы. Почему? Вы нажимаете в этом месте, потому что обнаружили здесь наименее защищенную зону. Простительно ли признание, что книга тебе дороже родного сына или что построенному из слов замку — некоему подобию карточного домика — ты придаешь больше значения, чем любви?
(Снова ропот, движение голов, напоминающее дрожь…)
— Ну а утверждать, что творчество, бросаемое мною на весы, столь легковесно, что малейший позыв банальнейшего чувства в состоянии склонить чашу в другую сторону, — разве это было бы простительно?
«Мой сын…»
Я понизил голос. Теперь я с какой-то исступленностью пытался ловить взгляды, хватать их. Слова наконец пришли, они были у меня в руке, послушные, обильные, и я мог бы говорить еще тише, мог бы шептать, в уплотнившейся тишине меня все равно бы услышали. На этот раз Люка был здесь, он сидел передо мной, на расстоянии нескольких шагов, скажем, рядом с тремя прилежными студентами, но только он отнюдь не собирался хватать на лету мои слова: признания своего отца не записывают в тетрадь. Он сидел там, в первом ряду, вытянув далеко вперед ноги, засунув руки в карманы, сидел и наблюдал за мной. Люка и его молчание. Люка и его глаза цвета летнего предгрозового облака. Люка и его театральные, утрированные вспышки гнева, его патетические слова, резкие движения его рук. Люка и его внезапные возвращения в детство, его школярские каламбуры, его поцелуи. Да, его поцелуи. Люка, который эти последние два года держал меня в напряжении и унижал так, как не унижала ни одна женщина. Я мог бы сказать, что мне случалось оказываться во власти страстей и более глубоких, и более тиранических, чем любовь к Люка, но только ему удалось навязать мне свои законы. Попробовала бы какая-нибудь женщина устроить мне нечто подобное тому, что устраивает он, я хлопнул бы дверью так, что только звон пошел бы! Но ведь ребенка не бросишь. Когда он тебя ранит, ты истекаешь кровью. Всей кровью своей боли. От этого ни уйти, ни спрятаться. Мы привязаны к своему ребенку, и ему одному известен секрет уз и узлов, он один может развязать их и превратить свое бегство, которое должно было бы стать для нас спасением и облегчением, в последнюю победу. Свою победу. В этой битве мы обречены на поражение.
Мне трудно восстановить в памяти тот вечер в Б. Понадобилось бы припомнить все заданные мне вопросы, мои ответы, паузы, воссоздать ощущение уходящего времени — что в кино называется «пересказать в реальном времени» — и еще одно ощущение, подспудное, ощущение произносимого про себя монолога, который придавал моим словам и смысл, и форму и который таинственным образом управлял всем, вплоть до вопросов моих слушателей.
Странная неосторожность, я ни разу не посмотрел на часы. А когда наконец посмотрел, — не украдкой, а совершенно в открытую, дабы успокоить председательницу, — чье так по-провинциальному покрывшееся испариной лицо выражало тревогу, — то оказалось, что прошло пятьдесят пять минут. Между тем внимание публики не ослабевало, и я подумал, что минут на пятнадцать конференцию можно продлить. Однако, поскольку теперь мне уже не было стыдно за себя, я решил, что партия выиграна, и тут же ослабил свое собственное внимание. Глаза мои привыкли к полутьме амфитеатра (кто-то, вероятно, опять подергал реостат?), и взгляд мой переходил теперь с одного лица на другое, — опытные лекторы утверждают, что они выбирают в аудитории несколько лиц и следят за их выражением, либо находя в нем себе поддержку, либо стараясь изменить его, — задерживаясь на лице Николь Эннер не больше, чем на трех или четырех других лицах. Связанные с ним воспоминания, воспоминания о наслаждениях, о нежности, о радостях, об огорчениях, ни на одну минуту не заслонили собой тот двойной поток, о котором я только что упомянул, поток реальной речи и речи подспудной. Неужели они выдохлись и побледнели сильнее, чем подсказывала мне моя былая страсть. За семнадцать лет выдыхаются даже самые крепкие настойки. Впрочем, подводить итоги и приступать к выслушиванию своего сердца я пока что не собирался. Просто мне было приятно ощущать где-то в глубине самого себя, словно за приоткрытой дверью, спокойный круговорот памяти и любопытства, который должен был вскоре меня подхватить. Дом, муж, семнадцать лет жизни, когда-то столь тесно соприкоснувшейся с моей жизнью; обнаружить все это так внезапно, — словно в разогретой аплодисментами и напитками стихии отлетел вдруг в сторону последний сорванный лоскут ткани, — плюс эти маленькие, затаившиеся во мне секреты: встреча в Б. более чем оправдывала все мои надежды.
В самом конце дискуссии Николь еще раз удержала меня от совершенно ненужной агрессивности. Она направила ее в спокойное русло: «А вот эта ваша среда, где делаются книги и газеты, когда говорят, что там мерзавец на мерзавце, насколько это соответствует действительности?» Подобные любезности — настолько привычное блюдо в нашем меню, что отвечать на них не составляет для меня никакого труда. Но откуда это известно Николь? Каким образом она, сохранив знакомые мне привычки, превратилась в такую твердую и проницательную женщину, чьи новые жесты, лучше поставленный голос, иронию я открывал для себя на протяжении вот уже целого часа. Мужчина? А этому мужчине известно? Почему он не присутствует на этой встрече? Я видел Николь Эннер, сидящую между двумя женскими силуэтами. Обратилась бы она при всех ко мне на «ты», если бы муж сидел рядом с ней?
Я мог бы поклясться, что взгляды, которые госпожа Гроссер время от времени бросала на меня, как-то изменились после того, как она узнала о нашем давнем знакомстве. Они казались мне старомодными, утрированными и недоверчивыми, такими, какими пожилые женщины смотрят на мальчишек, еще занятых сексом и гульбой. Сколько я испытал на себе когда-то проявлений подобной снисходительности! Упрекая меня за мою непростительную молодость, они одновременно и льстили мне. Но ведь сейчас я уже старый человек, и иллюзия выглядела смешной.
Я заметил, что председательница волнуется. Пора было заканчивать. Что я и сделал с резвостью ручья, возвращающегося в свое русло. Правда, дабы не оказаться в несколько комичном положении лектора, который прекращает импровизировать, то есть мямлить, и вдруг с подозрительной непринужденностью заводит какой-то старый свой припев, я постарался притвориться, что не сразу нахожу кое-какие слова. Естественным показалось и мое приподнятое настроение: радость оттого, что ты закончил, придает голосу интересное вибрато.
Меня усадили за другой стол, находившийся в вестибюле аудитории, перед стопками моих книг. Скромная высота стопок заставила меня еще раз восхититься реализмом председательницы. Она села рядом со мной: «Я вам помогу в том, что касается написания имен, они такие варварские…» Десятка два дам образовали вокруг меня утес из бюстов, духов, алчности и позвякивающих браслетов. В то время, когда я подписывал один из томиков, слева возникла рука и поставила передо мной стакан виски; я узнал рукав серого платья. «До скорой встречи у меня дома», — прошептал голос. «А, Николь!» — констатировала председательница, слегка повернувшись в ее сторону.
Всматриваясь в визитную карточку, которую крутили у меня перед глазами, — не для того чтобы мне легче было сделать надпись, а как бы побуждая меня «служить», — я воспользовался ситуацией и вполголоса сказал председательнице:
— Хорошо бы, если бы вы сказали мне пару слов о господине Лапейра…
— Сейчас, в машине, когда мы туда поедем.
Меня не хотели отвлекать от дела. Однако, внезапно передумав, председательница сама прервала мои муки и, взяв меня за руку, сказала:
— О, Лапейра, это наш корифей, вы увидите! Закончил здесь политехнический, потом MIT[1] (она, как женщина, привычная к деловым мужским беседам, произнесла «Эммайти»), и я уж не знаю, какой-то еще институт у вас в Париже… Образование на трех языках, и вдобавок душа общества, спортсмен. И антиконформист! Вот только, к сожалению…
Председательница выпустила мою руку и повелительным жестом указала мне на какую-то особу, чьи драгоценности нетерпеливо, как погремушка, дрожали у меня перед носом. Узнаю ли я когда-нибудь, о какой слабости этого феникса Лапейра сожалела госпожа Гроссер? — Не забывайте: S, С, Н — всегда!
Моя соседка, скосившись, наблюдала за моей авторучкой. Всякий раз, когда мне удавалось без ошибки дописать до конца то или иное из этих убийственных немецких имен, я приподнимал перо над бумагой и искал какую-нибудь менее избитую формулу, нежели те, которыми, как я слышал, зачастую ограничиваются мои коллеги. Стоило мне немного заколебаться, как председательница тут же давала мне вполголоса указание по поводу надписи, но ее громогласный шепот только сбивал меня, и я начинал путаться в своих находках.
Небольшая толпа вскоре рассеялась. «Придите немножко в себя», — сказала мне госпожа Гроссер. Неужели у меня был такой растерянный вид? Слегка утраченное после окончания дискуссии возбуждение благодаря виски опять вернулось ко мне. Я почувствовал себя способным на новые подвиги. Я люблю такие неожиданные повороты событий, когда у заканчивающегося вроде бы вечера вдруг открываются новые безбрежные перспективы. Председательница, довольная, что сегодняшняя ее лошадь оказалась такой ретивой, встала и сказала: «Ну что ж, поехали, раз вы такой неутомимый…»
Мы спустились вниз; на ступеньках крыльца я взял госпожу Гроссер под локоть, потому что из-за гололедицы они могли оказаться скользкими. Шофер держал дверцу открытой. Наклонившись, чтобы войти в машину, в тот момент, когда движение скрыло от меня ее лицо и приглушило голос, председательница констатировала нейтральным тоном:
— Это получилось очаровательно, то, как она обратилась к вам на «ты». Так естественно! Я уверена, что это всем понравилось.
6. УЖИН
Слава Богу, квартира оказалась приличная. Едва я позволил себе сделать мысленно это замечание, — оглядевшись, как бы обнюхивая воздух, — как сразу же устыдился его. То был очаровательный стыд, имевший привкус моей молодости. Был у меня в жизни такой период, когда я воспринимал любовь только в соответствующем обрамлении: элегантно оформленной, по-буржуазному меблированной. В результате каждая интрижка становилась одним из этапов предпринятого тогда мной долгого примирения с самим собой. Моя молодость не любила драгоценностей, она любила футляры от них. И витрины, где они выставляются. Потом наступила эпоха, когда я, напротив, стремился опуститься вниз. Сабина и мисс Немая оказались исключением, подтверждавшим правило, к которому я не замедлил вернуться.
Семья Лапейра занимала целый этаж в одном из тех воздвигнутых посреди сада основательных квадратных домов, какие нередко встречаются в спокойных кварталах Б. Там о них говорят как о построенных «во французском стиле», хотя они вызывают в памяти скорее не Версаль, а построивших их году так в 1910-м почтенных граждан с широкими затылками. В камине гостиной горел огонь, аккуратный, приятно пахнущий, старинный; в квартирах людей богемных или выскочек такой огонь разжечь не удается, а если и удается, то он все равно долго не горит, дымит, разваливается, мешает беседе.
Николь поменяла свое серое платье — дорогостоящий каприз во время одной из поездок в Париж? — на длинную юбку из толстого бархата и крепдешиновую блузку абрикосового цвета: настоящая «форма хозяйки дома», предписываемая журналами мод в шестидесятые годы. Я помню, как Николь, тогда еще такая молодая, любила наряжаться подобным образом, когда в отсутствие родителей принимала меня на улице Рафаэль, в квартире, под окнами которой пенился зеленью сад Ранелаг. Либо она настолько мало изменилась, либо оделась так, чтобы мы почувствовали себя сообщниками? Конечно же, нет; она была за сотню верст от воспоминаний и от какой бы то ни было символики; когда же я наконец пойму, что у женского тела нет памяти? Она приближалась ко мне — ее походка напоминала не то поступь трагедийной актрисы, не то плавный ход фрегата, черная юбка при каждом ее шаге прилипала к ногам — и тянула за руку своего мужа. Она представила его мне.
Председательница, когда она описывала Сильвена Лапейра, забыла главную деталь: его рост. Он был такой же высокий, как чемпионы или голливудские знаменитости, когда к ним приближаешься вплотную. Высокий и широкий. Мисс Немая вышла замуж за великана. Простой смертный, сталкиваясь с одним из таких вот прекрасных экземпляров человеческой породы, сразу же представляет себе его в обнаженном виде, задумывается, колеблется, не поддаться ли сразу же весьма удобному чувству отвращения. Хотя и говорят, что иногда эти гиганты… Но говорят ведь также, что о скрытом обаянии мужчины можно судить по его носу. Я посмотрел на нос Лапейра: солидный гасконский рубильник, профиль фанфарона. Черт побери! Я отпустил поводья своей антипатии, и она сразу понеслась галопом. Естественно, все эти мысли промелькнули у меня в голове за три секунды, ровно за то время, которое потребовалось нашему хозяину, чтобы пересечь гостиную на прицепе у Николь. Я весь покраснел от смущения — сладострастного ли, злобного ли, поди разберись? Ревность всегда горячит мне кровь, будоражит ее. Этот внезапный румянец был отнесен на счет горячего приема, оказанного мне Сильвеном Лапейра, одной рукой стиснувшего мою руку, а другой сжавшего мне локоть. Я ожидал, что он скажет «сожалею», сошлется на неудачное расписание движения поездов. Вместо этого хозяин дома веселым голосом объяснил мне, что он терпеть не может вечеринки в Обществе друзей французской словесности и что он страшно доволен, что не присутствовал, когда я там отбывал свою повинность. (Это он употребил слово «повинность».) «Я уверен, что у вас получилось потрясающе», — закончил он.
— Ты знаешь здесь всех, — тихо произнесла Николь.
Она избегала моего взгляда, а голос ее был слишком бархатистым.
В этот момент над спинкой дивана пошевелилась, встряхнулась копна светлых волос, потом в мою сторону повернулось лицо поднимающейся мне навстречу девушки.
— В университете вы Беренис не видели? — спросил Сильвен Лапейра.
Светлая копна встряхнулась еще сильнее, чтобы сказать «нет», и лицо опустилось так, что в нижней части наблюдающих за мной холодных серых глаз появилась тоненькая полоска белка.
— Это наша старшая, Беренис, — сказала Николь Лапейра. — Есть еще Жан-Поль, — поспешила она добавить, словно одно должно было компенсировать другое. — Ему двенадцать лет. Он уже спит.
Она стояла неподвижно, в хорошо знакомой мне по прежним временам позе, с опущенными вниз руками, и смотрела на свою дочь и своего мужа, образовавших впереди меня компактную группу. Лапейра положил руку на плечи малышки и прижал ее, тоненькую-тоненькую, к себе. Оба смотрели на меня. У Беренис была такая кожа, какая бывает у почти рыжих людей, и солнце каникул рассеяло по ней веснушки: на лбу, на висках, на переносице. Лицо ее, состоявшее из одних мягких закругленных линий и из серьезности, выглядело незавершенным, ожидавшим какого-то резкого перехода, чтобы сразу превратиться из детского во взрослое. А куда же делись у нее темные волосы родителей, рост и внушительный нос Лапейра? Не странно ли, что такой вот караковый исполин и такая лань произвели на свет эту маленькую мышку?
Улыбка у нее оказалась лукавая, неторопливая. Беренис протянула мне руку. Потом, как бы поразмыслив, сделала два шага, подняла голову ко мне и чмокнула два раза пустоту рядом с моими щеками.
— Беренис! Тебе ведь уже не двенадцать лет. Забавное это поколение, они только и делают, что целуются. Вы бы только посмотрели, как они приходят в свой гимнастический зал: настоящий винегрет из мордашек…
Николь по-прежнему не шевелилась.
— А мне очень нравится, — заявил Лапейра, опять беря малышку под свое крыло. — Я обожаю поцелуи этих девчушек. Правда же, моя Беренис?
Супруги Гроссер, декан и жена советника по культуре, заговорили все сразу. Беренис? Я вспомнил тот уикэнд в Сарле, где нас застал свирепейший мороз, разукрасивший весь Перигор ослепительно сверкавшим на солнце инеем, и часы, проведенные Николь взаперти в нашем номере «Мадлены» под пуховым одеялом за чтением «Орельена». Я захватил книгу для нее. «Когда Орельен впервые увидел Беренис…» «Что за имя! — вздохнула Николь. — Ты считаешь, такое имя кому-то может пойти?..» Она часто говорила о мнениях, о чувствах, о желаниях так, словно речь шла об одежде. Она спрашивала себя, подходят ли они к той или иной ситуации, можно ли их себе позволить.
Я искал ее глазами. Могла ли она в этот момент, когда я открыл для себя Беренис и то, что ее звали Беренис, не думать о Сарле? А если бы она думала о нем, то я бы это сразу узнал. При условии, что мне удалось бы поймать ее взгляд, что оказалось нелегко. Она предложила мне соленое печенье, не переставая разговаривать с господином Гроссером. И только после того, как она протянула тарелку профессору Эрбсту, повернулась ко мне:
— Ты знаешь, Беренис читала твои книги. Тебе бы нужно с ней поговорить.
Мне показалось, что малышка меня подкарауливает; она тут же оказалась передо мной. Серьезная или насмешливая? Мне никак не удавалось понять.
— Сколько вам лет? — спросил я ее.
— Шестнадцать с половиной.
— Это маленькие девочки прибавляют месяцы к годам. А вы ведь не маленькая девочка.
— Скажите это моим родителям!
Она говорила с непринужденностью подростков, привыкших бывать в обществе взрослых, и едва заметно растягивала слова, как это делают горцы. Не говоря уже о столь распространенной в коллежах Лемана и Граубюндена неуверенности в том, что касается ударения. Она скрестила руки на груди и стояла, опершись на одну ногу и выставив вперед другую: влияние уроков классического танца. Одежда бесформенная, в духе современных представлений об элегантности.
Я услышал собственный голос (надо же быть таким неуклюжим!).
— У меня сын чуть-чуть постарше вас. Он родился в шестьдесят шестом.
— А я в шестьдесят седьмом. Где он учится?
Никто не мешал нам разговаривать. Значит, это было вполне в порядке вещей: беседовать, стоя посреди салона, с этой вот учащейся из балетной школы, улыбающейся губами лакомки. Я вдруг задал себе вопрос: а стал ли бы я разговаривать подобным образом у кого-то в гостях с Люка? Я имел в виду: с кем-то похожим на Люка, с юношей того же возраста и такого же типа? И ответ был: нет. Почему же такая разница в подходах? Конечно, Беренис была девушкой, причем девушкой миловидной, несмотря на то что ее черты еще не оформились окончательно. Всем известно, что в этот момент своей жизни девушки уже становятся женщинами, нередко опасными и непредсказуемыми, тогда как наши долговязые сыновья все еще продолжают отдавать дань всем леностям взросления. По этим замечаниям можно судить, насколько же специалист по психологии, каковым я вроде бы считаюсь и которого жители Б. час назад пытались вызвать на откровенность, застрял в том, что касается подростков обоих полов, на стадии провинциальных разговоров эпохи последней мировой войны. Отставание ребят по сравнению с девочками, шестнадцатилетние вампы — в каком-нибудь салоне Ньора во времена Петена я бы наверняка сошел за тонкого знатока подростковой души. Может быть, просто у Люка это оказалось выражено в большей степени, чем у меня. И в этом случае его раздражение гораздо более оправданно, чем можно предположить, выслушивая мои страдальческие вздохи. Однако стоило здравому смыслу слегка осенить мой ум, как я тут же поворачивал аргументацию другой стороной. Ничто не меняется так скоро, как кажется; ведь человеческий материал остался тем же самым, что и на заре истории, и прочее, и прочее. Такая вот успокаивающая мелодия служила аккомпанементом для моих ошибочных идей.
Похоже, чередование всех этих сомнений читалось у меня на лице; Беренис смотрела на меня с любопытством. Во мне загорались тысячи маленьких огоньков, мигали, превращались в сильное пламя. Не будем сводить все к банальным толкованиям: в голосе — бархат, во взгляде — бесконечное понимание. Стремление очаровать? Быть очарованным? Мы не заводим романов со школьницами. Однако речь шла все-таки о кокетстве, как с моей стороны, так и со стороны Беренис. Наши голоса зазвучали еще тише. Николь Эннер (когда же я перестану называть ее этим именем?) наблюдала за ними издали. Нет, «наблюдать» не совсем то слово; она как бы ждала результатов некой начатой ею химической реакции: «…тебе бы с ней поговорить…»
— Это просто удивительно: вы пока еще не процитировали мне первую фразу из «Орельена»! У маминых друзей — не у папиных «ученых» — это обычно получается автоматически. Находите ли вы меня «почти некрасивой»?
Я подумал, что мадемуазель Лапейра выпила капельку шампанского и что в Б. ей, должно быть, не часто представляется возможность вставить свой любимый и наиболее выигрышный номер. От всего этого мне стало вдруг как-то тоскливо, тем более что тут внезапно послышались смех и голос Лапейра. Они у него оказались под стать его грудной клетке, причём с соответствующей манерой говорить: «в сторону», как косящие пьяным глазом удальцы в барах; да еще эта его привычка первым же громко хохотать над собственными шутками, порой действительно забавными. Я начинал понимать, что скрывалось за «чашкой чаю» советника по культуре: безыскусность Сильвена Лапейра.
Рассказывала Николь ему про нас или нет? И в каких выражениях? Очевидно, не в одних и тех же, когда она говорила с Беренис и с ее отцом.
— Я вас раздражаю? Кажусь вам претенциозной?
— Я подумал о своем сыне. Я вас сравнивал, вас и его.
— Похоже, вы уделяете ему, вашему сыну, невероятно много внимания! Когда вы выступали в университете…
— Вы там были?
— Да, я сидела рядом с мамой, но вы меня даже не заметили, вы смотрели только на нее…
— Решения Брюссельской комиссии, — говорил господин Гроссер, — нас ни к чему не обязывают. В случае шантажа…
— Рольф, ты совсем замучил наших друзей!
— Я знаю, что уже поздно и что вы хотите есть, но суфле…
— Суфлировать — это не играть, — проревел Лапейра. — Кому налить по последней? Господин декан…
— Но вы вроде бы не испытываете никаких затруднений, когда беседуете с нами, — говорила Беренис, внимательно глядя на меня. — Вот, например, со мной…
— Какой продолжительный тет-а-тет! Вы позволите вас прервать?
На этот раз голос у Николь был высокий, в жестах некоторая растерянность. Она смотрела на Беренис так, словно с трудом узнавала ее. Глядя на Николь с очень близкого расстояния, теперь я видел у нее на лице следы прожитых лет. Они были еле-еле заметны, и тем не менее я различал под тем, что друзья, должно быть, называли «невероятной молодостью Николь Лапейра», ее будущую внешность, уже прочитывающуюся в этот вечер из-за усталости или из-за какого-то ощущения тревоги. Меня даже удивила моя зоркость. Мне никогда не удавалось ни заметить, как происходит старение, ни уловить сходство — это все таланты фамильные. Николь перехватила мой взгляд и поняла его. Она провела рукой по лбу и по глазам, как гипнотизер, когда он говорит: «Спите, я хочу, чтобы вы спали». Она прошептала в мой адрес, не разжимая зубов: «Ну нет, негодник, это слишком просто…» Однако ее раздражение было наигранным. И все же я боялся, как бы она не сделала какого-нибудь жеста, не произнесла какого-нибудь слова, о которых ей пришлось бы потом пожалеть. «Где я могу помыть руки?» — спросил я.
До коридора меня довела Беренис.
— Налево, и там голубая дверь…
Я, должно быть, не совсем правильно сориентировался, потому что, толкнув дверь, оказался в неком подобии буфетной или бельевой комнаты со стенами, увешанными шкафами. Белый шар на потолке ярко освещал стол и сидящую за этим столом очень старую, почти совсем облысевшую женщину с обтягивающей кости кожей, сгорбленную, перегнутую пополам наподобие прежних носильщиц хвороста. Перед ней стояли тарелка с супом и пустой стакан. Похоже, что она съехала вниз, несмотря на зажимавшие ее в плетеном кресле подушки. Она уткнулась носом в край своей тарелки и, уцепившись обеими руками за стол, пыталась вернуться в нормальное положение. Нижняя губа ее отвисла и дрожала.
Я обошел вокруг стола, чтобы она меня увидела. Ее глаза тонули в бледной водице глубочайшей старости. Они смотрели на меня, ничего не выражая. «Чье это? — спросил я себя, — прародительница Эннер или Лапейра? И что она здесь делает в такой поздний час?»
На меня накатила жестокая веселость, которая иногда овладевает мною в момент обнаружения секретов: грязных комнат, позорящих семейство кузенов. Попадая в какой-нибудь дом, я всегда открываю там двери. А впрочем, не надо так уж себя оговаривать, лучше слегка посочувствуем. У всех стариков такие голубоватые блеклые глаза или же передо мной находилась бабушка, а то и прабабушка, от которой Беренис унаследовала свой взгляд? У генов свои капризы. Я зашел сзади плетеного кресла. «Я сейчас помогу вам, мадам», — сказал я. Потом повторил то же самое громче, почти прокричал. Меня должны были услышать даже в гостиной и вздрогнуть там от моего крика. Не без отвращения схватил я согбенное тело под мышки и попытался придать ему вертикальное положение. Оно было одновременно и легкое, и жесткое, сопротивляющееся. Его вдруг начинало перевешивать вперед, словно в нем не было вообще никаких суставов. Дрожащий голос пытался произносить какие-то непонятные слова. Наконец мне удалось добиться более или менее приличного результата. Я налил воды в стакан и протянул его старой даме, но ее взгляд был прикован к моему лицу, и она не увидела моего жеста.
Я вышел из комнаты с предосторожностями сконфуженного любовника, предварительно удостоверившись, что коридор пуст, и отказавшись от намерения помыть руки.
В салоне Сильвен Лапейра возвышался над смиренными слушателями. Он увидел меня, как забравшийся на мачту сигнальщик, который первым обнаруживает землю. «Не правда ли, господин Н., - бросил он мне. — Мы говорили о путешествиях…»
— Я не очень-то их люблю, — ответил я предусмотрительно.
— А, так я и думал! Что за удовольствие ходить в туалет в Молеоне шашлыками, съеденными на Патмосе и переваренными высоко в небе? Я никогда не пойму моих современников.
Господин Гроссер смотрел на врага шашлыков и туризма с той умильной снисходительностью, с какой смотрят на щенков крупных пород: на немецких догов, на неаполитанских сторожевых. Не был ли случайно Лапейра одним из его сотрудников? Я, кажется, его понял. Эта хлещущая через край жизненная сила, вероятно, была профессиональным козырем. «Наш корифей» — так сказала мне председательница. Что же касается Молеона, — когда название этого маленького городка оказалось связанным с образом нечасто упоминаемого в беседах физиологического акта, — выбранного в качестве символа суетности любой погони за экзотикой, то он подтвердил, что интуиция, скорее всего, меня не обманывала и что фанфаронство действительно досталось Лапейра в наследство от каких-нибудь его гасконских предков.
Незадолго до этого я вернулся из короткой поездки — беседы и культурные дамы — в одно из мест земного шара, где промышленники если и бывают, то очень редко. Я вывез оттуда два или три хорошо обкатанных анекдота и рассказал их, не затрачивая практически никаких усилий и одновременно наблюдая за тем, что происходит вокруг. И тут мною овладело беспокойство. Стола нигде не было видно, ни в натуре, ни в проекте; а вот когда сообщат, что «кушать подано», не отправят ли малышку Беренис спать по причине ее юного возраста? Я считал гостей, сбивался, начинал снова: нас было восемь человек; четыре платья и четыре пиджака; значит, Беренис останется с нами. Эта уверенность очень меня порадовала. Девушка оживилась, помогала приглашенному на вечер официанту (которого, похоже, все здесь знали и которого в малом обществе Гроссер, очевидно, от ужина к ужину передавали из одного семейства в другое) разносить напитки, и я мог спокойно за ней наблюдать. На нее было приятно смотреть. Когда она двигалась, постоянно обнаруживая свойственную этому возрасту порывистость, то слишком свободная одежда прилипала к ней, как черная юбка к Николь, подчеркивая изящество ее фигуры. Она обещала стать красивой, уже была таковой; ее вкрадчивая красота контрастировала с еще по-детски капризным выражением лица. Теперь я лучше понял намек на знаменитую фразу Арагона: Беренис прочла ее сначала в книге, а потом в зеркалах. Ее можно было поначалу принять за «почти некрасивую», но очень скоро все изменится.
Если бы Люка привел в мой дом столь же ценную добычу, как бы я ее любил! Как бы я любил их обоих! Наши сыновья должны охотиться на слишком обширных или слишком далеких для наших сердец территориях. Они должны покорять газелей, которых в наши времена мы бы ни за что не одолели. Слишком стремительны. Неужели ревнуем? Тщеславие людей моего возраста надо искать в другом. Ничто не доставило бы мне такой радости, как победы и счастье Люка.
Мы сели за стол.
Сильвен Лапейра старался вовсю. Свою роль хозяина дома он воспринимал совершенно всерьез. В беседе некоторое время еще слышались отголоски рассказов о путешествиях, но потом он вдруг положил им конец, причем весьма оригинальным способом. «А к тому же, — сказал он, прерывая декана Эрбста и по-прежнему энергично выставляя вперед свой профиль, — в путешествии мне случается иногда обнаруживать, что у меня есть душа. Мне это не нравится. Знаете, всякие там ощущения… сумерки… гостиничный номер… бар…»
Это было настолько неожиданно, что наступила тишина. Когда болтовня возобновилась, я услышал голос жены советника по культуре (она сидела справа от меня, а слева находилась Николь), обращавшейся явно ко мне, хотя и не поворачивая головы: «Но с другой стороны…» Она произнесла это манерно, так, чтобы можно было сразу понять, что говорит настоящая элегантная дама. Я встретился взглядом с Беренис, сидевшей напротив меня, между Рольфом Гроссером и деканом; ее взгляд означал: «Не такой уж он плохой, мой отец. Когда же вы наконец с этим согласитесь?» Но с чего она взяла, что я не одобряю его? Его лай уже начал мне нравиться, а его внезапно обнаружившаяся меланхолия — и того больше. Именно этот момент и выбрала Николь; она повернулась ко мне и спокойно сказала: «Я была уверена, что Сильвен тебе понравится».
Если уж быть до конца искренним — и чтобы подойти к сердцевине моего повествования не сразу, а постепенно, — то я должен признаться, что в тот момент я чувствовал себя прекрасно. То и дело перекрещивающиеся за круглым столом взгляды становились догадками, воспоминаниями, гипотезами, дававшими пищу моему возбуждению, из которого я мог, когда хотел, черпать либо терпение, либо отвагу. Я даже не слишком тяготился присутствием дувшейся на меня соседки справа: она не сумела простить мне того, что я никак не отреагировал на ее ворчание в адрес Лапейра. Она пощипывала лежащее в тарелке суфле и обдумывала свой выпад. Однако, к моему удивлению, первым напал профессор Эрбст.
— А вы, господин Н., - спросил декан, — не испытываете угрызений совести оттого, что так мало говорили о литературе? Мне кажется, вы не слишком активно защищались и позволили этим дамам замкнуть вас в рамки душещипательной хроники или нравственного наставничества и увести от проблем творчества независимо от того, как его понимать, в благородном или в житейском смысле.
— Ну, извините, — возразила председательница, — господин Н. признался нам, что он работает на заре, пользуется шариковой ручкой и пишет на толстой, мягкой бумаге. Чем вам не секреты созидания?
Сильвен Лапейра, Бог ему судья, посмотрел на меня смеясь. Он уже раскрывал рот, чтобы отпустить шутку, но тут моя соседка вдруг по-змеиному напружинилась и наконец заговорила:
— Душещипательная хроника, тайны ремесла, родительские страдания — если честно, то нам на все это, в общем-то, наплевать. Мы, дорогой господин Н., ждали от вас вовсе не этого. Хотя мне кажется, что наши друзья несправедливы. Или невнимательны. Вы ведь в своих признаниях продемонстрировали немалую смелость. Смелость или, может быть, любовь к парадоксам? Вам лучше знать. И вот поэтому я прямо сгораю от нетерпения задать вам вопрос гораздо более нескромный, чем те, которые вам задавали другие. Позволите? Да? Вот он. Что это за комедию вы разыгрывали сегодня на протяжении целого вечера? Вы сидели там за своим столом, вальяжно, как кот, наслаждающийся властью — пусть даже такой эфемерной! — обретенной благодаря кафедре, благодаря высказанным в ваш адрес любезностям, благодаря ореолу престижности, окружающему писателей в нашем погрязшем в материальных заботах обществе, и временами казалось, что вам очень весело, а временами, наоборот, что вам очень скучно. Но только вот где она, червоточинка? Где подвох? Чувствую, что вот он, рядом, а ткнуть пальцем не могу. И если уж вы так гордитесь тем, что готовы «говорить все», то непременно почтете своим долгом ответить на мой вопрос.
Пока она говорила, мне наконец удалось прочесть имя моей соседки на маленькой карточке, которую она вытащила из-под своего стакана с водой: что-то наподобие госпожи Дю Гуасик. Теперь она замолчала и замерла в ожидании. Ее надключичные впадины в тени подбородка казались бездонными. Она добавила тонким, как у девочки, голоском: «Господи, как хорошо, что здесь нет моего мужа! Мои промахи в конце концов погубят всю его карьеру…»
Я следил за лицом Беренис, пытаясь угадать, что она думает по поводу этой обвинительной речи госпожи Дю Гуасик, и, должен признаться, не прочитал на нем ничего, кроме любопытства. С этими юными армиями союзы заключать нелегко. Все сидевшие за столом повернулись ко мне в предвкушении неожиданного продолжения спектакля. Я должен был ответить во что бы то ни стало, несмотря на внезапно напавшую на меня усталость. Или мало я перед ними выкладывался? Собрав свои тающие силы и не очень стремясь скрыть свое дурное настроение, я ответил:
— Случается иногда чувствовать себя виноватым из-за того, что не удалось убедить, и тогда пытаешься отыскивать другие слова, другие аргументы. Сейчас же признаюсь вам сразу: я не думаю, что сумею выразить свои мысли более красноречиво, чем это у меня получилось во время встречи. Я говорил более откровенно, чем принято говорить во время публичных выступлений. Мне было бы проще простого пропеть вам, изображая импровизацию, какую-нибудь миленькую вещицу в духе: «Монтень, Руссо, Лерис». Или еще: «Герцог и виконт, или Мемуарное наваждение». И вы были бы, что называется, в восторге. Уж поверьте мне, окажите честь, такой майонез я взбивать умею. Вместо этого я подверг себя гораздо большему риску. Похоже, напрасно. Что ж, очень жаль. Вы не почувствовали, что я был искренен, мало того, глубоко погружен в эту искренность, и это обстоятельство минус моя неловкость (однако при подведении итогов вам следовало бы принять к сведению и ее тоже) говорит лишь о вашем невнимании, вашем недоверии к людям моего типа, говорит о сухости либо суетности вашего сердца, то есть о тех качествах, которые лишают вас права подозревать меня в том, что я разыгрывал комедию.
Душ показался холодным. Николь, сидевшая рядом со мной, не поднимала глаз от тарелки. Обслуживание стола прекратилось. Движением подбородка Лапейра воскресил официанта, и балет возобновился. Он обратился ко мне:
— Господин Н., я не хотел бы умереть дураком. Поскольку меня не было на встрече, о чем я уже начинаю жалеть, можете ли вы мне сказать в двух словах, что так сильно растревожило наших друзей?
Госпожа Гроссер предусмотрительно поспешила взять слово.
— В общем, среди самых разных вопросов, связанных с конкретными деталями, которые, с позволения нашего гостя, я перечислять не буду, он говорил об условиях творчества. Можно мысленно дать подзаголовки для различных частей его выступления. Получилось бы так: «Литература и деньги», «Литература и брак», «Литература и отцовство», «Литература и одиночество», и так далее.
— Боже, сколько литературы! — простонал Лапейра.
— Я что-нибудь исказила, дорогой друг? — забеспокоилась председательница.
Я решил ответить так, как будто госпожа Гроссер ничего не говорила. Как порой бывает в такого рода встречах, мне стоило все больших усилий переносить человека, старавшегося быть со мной неизменно любезным.
— Что я там делал? — сказал я. — Я отвечал на вопросы, иногда банальные, иногда фривольные, отвечал со всей серьезностью, но избегал нарочитости. Вот почему госпожа Дю Гуасик обвиняет меня в комедиантстве. В этом она истинная француженка: все серьезное ей кажется либо напыщенным, либо смешным. А самым вызывающим оказалось то, что я не стал рисоваться: это мое легкомыслие расценили как признак дурного тона. Вот вы (я обвел взглядом стол), люди, работающие в университете, в банке, в промышленности, находящиеся на государственной службе, вы считаете нас, писателей, фиглярами, но терпеть не можете, когда это говорим мы сами. Я ведь уже говорил: то, что мы делаем, не является почтенным занятием. Мы перемешиваем грязные соусы. Ну, а вам та интеллектуальная и нравственная гигиена, которой мы окружаем свою стряпню, кажется неоправданной. Однако нужно отдать вам должное, это не мешает вам оказывать нам такие же почести, как какому-нибудь министру… В ваших головах это создает очень запутанную картину, а в моей все отражается достаточно четко. Чем я тут могу помочь? — Как всегда в тех случаях, когда ты можешь управлять своим гневом, мой гнев был наполовину притворным. Но я так устроен, что быстро начинаю верить в свою игру. — Я говорил и сейчас говорю честно и взвешенно, а госпожа Дю Гуасик (которая, надеюсь, простит мне, что я выбрал ее в качестве представительницы всех моих сегодняшних противников…) видит во мне обманщика и проходимца… Давайте сменим тему разговора!
Сильвен Лапейра сделал примирительный жест рукой. «Только не сразу, если можно!» Он удостоверился, что копченая форель и соус с хреном подаются без сбоев, что бокалы наполнены, и продолжал:
— Вы вот употребляете выражения вроде «взбивать майонез», «перемешивать соусы», «моя стряпня» и тому подобное. Можно было бы подумать, что вы фанатик гастрономических сравнений, но в действительности (хотя такой выбор слов, по-видимому, все-таки заслуживает объяснения!), в действительности вы скорее сторонник исповедальной литературы. Я не слишком ошибаюсь? Нет? Мне не совсем ясно, как вы переключились на проблемы семьи и отцовства, но мне кажется, я догадываюсь. И вот что мне хотелось бы знать: не думаете ли вы, что ваша концепция литературы вместе со всем тем, что есть в ней бесстыдного и провокационного, способна вывести подростков из равновесия и даже настроить их против вас? Стоит ли игра свеч и не в этом ли корень всех ваших огорчений?
— «Огорчения» — это довольно слабо сказано, — ответил я, — но ваш анализ убедителен. Я не люблю в литературе ни фейерверков, ни знаменитостей, может быть, потому, что я не настолько люблю себя, чтобы стараться оказаться в их слишком шикарных, слишком блестящих шкурах. Я содержу «лавочку-моей-задницы». Древнейшая профессия… Как вам нравится выражение? Может быть, чересчур колоритное, но это не столь важно. Подумайте, прежде чем улыбаться! Оно, господин Лапейра, включает в себя почти все «варианты фигур», как сказали бы ваши коллеги. И я, конечно же, допускаю, что ребенку весьма неприятно давать ответ на вечный вопрос: «Мой отец? Моя мать? Он (или она) занимается проституцией». У ангелочков от этих вопросов полное смятение. Правильно я понял вашу мысль?
Тут в разговор вступила Беренис. Я о ней даже немного забыл. Скрытность, ирония, осторожность, превосходство — ни одно из этих милых сердцу сложных взрослых чувств не искажало ее черты; это был совершенно новый человек; новым был и голос, в котором дрожала какая-то умоляющая нотка, может быть, от застенчивости.
— А не усложняете ли вы все? Я хотела бы высказать вам мнение ангелочков. Когда вы говорили там, в университете, я понимала, о чем идет речь. А теперь, когда вы начинаете объяснять, я уже ничего не понимаю. Нужно просто читать книги, любить их или ненавидеть и молчать. Ваши истории про творчество, про отцовство слишком абстрактные. Семья, дети — это означает, что нужно зарабатывать деньги, то есть получается меньше свободы, так, что ли? И только-то всего? Любить очень долго мужчину или женщину — это, наверное, труднее, чем вести веселую жизнь. А способствует ли веселая жизнь художественному творчеству? (Она говорила это, надувая щеки, так, как если бы играла сейчас субретку в какой-нибудь любительской труппе.) Неужели у художника без обязанностей, без уз, ни за что не отвечающего, не имеющего ни дела, ни детей, больше таланта, чем у других? Не могу поверить. Искатель приключений, маргинал — такое у вас представление о творце? А мне кажется, что, наоборот, чем меньше художник отличается от обыкновенного человека, тем ярче должно быть его творчество. Ведь… ведь цветы должны расти для всех одинаково, разве нет?
Девушка вдруг покраснела. Она покраснела, как краснеют блондины, как краснел в юности я сам, до той степени смущения, когда уже не остается ничего другого, как расплакаться. Или рассмеяться. Беренис, будучи человеком цивилизованным, предпочла рассмеяться. Рольф Гроссер, ее сосед, взял ее за плечи и прижал к себе. Декан сделал вид, что собирается аплодировать. Николь вся светилась. И я внезапно понял, что привлекло мое внимание и взволновало меня настолько, что я даже перестал слушать: в течение какой-нибудь минуты Беренис была похожа на Люка. Не просто на всех живущих на свете юных людей, которые начинают что-то увлеченно объяснять, — это бросалось в глаза — а конкретно на Люка. Ее воодушевление, ее запальчивость, с трудом сдерживаемые жесты, неприкрытое возмущение и, наконец, эта широкая волна краски на щеках, столь часто наблюдаемая мною за последние два года у Люка. Однако то, что у него принимало крайние формы и казалось несдержанностью школяра, у Беренис, по вполне понятным причинам, обретало терпкое очарование, некое не оставившее никого из нас равнодушным обаяние, которое непонятно почему вдруг заставило меня ощутить нечто вроде гордости.
Николь воспользовалась моментом, когда после слов Беренис началась общая беседа, и спросила вполголоса: «Она тебе нравится?..»
Справа от меня госпожа Дю Гуасик дрожала, готовая не то заржать, не то зашипеть. Можно было догадаться, что за ералаш творился у нее в голове. Она уясняла себе одни вещи, делала подсчеты относительно других, что-то обнаруживала, что-то придумывала. Сильвен Лапейра смотрел на меня. Оттуда, где он сидел, он мог охватить одним взглядом нас троих: Николь, Беренис и меня. Что он и сделал. Он настолько углубился в это занятие, что на мгновение перестал видеть и слышать своих соседей. Потом расслабился. Этот человек ничего не знал. Николь ему ничего не сказала. После меня она оставалась все такой же невозмутимой, спокойной молчуньей, для которой утаивать и скрывать секреты было столь же естественно, как для ужа скользить в высокой траве. Она выдала один секрет, наш, еще в те времена, но я должен сказать, сделала она это весьма решительно и не без высокомерия. Вся жизнь моя повисла тогда на волоске. Родители Эннеры и Сабина узнали о нашем приключении почти одновременно. (Сейчас, выбирая между несколькими словами, я заикался: о нашей страсти, о приключении, о связи, о любви? Или совсем просто: о наших встречах. Действительно, ведь я даже не могу припомнить, чтобы мы прожили с Николь — несмотря на то что это длилось несколько месяцев, почти год — хоть сколько-нибудь времени вместе; только короткие встречи, отлучки, украденные часы, моменты неистового чуда; я бы мог довольствоваться этим долго, но разве какая-нибудь молодая женщина согласится на это? Верная своей натуре, Николь не взбунтовалась. Она замолчала и выскользнула из моей жизни: все то же змеиное движение в траве. Исчезла почти бесследно, осталась лишь легкая дрожь. Я потом еще долго пребывал в каком-то оцепенении. Так что, за неимением лучшего, назовем это: наше приключение…)
Я ответил Беренис с надлежащей скромностью. С того самого мгновения, когда меня поразило ее сходство с Люка, я решил ей не прекословить. Отцы умеют сдавать оружие. К горячности подростков нужно постоянно приспосабливаться. Я согласился, что был чересчур категоричен, вероятно, из-за слишком сильного желания убедить. Нашелся среди присутствующих человек — естественно, таковым оказалась госпожа Дю Гуасик, — не преминувший съязвить, что «отцы семейств являются искателями приключений современного мира». Она произнесла эти слова с гримасой, которая у людей этого типа заменяет кавычки в цитатах. Беседа вернулась в русло обычного городского ужина и потекла, следуя его извивам. Гроза задела нас, но не разразилась. Кстати, не пора ли было сменить тему разговора? Мне и так уже уделили достаточно внимания. Все остальные вопросы ко мне касались только парижской жизни, а потом кто-то стал превозносить заслуги некоего профессора Флока, которому предстояло почтить своим присутствием Общество друзей французской словесности в следующем месяце, дабы рассказать там про «Спуск в бездну и расколотое повествование». Так что до десерта у меня была возможность поразмышлять.
От недавнего румянца Беренис сохранилось только немного розового цвета на скулах. Она испытывала радость и удовлетворение оттого, что высказала свои мысли, что, не дрогнув, сыграла свою партию в этом состязании взрослых, и теперь дала волю своему естеству. С уст ее слетали модные среди молодежи словечки: язык французского лицея, где училась Беренис, ничем не отличался от языка парижских лицеев. Декан упивался этими словами. Присущее девочкам очарование обеспечивает им безнаказанность. Те же самые вялые фразы и выспренние слова, которые, услышь я их от Люка, привели бы меня в отчаяние, сейчас, в капризных устах Беренис, мне даже нравились. Люка в подобной ситуации (в которую он два-три раза попадал по моей воле, в чем я тут же раскаивался) тоже непременно стал бы демонстрировать свою детскую тарабарщину. Только снисходительность его собеседников могла бы в таком случае вызволить его из смущения, из которого выйти ему было бы тем труднее, что он чувствовал бы на себе мой взгляд, зная, до какой степени я все это ненавижу. Мне невыносима сама мысль о том, что он находится в состоянии приниженности. Только любители мальчиков могут находить удовольствие в этом распаляющем их вожделение языковом паясничании и в сопровождающих его улыбках. Ситуация совершенно классическая. Ну, а раз так, то не желанием ли, в его наиболее цивилизованной и легкой форме, объяснялось то благосклонное внимание, с которым господин Гроссер, декан и я сам следили за движением губ Беренис? Не были ли мы всего лишь стариками, растроганно взирающими на отроковицу? Можно ли подсчитать долю животных инстинктов в испытываемых нами чувствах приязни или неприязни к подросткам?
Николь непринужденно, в ритме застольной беседы, привычно равномерно распределяя свое внимание между соседом слева и соседом справа, обратилась ко мне, но не поворачиваясь, а поставив локти на стол и держа руки около рта, так чтобы голос звучал тише и не достигал нескромных ушей.
— Ну что, сильно удивился? — спросила она меня.
— Тому, что вижу тебя здесь в качестве госпожи Лапейра?
— А чему же еще? Что ты имеешь в виду? — На этот раз она казалась возмущенной.
— Могла бы меня предупредить.
— После семнадцати-то лет молчания?
— Твоего молчания.
— Ты в этом уверен?
Госпожа Дю Гуасик теребила гагатовое ожерелье, уцепившееся за ее худобу, как плющ за высохшее дерево. «Дорого бы я дала, чтобы разобрать слова ваших тихих песенок», — выдохнула она мне в нос вместе с дымом. Николь услышала ее и, наклонившись передо мной, любезно ответила:
— Господин Н. принадлежит к числу очень давних моих поклонников. Представьте себе, Соланж, сколько потерянного времени нам предстоит сейчас наверстать.
Госпожа Дю Гуасик взглянула оторопело и сделала такой вид, как если бы она что-то с трудом глотала: «Ну и дела! Эти Лапейра никогда не перестанут меня удивлять…»
— Мы вас удивляем, Соланж? — спросил Сильвен Лапейра. — Объясните-ка мне, почему?
Николь успокоилась и продолжила:
— Ты, наверное, забыл, кем ты был в те времена. Дуновением ветерка, призраком — призраком отца семейства… А кстати, когда ты развелся?
— В семьдесят шестом или семьдесят седьмом, точно уже не помню.
— Значит, Сабине почти удалось тебя удержать. Она была права.
— Права?
За тоном Николь мне открылось нечто такое, о чем я не догадывался: сговоры за моей спиной или, может быть, даже какой-нибудь торг между ней и Сабиной. Что касается меня, то мне вспоминалась только палата в клинике и орущий благим матом младенец, Люка. «У Сабины были драматические роды», — говорили тогда. После родов, на протяжении нескольких месяцев, отмеченных рецидивами и последствиями той самой драмы, моя жена, как венец, несла свой болезненный, измученный вид. А я в это же время потихоньку — сейчас мне легче оценить мое былое слабодушие — урывал у нашей супружеской комедии часы, а иногда и дни, которыми я, как милостыней, одаривал Николь. Превратить в нищенку ту торжествующую Николь, какой она мне запомнилась, — вот он, парадокс любви. «Ну что твоя женушка, все загибается?» — спрашивала меня Николь, и у рта ее появлялась горькая складка. Эннеры не давали ей покоя, но она мне об этом не говорила. Да и можно ли было от них требовать, чтобы они благосклонно смотрели на того сорокалетнего женатого мужчину, одновременно и неуловимого и невероятно зримого, каковым я был тогда. «Милая, ты должна порвать с ним», — то и дело повторял, как в каком-нибудь старом романе, господин Эннер. А наша история все тянулась и тянулась, в чередовании удовольствий и раскаяний, скрытности и бравады, со снегами над Перигором, любовными утехами в лесных гостиницах, несколькими ночами, проведенными в Провансе, еще несколькими в Италии и многими-многими барами на улицах Парижа, под дождем, в шесть часов.
— Ты уже тогда говорил, что терпеть не можешь детей. Неужели забыл?
— Забыл что?
— Как ты цеплялся за это свое отцовство, которое называл навязчивым. Меня от него мороз по коже подирал.
— Но Люка…
— Да?
— Он начал существовать еще до нашей встречи, он уже был… Сроки…
— Сроки, милый мой?
Николь если когда-либо и обнаруживала свое раздражение, то только с помощью вот этого тона — слишком ласкового, полного слишком отчетливых модуляций нежности, — который прозвучал сейчас в ее голосе настолько естественно, что я сразу понял, что приберегала она его не только для меня и что господин Лапейра наверняка тоже испытал на себе его опасное воздействие. Когда я увидел ее вновь вооруженной таким образом, причем вооруженной против меня, она стала мне ближе. Однако я не отказался от намерения твердо поставить все точки над i.
— Вспомни, когда ты встретила Лапейра. Вспомни наш разговор в Пьерфоне: ты мне рассказывала тогда, что только что встретила этого человека. Я не знал даже его имени…
— Совершенно точно, милый мой, я тогда только что встретила Сильвена.
Этот диалог был бы совершенно непонятен, если забыть, что он звучал вполголоса, перекрываемый шумом общей беседы, что наши губы едва шевелились, а наши улыбки должны, были сбивать с толку окружающих. Господин Гроссер, похоже, смирился со своеобразной манерой хозяйки дома развлекаться; легкое французское сумасбродство, не больше; что касается Сильвена Лапейра, то он смотрел на меня со все возраставшим удивлением. Даже малышка Беренис насторожилась и стала приглядываться к своей матери. Госпоже Дю Гуасик, очевидно, удалось уловить кое-какие обрывки наших реплик, так как, несколько удовлетворив свое любопытство, она всем своим видом показывала, насколько ей все это безразлично.
Председательница была в замешательстве. Уж у нее-то в доме, вероятно, думала она, такого бы никогда не случилось. Она бы никогда не допустила такой анархии, не позволила бы, чтобы ужин Общества друзей французской словесности вылился в перепалку, в конфиденциальные разговоры, в двусмысленные состязания в красноречии, в незримо витающие вокруг стола намеки. Мощным усилием она вернула беседу к общим темам. Мне даже показалось, что она бросила на Николь несколько сердитых взглядов, вероятно надеясь заставить ее прервать наше уединение. Ей это удалось, и она вздохнула с облегчением. Официант щедрой рукой разливал вино, и беседа пошла веселее. Голос Сильвена Лапейра, естественно, звучал громче всех. Он упомянул о каком-то «шваховом избирателе», употребил слово «сквернавец», потом слово «оконечность», сказал: «Я старая калоша», стал рассказывать о каком-то неизвестном мне человеке, называя его то «этим гражданином», то «фруктом», то «субъектом», то «субчиком» и даже «гавриком». Я надеялся, что история эта продолжится и я получу возможность получше изучить словарь нашего хозяина. Николь теперь молчала. Даже сжала губы. Вероятно, она опасалась, как бы не сказать чего-нибудь лишнего. Мне показалось, что она торопится закончить ужин. Во всяком случае, так я понял ее взгляды, которыми она обменялась с официантом и с помогавшей ему прислугой, державшей в этот момент в руках полную малиновой подливки соусницу.
Госпожа Дю Гуасик, очевидно расстроенная тем, что ей пришлось провести «малый» вечер, — она мне призналась, что все вечера, которые ей приходится отбывать, сопровождая либо заменяя мужа, она делит на малые, добротные и большие, — пыталась, как могла, спасти этот, очевидно, совсем крошечный вечер, отыгрываясь на мне. «Я загнала его в траншею», — должно быть, хвалилась она потом.
— Я не понимаю, вы нас вообще за пустое место, что ли, принимаете? Вы человек, конечно, выдающийся, это одно из ваших общепризнанных, можно сказать, официальных достоинств, тут я не спорю. Да и даже ваша сегодняшняя импровизация, которая не всем понравилась, это получилось рискованно, но удачно. Виртуоз! Но только где во всем этом человек? Я начала за вами наблюдать сразу, как только вы здесь появились: вы похожи одновременно и на исповедника, и на Шерлока Холмса; но только вот что вы ищете? Я не хочу быть несправедливой, и ваша частная жизнь принадлежит только вам… А, что? Да, да! Но тем не менее я же не слепая. У вас вид человека, наступившего по рассеянности на… Что ты, милая Николь, подаешь мне знаки? Так не принято говорить? Ну ладно, ладно. Так вот: у вас вид человека, который нечаянно проткнул какой-то свой нарыв и прячется, зажав в кулаке платок… Никаких историй, а? Никакого скандала. Даже вот сейчас, в этот момент, посмотрите на себя: все ваши мысли, вместе с вашей безукоризненной улыбкой и вашей осторожностью, направлены только на то, чтобы вывернуться и уйти от ответа на мой вопрос… Ах, как бы я хотела поговорить с вами с глазу на глаз! Так нет же, столкновений вы избегаете. В университете-то сейчас в вас стреляли одними холостыми патронами…
Николь наконец встала, избавив меня от грозившей мне необходимости столкнуться с женой советника по культуре, которая, я в этом не сомневался, готова была расстрелять меня самыми что ни на есть боевыми патронами.
Садился я за стол в хорошем настроении, с чувством легкого любопытства и удовольствия оттого, что, не имея никакого злого умысла, я неожиданно для себя потревожил муравейник. А восемьдесят минут спустя вставал из-за него с тяжелой головой и столь же тяжелым желудком, опьяненный словами, подстегиваемый срочной потребностью подтвердить (либо снять?) засевшее во мне пока еще неотчетливое подозрение, даже не столько подозрение, сколько смутное замешательство, ощущение, что тебе нужно отодвинуть штору, перечитать забытое письмо, собрать воедино нити какой-то интриги, отделить, как верно учуяла моя соседка, истинное от ложного во время исповеди, на которую меня подбивали, заранее, однако, решив в ней отказать.
В тот момент, когда наклоняешься вперед, отталкивая одновременно стул, Беренис — про которую я опять забыл — послала мне сигнал тревоги. Во всяком случае, именно так истолковал я ее неподвижный, настойчивый взгляд. Позднее, став женщиной и вольной охотницей, с помощью такого вот взгляда будет она сообщать мужчинам о своем к ним интересе. А еще позднее этим же взглядом, разве что немного более жестким и немного более томным, будет она предупреждать своего спутника, что его царствование подходит к концу. Сейчас же речь шла всего лишь о вопросе. Беренис вставала из-за стола тоже — я мог бы в том поклясться — в смятенных чувствах. Я улыбнулся ей. Она тотчас вся засветилась, и я подумал, что ошибся. Но нет, слишком много смирения было в том свете.
Я подошел к девушке с вытянутыми вперед руками и, ко всеобщему удивлению, поцеловал ее в обе щеки. «Ты говорила потрясающе, — сказал я ей. — Ты позволишь так к тебе обращаться? Не могу же я быть с твоей матерью на «ты», а с тобой на «вы»!»
Я почувствовал в своих руках маленький, ретивый, трепещущий комочек противоречивых импульсов и лишнюю секунду продержал его у груди, пока в него не вернулись детская доверчивость и покой.
— А у вас, я смотрю, полное взаимопонимание, — заметил Лапейра, приближаясь к нам.
Может быть, улыбка у него получилась кривой, но как бы я мог это заметить: ведь смотрел я не на него. Когда я решился бросить взгляд в его сторону, он уже расставлял на подносе ликеры и прочие крепкие напитки. Беренис пошла помочь ему обслуживать гостей. Она задержалась на какое-то мгновение перед большой китайской лампой. На фоне белого абажура четко обозначился ее профиль. Ее профиль! Она отвернулась, подошла к декану, вернулась за другим стаканом, и контур ее лица вторично отпечатался с точностью тех силуэтов, что были в такой моде во Франции накануне революции…
…лоб, нос: мне показалось, — вместе с его длинными, как у девочки, волосами, — что я вижу Люка. Ах, я же ведь так хорошо знаю это слегка пухловатое лицо — его лицо, мое собственное! — приводившее меня в отчаяние в пятнадцать лет. Я называю это профилем, составленным из запятых: сплошные кривые, закругленные линии, вид уходящей за горизонт луны…
…потом Беренис подошла ко мне со стаканом, который, очевидно, попросила ее принести мне знающая мои вкусы Николь. И иллюзия рассеялась. Насмешливые глаза принадлежали только ей, несмотря на то что они постоянно ловили взгляд моих глаз, как бы пытаясь поведать мне что-то очень срочное.
Я прерываю на мгновение свой рассказ.
7. ПРОШЛОЕ
Ты начала с того, госпожа Лапейра, что явилась в облике женщины цвета осени, строгой, замкнутой, стоявшей в самом темном углу комнаты. «Интенсивная», — подумалось мне, когда я взглянул во второй раз. И уже по тому, как я мысленно тебя назвал, я понял, насколько меня к тебе влечет.
Такое было впечатление, что окна с открытыми ставнями и раздвинутыми шторами в комнате покойника внушают ужас. Три или четыре тени склонились в углу, вокруг тебя, и стояли там, не зная, на чем задержать взгляд. Ты была одной из них, самой юной и самой непроницаемой. «Кто это?»
Ксавьер Лашом, беззащитная пташка, под которой подломилась ветка, стояла рядом с Гектором, положившим ей руку на плечо, и, по своему обыкновению, без умолку болтала. На ее лице не было ни тени грусти. Только удивление, неиссякаемое любопытство и забота о том, чтобы, несмотря на обстоятельства, все выглядело прилично. Опытной рукой она взбила на груди покойника широкий бант лавальер. На протяжении сорока лет сооружала она этот знаменитый узел на галстуке Лашома: мягкий бант, концы в виде жабо. «Вчера мне так трудно было его завязывать. Подумать только! Впервые за все это время он не стоял, а лежал. Ты вот, например, сумел бы завязать галстук на трупе, а?..»
Гектор — а уж он-то в искусстве похорон был большим специалистом — решил, что он так и не поймет ни этого покойника, ни особенно эту вдову. На протяжении целой четверти века он был ближайшим и преданнейшим другом элегантных усопших и их благоверных, день и ночь опекал умерших, утешал живых, в нужный момент вручал растерянным вдовцам и вдовам электробритву, адрес красильни, телефон человека из префектуры, который поставит у входа в здание полицейских, но тут он выглядел шокированным: в этом доме буквально все шло вопреки его привычкам. Ксавьер потребовала, чтобы распахнули окна, и отказалась от свечей. «Мой Лашом сам писал комедии, — сказала она. — И он никогда бы не согласился, чтобы комедию разыгрывали еще и у его смертного ложа!»
Наведя справки, — у Гектора, разумеется, — я выяснил, что ты внучатая племянница Лашомов. «Дело в том, что Сильвия, сестра Ксавьер, вышла замуж за одного адвоката по фамилии Эннер. Во время войны он был в Лондоне. Так вот, это их внучка…» Эти родственные узы объясняли твое продолжительное присутствие в комнате и твой английский костюм цвета печали. Однако подчеркивать свое родство ты не старалась. Для этого ты была слишком замкнута. «Настоящий артишок, — объяснила ты мне неделю спустя, — жду, чтобы с меня сорвали листки».
— Мне кажется, я знаю, откуда ты взяла это изящное сравнение.
— Ты знаешь. И я знаю, что ты знаешь. Вот и хорошо, — заключила она.
Мы быстро перешли на «ты».
Как ты была прекрасна тем утром, в полумраке и сладковатых ароматах смерти. Солнце спряталось, придав комнате, где лежал Лашом, несколько более приличный вид. Вошла какая-то полоумная, держа в руках его таксу. Гектор и ты сделали один и тот же жест, чтобы остановить ее; ты при этом улыбнулась. Ксавьер закричала: «Оставьте ее, оставьте ее!» Оказавшись на полу, собака понюхала одуряющий запах цветов, гниющей плоти и «Шипра Риго», которым Ксавьер обильно побрызгала вокруг кровати, словно желая преградить путь аромату жаркого. Потом резкий прыжок, и собака, нежная и безумная, оказалась рядом с покойником; она положила голову на подушку рядом с головой Лашома, отчего бант его галстука вздрогнул.
— Ксавьер, разве можно?! — возмущенно зашептал Гектор. Но тут же замолчал: по щекам его подруги, впервые за эти два дня, текли наконец слезы. Те, от которых, как считается, становится легче. И Ксавьер сразу сделалась похожей на настоящую вдову.
— Он так любил Мао!
Потом ее вздох растворился в воздухе, и она, погладив одним и тем же жестом шишковатую голову собаки и щеку Лашома, перескакивая, по своему обыкновению, с мысли на мысль, заметила:
— Сегодня он выглядит лучше, чем вчера. Вчера он больше походил на покойника. А сегодня кажется отдохнувшим. Он привыкает. Ты не находишь, Николь?
Так я узнал твое имя.
Ты помнишь, как я был вульгарен.
Вовсе не испытывая тяги к какой-либо профанации, я, однако, считал девушек в трауре более доступными по сравнению с другими. И более красивыми. Смерть близкого человека придает лицам молодых женщин такое же очарование, как и шестимесячная беременность. К тебе эти крайности не имели никакого отношения, но твое присутствие в этой комнате, напряжение, связанное с долгим созерцанием разлагающегося Лашома, нервная нагрузка из-за экстравагантных выходок Ксавьер — все это придавало твоим чертам какую-то распалявшую мое воображение хрупкость.
— Бедняжка измучилась, — констатировала Ксавьер. — Ты знаешь мою внучатую племянницу? Вывел бы ты ее отсюда минут на пять.
Несмотря на свое состояние, Ксавьер угадала мой интерес к тебе. Возможно, что, пронеся сквозь долгие годы своей степенной жизни легкую тягу к сводничеству, она вдруг захотела подтолкнуть нас с тобой к флирту. Она недолюбливала Сабину. А ведь могло же случиться и так, что во всеобщем смятении, охватившем нас в то утро перед останками Лашома, от которых Гектор пытался оторвать скалившуюся на него таксу, Ксавьер промолчала бы, а я бы, скорее всего, с тобой не заговорил и больше уже никогда бы тебя не увидел. Обстоятельства были не слишком благоприятные. Радуясь возможности уйти на время и от Ксавьер, и от сладковатого запаха в комнате, я взял тебя за руку — я предполагал, что ты напряжешься, попытаешься высвободиться, но ошибся — и провел в вестибюль через квартиру, где ты ориентировалась лучше, чем я, но где в то утро бродили люди из мира театра, журналисты — целый хоровод полузнаменитых личностей, знакомых мне и не знакомых тебе. Ты смотрела на всех широко открытыми глазами.
На улице я предложил тебе — теперь я уже надеялся, что ты примешь одно за другим все мои предложения, — пойти выпить кофе в пивной на площади Терн. Хотя твоя покладистость и подтверждала мои мысли, я тем не менее не переставал удивляться. Тебе было двадцать лет, мне за сорок, и я ежеминутно опасался, что вот-вот какое-нибудь слово или какая-нибудь пауза подчеркнет неприличность моего поведения. А что думала ты, ты, в те первые минуты, когда я пытал свое счастье в игре, проявляя горячность, — то, что я называю моей вульгарностью, — которой стыдился, но которую был не в силах преодолеть?
«Мои родители вас знают», — сообщила ты. С твоей стороны это было довольно скромной данью приличиям. Если бы ты спросила меня: «А вы знаете моих родителей?» — мне пришлось бы ответить отрицательно. «Ну раз так, — сказал я просто, — то вы, наверное, знаете обо мне все?»
— Они знают главным образом семью вашей жены.
— Именно это я и хотел сказать.
— Я читала две ваши книги.
— Еще лучше. И пришли в ужас?
— Почему же? Нужно непременно отвечать «да», чтобы вы могли собой гордиться?
— Было бы чем: своими книгами, своей жизнью, женой, а теперь еще этим солдафонским ухаживанием.
— Вы, похоже, приписываете мне гораздо больше моральных устоев, чем я имею.
Мне кажется, я запомнил этот первый наш диалог с точностью записывающего устройства. А может быть, это всего лишь иллюзия? И в твоей памяти тоже звучат те же слова? Так же ярко утренним предвесенним светом освещены твои воспоминания, так же овеяны резвым ветерком? Мы с тобой мало играли в игру, которой охотнее всего предаются любовники и которая состоит в том, чтобы вспоминать проделанный когда-то навстречу друг другу путь, первые шаги, колебания, головокружительное падение. На протяжении того испещренного разрывами и примирениями года, что мы провели вместе, — нужно обладать известной долей смелости, чтобы написать здесь слово «вместе», настолько мало оно соответствовало действительности, — на протяжении того года пламенных чувств, мук, наслаждений, вырываемых нами у жестокой судьбы, которую я, однако, старался не ожесточать еще больше, у нас, в общем-то, и не было свободного времени для того, чтобы восторгаться нашим счастьем. Мы любили друг друга день за днем. Ты так никогда и не узнала, о чем я думал, спускаясь по лестнице улицы Кардине и идя рядом с тобой по тротуару авеню Ваграм. В какое затруднительное положение ты бы меня поставила, если бы об этом спросила. События развивались так стремительно! Едва увидев тебя, я тут же загорелся неодолимым желанием, и ты об этом догадалась. Да, об этом ты сразу догадалась. Была ты такой уж опытной? Вовсе нет. Совсем неискушенной? Тоже нет, хотя то тут, то там обнаруживалась твоя неопытность. Немного позднее, вспоминая свои семнадцать лет, ты мне сказала со злопамятным бесстыдством: «Надо мной работал халтурщик». Вместо того чтобы меня взбесить, такие слова меня зажигали. Ты это быстро поняла.
Эти слова и другие, ты их по-прежнему помнишь? Или только я один вот уже многие годы переливаю из пустого в порожнее эпизоды нашей игры в прятки. В тот вечер в Б., хотя ты и разговаривала со мной тихим голосом, хотя в нем и ожили былые интонации (однако я уверен, что ты в своей жизни продолжала пользоваться ими всегда), все равно ты оставалась недоступной.
Когда умер Лашом и когда я встретил тебя, моему сыну не было еще трех месяцев. Очевидно, женщины из твоей семьи, «знавшие семью моей жены», упоминали, уже смирившись с этим, о страданиях и страхах, испытанных Сабиной при рождении Люка. Она проводила тогда свое время между больницей и санаторием, и это ее отсутствие было мне на руку. Я советовал ей вести себя осторожней — о, фарисей! Таким внимательным мужем я еще не был никогда: ребенок в кувезе, Сабина в руках врачей, а я мог бежать к тебе и не чувствовать за собой никакой вины. С этим отсутствующим, хилым, лишь наполовину живым младенцем нельзя было связывать никаких надежд. В момент его рождения и в последующие недели я был удручен своим безразличием к болезням и переживаниям Сабины. Если раньше я верил, что еще люблю ее, то теперь все стало на свои места.
Об этой, другой стороне своей жизни я старался говорить тебе как можно меньше, но ты хорошо себе ее представляла. Моя бесчувственность, которая могла показаться тебе залогом твоей близкой победы, возможно, внушала тебе ужас. Сам того не зная, я рыл яму, куда мы должны были угодить оба. Мы были одни. Ксавьер, сначала посмеявшись над нашим приключением, притворилась, что она шокирована, а в то же время в глубине души она сознавала свою ответственность. Ей было не к лицу, состарившейся и только что похоронившей Лашома, возвращаться к двусмысленностям и любовным интригам своей молодости. Защищать Сабину, то есть при каждом удобном случае вызывать в твоем присутствии тень моей жены, дабы возбудить в тебе угрызения совести, стало одной из составных частей и одним из доказательств ее ответственности. Она тебя увещевала. А ты, хотя и имела «меньше моральных устоев, чем я тебе приписывал», все же иногда проявляла слабость. Моя циничная бравада побуждала тебя к раскаянию, а я сам начинал раскаиваться именно в те моменты, когда видел, что ты готова стоять до конца. Ни разу за двенадцать месяцев мы с тобой не были трусами или храбрецами одновременно. Если, конечно, под храбростью подразумевать способность попирать Сабину и считать несуществующим чахлого младенца, которому полдюжины врачей изо всех сил старались сохранить жизнь. Я был не в состоянии порвать с тобой, но не знал об этом. Одним словом, я тебя любил.
Здесь я подхожу к своей тайне.
Живых хоронишь без особого труда. Легко расправляешься с огненной, трепещущей страстью. А потом долго-долго хранишь молчание. Например, лет семнадцать. Причем проделываешь это, не будучи ни чудовищем, ни героем, а единственно из-за нашей же тяги к абсолюту, к поражению, к развязке. После одиннадцати месяцев и двадцати дней вызванного тобой умопомешательства я устал. Я испытывал потребность в тишине, в порядке. Меня не искушала уже даже ложь, мой наркотик. Сабина казалась совершенно обессиленной и вроде бы уже смирилась с моей отчужденностью; однако, когда она почувствовала мои колебания, все сразу переменилось. Она сунула мне в руки маленького горлопана, в конце концов надумавшего жить. Ситуация была классическая просто до тошноты, но только вот где он, секрет бесчувственности? Твой отец — я уверен, ты об этом ничего не знала — надоедал мне со своими мужскими, скучными предостережениями. Употреблявшееся им тогда выражение «как мужчина с мужчиной» я воспринимал с отвращением. Я никогда не любил и полагал, что уже никогда не полюблю отношения и доверительные беседы «как мужчина с мужчиной», эту столь суетную манеру выставлять грудь колесом и подрезать себе крылья. Меня в самом себе интересовала в первую очередь женщина, женское начало, та гибкость и то бесстыдство, которым ты дала возможность проявиться и из которых я извлекал столько счастья. Ведь ты дала мне очень много счастья.
(Теперь — я отмечаю это здесь, хотя произошедшая со мной метаморфоза никак не связана ни с тобой, ни с нашей историей, — я стал по отношению к сыну своего рода новым господином Эннером. Подобно ему, я мечтаю о таком устройстве мира, когда мужчины, стиснув челюсти, шагают в ногу. При этом все слабости Люка, совершенно детские, которые я осуждаю по меркам своей собственной морали и которые так выводят меня из себя, — просто ничто по сравнению с тем затяжным безволием, ценой которого мне удалось тебя похитить и на мгновение удержать рядом с собой. Удовольствие возвеличивало все и все прощало. Я был обязан упомянуть здесь об этой столь отвратительной непоследовательности; во имя всего благого. Я сохранил по-прежнему болезненную привязанность к истине — дабы спасти честь, если это еще возможно.)
Ты быстро поняла, что я не очень-то люблю женщин. Я был слишком на них похож, а моя профессия это сходство усугубляла, притупляя во мне желание их завоевывать. Их аппетиты, их нарождающаяся свобода меня пугали. Эволюция, ныне восторжествовавшая, которая нас, мужчин, потеснила и рассеяла, урезав заодно и наши старинные привилегии, а вас, похоже, превратила в людоедок, понеслась стремительно вперед лишь двумя-тремя годами позже. Я, очевидно, опередил свое время, раньше других ощутил в себе желание отвернуться от вас. К тому же праздник, пресловутый праздник не состоялся. Слишком уж расхвалили эти сексуальные чихания, ерзания, купания в поту.
Между тем случилось нечто обычное и необъятное: ты подарила мне блаженство. Мало того, ты сделала из меня человека, способного дарить блаженство тебе, — то сильное, простое, долгое наслаждение, о котором идет столько разговоров. Начиная с самых первых наших встреч и вплоть до наихудших наших круговоротов раскаяния, мы всегда оставались смешливыми и веселыми. Ты расплетала, развязывала опутывавшую меня тесьму сложностей, с которой я приходил на наши свидания. Ты, такая молодая, обладала столь не хватавшими мне мудростью и естественностью. Ты дарила мне такое невероятное счастье, что я забывал ему удивляться, забывал благодарить за него, не вспоминал, какая ложь сделала его возможным. Возможным? Все меньше и меньше, понимал я, и в начале февраля 1967 года, накануне твоего отъезда, когда ты сообщила мне, что отправляешься в Крест-Волан, мы были уже на последнем издыхании.
Когда у Эннеров говорили «Крест-Волан», то имели в виду — особый стиль почтенных семейств — не савойскую деревню, а принадлежавший им там дом. У меня-то не было «помешанного на горах» дедушки, способного превращать пастушеские домики в виллы. Что касается гор, то мои деды знали только вогезские перевалы, недоступные с тех пор, как над ними появился прусский флаг. Ты казалась измотанной. Я тут же подумал: усталой от меня. Ты рассердилась из-за того, что я хотел воспрепятствовать твоему отъезду в Крест-Волан или отсрочить его. «Поехали со мной», — сказала ты мне. Я понял лишь секундой позже, что тебе трудно будет простить мне вырвавшееся у меня «это невозможно». После чего я мог защищаться лишь в качестве обвиняемого.
Впервые мне стало известно, что ты меня судишь.
О, только не думай, что я был слеп. Мне случалось несколько раз подмечать особенное выражение твоего лица, взвешивать твое молчание. Иногда оно казалось мне тяжелым. В те моменты, когда ты знала, что веселость покинула твои глаза и твои губы, ты предпочитала уходить в сторону. А я начинал мять своими грубыми пальцами эту непрочную шелковую ткань. «Ангел пролетел», — говорил я, надеясь, что наше замешательство куда-то исчезнет, если на него обратить внимание. Сцены моего унижения, признаки (казавшиеся тебе незаметными) все расширявшейся между нами трещины. Взять хотя бы тот случай в номере боннского отеля: воспользовавшись тем, что ты заперлась в ванной, я позвонил в Лизье, где в доме своей матери томилась Сабина. Шум льющейся воды создал у меня иллюзию, что я располагаю тремя-четырьмя минутами безнаказанности. Я начал говорить с Сабиной, то есть врать ей, и тут увидел, как ручка двери, с которой я благоразумно не спускал глаз, вдруг начинает поворачиваться; оказывается, ты забыла на кровати сумку с туалетным набором. Дверь оставалась несколько мгновений приоткрытой, потом бесшумно захлопнулась. Разговор на эту тему между нами не возникал.
Я знал, в какие минуты ты начинала меня подкарауливать: когда я расплачивался наличными за гостиницу; когда мы шли вместе по тем улицам, где был риск встретиться с Сабиной; когда ты заводила меня в один из тех кинотеатров, где то и дело попадаются знакомые. Мое смущение возрастало прямо пропорционально тому смущению, которое оно вызывало у тебя. Ты стыдилась моих страхов даже больше, чем я сам. Предосторожности подполья (я не отменил их и после того, как Сабина узнала о нашей связи) низводили нашу историю до уровня второстепенных интрижек, и это оскорбляло тебя в твои двадцать лет тем сильнее, что ты довольно скоро обнаружила, что иногда даже житейская грязь мне не претит. Чувство стыда, покров тайны, наслаждение — все это для меня существовало в неразрывном единстве. Коль скоро наслаждение я получал тайком, коль скоро оно было как бы плотью от плоти этой тайны, то не исчезнет ли оно, оказавшись на свету?
Я-то знал, что за темные закоулки открывала ты во мне один за другим, я следил за твоим поступательным движением к истине, но стоило нам остаться наедине, и все, буквально все, утрачивало какое бы то ни было значение; отгородившись, спрятавшись ото всех, мы обретали лихорадочное забвение, которое, как мне казалось, любая, даже самая короткая наша встреча, удесятеряла и делала все более необходимым для моей жизни.
После твоего отъезда в Крест-Волан я, оставаясь в Париже, с трудом удерживаясь от того, чтобы тебе не позвонить, тщетно пытаясь усадить себя за работу, целую неделю не находил себе места, слонялся неприкаянный и до такой степени жалкий, что в конце концов сама Сабина, потеряв терпение, сказала: «Поезжай лучше к ней…» Да, я вскочил тогда в машину, лишь дождавшись этого увольнения. Там, в Савойе, я гордо отметал твои подозрения, заявлял, что мне нет никакой нужды отчитываться перед женой. Говорил я настолько убедительно, что, может быть, ты мне и поверила. Нет? Все шло к развязке.
Я вспоминаю эту дорогу на Крест-Волан. Выехал я в четыре часа, и вскоре стемнело. Иногда начинал идти и тут же таял снег, но около Морвана белая пелена уплотнилась. Не было видно ни зги, машина виляла из стороны в сторону. Боязнь попасть в катастрофу рождала неистовую жажду жизни. Я цепенел от желания. Меня осаждали образы. Я мысленно видел тебя в самых что ни на есть непристойных позах, с не знакомыми мне мужчинами и думал только о том, как бы захватить тебя врасплох. И не предупредил я тебя о своем приезде разве не затем, чтобы иметь эту возможность? Не знаю уж, каким чудом мне удалось благополучно преодолеть последние пятьдесят километров. Между Празом и Флюме машину дважды разворачивало поперек дороги. Было уже за полночь. После Нотр-Дам-де-Белькомба у меня было такое ощущение, что я никогда не выберусь из мягкого снега, в котором пробуксовывали колеса. Наконец последний занос — и машина остановилась перед гостиницей «Аравис», в дверь которой я позвонил, не осмелившись постучаться к тебе, хотя «Бартавель» был всего в ста метрах. Тем временем слегка похолодало, небо просветлело, и можно было различить черную массу фермы и букет секвой, в тени которых предыдущей осенью мы провели столько счастливых минут. Хозяин гостиницы, вынужденный встать с постели, с ворчанием вручил мне ключ от номера. Его настроение не улучшилось даже при упоминании фамилии Эннеров.
Утром я точно так же мог бы и уехать, не дойдя до твоего дома. Когда ночью я закрывал за собой дверь своей комнаты, она показалась мне настолько приспособленной для скромного счастья, для семейного отпуска, что, будучи в двух шагах от тебя, я почувствовал себя заброшенным за тысячу верст. Будь твое окно освещено и высунься я немного наружу, то увидел бы его. Подозрения и образы, преследовавшие меня всю дорогу, теперь пугали меня. Не желания пугали, нет, подозрения. Я готов был признать за тобой все права, включая и право изменять мне. За десять дней такие любовники, как мы с тобой, теряют друг над другом всякую власть. Страсть здесь бессильна. Как ты использовала в Париже все те часы, на протяжении которых мы вынуждены были притворяться, что не существуем друг для друга? А ночи? Я никогда не расспрашивал тебя. Ты с твоей скрупулезной деликатностью пыталась было рассказывать мне, как проводишь время, но я останавливал тебя. Я был всего лишь частицей твоей жизни; я дарил тебе, а ты мне лишь образчики счастья.
«Бартавель» — ты мне объяснила, что так называются горные куропатки, — был крепким и просторным домом. При общей буржуазной склонности к декоративности у этого дома не было ничего показного. Ты знала его с детства, а значит, больше уже не замечала его; ты говорила, что очень любишь его. Я-то любил его меньше: у меня было такое ощущение, что ты в нем как бы замыкаешься; это была твоя цитадель, и здесь я тебя представлял себе не в оскорбительных позах сладострастия, а вновь вернувшейся к прежним заботам, к проектам гармоничной жизни, к которым тебя, очевидно, готовили и от которых ты вообще не должна была бы отвлекаться. Молодые люди, зашнурованные в свои принципы, друзья по детским играм, еще совсем недавно целовавшие тебя в «Бартавеле», за дверью или под лестницей, а теперь ставшие инженерами, преуспевшие в науке, наверное, не преминули явиться к тебе снова и начать тебя осаждать, впрочем, весьма почтительно. Подобное благонравие было не для меня. Стоило мне повернуться спиной, стоило тебе скрыться за углом, как ты снова стала той Николь, какой была до встречи со мной, истинной Николь, которой рано или поздно непременно суждено было стать госпожой Лапейра. А любовь мадемуазель Немой ко мне, похоже, явилась всего лишь интерлюдией, патетичность и неистовство которой я, возможно, преувеличил.
На узкой кровати, где после утомительного дня, проведенного в горах, так хорошо спали многие поколения детей, меня пытала бессонница. Мне не хватало воздуха. У меня перед глазами не останавливаясь бежали в свете фар белая дорога и едва различимые откосы. Я открыл окно, и холод разбудил меня окончательно. Ночь из черной уже превратилась в серую: я пробыл в беспамятстве гораздо дольше, чем мне казалось; несчастье менее убийственно, чем принято считать. И я снова забылся тяжелым сном.
В те времена я водил приметные автомобили. Очевидно, ты заметила мою машину из окна или когда вышла из дома. Ты оказалась внезапно в моей комнате, когда я еще дремал. Ты смеялась. И на этот раз тоже ты разрушила мои карточные домики. В комнате пахло деревом и холодом. Душная комната, в которой я провел полную дурных снов ночь, обрела свой несколько старомодный уют, и туда ты захотела впустить солнце. «Нет, — сказал я тебе, — ставни пока открывать не надо».
О тех трех днях, проведенных мною в Крест-Волане, наших последних днях, ты знаешь столько же, сколько и я. Может быть, даже больше, чем я. Утренняя иллюзия, посетившая меня в «Арависе», быстро рассеялась. Ты оставила меня в нем под предлогом, что в «Бартавель» вот-вот должен приехать какой-то кузен «со стороны мамы». Ты объяснила мне также, что у деревенских жителей нравы строгие, особенно в том, что касается находящейся у всех на виду семьи Эннер. Осенью, однако, ты об этом не думала, приходила ко мне в «Аравис» и оставалась там у меня в комнате часами.
Вдруг нечто новое появилось тут в наших отношениях: какая-то безоглядность, какое-то отчаяние в жестах. Еще никогда не казалась ты мне такой неистовой, раскованной, соблазнительной, но в то же время в воздухе витала смутная угроза, и я чувствовал твою готовую вылиться на меня глухую насмешливость. Ты меня неожиданно спросила: «Ну что твой сын, как он поживает? Ты мне никогда не рассказываешь о нем». Ты лежала на кровати голая в необычной для тебя позе. А глаза наблюдали за мной. Это бесстыдство тебе не шло; ты играла роль; ты ускользала от меня, как ускользают, пьянея, даже очень близкие нам люди. Тебя дурманило озлобление. Мне пришла в голову мысль, что, стараясь не упоминать ни слова о Люка, о его здоровье, о подробностях его жизни и тех нитях, которые они протягивали между мной и Сабиной, я совершил ошибку. Я предстал в твоих глазах большим эгоистом и большим трусом, чем был на самом деле. Боясь ранить тебя, я очернил себя, как только мог. Мужчина сделан весь из одного металла: я не умел быть с одной стороны непогрешимым, а с другой — ущербным. Как бы это у меня получилось: проявлять безответственность по отношению к Сабине и Люка и выглядеть в твоих глазах основательным и надежным? Еще никогда твое тело не предоставляло таких доказательств сообщничества, и в то же время и чувством, и умом я понимал, что вот сейчас ты выталкиваешь меня из своей жизни. Мне хотелось бы, чтобы ты была менее пылкой: страстность каждой из твоих поз давала мне все новое и новое подтверждение того, что приговор мне уже подписан. Разгром мой, чувственный, сумбурный, перемежаемый взрывами безумного хохота и внезапными ощущениями тревоги, длился три дня. А на третий день, вечером, ты рассказала мне, что встретила «одного человека».
Так что я, как оказалось, не без основания опасался присутствия рядом с тобой призраков из твоей прежней жизни. В «Бартавеле» они не водились, но зато не переставали на протяжении всего последнего года рыскать вокруг тебя, поощряемые в этом твоими родителями, притягиваемые окружавшим твою жизнь ореолом тайны, и мало-помалу в нее проникли, проникли через те двери, где я не подумал поставить охрану. Теперь они праздновали победу. И я тотчас же с мрачным упоением признал свое поражение. Стоило тебе произнести это уклончиво-неопределенное имя, как мне стало ясно, что я потерял тебя, и я даже не стал оказывать никакого сопротивления.
А ты, очевидно, приняла мою покорность за наконец-то обнаружившееся безразличие. В моем поведении обнаружилась закономерность: с тобой я поступал так же, как с Сабиной, с Люка и, вероятно, со всеми остальными. Все вставало на свои места, все упрощалось. Рассказываемые обо мне небылицы, которыми твоя семья прожужжала тебе уши, оказались правдой. Человек трусоватый, непостоянный, бессердечный либо имеющий бесчисленное количество сердец: образ, возникавший перед тобой, наконец-то совпал с тем образом, который тебе рисовали на протяжении вот уже целого года. Все хорошо, что плохо кончается. Я тут же признал за отнимавшим тебя у меня человеком все добродетели, которые только существуют. Я даже не спросил у тебя его фамилию, не спросил, как это принято делать, «знаю ли я его». Я был совершенно уверен, что не знаю. Я думал теперь только о том, чтобы как можно скорее отступить.
При разрыве отношений выбирать можно только между двумя видами оружия: можно только либо уйти, либо остаться. Как правило, тот, кто хочет порвать, выбирает маневренность и уход, гораздо более легко навязываемые остающемуся, нежели то уведомление об отставке, которое я получил от тебя. Ты удивленно наблюдала, с какой торопливостью я упаковывал чемодан. Может быть, ты рассчитывала на крики, на возражения, на арьергардный бой? Может быть, ты шантажировала меня, чтобы заставить принять решения, которые я был не в состоянии принять? Этого я никогда не узнаю. Да и ты сама, знала ли ты? Когда в тот зимний день 1967 года я закрывал дверь нашей с тобой последней комнаты, — о, твоя жесткая улыбка! твоя холодность незнакомки! — я думал, что больше уже никогда тебя не увижу. Я ошибся: мы увиделись снова через семнадцать лет, в Б., а до этого — однажды июньским утром, через четыре месяца после Крест-Волана, на стоянке такси в конце улицы Моцарта. На твоей территории. Под дождем. Мы промямлили друг другу несколько фраз в присутствии нетерпеливо поглядывавшего на нас шофера. Я пытаюсь вспомнить: на тебе был широкий плащ, не то шерстяной, не то клеенчатый. Из-за этого силуэт у тебя был какой-то неузнаваемый. На мой последний вопрос ты даже не ответила. Ты так и осталась Немой, и в последний раз тоже. Осталась верной своей легенде.
8. ПРИЗНАКИ
Нужно представить себе декорации, мизансцену, движение актеров. Гостиная достаточно просторна, с легко возникающими «уголками» для конфиденциальных бесед, что сообщает последним надлежащую плавность. Люди умеют жить. Потолок низкий. Деревянная обшивка стен в немецком стиле — не очарование эпохи Регентства, а скорее ящик для сигар — смягчает все звуки. Ковер во всю комнату слишком ворсистый, узорчатый. Красивая, хотя и несколько провинциальная мебель, скатерти, китайские вазы, достаточное — чтобы можно было гордиться — количество книг, яркие, пользовавшиеся успехом двадцать лет назад картины на стенах. Немногочисленные гости слегка затерялись в свободном пространстве, но в круг все же не стали. Они распределились по двое и переговариваются вполголоса. Даже Сильвен Лапейра и тот испытывает неловкость от своей громогласности. Мною больше не занимаются. У всех уже такое ощущение, что они «выступили» и им захотелось вернуться к своим заботам, к непонятным для постороннего речам, к на что-то намекающим и исключающим меня вздохам. Не осталось, может быть, незамеченным и то, что я прилично выпил. Боятся, что ли, какой-нибудь бестактности? Мое лобызание с Беренис не оценили. Николь вся в хлопотах. Она скользнула куда-то далеко-далеко от меня. Я притворяюсь, что рассматриваю стоящие на полках книги: этой доброкачественной любознательности от меня ждали. Она удобна тем, что позволяет мне, повернувшись спиной ко всем присутствующим, избегать взглядов, в конце вечера становящихся особенно цепкими. Я бы не стал утверждать, что переплетенное в прекрасный сафьян полное собрание сочинений братьев Таро, в котором, как мне кажется, я узнаю — выбор и кожа — печать Эннеров, вызывает у меня живейший интерес. А где же Александр Арну, где же Бразийяк? Уткнувшись в книги, я бешено напрягаю, тормошу свою память. Обычно кажется, что нет никакой необходимости записывать в записную книжку события, датировать воспоминания. Думаешь, что нет ничего проще, как взять и припомнить жизнь до мельчайших деталей, а смотришь — все исчезло бесследно за какую-нибудь неделю. В один прекрасный день обнаруживаешь, что за тобой остается лишь туманный след из образов и имен. Даже мои самые надежные хронологические ориентиры — даты появления моих книг — и те пришли в негодность. А что уж там говорить о сердце! Я вовсе не лгал, когда не смог во время ужина сказать Николь, в каком году я развелся. Пыхтящий локомотив устарелой модели, каковым я являюсь, тянет за собой всего лишь поезд-призрак.
Поскольку мои усилия в этот поздний час тормозятся, ко всему прочему, еще и избытком выпитого алкоголя, то мне никак не удается собрать воедино и упорядочить воспоминания; когда берешься их описывать, дело обстоит гораздо проще: есть время подумать и все объяснить, сообразуясь со своим замыслом либо с гармонией повествования. Годы и месяцы хаотично громоздятся у меня в памяти. Тот период с 1966 по 1968 год был до такой степени наполнен для меня страстями, унынием, разрывами и возвратами, что вспоминается он мне в виде непрерывно полыхающего пожара; время его затушило, но вход на пожарище все еще закрыт из-за тлеющего пепла и дыма. Как датировать, например, тот мой второй и одновременно последний визит в Крест-Волан? Была зима, это понятно, но вот только какой момент зимы? Безлюдие перед рождественскими праздниками или же то, что наступает после школьных каникул. Насколько я припоминаю, деревня выглядела почти совершенно пустынной. Но в Крест-Волане толпы ведь никогда не бывает.
Я уже даже не пытался делать вид, что разглядываю корешки книг. Еще немного, и я бы уперся лбом в шеренгу томиков «Плеяды» и закрыл бы глаза. Внезапно возникает картинка: дети в маскарадных костюмах и масках с разгону скользят по замерзшим лужам. Мальчишка в зеленой спортивной куртке, над которой улыбается слишком широкое для него хитроватое лицо Помпиду, а на заднем плане — колокольня с куполом в форме луковицы, гирлянды разноцветных лампочек, горящие в холодной, металлической синеве. Последний день масленицы! Значит, я ездил к Николь в Савойю в феврале. Интересно, масленица всегда бывает в феврале? А когда была Пасха в том году? В любом случае это было начало года, начало, конечно же, 1967 года, потому что в 1966 году в это время Люка только-только родился и лежал в больнице в кувезе. Я довольно хорошо помню путь от Крест-Волана до Парижа — резкие, сухие приступы ярости на всем его протяжении — и возвращение домой, где Сабина, забыв, откуда я приехал, и не обращая никакого внимания на мой расстроенный вид, встретила меня радостно-возбужденная, потому что Люка сделал свои первые шаги. Стало быть, ему все-таки удалось выкарабкаться, этому болезненному младенцу, которого одно время все считали обреченным. Как же можно забыть ту комедию, которую я тогда разыгрывал, стараясь утопить разрыв с Николь в излияниях отцовских чувств, реальных или притворных. «Ты только подумай, в тринадцать месяцев, — повторяла Сабина. — А врачи говорили про пятнадцать месяцев. Они просто не перестают удивляться».
Всем своим сердцем старался я участвовать в испытываемом Сабиной облегчении, интенсивность которого позволила мне наконец осознать, насколько велика была висевшая над Люка опасность и какими острыми должны были бы быть мои переживания на протяжении всех этих месяцев, когда я склонен был считать всю вереницу драм, последовавших за рождением моего сына, неким средством давления на меня, чем-то вроде козней, призванных оказать воздействие на мои чувства и оторвать меня от Николь, козней, которые — о, ирония! — Сабине даже и не понадобились.
В памяти всплывают целые сцены, забытые слова, реплики, зачастую весьма резкие, вспоминается вся атмосфера, царившая тогда в нашей квартире на улице Анриде-Борнье, крики ребенка, семенящие шаги присматривавшей за ним португалки, мое изнеможение слишком немолодого уже отца, стремительно сменявшие друг друга и не поддающиеся никакому логическому объяснению грозы и временные просветления. Сабина не испытывала ни малейшего сомнения в том, что она одержала победу и что Николь дала мне отставку. Она черпала информацию из своих собственных источников. И поэтому смотрела на меня не как на мужа, у которого проснулись былые нежные чувства или пробудилось чувство долга, а как на человека, потерпевшего поражение, как на человека, брошенного соперницей. «Она оставила мне свои объедки, — говорила она, — и он за неимением лучшего решил вернуться ко мне». Именно в эту пору я и встретил Николь на стоянке такси около шоссе Ля-Мюэтт, куда пришел, очевидно, пешком. Я исхаживал километры и километры по парижским улицам, лишь бы только не оставаться на улице Анри-де-Борнье, лишь бы обрести хоть какой-то покой, собраться с мыслями, припасть опять к ускользнувшей от меня работе, которую я пытался догнать, как какого-нибудь идущего впереди меня человека.
Лотреамон. Жермен Нуво. Непохоже, чтобы Сильвен Лапейра каждое утро перечитывал Лотреамона. Я слышу за спиной смех, прорывающийся сквозь сигарный аромат. Мне сигару не предложили. Значит, Николь убеждена, что я сохранил свои прежние неприязни. Декан говорит по-французски, но смеется по-немецки. Выпитое за ужином бургундское тихо жжет мне желудок; я ощущаю себя старым; тщедушным и старым.
— Вам его освежить?
Беренис подошла, держа в руке бутылку; она коснулась моего локтя и показывает подбородком на мой стакан с плавающими в нем крошечными кусочками льда. Я протягиваю его ей со вздохом. «Рожденный под знаком Тельца, — говорю я, — обычно бывает сентиментален, властолюбив, склонен к чревоугодию и пьянству».
— Вы телец? Вот, значит, почему мы так хорошо Друг друга понимаем. А я…
— Не говори, я постараюсь отгадать. Если тебе нравятся тельцы, то ты…
— Скорпион!
Она бросила это как главный козырь; ее выставленная вперед мордочка сияла, а в глазах мелькали черные огоньки и надежда.
— Вы разбираетесь в знаках зодиака?
— Наверное, меньше, чем ты. Так, значит, ты маленький скорпиончик… Как же это я сразу не догадался, глядя на тебя?
— Я родилась семнадцатого ноября.
— Семнадцатого ноября тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года…
— Вы как-то сразу глубоко задумались!
Подтрунивает. Она смотрит на меня, держа в руке бутылку; в тот самый момент, когда она произносила: «Скорпион!», все тело ее изогнулось, подалось вперед, более отчетливо обнаружило свои формы, подчиняясь, естественно, головокружительному искушению отроческого кокетства, но, помимо кокетства, также еще и определенному представлению о себе, представлению, которое не могут заставить ее скрыть, посреди этой вот гостиной, никакие правила приличия, но которое, мелькнуло у меня в голове, должно было бы приглушаться дремлющей в подсознании стыдливостью. Мне хотелось бы призвать ее к большей сдержанности, как призывают взглядом замолчать слишком экспансивную или неосторожную в выражениях подругу. Теперь Николь наблюдает за нами снова. Несколько гостей медленно направляются к нам. Ветер повернулся в другую сторону. Жена советника по культуре задумчиво поглаживает свое гагатовое ожерелье, издалека смотрит на меня, но не подходит. Я иду к центру комнаты, туда, где стоит Николь. «Перестань пить, — говорит она мне, не переставая улыбаться, — это совершенно не нужно».
Я уже больше не являюсь ни почетным гостем, чьи прорицания вызывают всеобщий интерес, ни даже бывшим любовником, чей взгляд заставляет опускать глаза, я теперь простой посетитель, приглашенный на один вечер и уже успевший надоесть, человек, перед которым, может быть, и не следовало столь доверчиво распахивать двери своего дома, или вообще напичканный иллюзиями старик, с которым милостиво соглашаются играть невсамделишную партию, партию смеха ради, великодушно посылая ему вялые, легкие мячи. Скорей бы только закончилось это нудное занятие. Посмотрите-ка на него: он уже пыхтит, как паровоз. Еще, чего доброго, отдаст концы прямо у нас на руках…
Почему все получилось так нескладно? Еще каких-нибудь три часа назад чувствовалась такая легкость, стремительность. Просто я устал. И я должен подать сигнал отправления, они только этого и ждут, зачем еще медлить? Николь уже больше не будет со мной разговаривать. Ей нечего было мне сказать в прошлом и нечего сказать сейчас. Зачем нужно было приглашать меня в Б.? Стоило ей состроить гримасу, стоило шепнуть что-нибудь госпоже Гроссер, и, поскольку я не слишком рвался приезжать сюда, председательница от меня бы отступилась. Значит, Николь приняла заранее и это приглашение, и нашу встречу, и то, как прошла дискуссия; мало того, активно способствовала всему этому. Она хотела, чтобы состоялась эта встреча с Беренис. Хотела, чтобы в моей голове завертелись эти вопросы, целый круговорот дат, предположений, подсчетов. Интересно, видела ли она, как я, повернувшись спиной к присутствующим, считал месяцы, загибая один за другим пальцы, на манер детей или подозревающих что-то неладное шептунов. Урок? Месть? Это не в характере Николь; и измениться до такой степени она не могла; в ее поведении не заметно никаких признаков подобной перемены. На какое-то мгновение она вроде бы поддалась возникшей у меня при встрече с ней ностальгии, а потом стала недоступной. Молодая хозяйка замка. Законная супруга, которой ее положение придает величавость парадного портрета, а картина ее счастья защищает от расспросов этого мужлана, готового вывалить свой запас воспоминаний.
Я никогда не был хорошо воспитанным человеком. Эннеры наверняка говорили Николь среди прочего и об этом. Люди вроде меня в конечном счете всегда впутываются в жалкие мелодрамы. Если, конечно, кристальный господин Лапейра не является на самом деле менее наивным и более коварным человеком, чем мне это кажется. Если он в курсе, то, может быть, ему захотелось, чтобы нарыв поскорее прорвало. В таком случае я с моей пьяной походкой и моими речами пишущего фанфарона хорошо ему подыграл. Какая удача для поборника справедливости! Старый любовник госпожи, не первой свежести, надо сказать, подан к столу в своем гарнире из литературы и под острым соусом, дабы приглушить запашок. Скоро уж двадцать лет этой любви, как тут не попахивать. Сколько, вы говорите, восемнадцать? Надо же, какая точность! Дети, зачатие которых, по церковному календарю, приходится на масленицу, рождаются под знаком Скорпиона или Стрельца. Стоит ли проверять по старой записной книжке или по какому-нибудь сводному календарю, когда была Пасха в 1967 году? Разве внутреннее чутье, разве интуиция не является более надежным критерием? А этот Сильвен Лапейра, если речь шла именно о нем, если он и был тем самым «одним человеком», который незримо предстал тогда в убийственных признаниях Николь, то где его место в сценарии? Под какой карнавальной маской его искать? Эта маска исчезла накануне или же возникла сразу потом? Клин вышибают клином, простофиля! Или я выше подобных подозрений? Будем же благородны. Сохраним веру в порядочность дам. Но даже если эта вера вполне оправданна, то так ли уж много порядочности в сегодняшней комедии?
В меня ввели яд, и я поеду подыхать или выздоравливать — в любом случае втихомолку — далеко-далеко от этой гостиницы с ее сине-белыми китайскими вазами и от этой Беренис, которая всего через каких-нибудь несколько месяцев превратится в одну из тех столь часто встречающихся теперь маленьких жестоких самок, чей профиль, встреться она мне на улице, уже не привлечет моего внимания. Попутного ветра! Еще один год, и от чудо-ребенка останется только одно воспоминание. Скорпион начнет жалить своих жаб, «потому что таковы законы природы». «Вы знакомы с моей дочерью?» Да, знаком и оставляю ее вам. Оставляю вместе с пятнами грязного снега в скверах Б., с платьем вашей супруги, так ей идущим, что его можно принять за парижское, с вашей любовью к работе и вашим отвращением к путешествиям. У меня-то, представьте себе, все наоборот: я люблю отправляться в путь и испытываю отвращение к работе. Надеюсь, что госпоже Лапейра, которая в былые времена отнюдь не презирала аэропорты, удалось научиться находить удовольствия в том же, в чем находите их вы, потому что, насколько я могу судить, Б. - это самое дно воронки.
— Ты еще не расстался с привычкой пить кофе в самые немыслимые часы?
Николь приближается ко мне с чашкой дымящегося кофе в руке. Это так в вестернах принято — поить пьяницу кофе, дабы заставить его опять драться или принимать роды у героини.
С каких пор я сижу в этом кресле под канделябром? Его изолированность уберегла меня от новых контактов. Я пью маленькими глотками: бессонная ночь обеспечена. Серое платье Николь смотрится хорошо и вовсе не заслуживает моего сарказма, да и сама Николь, улыбающаяся вверху надо мной, совсем не похожа на начинавшую уже было внушать мне страх колдунью. Беренис, стоящая неподалеку, как цапля, — на одной ноге, слушает речи декана. Под глазами у нее круги, она хочет спать.
— Не уходи со всеми остальными. Кто-нибудь из нас тебя отвезет. Останься поболтать с нами…
Это почти приказ. Николь вернулась к другим гостям, собравшимся уходить. Я встаю. Комплименты, неопределенные обещания. Председательница — это явно ее излюбленная мимика — смотрит с сердитой настойчивостью на своего мужа, тянущего меня за рукав в один из углов прихожей. Там он неловко сует мне в руки конверт, который он забыл вручить мне сразу после дискуссии. Все стараются смотреть в другую сторону. Комичность ситуации сразу достигает своего пика. Двери, впустив холодный воздух, закрываются.
Беренис вместе с отцом молча собирают пустые стаканы, ставят бутылки в шкаф, приоткрывают окно. Николь, улыбаясь мне, похлопывает рукой рядом с собой по бархатной обивке дивана: так приглашают собаку прижаться к хозяйке. Что я здесь забыл?
— Если вы еще и пепельницы опорожните, — говорю я, — то я сразу уйду.
— Извините нас, — благодушно шепчет Лапейра, присаживаясь, — привычка…
Беренис исчезла. Возвращается она уже в халате из темной шотландки, скорее мальчишеского покроя, и с распущенными волосами. Ее жесты. Воздух, который приходит в движение вокруг нее. Ее волосы, блестящие, развевающиеся. Она тоже садится, пристраивается у ног матери и кладет ей на колени скрещенные руки и подбородок.
— Расскажи нам про Люка, — просит Николь. — Его ведь Люка зовут?
— Люка, — говорю я, — как жаль, что его не было сегодня там, на встрече! Он бы тогда услышал многое из того, что предназначается ему и что мне никак не удается ему сказать…
— Неприятная это вещь — развод, — констатирует Лапейра с видом археолога, извлекающего из-под земли хрупкое глиняное изделие.
— Вовсе нет, — говорю я. — Развод — это просто замечательно. Он возвращает людям достоинство. Корень сложностей с Люка не в этом. Может быть, в моем безумном желании переделать его. Я никогда не мог принять его таким, какой он есть. Страсть переделывать людей, улучшать их, разумеется, так, как я это понимаю, — это один из моих пороков.
— Чем он занимается? — спрашивает Беренис.
— Он на подготовительных курсах.
— У-ля-ля! А я на «латыни»…
Она смеется. Она догадывается, что я не знаю ее школьного жаргона. Я поворачиваюсь к Сильвену Лапейра:
— А с другой стороны, вы тоже правы, правы в том, что разведенный человек, оторвавшись от семьи, становится своего рода ипохондриком. Он постоянно переживает за своих детей, анализирует свои чувства, считает себя преступником. В конце концов его отцовская любовь начинает походить на неврастению, и дети спасаются бегством…
— И с тобой это тоже произошло?
— Среди прочих несчастий и это тоже. Ты помнишь, какое блюдо сооружали во времена твоей молодости из «христианского экзистенциализма»?
— А, тот философ, который был похож на лохматую овчарку? Габриэль Марсель? Точно, он! Он даже приходил в нашу лавочку, в Сент-Мари, проводить «беседу» с девочками, которые были в выпускном классе.
— Где-то в своих сочинениях он объясняет, что отцовство — это усыновление. Что отцовство автоматически не срабатывает. Что оно предполагает выбор, решение, которые должны подтвердить так называемые узы крови, которые сами по себе еще ничего не значат. И вот я боюсь, что я так и не усыновил Люка или же что я дал ему понять, что усыновлю его только тогда, когда он изменится в соответствии с моими пожеланиями.
— Вы его упрекаете в том, что он такой, какой он есть, или в том, что его сформировала ваша бывшая жена?
— Я не упрекаю его, Лапейра, ни в чем. Просто мне не удается делать вид, что я его люблю. Мне не удается желать для него такого стиля жизни, таких ценностей, счастья и языка, которые я не уважаю. И к тому же почему вы говорите «ваша бывшая жена», а не «его мать»?
Беренис, подбородок которой по-прежнему лежал на колене Николь, смотрела на меня теперь каким-то строгим взглядом. Почему? У меня опять закружилась голова. Я прозревал по мере того, как говорил. Пытаясь заставить девочку высказаться, потому что я был уверен, что мне удастся заставить ее изменить свое мнение, переубедить, я улыбнулся ей, но она в ответ не улыбнулась. Скорее, наоборот, на лице у нее отразилось что-то вроде досады.
— А вам не кажется, что вы все невероятно раздуваете, все эти не представляющие ничего особенного трудности. Это же ведь просто классический случай. Конфликт поколений, только и всего! Стоит ли так уж драматизировать?
— Ты вот выглядишь вполне счастливой…
— Это точно. Мне повезло!
— Видишь ли, вот уже четыре или пять лет он мне кажется несчастным. Он и является таковым. А я вместе с ним. Я едва-едва осмеливаюсь говорить с ним, а о том, чтобы прикоснуться к нему, уже и не помышляю. Все-таки хочется иногда приласкать сына, даже если ты не любитель телячьих нежностей. Посмотри на себя: ты даже об этом не думаешь, но на протяжении вечера я видел, как ты уже раз десять…
Она раздраженно перебила меня:
— Абсолютно никакой связи! О чем вы говорите?
Николь погладила ее по волосам и огорченно сказала: «Успокойся, моя Нис, успокойся…» Потом, обращаясь ко мне: «Извини нас. Уже поздно».
Беренис, раскрасневшаяся, с вызовом глядела на меня. Я почувствовал, что опять, становлюсь ужасно взрослым.
— Почему ты так сердишься?
— Если вы не понимаете…
Она резко встала, отвернулась так, что волосы метнулись по плечам, сделала три шага и скрылась за ближайшей дверью.
— Видишь, — констатировала Николь, — девочка тоже с характером.
Я уговорил их не провожать меня. По телефону вызвали такси. Те три или четыре минуты, пока его ждали, прошли в обмене ничего не значащими фразами. Я достиг, подумалось мне, крайней точки усталости. Я склонился над рукой Николь Лапейра, как шесть часов назад в университете, но, прощаясь, не пытался встретиться с ней глазами. Проводил меня до сада и открыл решетку ее муж; машина уже ждала меня, и белая струя выхлопных газов распространяла в ночи свой отвратительный запах.
9. НОЧЬ
То, что в момент, когда я позвонил в шесть часов, у Сабины оказался мужчина, чей незнакомый голос ответил и так естественно произнес «Люка», мне было совершенно безразлично. Какую бы то ни было, обоснованную или необоснованную, ревность я перестал испытывать уже давно, на исходе нашей совместной с ней жизни. Вот только Люка? Неужели со своими мужчинами она занимается любовью дома? А Люка прислушивается ночью к шуму за перегородкой? Или же они только заезжают и увозят его мать за город? Или речь идет о приятельстве, об удобной и уже старинной привычке, о человеке, которого Люка называет по имени? Он противопоставляет мне такую безукоризненную в своей непроницаемости сдержанность, причем гордится этим, что у меня возникает искушение представить себе за ней некую вторую жизнь, — впрочем, что я говорю: первую жизнь — со своим ритуалом, со своими шутками, секретами, поездками воскресным утром на природу, вечерними походами в кино. Тайна, в которую я не посвящен, вырастает до размеров собора. И Люка, усердный прихожанин, преисполненный неведомой мне набожности, пробирается в ней с опущенными плечами. Он скользит между нами, как бывалый лоцман, плотно сжав губы, с сердцем, разделенным между обоими тяжущимися. Слишком уж он податлив, Люка, слишком рано его самоуважение стало подвергаться испытаниям: жизнь не оставит от него камня на камне. Эта ли комната казалась мне такой роскошной сегодня днем и такой душной? Она отталкивает меня от себя со всей силой предлагаемого ею комфорта. Не очень-то приятное занятие: ворочаться часа два в постели, вспоминая глупости, совершенные на протяжении целого вечера, и обдумывая вопросы, которые следовало бы задать, и ответы, которые можно было бы получить. Кроме того, мне кажется, что сегодня вечером я в чем-то обманул Люка, растратил принадлежащий ему капитал. Я вытаскиваю из холодильника, замаскированного под ларь в стиле Людовика XV, бутылку воды и пью из нее большими глотками. Может быть, ходьба поможет мне успокоиться. Я быстро спускаюсь по выстланной разноцветными коврами лестнице. Когда я выскакиваю в холл, ночной портье смотрит на меня, вытаращив глаза.
— Месье знает, какая на улице температура? Месье не следует выходить в такой одежде. Подождите!
Да, я жду его, рассматривая план Б., висящий в рамке на одной из стен. «Художественный» план, усеянный готическими стрелками, барочными фронтонами, с лирой, указывающей местонахождение концертного зала, и ревущим львом — местонахождение зоосада. Без особого труда отыскиваю Эльфенштрассе, где живут Лапейра.
Я всегда неплохо разбирался в планах и картах. Это не очень далеко. Долгой дорога показалась мне из-за объезда улиц с односторонним движением и из-за беседы с председательницей.
Портье возвращается, неся в руках дубленку, которую он помогает мне надеть. От меховой шапки я отказываюсь. Отказываюсь и от такси, которое он собирается вызвать. «Бессонница…» — говорю я. Он тут же вытаскивает из ящика коробку таблеток, потрясает ею, и я обещаю ему испытать их эффективность сразу же по возвращении. Едва ступив на тротуар, получаю хлесткий удар холода в лицо. Город весь серый, оглушенный, с белыми узорами на асфальте и с предательским блеском льда. Под аркадами смутные силуэты погружаются в тень. Я настолько добропорядочно стучу каблуками, что притормозившая было при виде меня полицейская машина снова прибавляет скорости и уезжает в сторону вокзала. От холода лицо у меня сразу же немеет. Чтобы не дать заледенеть сведенным судорогой губам, я произношу «Беренис». Повторяю снова, на этот раз громче, потом кричу «Беренис». Но улицы окутаны прежним безмолвием. Я кричу внутри своего рта. По мере того как я удаляюсь от центра города, ледяных пятен становится все больше и больше. Запахи сада и огня остаются там, за стенами. Музей изобразительных искусств. Университет. Ночь окончательно развеяла мое опьянение последних двух часов. Я пытаюсь припомнить свои слова, свои жесты: интересно, приличия были соблюдены? Иногда бывает так, что только я один и осознаю, как далеко я отплыл от берега, а бывает и так, что я уже не отдаю себе отчета, какой эффект производит мое состояние. Последний всплеск болтовни, исчезновение Беренис, прощание с четой Лапейра тонут в дымке, словно я пережил все это давным-давно. Вот решетка, сад, более тесный, чем мне показалось вначале. Когда мои шаги смолкли, тишина стала гнетущей. В доме ни огонька. Который сейчас час? Я забыл часы на столике у кровати, куда я положил их, собираясь ложиться спать. Во всяком случае, добрая половина ночи уже позади. Я чувствую идущий от дубленки запах ее владельца. От этого ирреальность места, времени, моей неподвижности на краю некоего подобия круглой площади еще более усиливается. Освещенный бледным светом луны дом испещрен тенями. Вот под замысловатыми надломами крыши три окна гостиной. Комната Беренис находится, очевидно, слева, куда она убежала, охваченная своим непонятным гневом. Увижу ли я ее вновь? По какому праву? Николь не подала никакой идеи, не предложила никакой помощи. И даже если бы и предложила, я с трудом представляю себя в роли человека, поднимающего каменные глыбы. «Ты припоминаешь последнюю фразу своей первой книги? — спросила она меня на пороге, когда муж ушел за пальто. — Жизнь не возрождается, она течет. Ты помнил ее?» Что бы я ей ответил? Лапейра уже возвращался, укутанный в бесконечный красный шарф.
В этот момент, когда я внимательно всматриваюсь в детали то тонущего во мраке, то изрезанного лунным светом дома Лапейра, в меня вселяется уверенность, что что-то должно произойти. Должно непременно. Конечно же, я был слишком неосторожен: слишком много слов, слишком много алкоголя и экзальтации — разве могла Николь довериться мне? Это всего лишь отложенная партия. Не могла же она призвать меня на эту очную ставку, навязать мне это испытание совершенно безо всякой причины. Вот оно, слово: испытание. Удалось ли мне выйти из него победителем? Мне кажется, что я был жалок на протяжении всего вечера и продолжаю оставаться таковым сейчас, продрогший, уставившийся на окно, — вот это? Нет, вон то? — как когда-то в двадцать лет, в пору влюбленности. Сирано или Кристиан? У меня всегда нос Сирано сочетался с пылом Кристиана. Ах, мне всегда было нелегко грубо вторгаться в жизнь тех, кто становился моей дорогой добычей, с моим-то лицом, похожим на печеночный паштет, с моими тонкими, как скрипичные струны, нервами… Вот и сегодня вечером… Ничто так не похоже на смертные муки любви, как это любопытство, бросившее меня к Беренис. Любопытство: не слишком ли осторожное выбрал я слово? Сроки, логическое сходство характеров и обстоятельств — все налицо. Вот уже три часа, как я знаю. И Николь сразу же поняла, что я знаю. Именно в тот момент она и отстранилась от меня. Она приоткрыла мне свой секрет, подобно эксгибиционисту, раздвигающему полы своего плаща и убегающему потом, чтобы спрятаться где-нибудь в зарослях. А сейчас в чем суть моей роли? Что предусмотрено для меня в сценарии? Крики, требования? Ни закон, ни элементарная тактичность не потерпели бы их. Все словно обито войлоком, время, оно заглушает крики. Кто бы осмелился! Архитектура семейного очага, душа ребенка: эти надежные ценности защищены столь же надежной и испытанной трусостью. Проявившейся и в сегодняшнем испытании. Мы еще вернемся к этому: простая комедийная сцена, романический эпизод, волнующая гипотеза? Что угодно на выбор — однако ничего общего с моей обыденной жизнью. Моя обыденность. Моя жизнь. Всплески дурного настроения у Люка, приливы и отливы в моей работе, надломы, связанные с возрастом, — вот они, мои партитуры. И другой музыки я не знаю.
Несколько часов назад я с лукавым самолюбованием, которое подстегивается присутствием публики и облегчается возбуждающими средствами, жаловался на превратности встретившегося мне на пути отцовства. Хоть на этот раз обошлось без терзаний! А если этим вечером со мной что-то и произошло, то не более чем банальное злоключение. Семьи покрыты подобными царапинами, зарубцевавшимися, можно сказать, невидимыми. В былые времена случалось, что при вскрытии завещания у нотариуса брови оставшихся в живых родственников на какое-то мгновение поднимались вверх: неожиданно возникший наследник, странное распоряжение, нечувствительная к пересудам «последняя воля» с двадцатилетним либо тридцатилетним запозданием раскрывали уже давно разгаданную тайну. Видели и не такое! В наши дни никто уже больше не получает наследств, да и физическое сходство уже не так, как раньше, волнует семьи. Кстати, и самих семей уже нет. Равно как и детей: Беренис в свои шестнадцать лет, возможно, уже ощутила тяжесть мужчины на своем животе или ощутит не сегодня завтра. Почему бы расстающейся с молодостью Николь не всколыхнуться на глупый женский манер при виде моего нездорового интереса к ее дочери? Может быть, за ее смущенными взглядами, за ее несостоявшимся признанием ничего больше и не было.
Однако я все еще не решаюсь покинуть Эльфенштрассе. Сто шагов в одну сторону, сто — в другую: прямо полицейский на посту. Луна скрылась за соснами, образующими пучину тени в конце улицы. Теперь я уже достаточно трезв, чтобы понимать, что играю комедию. Самую неистовую комедию, без зрителей и аплодисментов, комедию, которую продолжаешь играть только для себя, для того, чтобы позолотить свой образ в собственных глазах. Мое опьянение мечтало предпринять действия, направленные на признание отцовства, а моя трезвость уклоняется; она удовлетворена. Сообщи мне Николь где-нибудь на Пасху 1967 года новость про радостное событие, в котором я, похоже, сыграл свою роль, я не могу себе даже представить, на какую бы только низость я ни пошел, чтобы отговорить ее, убежать от нее. Она это знала. Она лишь предохранила себя от моей трусости. Сегодня Беренис взбудоражила меня, потому что она — дочь других людей, на три четверти сформированная личность, сумма многих сложений, победа и собственность супругов Лапейра. Захватить сокровище — это я умею. А вот собрать его постепенно — нет. Я умею собирать только ощущения, сновидения, намерения, страницы, книги. Я являюсь отцом только моей работы. Я так часто повторял им эту истину сегодня вечером, что еще не забыл ее в момент, когда нужно прижечь рану. Беренис? Я бы не смог создать ее. Это как с домами: все думают, что я люблю их, потому что я их часто меняю и потому что я люблю чужие дома, преимущественно самые красивые, самые роскошные. Однако мои собственные дома всегда были уродливыми, и я не в состоянии их улучшить. Я грабитель, а не архитектор.
Бархатистый темно-коричневый номер «Райнишер Хофа» накрыл в ту ночь сумбур моих мыслей, подобно капюшону, которым накрывают клетку малайского говорящего воробья, чтобы заставить его замолчать. Кончено с бессвязными импульсами, с противоречивыми надеждами. Усталость (когда я возвратил портье его дубленку, сунув ему в руку одну из находившихся в конверте Гроссера бумажек, было уже около трех часов), пустота, сменившая создаваемое амфетаминами ощущение наполненности существования, а главное, открытие, что семнадцать лет назад я в общем и целом дешево отделался, окончательно развеяли навязчивые иллюзии, которые выгнали меня ночью на улицу. Подобно всем моим прежним бурям, стихла и эта буря тоже.
Я разделся. В отеле в эту январскую ночь стояла исключительная жара, и в номере можно было разгуливать совершенно голым, не чувствуя ни малейшего озноба. Так что я разделся догола, разделся и мог сколько угодно созерцать отражение своего тела в зеркалах ванной комнаты. Такого рода зрелище действует как отрезвляющий душ, смывая нелепые надежды и возвращая меня к разумной оценке моего капитала и моих шансов.
Как вы видите, мое поведение в тот вечер и в ту ночь постоянно оказывалось на перепутье между не совсем искренней озадаченностью и непоследовательностью любовной охоты. Когда мы устремляем свой взгляд на раннюю юность, то в нас оживает какая-то смутная, двусмысленная алчность. Она похожа на желание. Даже во время моего общения с Люка я часто отдавал себе отчет в том, что, если посмотреть со стороны, то мое рвение, моя предупредительность и казавшиеся мне необходимыми приемы обольщения, должно быть, напоминают жалкое кокетничанье извращенца, возбужденного присутствием незнакомого подростка. Точно так же, если хорошенько подумать, и понимающие взгляды, которыми отягчала меня, теребя свое ожерелье, госпожа Дю Гуасик, тоже, очевидно, говорили не о том, что какая-нибудь внезапная интуиция или чьи-либо россказни раскрыли ей все еще недоступную мне тайну, а лишь о том, что она считает мое поведение неприличным, что у меня дурная манера демонстрировать на людях влечение к ребенку в том возрасте и при таких обстоятельствах, когда господин моего тоннажа должен был бы уже вернуться в свой порт. Ну конечно же, это абсолютно ясно. Госпожа Дю Гуасик и другие, те, кто в конце вечера откачнулись от меня, видели во мне всего лишь стареющего распутника, неспособного сдерживать свое возбуждение и укрощать свои порывы. Что же касается наверняка бросившегося в глаза смущения Николь, то они приняли его за замешательство хозяйки дома, которая, встретив давнего друга и устроив ему по этому случаю праздник, вдруг увидела, как он, в нарушение всякой благопристойности, крутится вокруг ее дочки. Погрузившись в свои химеры, я прожил не настоящий вечер, в котором я ничего не понял, а какой-то отличный от него параллельный вечер и сделал себя посмешищем в глазах всех присутствующих.
И в глазах Беренис тоже?
В ее возрасте девушки принимают даже совсем грубые выражения желания, даже исходящие от «старика» и даже тогда, когда они, подчиняясь правилам старой комедии, притворяются оскорбленными. У Беренис, однако, ни малейшего намека на эту пошлость. Она не выглядела ни испуганной, ни провоцирующей. Она как бы тоже остановилась где-то на грани недоступной, угадываемой, быть может, лелеемой истины и мимолетно разделила ее со мной, полностью отдавшись наслаждению тайной и удобству встречи без будущего.
Действительно без будущего? Мыслимо ли, чтобы за интенсивно прожитыми нами троими — Николь, Беренис и мной — часами не последовало ни единого знака и никакого объяснения? Для меня вечер еще не закончился. Я снова выходил на улицу, я дежурил у уснувшего дома, а теперь, вместо того чтобы попытаться поспать хотя бы несколько часов, ходил взад и вперед по комнате, потому что мне казалось невозможным не продолжить запутанный эпизод, из которого я отказывался выходить. Но поскольку ночь была безнадежно нема и пуста, то, чтобы получить отложенное на время откровение, нужно было дождаться утра. Я неоднократно и очень громко сообщил о своем отъезде, назвал время отправления поезда. Оставалось только еще указать номер вагона и место. Дабы меня не провожать, никто никак не прореагировал. Правда, если использовать формулу председательницы, — промчалось целое столетие! — мне ведь нужно было «только пересечь площадь». Что же я себе вообразил? Я ничего не воображал, я знал. Я знал, что, как только ее муж уйдет на завод (а в этой стране мужья уходят на работу с рассветом), Николь не удержится от искушения побежать на вокзал и там усугубить — или рассеять? — двусмысленность, которой был насквозь пропитан истекший вечер. Я припоминал, с каким смирением Николь когда-то приспосабливалась к моему расписанию, к моим капризам, встречалась со мной в самых что ни на есть абсурдных местах и в столь же абсурдной обстановке. Разве что вместо нее придет Беренис? Мой поезд отправлялся, кажется, достаточно рано, чтобы она могла прийти ко мне, прежде чем отправиться в свою гимназию. Девушки обычно бывают более смелыми, чем их матери. Даже в Б., где царит видимость неукоснительного порядка, им, должно быть, тоже случается пропускать занятия и совершать непредсказуемые поступки. Чего только не рассказывают вполголоса про свободу местных девушек, про их смелость, которую Реформа, богатство, наличие гор и озер, похоже, довели до огненного совершенства. Было бы просто невероятно, чтобы Беренис, столь раскрепощенную маленькую француженку, не коснулась разлитая вокруг благодать; обволакивающая ее аура, где чувственность спорит с детством, сильно подействовала на мое сновидение и укрепила меня в уверенности, что через несколько часов она появится на перроне, одетая полицейским, закутанная из-за холода, разрумянившаяся, с веселыми глазами.
Я несколько раз вздрагивал, не зная, является ли раскручивающийся во мне фильм частью действительности или частью моих сновидений, с удивлением видел вновь влажные стены комнаты и зажженные лампы. Я выключил свет, и сон наконец одолел меня.
В начале нашей совместной жизни с Сабиной я приобрел привычку — потом она прошла, — проснувшись, записывать свои ночные сны. Не то чтобы я проявлял к ним какой-то повышенный интерес, а просто из-за того, что Сабина любила рассказывать, что снилось ей. Она утверждала, что видит много снов, невероятно оригинальных и очень длинных. «Я настоящая фабрика снов», — манерно говорила она, намазывая тартинку медом.
Она стремилась к тому, чтобы завтраки были настоящими трапезами. Стол был весь уставлен горшочками, вареньями, экзотическими злаками, фруктами, чайниками, сахарницами, наполненными заменителями сахара, по последней моде, или же, наоборот, коричневым неочищенным сахаром, более натуральным, чем сама природа. Я относился к этой утренней литургии с тем большей неприязнью, что Сабина примерно раз в два дня сдабривала эту обжираловку подробным пересказом своих ночных несуразиц. У меня из-за этого возник довольно комичный комплекс неудовлетворенности, и я, пользуясь карандашом и блокнотом, которые у добросовестного писателя всегда, даже ночью, находятся под рукой, вскоре приноровился записывать свои сны, которые я, естественно, никогда не рассказывал, но которые, точнее их обрывки и обломки, пытался одно время анализировать в надежде, ни разу не оправдавшейся, найти там какую-нибудь пищу для своей работы.
От всего этого ничего не осталось, разве что привычка пытаться утром припомнить кое-какие сохранившиеся ночные образы, прежде чем они развеются и забудутся. Это стало для меня своего рода дисциплиной, которой я подчиняюсь все более и более скрупулезно: возраст окутывает туманом и рассеивает большинство мыслей, проходящих через меня, обольщающих меня и возвращающихся в небытие.
Густой голос телефонистки, разбудивший меня в то утро в Б., чтобы сообщить мне время, извлек меня из неспокойного, черного сна, от которого, как я сразу подумал, окончательно я уже никогда не отделаюсь. Я зажег две лампы у изголовья кровати, включил радио и инстинктивно попытался придать форму клочковатым и смутным обрывкам видений, разорванных телефонным звонком.
Вначале мне показалось, что речь идет о банальнейшем эротическом сне, вполне объяснимом, если принять во внимание количество потребленного мною алкоголя и то направление, которое приняли мои мысли, перед тем как я заснул. В ожидании заказанного на семь часов кофе я предпринял еще несколько усилий. И тогда все стало на свои места. Да, сон, конечно, самый обыкновенный, — хотя в моем возрасте подобная их разновидность становится уже редкой — во время которого меня не без грубости, но и не без приятности совращали с пути истинного. Удивило меня только то, что сновидение послало мне в партнеры не Николь, как можно было бы ожидать, и не Беренис (и не интенсивную госпожу Дю Гуасик), а Сильвена Лапейра собственной персоной, способного, как мне вроде бы показалось во сне, быть оглушительным не только благодаря своему замогильному голосу.
В дверь постучали. Затем в волне утренних благоуханий появился поднос с завтраком. Я поймал себя на том, что улыбаюсь. «Ну вот, — сказал я самому себе, — теперь я располагаю всей информацией! На этот раз проблема рассмотрена со всех сторон…»
Вскоре аромат кофе и необходимость поторапливаться рассеяли фантазии моего подсознания.
10. ОТЪЕЗД
Я раздвинул шторы: начало дня оказалось мокрым, полным отблесков. За несколько часов погода смягчилась, снег весь растаял, и город покрылся лужами. Я рассчитывал на суровый мороз, на жестокое и победоносное утро, а судьба приготовила мне эту грязную губку. От мигрени раскалывалась голова. Я проверил, хорошо ли повешена трубка, и обнаружил, что плохо. Спросонья я положил ее поперек вилки. Звонили мне или нет? В Б. встают рано. Я подавил в себе желание спросить телефонистку. Виноватый, уже? Я допил четвертую чашку кофе, после чего, почти сразу же, сердце бешено заколотилось. Получив дополнительную поддержку, боль в висках накатывала яростными волнами. Я знаю, на что похожи мои глаза в такие минуты: на крошечные серые дырочки с сузившимися зрачками. «В хорошем же виде я предстану перед ними…» Я подумал: предстану перед ними. Я не отделял их друг от друга.
Позднее, выйдя из номера, я не стал спускаться на лифте, а пошел по беломраморной с арабесками из цветов лестнице. Дойдя до последнего пролета, откуда виден весь холл, я выпрямился и со старательной легкостью готовящегося к выходу на сцену комедианта покачал сумкой на вытянутой руке. Тщетно обшаривал мой взгляд все уголки с диванами, пуфами, креслами, приютившими толстые зады деловых людей. Мужчины, везде одни мужчины со своими блестящими, гладко выбритыми щеками, со своей жадной любовью к жизни. Перед закрытой дверью одного из салонов складывались пополам и вновь выпрямлялись японцы. У администратора, когда я захотел оплатить по счету за бар, меня встретили вежливым протестующим жестом: «Фрау Гроссер сказала… Все в порядке». Да, все было в порядке. Я вышел из отеля и собирался было уже пересечь наискосок площадь, как вдруг из едва побледневшей тени возник троллейбус, слегка задел меня и обрызгал. Неожиданная задержка заставила меня выругаться.
Я быстро вернулся в «Райнишер Хоф», где портье, увидев меня, вытащил из-за своей стойки салфетку, щетку и склонился к моим ногам, преисполненный решимости не только почистить мне брюки, но и измять их. С трудом вырвавшись от него, я попросил швейцара вызвать Париж. Номер Сабины. (Перед каждым своим предательством, даже самым крошечным, я пытаюсь искупить его, компенсировать каким-нибудь известным мне одному способом.) Я постарался, ничего не говоря ему, выучить наизусть расписание и распорядок дня Люка, чтобы иметь возможность звонить, не попадая на его мать. Я знаю, с какой поспешностью он бросается к телефону, когда слышит звонок: если он дома, то нет никакого риска. Утро вторника было подходящим временем.
— Привет, — сказал я, — это я.
— Привет, — сказал Люка, — ты откуда звонишь?
— Я пока еще в Б. Поезд у меня через полчаса.
— А у меня через полчаса занятия. Я уже уходил. Как, у тебя эта тягомотина нормально прошла? Не очень было занудно?
Голос был естественный. Торопливый, но естественный. Этот телефонный звонок был, конечно же, неудачной хорошей идеей. Когда ты находишься зимним утром в Б., то у тебя мало шансов испытать прилив нежности. На женщин тоже, кстати, лучше не залезать на рассвете, когда у них еще не чищены зубы. Мне все чаще и чаще случается пытаться в самые неподходящие часы навязать жизни действия, слова, жесты, для которых благоразумие обычно отводит спокойные вечерние часы или ночь.
Я стоял напротив стены, голова и плечи были наполовину прикрыты поглощающей звук пластиковой раковиной. Ничего не слыша, я видел, как все более и более многочисленные японцы обмениваются приветствиями. Молчание Люка, чуть затянувшееся. «Когда увидимся?» — спросил я. (Я знал, что мой сын не удивится моему звонку и не будет спрашивать, почему я звоню. Подобное любопытство ему чуждо.)
— В субботу, как обычно.
— А может быть, еще до того поужинаем вместе, в какой-нибудь из ближайших вечеров? Завтра, например.
— Завтра, хорошо. А сейчас извини, ладно? Меня ждет твой друг Лансло. Спасибо, что позвонил.
Каждая из реплик Люка закрывала какой-нибудь выход, преграждала путь излияниям. Я к этому привык. Подчиняясь все той же привычке, я бросил: «Привет, сын!» — и повесил трубку.
Европейские вокзалы отличаются от вестибюлей отелей тем, что там очень много девушек и женщин. Центральный вокзал Б. не составлял исключения из правила. Можно понять, почему туда устремляются одинокие мужчины и убийцы: женщины там беззащитные, печальные. Готовые слушать хоть дьявола. Поезда привозят их из пригородов и разбрасывают по конторам, школам, магазинам. Благоразумные идут решительным шагом, выдыхая изо рта пар; другие же, беспечные, смотрят по сторонам, останавливаются перед витринами торговых галерей; это утренние искательницы приключений.
Николь? Я уже не ждал ее. Слишком было невероятно, чтобы дама в сером платье пришла сюда. Прежней рассудительной девушки с безумными жестами больше не существовало. Беренис, да, она придет. Одна или окруженная подружками; я уже видел у нее на лице насмешливую томность девушек, бывающих на вокзале, их смотрящие в сторону, чуть-чуть озорные глаза. Может быть, в такой же, как у них, одежде. Вельветовые джинсы, сапоги. Возможно, «луноходы» с разноцветными шнуровками; в таких очень многие проходили, и походка их была совсем как у слонов; особенно забавно это смотрится, когда у них узкие бедра. И куртка с капюшоном. Все девушки на вокзале были в куртках.
Иметь девушку, иметь дочь: по-французски звучит почти одинаково. Стоит поставить глагол в другом времени, и «быть ее отцом» превращается в «быть ее любовником». Что это значит, иметь в доме дочь? Какие вещи болтаются на стульях, креслах, какие запахи витают в коридорах? Может быть, и двери хлопают иначе, чем тогда, когда в доме сыновья? Так же воют кассеты, так же до бесконечности длятся телефонные разговоры? В тринадцать, в четырнадцать лет они представляют собой нечто вроде бесстыжих коз, вокруг них всегда какой-то круговорот, они пугают. Но потом? В какой момент и с кем заключают они таинственный союз, который превращает их впоследствии в женщин? Что это за явление, в чем состоит перелом? Я имею в виду не первые постельные опыты, не торопливые кувырканья, к которым, как известно, девочки теперь приобщаются, едва расставшись с куклами. «Надо мной работал халтурщик» — Николь говорила так уже восемнадцать лет назад. Я думаю не об этом, а о том таинственном превращении, когда девочка утрачивает свою угловатость, когда ее жесты округляются, когда в ней на смену подростковому гаму приходит молчание. Наблюдать за этим. Видеть это изо дня в день со все возрастающим недоумением. Быть мужчиной, чья тень падает на эту маленькую территорию, потревоженную, приведенную в полный беспорядок, готовую покориться. Восхищение или ревность? Что за чувства волнуют вас, господин Лапейра? Всегда ли вы были ей хорошим проводником, не стесняли ли во время путешествия ее движения. Способствовали ли вы вызреванию этого эфемерного шедевра, который я обнаружил вчера вечером в вашем доме? У меня нет никаких оснований подозревать вас в неловкости. Еще меньше — в равнодушии. В доме на Эльфенштрассе царит мир. Он усугубляет мою досаду. И перечеркивает мои подсчеты.
Говорили ли вы сегодня обо мне, завтракая, в соответствии со своим миропониманием, непременно в кругу семьи? Незнакомый мне мальчик — Жан-Пьер? Жан-Поль? — вероятно, задавал вопросы. Мне нет никакого дела до Жан-Пьера или Поля; он ваш. Но что ему отвечали? Голос Николь. Голос Беренис. Ведь говорить должны были они. Выбор слов. Притворная резкость или нейтральный тон? Лучше никогда не знать, в каких выражениях нас честят в наше отсутствие. Как Беренис удалось выкроить в своем распорядке дня один час, чтобы прийти на вокзал? Пришлось ли ей хитрить, чтобы по-другому одеться, надеть пальто, незаметно от матери выйти из дома? А может быть, она появится в обличье роскошной девушки, резко выделяющейся в шумной толпе гимназисток и машинисток, из-за хоровода которых вокруг меня я уже начинаю заболевать вертячкой? Я бы солгал, если бы стал утверждать, что временами мне казалось, что это она, но что в последний момент я обнаруживал свою ошибку, и тому подобное. Любой силуэт мог бы оказаться ее силуэтом, но ни один из них не вводит меня в заблуждение. Минуты идут. Мой поезд, как говорят, «подан» и уже стоит у перрона. Какой же я глупый: если Беренис и в состоянии найти меня здесь, то это можно сделать, только пробежав из конца в конец весь перрон, только патрулируя вдоль вагонов с отчетливо написанным на белых пластинках пунктом назначения: Париж. Конечно же, она ищет меня там, а не в круговоротах толпы, не в этом птичнике, где я вот уже десять минут выворачиваю себе шею.
Я тороплюсь к третьей платформе. Поезд стоит, сверкает своими вагонами цвета копченой семги сквозь вокзальный туман. Снова мужчины. Если девушки принадлежат пригородной и коммерческой сферам жизни, то большие расстояния, бизнес, капиталы принадлежат мужчинам. Здесь заметить девушку так же легко, как зимой солнце. Несколько дам с голубыми волосами толкают перед собой тележку, тянут за собой собаку. Другие семенят за носильщиком. Немецкие голоса чеканят падающие из-под стеклянной крыши уведомления судьбы. Вот мой вагон, мое место. Положив свою сумку, я тут же опять спускаюсь на платформу. Держа на руках маленького мальчика, бежит вдоль поезда мужчина. Туман как будто сгущается, делается более плотным. Ко мне обращается человек в фуражке, а потом, поскольку я его не понимаю, толкает меня в вагон. Слышится пневматическое пришептывание закрывающихся дверей, и платформа за окном начинает двигаться, серая, безлюдная. Восемь часов сорок три минуты.
Они позволили мне убежать, подобно вору. Ни Николь, ни Беренис не соизволили прийти, чтобы либо побороться со мной за похищенную у них тайну, либо подарить мне ее. Неужели они настолько богаты, что могут махнуть рукой на украденную мною вещь, или же им просто известна ее смехотворно малая стоимость?
У пригородов Б. более строгая геометрия, чем у парижских, и поэтому они в обрамлении рваных облаков январского утра производят еще более тягостное впечатление. Как это он сказал, наш гневливый философ? «Кондиционированный кошмар». Нет, подобно всем патетическим выражениям, это словосочетание выглядит слишком ярким. У Николь безошибочная память: из моей первой книги она запомнила — вероятно, она одна — единственную фразу, под которой я подписался бы и сегодня. Ее слова убаюкивают меня. Жизнь не возрождается, она течет. Как течет она по этим чистеньким и благоденствующим скоплениям домов, без конца и края тянущимся в грязноватом свете утра, от которого я не могу оторвать глаз.
Вокруг меня развернули газеты. Из всех только я один не запасся мировыми новостями и весь ушел в переживание своих воспоминаний, в свою головную боль, в удивление оттого, что, как я замечаю, испытанное мною унижение уже тускнеет и удаляется. Да, как сказал бы Люка, устроили они мне праздник, молодые дамы из Б.! Что осталось от того гонора, с каким я вышел из вагона ровно семнадцать часов назад? Семнадцать часов, семнадцать лет; у судьбы повадки игрока. Зачем я туда ездил, в этот Б.? Раньше в подобных ситуациях я обнаруживал волчий аппетит и соответствующую торопливость. И до поры до времени самоуверенно полагал, что авторство такого рода гусарских выходок принадлежит мне.
До того дня, когда на одном из литературных обедов (а уже одного этого выражения достаточно, чтобы понять, что дело было чуть ли не сразу после потопа) старый Марсель Т., насмешливо обозревая собравшиеся там сливки общества, шепнул мне тихо: «Что мы здесь забыли, а? Ладно хоть представляется случай выбрать, какую из этих дам надо будет сегодня ночью поиметь…» В добрый час — так я понял сначала его слова. А потом, подумав, посмотрел на Марселя Т. с недоумением: о прошлом времени он говорит или о настоящем, обо мне или о себе? Его нос старого волокиты вдыхал без отвращения перенасыщенный усталостью и духами воздух затянувшейся вечеринки; глаза его блестели. Значит, старики тоже этим занимаются! Как и прежде снимают в полутьме спальни свои старые костюмы, свои старые жилеты, извлекают из них свои телеса со слишком просторной и покрытой пятнами кожей, и предлагают их в пользование дамам? Марселю Т. тогда было столько же лет, сколько мне сейчас, может быть, поменьше.
Дома теперь попадаются реже, белые поля с не растаявшим еще снегом чередуются с сосновыми рощицами. Видны автомобили с зажженными фарами, медленно едущие по грязи. Расстояние, отделяющее меня от Б., увеличивается; расстояние между мной и домом на Эльфенштрассе, между мной и дерзким маленьким призраком, так быстро вновь погрузившимся в неведомую мне свою жизнь, в свои тайны, свои страсти, во все то, что, как мне показалось вчера, я мельком увидел и больше уже не увижу. Я человек усталый, а Беренис еще ребенок. Пройдет несколько дней, и от всего того, что в течение одного вечера казалось мне таким интенсивным, чрезвычайным, ничего не останется. На какое-то мгновение лицо Беренис всплывет опять благодаря поразившему меня сходству, но потом и оно тоже — лицо, сходство — уйдет куда-нибудь в прошлое, растворится. В один прекрасный день Беренис появится вновь. Ей исполнится двадцать лет, она будет уже студенткой, она будет путешествовать, прикуривать сигареты, жить в Париже, ей потребуется помощь или совет, и она позовет меня. Черты ее станут более определенными, а тело — более тонким. Я подумаю: «Надо же, этот акцент, я его совсем забыл…» Рядом с ней будет мужчина, тот или другой, который покажется мне слишком юным или, наоборот, уже потертым, и я обнаружу в жизни Беренис, такой, какой она мне ее представит, некую методичность и решительность, некую лихость, которая пугает мужчин и заставляет их мечтать об одиночестве, хотя бы на один вечер. «Мама вас очень любит», — скажет она мне, и за этими словами не будет абсолютно ничего. Ничего.
В течение какого-то времени газеты бьются, как крылья огромных умирающих птиц, ломаются и превращаются в лежащие на коленях белые тряпки, соскальзывают на пол. Рты раскрываются, шеи изгибаются. Появляется передвижной бар, и я прошу катящего его служащего налить мне два кофе в одну чашку. Главное не заснуть. Я хочу исследовать до конца овладевшее мною чувство отречения. Заснуть — один раз не в счет — это было бы слишком просто. Пальцы в кармане пиджака натыкаются на пластинку с оставшимися в ней тремя голубыми драже. Я знаю, что два дня подряд принимать их не следует. Привыкание, нежелательные последствия. Я всегда уважал это правило. Но тиски слишком сильно сжали черепную коробку; кипение приподнимет крышку. Я тайком, словно двести человек все еще наблюдают за мной, надавливаю пальцем в глубине кармана на оболочку, чтобы извлечь из нее два драже, и кладу их в рот в промежутке между двумя глотками обжигающего кофе. Потом закрываю глаза, прислоняюсь затылком к спинке дивана и очень сильно нажимаю пальцами на веки. Я слышу, как клокочет кровь, как ревет тишина. Теперь нужно только ждать. Когда на вокзале я стоял и смотрел на девушек, гроздьями растягивавшихся между платформами и выходом, боль у меня исчезла. Беренис, если бы она появилась, нашла бы, что я нахожусь в прекрасной форме. Но стоило только поезду тронуться с места, как стреляющая боль опять возвратилась.
За несколько минут замедленная автоматная очередь рассеивает мои облака. Легкое покалывание убыстряет и разжижает мои ощущения. Прилив крови к голове. Какое-то мгновение я еще сопротивляюсь желанию открыть глаза, чтобы не спугнуть начавшее охватывать меня хрупкое блаженство. Когда я их открываю, то обнаруживаю, что сидящий напротив меня пассажир за мной наблюдает. Как бы следит на экране за развертывающимися у меня в голове битвами и яростно топочущими толпами. Попытка изобразить на лице достоинство его не смущает. Я встаю, иду в туалет, умываю там лицо холодной водой. Зеркало. Глаза расширились; во мне пробудилось поселившееся в них, заставляющее их блестеть любопытство. В который уже раз я пытаюсь выяснить, что же можно прочитать, наблюдая за человеческим лицом. Физическое сходство — это мимолетные, преходящие интуитивные прозрения, которые накладываются одно на другое, подобно прозрачным пластинкам, применяемым для составления фотороботов. У некоторых людей эта способность развита очень сильно. Они не могут смотреть телевизор, даже мультфильм, без того, чтобы не увидеть появляющегося вдруг дядю Эдмона, кузину Розу. До последнего времени я мог припомнить с относительной достоверностью только облик Люка да еще иногда — со все большими усилиями, потому что образ постепенно расплывается, — свою мать. Однако эти отображения не давали мне никакой информации и даже, вот незадача-то, доставляли мне только огорчения. Чтобы любить человека, предшествующего тебе, и того, кто идет следом за тобой, нужно любить самого себя. Имеющая прекрасную репутацию и волнующая сердца цепь поколений сковывает меня, не давая взамен никакого успокоения. Как я могу любить в других те черты характера, которые мне удалось вытравить у себя?
Когда годам к пятнадцати вдруг обнаружилось, что у Люка силуэт и кое-какие жесты способны напомнить мои силуэт и жесты, то восторгаться этим фамильным сходством, которое я не признавал, стали, разумеется, другие, а не я. Фотографии и один любительский фильм доказали мне, что они правы; я был уязвлен. Я уже было начинал тогда приходить к мнению, что Люка довольно красив, а тут, преисполненный недоверия, принялся украдкой наблюдать за ним, и в конце концов стал жалеть его. Изо всех своих сил я желал ему избежать этой похожести, которая, Бог знает почему, восхищала людей. А в то же самое время и вопреки всякой логике я продолжал оказывать на него влияние и даже давление, более или менее приемлемое оправдание которым можно было найти только в страстно желаемом мною сродстве с ним. Все это порождало целый узел противоречащих друг другу фанатизмов. Прямо какая-то машина по производству страданий. Ну а как же тогда объяснить тот факт, что, обнаружив черты сходства между собой и Беренис, я, вместо того, чтобы выводить из своего открытия фатальные, порочащие девушку в моих глазах законы, весь заискрился благими чувствами.
Вчера событие меня взбудоражило. Возможно, потому, что оно было связано с приключениями тела и сердца, с памятью, с забвением, с волнением от встречи с Николь и с неразрывно связанным с ним волнением от открытия Беренис, а еще больше — от открытия, что за одним чувством может скрываться другое и что в глубине исключительного, драматического, поспешно идеализируемого переживания продолжают пульсировать привычные низменные желания.
Мальчик, со своими большими ногами, со своим двутональным голосом, со своей всегда сомнительной чистоты кожей на затылке и за ушами, никаких ассоциаций с ангелами не вызывает. Между тем моментом, когда он утрачивает грацию, и тем моментом, когда становится мужчиной, простирается широкая полоса целины. Перед ней ты в его глазах являешься образцом, учителем; после — надеешься внушить ему хотя бы немного той шероховатой снисходительности, которая приятно пощекочет какие-нибудь другие участки отцовского инстинкта. Быть самым сильным, быть самым слабым — счастье можно найти в обеих ситуациях. С Люка я разрываюсь между той и другой, равно как и он — между двумя своими возможными ролями. Я уже больше не внушаю ему уважения и пока еще не внушаю жалости. Уже давно минуло то время, когда он не сомневался ни в чем, исходящем от меня, но еще не наступил момент, когда, наблюдая за моей неуверенной походкой, слыша мою одышку, он начнет воспринимать меланхолию уходящего времени и смерти. Он подкарауливает меня, брюзжит. Мне подошла бы любая комедия, но Люка не играет ни одну из них; он весь погружен в свою внутреннюю драматургию, в свои трагедии, негодования, плутни, в свои химеры. Я попытался было укрепиться на этом эфемерном, появившемся из волн и обреченном погрузиться в волны континенте, но меня оттолкнули. Тонкие губы, отрывистый голос: «Ты извини меня, но занятия…» Уже больше никогда не будет ни прежних потасовок, ни внезапных объятий, ни бурных чувств; больше никогда не будет безмерного отчаяния, объяснений, как устроена Вселенная, веселых забав. Мы сейчас пересекаем засушливую местность. И наша нежность уже больше не дает всходов.
Дети других? Я их, в общем-то, не знаю, за исключением тех, что встречаются в моем племени, которое, похоже, коллекционирует исключения из правил. Нас можно назвать саботажниками статистики. Хотя пейзаж довольно банальный: побеги, немного наркотиков, жизнь без мускулов и без принципов, но в то же время и конкурсы, и карьеры, и волчьи зубы. Из этого ничего не извлечешь, никакой закономерности. В возрасте Люка сын великой Магеллоны Жюдас бил ее смертным боем и, как какой-нибудь сутенер, выгребал у нее из кошелька все деньги. Дочери Лувиньяка в пятнадцать лет распределяли между собой мужчин, обслуживающих пляжи в Кавалере. Однако эти отклонения, какими бы живописными они ни выглядели, нашей монополией не являются. Столько же их в распоряжение социологов поставляют и старинные буржуазные семейства.
В Париж поезд прибудет в час с минутами. В это время Люка вполне мог бы меня встретить. С тех пор как он сдал на права, Сабина часто дает ему свою машину. Должен ли я был попросить его об этом, или я ожидал, что он сам догадается? Я бы повел его пообедать в какую-нибудь эльзасскую таверну, которые в былые времена цвели буйным цветом вокруг Восточного вокзала. Их любил мой отец. Сейчас сохранились, может быть, одна-две. Я бы рассказал ему… Рассказал бы о чем? О том, чем мы с мадемуазель Эннер занимались в постели в то время, когда он, Люка, задыхался в своем кувезе? О том, как и с каким искусством я изменял его матери? И о том, что у Беренис Лапейра такие же, как у него, глаза и его подбородок?
Разговаривать со своими детьми тяжело еще и потому, что им ничего не скажешь. Как только в жизни какой-нибудь крен, лучше молчать, если не хочешь превратиться в карикатуру. Жизнь, она ведь только частная и есть, а о ней — молчок. Остаются принципы, общие идеи, мировые проблемы, и «Ты-уверен-что-хорошо-подготовился-к-экзамену?» — все равно что спрашивать у репейника, пора ли его уже рвать.
С Люка я перепробовал все. Оживленные тет-а-теты? Это было скучно нам обоим. Неожиданные красивые жесты: Венеция, Мон-Сен-Мишель. Лыжи: я казался ему неуклюжим. Товарищеский стиль? Он говорил мне: «Ты заставляешь себя…» Я пытался даже писать ему. Моя профессия — я должен был бы тут блистать. А в результате получилось, что я пять или шесть раз послал ему писульки, нашпигованные жалобами, урезанными фарисейскими признаниями наподобие тех, что сочиняют вдовы и оставленные мужья, которые панически боятся личной встречи. Сначала молча кривишь рожу, а как только он хлопнет дверью, сразу за перо! Люка не ответил мне ни разу. Он даже не говорил мне, получил ли он мои письма.
Кофе на колесах оказался никудышным. Когда я проснулся, день уже вышел из своей летаргии. Прежде чем прервать мои сновидения, солнце, остановившееся на моем лице, слегка их погрело. Мне трудно сказать, где я сейчас нахожусь с моим переливанием из пустого в порожнее, хотя фразы во мне все идут, все сплетаются в гирлянды. Я ведь нередко пишу и во сне. Моя проза там развертывается, как хвост павлина, надувается, фуфырится — такая музыка! Она позволяет себе там и головокружительные ускорения, и внезапные остановки, и суховатую изысканность. А наутро от шедевра остаются одни воспоминания.
Я прожил эти последние двадцать часов, как читают какую-нибудь историю, пассивно, не без раздражения реагируя на ее затянутость, с недоумением обнаруживая пропуски. Она все еще ткется во мне, организуется, пишется. Ничто из всего этого вторично в небытие уже не уйдет. Едва я поклялся себе в этом, как меня охватило ликование. Живой? Все еще живой? Всем застрявшим у меня в горле словам, всем моим признаниям, которые кто-то отказался выслушать, истинам, которые невозможно высказать, потому что тактичность предписывает, чтобы их приукрасили, чтобы их нарядили в другие одежды, всему этому я придам форму. Я уже назначил свидание и Николь, и Беренис, гораздо более скабрезное, чем то, на вокзале в Б., куда они не пришли. В назначенный мною день, может быть уже близкий, они прочтут нашу историю, каждое слово которой, каждое слово, вонзится в них и причинит им боль. И председательница тоже прочтет, и декан, и госпожа Дю Гуасик, и красавец Лапейра, и Сабина, и Люка. Им захочется заткнуть мне рот, запретить книгу, подвергнуть ее сожжению на костре или, по крайней мере, захочется сделать вид, что они меня не знают. Так удирают на улице от драки, где кто-то истекает кровью. Однако им все-таки придется проглотить пилюлю. Что же касается Люка, то как он может заставить меня замолчать? Как закроет он мою книгу? Он отбросит ее только тогда, когда прочтет последнее слово, и моя любовь разорвется у него в сердце, как граната.