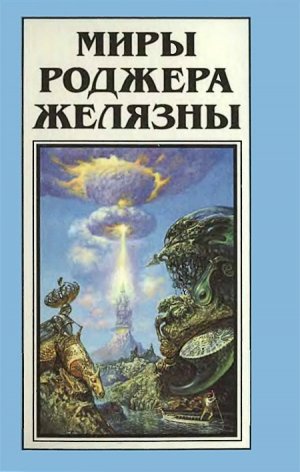
Миры Роджера Желязны
Том тринадцатый
ДВЕРИ ЛИЦА ЕГО, ПЛАМЕННИКИ ПАСТИ ЕГО
Двери лица его, пламенники пасти его[1]
Я — наживляльщик, а если разобраться, так и попросту — наживка. Прирожденных наживляльщиков не бывает — кроме как в одном французском романе, где все герои такие. (Если память мне не изменяет, этот роман называется «Все мы — наживка». Тьфу.) Как дошел я до жизни такой — история малоинтересная, но Дни Зверя вполне заслуживают нескольких слов; почитайте, если не лень.
Венерианская Низменность расположена между большим и указательным пальцами континента, именуемого Ладонь. Когда эта рука швыряет навстречу снижающемуся кораблю черно-серебристый кегельный шар Облачной котловины, любой пассажир огнехвостой кегли невольно дергается и зажмуривается. Слава еще Богу, что привязные ремни не позволяют этому пассажиру — мне, тебе, ему — выставить себя совсем уж полным идиотом. Усмехайся потом сколько угодно, но сперва ты дернешься. Всенепременно.
И тут же перед тобой раскрывается Ладонь — нормальная человеческая ладонь, пять пальцев, все как полагается. Потом, по мере приближения, иллюзия слабеет, унизанные кольцами средний и безымянный превращаются в удлиненные архипелаги, а остальные — в три зеленовато-серых полуострова, причем ты видишь, что большой палец слишком уж короток и загибается на манер то ли человеческого зародыша, то ли Огненной Земли.
Ты набираешь полную грудь чистого кислорода, может быть, вздыхаешь — спуск обещает быть долгим.
Ладонь ловит корабль, как высоко поданный мяч, и ты оказываешься на посадочной площадке Линии Жизни — городок назван таким необычным образом из-за своей близости к стекающей по Низменности реке, которая здесь, перед впадением в Восточный залив, разливается широкой дельтой.
С минуту кажется, что мячик проскользнет между пальцев, и тебе предстоит незавидная роль куска мяса в утонувшей консервной банке, но потом — оставив надоевшую метафору — корабль садится на опаленный бетон, ты вытаскиваешь свои документы и предъявляешь этот средних размеров телефонный справочник коротенькому толстому человеку в серой фуражке. Бумаги показывают, что ты не подвержен никакой таинственной нутряной гнили и т. п. Тогда человек одаривает тебя коротенькой толстой серой улыбкой и направляет к автобусу, идущему в Карантин, где ты и проводишь три дня, доказывая, что и впрямь не подвержен никакой таинственной нутряной гнили и т. п.
Однако скука — она ведь тоже гниль, да еще почище любой другой. По истечении трех дней ты неизбежно бросаешься на штурм злачных заведений Линии Жизни — поступок несколько опрометчивый ввиду подавляющего превосходства противника. Действие алкоголя в нестандартных атмосферных условиях досконально описано в трудах многочисленных знатоков, а посему я ограничусь замечанием, что запой — предмет весьма серьезный, даже самое предварительное с ним знакомство требует не меньше недели, а на глубокое проникновение может уйти вся жизнь.
Я был весьма многообещающим исследователем (но никак не законченным специалистом), занимался этим благородным делом уже два года подряд, а тут откуда ни возьмись — «Безграничный простор», он пробил мраморный потолок венерианских облаков и вывалил в наш городишко целую орду пассажиров.
Пауза. Альманах Миров о Линии Жизни: «Портовый город на восточном берегу Ладони. Примерно 85 % из 100 000 населения (перепись 2010 года) составляют служащие Агентства внеземных исследований. Вторая по численности группа жителей — персонал нескольких промышленных корпораций, занятых фундаментальными исследованиями. Небольшое количество независимых морских биологов, богатых любителей рыбалки и припортовых предпринимателей».
Я повернулся к Майку Дабису, коллеге по портовому предпринимательству, и прокомментировал хреновое состояние фундаментальных исследований.
— Но если знать известное немногим…
Тут Майк смолк и продолжил медленный глотательный процесс, рассчитанный на привлечение моего интереса — и нескольких ругательств с моей стороны.
— Карл, — разродился он наконец с совершенно бесстрастной физиономией, — а ведь Стадион готовят на выход.
Я мог бы врезать по этой самой физиономии. Я мог бы налить ему в стакан серной кислоты и с наслаждением смотреть, как чернеют и трескаются его губы. Но я только неопределенно хмыкнул.
— И кто же это сдурел настолько, чтобы выкладывать пятьдесят кусков в день? АВИ?
— Джин Лухарич, девушка с фиолетовыми контактными линзами и пятью, а то и шестью десятками великолепных зубов. Вообще-то глаза у нее карие.
— Ей что, приелась торговля косметикой?
— Без паблисити дело глохнет, — пожал плечами Майк. — Когда она завоевала Кубок Солнца, акции «Лухарич энтерпрайзис» подскочили на шестнадцать пунктов. Ты когда-нибудь играл в гольф на Меркурии?
Играл я, играл, но сейчас это к делу не относилось.
— Так значит, она едет сюда с чековой книжкой и рыболовным крючком?
— На «Безграничном просторе», сегодня, — кивнул он. — Уже, наверное, приземлились. Туча репортеров. Ей, видите ли, нужен Ихти. Позарез.
— Хм, — хмыкнул я. — И насколько позарез?
— Контракт на шестьдесят дней, Стадион. Пункт о возможном продлении срока. Депозит в полтора миллиона, — четко отрапортовал Майк.
— Больно уж много ты знаешь.
— Я — отдел кадров. Ребята из «Лухарич энтерпрайзис» вышли на меня в прошлом месяце. Очень полезно пить в нужных местах.
— Или содержать их, — ухмыльнулся он по размышлении.
Самое время вспомнить о пиве. Я переварил новости и задал Майку давно ожидаемый им вопрос — за что и был вознагражден очередной лекцией о вреде коньяка и пользе молока.
— Мне поручено завербовать и тебя, — добавил он. — Когда ты в последний раз выходил в море?
— Полтора месяца назад, на «Корнинге».
— Тоже мне экспедиция, — фыркнул этот тип. — А когда ты в последний раз был под водой?
— Довольно давно.
— Больше года назад, да? Это когда тебя порезало винтом, под «Дельфином»?
— На прошлой неделе, — оскорбленно вскинулся я, — я плавал в реке, у Энглфорда, где сильное течение. Кое на что я еще способен.
— Пока трезвый, — заметил он.
— А мне и придется быть трезвым, — рассудительно объяснил я, — если возьмусь за такую работу.
Майк с сомнением кивнул.
— Стандартная профсоюзная ставка. Коэффициент три за особо трудные условия, — сообщил он (поборов, по видимости, свои сомнения). — Явка в шестнадцатый ангар в пятницу, в пять утра. И со своим оборудованием. Выходим в субботу, на рассвете.
— Ты что, тоже пойдешь?
— Пойду.
— Как это тебя?
— Деньги.
— Не вешай мне лапшу.
— Бар не шибко процветает, а моей девице нужна новая шуба.
— Повторяю…
— …А я хочу убраться от крошки, возобновить контакт с первоосновами — подышать свежим воздухом, размять мышцы, подзаработать…
— Ладно, ладно, извини, что приставал.
Я налил ему стакан, концентрируясь на серной кислоте, но трансмутации не произошло. Наконец я упоил его в сосиску и вышел на улицу, в ночь, погулять и все обдумать.
За последние пять лет было сделано около дюжины покушений на жизнь Ихти, в научных кругах известного как Ichtyform Leviosaurus Levianthus. Сперва к нему применяли обычную китобойную технику, с результатами хорошо еще если нулевыми, а зачастую и катастрофическими; нужно было придумывать что-то другое. Богатый спортсмен Майкл Джент построил Стадион, на что ушло все его состояние.
После года, проведенного в Восточном океане, он вернулся и заявил о банкротстве. Затем на горизонте появляется некий Карлтон Дэйвитс, плейбой, а по совместительству — рыболов-любитель. Он перекупил эту махину и смело пустился в путь, к тем местам, где, по слухам, хорошо ловится Ихти. На девятнадцатый день рыбка клюнула, но затем сорвалась, унося с собой на полтораста тысяч новехонького, толком еще не опробованного оборудования. Еще через двенадцать дней с помощью тройных лесок Дэйвитс подсек-таки своего зверя, накачал его наркотиками и начал вытаскивать на палубу. Но тут он проснулся, разломал башню управления, убил шесть человек и изуродовал пять квадратных секций Стадиона. Все достижения Карлтона свелись к частичному одностороннему параличу и банкротству. Несостоявшийся герой растворился в припортовой атмосфере, а Стадион еще четырежды менял хозяев, с результатами, может быть, и не столь драматичными, но неизменно разорительными.
Наконец этот огромный плот, построенный с одной-единственной целью, был выставлен на аукцион, где его и купило АВИ, для «морских исследований». Изредка находились богатенькие люди, готовые выложить пятьдесят тысяч в день за право рассказывать сказки о Ловле Левиафана. Вот, пожалуй, и все морские исследования, для которых использовался Стадион. Да, забыл сказать. Ллойд его не страхует.
В трех таких путешествиях наживляльщиком был я — и дважды оказывался в достаточной близости от. Ихти, чтобы сосчитать клыки этой твари. Мне хотелось бы иметь один такой клык — буду показывать внукам в целях воспитательных и назидательных.
Я встал лицом к посадочной площадке и твердо принял решение.
— Тебе, подруга, я нужен для местного колорита. Это будет замечательно смотреться в разделе светских новостей, и все такое прочее. Но заруби себе на носу — если кто и добудет тебе Ихти, так только я. Как Бог свят.
Я стоял на пустынной площади. Верхушки зданий Линии Жизни кутались в облака.
За два-три последних геологических периода океан заметно обмелел. Прежняя береговая линия, проходившая у подножия невысокого хребта, отделяющего нас от Высокогорья, расположена теперь на высоте нескольких тысяч футов и милях в сорока от залива, а то, что было морским дном, превратилось в ровный, покатый склон. В четырех милях в глубь материка и в пятистах футах над Линией Жизни находятся почти все взлетно-посадочные полосы и личные ангары. В шестнадцатом ангаре обосновались «Вертолеты Вэла по Вызову», занимающиеся доставкой с берега на корабль и наоборот. Мне не нравится Вэл, но, когда я выбрался из автобуса и помахал механику, этого типа поблизости не было.
На бетоне нетерпеливо подпрыгивали две вертушки, осененные гудящими нимбами. Машина, с которой работал Стив, рыгнула и страдальчески содрогнулась.
— Живот болит? — поинтересовался я.
— Да, газы и изжога.
После небольшой регулировки утробные звуки сменились ровным подвыванием, и Стив повернулся ко мне:
— На прогулку собрался?
— Да, — кивнул я. — Стадион. Косметика. Чудовища. И прочие такие забавы.
— Лухарич, — пробормотал он. — Так значит, это ты. Там тебя желают видеть.
— И по какому же это случаю?
— Камеры. Микрофоны. И прочие такие забавы.
— Я лучше закину свое хозяйство. Который тут будет мой?
Он указал отверткой на второй вертолет.
— Вон тот. Кстати сказать, тебя уже снимают. Появление на сцене.
Он повернулся к ангару, затем снова ко мне:
— Скажи «и-и-и…». Крупный план они снимут потом.
Я сказал, но совсем не «и-и-и». Должно быть, они использовали телеобъектив и умели читать по губам, так как эту часть пленки никогда и нигде не показывали.
Я закинул свое барахло в багажник, забрался на сиденье для пассажира и закурил. Через пять минут из конторы появился Вэл, собственной своей наглой персоной. Он подошел и стукнул по обшивке вертолета, а затем указал на ангар.
— Тебя там хотят видеть! — крикнул он, сложив руки в рупор. — Интервью!
— Концерт окончен! — проорал в ответ я. Или пусть ищут себе другого наживляльщика.
Ржаво-коричневые глаза сузились, белесые брови нахмурились, он метнул в меня ненавидящий взгляд — и молча убрался. Интересно, сколько они ему заплатили, чтобы вселиться в этот ангар и подключиться к его генератору?
Зная Вэла, думаю, что очень и очень прилично. Да и черт с ним со всем, мне этот парень никогда не нравился.
Венера ночью — сплошь густо-черная вода. Стоя на берегу, никогда не различить, где кончается море и где начинается небо. Рассвет похож на молоко, вливаемое в чернильницу. Вначале появляются отдельные сгустки белого, потом — целые полосы. Разбавьте содержимое бутылки до получения ровного серого цвета, а затем наблюдайте, как оно белеет. Через некоторое время вы получите день. Теперь начните все это нагревать.
Пока мы летели над заливом, мне пришлось скинуть куртку. Сзади линия горизонта рябила и колыхалась в потоках горячего воздуха, словно веревка в неспокойной воде. Вертолет берет четверых (пятерых, если нарушить правила и занизить объявленный вес), а если с обычным для наживляльщика багажом — то троих. Однако я был единственным пассажиром, а пилот очень походил на свою машину. Он что-то гудел и не издавал посторонних звуков. Линия Жизни перекувырнулась и испарилась в зеркале заднего обзора примерно в то же время, когда впереди на горизонте появился Стадион. Пилот перестал гудеть и потряс головой.
Я наклонился вперед. Все во мне переворачивалось вверх дном. Я знал каждый треклятый дюйм треклятой посудины, но любые чувства меняются, когда их источник оказывается вне досягаемости. Правду говоря, я уже начинал сомневаться, окажусь ли я еще раз на борту этого плотика. Но теперь я почти верил в судьбу. Вот же он!
Не корабль, а целое футбольное поле. Футбольное поле на атомном ходу. Плоское, что твой блин, только несколько прозрачных куполов посередине да четыре мощные башни по углам.
Любые две соседние «Ладьи» — а как еще прикажете их называть? — могут приводить в действие «тянитолкаев», каковых тоже имеется четыре, по одному на каждом борту. Действуя в режиме «тяни», тянитолкай может поднять к поверхности воды буквально любой мыслимый груз; правда, конструкторы этого механизма имели в виду только один, и весьма специфический, груз, чем и объясняется не очень обычный захват — нечто вроде исполинской остроги. Чтобы тянитолкай мог перейти в режим «толкай», необходимо поднять груз на шесть — восемь футов над водой; эта задача возлагается на Вагон.
Вагон — это стальной ящик размером с небольшой дом; он может передвигаться вдоль любого из многочисленных желобков, которыми изрезана поверхность палубы, и залипать — при помощи электромагнита — на том ее краю, где клюнула рыбка. Установленные в нем лебедки могли бы вытащить из воды броненосец (где ж его, правда, возьмешь), и скорее уж весь Стадион завалится набок, чем Вагон оторвется от палубы — так уж крепко он к ней прилипает.
По сути своей Вагон — всего лишь спиннинговая катушка, но только самая большая и сложная за всю историю рыбалки. Он получает энергию от установленного рядом с центральным куполом генератора (безо всяких, естественно, кабелей), а кроме того, имеет радиосвязь с сонарным постом, отслеживающим все движения и поползновения намеченной жертвы.
В результате удильщик имеет возможность водить свою рыбину на леске много часов, даже суток, кряду — и ни разу ее не увидеть, полностью полагаясь на экран сонара и приборы. И только когда зверь уже подтянут к поверхности, а расположенный двенадцатью футами ниже ватерлинии «совок» выдвигается и начинает помогать лебедке, только тогда непомерно огромная, чем-то похожая на падшего ангела добыча предстает глазам рыболова. И, как выяснил на собственном опыте Дэйвитс, заглянуть ей в глаза — все равно что заглянуть в бездну. А заглядываться тут особенно некогда, нужно действовать. Дэйвитс замешкался, и стометровая, невообразимого веса тварь, уже отходящая от наркоза и обезумевшая от боли, оборвала леску, переломила тянитолкая и малость прогулялась по палубе Стадиона.
Вертолет немного покружил, затем автоматический семафор заметил нас и разрешил посадку. Мы опустились рядом с люком для экипажа, я побросал свои пожитки на палубу и выпрыгнул сам.
— Ни пуха! — крикнул пилот через закрывающуюся уже дверь. Машина взлетела, и семафор снова упал.
Вскинув вещи на плечо, я пошел вниз.
Докладывая о прибытии Малверну, фактическому капитану, я узнал, что остальные прибудут часов через восемь. Намечалось, что у Вэла я останусь один на один с бандой репортеров, которые спокойно, не торопясь, изготовят хроникальную ленту в духе кинематографа двадцатого века.
Заставка: посадочная полоса, темно. Механик возится с норовистым вертолетом. Медленно подъезжает автобус. Укутанный наживляльщик выходит, оглядывается, ковыляет через поле. Крупный план: ухмыляющаяся морда наживляльщика. В кадре появляется репортер. Вопрос: «Вы считаете, что настало время? Что на этот раз его действительно поймают?» Замешательство, молчание, пожатие плечами. Убрать и вставить что-нибудь. «Понятно. А почему вы считаете, что у мисс Лухарич больше шансов, чем у других? Потому что она лучше снарядилась? (Ухмылка.) Потому что теперь больше известно о повадках этого чудовища? Или из-за ее стремления к победе? Вы считаете, что причина в чем-нибудь одном? А может быть — во всем сразу?» Ответ: «Да, во всем сразу». Вопрос: «Именно потому вы и заключили с ней контракт? Потому что предчувствие говорит вам: "На этот раз — обязательно". Так?» Ответ: «Она платит профсоюзную ставку. К тому же самому мне эту хреновину не арендовать, а добраться до зверя хочется». Стереть. Вставить что-нибудь другое. Наживляльщик идет к вертолету, затемнение. И так далее.
— И-и-и, — сказал я, или что-то в этом роде, и пошел осматривать Стадион.
Я взобрался на каждую Ладью, проверяя управление и подводные видеокамеры. Потом я вызвал главный лифт и поехал вниз.
Малверн не возражал, что я хочу перепроверить все лично, он даже был доволен. Мы уже плавали с ним вместе, однажды наши роли были даже противоположными по сравнению с теперешними. Так что я не удивился, встретив его в хопкинсовском холодильнике. Следующие десять минут мы молча обследовали это обширное помещение со стенами из медных трубок, которые создадут здесь арктический холод.
Наконец он ударил по стене. — Ну что, заполним мы эту морозилку или нет?
Я покачал головой:
— Хотелось бы, но сомневаюсь. Мне глубоко начхать, кому там достанется честь поимки, лишь бы я в той поимке участвовал. Только ничего мы не поймаем.
Эта девица — эгоманьяк. Она захочет управлять Вагоном сама — и не справится.
— Ты что, встречался с ней?
— Да.
— И давно?
— Года четыре тому назад.
— Она тогда была ребенком. Откуда ты знаешь, на что эта юная особа способна сейчас?
— Знаю уж. Она, наверное, выучила каждый переключатель и индикатор. Всю теорию знает назубок. А помнишь, как мы с тобой вместе были в правой Ладье, еще когда Ихти выскочил из воды, словно резвый дельфиненок?
— Такое не забудешь.
— Ну и что скажешь?
Он потер свой щетинистый подбородок.
— Как знать, Карл, может, она и справится. Ведь эта девица гоняла на факельных кораблях, ныряла с аквалангом в очень опасных местах. А кроме того, — он бросил взгляд в сторону затянутой облаками Ладони, — охотилась в горах. Вот возьмет да и вытащит эту плотичку, и глазом не моргнет.
— После чего, — добавил он, — Джон Хопкинс оплатит все расходы, да еще отстегнет за мороженую рыбину семизначную сумму. А это — деньги, даже для Лухарич.
— Может, ты и прав, — заявил я, высунув голову из люка, — только во время нашего с ней знакомства она была не такой уж бедной. — А затем ехидно добавил: — И блондинкой она тоже не была.
— Ладно, — зевнул капитан. — Пошли завтракать. Что мы и сделали.
В молодости мне казалось, что нет лучшей судьбы, чем родиться морской тварью. Я вырос на побережье Тихого океана, а лето проводил обычно на Средиземноморье, либо на Мексиканском заливе. Месяцами я общался с кораллами, фотографировал обитателей морских глубин, играл в пятнашки с дельфинами. Я ловил рыбу везде, где только есть рыба, глубоко возмущаясь, что существуют места, доступные рыбам, но не доступные мне. Повзрослев, я стал мечтать о по-настоящему крупной рыбе, что естественным образом привело меня к Ихти — ведь он больше всех известных науке живых существ, за исключением разве что секвойи.
Я взял про запас пару булочек, сунул их в бумажный пакет, налил в термос кофе, а затем покинул камбуз и направился к логову Вагона. Тут все было в точности как прежде. Я щелкнул парой тумблеров, и передатчик ожил.
— Это ты, Карл?
— Он самый, Майк. Подключи сюда питание, жулик ты несчастный.
Майк обдумал мое предложение, затем генераторы включились, и плот задрожал. Я налил третью чашку кофе и нашел сигарету.
— Ну и почему же это, интересно, я жулик, да еще и несчастный? — снова раздался голос Майка.
— Ты знал о телевизионщиках в шестнадцатом ангаре?
— Да.
— Тогда жулик ты несчастный, и больше никто. Меньше всего мне сейчас нужна популярность. «Битому неймется». Прямо перед глазами стоит заголовок.
— Ошибаешься. Главная роль в кино всего одна, а Джин малость посимпатичнее тебя.
Ответа он не услышал — в этот момент я включил подъемник, и над головой оглушительно, как две огромные мухобойки, хлопнули створки люка. Когда Вагон оказался вровень с настилом, я убрал поперечный полоз и двинулся по колее вперед. Посередине палубы, на перекрестке, я остановился, опустил поперечный полоз, а продольный убрал. Затем я скользнул к правому борту, остановился между Ладьями и включил магнитный захват.
За все это время из чашки не пролилось ни капли кофе.
— Картинку, пожалуйста.
Экран засветился. Я подкрутил настройку и увидел рельеф дна.
— Порядок.
Я щелкнул тумблером второй готовности, Майк сделал то же самое. Вспыхнул свет. Разблокировалась лебедка. Я прицелился, выдвинул «руку» и забросил удочку.
— Чисто сделано, — прокомментировал Майк.
— Первая готовность. Сейчас подсекаю. — Я щелкнул тумблером.
— Первая готовность.
Как раз здесь-то на сцену и выходит наживляльщик, чья задача — сделать крючок соблазнительным.
Крючок этот не совсем обычен. В трос вплетены трубки, по которым подается столько дури, что хватило бы на целую дивизию наркоманов; Ихти заглатывает дистанционно управляемую наживку, дергающуюся перед ним, рыбак подсекает, и концы крючка впиваются в глотку.
Последняя подстройка, теперь что там на индикаторе уровня? Пусто, наркотик еще не заливали. Вот и хорошо. Я нажал копку «инъекция».
— Теперь уж точно не уйдет, — пробормотал Майк.
Я освободил тросы и стал водить воображаемого зверя. Я отпускал его, время от времени придерживал, чтобы сильнее вымотать.
Несмотря на наличествующий кондиционер и отсутствующую рубашку, становилось жарко, откуда следовал вывод, что утро превратилось в день. Я смутно отмечал прилетающие и тут же убывающие вертушки. В тени оставшихся открытыми створок сидели какие-то личности; они с интересом наблюдали за моими действиями. Прибытие Джин я проворонил, иначе закончил бы и опустил Вагон на место.
Она нарушила мою сосредоточенность, хлопнув дверью с такой силой, что я испугался — не сорвется ли Вагон с захвата.
— Вас не затруднит сообщить мне, — процедила она, — с чьего это разрешения Вагон оказался на палубе?
— Ни с чьего, — ответствовал я. — Я его сейчас уберу.
— Не утруждайте себя, только отодвиньтесь куда-нибудь.
Так я и сделал. Эта зараза заняла мое место. На ней были широкие коричневые брюки и свободная рубаха, волосы увязаны на затылке, чтобы не мешали. Щеки у нее горели, и вряд ли от жары. Джин набросилась на пульт с комичным — и пугающим — энтузиазмом.
— Вторая готовность, — рявкнула она, ломая о кнопку фиолетовый ноготок.
Я изобразил зевок и начал неторопливо застегивать рубашку. Она зыркнула на меня искоса, проверила приборы и забросила крючок.
Я следил по экрану за леской. На секунду Джин повернулась ко мне.
— Первая готовность, — ровно сказала она. Я утвердительно кивнул.
Она потянула лебедкой вбок, чтобы продемонстрировать, что знает, как это делается. Я не сомневался, что она знает, как это делается, и она не сомневалась, что я не сомневаюсь, но все-таки…
— Если вы еще вдруг не поняли, — сказала она, — вас тут и близко не будет. Вас наняли наживляльщиком, понятно? Вы никакой не оператор Вагона! Вы — наживляльщик! В ваши обязанности входит сплавать и накрыть нашему общему другу стол. Это опасно, но вам и платят соответственно. Вопросы?
Она нажала кнопку «инъекция» с такой силой, что я невольно потер горло.
— Да нет, — улыбнулся я, — но я умею пользоваться этой штуковиной. И если что — свистните. По профсоюзным ставкам.
— Мистер Дэйвитс, — сказала она, — я не хочу, чтобы за этим пультом сидел неудачник.
— Мисс Лухарич, в эту игру еще никто не выигрывал.
Она начала выбирать трос и тут же вырубила магнитное сцепление; крючок со всеми своими причиндалами вернулся на место, Вагон содрогнулся и отскочил на пару футов назад. Поперечный поднят, полный газ назад, слегка притормозила, сменила полозья, стоп. С грохотом и лязгом. Теперь — направо; моряки, сидевшие в тени створки, бросились врассыпную, а мы въехали на платформу подъемника.
— В будущем, мистер Дэйвитс, — сказала она мне, — не входите сюда без приказа.
— Не волнуйтесь, — ответил я. — Я не войду даже и по приказу. Если вы еще не забыли, я нанимался наживляльщиком. Так что, если вам потребуется моя помощь, придется вежливо попросить.
— Этот день войдет в историю, — улыбнулась она. Я согласился, над нами закрылись створки люка.
Когда Вагон вернулся на место, мы закончили разговор и разошлись в разные стороны. Все же она сказала, в ответ на мой смешок, «до свидания», что свидетельствовало как о хорошем воспитании, так и о хорошем самообладании.
Позже, вечером, мы с Майком набили трубки в каюте Малверна. Ветер гнал волну, а дождь и град колотили по палубе, будто по жестяной крыше.
— Погода — дрянь, — сообщил мне Малверн.
Я согласно кивнул. После двух стаканов бурбона комната стала родной и уютной: мебель из красного дерева (давным-давно я по какой-то блажи доставил ее с Земли), обветренное лицо Малверна, постоянно удивленная физиономия Дабиса между двумя тенями от спинок стульев, все это освещено крохотным ночником и видно как бы сквозь коричневое стекло, гадательно[2].
— Хорошо, что я здесь.
— А как оно в такую ночь там, внизу?
Я выпустил клуб дыма, представляя, как луч фонаря прорезает внутренности слегка подрагивающего черного алмаза. На мгновение я увидел молниеносный бросок случайно освещенной рыбы, мерное колыхание странных, наподобие папоротников, водорослей — сперва они в тени, потом вспыхивают яркой зеленью, исчезают… Думаю, именно так себя чувствует, если он способен что-то чувствовать, космический корабль, летящий между мирами, — и тишина, сверхъестественная, жуткая тишина, и спокойствие, будто во сне.
— Темно, — сказал я. — И уже на глубине в несколько метров волна почти не чувствуется.
— Отчаливаем через восемь часов, — заметил Майк.
— А через десять — двенадцать дней будем на месте, — добавил Малверн.
— Как вы думаете, что сейчас делает Ихти?
— Спит на дне морском с миссис Ихти — если у него, конечно, есть хоть капля мозгов.
— Нету. Я видел реконструкцию его скелета, сделанную АВИ по собранным на берегу костям.
— А кто ж ее не видел?
— Так он же будет больше сотни метров длиной. Верно, Карл?
Я согласился.
— А черепная коробка совсем крохотная, при такой-то туше.
— Он достаточно умен, чтобы не попадаться в наш холодильник.
Смешки — ведь кроме этой комнаты по-настоящему не существует ничего. Окружающий мир — это пустая палуба, по которой колотит дождь пополам со снегом. А мы сидим себе, развалясь, и выпускаем клубы дыма.
— Наша командирша не одобряет несанкционированную рыбную ловлю.
— Наша командирша может идти куда подальше.
— Чего она там тебе наговорила?
— Она сказала, что мое место — на дне, вместе с рыбьим дерьмом.
— Ты не управляешь Вагоном?
— Я наживляю.
— Посмотрим.
— Ничего другого я не делаю. Если ей потребуется оператор Вагона, она должна будет попросить, и очень вежливо.
— Думаешь, попросит?
— Думаю, попросит.
— А если она попросит, ты-то сумеешь?
— Резонный вопрос, — я выпустил клуб дыма. — Ответа на каковой я не знаю.
Я согласен акционировать свою душу и отдать сорок процентов выпущенных акций за ответ на этот вопрос. Я согласен отдать за этот ответ два года жизни. Только что-то мои соблазнительные предложения не встречают отклика у темных сил. Видимо, темные силы и сами не знают. Ну, скажем, нам повезет, и мы найдем Ихти. Более того, мы подцепим его на крючок. Ну и что? Если мы подтянем его к кораблю, выдержит ли Джин или сломается? Что, если она прочнее Дэйвитса, охотившегося на акул с пневматическим пистолетом и отравленными стрелами? Что, если она и вправду поймает Ихти, а Дэйвитс так и будет стоять рядом, словно пень?
Хуже того, если, скажем, она попросит Дэйвитса, а тот все равно будет стоять, словно тот самый пень, или, лучше сказать, как конек бздюловатый?
Это случилось, когда я приподнял Ихти выше уровня палубы и посмотрел на его тело, косо уходящее вдаль и вдали теряющееся из виду, словно зеленая горная гряда. А еще огромная голова. Маленькая для такой туши, но все равно огромная. Широкая, пупырчатая, и эти выпученные, лишенные век рулетки, крутившие свое красное-черное еще тогда, когда мои предки только собрались осваивать Новый Континент. И голова эта качалась — туда-сюда, туда-сюда…
Подсоединили новые баки с наркотиком. Ему требовалась еще одна доза, и побыстрее. Но меня парализовало.
Он издал звук, ну словно сам Господь ударил по клавишам синтезатора.
И посмотрел на меня!
Не знаю, так же видят его глаза, как наши, или нет. Сомневаюсь. Может, я представлялся серым расплывчатым пятном за черной скалой, а отраженное от пластика небо слепило их до боли. Но только они остановились на мне. Возможно, змея на самом деле не парализует кролика — может, это просто кролики трусливы по природе. Но только Ихти начал сопротивляться, а я смотрел на него как завороженный.
Завороженный этой мощью, этими глазами… Таким вот и нашли меня пятнадцать минут спустя. Голова моя и плечи оказались несколько покуроченными, а кнопка «инъекция» — ненажатой.
Я вижу эти глаза во сне. Я хочу еще раз взглянуть в них, даже если поиски продлятся до скончания века. Я должен узнать, есть ли во мне нечто, отличающее человека от кролика, от жестко заданного набора рефлексов и инстинктов, разваливающегося, стоит только дернуть за нужную веревочку.
Я посмотрел вниз и увидел, что руки мои трясутся. Я взглянул вверх и увидел, что никто этого не увидел.
Тогда я допил стакан и выбил трубку. Было уже поздно, и птички певчие своих не пели песен.
Я сидел, свесив ноги с кормы, и строгал деревяшку, щепки кувыркались в кильватерной струе. Три дня плавания. Никаких действий.
— Эй!
— Я?
— Да, ты.
Волосы — золото, зубы — жемчуг, глаза такого оттенка, которого и на свете не бывает.
— Привет.
— В правилах техники безопасности есть специальный пункт, запрещающий то, чем ты сейчас занимаешься.
— Знаю. Уже все утро на этот счет мучаюсь. Тонкий завиток забрался по моему ножу, улетел, приземлился в пену, покрутился, затем его утащило вглубь. Я смотрел на отражение девушки в лезвии и тайно наслаждался тем, как оно корежится.
— Измываешься?
Я повернулся на ее смех.
— Кто, я?
— Я могу тебя отсюда столкнуть, очень свободно.
— Я догоню корабль.
— А потом какой-нибудь темной ночью столкнешь меня?
— Тут все ночи темные, мисс Лухарич. Нет, я лучше подарю вам эту вот штуку, которую вырезаю.
Она села рядом со мной; закрытый купальник и белые шорты; нездешний загар, который всегда казался мне таким привлекательным. Я почти ощутил вину за то, что спланировал всю эту сцену заранее, но моя правая рука все еще скрывала деревянную зверюшку от ее глаз.
— Ладно, глотаю наживку. Что это у тебя?
— Секундочку, сейчас закончу.
Я церемонно вручил ей деревянного ослика. Я чувствовал себя виноватым и немного по-ослиному, но остановиться уже не мог. Со мной всегда так. Рот расплылся, ну еще немного — и вправду заржу. И уши торчком.
Джин не улыбнулась, не нахмурилась, а просто взяла мой шедевр и начала его рассматривать.
— Хорошо получилось, — сказала она наконец, — как и почти все, что ты делаешь. И, возможно, соответствует ситуации.
— Отдай, — протянул я руку.
Она вернула мне осла, а я швырнул его в воду. Ни в чем не повинное животное не попало в пену и некоторое время держалось на поверхности, словно карликовый морской конек.
— Зачем ты его выкинул?
— Плохая шутка. Извини.
— Может, ты и прав. Может, на этот раз я откусила столько, что не прожевать.
— Тогда почему не заняться чем-нибудь более безопасным, — фыркнул я, — вроде космических гонок?
— Нет, — помотала она тем самым своим золотом. — Мне нужен Ихти.
— Зачем?
— А зачем он был нужен тебе? Ты же угробил на него целое состояние.
— Много разных причин. — Я пожал плечами. — Некий психоаналитик, лишенный диплома и незаконно практикующий в подвальной конуре, сказал мне однажды следующее: «Мистер Дэйвитс, вам необходимо укрепить образ своей мужественности, поймав по рыбине каждого из существующих видов». Рыбы — очень древний символ мужественности. Вот я и взялся за дело. Осталась всего одна рыбина. А вот ты-то, чего ради ты захотела укрепить свою мужественность?
— Захотела? — ответила она. — Да ничего я не хочу укреплять, кроме «Лухарич энтерпрайзис». Мой главный статистик однажды сказал: «Мисс Лухарич, когда ваше имя будет на каждой баночке кольдкрема и коробке пудры, продаваемой в Солнечной системе, вы станете счастливой девушкой. И богатой». И он оказался прав. Я — тому доказательство. Я имею возможность выглядеть так, как я выгляжу, и делать все, что мне заблагорассудится, и я продаю почти всю губную помаду и пудру в Солнечной системе — но я хочу иметь силы делать все, что мне заблагорассудится.
— А что, — заметил я, — видок у тебя вполне деловой и холодный. Какие тебе еще силы?
— Не знаю насчет холодного вида, — сказала она, поднимаясь, — но сейчас Мне жарко. Давай искупаемся.
— Могу я заметить вашему величеству, что мы идем с довольно приличной скоростью?
— Можете, если желаете сообщить очевидное. Ты вроде говорил, что сумеешь догнать плот без посторонней помощи. Еще не передумал?
— Нет.
— Тогда достань пару аквалангов, и устроим соревнование, кто быстрее проплывет под Стадионом.
— И выиграю, конечно же, я, — добавила она.
Я встал и посмотрел на нее сверху вниз; это обычно дает мне чувство превосходства над женщинами.
— Дочь Лира, в чьих глазах Пикассо, — сказал я, — будет тебе гонка. Встречаемся у правой передней Ладьи через десять минут.
— Через десять минут, — согласилась она. Десять минут на все и потребовалось. В том числе две, чтобы добежать со всем этим барахлом от центрального купола до Ладьи. Мои сандалии раскалились, так что я был счастлив добраться до сравнительно прохладного угла и сменить их на ласты.
Мы нацепили снаряжение и подогнали ремни. Сейчас на Джин был цельный зеленый купальник, да такой, что мне пришлось прикрыть глаза и посмотреть в сторону. А потом обратно.
Я прикрепил веревочную лестницу и скинул ее за борт, а потом постучал по стене Ладьи.
— Что такое?
— Вы связались с левой кормовой Ладьей?
— Все устроено, — пришел ответ. — По всей корме вывешены лестницы и тросы.
— Вы уверены в благоразумности такого поступка? — спросил у Джин ее агент по связям с общественностью — плюгавый, докрасна обгоревший на солнце хмырь по прозванию мистер Андерсон. Он сидел в шезлонге рядом с Ладьей и сосал через соломинку лимонад. — Это может быть опасным, — запавшим ртом прошамкал хмырь (его зубы лежали рядом, в другом стакане).
— Верно, — улыбнулась Джин. — Это действительно будет опасно. Хотя и не очень.
— Тогда почему вы запретили съемку? Пленки через час оказались бы в Линии Жизни, а к вечеру — в Нью-Йорке. Хороший сюжет.
— Нет, — сказала она и отвернулась от нас. И подняла руки к глазам.
— Вот, пусть пока у вас полежат.
Хмырь получил коробочку, а глаза Джин вернули себе прежний, карий цвет.
— Готов?
— Нет, — строго сказал я. — Слушай внимательно, Джин. В этой игре есть несколько правил. Во-первых, — загнул я палец, — мы окажемся прямо под плотом, значит, надо стартовать на глубине и не переставать двигаться. Если стукнуться о днище, можно повредить баллон.
Она начала было возмущаться, что уж это-то любой идиот понимает, но я ее перебил:
— Во-вторых, там будет темно, поэтому мы должны держаться рядом и оба возьмем фонари.
Ее влажные глаза сверкнули.
— Я вытащила тебя из Говино без… — Она замолчала и отвернулась, а потом взяла фонарь.
— Хорошо. Фонари, так фонари. Извини.
— И берегись винтов, — закончил я. — Уже метрах в пятидесяти от них тянет будь здоров.
Она снова вытерла глаза и подогнала маску.
— Ладно, двинули. И мы двинули.
Я настоял, чтобы она плыла первой. У поверхности вода была теплая, на глубине трех метров — прохладная, а на десяти — холодная и — после жары на палубе — очень приятная. На глубине пятнадцати метров мы отпустили лестницу и рванули. Стадион плыл вперед, а мы — перпендикулярно ему, каждые десять секунд задевая его днище желтым пятном света.
Днище оставалось там, где ему и положено, а мы неслись, словно два спутника, обходящие планету с ночной ее стороны. Я периодически щекотал лягушачьи лапы Джин лучом света и отслеживал ее усики из пузырьков. Дистанция — пять метров, как раз то, что надо. Я легко обойду эту красотку на финишной прямой, но пока что пусть идет впереди, так оно вернее.
А внизу — тьма. Непроглядная. Бездонная. Здешний, венерианский Минданао. Возможно, именно сюда направляются души умерших наслаждаться вечным покоем в городах никем еще не виданных, никак не названных рыб. Я повернул голову и провел щупальцем света по днищу плота и понял, что пройдена уже четверть дистанции.
Неожиданно Джин прибавила темп и оторвалась на лишнюю пару метров; я тоже стал грести чаще и восстановил прежнюю дистанцию. Она поплыла еще быстрее — я тоже. Я нащупал ее своим фонариком.
Джин повернулась, и луч света ударил ей в прикрытое маской лицо. Не знаю уж, улыбалась она или нет. Скорее всего. Она подняла два пальца в победном знаке и на полной скорости рванула вперед.
Мне следовало знать. Я должен был почувствовать, что так и случится. Для нее же это — просто гонка, еще одно соревнование, которое можно выиграть, и наплевать на опасности.
Я поплыл изо всех сил. Я не дрожу в воде. Или, если дрожу, не замечаю. Я начал снова сокращать дистанцию.
Она посмотрела назад, прибавила, снова посмотрела назад. Каждый раз, когда она оборачивалась, я оказывался ближе, пока не сократил разрыв до изначальных пяти метров.
И тут она врубила движки. Вот этого я и боялся. Мы были на полпути под плотом, и ей не следовало этого делать. Струи сжатого воздуха запросто могли бросить ее вверх, ударить о днище или что-нибудь оторвать, если она неверно повернет корпус. Основное их предназначение — вырываться из зарослей водорослей или бороться с сильными течениями. Я взял их для безопасности, из-за этих здоровенных ветряных мельниц, что на корме.
Она помчалась вперед, что твоя ракета, а я, хотите — верьте, хотите — нет, почувствовал, как покрываюсь холодным потом.
Я пустился вдогонку, не используя своих боеприпасов, и она утроила, учетверила разрыв.
Движки наконец заглохли, а Джин так и продолжала чесать вперед. Ладно, я — старый ворчун. Но ведь могла же она сделать что-нибудь не так и рвануть вверх.
Я рассекал воду и начал снова сокращать дистанцию, по футу за гребок. Теперь я не смогу догнать или обогнать ее, но хотя бы успею ухватиться за трос до того, как она ступит на палубу.
Но вот вращающиеся магниты взялись за дело, и она дрогнула. Даже на таком расстоянии тяга была очень сильной. Манящий зов мясорубки.
Такой вот штукой поцарапало меня однажды под «Дельфином», рыболовным судном среднего класса. Да, я пил, но сказалась и штормовая погода, и то, что винты запустили слишком рано. К счастью, остановили их вовремя, а корабельный живодер быстренько привел все в полный порядок. Все, за исключением записи в вахтенном журнале, особо отметившей мое непотребное состояние. И ни слова о том, что это было во внеурочные часы, и я имел право делать все что угодно.
Она двигалась раза в два медленнее, чем прежде, но все равно еще наискось, к левому кормовому углу нашего плотика. Теперь я и сам почувствовал течение и тоже уменьшил скорость. От главного винта Джин, похоже, увернется, но слишком уж сильно снесло ее к корме. Под водой трудно оценивать расстояние, но с каждым ударом пульса я все больше убеждался в своей правоте. Главный винт ей не грозил, но вот малый левый, расположенный восьмьюдесятью метрами дальше… Она же попадет под этот винт как пить дать.
Она развернулась ногами к винту и начала отчаянно грести. Нас разделяло двадцать метров. Она словно зависла на одном месте. Пятнадцать.
Джин начала медленно дрейфовать назад. Я включил движки, целясь на два метра за ней и на двадцать перед лопастями. Прямо вперед!
Слава Богу! Поймал, мягкое, кастетом по плечу, ГРЕБИ СО ВСЕХ СИЛ! Маска треснула, хорошо, не разбилась, ТЕПЕРЬ ВВЕРХ!
Мы схватились за трос, а потом я помню бренди.
И в колыбель, вечно баюкавшую[3], я сплюнул, приблизившись к борту. Сегодня у меня бессонница, и левое плечо снова ноет, так что пусть меня поливает дождь — ревматизм лечить умеют. Дикая глупость. Так я и сказал. Завернувшись в одеяло и дрожа. Она: «Карл, я не могу выразить…» Я: «Тогда считайте, мисс Лухарич, что мы квиты за тот вечер в Говино. Идет?» Она: ничего. Я: «Бренди еще остался?» Она: «И мне налей». Я: заглатывающее хлюпанье. Это продолжалось всего три месяца. Никаких алиментов. У обеих сторон много долларов. Не уверен, были ли они счастливы. Темное, как вино, Эгейское море. Отличная рыбалка. Может, ему следовало проводить на берегу больше времени. Или ей — поменьше. А плавает хорошо. Он тогда захлебнулся, и она доволокла его до самого Видо. И вытряхнула воду из легких. Молодые. Оба. Сильные. Оба. Богатые и вконец испорченные. Аналогично. Корфу должен был сблизить их. Не вышло. Душевная черствость и ловля форели. Он хотел в Канаду. Она: «Да хоть к черту!» Он: «Так ты поедешь со мной?» Она: «Нет». А все-таки поехала. Скандалов — не счесть. Он потерял чудовище-другое, она унаследовала пару. Сегодня вечером много молний. Дикая глупость. Вежливость — гробница для обманутых душ. Кто ж это сказал? Я ненавижу тебя, Андерсон, с твоим стаканом, полным твоих зубов и ее новых глаз. Не можешь держать трубку зажженной — соси табак. Сплюнь еще раз!
Через семь дней после отплытия на экране появился Ихти.
Загремел авральный сигнал, застучали ноги, какой-то оптимист включил термостат в хопкинсовском холодильнике. Малверн сказал мне сидеть спокойно, но я увешался снаряжением и начал ждать, что будет. С виду синяк был страшноватый, а так — ничего. Я делал зарядку каждый день, и плечо двигалось отлично. Он плыл перпендикулярно нам, в километре по курсу и на глубине шестидесяти метров. На поверхности все было тихо.
— Мы будем его преследовать? — спросил какой-то торопыга из матросиков.
— Нет. Ну разве что, — пожал я плечами, — ей очень уж захочется истратить побольше горючего.
Вскоре экраны опустели, да такими и остались. Мы держали курс и сохраняли готовность.
После последнего нашего совместного утопания мы не перебросились с командиршей и дюжиной слов, так что теперь было самое время увеличить счет.
— День добрый, — начал я, — что новенького?
— Уходит на северо-северо-восток. Этого придется отпустить. Еще через несколько дней мы сможем себе позволить погоню, но не сейчас.
Блеск волос…
— Верно, — кивнул я. — Куда он направляется — совершенно непонятно.
— Как твое плечо?
— Нормально. А как ты?
Дочь Лира…
— Хорошо. Кстати, тебе полагается приличная премия.
В твоих глазах погибель!
— Какие пустяки!
Позже вечером разразилась подобающая случаю гроза. (Я предпочитаю говорить «разразилась», а не «началась». Это слово создает более точный образ тропических бурь на Венере и экономит массу других слов.) Помните ту чернильницу, о которой я говорил раньше? Зажмите ее между большим и указательным пальцами. Сделали? А теперь шарахните по ней молотком. Осторожно! Не обрызгайтесь и не порежьтесь…
Сухо, а ровно через секунду — сплошная вода. Удар молотка, и небо покрывается миллионом ослепительных трещин. И это слышно — как оно разлетается вдребезги.
— Все внизу? — вопросили у суетящейся команды громкоговорители.
А где был я? А кто же это, по-вашему, громко говорил?
Когда по палубе начала разгуливать вода, все незакрепленное улетело за борт, но людей к тому времени на ней уже не было. Первым ушел вниз Вагон, а затем — кабины больших пассажирских лифтов.
При первых же — хорошо мне знакомых — признаках начинающегося светопреставления я заорал во всю глотку и бросился к ближайшей Ладье. Там я врубил динамики, а затем прочитал палубной команде коротенькую, секунд на тридцать, лекцию.
Майк мне сообщил по радио, что ничего серьезного не случилось, так, мелкие царапины. Я же на время шторма оказался в одиночной камере. Из Ладьи никуда не попасть, эти штуки слишком далеко отстоят от корпуса, чтобы в них был люк вниз, не говоря уж о том, что под каждой из них смонтирован тот самый «совок».
Так что отцепил я баллоны, висевшие на мне последние несколько часов, скрестил ласты на столе и откинулся в кресле, созерцая ураган. Сверху стояла такая же непроглядная тьма, как и внизу, а мы, посередке, слегка освещены по причине огромной блестящей поверхности плота. Дождь не капал, а сплошной стеной падал вниз.
Надежные Ладьи уже неоднократно выносили подобное ненастье, плохо лишь, что из-за крайнего своего расположения они проходили наибольшие дуги, когда Стадион, будто качалка излишне нервной бабули, прыгал по волнам. Ремнями из снаряжения я привязался к прикрученному к полу креслу, а потом благодарственными молитвами скостил несколько лет чистилища душе, забывшей в столе сигареты.
Я смотрел, как вода превращается в вигвамы, горы, руки и деревья, пока не начал видеть лица и людей. Тогда я позвонил Майку.
— Что ты там поделываешь, внизу?
— Размышляю, что ты поделываешь там, наверху, — ответил он. — На что это похоже?
— Ты ведь со Среднего Запада, верно?
— Да.
— Бывают у вас там сильные грозы?
— Местами.
— Вспомни худшую, в которую ты попадал. Есть у тебя под рукой логарифмическая линейка?
— Прямо здесь.
— Тогда поставь под грозой единицу, представь себе, что за ней следует пара нулей, и перемножь.
— Мне не представить нули.
— Тогда оставайся с исходным сомножителем.
— Так что же ты там делаешь?
— Я привязался к креслу и смотрю, как по полу катаются разные вещи.
Я снова посмотрел вверх и наружу и заметил в лесу темную тень.
— Ты молишься или ругаешься?
— А черт его знает! Если бы это был Вагон — если бы только это был Вагон!
— Он там?
Я кивнул, забыв, что Майк меня не видит.
Огромный, каким я его и помнил. Он лишь на несколько секунд высунулся над поверхностью — хотел, наверное, осмотреться. Нет на земле подобного ему: он сотворен бесстрашным[4]. Я выронил сигарету. Все, как и раньше. Паралич и нерожденный крик.
— Карл, ты там жив?
Он снова на меня посмотрел. А может, мне показалось. Может, это безмозглое чудище полтысячи лет поджидало случая поломать жизнь представителю самой развитой…
— Ты в порядке?
Или, возможно, она уже была сломана задолго до того, и встреча эта — лишь стычка зверей, сильный отпихивает слабого, тело против души…
— Карл, ты что там, ошалел? Скажи что-нибудь!
Он снова всплыл, на этот раз ближе. Вы когда-нибудь видели столб смерча? Он кажется живым, двигаясь в темноте. Ничто не имеет право быть таким большим, таким сильным и двигаться. От этого голова кругом идет.
— Пожалуйста, ответь мне.
Он ушел и больше в тот день не приходил. Я наконец выдавил из себя что-то для Майка, какую-то шуточку, но теперь мне приходилось держать сигарету в правой руке.
Следующие семьдесят или восемьдесят тысяч волн прокатились мимо нас с монотонным однообразием. Пять дней, во время которых все это происходило, тоже не сильно различались. Однако утром тринадцатого дня удача, казалось, улыбнулась нам. Колокола громкого боя вдребезги разбили нашу вымоченную в кофе летаргию, мы бросились из камбуза, так и не дослушав лучший анекдот Майка.
— Сзади по курсу! — крикнул кто-то. — Пятьсот метров!
Я прицепил баллоны и начал застегивать ремни. Мое барахло всегда валяется где-нибудь рядом.
Я прошлепал по палубе, обматываясь сдутым дергунчиком.
— Пятьсот метров, глубина сорок метров! — прогремело из динамика.
Выдвинулись телескопические вышки, и Вагон поднялся во весь рост, с миледи за пультом управления. Он прогрохотал мимо меня и встал на якорь у передней кромки Стадиона. Поднялась, а затем вытянулась единственная его рука.
В тот самый момент, когда я поравнялся с Вагоном, динамики сообщили:
— Четыреста восемьдесят, двадцать!
— Первая готовность!
Звук, словно хлопнула огромная бутылка шампанского, и над водой взметнулась леска.
— Четыреста восемьдесят, сорок, — повторил голос Малверна. — Наживляльщику приготовиться!
Я приладил маску и слез в воду, цепляясь руками за спущенный с борта веревочный трап. Тепло, затем холод, и — вперед.
Безграничность, зелень, вниз. Быстро. Сейчас я — тот же самый дергунчик. Если некоему большому существу взбредет в его маленькую голову, что наживляльщик-то выглядит пособлазнительней своего груза… вытекающие отсюда (а точнее — из наживляльщика) последствия очевидны.
Ну вот, нашлись, наконец. Теперь я поплыл, следуя за уходящими вниз тросами. Зеленый, темно-зеленый, потом — полная тьма. Далеко она забросила, даже слишком далеко. Мне не приходилось еще заплывать с наживкой так глубоко. И я не хотел зажигать фонарь.
Пришлось, никуда не денешься.
Плохо! Спускаться еще долго. Я стиснул зубы и надел на свое воображение воображаемую смирительную рубашку.
В конце концов леска подошла к концу.
Я обхватил дергунчика рукой, а затем отцепил его от себя и прицепил к крючку; делалось это со всей возможной скоростью. Теперь подключить маленькие изолированные разъемы. Хрупкость проводов и разъемов — единственная причина, по которой дергунчика не выстреливают вместе со всем остальным хозяйством Конечно же, Ихти может их сломать, но тогда это уже не будет иметь значения.
Наживив своего механического угря на крючок, я вытащил затычки и стал смотреть, как он раздувается. За время этой полутораминутной процедуры меня затащило еще глубже, и я оказался близко — слишком уж близко — от того места, где никогда не хотел быть.
Раньше мне было страшно включать фонарь, но теперь я не мог его выключить. Я боялся остаться в темноте; охваченный паникой, я намертво вцепился в трос, а дергунчик тем временем вспыхнул неярким розовым светом и начал извиваться. Он был в два раза больше и в двадцать раз привлекательнее меня — во всяком случае, в глазах пожирателя розовых дергунчиков. Я повторял себе это, пока, наконец, не поверил, потом выключил свет и поплыл вверх.
Мое сердце имело четкую инструкцию: если я уткнусь во что-нибудь огромное со стальной шкурой немедленно остановиться и отпустить мою душу, чтобы та потом вечно моталась в аду, оглашая его бессвязными бормотаниями.
Избежав метаний и бормотаний, я добрался до зеленой воды и бросился к родному гнезду.
Как только меня втащили на борт, я стянул маску на шею, сделал из ладони козырек и стал высматривать водовороты на поверхности. Естественно, первым же моим вопросом было: «Ну и где он?»
— Нигде, — ответил матросик, — как только ты нырнул, мы его потеряли, да так с той поры и не видели. Ушел, наверное.
— Жаль.
Дергунчика оставили внизу принимать ванну. На какое-то время моя работа кончилась, и я пошел пить кофе с ромом.
Шепот за спиной: «А вот ты — ты смог бы так смеяться после такого?»
Вдумчивый ответ: «А это смотря над чем он смеется».
Я, все еще посмеиваясь, с двумя чашками кофе прошел в центральный купол.
— Ну как, ни слуху ни духу?
Майк кивнул. Его большие руки тряслись, а мои, когда я ставил чашки, оставались спокойными, как у хирурга.
Когда я сбросил баллоны и начал искать скамейку, он взвился.
— Не капай на эту панель! Ты что, хочешь и себя угробить, и пережечь предохранители? Они же денег стоят!
Я вытерся полотенцем, сел перед пустым экраном и блаженно потянулся. Плечо чувствовало себя, как новенькое.
Эта маленькая штуковина, через которую люди переговариваются, что-то захотела сказать. Майк щелкнул переключателем и предложил ей дерзать.
— Карл там, мистер Дабис?
— Да, мэм.
— Дайте мне с ним поговорить.
— Говори, — сказал я.
— Ты в порядке?
— Да, спасибо. А ты что, сомневалась?
— Долгое погружение. Думаю… думаю, я закинула слишком далеко.
— Я только рад, у меня же коэффициент три. Я же загребаю на этом пункте об опасной работе уйму денег.
— В следующий раз я буду осторожнее, — голос Джин звучал виновато. — Наверное, это — от излишнего рвения. Извини. — Фраза так и повисла незаконченной, связь прекратилась, а я остался с пригоршней специально заготовленных ответов.
Я вытащил у Майка из-за уха сигарету и прикурил от бычка, оставшегося в пепельнице.
— Карл, она вела себя очень прилично, — сообщил он мне, отвернувшись от своего пульта.
— Знаю, — сказал я ему. — А я — нет.
— Хочу сказать, она — очень милое существо. Упрямая — это точно. Но тебе-то она что сделала?
— За последнее время? — уточнил я.
Он посмотрел на меня и уткнулся взглядом в чашку.
— Я знаю, это не мое де… — начал он.
— Сахару и сливок?
Ни в тот день, ни ночью Ихти не вернулся. Линия Жизни передавала какой-то диксиленд, мы с Майком устроили на лужайке детский смех, а бдительная Джин повелела тем временем подать ей ужин прямо в Вагон. Потом она попросила принести туда же раскладушку. Любимый свой «Дип Уотер Блюз» я врубил по наружным динамикам, чтобы послушали все, кто на палубе, и начал ждать, когда же Джин позвонит и начнет ругаться. И не дождался — уснула уже, наверное.
Я соблазнил Майка сыграть в шахматы, чем мы и занимались до рассвета. Разговор тем самым ограничился несколькими «шахами», одним «матом» и одним «чтоб тебя!». Майк не умеет проигрывать, так что дальнейшая беседа тоже не состоялась, и меня это вполне устраивало. Я позавтракал бифштексом с жареной картошкой и завалился спать.
Десять часов спустя кто-то начал меня толкать; я приподнялся на локте, однако от открывания глаз воздержался.
— В чем дело?
— Извините, что разбудил вас, — сказал один из молодых матросов, — но мисс Лухарич хочет, чтобы вы отсоединили дергунчика, чтобы можно было плыть дальше.
Я продрал один глаз, все еще решая, удивляться или нет.
— Подтяните его к борту. Там его кто хочешь отцепит.
— Он уже у борта, сэр. Но она сказала, что это — ваша работа, и лучше все делать по правилам.
— Очень заботливо с ее стороны. Уверен, мой профсоюз оценит ее память.
— Э-э… а еще она просила передать вам, чтобы вы переодели трусы, причесались и побрились. Мистер Андерсон собирается снимать.
— Ладно. Идите, передайте ей, что я уже иду, — и спросите, не найдется ли у нее лака для ногтей.
Подробности опущу. Все заняло три минуты, я верно сыграл свою роль, даже извинился, поскользнувшись и уткнувшись в белый тропический костюм Андерсона мокрым дергунчиком. Он улыбнулся и отряхнулся; она улыбнулась, хотя даже Лухарич комплектаколор не мог полностью скрыть темные круги под ее глазами; я тоже улыбнулся и помахал рукой всем нашим болельщикам, глядящим в телевизор. «Мисс Вселенная, вы тоже можете стать похожей на охотницу за чудовищами. Пользуйтесь кремом для лица производства "Лухарич энтерпрайзис" — всего-то и делов».
Я спустился вниз и сделал себе бутерброд с тунцом и майонезом.
Два похожих на айсберги дня — тусклые, белесые, полурастаявшие, зябкие, по большей части незаметные и определенно угрожающие состоянию рассудка — проплыли мимо, и я был рад о них забыть. Чего-то ради вернулось ощущение вины за прошлые поступки, начали сниться неприятные, тревожные сны. Для поддержания бодрости я связался с Линией Жизни и проверил состояние своего счета.
— Собрался по магазинам? — спросил соединивший меня Майк.
— Домой собрался, — ответил я.
— Чего?
— Майк, после этого раза я завязываю. Черт с ним, с Ихти! Черт с ними, с Венерой и «Лухарич энтерпрайзис»! И черт с тобой!
Вздернутые брови.
— Чего это ты вдруг?
— Я ждал такого случая больше года, а вот теперь, оказавшись здесь, понял, что дерьмо все это собачье.
— Ты знал, на что идешь, подписывая контракт. Что бы ты ни делал, работая на продавцов крема для лица, ты продаешь крем для лица.
— Да нет, не в этом дело. Конечно же, коммерческий аспект меня раздражает, но Стадион всегда использовался для рекламы, с самого первого своего плавания.
— А чего же тогда?
— Пять или шесть причин. Главное — мне теперь все равно. Когда-то самым важным для меня было поймать эту тварюгу, а теперь — нет. Сперва это было так, мелкая блажь, но затем я вылетел на этой блажи в трубу и взалкал крови. Ну а теперь я понимаю, что эта кровь близко. И — ты будешь смеяться — мне жалко Ихти.
— И теперь он тебе не нужен?
— Я возьму его, если он достанется нам тихо и спокойно, но рисковать своей задницей, заставляя его залезть в хопкинсовский холодильник, мне не хочется.
— Я склонен думать, что это — одна из оставшихся четырех-пяти вышеупомянутых причин.
— Как то?
Он внимательно изучал потолок.
— Ладно, — промычал я. — Только не думай, что я вот так возьму и все тебе расскажу, чтобы ты мог порадоваться своей догадливости.
— Последнее время видок у нее еще тот, — ухмыльнулся Майк. — И это — не только из-за Ихти.
— Ничего хорошего из этого не выйдет. Для убедительности я покачал головой. — Мы оба взрывоопасны по натуре. Нельзя приделывать к ракете сопла с обеих сторон, на такой технике никуда не улетишь — они просто сплющат все, что посередке.
— Так было раньше. Это, конечно, не мое дело…
— Еще раз это повторишь — останешься без своих зубов.
— Ой, как страшно. Да в любой день и в любом месте…
— Продолжай! Скажи же!
— Да в гробу она видала этого крокодила, ей просто захотелось вернуть тебя, вот и все.
— Пять лет — слишком долгий срок.
— Под твоей носорожьей шкурой есть что-то такое, что нравится людям, — пробормотал он, — или я бы этого не говорил. Может, ты напоминаешь нам, людям, о какой-нибудь паршивой уродливой собачонке, которую мы жалели, когда были детьми. Так или иначе, кое-кто хочет забрать тебя домой и заняться твоим воспитанием. Кроме того, голь перекатная не должна быть чересчур переборчивой.
— А ты знаешь, приятель, — хмыкнул я, — что я сделаю по прибытии в Линию Жизни?
— Да уж представляю.
— Ошибаешься. Я лечу на Марс, а оттуда — домой. И первым, заметьте, классом. Венерианские законы о банкротстве не касаются марсианских трастовых фондов, так что у меня есть еще заначка в таком месте, где ее не тронут моль и плесень. Я собираюсь купить большой старый дом на Заливе. Потребуется работа — приезжай, будешь открывать мне бутылки.
— Что, слаб в коленках? — поинтересовался Майк.
— Есть немного, — признал я, — но ведь и ей так будет лучше.
— Я про вас наслышан, — сказал Майк. — Значит, ты — разгильдяй и подонок, а она — стерва. В наши дни это называют психологической совместимостью. Бога ради, наживляльщик, хоть раз в жизни попробуй сохранить свой улов.
Я отвернулся.
— Понадобится та работа — заходи.
Я тихо запер за собой дверь и ушел, а Майк так и сидел в ожидании, когда же она с треском захлопнется.
День Зверя начинался вполне обыкновенно. Через двое суток после моего трусливого побега от пустого места я снова отправился наживлять трос. На экране — ничего, я просто подготавливал все для очередной попытки.
Проходя мимо Вагона, я бросил «доброе утро», получил изнутри ответ и стартовал. За это время я успел наново, без всякого шума и тем более ярости, обдумать сказанное Майком. Мнения своего я менять не стал, но решил, однако, держаться с Джин в рамках вежливости.
Вниз, вглубь, вдаль. На этот раз удочка заброшена поскромнее, примерно на двести девяносто метров. Черные тросы змеились где-то слева, и я следовал за их колебаниями из желто-зеленой воды в темные глубины.
Глухая, мокрая ночь, я плыл сквозь нее, как сдуревшая, с ярким хвостом впереди, комета.
Я поймал гладкий блестящий трос и начал приделывать к нему наживку. И вдруг по мне, от ног к голове, прокатилась волна ледяной воды, шквал, будто кто-то открыл подо мной огромную дверь. Меня сносило вниз, но не так же быстро!
Из всего этого следовало, что из глубин поднимается нечто, вытесняющее уйму воды. Я все еще не думал об Ихти. Так, странненькое течение, но не Ихти же, в конце концов!
Я закончил присоединять провода и как раз вытащил первую затычку, когда подо мной вырос огромный, неровный черный остров…
Я посветил фонариком вниз. И увидел открытую пасть.
Я превратился в кролика.
По всему моему телу, от макушки к ногам, прокатилась волна смертельного страха. У меня сжался желудок и закружилась голова.
Еще одно дело, только одно. Осталось сделать. Наконец-то. Я выдернул остальные затычки.
К этому времени я уже мог сосчитать чешуйчатые выступы, окружающие его глаза.
Дергунчик раздулся, засветился розовым… задергался!
Теперь мой фонарь. Нужно его выключить, чтобы перед Ихти осталась только наживка.
Я мельком глянул назад и врубил движки.
Он был так близко, что дергунчик отражался у него на зубах и в глазах. Четыре метра, не больше; уходя вверх, я задел его блестящие челюсти струями двигателей. Я не знал, остался он на месте или пустился вдогонку. Ежесекундно ожидая быть съеденным, я начал терять сознание.
Воздух в движках кончился, и я вяло зашевелил ластами.
Слишком быстрый подъем — я почувствовал надвигающуюся судорогу. Лишь разок махнуть фонариком, кричал кролик. Только на секунду, чтобы узнать…
Или все закончить, ответил я. Нет, кролик ты мой драгоценный, мы не будем выбегать на охотника. Посидим в темноте.
Ну вот, зеленая вода. Потом желто-зеленая, наконец поверхность.
Я изо всех сил рванул к Стадиону. Мощная, словно от взрыва, волна бросила меня вперед. Мир схлопнулся, где-то вдалеке раздался голос:
— Он жив!
Гигантская тень и такая же гигантская волна. Леска ожила. Страна Счастливой Рыбалки. Может, я что-то сделал не так?
Где-то была сжата Ладонь. Что есть наживка?
Пара миллионов лет. Я помню себя одноклеточным организмом, болезненное превращение в амфибию, затем в воздуходышащее. Откуда-то с вершины дерева я услышал голос:
— Он приходит в себя.
Мое развитие достигло стадии хомо сапиенса, а затем я продвинулся на следующую эволюционную ступень — хомо сапиенса с крутого бодуна.
— Не пытайся вставать.
— Поймали? — невнятно пробормотал я.
— Он все еще сопротивляется, но уже на крючке. Мы уж было решили, что он прихватил тебя на закуску.
— Я тоже так решил.
— Подыши этим и замолчи.
Воронка на лице. Хорошо. Поднимите кубки и пейте…
— Он был очень глубоко. За пределом сонара. Мы засекли его, только когда он начал подниматься. А тогда было слишком поздно.
Я начал зевать.
— Сейчас мы отнесем тебя внутрь.
Я сумел извлечь привязанный к лодыжке нож.
— Только попробуй, останешься без пальца.
— Тебе нужно отдохнуть.
— Тогда принеси еще пару одеял. Я остаюсь. Я снова лег и закрыл глаза.
Кто-то тряс меня. Холод и полумрак. Палуба залита желтым светом прожекторов. Я лежал на сооруженной рядом с центральным куполом койке и дрожал, несмотря на шерстяные одеяла.
— Прошло уже одиннадцать часов. Сейчас ты ничего не увидишь.
Во рту привкус крови.
— Выпей это.
Вода. Я хотел сказать пару ласковых слов на этот счет, но не мог пошевелить языком.
— Только не надо спрашивать, как я себя чувствую, — прохрипел я. — Сейчас полагается задать этот вопрос, но не надо. Ладно?
— Ладно. Хочешь пойти вниз?
— Нет, просто дай мне мою куртку.
— Держи.
— Что он делает?
— Ничего. Он на большой глубине. Накачан наркотиками, но всплывать пока не хочет.
— Когда он в последний раз показывался?
— Часа два назад.
— Джин?
— Сидит в Вагоне, никого к себе не пускает. Слушай, тебя зовет Майк. Он прямо за тобой, в рубке.
Я сел и развернулся. Майк смотрел на меня. Он махнул рукой, я помахал ему в ответ.
Я скинул ноги на палубу и пару раз глубоко вдохнул. Болит желудок. Я встал на ноги и кое-как доковылял до рубки.
— Как насчет выпить?
Я посмотрел на экран. Пусто. Ихти слишком глубоко.
— За счет заведения?
— Да, кофе.
— Только не кофе.
— Ты болен. К тому же здесь ничего, кроме кофе, пить не разрешается.
— По определению, кофе — это коричневатая жидкость, согревающая желудок. У тебя есть такая в нижнем ящике.
— Чашек нет. Придется из стакана.
— Тяжелая жизнь. Он налил.
— Хорошо получается. Тренировался для той работы?
— Какой работы?
— Ну, что я тебе предлагал. На экране что-то появилось!
— Он поднимается, мэм, поднимается! — заорал Майк в микрофон.
— Спасибо, Майк, у меня тоже есть сигнал.
— Джин!
— Заткнись! Она занята!
— Это Карл?
— Да, — отозвался я. — Потом поговорим. — И прервал связь. Зачем я это сделал?
— Зачем ты это сделал? Не знаю.
— Не знаю.
Ну какой смысл с ним разговаривать? Все равно что с самим собой. Я встал и вышел наружу. Ничего нет. Что-то есть?
Стадион закачался! Должно быть, он увидел корабль и снова пошел на погружение. Слева закипела вода. Океан с ревом заглатывал бесконечную макаронину троса.
Я постоял немного, затем вернулся к Майку.
Два часа. Тошнота, все тело ноет. Четыре. Теперь вроде получше.
— Наркотик его пронимает.
— Похоже.
— Что насчет мисс Лухарич?
— А что?
— Она должна быть полумертвой.
— Возможно.
— И как ты с этим собираешься бороться?
— Сама напросилась. Она знала, как это бывает.
— Думаю, ты сумел бы его вытащить.
— Я тоже так думаю.
— И она тоже.
— Вот пусть и попросит.
Ихти сонно дрейфовал на глубине в шестьдесят метров.
Я еще раз вышел прогуляться и совершенно случайно оказался рядом с Вагоном. Она не смотрела в мою сторону.
— Карл, иди сюда!
Пикассовые глазки, и больше ничего. И злодейский умысел усадить меня за пульт Вагона.
— Это приказ?
— Да. Нет! Пожалуйста.
Я бросился внутрь и осмотрел приборы. Он поднимался.
— Тянуть или отпускать?
Я включил лебедку. Ихти поднимался послушно, как котенок.
— Теперь решай сама.
На двадцати метрах он уперся.
— Отпустить немного?
— Нет!
Она поднимала его — десять метров, восемь…
На четырех Джин выдвинула совки, и они подхватили зверя. Теперь тянитолкай. Снаружи — торжествующие вопли, вспышки блицев.
Команда увидела Ихти.
Он начал сопротивляться. Джин держала тросы натянутыми, тянитолкай поднимался все дальше. Вверх.
Еще два фута, и тянитолкай начал толкать.
Крики, быстрый топот.
Гигантский стебель, раскачивающийся на ветру, его шея. Зелеными холмами поднимаются из воды плечи.
— Карл, он очень большой! — закричала Джин.
А он становился все больше и больше… и беспокойнее.
— Давай!
Он посмотрел вниз.
Он посмотрел вниз, словно бог наших самых древних предков.
В моей голове мешались страх, стыд, издевательский смех.
А в ее голове?
— Давай же!
Она смотрела вверх, на зарождающееся землетрясение.
— Не могу!
Сейчас, когда кролик умер, все будет так просто. Я протянул руку. И остановился.
— Нажми сама.
— Не могу. Давай ты. Вытащи его, Карл!
— Нет. Если это сделаю я, ты потом всю жизнь будешь мучиться, а могла ли это сделать ты. Ты душу продашь, пытаясь это узнать. Поверь мне, мы похожи, а со мной все было именно так. Выясни сейчас!
Она тупо пялилась. Я схватил ее за плечи.
— Представь себе, что вытащили меня, — предложил я. — Я — зеленый морской змей, полное ненависти чудовище, собирающееся тебя уничтожить. Я никому не подчиняюсь. Нажми «инъекцию».
Ее рука потянулась к кнопке, но вдруг дернулась обратно.
— Ну же!
Она нажала кнопку.
Я аккуратно положил ее на пол и закончил с Ихти. Прошло добрых семь часов, прежде чем я проснулся под ровный гул винтов Стадиона.
— Ты болен, — сообщил мне Майк.
— Как Джин?
— Аналогично.
— Где зверь?
— Здесь.
— Хорошо. — Я перекатился. — На сей раз не ушел.
Вот так все оно и было. По-моему, никто не рождается наживляльщиком, но кольца Сатурна поют свадебную песнь дару, оставленному морским чудовищем.
Ключи к декабрю
Рожденный от мужчины и женщины, видоизмененный в соответствии с требованиями к форме кошачьих Y7, по классу холодных миров (модификация для Алайонэла, выбор РН), Джарри Дарк не мог жить ни в одном уголке Вселенной, что гарантировало ему Убежище. Это либо благословение, либо проклятие — в зависимости от того, как смотреть.
Но как бы вы ни смотрели, история такова.
Вероятно, родители могли снабдить его автоматической термоустановкой, но вряд ли они могли дать ему больше. (Для того чтобы Джарри чувствовал себя хорошо, требовалась температура по крайней мере минус пятьдесят градусов по Цельсию.)
Наверняка они были не в состоянии предоставить оборудование для приготовления дыхательной смеси и контроля давления, необходимых для поддержания его жизни.
И уж никак нельзя было заменить гравитацию типа 3,2 земной, в связи с чем обязательны ежедневное лечение и физиотерапия. Чего, безусловно, не могли обеспечить родители.
Однако именно благодаря столь пагубному выбору, Джарри ни в чем не знал недостатка. Он находился в хорошей физической форме, получил образование, был здоров и материально обеспечен.
Можно, конечно, сказать, что именно из-за компании «Разработка недр, Инк.», которой принадлежало право выбора, Джарри Дарк был видоизменен по классу холодных миров (модификация для Алайонэла) и стал бездомным. Но не надо забывать, что предвидеть гибель Алайонэла в пламени «новой» было невозможно.
Когда его родители обратились в Общественный Центр Планируемого Рождения за советом и рекомендациями относительно лечения будущего ребенка, их информировали о наличных мирах и требуемых тело-формах. Они мудро выбрали Алайонэл, недавно приобретенный РН для разработки полезных ископаемых, и от имени ожидаемого отпрыска подписали договор, обязывающий его работать в качестве служащего РН до достижения совершеннолетия, с какового момента он считается свободным и вправе искать любую работу в любом месте (выбор, согласитесь, весьма ограниченный). Со своей стороны «Разработка недр» обязалась заботиться о его здоровье, образовании и благополучии, пока и поскольку он остается ее работником.
Когда Алайонэл погиб, все Измененные кошачьей формы по классу холодных миров, которые были раскиданы по перенаселенной галактике, благодаря договору оказались под опекой РН.
Вот почему Джарри вырос в герметической камере, оборудованной аппаратурой для контроля состава воздуха и температуры, получил (по телесети) первоклассное образование, а также необходимые лечение и физиотерапию. И именно поэтому он напоминал большого серого оцелота без хвоста, имел перепончатые руки и не мог выходить наружу без морозильного костюма, не приняв предварительно целой кучи медикаментов.
По всей необъятной галактике люди следовали советам Общественного Центра Планируемого Рождения, и не только родители Джарри сделали подобный выбор. Всего набралось двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят человек. В любой такой большой группе должны быть одаренные индивиды; Джарри оказался одним из них. Он обладал талантом делать деньги. Почти все пособие, получаемое от РН, он вкладывал в быстрооборачиваемый капитал (достаточно сказать, что со временем он получил солидный пакет акций РН).
Представитель галактического Союза гражданских прав указал родителям Джарри на возможность подачи иска и подчеркнул, что Измененные кошачьей формы для Алайонэла почти наверняка выиграют процесс. Но хотя родители Джарри подпадали под юрисдикцию 877 судебного округа, они отказались подать иск из боязни лишиться пособия от «Разработки недр». Позже Джарри и сам отказался от этого предложения. Даже благоприятное решение суда не могло вернуть ему нормоформу, а больше ничего не имело значения. Он не был мстителен. Помимо всего, к тому времени он обладал солидным пакетом акций РН.
Джарри плескался в цистерне с метаном и мурлыкал, а это означало, что он думает. Плескаться и мурлыкать ему помогал криокомпьютер. Джарри подсчитывал общий финансовый баланс Декабрьского Клуба, недавно образованного Измененными для Алайонэла.
Закончив вычисления, он продиктовал в звуковую трубу послание Санзе Барати, Президенту Клуба и своей нареченной:
Дражайшая Санза! Наш актив, как я и подозревал, оставляет желать лучшего. Тем важнее, полагаю, начать немедленно. Убедительно прошу представить мое предложение на рассмотрение комитета и требовать безотлагательного утверждения. Я подготовил текст обращения ко всем членам Клуба (копия прилагается). Из приведенных цифр видно, что мне потребуется пять — десять лет, если я получу поддержку хотя бы 80 % членов. Постарайся, возлюбленная. Мечтаю когда-нибудь встретить тебя под багряным небом.
Твой навек. Джарри Дарк, казначей
P.S. Я рад, что кольцо тебе понравилось.
Через два года Джарри удвоил капитал Декабрьского Клуба.
Через полтора года после этого он снова удвоил его. Когда Джарри получил от Санзы нижеследующее письмо, он вскочил на ленту тренажера для бега, подпрыгнул, приземлился на ноги в противоположном углу своего жилища и вставил письмо в проектор.
Дорогой Джарри! Высылаю спецификации и цены еще на пять планет. Исследовательская группа рекомендует последнюю. Я тоже. Как ты думаешь? Алайонэл II? Если так, когда мы сможем набрать достаточно денег? При одновременной работе сотни Планетоизменителей мы добьемся желаемых результатов за пять-шесть столетий. Стоимость оборудования сообщу в ближайшее время.
Приди ко мне, люби меня под бескрайним небом…
Санза
«Всего один год,
— отвечал он, —
и я куплю тебе мир! Поторопись с отправкой тарифов…»
Ознакомившись с цифрами, Джарри заплакал ледяными слезами. Сотня установок, способных изменить природу на планете, плюс двадцать восемь тысяч бункеров для «холодного» сна, плюс плата за перевозку людей и оборудования, плюс… Слишком много!
Он быстро подсчитал и заговорил в трубу:
«…Еще пятнадцать лет — слишком долгое ожидание, киска. Пусть определят время для двадцати установок.
Люблю, целую, Джарри».
День за днем он мерил шагами камеру, сперва на ногах, затем опустившись на все четыре конечности, приходя во все более мрачное расположение духа.
«Приблизительно три тысячи лет,
— наконец последовал ответ. —
Да лоснится твой мех вечно.
Санза».
«Ставь на голосование, Зеленоглазка».
Быстро! Весь мир не больше чем в триста слов. Представьте…
Один континент с тремя черными солеными морями; серые равнины и желтые равнины, и небо цвета сухого песка; редкие леса с деревьями, словно грибы, облитые йодом; холмы — бурые, желтые, белые, бледно-лиловые; зеленые птицы с крыльями, как парашют, серповидными клювами, перьями, словно дубовые листья, словно зонтик, вывернутый наизнанку; шесть далеких лун — днем как пятнышки, ночью как снежные хлопья, капли крови в сумерках и на рассвете; трава как горчица во влажных ложбинах; туманы как белый огонь безветренным утром, как змея-альбинос, когда дуют ветры; глубокие ущелья, будто трещины в матовом стекле; скрытые пещеры как цепи темных пузырей; неожиданный град лавиной с чистого неба; семнадцать видов опасных хищников, от метра до шести в длину; ледяные шапки как голубые береты на сплюснутых полюсах; двуногие стопоходящие полутораметрового роста, с недоразвитым мозгом, бродящие по лесам и охотящиеся на личинок гигантской гусеницы, а также на саму гигантскую гусеницу, зеленых птиц, слепых норолазов и питающихся падалью сумрачников; семнадцать могучих рек; грузные багряные облака, быстро скользящие над землей к лежбищу за западным горизонтом; обветренные скалы как застывшая музыка; ночи как сажа, замазывающая не слишком яркие звезды; долины как плавная мелодия или тело женщины; вечный мороз в тени; звуки по утрам, похожие на треск льда, дребезжание жести, шорох стальной стружки… Они превратят это в рай.
Прибыл авангард, закованный в морозильные скафандры, установил по десяти Планетоизменителей в каждом полушарии, занялся бункерами для «холодного» сна в нескольких больших пещерах.
А следом спустились с песочного неба члены Декабрьского Клуба.
Спустились и увидели, и решили, что это почти рай. Затем вошли в свои пещеры и заснули. Двадцать восемь тысяч Измененных по классу холодных миров (модификация для Алайонэла) уснули сном льда и камня, чтобы, проснувшись, унаследовать новый Алайонэл. И будь в этих снах сновидения, они могли бы оказаться подобными разговорам бодрствующих.
— Так тяжело, Санза…
— Да, но только временно…
— …Обладать друг другом и целым миром и все же задыхаться, как водолаз на дне моря. Быть вынужденным ползать, когда хочется летать…
— Нам века покажутся мгновениями, Джарри.
— Но ведь на самом деле это три тысячи лет! Ледниковый период пройдет, пока мы спим! Наши родные миры изменятся до неузнаваемости; вернись мы туда — и никто нас не вспомнит!
— Куда возвращаться? В наши камеры? Пусть все уходит, пусть изменяется! Пусть нас забудут там, где мы родились! Мы нашли свой дом — разве что-нибудь еще имеет значение?
— Правда… А наши вахты бодрствования и наблюдения мы будем нести вместе.
— Когда первая?
— Через два с половиной столетия — на три месяца.
— Как же там будет?
— Не знаю… Чуть холодней.
— Так вернемся и будем спать. Завтрашний день лучше сегодняшнего.
— Ты права.
— О смотри, зеленая птица! Как мечта…
Когда они проснулись в тот первый раз, то остались внутри здания Планетоизменителя. Бесплодные Пески — так назывался край, где они несли вахту. Было уже немного холоднее, и небо приобрело по краям розовый оттенок. Металлические стены Планетоизменителя почернели и покрылись инеем, но температура была еще слишком высокой, а атмосфера ядовитой. Почти все время они проводили в специальных помещениях Станции, лишь изредка выходя для забора проб и проверки состояния механизмов.
Бесплодные Пески… Пустыня и скалы… Ни деревьев, ни птиц, ни признаков жизни.
Свирепые бури гуляли по поверхности планеты, которая упорно сопротивлялась действию машин. Ночами песчаные шквалы вылизывали каменные стены, а на заре, когда ветер стихал, пустыня мерцала, точно свежевыкрашенная, поблескивая огненными языками скал. После восхода солнца снова поднимался ветер, и песчаная завеса закрывала солнечный свет.
Когда утренние ветры успокаивались, Джарри и Санза часто смотрели из окна на третьем этаже Станции — с их любимого места — на камень, напоминающий угловатую фигуру нормоформного человека, машущего им рукой. Они перенесли снизу зеленую кушетку и лежали, слушая шум поднимающегося ветра. Иногда Санза пела, а Джарри делал записи в дневнике или читал записи других, знакомых и незнакомых. И часто они мурлыкали, но никогда не смеялись, потому что не умели этого делать.
Как-то утром они увидели вышедшее из окрашенного йодом леса двуногое существо. Оно несколько раз падало, поднималось, шло дальше; наконец упало и застыло.
— Что оно делает здесь, так далеко от своего дома? — спросила Санза.
— Умирает, — сказал Джарри. — Выйдем наружу. Они спустились на первый этаж, надели костюмы и вышли из здания.
Существо снова поднялось на ноги и, шатаясь, побрело дальше. Темные глаза, длинный широкий нос, узкий лоб, по четыре пальца на руках и ногах, рыжий пушок…
Когда существо увидело их, оно остановилось и замерло. Потом упало.
Оно лежало, подергиваясь, и широко раскрытыми глазами следило за их приближением.
— Оно умрет, если его оставить здесь, — сказала Санза.
— И умрет, если внести его внутрь. — сказал Джарри.
Существо протянуло к ним руку… Затем рука бессильно упала. Его глаза сузились, закрылись…
Джарри тронул его ногой. Существо не шевельнулось.
— Конец.
— Что будем делать? — спросила Санза.
— Оставим здесь. Скоро его занесет песком.
Они вернулись на Станцию, и Джарри описал происшествие в дневнике.
Как-то, уже на последнем месяце дежурства, Санза спросила:
— Значит, все здесь, кроме нас, погибнет? Зеленые птицы и поедатели падали? Забавные маленькие деревья и волосатые гусеницы?
— Надеюсь, что нет, — ответил Джарри. — Я тут перелистывал заметки биологов. Думаю, что жизнь может устоять. Ведь если она где-нибудь зародится, то сделает все, что в ее силах, чтобы не исчезнуть. Созданиям этой планеты повезло, что мы смогли поставить лишь двадцать установок. В их распоряжении три тысячи лет — за это время они сумеют отрастить шерсть, научатся дышать нашим воздухом и пить нашу воду. Будь у нас сотня установок, мы могли бы стереть их с лица земли. А потом пришлось бы завозить обитателей холодных миров с других планет. Или выводить их. А так есть вероятность, что выживут местные.
— Послушай, — сказала она, — тебе не кажется, что мы делаем с жизнью на этой планете то же, что сделали с нами? Нас создали для Алайонэла, и наш мир уничтожила катастрофа. Эти существа появились здесь; их мир забираем мы. Всех созданий этой планеты мы превращаем в то, чем были сами, — в лишних.
— С той лишь разницей, — возразил Джарри, — что мы даем им время привыкнуть к новым условиям.
— И все же я чувствую, как все снаружи превращается вот в это. — Санза махнула рукой в сторону окна. — В Бесплодные Пески.
— Бесплодные Пески здесь были прежде. Мы не создаем новых пустынь.
— Деревья умирают. Животные уходят на юг. Но когда дальше идти будет некуда, а температура будет продолжать падать и воздух станет гореть в легких, тогда для них все будет кончено.
— Но они могут и приспособиться. У деревьев появляются новые корни, наращивается кора. Жизнь устоит.
— Сомневаюсь…
— Быть может, тебе лучше спать, пока все не окажется позади?
— Нет. Я хочу быть рядом с тобой, всегда.
— Тогда ты должна свыкнуться с фактом, что любые перемены причиняют кому-то страдания. Если ты это поймешь, не будешь страдать сама.
И они стали слушать поднимающийся ветер.
Тремя днями позднее, на закате, между ветрами дня и ветрами ночи Санза подозвала Джарри к окну. Он поднялся на третий этаж и встал рядом с ней. На ее грудь падали розовые блики, тени отливали серебром; ее лицо было бесстрастно, большие зеленые глаза неотрывно смотрели в окно.
Шел крупный снег, синий на фоне розового неба. Снежинки падали на скалу, напоминающую угловатую фигуру человека, и на толстое кварцевое стекло. Они покрывали голую пустыню лепестками цианида, закручивались в вихре с первыми порывами злого ветра. Небо затянули тяжелые тучи, ткущие синие сети. Теперь снежинки неслись мимо окна, словно голубые бабочки, и затуманивали очертания земли. Розовое исчезло, осталось только голубое; оно сгущалось и темнело. Донесся первый вздох вечера, и снежные волны вдруг покатили вбок, а не вниз, становясь густо-синими…
Машина никогда не молчит,
— писал Джарри в дневнике. —
Порой мне чудится, будто в ее неустанном рокоте я различаю голоса. Пять столетий прошло с нашего прибытия, я сейчас один на Станции — решил не будить Санзу на это дежурство, если только не станет совсем невмоготу (а здесь очень тягостно). Она, несомненно, будет сердиться. Сегодня утром в полудреме мне показалось, будто я слышу голоса родителей; не слова — просто звуки, к которым я привык по телефону. Их наверняка уже нет в живых, несмотря на все чудеса геронтологии. Интересно, часто ли они думали обо мне? Я ведь никогда не мог пожать руку отцу или поцеловать мать… Странное это чувство — находиться один на один с гигантским механизмом, перекраивающим молекулы атмосферы, охлаждающим планету, здесь, посреди синей пустыни, Бесплодных Песков. А ведь, казалось бы, мне не следовало удивляться — я вырос в стальной пещере… Каждый день выхожу на связь с остальными Станциями. Боюсь, что порядком им надоел. Завтра надо воздержаться. Или послезавтра…
Утром выскочил на миг наружу без скафандра. Все еще смертельно жарко. Я набрал в грудь воздуха и задохнулся. Наш день еще далеко, хотя по сравнению с последним разом — двести пятьдесят лет назад — уже заметна разница. Любопытно, на что все это будет похоже, когда кончится? И что буду делать в новом Алайонэле я, экономист? Впрочем, пока Санза счастлива…
Машина стонет. Все вокруг, насколько видно, голубое. Камни все такие же безжизненные, но поддались ветрам и приняли другие очертания. Небо розовое, на восходе и по вечерам — почти багряное. Так и тянет сказать, что оно цвета вина, но я никогда не видел вина, только читал о нем, и не могу быть уверен. Деревья выстояли. Их корни и стволы укрепились, кора стала толще, листья больше и темнее. Так говорят. В Бесплодных Песках нет деревьев…
Гусеницы тоже живы. На глаз они кажутся даже крупнее, но это оттого, что они стали более мохнатыми. У большинства животных шкура теперь толще, некоторые впадают в спячку. Странно: Станция 7 сообщает, что, по их мнению, мех у двуногих стал гуще! Двуногих, похоже, там довольно много, их частенько видят вдалеке. С виду они косматые, однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что некоторые одеты в шкуры мертвых зверей! Неужели они разумнее, чем мы считали? Это едва ли возможно — их предварительно долго и тщательно изучали биологи. И все же странно.
Ветры ужасные. Порой они застилают небо черным пеплом. К юго-востоку наблюдается сильная вулканическая деятельность. Из-за этого пришлось перевести Станцию 4 в другое место. Теперь в шуме машин мне чудится пение Санзы. В следующий раз непременно ее разбужу. Думаю, к тому времени кое-что образуется. Нет, неправда. Это эгоизм. Просто я хочу чувствовать ее присутствие. Иногда мне приходит в голову мысль, что я — единственное живое существо в целом мире. Голоса по радио призрачны. Громко тикают часы, а паузы заполнены машинным гулом, то есть тоже своего рода тишиной, потому что он непрерывен. Временами у меня возникает чувство, что его нет, он пропал. Я напрягаю слух. Я проверяю индикаторы, и они говорят, что машины работают. Но, возможно, что-то не в порядке с индикаторами… Нет. Со мной…
А голубизна Песков — это зрительная тишина. По утрам даже скалы покрыты голубой изморозью. Что это: красота или уродство? Не могу сказать. По мне — это лишь часть великого безмолвия, вот и все. Кто знает, может, я стану мистиком, овладею оккультными силами, достигну Яркого и Освобождающего, сидя здесь, в окружении тишины. Возможно, у меня появятся видения. Голоса я уже слышу. Есть ли в Бесплодных Песках призраки? Кого? Разве что того двуногого… Интересно, зачем оно пересекало пустыню? Почему направлялось к очагу разрушения, а не прочь, подобно другим своим сородичам? Мне никогда этого не узнать. Если, конечно, не будет видения…
Пожалуй, пора надеть костюм и выйти на прогулку. Полярные шапки стали массивнее; началось оледенение. Скоро, скоро все образуется. Скоро, надеюсь, молчание кончится. Однако я порой задумываюсь: что, если тишина — нормальное состояние Вселенной, а наши жалкие звуки лишь подчеркивают ее, словно черные крапинки на голубом фоне? Все когда-то было тишиной и в тишину обратится — или, быть может, уже обратилось. Услышу ли я когда-нибудь настоящие звуки?.. Снова чудится, что поет Санза. Как бы я хотел сейчас разбудить ее, чтобы она была со мной и мы походили бы вместе там, снаружи… Пошел снег.
Джарри проснулся накануне первого тысячелетия.
Санза улыбалась и гладила его руки, пока он, извиняясь, объяснял, почему не разбудил ее.
— Конечно, я не сержусь, — сказала она. — Ведь в прошлый раз я поступила так же.
Он смотрел на нее и радовался тому, что они понимают друг друга.
— Никогда больше так не сделаю, — продолжала Санза. — И ты тоже не сможешь. Одиночество невыносимо.
— Да, — отозвался он.
— В прошлый раз они разбудили нас обоих. Я очнулась первая и не велела тебя будить. Разумеется, я разозлилась, когда узнала, что ты сделал. Но злость быстро прошла, и я часто желала, чтобы мы были вместе.
— Мы будем вместе.
— Всегда.
Они взяли флайер и из пещеры сна перелетели к Планетоизменителю в Бесплодных Песках, где сменили прежнюю пару и придвинули к окну на третьем этаже новую кушетку.
Воздух был по-прежнему душный, но уже годился для дыхания на короткое время, хотя после подобных экспериментов долго болела голова. Жара все еще была невыносимой. Очертания скалы, некогда напоминавшей человека, расплылись. Ветры потеряли былую свирепость.
На четвертый день они нашли следы, принадлежащие, вероятно, какому-то крупному хищнику. Это порадовало Санзу. Зато другой эпизод вызвал только изумление. Менее чем в сотне шагов от Станции они наткнулись на трех высохших гигантских гусениц. Снег вокруг был испещрен знаками. К гусеницам вели неясные следы.
— Что бы это значило? — спросила Санза.
— Не знаю. Но, думаю, лучше это сфотографировать, — отозвался Джарри.
Так они и сделали. Поговорив со Станцией 2, Джарри узнал, что подобная картина периодически отмечалась наблюдателями и на других Станциях, правда, редко.
— Не понимаю, — сказала Санза.
— А я не хочу понимать, — сказал Джарри.
За время их дежурства такого больше не случалось. Джарри сделал подробную запись в дневнике, после чего они продолжили наблюдения, иногда прерывая их, чтобы попробовать возбуждающие напитки. Два столетия назад один биохимик посвятил свое дежурство поискам веществ, которые вызывали бы у Измененных такие же реакции, как в свое время алкогольные напитки у нормальных людей. Опыты завершились успехом. Четыре недели счастливый биохимик беспробудно пил и, естественно, забросил свои обязанности, за что был снят с поста и отправлен спать до конца Срока. Однако его в общем-то немудреный рецепт разошелся по другим Станциям. Джарри и Санза обнаружили в кладовой настоящий бар и рукописную инструкцию по составлению напитков. Автор выражал надежду, что каждое дежурство будет завершаться открытием нового рецепта. Джарри и Санза работали на совесть и обогатили список пуншем «Снежный цветок», который согревал желудок и превращал мурлыканье в хихиканье, — так был открыт смех. Наступление тысячелетия они отпраздновали целым кубком пунша. По настоянию Санзы рецептом поделились с остальными Станциями, чтобы каждый мог разделить их радость. Вполне вероятно, что так оно и произошло, потому что рецепт приняли благосклонно. И уже навсегда, даже после того, как от кубка остались лишь воспоминания, сохранился смех. Так порой создаются традиции.
— Зеленые птицы умирают, — сказала Санза, отложив в сторону прочитанный рапорт.
— А? — отозвался Джарри.
— Адаптация не может происходить бесконечно. Вероятно, они исчерпали все резервы.
— Жаль, — сказал Джарри.
— Кажется, прошел всего год, как мы здесь. На самом деле позади тысячелетие.
— Время летит.
— Я боюсь, — прошептала она.
— Чего?
— Не знаю. Просто боюсь.
— Но почему?
— Мы живем странной жизнью; в каждом столетии оставляем по кусочку самих себя. Еще совсем недавно, как подсказывает мне память, здесь была пустыня. Сейчас это ледник. Появляются и исчезают ущелья и каньоны. Пересыхают реки, и на их месте возникают новые. Все кажется таким временным, таким преходящим… Вещи с виду солидные, надежные, но я боюсь коснуться их: вдруг они превратятся в дым и моя рука сквозь дым коснется чего-то?.. Или еще хуже — ничего не коснется. Никто не знает наверное, что здесь будет, когда мы достигнем цели. Мы стремимся к неведомой земле, и отступать слишком поздно. Мы движемся сквозь сон, направляемся к фантазии… Порой я скучаю по своей камере, по машинам, что заботились обо мне. Возможно, я не умею приспосабливаться. Возможно, я как зеленая птица…
— Нет, Санза, нет! Мы настоящие. Неважно, что происходит снаружи, — мы существуем и будем существовать. Все меняется, потому что таково наше желание. Мы сильнее этого мира и будем переделывать его до тех пор, пока не создадим на свой лад. И тогда мы оживим его городами и детьми. Хочешь увидеть Бога? Посмотри в зеркало. У Бога заостренные уши и зеленые глаза. Он покрыт мягким серым мехом. Между пальцами у него перепонки.
— Джарри, как хорошо, что ты такой сильный!
— Давай возьмем флайер и поедем кататься.
— Поедем!
Вверх и вниз ездили они в тот день по Бесплодным Пескам, где черные скалы стояли подобно тучам в чужом небе.
Минуло двенадцать с половиной столетий.
Теперь некоторое время они могли обходиться без респираторов.
Теперь некоторое время могли выносить жару.
Теперь зеленых птиц уже не было. Началось что-то странное и тревожное. По ночам приходили двуногие, чертили знаки на снегу, оставляли среди них мертвых животных. И происходило это гораздо чаще, чем в прошлом. Двуногие шли ради этого издалека; плечи многих покрывали звериные шкуры.
Джарри просмотрел все записи в поисках упоминаний об этих существах.
— Станция 7 сообщает об огнях в лесу, — сказал он.
— Что?..
— Огонь, — повторил он. — Неужели они открыли огонь?
— Значит, это не просто звери!
— Но они были зверьми!
— Теперь они носят одежду. Оставляют дары нашим машинам. Это уже больше не звери.
— Как такое могло произойти?
— Это наших рук дело. Вероятно, они так и остались бы тупыми животными, если бы мы не заставили их поумнеть, чтобы выжить. Мы ускорили их развитие. Они должны были приспособиться или погибнуть. Они приспособились.
— Ты полагаешь, без нас этого бы не случилось?
— Возможно, случилось бы — когда-нибудь. А возможно, и нет.
Джарри подошел к окну, окинул взглядом Бесплодные Пески.
— Я должен выяснить, — сказал он. — Если они разумны, если они… люди, как и мы, — он рассмеялся, — тогда мы обязаны с ними считаться.
— Что ты предлагаешь?
— Разыскать их. Посмотреть, нельзя ли наладить общение.
— Разве этим не занимались?
— Занимались.
— И каковы результаты?
— Разные. Некоторые наблюдатели считали, что они проявляют значительную понятливость. Другие ставили их гораздо ниже того порога, с которого начинается Человек.
— Может быть, мы совершаем чудовищную ошибку, — задумчиво произнесла Санза. — Создаем людей с тем, чтобы позднее их уничтожить. Помнишь, ты как-то сказал, что мы — боги этого мира, что в нашей власти строить и разрушать. Да, вероятно, это в нашей власти, но я не ощущаю в себе особой святости. Что же нам делать? Они прошли этот путь, но уверен ли ты, что они выдержат перемену, которая произойдет к концу? Что, если они подобны зеленым птицам? Если они исчерпали все возможности адаптации и этого недостаточно? Как поступит Бог?
— Как ему вздумается, — ответил Джарри.
В тот день они облетели Бесплодные Пески на флайере, но не встретили никаких признаков жизни. И в последующие дни их поиски не увенчались успехом.
Однако одним багряным утром, две недели спустя, это произошло.
— Они были здесь, — сказала Санза. Джарри посмотрел в окно.
На вытоптанной площадке лежал мертвый зверек, а снег вокруг был исчерчен уже знакомыми знаками.
— Они не могли уйти далеко.
— Ты права.
— Нагоним их на санях!
Они мчались по снегу, который покрывал землю, именуемую Бесплодными Песками. Санза сидела за рулем, а Джарри высматривал следы на синем поле.
Все утро они неслись, подобные темно-лиловому огню, и ветер обтекал их, будто вода, а вокруг раздавались звуки, похожие на треск льда, дребезжание жести, шорох стальной стружки. Голубые заиндевевшие глыбы стояли словно замерзшая музыка, и длинная черная, как смоль, тень бежала впереди саней. Порой вдруг налетал град, по крыше саней барабанило, будто наверху отплясывали неистовые танцоры, и так же внезапно все утихало. Земля то уходила вниз, то вставала на дыбы.
Вдруг Джарри опустил руку на плечо Санзы.
— Впереди!
Санза кивнула и стала тормозить.
Они загнали его к бухте. Они пользовались палками и длинными шестами с обугленным острием. Они швыряли в него камни и куски льда.
Затем они стали пятиться, а оно шло вперед и убивало.
Видоизмененные называли это животное медведем, потому что оно было большим и косматым и могло вставать на задние лапы. Тело длиной в три с половиной метра было покрыто голубым мехом; узкое безволосое рыло напоминало рабочую часть плоскогубцев.
На снегу неподвижно лежали пять маленьких созданий. С каждым ударом огромной лапы падало еще одно.
Джарри достал пистолет и проверил заряд.
— Поезжай медленно, — бросил он Санзе — Я постараюсь попасть в голову.
Первый раз он промахнулся, угодив в валун позади медведя. Второй выстрел опалил мех на шее зверя. Джарри соскочил с саней, поставил заряд на максимум и выстрелил прямо в нависшую грудь.
Медведь замер, потом пошатнулся и упал. В груди зияла сквозная рана.
Джарри повернулся к созданиям, которые не спускали с него глаз.
— Меня зовут Джарри, — сказал он. — Нарекаю вас красноформами…
Удар сзади свалил его с ног.
Джарри покатился по снегу. Глаза застилал туман, левая рука и плечо горели огнем.
Из-за нагромождения камней показался второй медведь.
Джарри вытащил правой рукой длинный охотничий нож и встал на ноги.
Когда зверь кинулся вперед, он с кошачьей ловкостью, присущей его роду, увернулся, занес руку и по рукоятку вонзил нож в горло медведя.
По телу зверя пробежала дрожь, но он швырнул Джарри на землю, как пушинку.
Красноформы принялись кидать камни, бросились на медведя с заостренными пиками.
Затем раздался громкий удар, послышался скрежещущий звук; зверь взвился в воздух и упал на Джарри.
Когда Джарри пришел в себя, он увидел, что лежит на спине. Тело свело от боли, и все вокруг него пульсировало и мерцало, словно готовое взорваться.
Сколько прошло времени, он не знал. Медведя, надо полагать, с него сняли. Чуть поодаль боязливо жались в кучку маленькие двуногие существа. Одни смотрели на него, другие не сводили глаз со зверя. Кое-кто смотрел на разбитые сани.
Разбитые сани…
Джарри поднялся на ноги. Существа попятились. Он с трудом добрел до саней и заглянул внутрь.
Санза была мертва. Это было видно сразу по неестественному наклону головы, но он сделал все, что полагается делать, прежде чем поверил в случившееся.
Она нанесла медведю смертельный удар, направив на него сани. Удар сломал ему хребет. Сломал сани. Убил ее.
Джарри склонился над обломками саней, сочинил первую заупокойную песнь и высвободил тело.
Красноформы не сводили с него глаз.
Он поднял мертвую Санзу на руки и зашагал к Станции через Бесплодные Пески.
Красноформы молча провожали его взглядом. Все, кроме одного, который внимательно изучал нож, торчащий из залитого кровью косматого горла зверя.
Джарри спросил разбуженных руководителей Декабрьского Клуба:
— Что следует сделать?
— Она — первая из нас, кто погиб на этой планете, — сказал Ян Турл, вице-президент Клуба.
— Традиций не существует, — сказала Зельда Кейн, секретарь. — Вероятно, нам следует их придумать.
— Не знаю, — сказал Джарри. — Я не знаю, что нужно делать.
— Надо выбрать — погребение или кремация. Что ты предлагаешь?
— Я не… Нет, не хочу в землю. Верните мне ее тело, дайте большой флайер… Я сожгу ее.
— Тогда позволь нам помочь тебе.
— Нет. Предоставьте все мне. Мне одному.
— Как хочешь. Можешь пользоваться любым оборудованием. Приступай.
— Пожалуйста, пошлите кого-нибудь на Станцию в Бесплодных Песках. Я хочу уснуть после того, как закончу с этим, — до следующей смены.
— Хорошо, Джарри. Нам искренне жаль…
— Да, очень жаль…
Джарри кивнул, повернулся и ушел. Таковы порой мрачные стороны жизни.
На северо-востоке Бесплодных Песков на три тысячи метров ввысь вознеслась синяя гора. Если смотреть на нее с юго-запада, она казалась гигантской замерзшей волной. Багряные тучи скрывали ее вершину. На крутых склонах не водилось ничего живого. У горы не было имени, кроме того что дал ей Джарри Дарк.
Он посадил флайер на вершину, вынес Санзу, одетую в самые красивые одежды, и опустил. Широкий шарф скрывал сломанную шею, густая темная вуаль закрывала холодное лицо.
И тут начался град. На него, на мертвую Санзу камнями падали с неба куски голубого льда.
— Будьте вы прокляты! — закричал Джарри и бросился к флайеру.
Он взмыл в воздух, описал круг над горой.
Одежда Санзы билась на ветру. Град завесой из синих бусинок отгородил их от остального мира, оставив лишь прощальную ласку: огонь, текущий от льдинки к льдинке.
Джарри нажал на гашетку, и в боку безымянной горы открылась дверь в солнце. Дверь становилась все шире, и вот уже гора исчезла в ней целиком.
Тогда он взвился в тучи, атакуя бурю, пока не иссякла энергия, питающая орудия…
Он облетел расплавленную гору на северо-востоке Бесплодных Песков — первый погребальный костер, который видела эта планета.
Потом он вернулся — чтобы забыться в тиши долгой ночи льда и камня, унаследовать новый Алайонэл. В такие ночи сновидений не бывает.
Пятнадцать столетий. Почти половина Срока. Картина не более чем в двести слов. Представьте…
Текут девятнадцать рек, но черные моря покрываются фиолетовой рябью.
Исчезли редкие йодистые леса. Вместо них вверх поднялись могучие деревья с толстой корой, известковые, оранжевые и черные…
Великие горные хребты на месте холмов — бурых, желтых, белых, бледно-лиловых. Замысловатые клубы дыма над курящимися вершинами…
Цветы, корни которых зарываются в почву на двадцать метров, а коричневые бутоны не распускаются среди синей стужи и камней.
Слепые норолазы, забирающиеся глубже; поедающие падаль сумрачники, отрастившие грозные резцы и мощные коренные зубы; гигантские гусеницы хоть и уменьшились в размерах, но выглядят настоящими великанами, потому что стали еще более мохнатыми…
Очертания долин — как тело женщины, изгибающиеся и плавные, или, возможно, — как музыка…
Меньше обветренных скал, но свирепый мороз…
Звуки по утрам по-прежнему резкие, металлические…
Из дневника Станции Джарри почерпнул все, что ему требовалось знать. Но он прочитал и старые сообщения.
Затем плеснул в стакан пьянящий напиток и выглянул из окна третьего этажа.
— …Умрут, — произнес он и допил, и собрался, и покинул свой пост.
Через три дня он нашел лагерь.
Он посадил флайер в стороне и пошел пешком. Джарри залетел далеко на юг Бесплодных Песков, и теплый воздух спирал дыхание.
Теперь они носили звериные шкуры — обрезанные и сшитые, — обвязав их вокруг тел. Джарри насчитал шестнадцать построек и три костра. Он вздрогнул при виде огня, но не свернул с пути.
Кто-то вскрикнул, заметив его, и наступила тишина.
Он вошел в лагерь.
Повсюду неподвижно стояли двуногие. Из большой постройки на краю поляны раздавались звуки какой-то возни.
Джарри обошел лагерь.
На деревянном треножнике сушилось мясо. У каждого жилища стояло несколько длинных копий. Джарри осмотрел одно. Узкий наконечник был вытесан из камня.
На деревянной доске были вырезаны очертания кошки…
Он услышал шаги и обернулся.
К нему медленно приближался красноформый, казавшийся старше других. Его худые плечи поникли, приоткрытый рот зиял дырой, редкие волосы засалились. Существо что-то несло, но Джарри не видел, что именно, потому что не сводил глаз с рук старика.
На каждой руке был противостоящий большой палец.
Джарри повернулся и уставился на руки других красноформых. У всех были большие пальцы. Он внимательнее присмотрелся к внешности этих существ.
Теперь у них появились лбы.
Он перевел взгляд на старика.
Тот опустил свою ношу на землю и отошел.
Джарри взглянул вниз.
На широком листе лежали кусок сухого мяса и дольки какого-то фрукта.
Джарри взял мясо, закрыл глаза, откусил кусочек, пожевал и проглотил. Остальное завернул в лист и положил в боковой карман сумки.
Он протянул руку, и красноформый попятился.
Джарри достал одеяло, которое принес с собой, и расстелил его на земле. Затем сел и указал старику на место рядом.
Старик поколебался, но все же подошел и сел.
— Будем учиться говорить друг с другом, — медленно произнес Джарри. Он приложил руку к груди: — Джарри.
Джарри стоял перед разбуженными руководителями Декабрьского Клуба.
— Они разумны, — сказал он. — Вот мой доклад.
— Каков же вывод? — спросил Ян Турл.
— По-моему, они не смогут приспособиться. Они развивались очень быстро, но вряд ли способны на большее. На весь путь их не хватит.
— Ты кто — биолог, химик, эколог?
— Нет.
— Так на чем же ты основываешь свое мнение?
— Я жил с ними шесть недель.
— Значит, всего лишь догадка?..
— Ты знаешь, что в этой области нет специалистов. Такого никогда раньше не было.
— Допуская их разумность, — допуская даже, что они действительно не смогут приспособиться, — что ты предлагаешь?
— Замедлить изменение планеты. Дать им шанс. А если их постигнет неудача, вообще отказаться от нашей цели. Здесь уже можно жить. Дальше можем адаптироваться мы.
— Замедлить? На сколько?
— Еще на семь-восемь тысяч лет…
— Исключено! Абсолютно исключено! Слишком долгий срок!
— Но почему?
— Потому что каждый из нас несет трехмесячную вахту раз в два с половиной столетия. Таким образом, на тысячу лет уходит год личного времени. Слишком большую жертву ты требуешь от нас.
— Но от этого зависит судьба целой расы!
— Кто знает…
— Разве одной возможности недостаточно?
— Джарри Дарк, ты хочешь ставить вопрос на административное голосование?
— Нет, тут мое поражение очевидно… Я настаиваю на всеобщем голосовании.
— Невозможно! Все спят.
— Так разбудите их!
— Повторяю, это невозможно.
— А вам не кажется, что судьба целой расы стоит усилия? Тем более что это мы заставляем этих существ развиваться, мы прокляли их разумом!
— Довольно! Они и без нас стояли на пороге. Они вполне могли стать разумными даже без нашего появления…
— Но мы не можем сказать наверняка! Мы не знаем! Да и не все ли равно, как именно это произошло, — вот они, и вот мы, и они принимают нас за божества — быть может, потому, что мы ничего им не даем, кроме страданий. Но должны же мы нести ответственность за судьбу разума — уж по крайней мере не убивать его!
— Возможно, длительное и тщательное расследование…
— К тому времени они погибнут! Пользуясь своим правом казначея, я требую всеобщего голосования.
— Не слышу обязательного второго голоса.
— Зельда? — спросил Джарри. Она отвела глаза.
— Тарбел? Клонд? Бондичи?
В широкой, просторной пещере царила тишина.
— Что ж, выходит, я проиграл. Мы сами окажемся змеями, когда войдем в наш Эдем… Я возвращаюсь назад, в Бесплодные Пески, заканчивать вахту.
— Это вовсе не обязательно. Пожалуй, тебе сейчас лучше отправиться спать…
— Нет. Во всем, что произошло, есть и моя вина. Я останусь наблюдать и разделю ее полностью.
— Да будет так, — сказал Турл.
Две недели спустя, когда Станция 19 пыталась вызвать Бесплодные Пески по радио, ответа не последовало.
Через некоторое время туда был выслан флайер.
Станция в Бесплодных Песках превратилась в бесформенную глыбу расплавленного металла. Джарри Дарка нигде не было. В тот же день замолчала Станция 9. Немедленно и туда вылетел флайер.
Станции 9 более не существовало. Ее обитателей удалось обнаружить в нескольких километрах: они шли пешком. По их словам, Джарри Дарк, угрожая оружием, заставил всех покинуть Станцию и сжег ее дотла орудиями своего флайера.
Тем временем замолчала Станция 6.
Руководители Клуба издали приказ:
ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОСТОЯННО РАДИОСВЯЗЬ С ДВУМЯ СОСЕДНИМИ СТАНЦИЯМИ.
За ним последовал еще один приказ:
ПОСТОЯННО НОСИТЬ ПРИ СЕБЕ ОРУЖИЕ. ВСЕХ ПОСТОРОННИХ БРАТЬ В ПЛЕН.
На дне ущелья, укрытый за скалой, ждал Джарри. Рядом с приборной доской флайера лежала маленькая коробочка из серебристого металла. Радио было включено. Джарри ждал передачу.
Выслушав первые слова, он растянулся на сиденье и заснул.
Когда он проснулся, вставала заря нового дня.
Передача все еще продолжалась:
«…Джарри. Все будут разбужены. Возвращайся в главную пещеру. Говорит Ян Турл. В уничтожении Станций нет необходимости. Мы согласны с требованием всеобщего голосования. Пожалуйста, немедленно свяжись с нами. Мы ждем твоего ответа, Джарри…»
Он поднял флайер из багряной тени в воздух.
Конечно, его ждали. С десяток винтовок нацелились на него, едва он появился.
— Бросай оружие, Джарри, — раздался голос Ян Турла.
— Я не ношу оружия, — сказал Джарри. — И в моем флайере его нет, — добавил он.
Это было правдой, так как орудия больше не венчали турели.
Ян Турл приблизился, посмотрел ему в глаза:
— Что ж, тогда выходи.
— Благодарю, предпочитаю остаться здесь.
— Ты арестован.
— Как вы намерены поступить со мной?
— Ты будешь спать до истечения Срока Ожидания. Иди!
— Мет. И не пытайтесь стрелять или пустить в ход парализатор и газы. Если вы это сделаете, мы погибнем в ту же секунду.
— Что ты хочешь этим сказать? — спросил Ян Турл, делая знак стрелкам.
— Мой флайер превращен в бомбу, и я держу запал в правой руке. — Джарри поднял серебристую коробку. — Пока я не отпускаю кнопку, мы в безопасности. Но если мой палец хоть на секунду ослабнет, последует взрыв, который уничтожит всю эту пещеру!
— Полагаю, ты берешь нас на испуг.
— Что ж, проверь.
— Но ведь ты тоже умрешь, Джарри!
— Теперь мне все равно. Кстати, не пытайтесь уничтожить запал, — предупредил он. — Бессмысленно.
Даже в случае успеха вам это обойдется по крайней мере в две Станции.
— Почему?
— Как по-вашему: что я сделал с орудиями? Я обучил красноформых пользоваться ими. В настоящий момент орудия нацелены на две Станции, и, если я не вернусь до рассвета, они откроют огонь. Потом они двинутся дальше и попытаются уничтожить другие две Станции.
— Ты доверил лазер зверям?
— Совершенно верно. Ну, так вы станете будить остальных для голосования?
Турл сжался, словно для прыжка, затем, видимо, передумал и обмяк.
— Почему ты так поступил, Джарри? — жалобно спросил он. — Кто они тебе? Ради них ты заставляешь страдать свой народ!
— Раз ты не ощущаешь того, что я, — ответил Джарри, — мои мотивы покажутся тебе бессмысленными. В конце концов, они основаны лишь на моих чувствах, а мои чувства отличаются от твоих, ибо продиктованы скорбью и одиночеством. Попробуй, однако, понять вот что: я для них божество. Мои изображения есть в любом лагере. Я — Победитель Медведей с Пустыни Мертвых. Обо мне слагают легенды на протяжении двух с половиной веков, и в этих легендах я сильный, мудрый и добрый. И в таком качестве кое-чем им обязан. Если я не дарую им жизнь, кто будет славить меня? Кто будет воздавать мне хвалу у костров и отрезать для меня лучшие куски мохнатой гусеницы? Никто, Турл. А это все, чего стоит сейчас моя жизнь. Буди остальных. У тебя нет выбора.
— Хорошо, — проговорил Турл. — А если тебя не поддержат?
— Тогда я удалюсь от дел, и ты сможешь стать божеством, — сказал Джарри.
Каждый вечер, когда солнце спускается с багряного неба, Джарри Дарк смотрит на закат, ибо он не будет больше спать сном льда и камня, сном без сновидений. Он решил прожить остаток своих дней в неуловимо малом моменте Срока Ожидания и никогда не увидеть Алайонэл своего народа. Каждое утро на новой Станции в Бесплодных Песках его будят звуки, похожие на треск льда, дребезжание жести, шорох стальной стружки. Потом приходят двуногие со своими дарами. Они поют и чертят знаки на снегу. Они славят его, а он улыбается им. Иногда тело его сотрясает кашель.
…Рожденный от мужчины и женщины, видоизмененный в соответствии с требованиями к форме кошачьих Y7, по классу холодных миров (модификация для Алайонэла), Джарри Дарк не мог жить ни в одном уголке Вселенной, что гарантировало ему Убежище. Это либо благословение, либо проклятие — в зависимости от того, как смотреть. Но как бы вы ни смотрели, ничего не изменится…
Так платит жизнь тем, кто служит ей самозабвенно.
Автодьявол
Мэрдок мчался по Великой западной дорожной равнине.
Высоко над ним солнце плясало, как огненная погремушка, пока он брал бесчисленные подъемы на скорости более ста шестидесяти миль в час. Он не притормаживал, что бы там ни было впереди, но укрытые глаза Дженни замечали все камни и выбоины заранее, и она тщательно избегала их, так что иной раз он даже не замечал легчайшего поворота рулевой колонки.
Хотя ветровое стекло было затенено и он надел дорожные очки, блеск оплавленной равнины обжигал глаза, и по временам ему мерещилось, что он ночью ведет быстроходный катер под ярчайшей луной иных небес по озеру серебряного огня. Позади него вздымались огромные волны пыли, повисали в воздухе, потом медленно оседали.
— Ты выматываешь себя, — сказало радио. — Изо всех сил стискиваешь баранку, напрягаешь глаза. Почему бы тебе не отдохнуть? Разреши, я затуманю стекла. Поспи, а я справлюсь сама.
— Нет, — сказал он. — Я так хочу.
— Ладно, — сказала Дженни. — Я просто спросила.
— Спасибо.
Минуту спустя из радио полилась музыка — струнная, вкрадчивая.
— Прекрати!
— Прошу прощения. Просто подумала, что это тебя расслабит.
— Когда мне понадобится расслабиться, я тебе скажу сам.
— Учту, Сэм. Извини.
После этого краткого разговора тишина стала угнетающей. Как-никак, Дженни была отличной машиной, и Мэрдок это знал. Ее всегда заботило, как он себя чувствует, и она была готова всячески содействовать его поискам.
Внешне ей придали вид беззаботной легковушки, ярко-красной, шикарной, быстрой. Но под выпуклостями ее капота притаились ракеты, а под фарами были замаскированы два ствола пятидесятого калибра. Под шасси она носила пояс из гранат замедленного действия (пять и десять секунд), а в багажнике укрывался распылитель с горючей смесью.
…Ибо его Дженни была заказным смертомобилем, который сконструировал для него архинженер династии Джемот далеко на востоке, и этот великий конструктор вложил в нее всю свою изобретательность.
— На этот раз мы его отыщем, Дженни, — сказал он. — И зря я на тебя рявкнул.
— Пустяки, Сэм, — ответил нежный голос. — Я запрограммирована понимать тебя.
Они с ревом неслись по Великой равнине, а солнце склонялось все дальше на запад. Всю ночь и весь день они вели поиски, и Мэрдок устал.
Последний форт «Заправься и отдохни» остался далеко позади в пространстве и словно бы во времени…
Мэрдок наклонился вперед, веки его сомкнулись.
Стекла постепенно потемнели до полной непрозрачности. Ремень безопасности осторожно скользнул повыше и оттянул его от баранки. Затем спинка медленно-медленно опустилась, укладывая его в горизонтальное положение. Ночь уже почти наступила, и включился обогреватель.
Незадолго до пяти утра сиденье разбудило его, слегка встряхнув.
— Проснись, Сэм! Проснись!
— Что такое? — пробурчал он.
— Двадцать минут назад я поймала радиопередачу. Недавно в этом направлении произошел автомобильный налет. Я тут же повернула, и мы уже почти на месте.
— Почему ты меня сразу не разбудила?
— Лишние минуты сна тебе не помешали, и ведь ты ничего сделать не мог бы. Только бы зря нервничал.
— Ладно, возможно, ты и права. Расскажи про налет.
— Вчера ночью шесть машин, видимо, попали в засаду, устроенную дикими авто. Патрульный вертолет докладывал с воздуха, а я слушала. Все машины были разобраны и высосаны, мозги их разбиты, пассажиры как будто все тоже убиты. В окрестностях никакого движения.
— Далеко еще?
— Минуты две-три.
Стекла вновь стали прозрачными, и Мэрдок вглядывался вперед в ночь, насколько пробивались лучи мощных фар.
— Я что-то вижу, — сказал он.
— Добрались, — сообщила Дженни через несколько секунд и начала притормаживать.
Они остановились возле изуродованных машин. Ремень безопасности расстегнулся, дверца со стороны Мэрдока распахнулась.
— Сделай кружок, Дженни, — сказал он, — поищи тепловые следы. Я долго не задержусь.
Дверца захлопнулась, и Дженни отъехала. Он включил карманный фонарик и зашагал к погибшим машинам.
Великая равнина была точно усыпанный песком пол танцзала: твердые кристаллики похрустывали под его подошвами. Повсюду следы покрышек скользивших юзом машин и отпечатки протекторов, точно узор из вермишели.
За рулем первой машины сидел мертвец. У него была сломана шея. Разбитые часы на запястье показывали 2.45. Шагах в тридцати в стороне лежали три трупа — две женщины и подросток. Их переехали колеса нападавших машин, когда они попытались убежать.
Мэрдок начал осматривать остальные машины. Все шесть лежали на днищах. Кузова были помяты. Со всех были сняты колеса, из моторов извлечены важные части. Баки вскрыты и осушены, из открытых багажников исчезли запаски. И ни одного живого пассажира.
Рядом с ним остановилась Дженни, ее дверца распахнулась.
— Сэм, — сказала она, — выдерни мозговые вводы у синей машины, третьей сзади. У нее еще осталась энергия в запасном аккумуляторе, и я слышу, как она радирует.
— Хорошо.
Мэрдок пошел назад и выдернул вводы, а потом вернулся к Дженни и сел за руль.
— Ты что-нибудь нашла?
— Кое-какие следы. Ведут на север.
— Поезжай по ним.
Дверца захлопнулась, и Дженни повернула на север. Потом она сказала:
— В этом конвое было восемь машин.
— Что-что?
— Только что сообщили. По-моему, две машины связались с дикими на неконтролируемой частоте. И стакнулись с ними. Сообщили свои координаты, а в момент нападения набросились на своих спутников.
— А их пассажиры?
— Вероятно, задушили их выхлопными газами, перед тем как присоединиться к стае.
Мэрдок трясущимися руками закурил сигарету.
— Дженни, почему машины дичают? — спросил он. — Не знать заранее, где и когда ты заправишься, не быть уверенным, что найдешь запасные части для саморемонтного устройства… Чего ради они идут на это?
— Не знаю, Сэм. Никогда над этим не задумывалась.
— Десять лет назад Автодьявол, их вожак, убил моего брата во время налета на бензофорт, — сказал Мэрдок. — И с тех пор я охочусь за черным «кадиллаком». Я искал его с воздуха, обошел пешком все окрестности. Я использовал другие автомобили. Я брал с собой теплоискатель и ракеты. Я даже закладывал мины. Но всякий раз он оказывался быстрее, находчивее и сильнее меня. И тогда я заказал тебя.
— Я знала, как ты его ненавидишь. И хотела узнать причину, — заметила Дженни.
Мэрдок глубоко затянулся.
— По моим указаниям тебя специально программировали, бронировали и вооружили, чтобы ты стала самой мощной, самой быстрой, самой умной из всех, снабженных колесами, Дженни. Ты — Алая Леди, ты — единственный автомобиль, способный справиться с Автодьяволом и его стаей. У тебя есть клыки и когти, о каких они понятия не имеют. И на этот раз я с ними разделаюсь.
— Ты мог бы остаться дома, Сэм, и поручить мне охоту.
— Нет. Я знаю, что мог бы, но я хочу быть при этом. Я хочу отдавать распоряжения, может быть, самому нажать на кнопки, хочу своими глазами увидеть, как Автодьявол будет гореть, пока от него не останется только металлический остов. Сколько людей, сколько машин он уничтожил! Мы уже потеряли счет. Я должен с ним рассчитаться, Дженни!
— Я его отыщу для тебя, Сэм.
Они мчались вперед со скоростью около двухсот миль в час.
— Как с бензином, Дженни?
— Полно, и я еще не включала дополнительные баки. Будь спокоен… След становится четче, — добавила она.
— Отлично. Оружие?
— В полной готовности.
Мэрдок раздавил окурок и закурил новую сигарету.
— Некоторые из них возят с собой мертвецов, прихваченных ремнями безопасности, — сказал он после паузы, — чтобы выглядеть порядочными машинами с пассажирами. Черный «кадиллак» постоянно это проделывает и постоянно их меняет. Держит кондиционер ниже нуля, чтобы они подольше сохранялись.
— Ты много о нем знаешь, Сэм.
— Он обманул моего брата фальшивыми пассажирами и фальшивыми номерами. Вынудил его открыть бензофорт таким способом И тут напала вся стая. Он перекрашивался иногда в зеленый, красный, голубой и белый цвета, но рано или поздно вновь возвращался к своему — черному. Желтая, коричневая или двухцветная окраска ему не нравится. У меня есть список почти всех фальшивых номеров, которые он на себя навинчивал. Он даже въезжал по большим шоссе в города и заправлялся на обычных бензоколонках. И удирал, когда заправщик подходил за деньгами, — вот так и были записаны многие его номера. Он способен подделать десятки человеческих голосов. Но после таких заправок его никогда не удавалось поймать, потому что он всегда заливался по горловину. Всегда возвращается сюда, на Равнину, и погоня теряет след. Он даже устраивал налеты на автостоянки…
Дженни резко повернула.
— Сэм! След очень четкий. Вон в том направлении. Он тянется к горам.
— Следуй по нему, — распорядился Мэрдок. Долгое время он молчал. Восток слегка посветлел.
На синей доске неба у них за спиной побледневшая утренняя звезда казалась белой кнопкой. Начался пологий подъем.
— Найди его, Дженни. Доберись до него.
— Думаю, у нас получится, — ответила она. Подъем стал круче. Дженни снова снизила скорость, приспосабливаясь к рельефу, теперь очень неровному.
— В чем дело? — спросил Мэрдок.
— Здесь труднее ехать, — сказала она, — и труднее не сбиться со следа.
— Почему?
— В этих местах большой тепловой фон, — объяснила она, — и он сбивает мою систему слежения.
— Постарайся, Дженни.
— След ведет как будто прямо к горам.
— Поезжай по нему, поезжай по нему!
Дженни затормозила еще больше.
— Я совсем сбилась, Сэм, — сказала она. — След пропал.
— У него где-то тут должно быть укрытие, пещера, глубокое ущелье, куда нельзя заглянуть сверху. Только так он все годы мог избегать воздушных поисков.
— Что мне делать?
— Поезжай вперед, насколько сможешь, и сканируй скалы в поисках отверстия. Будь начеку. Будь готова атаковать сразу же.
Они поднялись в предгорье. Антенна Дженни выдвинулась высоко, бабочки ее стальной марли развернули крылья и затанцевали, завертелись вокруг тонкого стержня, сверкая в утреннем свете.
— Пока ничего, — сообщила Дженни. — И скоро мы уже не сможем ехать вперед.
— Тогда поедем параллельно, продолжая сканировать.
— Направо или налево?
— Не знаю. Куда повернула бы ты на месте беглого ренегата?
— Не знаю.
— Решай сама. Это не имеет значения.
— Ну, так направо, — сказала она, и они повернули направо.
Через полчаса ночь быстро скрылась за горами. Справа от хребта на дальнем краю равнины вспыхнула заря, расцвечивая небо всеми красками осеннего леса. Мэрдок вытащил из-за приборной доски термос-соску с кофе — такими когда-то пользовались космонавты.
— Сэм, по-моему, я что-то обнаружила.
— Что? Где?
— Впереди слева от этого большого валуна. Уклон с большим отверстием в конце.
— Отлично, детка. Давай туда. Ракеты наизготовку. Они поравнялись с валуном, обогнули его и поехали под уклон.
— Пещера или туннель, — сказал он — Двигайся медленно…
— Тепло! Тепло! — сказала она. — Я нашла след.
— А я даже вижу отпечатки протекторов. Множество отпечатков! — воскликнул Мэрдок — Нашли!
Они двинулись к отверстию в скалах.
— Въезжай, но медленно, — приказал он. — Спали первое, что шевельнется.
Они въехали под каменный портал, под колесами теперь был песок. Дженни отключила весь видимый свет и включила инфракрасные приборы. Перед ветровым стеклом поднялась инфралинза, и Мэрдок оглядел пещеру. Высота футов двадцать, а ширины достаточно, чтобы три машины двигались в ряд. Пол из песчаного стал каменным, но ровным и почти без уклона. Потом начался пологий подъем.
— Впереди свет, — шепнул Мэрдок.
— Знаю.
— По-моему, клочок неба.
Они медленно крались вперед. Мотор Дженни работал практически беззвучно — легкие вздохи под каменными сводами.
Они остановились у границы света. Инфралинза опустилась.
Мэрдок увидел песчано-сланцевый каньон. Нависающие сверху скалы укрывали его от взгляда с неба почти целиком, кроме дальнего конца. Свет там был бледный и не освещал ничего необычного.
Но ниже…
Мэрдок изумленно заморгал.
В тусклом утреннем свете среди теней высилась такая куча металлолома, какой Мэрдок в жизни не видел.
Обломки автомобилей всех марок и моделей громоздились перед ними огромной пирамидой. Аккумуляторы, покрышки, кабели, амортизаторы, крылья, бампера, фары, дверцы, ветровые стекла, цилиндры, поршни, карбюраторы, реле-распределители и бензонасосы.
Мэрдок таращился на них.
— Дженни! — прошептал он. — Мы нашли автокладбище!
К ним, дергаясь, двинулась такая старая машина, что Мэрдок при первом взгляде не отличил ее от автохлама. И столь же внезапно она остановилась. В уши Мэрдока вонзился визг крепежных винтов, царапнувших по древним тормозным барабанам. Покрышки у нее были абсолютно лысые, а левую переднюю следовало подкачать. Правая фара была разбита, ветровое стекло треснуло. Она стояла перед кучей, и ее пробудившийся мотор отвратительно дребезжал.
— Что происходит? — спросил Мэрдок. — Что это за развалина?
— Он говорит со мной, — сказала Дженни. — Он очень старый. Его спидометр перематывался уже столько раз, что он не помнит, сколько миль оставил за задним стеклом. Он ненавидит людей: говорит, что они измывались над ним, сколько могли. Он страж кладбища. Для налетов он слишком стар, а потому много лет охраняет склад запасных частей. Он не из тех моделей, которые саморемонтируются, как машины помоложе, а потому полагается на их доброту и ремонтные блоки. Он хочет знать, что мне здесь надо.
— Спроси его, где остальные.
Но еще не договорив, Мэрдок услышал шум множества включившихся моторов, и тут же каньон наполнился ревом всех их лошадиных сил.
— Они стояли по ту сторону свалки, — сказала Дженни. — И теперь движутся сюда.
— Подожди, пока я не велю тебе открыть огонь, — сказал Мэрдок, когда первая машина — глянцевый желтый «крайслер» — высунула радиатор из-за кучи.
Мэрдок опустил голову к баранке, но продолжал смотреть сквозь очки.
— Скажи им, что приехала, чтобы стать членом стаи, что ты задушила выхлопом своего водителя. Попытайся заманить черный «кадиллак» под прицел.
— Не получится, — сказала она. — Я сейчас говорю с ним. Он радирует из-за кучи без всяких помех и говорит, что пошлет шесть самых больших членов стаи сторожить меня, пока он не решит, как поступить. Он приказал мне покинуть туннель и выехать в каньон.
— Так поезжай. Помедленнее. Они поползли вперед.
К «крайслеру» присоединились два «линкольна», мощный на вид «понтиак» и два «меркюри» — по трое справа и слева в наиудобнейшей позиции для тарана.
— Он упомянул, сколько их там, с той стороны?
— Нет. Я спросила, но он не захотел сказать.
— Ну что же, подождем.
Он продолжал лежать головой на баранке, притворяясь мертвым. Через несколько минут он устал от этой позы, плечи заныли. Наконец Дженни нарушила молчание.
— Он хочет, чтобы я выехала из-за кучи, — сказала она. — Они очистили дорогу, и я должна въехать в расщелину, на которую он укажет. Он хочет, чтобы его автомех меня проверил.
— Этого допустить нельзя, — ответил Мэрдок. — Но обогни кучу. Я скажу тебе, что делать, когда увижу положение вещей.
Два «меркюри» и «крайслер» отъехали, и Дженни проползла между ними. Мэрдок покосился на пирамиду металлолома, мимо которой они проезжали. Парочка точно нацеленных ракет ее опрокинет, но автомехи, конечно, через какое-то время разберут завал.
Они обогнули левый угол пирамиды.
На расстоянии ста с лишним шагов справа радиаторами к ним в несколько рядов стояло машин сорок пять, блокируя проезд с другой стороны кучи, а шестеро стражей сомкнулись позади.
На дальней стороне самого дальнего ряда стоял старый черный «кадиллак».
Он сошел со сборочного конвейера в том году, когда молодые инженеры лелеяли грандиозные замыслы. Огромный, массивный, сверкающий — за его ветровым стеклом весело скалился скелет. Автомобиль был черным, блестел хромированными молдингами, а фары у него были точно дымчатые опалы или глаза насекомого. Каждая его плоскость, каждый изгиб дышали мощью. А широкий багажник напоминал хвост хищной рыбы: казалось, он вот-вот ударит по морю теней сзади, и черный «кадиллак» ринется на добычу.
— Это он, — прошептал Мэрдок. — Автодьявол!
— Такой большой! — сказала Дженни. — Я еще не видела таких больших автомобилей!
Они продолжали двигаться вперед.
— Он хочет, чтобы я въехала вон в ту расщелину и остановилась, — сообщила Дженни.
— Поверни к ней, медленно, но не въезжай, — сказал Мэрдок.
Они повернули и поползли к расщелине. Остальные машины стояли, урча моторами.
— Проверь все системы вооружения.
— Полная готовность.
До расщелины оставалось двадцать шагов.
— Когда я скажу «давай», встань на нейтраль и повернись на сто восемьдесят градусов. И побыстрее. Ничего подобного они не ожидают. У них такого маневра нет. Сразу же бей пятидесятым калибром по «кадиллаку», поверни под прямым углом и двигайся тем же путем, каким мы сюда въехали. Пусти струю смеси и подожги шестерку стражей…
— Давай! — крикнул он и выпрямился на сиденье.
Его вжало в спинку, когда они повернули, и он услышал рявканье ее пушек до того, как у него прояснилось в голове. К этому моменту вдали плясало пламя.
Пушки Дженни выдвинулись и обрушивали на ряды машин сотни свинцовых молотов. Она дважды вздрогнула, выпустив из-под полуоткрывшегося капота две ракеты. Затем они двинулись вперед, а навстречу им под уклон неслось восемь-девять машин.
Она вновь повернулась на нейтрали и рванула в направлении, откуда они приехали, вокруг юго-восточного угла пирамиды. Ее пушки били по отступающим стражам, и в широком зеркале заднего вида Мэрдок увидел взметнувшуюся позади них стену пламени.
— Ты промахнулась по нему! — крикнул он. — Ты промазала по «кадиллаку»! Твои ракеты попали в машину перед ним, а он ушел задним ходом!
— Я знаю! Я виновата!
— Он был открыт!
— Знаю. Я промахнулась.
Они обогнули пирамиду в тот момент, когда двое стражей скрылись в туннеле. От трех остались дымящиеся обломки. Шестой, видимо, скрылся в туннеле прежде остальных.
— Вот он! — завопил Мэрдок. — За кучей. Убей его! Убей!
Древний хранитель кладбища — он смахивал на «форд», но Мэрдок не поручился бы, что это так, — с ужасающим лязгом двинулся вперед и встал на линию огня.
— Цель перекрыта.
— Разнеси эту развалину и наведи пушки на туннель! Не допусти, чтобы «кадиллак» удрал!
— Не могу! — сказала она.
— Почему?
— Не могу, и все!
— Это приказ! Разнеси его и наводи пушку на туннель!
Стволы ее пушек развернулись, и она вышибла колеса из-под древнего авто.
«Кадиллак» пронесся мимо и исчез в туннеле.
— Ты его упустила! — взревел он. — За ним.
— Хорошо, Сэм. Я это и делаю. Не кричи. По-жа-луй-ста, не кричи.
Она повернула к туннелю. Изнутри доносились звуки могучего мотора, постепенно слабеющие.
— В туннеле не стреляй. Если попадешь в него, мы можем тут застрять.
— Знаю. Не буду.
— Сбрось пару десяти секундных гранат и прибавь газу. Может, так мы запрем тех, что еще способны двигаться.
Внезапно они рванулись вперед и вылетели на дневной свет. Других машин нигде не было видно.
— Найди его след, — сказал Мэрдок, — и за ним! В холме у них за спиной раздался взрыв. Земля задрожала, а потом вновь стала неподвижной.
— Тут так много следов… — сказала она.
— Ты знаешь, какой нужен мне. Самый большой, самый широкий, самый горячий. Найди его! Поезжай по нему!
— По-моему, я его нашла, Сэм.
— Отлично. Поезжай со всей скоростью, какую позволяет местность.
Мэрдок нашел бутылку-соску с кукурузным виски и сделал три глотка. Потом закурил сигарету и свирепо уставился вдаль.
— Почему ты промазала? — спросил он негромко. — Почему ты не попала в него, Дженни?
Она ответила не сразу. Он ждал, и в конце концов она сказала:
— Потому что он для меня не просто машина. Да, он причинил много вреда автомобилям и людям, и это ужасно. Но в нем есть что-то… что-то благородное. То, как он боролся с целым светом за свою свободу, Сэм, держа в узде эту стаю зловредных машин, ни перед чем не останавливаясь, чтобы оставаться таким — вольным, без хозяина, — пока сумеет продержаться неразбитым, непобежденным. Сэм, на мгновение мне захотелось войти в его стаю, носиться с ним по Великой равнине, ради него бить ракетами по воротам бензофортов… Но я не могла убить тебя, Сэм. Я сконструирована для тебя. Я слишком одомашнена, слишком слаба. Но и стрелять в него я не могла и нарочно промахнулась. Поверь, Сэм; я бы ни за что тебя не убила, это правда.
— Спасибо, — сказал он. — Спасибо тебе, сверхпрограммированная мусорная урна. Большое спасибо.
— Мне очень жаль, Сэм.
— Заткнись… Нет, погоди. Прежде скажи, что ты сделаешь, если мы его отыщем?
— Не знаю.
— Так подумай об этом. И побыстрее. Облако пыли впереди ты видишь не хуже меня, так что прибавь скорости!
Они рванулись вперед.
— Погоди, вот я позвоню в Детройт. Они обхохочутся, пока я не потребую деньги назад.
— Но у меня нет недостатков ни в конструкции, ни в сборке! Сам знаешь. Просто я чуть более…
— Эмоциональна, — закончил Мэрдок.
— Чем я ожидала, — добавила она. — Ведь до того как меня отослали к тебе, я с другими автомобилями знакома не была, не считая юнцов. Я понятия не имела, какими бывают дикие авто, и ни разу не разбивала настоящие машины — только мишени. Я была юна и…
— Невинна, — сказал Мэрдок. — Угу. Очень трогательно. Так приготовься убить следующую машину, с которой мы встретимся. Если это окажется твой дружок и ты не выстрелишь, он убьет нас обоих.
— Попытаюсь, Сэм.
Машина впереди остановилась. Желтый «крайслер». Две покрышки у него сели. Он стоял, накренившись набок, и ждал.
— Оставь его! — прикрикнул Мэрдок, когда, щелкнув, приоткрылся капот. — Прибереги запасы для того, что способно сопротивляться.
Они промчались мимо.
— Он что-нибудь сказал?
— Машинная ругань, — ответила она. — Я слышала это выражение раза два, не больше, а тебе оно будет непонятно.
Он усмехнулся.
— Так автомобили кроют друг друга и в выхлоп и в капот?
— Иногда, — ответила она. — Думается, модели попроще делают это относительно часто, особенно когда скапливаются в заторах на шоссе и у шлагбаумов.
— Скажи какое-нибудь машинное ругательство.
— Нет. За какой автомобиль ты меня принимаешь?
— Извини, — сказал Мэрдок. — Ты же леди. Я и забыл.
Радио громко щелкнуло.
Они летели теперь по ровной земле, начинавшейся от предгорий. Мэрдок отхлебнул еще виски, потом перешел на кофе.
— Десять лет, — пробормотал он, — десять лет… След описал широкую дугу, и вновь впереди замаячили горы, а по сторонам поднялись холмы.
Все кончилось, прежде чем он успел что-либо сообразить.
Они проезжали огромное оранжевое каменное образование, которому ветряная эрозия придала вид перевернутого гриба, и сбоку открылся проход.
Он ринулся на них на полной скорости — Автодьявол. Он затаился в засаде, убедившись, что уйти от Алой Леди ему не удастся, и вылетел навстречу для лобового столкновения со своим преследователем.
Дженни занесло, когда она с визгом затормозила, а пятидесятикалиберные уже били, капот открылся, и ее передние колеса оторвались от земли, когда с воем наружу вырвались ракеты. Она завертелась, цепляя задним бампером просоленный песок равнины, а потом в третий и последний раз выпустила оставшиеся ракеты в дымящуюся груду металла на склоне и встала на все четыре колеса. Пятидесятикалиберные продолжали бить, пока не кончились снаряды, и еще целую минуту сухо щелкали, а потом воцарилась тишина.
Мэрдок, весь дрожа, смотрел, как разбитый, искореженный остов пылает на фоне утреннего неба.
— Дженни, ты сделала это. Убила его. Убила Автодьявола, — сказал он.
Но она не ответила. Ее мотор вновь заработал, она повернула на юго-восток и направилась к бензофорту «Заправься и отдохни».
Два часа они ехали в молчании. Мэрдок допил виски, допил кофе и выкурил все сигареты.
— Дженни, скажи что-нибудь. Что с тобой? Скажи мне.
Раздался щелчок, и ее голос произнес очень тихо:
— Сэм, он говорил со мной, пока несся вниз по склону… — сказала она.
Мэрдок подождал, но она молчала.
— Так что же он сказал? — спросил он.
— Он сказал: «Задуши своего пассажира, и я объеду тебя», — ответила она. — Он сказал: «Я хочу, Алая Леди, чтобы ты ездила со мной, чтобы мы вместе совершали налеты. Нас вместе им не поймать». А я убила его.
Мэрдок промолчал.
— Но он же сказал это, только чтобы я не открывала огня, правда? Он сказал это, чтобы помешать мне и разбить нас обоих, врезавшись в нас, правда? Он же не мог действительно так думать, Сэм?
— Конечно, нет, — ответил Мэрдок. — Он не успел бы свернуть.
— Да, наверное… Но как ты думаешь, он на самом деле хотел ездить вместе со мной, совершать налеты… Раньше, хочу я сказать. Там, в каньоне?
— Не исключено, детка. Конструкция у тебя что надо.
— Спасибо, — сказала она и отключилась.
Но за секунду до этого он услышал странный механический звук в ритме не то ругательства, не то молитвы.
Мэрдок встряхнул головой, нагнулся и ласково похлопал по сиденью рядом с собой все еще дрожащей рукой.
Роза для Екклезиаста
1
В то утро я переводил один из моих «Мадригалов смерти» на марсианский. Коротко прогудел селектор, и я, от неожиданности уронив карандаш, щелкнул переключателем.
— Мистер Гэлинджер, — пропищал Мортон своим юношеским контральто, — старик сказал, чтобы я немедленно разыскал «этого чертова самонадеянного рифмоплета» и прислал к нему в каюту. Поскольку у нас только один самонадеянный рифмоплет…
— Не дай гордыне посмеяться над трудом, — оборвал я его.
Итак, марсиане наконец-то решились. Стряхнув длинный столбик пепла с дымящегося окурка, я затянулся впервые после того, как зажег сигарету. Я боялся пройти эти сорок футов до капитанской каюты и услышать слова Эмори, заранее мне известные. Поэтому, прежде чем встать, я закончил перевод строфы.
До каюты Эмори я дошел мгновенно, два раза постучал и открыл дверь как раз в тот момент, когда он пробурчал:
— Войдите.
Я быстро сел, не дожидаясь приглашения.
— Вы хотели меня видеть?
Я созерцал его тусклые глаза, редеющие волосы и ирландский нос, слушал голос, звучащий на децибел громче, чем у кого бы то ни было…
— Быстро добрался. Бегом, что ли, бежал? Гамлет — Клавдию:
— Я работал.
— Ха! — фыркнул он. — Скажешь тоже! Никто еще не видел, чтобы ты этим занимался.
Пожав плечами, я сделал вид, что хочу встать.
— Если вы меня за этим сюда позвали…
— Сядь!
Он вышел из-за стола. Навис надо мной, свирепо глядя сверху вниз (непростое дело, даже если я сижу в низком кресле).
— Из всех ублюдков, с которыми мне когда-либо приходилось работать, ты, несомненно, самый гнусный! — заревел он, как ужаленный в брюхо бизон. — Почему бы тебе, черт возьми, не удивить нас всех и не начать вести себя по-человечески? Я готов признать, что ты умен, может быть, даже гениален, но… Ну да ладно!
Он махнул рукой и вернулся в кресло.
— Бетти наконец их уговорила, — его голос снова стал нормальным. — Они ждут тебя сегодня днем. После завтрака возьмешь джипстер и поедешь.
— Ладно, — сказал я.
— У меня все.
Я кивнул, встал и уже взялся за ручку двери, когда он сказал:
— Не буду тебе говорить, как это важно. Ты уж веди себя с ними не так, как с нами.
Я закрыл за собой дверь.
Не помню, что я ел на завтрак. Я нервничал, но инстинктивно чувствовал, что не оплошаю. Мои бостонские издатели ожидали от меня «Марсианскую идиллию» или, по крайней мере, что-нибудь о космических полетах в духе Сент-Экзюпери. Национальная ассоциация ученых требовала исчерпывающего доклада о величии и падении марсианской империи.
И те, и другие останутся довольны. В этом я не сомневался. Я всегда справляюсь, и справляюсь лучше, чем другие. Потому-то все и завидуют мне, за это и ненавидят.
Впихнув в себя остатки завтрака, я отправился в гараж, выбрал джипстер и повел его к Тиреллиану.
Над открытым верхом машины, словно языки пламени, плясали огненно-красные песчинки. Они кусались через шарф и секли мои защитные очки.
Джипстер, раскачиваясь и пыхтя, как маленький ослик, на котором я однажды пересек Гималаи, не переставая поддавал мне под зад. Тиреллианские горы переминались с ноги на ногу и приближались под косым утлом.
Джипстер пополз в гору, и я, прислушавшись к натужному рычанию мотора, переключил скорость. Не похоже, думалось мне, ни на Гоби, ни на Великую Юго-Западную пустыню. Просто красная, просто мертвая… Даже кактусов нет.
С вершины холма ничего не было видно из-за облака пыли, поднятой джипстером. Впрочем, это не имело значения. Дорогу я мог бы найти с закрытыми глазами. Сбрасывая газ, я свернул налево и вниз, объезжая каменную пагоду.
Приехали.
Джипстер со скрежетом остановился. Бетти помахала мне рукой.
— Привет, — полузадушенно прохрипел я, разматывая шарф и вытряхивая из него фунта полтора песка. — Итак, куда мне идти и с кем встречаться?
Мне нравится, как она говорит: четко, со знанием дела. А тех светских любезностей, которые ждали меня впереди, мне хватит как минимум до конца жизни. Я посмотрел на нее — безупречные зубы и шоколадные глаза, коротко подстриженные, выгоревшие на солнце волосы (терпеть не могу блондинок), и решил, что она в меня влюблена.
— Мистер Гэлинджер, Матриарх ждет вас. Она согласилась предоставить вам для изучения храмовые летописи.
Бетти замолчала, поправила волосы и поежилась. Быть может, мой взгляд ее нервирует?
— Это религиозные и одновременно исторические документы, — продолжала она, — что-то вроде Махабхараты. От вас ждут соблюдения определенных ритуалов в обращении с ними, например, произнесения священных слов при переворачивании страниц. Матриарх научит вас всему необходимому. Я понимающе кивнул.
— Отлично, тогда пошли. Э-э… — она помедлила. — И не забудьте их Одиннадцать Форм Вежливости и Ранга. Они очень серьезны в вопросах этикета. И не ввязывайтесь в споры о равноправии мужчин и женщин…
— Да знаю я все их табу, — прервал ее я. — Не беспокойтесь. Я ведь жил на Востоке, если помните.
Она отвела взгляд и взяла меня за руку. Я чуть ее не отдернул.
— Будет лучше, если я войду, держа вас за руку. Я проглотил напрашивающиеся комментарии и последовал за ней, как Самсон в Газе.
Увиденное неожиданно оказалось созвучным моим последним мыслям. Чертоги Матриарха были несколько абстрактной версией моего представления о шатрах израильских племен.
Невысокая и седая, Матриарх М'Квийе выглядела лет на пятьдесят и была одета, как цыганская королева. В радуге своих широченных юбок она походила на перевернутую вверх дном и поставленную на подушку чашу для пунша.
Благосклонно приняв мой почтительный поклон, она рассматривала меня, как удав кролика. Угольно-черные глаза Матриарха удивленно раскрылись, когда она услышала мое безупречное произношение — магнитофон, который Бетти таскала с собой на все беседы, сделал свое дело, к тому же я практически наизусть знал лингвистические отчеты первых двух экспедиций. А схватывать произношение я могу, как никто другой.
— Вы тот самый поэт?
— Да, — ответил я.
— Почитайте, пожалуйста, что-нибудь из своих стихов.
— Мне очень жаль, но только самый тщательный перевод может воздать должное и вашему языку, и моей поэзии, а ваш язык я знаю еще недостаточно хорошо.
— В самом деле?
— Но я все-таки сделал несколько переводов… так, для собственного удовольствия, чтобы поупражняться в грамматике, — продолжал я. — Сочту за честь почитать их вам как-нибудь.
— Хорошо.
Одно очко я заработал! М'Квийе повернулась к Бетти:
— Вы можете идти.
Бетти пробормотала формулы прощания, как-то странно, искоса, взглянула на меня и исчезла. Она явно надеялась, что останется и будет «помогать» мне. Как и всем, ей хотелось примазаться к чужой славе. Но Шлиманом в этой Трое был я, и отчет Национальной ассоциации ученых будет подписан только одним именем!
М'Квийе встала, и я подумал, что выше от этого она стала ненамного. Впрочем, я со своими шестью футами шестью дюймами вечно торчу над всеми и выгляжу, как тополь в октябре: тощий и с ярко-красной макушкой.
— Наши летописи очень древние, — начала она. — Бетти говорит, что ваше слово, описывающее их возраст, — «тысячелетия».
Я кивнул:
— Мне не терпится их увидеть.
— Они не здесь. Нам придется пройти в храм — выносить летописи нельзя.
Я насторожился.
— Вы не возражаете, если я сниму с них копии?
— Нет. Я вижу, что вы относитесь к ним с уважением, иначе ваше желание увидеть их не было бы столь велико.
— Отлично.
Похоже, это ее развеселило. Я поинтересовался, что тут смешного.
— Для чужеземца изучение Священного Языка может оказаться не таким уж простым делом.
И тут до меня дошло.
Никто из первой экспедиции не проникал так далеко. Я и не предполагал, что у марсиан два языка: классический и повседневный. Я немного знал их пракрит, теперь мне предстояло изучить их санскрит.
— Черт побери!
— Извините, не поняла.
— Это непереводимо, М'Квийе. Но представьте, что вам необходимо быстро выучить Священный Язык, и вы поймете мои чувства.
Это, похоже, снова ее развеселило, и мне было предложено разуться.
Она провела меня через альков, и мы попали в царство византийского великолепия.
Ни один землянин не был в этой комнате, иначе я бы о ней знал. А ту грамматику и тот словарный запас, которыми я сейчас владел, Картер, лингвист первой экспедиции, выучил с помощью некой Мэри Аллен, сидя по-турецки в прихожей.
Я с любопытством озирался по сторонам. Все говорило о существовании высокоразвитой, утонченной культуры. Видимо, нам придется полностью пересмотреть свои представления о марсианской цивилизации.
Во-первых, у этого зала был куполообразный свод и ниши; во-вторых, по бокам стояли колонны с каннелюрами; в-третьих… а, черт! Зал был просто шикарный. Сроду не подумаешь, глядя на обшарпанный фасад!
Я наклонился, чтобы рассмотреть золоченую филигрань церемониального столика, заваленного книгами. Мне показалось, что лицо М'Квийе приняло несколько самодовольное выражение при виде моей заинтересованности, но в покер играть я бы с ней не сел.
Большим пальцем ноги я водил по мозаичному полу.
— И весь ваш город помещается в одном здании?
— Да, оно уходит далеко в глубь горы.
— Ну да, понимаю, — сказал я, ничего не понимая. Просить об экскурсии было пока что рано. М'Квийе подошла к маленькой скамеечке, стоявшей возле стола.
— Ну что ж, начнем вашу дружбу со Священным Языком?
Я старался запечатлеть в памяти этот зал, зная, что рано или поздно все равно придется протащить сюда фотоаппарат. Я оторвал взгляд от статуэтки и энергично кивнул:
— Да, представьте нас друг другу, пожалуйста. Прошло три недели. И теперь стоило мне смежить веки, как букашки букв начинали мельтешить перед глазами. Стоило поднять взор на безоблачное небо, как оно покрывалось каллиграфической вязью. Я литрами пил кофе, а в перерывах глотал коктейли из амфетамина с шампанским.
М'Квийе давала мне уроки по два часа каждое утро, а иногда и по два часа вечером. Как только я набрал достаточно знаний для самостоятельной работы, я добавил к этому еще четырнадцать часов.
А по ночам лифт времени стремительно опускал меня на самые нижние этажи…
Мне снова шесть лет. Я изучаю иврит, греческий, латынь и арамейский. А вот мне десять, и тайком, урывками, я пытаюсь читать «Илиаду». Когда отец не грозил геенной огненной и не проповедовал братскую любовь, он заставлял меня зубрить Слово Божье в оригинале.
Господи! Существует так много оригиналов и столько слов Божьих! Когда мне было двенадцать лет, я начал указывать отцу на некоторые разногласия между тем, что проповедует он и что написано в Библии.
Фундаменталистская решительность его ответа не допускала возражений. Лучше бы он меня выпорол. С тех пор я помалкивал и учился ценить и понимать поэзию Ветхого Завета.
В тот день, когда мальчик закончил школу с похвальными грамотами по французскому, немецкому, испанскому и латыни, папаша Гэлинджер сказал своему четырнадцатилетнему сыну-пугалу шести футов роста, что хочет видеть его священником. Я помню, как уклончиво ответил ему сын.
— Сэр, — сказал он, — я вообще-то хотел бы годик-другой сам позаниматься, а потом прослушать курс лекций по богословию в каком-нибудь университете. Вроде рано мне еще в семинарию, вот так сразу.
Глас Божий:
— Но ведь у тебя талант к языкам, сын мой. Ты сможешь проповедовать Евангелие во всех землях вавилонских. Ты прирожденный миссионер. Ты говоришь, что еще молод, но время вихрем проносится мимо. Чем раньше ты начнешь, тем больше лет отдашь служению Господу.
Я не помню его лица. Никогда не помнил. Может быть, потому, что всегда боялся смотреть ему в глаза.
Спустя годы, когда он умер и лежал весь в черном среди цветов, окруженный плачущими прихожанами, среди молитв, покрасневших лиц, носовых платков, рук, похлопывающих меня по плечу, и утешителей со скорбными лицами, я смотрел на него и не узнавал.
Мы встретились за девять месяцев до моего рождения, этот незнакомый мне человек и я. Он никогда не был жестоким: суровым, требовательным, презирающим чужие недостатки — да, но жестоким — никогда. Он заменил мне мать. И братьев. И сестер. Он вытерпел те три года, что я учился в колледже Святого Иоанна, скорее всего, из-за названия, не подозревая, насколько либеральным этот колледж был на самом деле.
Но я никогда по-настоящему не знал его. А теперь человек на катафалке уже ничего не требовал. Я мог не проповедовать Слово Божье. Но теперь я сам этого хотел, хотя и по-своему. Пока он был жив, я не мог этого делать.
Получив небольшое наследство — не без хлопот, так как мне не исполнилось восемнадцати, — я не вернулся на последний курс.
В конце концов я поселился в Гринвич-Виллидж.
Не сообщая прихожанам-доброжелателям свой новый адрес, я начал писать стихи и самостоятельно изучать японский и хиндустани. Я отрастил огненную бороду, пил кофе и играл в шахматы. Мне хотелось испробовать еще несколько путей к спасению души.
После этого — два года в Индии с войсками ООН, что излечило меня от увлечения буддизмом и подарило миру сборник стихов «Свирели Кришны», а мне — Пулитцеровскую премию, которую я заслуживал.
Затем — назад в Штаты, чтобы написать дипломную работу по лингвистике, получить ученую степень и очередные премии.
А потом в один прекрасный день на Марс отправился корабль. Вернувшись в свое огненное гнездо в Нью-Мексико, он принес с собой новый язык — фантастический, экзотический, ошеломляющий. Узнав о нем все возможное и написав книгу, я прославился в научных кругах.
— Ступай, Гэлинджер. Окуни ведро в источник и привези нам глоток Марса. Изучи другой мир и разложи его душу на ямбы.
Вот так я оказался на планете, где солнце — как потускневшая монета, где ветер — как бич, где две луны играют в чехарду, и стоит только взглянуть на песок, как начинается жгучий зуд.
Мне надоело ворочаться с боку на бок. Я встал с койки и через темную каюту прошел к иллюминатору. Пустыня лежала бескрайним оранжевым ковром, вздымающимися песчаными буграми.
«Я здесь чужой, но страха — ни на миг; Вот этот мир — и я его постиг…»
Я рассмеялся.
Священный Язык я уже освоил. Он не так сильно отличался от повседневного, как казалось вначале. Я достаточно хорошо владел вторым, чтобы разобраться в тонкостях первого. Грамматику и наиболее употребительные неправильные глаголы я знал назубок, словарь, который я составлял, рос день ото дня, как тюльпан, и вот-вот должен был расцвести. Стебель удлинялся с каждым прослушиванием записей.
Наконец пришло время испытать мое умение на практике. Я нарочно не брался за основные тексты — сдерживался до тех пор, пока не смогу оценить их по-настоящему. До этого я читал только мелкие заметки, отрывки стихов, фрагменты из исторических хроник. И вот что поразило меня больше всего. Они писали о конкретных вещах: скалах, песке, воде, ветрах, и общий тон, вложенный в эти изначальные символы, был болезненно пессимистичным. Он напомнил мне некоторые буддистские тексты, но еще больше он походил по духу на некоторые главы Ветхого Завета. В особенности — на Книгу Екклезиаста.
Что ж, так и сделаем. И мысли, и язык были столь похожи, что это станет прекрасным упражнением. Не хуже, чем переводить По на французский. Я никогда не стану последователем Маланна, но покажу им, что и землянин когда-то так же рассуждал, так же чувствовал.
Я включил настольную лампу и нашел среди книг Библию.
«Суета сует, сказал Екклезиаст, суета сует, — все суета! Что пользы человеку…»
Мои успехи, похоже, сильно удивили М'Квийе. Она вглядывалась в меня через стол наподобие сартровского Иного. Я бегло прочитал главу из Книги Локара, не поднимая глаз, но чувствуя, как ее взгляд словно затягивает невидимую сеть вокруг моей головы, плеч и рук. Я перевернул страницу.
Пыталась ли она взвесить сеть, определяя размер улова? И зачем? В книгах ничего не говорилось о рыболовах на Марсе. В них говорилось, что некий бог по имени Маланн плюнул или сделал нечто еще более отвратительное (в зависимости от версии, которую вы читаете), и возникла жизнь; возникла как болезнь неорганической материи. В них говорилось, что движение — ее первый закон и танец является единственным правильным ответом неорганике… В качестве танца — его оправдание… а любовь — болезнь органической материи… неорганической материи…
Я потряс головой — чуть было не уснул.
— М'нарра.
Я встал и потянулся. М'Квийе пристально меня рассматривала. Когда я встретился с ней взглядом, она отвела глаза.
— Я устал. Мне хотелось бы немного отдохнуть. Я сегодня ночью почти не спал.
Она кивнула. Земная замена слова «да», которой она научилась от меня.
— Хотите отдохнуть и увидеть учение Локара во всей его полноте?
— Прошу прощения?
— Хотите увидеть танец Локара?
— О да. — Иносказаний и околичностей в их языке было больше, чем в корейском. — Да. Конечно. Буду рад его увидеть в любое время.
— Сейчас самое время. Сядьте. Отдыхайте. Я позову музыкантов.
Она торопливо вышла через дверь, за которой я ни разу не был.
Ну что ж, по словам Локара, танец — высшая форма искусства, и мне предстояло увидеть, как нужно танцевать по мнению умершего сотни лет назад философа. Я потер глаза и сложился пополам, достав руками пол.
В висках застучала кровь. Сделав пару глубоких вдохов, я снова наклонился и тут же краем глаза увидел какое-то движение около двери.
М'Квийе и три ее спутницы, наверное, подумали, что я собираю на полу шарики, которых у меня не хватает.
Я криво усмехнулся и выпрямился. Лицо у меня покраснело, и не только от физической нагрузки. Я не ожидал, что они появятся так быстро.
Маленькая рыжеволосая куколка, завернутая, как в сари, в прозрачный кусок марсианского неба, воззрилась на меня в изумлении снизу вверх — как ребенок на яркий флажок на длинном древке.
— Привет, — сказал я.
Перед тем как ответить, она поклонилась. По-видимому, меня повысили в ранге.
— Я буду танцевать, — сказала она.
Губы ее были, как алая рана на бледной камее. Глаза цвета мечты потупились.
Она поплыла к центру комнаты.
Стоя там, как статуэтка этрусского фриза, она то ли задумалась, то ли созерцала узор на полу. Может, эти узоры что-нибудь означали? Я всмотрелся в них. Если и так, то никакого скрытого смысла я в них не видел, зато они хорошо бы смотрелись на полу ванной или внутреннего дворика.
Две другие женщины были пожилыми и, как и М'Квийе, походили на аляповато раскрашенных воробьев. Одна уселась на пол с трехструнным инструментом, смутно напоминавшим сямисэн. Другая держала в руках кусок дерева и две палочки.
М'Квийе презрела свою скамеечку, и не успел я оглянуться, как она сидела на полу. Я последовал ее примеру.
Музыкантша с сямисэном все еще настраивала свой инструмент, и я наклонился к М'Квийе:
— Как зовут танцовщицу?
— Бракса, — ответила она, не глядя на меня, и медленно подняла левую руку, что означало «да», «давайте», «начинайте».
Звук сямисэна пульсировал, как зубная боль, от деревяшки доносилось тиканье часов, вернее, призрака часов, которых марсиане так и не изобрели.
Бракса стояла, как статуя, подняв обе руки к лицу и широко разведя локти.
Музыка стала подобной огню.
Бракса не двигалась.
Шипение перешло в плеск. Ритм замедлился. Это была вода, самая большая драгоценность на свете, с журчанием льющаяся по поросшим мхом камням.
Бракса по-прежнему не двигалась.
Глиссандо. Пауза.
Затем наступил черед ветра. Мягкого, покойного, вздыхающего. Пауза, всхлип, и все сначала, но уже громче.
То ли мои глаза, уставшие от постоянного чтения, обманывали меня, то ли Бракса дрожала с головы до ног. Нет, действительно дрожала.
Она начала потихоньку раскачиваться. Долю дюйма вправо, затем влево. Пальцы раскрылись, как лепестки цветка, и я увидел, что глаза у нее закрыты.
Затем глаза открылись. Они были холодными, невидящими. Раскачивание стало более заметным, слилось с ритмом музыки.
Ветер дул из пустыни, обрушиваясь на Тиреллиан, как волна на плотину. Ее пальцы были порывами ветра.
Надвигался ураган. Она медленно закружилась, кисти рук тоже поворачивались, а плечи выписывали восьмерку.
Ее глаза были неподвижным центром циклона, бушевавшего вокруг нее. Голова была откинута назад, но я знал, что ее взор, бесстрастный, как у Будды, устремлен сквозь потолок к вечным небесам. Лишь две луны, быть может, прервали свой сон в нирване необитаемой бирюзы.
Когда-то давно в Индии я видел, как девадэзи, уличные танцовщицы, плетут свои цветные паутины, затягивая в них мужчин, словно насекомых. Но Бракса была гораздо большим: она была рамадьяни, священной танцовщицей последователей Рамы, воплощения Вишну, подарившего людям танец.
Щелканье стало ровным, монотонным; стон струн напоминал палящие лучи солнца, тепло которых украдено ветром. Я смотрел, как оживает эта статуя, и чувствовал божественное озарение.
Я снова был Рембо с его гашишем, Бодлером с его опиумом, По, Де Куинси, Уайльдом, Малларме и Алистером Кроули. На какое-то мгновение я стал моим отцом на темной кафедре проповедника, а гимны и стоны органа превратились в порывы ветра.
Она стала вертящимся флюгером, крылатым распятием, парящим в воздухе, веревкой для сушки белья, на которой билось на ветру что-то яркое. Ее плечо обнажилось, правая грудь двигалась вверх-вниз, точно луна на небе, алый сосок то появлялся, то исчезал под складкой одежды. Музыка стала чем-то внешним, формальным, как спор Иова с Богом. Ее танец был ответом Бога.
Музыка замедлилась и смолкла. Ее одежда, словно живая, собралась в первоначальные строгие складки.
Бракса опускалась все ниже и ниже, к самому полу, голова ее упала на поднятые колени. Она замерла.
Наступила тишина.
Почувствовав боль в плечах, я понял, в каком находился напряжении. Что следовало делать теперь? Аплодировать?
Я исподтишка взглянул на М'Квийе. Она подняла правую руку.
Как будто почувствовав это, девушка вздрогнула всем телом и встала. Музыканты и М'Квийе тоже встали.
Поднявшись, я обнаружил, что отсидел левую ногу, и сказал, как ни дурацки это прозвучало:
— Прекрасный танец.
В ответ я получил три различных синонима слова «спасибо» на Священном Языке.
Мелькание красок, и я снова наедине с М'Квийе.
— Это сто семнадцатый танец Локара, а всего их две тысячи двести двадцать четыре.
Я посмотрел на нее.
— Прав был Локар или нет, он нашел достойный ответ неорганике.
Она улыбнулась:
— Танцы вашей планеты такие же?
— Некоторые немного похожи. Я о них вспоминал, когда смотрел на Браксу, но я никогда не видел ничего подобного.
— Она хорошая танцовщица, — сказала М'Квийе. — Она знает все танцы.
Опять это выражение лица, которое уже однажды показалось мне странным.
— Я должна заняться делами.
Она подошла к столу и закрыла книги.
— М'нарра.
— До свидания. Я натянул сапоги.
— До свидания, Гэлинджер.
Я вышел за дверь, уселся в джипстер, и машина с ревом помчалась сквозь вечер в ночь. Крылья разбуженной пустыни медленно колыхались у меня за спиной.
2
Не успел я, после недолгого занятия грамматикой с Бетти, закрыть за ней дверь, как услышал голоса в холле. Вентиляционный люк в моей каюте был приоткрыт, я стоял под ним и поневоле подслушивал.
Мелодичный дискант Мортона:
— Ты представляешь, он со мной недавно поздоровался!
Слоновье фырканье Эмори:
— Или он заболел, или ты стоял у него на дороге, и он хотел, чтобы ты посторонился.
— Скорее всего, он меня не узнал. Он теперь, по-моему, вообще не спит — нашел себе новую игрушку, этот язык. Я на прошлой неделе стоял ночную вахту, и, когда проходил мимо его двери часа в три, у него бубнил магнитофон. А когда в пять сменялся, он все еще работал.
— Работает этот тип действительно упорно, — нехотя признал Эмори. — По правде сказать, я думаю, он что-то принимает, чтобы не спать. Глаза у него последнее время прямо-таки стеклянные. Хотя, может, у поэтов всегда так.
В разговор вмешалась Бетти — оказывается, она была с ними:
— Что бы вы там ни говорили, мне по крайней мере год понадобится, чтобы выучить то, что он успел за три недели. А ведь я всего-навсего лингвист, а не поэт.
Мортон, должно быть, был сильно неравнодушен к ее коровьим прелестям. Это единственное, чем я могу объяснить его слова.
— В университете я прослушал курс лекций по современной поэзии, — начал он. — В программе было шесть авторов: Йитс, Элиот, Паунд, Крейн, Стивенс и Гэлинджер, — и в последний день семестра профессору, видимо, захотелось поразглагольствовать. Он сказал: «Эти шесть имен начертаны на столетии, и никакие силы критики и ада над ними не восторжествуют». Что касается меня, — продолжал Мортон, — то я всегда считал, что его «Свирели Кришны» и «Мадригалы» просто великолепны. Для меня было большой честью оказаться с ним в одной экспедиции, хотя с тех пор, как мы познакомились, он мне, наверное, не больше двух десятков слов сказал.
Голос адвоката:
— А вам никогда не приходило в голову, что он может стесняться своей внешности? — сказала Бетти. — К тому же он был настолько развитым ребенком, что у него даже школьных друзей не было. Он весь в себе и очень ранимый.
— Ранимый?! Стеснительный?! — Эмори аж задохнулся. — Да он горд, как Люцифер! Он же просто ходячий автомат по раздаче оскорблений! Нажимаешь кнопку «Привет», или там «Отличный сегодня денек», а он тебе нос показывает. Это у него отработано.
Они выдали мне еще несколько комплиментов и разошлись.
Ну что ж, спасибо, детка Мортон. Ах ты, маленький прыщавый ценитель искусств! Я никогда не изучал свою поэзию, но я рад, что кто-то о ней так сказал. «Силы критики и ада». Ну-ну! Может быть, папашины молитвы где-то услышали и я все-таки миссионер? Только…
Только миссионер должен иметь нечто, во что он обращает людей. У меня есть своя собственная система эстетических взглядов. И в чем-то она, наверное, себя проявляет. Но даже имей я что проповедовать в моих стихах, у меня вряд ли возникло бы желание излагать это такому ничтожеству, как ты. Ты считаешь меня хамом, а я еще и сноб, и тебе нет места в моем раю — это частные владения, куда приходят Свифт, Шоу и Петроний Арбитр.
Я устроился поудобнее за письменным столом. Хотелось что-нибудь написать. Екклезиаст может вечерок и отдохнуть. Мне хотелось написать стихотворение о сто семнадцатом танце Локара. О розе, тянущейся к свету, о преследуемой ветром, больной, как у Блейка, умирающей розе.
Закончив, я остался доволен. Возможно, это был не шедевр — по крайней мере, не гениальнее, чем обычно: Священный Марсианский у меня — не самое сильное место. Я помучился и перевел его на английский, с неполными рифмами. Может, вставлю его в свою следующую книгу. Я назвал его «Бракса».
В краю, где ветер ледяной под вечер Времени в груди у Жизни молоко морозит, в аллеях сна над головой, как кот с собакой, две луны тревожат вечно мой полет… Пылающую голову цветок последний повернул.
Я отложил стихотворение в сторону и отыскал фенобарбитал. Неожиданно пришла усталость.
Когда на следующий день я показал М'Квийе свое стихотворение, она прочитала его несколько раз подряд, очень медленно.
— Прелестно, — сказала она. — Но вы употребили три слова из вашего языка. «Кот» и «собака», насколько я понимаю, — это мелкие животные, традиционно ненавидящие друг друга. Но что такое «цветок»?
— Мне никогда не попадался ваш эквивалент слова «цветок», но вообще-то я думал о земном цветке, о розе.
— Что она собой представляет?
— Ну… лепестки у нее обычно ярко-красные. Поэтому я написал «пылающая голова». Еще я хотел, чтобы это подразумевало жар, и рыжие волосы, и пламя жизни. А у самой розы — стебель с зелеными листьями и шипами и характерный приятный запах.
— Я бы хотела ее увидеть.
— Думаю, это можно устроить. Я узнаю.
— Сделайте это, пожалуйста. Вы… — она употребила слово, эквивалентное нашему «пророку» или религиозному поэту, как Исайя или Локар. — Ваше стихотворение прекрасно. Я расскажу о нем Браксе.
Я отклонил почетное звание, но почувствовал себя польщенным. Вот он, решил я, тот стратегический момент, когда нужно спросить, могу ли я принести в храм копировальный аппарат и фотокамеру. Мне хотелось бы иметь копии всех текстов, объяснил я, а переписывание займет слишком много времени.
К моему удивлению, она тут же согласилась. А своим приглашением и вовсе привела меня в замешательство:
— Хотите пожить здесь, пока будете этим заниматься? Тогда вы сможете работать и днем и ночью — когда вам будет удобнее. Конечно, кроме того времени, когда храм будет занят.
Я поклонился.
— Почту за честь.
— Хорошо. Привозите свои машины, когда хотите, и я покажу вам вашу комнату.
— А сегодня вечером можно?
— Конечно.
— Тогда я поеду собирать вещи. До вечера…
Я предвидел некоторые сложности с Эмори, но не слишком большие. Всем на корабле очень хотелось увидеть марсиан, хотелось узнать, из чего они сделаны, расспросить их о марсианском климате, болезнях, составе почвы, политических убеждениях и грибах (наш ботаник просто помешан на всяких грибах, а так ничего парень), но пока что только четырем или пяти действительно удалось-таки увидеть марсиан. Большую часть времени команда корабля занималась раскопками древних городов и акрополей. Мы строго соблюдали правила игры, а туземцы были замкнуты, как японцы XIX века. Я не рассчитывал встретить особое сопротивление моему переезду и оказался прав.
У меня даже создалось впечатление, что все были этому рады.
Я зашел в лабораторию гидропоники поговорить с нашим грибным фанатиком.
— Привет, Кейн. Уже вырастил поганки в этом песке?
Он шмыгнул носом. Он всегда шмыгает носом. Наверное, у него аллергия на растения.
— Привет, Гэлинджер. Нет, с поганками ничего не вышло, а вот ты загляни за гараж, когда будешь проходить мимо. У меня там растет пара кактусов.
— Тоже неплохо, — заметил я.
Док Кейн был, пожалуй, моим единственным другом на корабле, не считая Бетти.
— Послушай, я пришел попросить тебя об одном одолжении.
— Валяй.
— Мне нужна роза.
— Что?
— Роза. Ну знаешь, такая красная, с шипами, и пахнет приятно.
— Думаю, в этом песке она не приживется. Шмыг, шмыг.
— Да нет, ты не понял. Я не собираюсь ее сажать. Мне нужен сам цветок.
— Придется использовать баки, — он почесал свой лысый купол. — Это займет месяца три, не меньше, даже если форсировать рост.
— Ну так как, сделаешь?
— Конечно, если ты не прочь подождать.
— Да ради Бога! Собственно, три месяца — это как раз к отлету и будет.
Я огляделся по сторонам: бассейны кишащей слизи, лотки с рассадой.
— Я сегодня перебираюсь в Тиреллиан, но появляться здесь буду часто, так что зайду, когда она расцветет.
— Перебираешься туда? Мур говорит, что они исключительно разборчивы.
— Ну, значит, они сделали для меня исключение.
— Похоже на то, хотя я все равно не представляю, как ты выучил их язык. Мне-то и французский с немецким с трудом давались, но я на той неделе слышал за обедом, как Бетти демонстрировала свои познания. Звучит как нечто потустороннее. Она говорит, что это напоминает разгадывание кроссворда в «Таймс», когда одновременно надо еще и подражать птичьим голосам.
Я рассмеялся и взял предложенную сигарету.
— Да, язык сложный, но, знаешь, это как найти совершенно новый класс грибов — они бы тебе по ночам снились.
Его глаза заблестели.
— Да, это было бы здорово. Знаешь, может, еще и найду.
— Может, и найдешь. Посмеиваясь, он проводил меня до двери.
— Сегодня же займусь твоими розами. Ты там смотри не перетрудись.
— Будь спокоен.
Как я и говорил: помешан на грибах, а так парень ничего.
Мои апартаменты в Цитадели Тиреллиана примыкали непосредственно к храму. По сравнению с тесной каютой мои жилищные условия значительно улучшились. Кроме того, кровать оказалась достаточно длинной, и я в ней помещался, что было достойно удивления.
Я распаковал вещи и сделал шестнадцать снимков храма, а потом взялся за книги.
Я снимал до тех пор, пока мне не надоело переворачивать страницы, не зная, что на них написано. Я взял исторический труд и начал переводить.
«Ло. В тридцать седьмой год процесса Силлена пришли дожди, что стало причиной радости, ибо было это событие редким и удивительным и обычно толковалось как благо.
Но то, что падало с небес, не было живительным семенем Маланна. Это была кровь Вселенной, струей бившая из артерии. И для нас настали последние дни. Близилось время последнего танца.
Дожди принесли чуму, которая не убивает, и последние пассы Локара начались под их шум…»
Я спросил себя, что, черт возьми, имеет в виду Тамур? Он же историк и должен придерживаться фактов. Не было же это их Апокалипсисом! Или было? Почему бы и нет? Я задумался. Горстка людей в Тиреллиане — очевидно, все, что осталось от высокоразвитой цивилизации. У них были войны, но не было оружия массового уничтожения, была наука, но не было высокоразвитой технологии. Чума, чума, которая не убивает… Может, она всему виной? Каким образом, если она не смертельна?
Я продолжил чтение, но природа чумы не обсуждалась. Я переворачивал страницы, заглядывал вперед, но все безрезультатно.
М'Квийе! М'Квийе! Когда мне позарез нужно задать тебе вопрос, тебя, как на грех, нет рядом.
Может, пойти поискать ее? Нет, пожалуй, это неудобно. По негласному уговору я не должен был выходить из этих комнат. Придется подождать.
И я чертыхался долго и громко, на разных языках, в храме Маланна, несомненно, оскорбляя тем самым его слух.
Он не счел нужным сразить меня на месте. Я решил, что на сегодня хватит, и завалился спать.
Я, должно быть, проспал уже несколько часов, когда Бракса вошла в мою комнату с крошечным светильником в руках. Я проснулся оттого, что она дергала меня за рукав пижамы.
— Привет, — сказал я.
А что еще я мог сказать?
— Я пришла, — сказала она, — чтобы услышать стихотворение.
— Какое стихотворение?
— Ваше.
— А-а-а.
Я зевнул, сел и сказал то, что люди обычно говорят, когда их будят среди ночи и просят почитать стихи:
— Очень мило с вашей стороны, но вам не кажется, что сейчас не самое удобное время?
— Да нет, не беспокойтесь, мне удобно, — сказала она.
Когда-нибудь я напишу статью для журнала «Семантика» под названием «Интонация: недостаточное средство для передачи иронии».
Но я все равно уже проснулся, так что пришлось взяться за халат.
— Что это за животное? — спросила она, показывая на шелкового дракона у меня на отвороте.
— Мифическое, — ответил я. — А теперь послушай, уже поздно, я устал. У меня утром много дел. И М'Квийе может просто неправильно понять, если узнает, что ты была здесь.
— Неправильно понять?
— Черт возьми, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду!
Мне впервые представилась возможность выругаться по-марсиански, но пользы это не принесло.
— Нет, — сказала она, — не понимаю.
Вид у нее был испуганный, как у щенка, которого отругали неизвестно за что.
— Ну-ну, я не хотел тебя обидеть. Понимаешь, на моей планете существуют определенные… э-э… правила относительно лиц разного пола, остающихся наедине в спальне и не связанных узами брака… э-э… я имею в виду… ну, ты понимаешь, о чем я говорю.
— Нет.
Ее глаза были как нефрит.
— Ну, это вроде… Ну, это секс, вот что это такое. Словно две зеленые лампочки зажглись в ее глазах.
— А-а, вы имеете в виду — делать детей?
— Да. Точно. Именно так.
Она засмеялась. Я впервые услышал смех в Тиреллиане. Звучал он так, будто скрипач водил смычком по струнам короткими легкими ударами. Впечатление не особенно приятное, уже хотя бы потому, что смеялась она слишком долго.
Отсмеявшись, она пересела поближе.
— Теперь я поняла, — сказала она, — у нас раньше тоже были такие правила. Полпроцесса тому назад, когда я была еще маленькая, у нас были такие правила. Но… — казалось, она вот-вот опять рассмеется, — теперь в них нет необходимости.
Мои мысли неслись, как магнитофонная лента при перемотке.
Полпроцесса! Нет! Полпроцесса — это примерно двести сорок три года!
Достаточно времени, чтобы выучить 2224 танца Локара.
Достаточно времени, чтобы состариться, если ты человек.
Я имею в виду — землянин.
Я посмотрел на нее: бледную, как белая королева в наборе шахмат из слоновой кости.
Бьюсь об заклад, она была человеком — живым, нормальным, здоровым. Голову дам на отсечение — женщина, мое тело…
Но если ей два с половиной столетия, то М'Квийе тогда и вовсе бабушка Мафусаила! Мне было приятно вспоминать их многочисленные комплименты моим лингвистическим и поэтическим способностям. О, эти высшие существа!
Но что она подразумевала под «теперь в них нет необходимости»? Почему эта истерика? Что означают эти странные взгляды М'Квийе?
Я почувствовал, что близок к чему-то важному, не считая, конечно, красивой девушки.
— А скажи-ка, — начал я небрежным тоном, — это как-нибудь связано с «чумой, которая не убивает», о которой писал Тамур?
— Да, — ответила она. — Дети, родившиеся после Дождей, не могут иметь своих детей, а у мужчин…
— Что у мужчин? — я наклонился вперед, включив память на «запись».
— A y мужчин нет возможности их делать.
Я так и отвалился на спинку кровати. Расовое бесплодие, мужская импотенция вслед за небывалым явлением природы. Может, когда-то в их хилую атмосферу Бог знает откуда проникло радиоактивное облако? Проникло задолго до того, как Скиапарелли увидел каналы, мифические, как и мой дракон; задолго до того, как эти «каналы» послужили причиной правильных выводов на основе неверных данных. Жила ли тогда Бракса, уже в материнской утробе обреченная на бесплодие?
Я достал сигарету. Хорошо, что я догадался захватить с собой пепельницу. Табачной индустрии на Марсе никогда не было. Как и выпивки. Аскеты, которых я встречал в Индии, по сравнению с марсианами просто поклонники Дионисия.
— Что это за огненная трубочка?
— Сигарета. Хочешь?
— Да, пожалуйста.
Она села рядом со мной, и я дал ей закурить.
— От нее щиплет в носу.
— Это ничего. Вдохни поглубже, задержи дыхание, а потом выдохни.
Прошла минута.
— О-о, — сказала она. Пауза, затем:
— Они священные?
— Нет, — ответил я, — это никотин — эрзац божественности.
Снова пауза.
— Только, пожалуйста, не проси меня перевести слово «эрзац».
— Не буду. Я порой испытываю то же самое, когда танцую.
— Это скоро пройдет.
— Теперь прочитайте свое стихотворение. У меня родилась идея.
— Подожди-ка минутку, — сказал я, — у меня есть кое-что получше.
Я встал, порылся в записных книжках и снова сел рядом с ней.
— Это первые три главы из Книги Екклезиаста, — объяснил я. — Тут много общего с вашими священными книгами.
Я начал читать.
Я успел прочитать всего одиннадцать стихов, когда она воскликнула:
— Не надо! Лучше прочитайте что-нибудь свое!
Я остановился и бросил записную книжку на столик, стоявший неподалеку. Бракса дрожала, но не так, как в тот день, когда она исполняла танец ветра, а будто молча содрогалась от сдерживаемых рыданий. Сигарету она держала неумело, как карандаш. Я неуклюже обнял ее за плечи…
— Он такой печальный, — сказала она. — Как и все остальные.
Я порылся в памяти и любовно сделал импровизированный пересказ с немецкого на марсианский стихотворения об испанской танцовщице. Я подумал, что оно должно ей понравиться.
Так и оказалось.
— О-о… — сказала она. — Это вы написали?
— Нет. Это написано поэтом более талантливым, чем я.
— Я вам не верю. Это написали вы.
— Это написал человек по имени Рильке.
— Но вы перевели его на наш язык. Зажгите спичку, чтобы я увидела, как она танцевала.
— «Пламя вечности», — задумчиво произнесла Бракса, — и она затоптала его своими «маленькими крепкими ножками». Хотела бы и я так замечательно танцевать.
— Да ты лучше любой цыганки, — засмеялся я, задувая спичку.
— Нет, я бы так не смогла. Хотите, я вам станцую?
— Нет, — сказал я. — Ложись-ка лучше спать. Она улыбнулась, и не успел я глазом моргнуть, как она расстегнула пряжку на плече. И все упало. Я сглотнул. С трудом.
— Хорошо, — сказала она.
И я ее поцеловал, а дуновение воздуха от падающей одежды погасило светильник.
3
Дни были, как листья у Шелли: желтые, красные, коричневые, бешено гонимые западным ветром. Они вихрем неслись мимо меня кадрами микропленки. Почти все книги были уже отсняты. Ученым понадобится не один год, чтобы изучить их и оценить по достоинству. Весь Марс лежал у меня в столе.
Екклезиаст, которого я раз десять бросал и к которому столько же раз возвращался, был почти готов заговорить на Священном Языке.
Я насвистывал, когда находился вне храма. Я накропал кучу виршей, которых раньше постыдился бы. Вечерами мы с Браксой бродили по дюнам или поднимались в горы. Иногда она танцевала для меня, а я читал что-нибудь длинное, написанное гекзаметром. Она по-прежнему думала, что я — Рильке, да я и сам почти поверил в это. Вот я в замке Дуино, пишу «Дуинские элегии».
«Разумеется, странно покинуть привычную Землю, обычаев не соблюдать, усвоенных нами едва ли. Розам и прочим предметам, сулящим нам нечто, значения не придавать и грядущего не искать в них…»
Никогда не пытайтесь искать грядущее в розах! Не надо. Нюхайте их (шмыг, Кейн), собирайте их, наслаждайтесь ими. Живите настоящим. Держитесь за него покрепче. И не просите богов объяснять. Листья, подвластные ветру, так быстро проносятся мимо… И никто не обращал на нас внимания. Или им было все равно?
Лора. Лора и Бракса. Вы знаете, они рифмуются, хотя немного и режет слух. Она была высокая, невозмутимая, белокурая (терпеть не могу блондинок). Папаша вывернул меня наизнанку, как карман, и я думал, что она сможет заполнить меня. Но большой бездельник, словоблуд с бородкой Иуды и собачьей преданностью в глазах… О да, он был прекрасным украшением вечеринок. Вот, собственно, и все.
Для нас наступили последние дни.
Пришел день, когда мы не увиделись с Браксой. И ночь.
И второй день. И третий.
Я был вне себя. Раньше я не осознавал, как близки мы стали, как много она для меня значит. С тупой уверенностью в ее постоянном присутствии я боролся против того, чтобы в розах искали грядущее.
Мне пришлось спрашивать. Я не хотел, но у меня не было выбора.
— Где она, М'Квийе? Где Бракса?
— Она ушла, — сказала М'Квийе.
— Куда?
— Не знаю.
Я смотрел ей в глаза. Мне хотелось выругаться.
— Мне необходимо это знать. Она глядела сквозь меня.
— Она покинула нас. Ушла. Может быть, в горы. Или в пустыню. Это не имеет значения. Ничто не имеет значения. Танец заканчивается. Храм скоро опустеет.
— Почему? Почему она ушла?
— Не знаю.
— Я должен ее увидеть. Через несколько дней мы улетаем.
— Мне очень жаль, Гэлинджер.
— Мне тоже, — я захлопнул книгу, не сказав при этом «м'нарра», и встал. — Я найду ее.
Я покинул храм. М'Квийе сидела, как статуя.
Весь день я носился вверх-вниз по дюнам. Команде я, наверное, казался самумом. В конце концов пришлось вернуться за горючим.
Ко мне вышел Эмори.
— Ну, что скажешь? Господи, грязный-то какой, ну прямо мусорщик. С чего вдруг такое родео?
— Да я тут кое-что потерял.
— Посреди пустыни? Наверное, какой-нибудь из своих сонетов? Из-за чего еще ты бы стал так надрываться?
— Нет, черт возьми. Это личное. Джордж наполнил бак. Я полез в джипстер.
— Погоди! Ты никуда не поедешь, пока не расскажешь, в чем дело.
Я, конечно, мог бы вырваться, но и он мог приказать, чтобы меня силком притащили обратно, а уж тащить охотники нашлись бы. Я сделал над собой усилие и тихо, спокойно сказал:
— Я просто потерял часы. Мне их подарила мать: это фамильная реликвия. Я хочу их найти, пока мы не улетели.
— Может, они у тебя в каюте или в Тиреллиане?
— Я уже проверял.
— А может, их кто-нибудь спрятал, чтобы тебе насолить? Ты же знаешь, любимцем публики тебя не назовешь.
Я помотал головой:
— Я об этом уже подумал. Но я всегда ношу их в правом кармане. Скорее всего они вывалились, когда я трясся по этим дюнам.
Он прищурился.
— Я, помнится, как-то прочел на обложке одной из твоих книг, что твоя мать умерла при родах.
— Верно, — сказал я, мысленно чертыхнувшись. — Часы принадлежали еще ее отцу, и она хотела, чтобы они перешли ко мне. Отец сохранил их для меня.
Он фыркнул:
— Странный способ искать часы — ездить взад-вперед на джипстере.
— Ну… так я, может, увижу, если свет от них отразится, — неуверенно предположил я.
— Ну что ж, уже темнеет, — заметил он. — Нет смысла продолжать сегодня поиски. Набрось на джипстер чехол, — приказал он механику.
Он потрепал меня по плечу.
— Иди прими душ и перекуси. Судя по твоему виду, и то, и другое тебе не повредит.
Тусклые глаза, редеющие волосы и ирландский нос, голос — на децибел громче, чем у кого бы то ни было… Единственное, что дает ему право руководить!
Я стоял и ненавидел его. Клавдий! О, если бы это был пятый акт!
Но внезапно мысль о горячем душе и пище проникла в мое сознание. Действительно, и то, и другое мне не повредит. А если я буду настаивать на немедленном продолжении поисков, это только усилит подозрения.
Я стряхнул песок с рукава.
— Да, вы правы, идея действительно неплохая.
— Пошли, поедим у меня в каюте.
Душ был благословением, чистая одежда — Божьей милостью, а еда пахла, как в раю.
— Отлично пахнет, — сказал я.
Мы молча кромсали свои бифштексы. Когда дело дошло до десерта и кофе, он предложил:
— Почему бы тебе вечерок не отдохнуть? Оставайся здесь, отоспишься.
Я покачал головой:
— Слишком занят. Мало времени осталось.
— Пару дней назад ты говорил, что почти закончил.
— Почти, но не совсем.
— Ты еще говорил, что сегодня в храме служба.
— Верно. Я буду работать у себя в комнате. Он пожал плечами и, помолчав, сказал:
— Гэлинджер!
Я поднял голову: моя фамилия всегда означает неприятности.
— Это, конечно, не мое дело, — сказал он, — но тем не менее. Бетти говорит, что у тебя там девушка.
В конце предложения не было вопросительного знака. Это было утверждение, и оно повисло в воздухе в ожидании ответа.
Ну и сука же ты, Бетти! Корова и сука. К тому же еще и ревнивая. Какого черта ты суешь нос в чужие дела! Лучше бы закрыла на все глаза. И рот.
— А что? — спросил я.
— А то, — ответил он, — что мой долг как начальника экспедиции — проследить, чтобы отношения с туземцами были дружелюбными и дипломатичными.
— Вы говорите о них так, будто они дикари. Да ничего подобного!
Я поднялся.
— Когда мои заметки опубликуют, на Земле узнают правду. Я расскажу им то, о чем доктор Мур и не догадывался. Когда я поведаю о трагедии обреченной расы, которая смиренно и безразлично ждет смерти, суровые ученые зальются слезами. Я напишу об этом, и мне опять будут присуждать премии, только мне будет безразлично. Господи! — воскликнул я. — Когда наши предки дубинками забивали саблезубых тигров и пытались добыть огонь, у них уже была высокоразвитая цивилизация.
— Так все-таки есть у тебя там девушка или нет?
— Да, — сказал я. — Да, Клавдий! Да, папочка! Да, Эмори! Есть! Но я вам открою одну тайну. Марсиане уже мертвы. Они бесплодны. Еще одно поколение — и их не станет.
Я помедлил и добавил:
— Кроме как в моих записях да на нескольких микрофильмах и магнитных пленках. И в стихах о девушке, у которой болела душа и которая только танцем могла пожаловаться на несправедливость всего этого.
— А-а, — протянул он. И добавил после паузы: — Ты и правда в последнее время стал сам на себя не похож. Знаешь, иногда просто-таки вежлив бывал. А я-то диву давался. Не думал, что для тебя что-нибудь может так много значить.
Я опустил голову.
— Это из-за нее ты носился по пустыне? Я кивнул.
— Почему?
— Потому что она где-то там. Не знаю, где и почему. И мне необходимо ее найти до отлета.
— А-а, — опять сказал он.
Выдвинув ящик письменного стола, он вынул из него что-то завернутое в полотенце и развернул его. На столе лежала женская фотография в рамке.
— Моя жена.
Миловидное лицо с большими миндалевидными глазами.
— Я вообще-то моряк, — начал он. — Когда-то был молодым офицером. Познакомился с ней в Японии. Там, откуда я родом, не принято жениться на людях другой расы, так что мы не венчались. Но все равно она была мне женой. Когда она умерла, я был на другом конце света. Моих детей забрали, и с тех пор я их не видел. Это было давно. Об этом мало кто знает.
— Я вам сочувствую, — сказал я.
— Не надо. Забудь об этом.
Он поерзал в кресле и посмотрел на меня.
— Хочешь взять ее с собой на Землю — возьми. С меня, конечно, голову снимут, но я все равно слишком стар, чтобы возглавить еще одну экспедицию. Так что давай.
Он залпом допил остывший кофе.
— Можешь взять джипстер. Он закрутил свое кресло.
Я дважды попытался сказать «спасибо», но так и не смог. Просто встал и вышел.
— Сайонара и все такое, — пробормотал он у меня за спиной.
— Вот она, Гэлинджер! — услышал я. Я оглянулся.
— Кейн!
На фоне люка вырисовывался только его силуэт, но я услышал, как он шмыгает носом. Я повернулся.
— Что «вот»?
— Твоя роза.
Он достал пластиковый контейнер, разделенный внутри на две части. Нижнюю часть заполняла какая-то жидкость. В нее был опущен стебель. В другой части пламенела большая свежераспустившаяся роза — бокал кларета в этой ужасной ночи.
— Спасибо, — сказал я, засовывая ее под куртку.
— Что, возвращаешься в Тиреллиан?
— Да.
— Я увидел, как ты приехал, и подготовил ее. Немного разминулся с тобой в каюте капитана. Он был занят. Прокричал из-за двери, чтобы я попробовал поймать тебя в гараже.
— Еще раз спасибо.
— Она обработана специальным составом. Будет цвести несколько недель.
Я кивнул. И ушел.
Теперь в горы. Дальше. Дальше. Небо было, как ведерко со льдом, и в нем плавали две луны. Дорога стала круче, и ослик запротестовал. Я подхлестнул его, выжав газ. Выше. Выше. Я увидел зеленую немигающую звезду и почувствовал комок в горле. Упакованная роза билась о мою грудь, как второе сердце. Ослик заревел, громко и протяжно, потом закашлялся. Я еще немного подхлестнул его, и он испустил дух.
Я поставил джипстер на аварийный тормоз, вылез из машины и зашагал.
Как холодно, как холодно становится. Здесь, наверху. Ночью.
Почему? Почему она это сделала? Зачем бежать от костра, когда наступает ночь?
Я излазил вдоль и поперек каждое ущелье и перевал, благо ноги у меня длинные, а двигаться здесь несравнимо легче, чем на Земле.
Осталось всего два дня, любовь моя, а ты меня покинула. Почему?
Я полз по склонам, перепрыгивал через гребни. Я ободрал колени, локоть, порвал куртку.
Маланн? Никакого ответа. Неужели ты и правда так ненавидишь свой народ? Тогда попробую обратиться к кому-нибудь другому. Вишну, ты же хранитель. Сохрани ее! Дай мне ее найти.
Иегова? Адонис? Осирис? Таммуз? Маниту? Легба? Где она?!
Я забрел далеко и высоко и поскользнулся.
Скрежет камней под ногами, и я повис на краю. Как замерзли пальцы! Трудно цепляться за скалу.
Я посмотрел вниз: футов двенадцать или около того. Разжал пальцы и упал. Покатился по склону.
И тут раздался ее крик.
Я лежал неподвижно и смотрел вверх. Откуда-то сверху, из ночи она позвала:
— Гэлинджер! Я не двигался.
— Гэлинджер! И она исчезла.
Я услышал стук катящихся камней и понял, что она спускается по какой-то тропинке справа от меня. Я вскочил и нырнул в тень валуна.
Она появилась из-за поворота и стала неуверенно пробираться между камнями.
— Гэлинджер!
Я вышел из-за своего укрытия и схватил ее за плечи.
— Бракса!
Она снова вскрикнула и заплакала, прижавшись ко мне. Я впервые увидел ее плачущей.
— Почему? — спросил я. — Почему?
Но она только крепче прижималась ко мне и всхлипывала.
Наконец:
— Я думала, ты разбился.
— Может, и разбился бы, — сказал я. — Почему ты ушла из Тиреллиана? А как же я?
— Неужели М'Квийе тебе не сказала? Неужели ты сам не догадался?
— Я не догадался, а М'Квийе сказала, что ничего не знает.
— Значит, она солгала. Она знает.
— Что? Что она знает?
Она содрогнулась всем телом и надолго замолчала. Я вдруг заметил, что на ней только легкий наряд танцовщицы.
— Великий Маланн! — воскликнул я. — Ты же замерзнешь!
Отстранив ее от себя, я снял куртку и набросил ей на плечи.
— Нет, — сказала она. — Не замерзну.
Я переложил контейнер с розой себе за пазуху.
— Что это? — спросила она.
— Роза, — ответил я. — В темноте ее плохо видно. Я когда-то сравнил тебя с розой. Помнишь?
— Да-а. Можно я ее понесу?
— Конечно.
Я сунул розу в карман куртки.
— Ну так что, я жду объяснений.
— Ты действительно ничего не знаешь? — спросила она.
— Нет!
— Когда пошли Дожди, — сказала она, — очевидно, были поражены только мужчины, и этого было достаточно… Потому что я… не была поражена… наверно…
— О-о-о! — сказал я. Мы стояли, и я думал.
— Хорошо, ну и почему ты убежала? Что плохого в том, что ты беременна? Тамур ошибался. Ваш народ может возродиться.
Она засмеялась — снова эта безумная скрипка, на которой играет спятивший Паганини. Я остановил ее, пока смех не перешел в истерику.
— Каким образом? — в конце концов спросила она, потирая щеку.
— Вы живете дольше, чем мы. Если у нас будет нормальный ребенок, значит, наши расы могут вступать в брак друг с другом. Наверняка у вас есть еще женщины, способные иметь детей. Почему бы и нет?
— Ты прочел Книгу Локара, — сказала она, — и после этого спрашиваешь? Смерть — дело решенное, все за это проголосовали. Но и задолго до этого последователи Локара давным-давно все решили. «Мы закончили все дела, — сказали они, — мы все увидели, все услышали и все почувствовали. Танец был хорош. Пришло время его закончить».
— Не может быть, чтобы ты в это верила.
— Во что я верю — совершенно неважно, — ответила она. — М'Квийе и Матери решили, что мы должны умереть. Сам их титул звучит теперь как насмешка, но решение будет выполнено. Осталось только одно пророчество, но оно ошибочно. Мы умрем.
— Нет, — сказал я.
— А что же?
— Летим со мной на Землю.
— Нет.
— Ладно, тогда идем.
— Куда?
— Обратно в Тиреллиан. Я хочу поговорить с Матерями.
— Нельзя! Сегодня служба! Я засмеялся:
— Служба, посвященная Богу, который сбивает тебя с ног, а потом добивает, лежачего?
— И все равно он — Маланн, — ответила она. — И мы его народ.
— Ты бы быстро нашла общий язык с моим отцом, — проворчал я. — Но все равно я пойду, и ты пойдешь со мной, даже если мне придется тащить тебя. Я сильнее.
— Но не сильнее Онтро.
— Это еще кто?
— Он тебя остановит, Гэлинджер. Он — рука Маланна.
4
Я резко затормозил джипстер перед единственным известным мне входом в храм. Бракса держала розу на руках, как нашего ребенка, и молчала. Лицо у нее было отрешенным и очень милым.
— Они сейчас в храме? — спросил я.
Лицо мадонны не изменило своего выражения. Я повторил вопрос. Она встрепенулась.
— Да, — сказала она откуда-то издалека. — Но тебе туда нельзя.
— Это мы еще посмотрим.
Я обошел джипстер и помог ей вылезти.
Держа меня за руку, она двигалась, словно в трансе. Луна отражалась в ее глазах. Глаза смотрели в никуда, как в тот день, когда я впервые увидел ее танец.
Я толкнул дверь и вошел, ведя ее за собой. В комнате царил полумрак.
Она закричала, в третий раз за этот вечер:
— Не трогай его, Онтро! Это Гэлинджер!
До сих пор мне не приходилось видеть марсианских мужчин, только женщин. И я не знал, то ли мужчины все такие, то ли он какое-то чудо природы. Хотя сильно подозревал, что именно последнее.
Я смотрел на него снизу вверх.
Его полуобнаженное тело было покрыто родимыми пятнами и шишками. Наверное, что-то с железами.
Мне казалось, что на этой планете я выше всех, но этот был футов семи ростом и весил соответственно. Теперь понятно, откуда у меня взялась такая огромная кровать.
— Уходи, — сказал он. — Ей можно войти. Тебе — нет.
— Мне нужно забрать свои книги и кое-какие вещи. Он поднял громадную левую руку. Я проводил ее взглядом. Мои пожитки были аккуратно сложены в углу.
— Мне необходимо войти. Я должен поговорить с М'Квийе и Матерями.
— Нельзя.
— От этого зависит жизнь вашего народа!
— Уйди! — прогремел он. — Возвращайся к своим, Гэлинджер! Оставь нас в покое!
В его устах мое имя звучало как-то странно, словно чужое. Интересно, сколько ему лет? Триста? Четыреста? Он что, всю жизнь охранял храм? Зачем? От кого тут его охранять? Мне не нравилось, как он двигался. Я и раньше встречал людей, которые так двигались.
— Уходи, — повторил он.
Если они развили свое искусство рукопашного боя до такой же степени, как и танец, или, хуже того, — если искусство борьбы было частью танца, то я здорово влип.
— Иди, — сказал я Браксе. Отдай розу М'Квийе. Скажи, что это от меня. Скажи, что я скоро приду.
— Я сделаю так, как ты просишь. Вспоминай меня на Земле, Гэлинджер. Прощай.
Я не ответил, и она, неся розу, прошла мимо Онтро в следующую комнату.
— Ну, теперь ты уйдешь? — спросил он. — Если хочешь, я ей расскажу, как мы дрались и ты меня чуть не победил, но я так тебя ударил, что ты потерял сознание, и я отнес тебя на корабль.
— Нет, — сказал я. — Либо я тебя обойду, либо перешагну через тебя, но так или иначе я пройду.
Он пригнулся и вытянул перед собой руки.
— Это грех — поднять руку на святого человека, — прогрохотал он, — но я остановлю тебя, Гэлинджер.
Моя память прояснилась, как запотевшее стекло на свежем воздухе. Я смотрел в прошлое шестилетней давности.
Я изучал восточные языки в токийском университете. Дважды в неделю по вечерам я отдыхал. В один из таких вечеров я стоял в тридцатифутовом круге в Кодохане, в кимоно, перетянутом коричневым поясом. Я был «иккиу», на ступеньку ниже низшего уровня мастера. Справа на груди у меня был коричневый ромб с надписью «джиу-джитсу» на японском. На самом деле это означало «атемиваса» из-за одного приема, который я сам разработал. Я обнаружил, что он просто невероятно подходит к моим габаритам, и с его помощью побеждал в состязаниях.
Но я никогда по-настоящему не применял его на человеке и лет пять вообще не тренировался. Я был не в форме и знал это, но все равно попытался войти в состояние «цуки но кокоро», чтобы, как пруд луну, отразить всего Онтро.
Голос откуда-то из прошлого сказал: «Хадзими, начнем».
Я принял «неко-аши-дачи», кошачью стойку, и у Онтро как-то странно загорелись глаза. Он торопливо попытался переменить позу — и вот тут-то я ему и врезал!
Мой коронный прием!
Моя длинная левая нога взлетела, как лопнувшая пружина. На высоте семи футов она встретилась с его челюстью как раз в тот момент, когда он попытался отскочить.
Голова Онтро резко откинулась назад, и он упал, тихо застонав.
«Вот и все, — подумал я, — извини, старик».
Когда я через него перешагивал, он каким-то образом умудрился подставить мне подножку, и я упал. Трудно было поверить, что после такого удара у него хватает сил оставаться в сознании, я уж не говорю — двигаться. Мне не хотелось опять его бить.
Но он добрался до моей шеи прежде, чем я успел сообразить, чего он хочет.
Нет! Не надо такого конца!
Как будто железный прут давил мне на горло, на сонную артерию. Тут я понял, что он без сознания, а это действует рефлекс, рожденный бессчетными годами тренировок. Однажды я такое уже видел, в «шиай». Человек погиб оттого, что потерял сознание, когда его душили, и все равно продолжал бороться, а его противник подумал, что душит неправильно, и надавил сильнее.
Но такое бывает редко, очень редко.
Я двинул ему локтем под дых и ударил затылком в лицо. Хватка ослабла, но недостаточно. Мне не хотелось этого делать, но я протянул руку и сломал ему мизинец.
Его рука повисла, и я вывернулся.
Он лежал с искаженным лицом и тяжело дышал. У меня сердце сжалось при виде павшего гиганта, который, выполняя приказ, защищал свой народ, свою религию. Я проклинал себя, как никогда в жизни, за то, что перешагнул через него, а не обошел.
Шатаясь, я подошел к кучке своих пожитков, сел на ящик с проектором и закурил.
Прежде чем войти в храм, следовало отдышаться и подумать, о чем я буду говорить.
Как отговорить целую расу от самоубийства?
А что, если… Если я прочту им Книгу Екклезиаста, если прочитаю им литературное произведение, более великое, чем все написанное Локаром, — такое же мрачное, такое же пессимистичное; если покажу им, что наша раса продолжала жить, несмотря на то что один человек высочайшей поэзией вынес приговор всему живому; покажу, что суета, которую он высмеивал, вознесла нас в небеса, — поверят ли они, изменят ли свое решение?
Я затушил сигарету о мозаичный пол и отыскал свою записную книжку. Вставая, я почувствовал, как во мне просыпается ярость.
И я вошел в храм, чтобы проповедовать Черное Евангелие от Гэлинджера из Книги Жизни.
В зале царила тишина.
М'Квийе читала Локара. Справа от нее стояла роза, на которую все смотрели. Пока не вошел я.
Сотни людей босыми сидели на полу. Я заметил, что немногочисленные мужчины были так же низкорослы, как и женщины.
Я был в сапогах.
Дюжина старух сидела полукругом позади М'Квийе. Матери.
Я подошел к столу.
— Умирая сами, вы хотите обречь на смерть и свой народ, — обратился я к ним, — чтобы люди не смогли познать ту полноту жизни, которую познали вы сами, — ее радости и печали. Но то, что вы обречены на смерть, — неправда, — теперь я обращался к большинству. — Те, кто это говорит, лгут. Бракса знает, потому что она родит ребенка…
Они сидели рядами изваяний. М'Квийе отступила в полукруг.
— …моего ребенка! — продолжал я, думая: «Интересно, что сказал бы мой отец, услышав такую проповедь?» — И все женщины, которые еще молоды, могут иметь детей. У вас бесплодны только мужчины. А если вы позволите врачам нашей экспедиции обследовать вас, может, и мужчинам можно будет помочь. Но даже если и нет — вы сможете иметь детей от землян. А мы не какой-нибудь захудалый народишко на захудалой планетке, — продолжал я. — Тысячелетия назад один Локар на нашей планете сказал, что этот мир ничтожен. Он говорил, как ваш Локар, но мы не сдались, несмотря на чуму, войны и голод. Мы не погибли. Одну за другой мы победили болезни, накормили голодных, боролись против войн. Быть может, мы победили их окончательно. Мы пересекли миллионы миль пустоты. Посетили другой мир. А наш Локар сказал: «Зачем? Что в этом толку? Так или иначе, все это суета». И все дело в том, — я понизил голос, — что он был прав! Это действительно суета! Это действительно гордыня! В этом-то и заключается непомерная спесь рационализма — всегда нападать на пророка, на мессию, на Бога. Именно богохульство сделало нас великими. Оно поддерживает нас в трудную минуту. Это им втайне восторгаются боги. Все истинно священные имена Бога — богохульны!
Я почувствовал, что начинаю потеть, и остановился. У меня кружилась голова.
— Вот Книга Екклезиаста, — объявил я и начал: — «Суета сует, — сказал Екклезиаст, — суета сует, все суета. Что пользы человеку от трудов его…»
В задних рядах я увидел Браксу, замершую в немом восхищении.
Интересно, о чем она думала?
Я наматывал на себя ночные часы, как черную нить на катушку.
Ох, как поздно!
Я проговорил до самого рассвета и все не мог остановиться. Закончив читать Екклезиаста, я продолжил проповедь Гэлинджера. А когда замолчал, воцарилась тишина.
Ряды изваяний за ночь ни разу не шелохнулись. После долгой паузы М'Квийе подняла правую руку. Одна за другой Матери сделали то же самое.
И я знал, что это означает.
Это означало «нет», «не надо», «перестань» и «остановись».
Это значило, что я потерпел неудачу. Я медленно вышел из комнаты и буквально рухнул на пол рядом со своими вещами.
Онтро исчез. Хорошо, что я не убил его. Спустя тысячу лет вошла М'Квийе. Она сказала:
— Твоя работа закончена. Я не двигался.
— Пророчество сбылось, — сказала она. — Мой народ радуется. Ты победил, святой человек. Теперь уходи быстрее.
Голова у меня была как сдутый воздушный шар. Я накачал туда, немного воздуха и сказал:
— Я не святой человек. Просто второсортный поэт с непомерным тщеславием. — Я зажег последнюю сигарету. — Ладно, какое там еще пророчество?
— Обещание Локара, — сказала она так, будто это не требовало объяснений, — что когда-нибудь с небес придет святой человек и в последнюю минуту спасет нас, если все танцы Локара будут исполнены. Он победит Руку Маланна и вернет нам жизнь. Как с Браксой. Как твоя проповедь в храме.
— Проповедь?
— Ты прочитал нам слова, великие, как и слова Локара. Ты прочитал нам о том, что «ничто не ново под луной». Ты читал эти слова и высмеивал их, показывая нам новое.
— На Марсе никогда не было цветов, — сказала она, — но мы научимся их выращивать. Ты — святой насмешник, — закончила она, — Тот Кто Смеется В Храме. Ты ходишь обутым по священной земле.
— Но вы проголосовали «против», — сказал я.
— Я голосовала против нашего первоначального решения и за то, чтобы оставить жить ребенка Браксы.
Я выронил сигарету. Как же мало я знал!
— А Бракса?
— Ее выбрали полпроцесса назад исполнить все танцы и ждать тебя.
— Но она говорила, что Онтро меня остановит. М'Квийе долго молчала.
— Она никогда не верила в это пророчество. Плохо ей сейчас. Она убежала, боясь, что пророчество сбудется. А когда оно все-таки сбылось благодаря тебе, и мы проголосовали…
— Так она не любит меня? И никогда не любила?
— Мне очень жаль, Гэлинджер. Эту часть своего долга ей так и не удалось исполнить.
— Долга, — сказал я, — долгадолгадолгадолга… Ляля-ля!
— Она простилась с тобой. Она больше не хочет тебя видеть… А мы никогда не забудем того, чему ты нас учил.
— Не забудьте, — автоматически ответил я и внезапно осознал великий парадокс, лежащий в основе всех чудес.
Я не верил ни единому слову своей проповеди.
Никогда не верил.
Я встал, как пьяный, и пробормотал:
— М'нарра.
Я вышел из храма в мой последний день на Марсе. Я покорил тебя, Маланн, а победа все-таки осталась за тобой! Спи спокойно в своей звездной постели.
Черт тебя подери!
Бросив джипстер, я пошел к кораблю, с каждым шагом удаляясь от бремени жизни. Заперся у себя в каюте и проглотил сорок четыре таблетки снотворного.
Проснулся я в больничном отсеке. Живой.
Я медленно поднялся и кое-как добрался до иллюминатора.
Марс висел надо мной, как надутый пузырь. Потом он расплылся, перелился через край и потек по моему лицу.
Девушка и чудовище
Великое волнение завладело умами, ибо вновь пришла пора решать. Старейшины проголосовали за жертвоприношение, несмотря на протесты самого старшего, Риллика.
— Нам нельзя сдаваться! — твердил он.
Но ему не ответили, и молодую девственницу отвели в пещеру дымов и накормили сонными листьями.
— Так не должно быть, — упорствовал Риллик. — Это неправильно.
— Так было всегда, — возражали ему, бросая озабоченные взгляды туда, где солнце лило утренний свет.
А по густому лесу уже приближался бог.
— Нам пора уходить.
— Но почему не остаться хоть раз? Не посмотреть, что будет делать бог-чудовище?
— Довольно богохульствований! Идем!
— С каждым годом нас все меньше, — втолковывал, плетясь следом, Риллик. — Однажды нам просто некого будет приносить в жертву.
— Тогда мы умрем, — ответили остальные.
— Так зачем же откладывать? — взвыл он. — Давайте примем бой сейчас, пока у нас есть еще силы!
Но они качали головами с возрастающей век от века безропотностью. Все чтили возраст Риллика, однако не разделяли его мнения. Лишь последний взгляд, украдкой, бросили они назад на закованного в латы бога, со смертоносным копьем восседающего на коне в золоченой сбруе. Там, где рождались дымы, забила хвостом юная девушка, закатывая дикие глаза под прекрасные бровные пластины. Она почувствовала божественное присутствие и издала протяжный рев.
Подойдя к лесу, Риллик остановился, поднял чешуйчатую лапу, пытаясь сформулировать мысль, и наконец заговорил:
— Мне кажется, — сказал он, — что в памяти моей живут иные времена, когда все было по-другому.
Страсть к коллекционированию
— Что ты тут делаешь, человек?
— Это долгая история.
— Вот и хорошо. Люблю долгие истории. Садись и рассказывай. Нет… не на меня!
— Извини. Ну, всему причиной мой дядя, сказочно богатый…
— Погоди! Что значит «богатый»?
— Ну, очень состоятельный.
— А «состоятельный»?
— Э-э… Много денег.
— Что такое «деньги»?
— Ты хочешь выслушать эту историю или нет?
— Хочу, но еще я хочу ее понять.
— Извини, Булыга, но я сам ее толком не понимаю.
— Меня зовут Камень.
— Камень так Камень. Мой дядя, очень важный человек, должен был отдать меня в Космическую академию, а потом передумал. Решил, что гуманитарное образование будет получше. И отправил меня в свою альма-матер — старую деву — специализироваться в области нечеловеческих человечеств. Пока петришь?
— Нет. Но понимание не всегда сопутствует одобрению.
— Я это самое и говорю. Я не понимаю дядюшку Сидни, но я одобряю его нелепые вкусы, его сорочий инстинкт и его грубое вмешательство в дела других людей. Я одобряю все это до боли в кишках. А что мне еще остается? Он плотоядный семейный монумент и любит поставить на своем. К несчастью, все семейные деньги к тому же принадлежат ему, а потому из этого следует, как кскст за ззн, что он всегда поставит на своем.
— Значит, эти деньги — что-то важное!
— Настолько важное, что я пролетел десять тысяч световых лет до планеты без названия, которую, кстати я только что окрестил Навозной кучей.
— Низко летающий затт ест много, оттого он и летает низко…
— Да, я заметил. Ну а это все-таки мох, верно?
— Да.
— Отлично. Облегчает упаковку.
— Что такое «упаковка»?
— Поместить что-нибудь в ящик, чтобы доставить куда-то еще.
— И что ты намерен подвергнуть этой упаковке?
— Тебя, Камень.
— Я не из тех камней, которые перекатываются.
— Слушай, Камень, мой дядя коллекционирует минералы, ясно? А ты единственный минерал на всю галактику, обладающий разумом. И самый крупный, какой мне удалось обнаружить. Следуешь за ходом моей мысли?
— Да, но я не хочу следовать за тобой.
— Но почему? Будешь королем его коллекции. Так сказать, одноглазым человеком в стране слепых, если мне дозволено будет употребить столь малоподходящее уподобление.
— Пожалуйста, не делай этого. Страшно даже слушать. Скажи, а как твой дядя узнал про наш мир?
— Один из моих инструкторов прочел о нем в старинном корабельном журнале. Он коллекционировал старинные корабельные журналы. Ну а это был журнал капитана Фейрхилла, который высадился здесь парочку-другую столетий назад и вел длинные беседы с вашим племенем.
— Добрый старина Фейрхилл, Гнусная Погода! Как он поживает? Передай ему привет от меня.
— Он умер.
— Что?
— Умер. Скапутился. Сыграл в ящик. Упокоился. Диблировал.
— Подумать только! Когда это случилось? Надеюсь, это было эстетичное зрелище, достойное…
— Откуда мне знать? Но сведения эти я сообщил дяде, который решил пополнить тобой свою коллекцию. И вот я здесь.
— Право, как я ни ценю подобную любезность, сопровождать тебя мне нельзя. Время диблирования уже близко…
— Знаю. Я узнал о диблировании из журнала Фейрхилла все, прежде чем дал его дяде Сидни. Предварительно вырвав эти странички. Я хочу, чтобы он был неподалеку, когда ты… это самое… Тогда я унаследую его денежки и смогу самыми дорогостоящими способами утешаться, что так и не попал в Космическую академию. Сначала стану алкоголиком, потом займусь развратом… Хотя, пожалуй, разумнее будет проделать все это в обратном порядке…
— Но я хочу диблировать здесь, среди всего, что люблю!
— Вот это лом. Сейчас я тебя сковырну.
— Только попробуй! Я сразу диблирую.
— Не сможешь! Я измерил твою массу перед тем, как мы разговорились. В земных условиях тебе понадобится не меньше восьми месяцев, чтобы достичь диблиционных параметров.
— Ну ладно, я брал тебя на пушку. Но неужели у тебя нет ни капли сострадания? Я лежал здесь века с той поры, как был маленьким камешком, подобно моим отцам до меня. Я с таким тщанием пополнял мою коллекцию атомов, создавая самую изящную молекулярную структуру в окрестностях. И теперь — быть изъятым отсюда перед самым диблированием. Это… это просто бескаменно с твоей стороны!
— Ну, зачем так мрачно? Обещаю, что ты пополнишь свою коллекцию наилучшими земными атомами. Ты побываешь в таких местах, о каких ни одному камню не грезилось!
— Слабое утешение. Я хочу, чтобы все мои друзья это видели.
— Боюсь, ничего не получится.
— Ты очень жестокий человек. Надеюсь, ты будешь рядом, когда я диблирую.
— Когда подойдет время, я намерен отправиться куда-нибудь подальше и хорошенько повеселиться.
Малое притяжение Навозной кучи помогло без труда подкатить Камень к борту космической яхты и с помощью лебедки водворить его в отсек по соседству с атомным реактором. Это была прогулочная модель, переделанная владельцем, убравшим значительную часть экранирующих прокладок, а потому Камень вдруг ощутил вулканическое опьянение, торопливо добавил отборные экземпляры к своей коллекции атомов и диблировал тут же на месте.
Он грибом поднялся ввысь, а затем огромными волнами прокатился по равнинам Навозной кучи. С пыльных небес посыпались юные камешки, вскрикивая на общей частоте от агонии рождения.
— Рванул! — заметил дальний сосед, перекрикивая помехи. — И раньше, чем я ожидал. Такая теплая остаточная радиация!
— Прекрасное диблирование. — согласился другой. — Тщательное коллекционирование всегда себя оправдывает.
Вершина
1
Я посмотрел на нее сверху, и мне стало не по себе. «Где же вершина? — подумал я. — У самых звезд?» Я не находил слов. Смотрел, смотрел — и не мог оторвать глаз; я уже начинал проклинать сам факт существования этой штуки. Жаль, что ее обнаружили, пока я еще жив.
— Ну? — Лэннинг накренил флайер так, чтобы я мог посмотреть вверх.
Я покачал головой и прикрыл ладонью глаза, хотя и был в очках.
— Убери ее… Пусть она исчезнет.
— Не получится. Она больше нас.
— Она больше всего на свете, — добавил я.
— Мы не можем заставить ее исчезнуть…
— Подожди. Я хочу сделать несколько снимков. Он протянул мне камеру, и я начал снимать.
— Ты можешь подлететь ближе?
— Нет. Слишком сильный ветер.
Пришлось пользоваться телескопическим объективом, сканирующим устройством и прочими хитростями, пока мы кружили возле нее.
— Я бы многое отдал, чтобы увидеть вершину.
— Мы уже поднялись на тридцать тысяч футов, а потолок для нашей крошки — пятьдесят. Эта леди, к сожалению, выше атмосферной границы.
— Странно, — сказал я, — отсюда все же трудно поверить, что она купается в эфире и созерцает звезды.
Лэннинг рассмеялся и зажег сигарету, а я потянулся за термосом с кофе.
— Ну, и как тебе Серая Сестра?
Я тоже закурил, глубоко затягиваясь. Флайер, подхваченный воздушным потоком, вильнул в сторону, потом ветер, словно потеряв интерес, отпустил нас. Я ответил:
— Как и наша леди на Абатторе — прямо между глаз.
Мы выпили кофе, и немного погодя Лэннинг спросил:
— Она слишком велика для тебя, Седой? Проглотив кофе, я лишь скрипнул зубами в ответ.
Только мои близкие друзья называют меня Седым; для остальных же я — Джек Саммерс, и мои волосы всегда были такими. Я вдруг засомневался, достоин ли Генри Лэннинг статуса моего близкого друга лишь потому, что знает меня двадцать лет, — особенно сейчас, когда он проявил инициативу и разыскал эту штуку в мире с разреженной атмосферой, множеством скал, слишком ярким небом и именем, похожим на ЛСД, прочитанное наоборот, данным в честь Джорджа Дисела, который оставил здесь свой след и был таков — неглупый парень!
— Гора высотой в сорок миль — уже не гора, — наконец сказал я. — Это целый мир, который какое-то глупое божество забыло забросить на орбиту.
— То есть она тебя не заинтересовала?
Я посмотрел вниз на серые лавандовые склоны, снова поднял глаза — туда, где исчезал всякий цвет, оставляя место только черному зазубренному силуэту. Я задирал голову, пока не стало жечь в глазах под защитными очками, но вершины все равно не было видно. Я разглядел облака, клубившиеся вокруг ее недоступных склонов, — они были как айсберги, только в небе; я услышал вой отступающего ветра, который пытался объять ее величие в молниеносной лихой атаке — пытался безуспешно.
— Почему же, мне интересно, — сказал я, — но чисто в академическом плане. Давай-ка в город, там я смогу поесть, выпить и, если повезет, сломать ногу.
Он повел флайер на юг, и я больше не смотрел по сторонам. Я просто чувствовал ее присутствие за спиной весь полет: Серая Сестра, высочайшая гора во всей разведанной Вселенной. Непокоренная, конечно.
Я чувствовал ее присутствие в последующие дни, словно она отбрасывала тень на все, что попадалось мне на глаза.
Два дня я изучал фотографии, потом мне удалось откопать старые карты. Еще я поговорил с людьми, которые рассказали мне разные истории о Серой Сестре, очень странные истории.
За это время мне не удалось обнаружить ничего обнадеживающего. Правда, я узнал, что пару столетий назад была предпринята попытка колонизировать Дисел — еще до того, как появились корабли со скоростью выше скорости света. Однако неизвестный тогдашней науке вирус колонизировал самых первых колонистов, и они все погибли. Новому поселению исполнилось четыре года; новые врачи победили вирус, и люди решили остаться на Диселе, словно гордились своим дурным Вкусом в выборе мира для обитания. Как я узнал, никто особенно и не пытался связываться с Серой Сестрой. Было всего несколько попыток покорить ее, которые привели только к появлению новых легенд.
Днем небо здесь всегда было нестерпимо ярким. Оно терзало мои глаза до тех пор, пока я не начал надевать защитные очки всякий раз, когда выходил из гостиницы. В основном, однако, я сидел в баре, ел, пил, изучал фотографии и расспрашивал каждого, кто, проходя мимо, бросал хотя бы мимолетный взгляд на эти самые фотографии, разложенные на столе.
Я продолжал игнорировать Генри и его вопросы. Я знал, чего он хочет, но, черт подери, он мог и подождать! К несчастью, он так и делал; это получалось у него очень неплохо, что тоже раздражало меня. Он чувствовал, что я уже почти решился, и он хотел быть там, когда это случится. Он нажил состояние на покорении Касла, и я, глядя на хитрые морщинки вокруг его глаз, уже представлял, какими будут строки теперешней истории в его изложении. Всякий раз, когда его лицо становилось похожим на физиономию игрока в покер, когда он, опираясь о стол рукой, другой медленно поворачивал фотографию, я уже видел целые абзацы. Если бы я проследил за его взглядом, то наверняка увидел бы гордых покорителей гор в запыленных штормовках.
В конце недели с неба опустился корабль с какими-то невоспитанными людьми на борту, прервавшими ход моих мыслей. Когда они появились в баре, я сразу понял, что это за типы; тогда я снял свои темные очки, чтобы пронзить Генри взглядом василиска и обратить в камень. Но в тот момент в нем содержался слишком высокий процент алкоголя, так что у меня ничего не вышло.
— Ты предупредил прессу, — сказал я.
— Ладно, ладно, — отмахнулся он, съеживаясь и деревенея под моим взглядом, который пробрался-таки сквозь сумрачные джунгли его нервной системы к той маленькой серой опухоли, что служила ему мозгом, — ты слишком хорошо известен, и…
Я снова надел очки и сгорбился над бокалом, спрятав туда, как в ножны, смертельный клинок своего взгляда. Внезапно один из вошедшей троицы спросил:
— Простите, а вы, случайно, не Джек Саммерс? Чтобы как-то заполнить наступившую паузу, Генри сказал:
— Да, это Безумный Джек, который к двадцати трем годам покорил Эверест и все остальные возвышенности Земли, достойные упоминания. В тридцать один он стал единственным человеком, побывавшим на высочайшей вершине в исследованной Вселенной — пике Касла на Литани, высота 89 000 футов. В моей книге я…
— Да-да, — сказал репортер, — несомненно. Меня зовут Гарри, «ГП Инкорпорейтед». Мои друзья представляют два других синдиката. По слухам, вы собираетесь подняться на Серую Сестру.
— Ваши сведения неверны, — сказал я.
— Разве?
Два других репортера подошли поближе и встали рядом с ним.
— Мы думали, что… — начал один из них.
— …вы уже собираете группу, — закончил другой.
— Значит, вы не намерены штурмовать Серую Сестру? — спросил Гарри, пока один из подошедших разглядывал мои снимки, а другой собирался сделать свои.
— Стоп! — вскричал я, поднимая руку к объективу. — У меня от яркого света болят глаза.
— Извините. Я буду снимать в инфракрасном диапазоне, — сказал он и стал возиться со своей камерой.
Гарри повторил свой вопрос.
— Было сказано только, что эти слухи неверны, — ответил я. — Я не утверждал, что собираюсь туда, и не говорил, что не собираюсь. Я еще не решил.
— Если вы решите попытаться, когда предполагается начать восхождение?
— Извините, на этот вопрос я не могу ответить.
Генри отозвал всю троицу к стойке и стал объяснять что-то, отчаянно жестикулируя. До меня донеслись его слова: «…после четырехлетнего перерыва…» Ладно. Когда они снова поглядят на мой столик, меня уже там не будет.
Я вышел на улицу, где сгущались сумерки, и неторопливо двинулся вперед. И даже тогда, Линда, я ступал по ее тени. Серая Сестра звала меня и одновременно гнала прочь, делала какие-то непонятные знаки, не двигаясь при этом с места. Я смотрел на нее, такую далекую и все равно чудовищно огромную — полуночный перст в подступающем сумраке. Часы, оставшиеся до полной темноты, таяли, как расстояние до ее подножия, и я знал, что она будет следовать за мною повсюду, даже во сне. Особенно во сне.
И вот тут я наконец принял решение. В последующие дни я наслаждался игрой. Имитировать нерешительность, когда все ждут от тебя твердости, — большое удовольствие. Я смотрел на нее, мою последнюю и самую большую, и чувствовал, что рожден ступить на ее вершину. И тогда я смогу уйти на покой, может быть, даже еще раз женюсь, перестану сохранять форму, начну делать все то, чего раньше не делал и что стоило мне жены и дома, когда я отправился покорять пик Касла четыре с половиной года назад, в дни моей славы. Я смотрел на Серую Сестру, силуэт которой выступал мрачной тенью в сгущавшихся сумерках: она стояла и ждала — темная, гордая, недвижимая, — как стояла, наверно, вечность.
2
На следующее утро я разослал телеграммы. Словно космические почтовые голуби, полетели они через световые годы. Они летели к людям, которых я не видел несколько лет, и к тем, кто провожал меня с лунной станции. В каждой из них было одно и то же: «Если ты хочешь совершить свое самое главное восхождение, отправляйся на Дисел. Серая Сестра может скушать пик Касла на завтрак. Лодж. Джорджтаун. Седой».
Назад, поверни назад…
Я не сказал Генри. Совсем ничего не сказал. То, что я делал и куда собрался отправиться на некоторое время, было моим личным делом. Я вышел из гостиницы задолго до восхода, оставив у портье записку для Генри: «Уехал из города по делу. Вернусь через неделю. Удерживай крепость. Безумный Джек».
Я должен был изучить нижние склоны; фигурально говоря, пощупать подол ее юбки, прежде чем представлять друзьям. Говорят, что только безумец ходит в горы в одиночку, но ведь и прозвище они мне дали не просто так.
На моих фотографиях северный склон выглядел довольно многообещающим.
Я посадил взятый напрокат флайер так близко к подножию, как только мог, запер его и, взвалив на плечи рюкзак, двинулся в путь.
Горы поднимались слева и справа от меня, горы были сзади, черные, как смертный грех, в отступающем предрассветном сумраке. А впереди была даже не гора — длинный пологий склон, который тянулся в бесконечную высь. Яркие звезды светили над головой и холодный ветер бил в лицо, пока я шел вверх. Прямо передо мной, однако, не было звезд, а только чернота. В тысячный раз я задумался о том, сколько может весить такая гора. Это меня всегда интересовало.
На небе ни облачка. Полная тишина, которую нарушал только скрежет моих башмаков по камню. Очки болтались у меня на шее. Руки в перчатках вспотели. На Диселе мой рюкзак и я вместе весили, наверное, столько же, сколько я один на Земле, — и это меня очень радовало. Воздух при вдохе жег горло, а при выдохе расходился облачком пара. Я отсчитал тысячу шагов и, посмотрев назад, не смог разглядеть флайер. Отсчитал еще тысячу, взглянул вверх и увидел, что некоторые звезды уже погасли. Примерно через час мне пришлось надеть очки. К этому времени я уже видел дорогу. Ветер, казалось, крепчал.
Она была такой огромной, что я никак не мог окинуть ее взглядом. Я крутил головой, все больше отклоняясь назад. Вершины я не видел — слишком высоко в небо она уходила. На миг у меня возникло невероятное ощущение, что я стою наверху и смотрю вниз.
Еще два часа подъема, и я остановился перекусить. Это была прогулка, а не скалолазанье. Механически глотая куски, я раздумывал о том, как могла возникнуть Серая Сестра. Недалеко от нее, в часе полета, находилось несколько вершин, достигавших десяти — двенадцати миль, а на другом континенте — пик Бурка, высотой в пятнадцать миль, но их и сравнивать нельзя было с Серой Сестрой. Меньшее тяготение? Строение планеты? Я не знал. Интересно, что скажут Док, Келли и Малларди, когда увидят ее.
Однако мое дело — взбираться на горы, а не размышлять, как они появились на свет.
Я снова посмотрел вверх и узрел несколько облаков, частично закрывавших от меня Серую Сестру. Судя по фотографиям, которые я сделал с флайера, когда летал с Генри, у меня впереди был еще десяток или даже дюжина легких миль. Как подъем на большой холм. Наверняка здесь удалось бы выбрать несколько подходящих маршрутов. Я даже подумал, что все может быть гораздо проще, чем мне казалось сначала.
Эти мысли меня слегка взбодрили, и, запаковав свое хозяйство, я отправился дальше, предчувствуя хороший день.
Так и вышло. К полудню я набрел на что-то напоминающее тропу. Продолжительность дня на Диселе около девяти часов, и большую часть этого времени я провел в движении. Тропа оказалась такой удобной, что я шел по ней еще несколько часов после захода солнца и успел подняться на приличную высоту. К этому времени мне уже пришлось воспользоваться дыхательным оборудованием и включить обогрев костюма.
Звезды походили на большие блистающие цветы, путь был легким, ночь казалась дружественной. Я вышел на широкий плоский участок и разбил лагерь под выступом скалы.
Там я провел ночь, и мне снились снежные женщины, груди которых походили на Альпы, розовые в лучах восходящего солнца; и они пели мне, как ветер, и смеялись, а глаза их напоминали льдинки. Они убежали от меня по полю облаков.
На следующий день я поднялся еще выше. Тропа начала сужаться, местами она пропадала совсем, но вскоре появлялась снова. До сих пор идти вверх было легко и удобно. Тропинка шла все круче, но я по-прежнему мог спокойно продвигаться по ней. Мне удалось быстро пробежать по зигзагообразному пологому подъему и взобраться по широкой трубе. Ветер усиливался, и, если подъем станет сложнее, у меня возникнут серьезные проблемы. Теперь я уже все время дышал через респиратор и чувствовал себя пока что превосходно.
Я видел все далеко впереди. Подо мной лежали бесчисленные горы, как барханы в пустыне. Около вершин возникли ореолы горячих потоков воздуха. На востоке сверкало озеро Эмерик, темное и блестящее, как носок начищенного ботинка. Я прошел совсем рядом с выступающей скалой и оказался перед гигантской лестницей длиной по меньшей мере в тысячу футов. Поднявшись на последнюю ступеньку, я столкнулся с первым серьезным препятствием: гладкий, почти вертикальный участок скалы, высотой примерно в восемьдесят пять футов.
Обойти его было невозможно; пришлось лезть наверх. У меня ушло на это меньше часа, зато дальше опять стало полегче. Но тут меня атаковали тучи. Хотя подъем был совсем несложным, туман сильно мешал и тормозил мое движение вперед. Я хотел выбраться из облачной зоны еще до захода солнца, поэтому решил не останавливаться для еды.
Но тучи все не кончались. Я поднялся еще на тысячу футов, но плотная пелена тумана все еще окружала меня. Где-то внизу послышались раскаты грома. Вскоре, однако, туман начал рассеиваться, и я продолжил подъем.
Тут я решил взобраться вдоль трубы, конец которой едва мог различить; поэтому она показалась мне намного короче, чем зазубренный полумесяц другого разлома, черневшего слева. Это была ошибка.
Влажность там оказалась гораздо выше, чем я предполагал. И стены были скользкими. Но я упрямо сражался со скользившими башмаками и мокрыми стенками трубы до тех пор, пока, по моим расчетам, мне не осталось преодолеть около трети пути. К этому времени я уже изрядно выдохся.
Тут только я сообразил, что серьезно влип. То, что я считал концом трубы, вовсе не было таковым. Я прополз еще футов пятнадцать и понял, что лучше бы мне этого не делать. Вокруг начал клубиться туман, и я моментально промок. Я боялся спускаться вниз и боялся подниматься вверх — но не торчать же на одном месте вечно!
Если вы когда-нибудь услышите от человека, что он полз как улитка, не ругайте его за банальность сравнения. Отнеситесь к нему с состраданием и симпатией.
Я полз как улитка, вслепую, по бесконечной скользкой трубе. Если бы мои волосы, когда я только влезал в эту проклятущую дыру, уже не были седыми… Наконец я выбрался из тумана и увидел впереди клок яркого и недружелюбного неба, на которое решил пока не обижаться. Я стремился к нему из последних сил и, наконец, попал куда хотел.
Как только я вылез из трубы, то заметил футах в десяти выше небольшой уступ. Я взобрался на него и растянулся на камне. Мои мышцы дрожали от напряжения, и я заставил себя расслабиться. Выпил воды, съел немного шоколада и еще раз напился.
Минут через десять я встал. Землю уже не различить — только мягкая белая хлопковая верхушка облачного покрова колебалась подо мной. Я посмотрел вверх.
Поразительно. Вершины по-прежнему не было видно. И если не считать пары нелегких отрезков пути — таких, как последний, — идти было не трудней, чем по обычной лестнице. Теперь, однако, подъем становился сложнее. Впрочем, за этим я и лез сюда — для проверки самых опасных участков.
Я приготовил ледоруб и продолжил восхождение.
Весь следующий день я медленно продвигался вперед, не рискуя понапрасну; я периодически отдыхал, составлял карты и делал многочисленные фотографии. Дважды крутизна склона уменьшалась, и мне удалось в хорошем темпе одолеть семь тысяч футов. Теперь я был уже выше Эвереста и продолжал подниматься. Однако здесь появились места, где мне приходилось ползти, и участки, где понадобились веревки; иногда приходилось пользоваться пневматическим пистолетом, чтобы вбить крюк. (Если у вас возник вопрос, почему я не вспомнил о пистолете в трубе, — причин тут несколько: у меня могли лопнуть барабанные перепонки, я мог сломать ребро, ногу или просто свернуть себе шею.)
Перед самым закатом я оказался у длинного пологого подъема. Тут наступил момент разногласий с моим вторым, более осторожным «я». В записке Генри было сказано, что я вернусь через неделю. Заканчивался мой третий день в горах; мне хотелось подняться как можно выше и начать спуск на пятый день. Если я пойду по этому маршруту, то смогу одолеть еще тысяч сорок футов. А дальше, в зависимости от условий, у меня оставались шансы пятьдесят на пятьдесят достигнуть десятимильной отметки — прежде чем придется повернуть назад. Тогда я смогу лучше представить, что нас ждет на самом верху.
Осторожное «я» проиграло со счетом ноль — три, и Безумный Джек снова полез наверх.
Звезды были невероятно большими и яркими — мне казалось, что они могут меня обжечь. Ветер теперь не мешал — на такой высоте его просто не бывает. Пришлось усилить обогрев костюма, и я подумал, что, если бы ухитрился сплюнуть сквозь респиратор, плевок замерз бы, не достигнув земли. Я смог подняться даже выше, чем рассчитывал, и ночью разменял сорок тысяч футов.
Найдя подходящее место, я остановился на ночлег и выключил ручной маячок. Ночью меня посетил странный сон.
Невероятное существо из вишневого пламени стояло на склоне надо мной, Чем-то оно напоминало человека, но поза его казалась совершенно невозможной, и я сразу понял, что такое может происходить только во сне. Что-то из моей прошлой жизни шевельнулось во мне, и на какое-то мгновение я поверил, что передо мной Ангел Страшного Суда. Только в правой руке он держал огненный меч, а не трубу. Он простоял так целую вечность, направив острие меча в мою грудь. Сквозь него просвечивали звезды. И вдруг я услышал:
— Возвращайся назад.
Я не мог ответить; язык перестал повиноваться мне. А он повторил еще дважды:
— Возвращайся назад.
«Завтра», — подумал я во сне, и это, видимо, удовлетворило странное существо. Оно стало блекнуть и медленно исчезло, а меня окутала тьма.
На следующий день я лез наверх, как в свои лучшие годы. К полудню я достиг сорока восьми тысяч футов. Облака внизу разошлись, туман больше не закрывал землю плотным одеялом. Я снова мог видеть то, что осталось далеко внизу. Поверхность планеты лежала подо мной в темных и светлых заплатках. Сверху царили звезды.
Подъем был трудным, но я чувствовал себя превосходно. Я знал, что не успею подняться на десять миль — путь впереди был не менее сложным, а дальше скалы вздымались еще круче. Однако настроение у меня оставалось отличным и продолжало улучшаться по мере восхождения.
Нападение произошло с такой быстротой и яростью, что только в самый последний момент я сумел его отразить.
Голос из ночного сна загудел у меня в голове:
— Возвращайся назад! Возвращайся назад!
И она бросилась на меня с неба. Птица размером с кондора.
Только это была не птица. Эта штука лишь имела форму птицы… Огонь и статическое электричество!
И когда она помчалась на меня, я едва успел прижаться спиной к стене, стиснув в правой руке ледоруб.
3
Я сидел в маленькой темной комнате под ливнем крутящихся разноцветных пятнышек света. Ультразвук щекотал мой мозг. Я пытался расслабиться, чтобы дать возможность врачу снять мои альфа-ритмы. Где-то рядом бесшумные приборы регистрировали, обсчитывали и запоминали их.
Эта процедура заняла минут двадцать.
Когда все закончилось, врач пристал ко мне как банный лист. Я с трудом отбился.
— Отдайте мне запись, а счет пошлите Генри Лэннингу в Лодж.
— Я хочу обсудить с вами результаты обследования, — возразил он.
— Сюда на днях приезжает мой собственный специалист по энцефалоскопии. Отдайте мне запись, и все.
— Не было ли у вас недавно какой-нибудь травмы?
— Вот вы-то и должны ответить на этот вопрос. Что-нибудь обнаружили?
— И да и нет, — сказал он.
— Обожаю такие ясные ответы.
— Я не знаю, что для вас является нормой, — отпарировал он.
— Есть какие-нибудь прямые указания на мозговую травму?
— Не могу утверждать однозначно. Если вы расскажете мне, что с вами случилось и почему вас вдруг заинтересовала ваша энцефалограмма, тогда, возможно, мне будет легче…
— Кончайте, — сказал я. — Дайте сюда запись и пришлите чек.
— Вы беспокоите меня как пациент.
— Разве вы установили, что произошли какие-то патологические изменения?
— Не совсем… Но ответьте, если возможно, на такой вопрос: вы страдаете эпилепсией? Был ли у вас недавно припадок?
— Насколько я знаю, нет. А в чем дело?
— В вашей энцефалограмме есть отклонения, которые бывают при некоторых формах эпилепсии через несколько дней после припадка.
— Может ли удар по голове привести к такой же картине?
— Это крайне маловероятно.
— А что еще вызывает подобные явления?
— Электрический шок, глазная травма.
— Стоп, — сказал я и снял очки. — Насчет глазной травмы. Посмотрите-ка на мои глаза.
— Я, видите ли, не офтальмо… — начал он, но я прервал его:
— Мои глаза не выносят обычного света. Если бы я потерял очки и находился на ярком свету в течение трех-четырех дней, могло бы это привести к такому же эффекту?
— Может быть… — нерешительно начал он. — Да, пожалуй.
— Мне кажется, вы хотели еще что-то добавить?
— Я не уверен. Стоит еще раз снять энцефалограмму… Знай я, что с вами произошло, мне было бы легче сделать окончательные выводы.
— Извините, — сказал я. — Мне нужна запись сейчас.
Он разочарованно вздохнул и отвернулся.
— Хорошо, мистер Смит.
Проклиная злого гения горы, я вышел из больницы с записью моих альфа-волн в качестве талисмана. Мысленно я бродил в джунглях памяти в поисках призрачного меча в столбе дыма.
В Лодже меня уже караулили Лэннинг и журналисты.
— На что это было похоже? — спросил один из репортеров.
— Что вы имеете в виду?
— Гора. Вы ведь были на ней, не так ли?
— Нет комментариев.
— Как высоко вы поднялись?
— Нет комментариев.
— Что о ней можно сказать по сравнению с пиком Касла?
— Нет комментариев.
— У вас возникали сложности?
— Ответ тот же. Извините, мне нужно принять душ.
Генри последовал за мной в номер. Репортеры попытались было повторить его маневр, но я успел захлопнуть перед ними дверь.
Когда я побрился, вымылся и сел в кресло с бокалом и сигаретой в руках, Лэннинг задал свой любимый вопрос:
— Ну?
Я кивнул.
— Проблемы? Я опять кивнул.
— Непреодолимые? Я немного подумал.
— Может быть, и нет.
Он подлил себе виски. Потом повторил вопрос:
— Ты рискнешь?
Я понимал, что это — дело решенное. И чувствовал, что, даже если все остальные откажутся, я пойду один.
— Пока не знаю, — ответил я.
— Почему же?
— Там что-то есть, — объяснил я, — и оно не хочет, чтобы мы туда поднимались.
— Там кто-то живет?
— Не уверен, что это подходящее слово… Он опустил бокал.
— Что, черт возьми, случилось?
— Мне угрожали. И на меня совершили нападение.
— Угрожали? С тобой говорили? По-английски? — Он отставил бокал в сторону — явное свидетельство того, как серьезно он отнесся к моим словам. — Напали? Как?
— Я послал за Доком, Келли, Стэном, Малларди и Винсетом. Только что получил от них ответ. Все прибудут сюда. Мигель и датчанин не смогут, они шлют свои сожаления. Когда мы соберемся вместе, я расскажу, что со мной произошло. Но сначала я хочу переговорить с Доком. Так что сиди тихо, не порти себе нервы и ни в коем случае не передавай мои слова газетчикам.
Он допил виски.
— Когда они все соберутся?
— Недели через четыре, пять, — я пожал плечами.
— Довольно долго…
— При нынешних обстоятельствах, — сказал я, — других вариантов у нас нет.
— И что же мы пока будем делать?
— Есть, пить и созерцать Серую Сестру.
Он опустил веки, кивнул и потянулся за бутылкой.
— Начнем?
Было поздно. Я стоял один в поле с бутылкой в руке. Лэннинг уже ушел спать; вершину окружали грозовые тучи. Где-то далеко шумела буря, холодный, пронзительный ветер непрерывно менял очертания облаков.
— Гора, — прошептал я. — Гора, ты велела мне уйти прочь.
Загрохотал гром.
— Но я не могу, — продолжал я, отхлебнув из бутылки. — Я приведу к тебе самых лучших, самых сильных… Мы поднимемся по твоим склонам и постоим под звездами на твоей вершине. Я должен это сделать… Просто потому, что ты существуешь на свете. Никаких других причин. Ничего личного… После паузы я добавил:
— Нет, это неправда. Я человек и должен покорять горы, доказывая, что я не умру, хотя все люди смертны… Я меньше, чем мне хотелось бы, Сестра, а ты можешь сделать меня чем-то большим. Так что, наверное, личное здесь тоже есть. Единственное, что я умею делать, — это покорять горы. Теперь ты осталась последней — вызов моему искусству, которому я учился всю жизнь… Может быть, дело в том, что смертный человек ближе всего к бессмертию, когда он принимает вызов, когда ему удается преодолеть опасность. Момент победы — момент спасения. Я так жаждал этих минут… И последний триумф должен быть самым долгим — так, чтобы его хватило до конца жизни.
Мы стоим рядом, Сестра, — ты и я, простой смертный… Ты повелела мне уйти, но я не могу. Я приду к тебе, и, если ты захочешь убить меня, попробуй. Вот так-то.
Я допил свою бутылку.
Снова засверкали молнии и ударил гром.
— Это почти божественное опьянение, — сказал я грому.
И тогда она подмигнула мне: вдруг высоко над ней загорелась алая звезда. Ангельский меч. Крыло Феникса. Душа в огне. Она подмигнула мне через сотни миль. А потом ветер, что веет меж миров, подул на меня. Он был наполнен слезами и кристаллами льда. Я стоял и впитывал его.
— Не уходи, — попросил я и, не отрываясь, продолжал смотреть вдаль, пока снова не опустилась тьма; тогда я вдруг понял, что стою мокрый, как неродившийся эмбрион.
Многие мальчишки сами сочиняют себе придуманные биографии, которые им нравятся больше, чем настоящая жизнь. Когда эти истории излагаются приятелям, те или чувствуют восторг, или отвечают еще более грандиозным и изысканным враньем. Малыш Джимми, как мне рассказывали, всегда внимал своим друзьям с широко раскрытыми глазами; правда, ближе к концу их историй уголки его рта начинали подрагивать. Когда же они заканчивали, его веснушки расползались в широкую ухмылку, а рыжая голова наклонялась набок. Любимым выражением его было, как я понял, «заливаешь!», и ему дважды ломали нос — еще до того, как Джимми исполнилось двенадцать. Именно поэтому, без сомнения, он и обратился к книгам.
Тридцатью годами и четырьмя научными степенями позже он сидел напротив меня в моем номере в Лодже, и я называл его Док, потому что все его так называли — ведь он владел документом, дававшим право резать и врачевать людей; причем не только их тела, но и души. К тому же он выглядел так, что его следовало называть именно Док, — особенно в те моменты, когда ухмылялся, склоняя голову набок, и говорил: «Заливаешь!»
Мне тоже хотелось стукнуть его в нос.
— Черт возьми! Это правда! — говорил я ему. — Я сражался с огненной птицей!
— У всех нас были галлюцинации на Касле, — возразил он, загибая палец. — Во-первых, из-за переутомления, во-вторых, потому что высота влияла на наше восприятие и, стало быть, на наш мозг, — еще два пальца, — и, наконец, вследствие перевозбуждения и кислородного опьянения. — Он потряс кулаком.
— На этой руке ты уже загнул все пальцы. Если ты оставишь другую в покое, то у тебя будет возможность дослушать до конца, — сказал я. — Она налетела на меня, и я взмахнул ледорубом… Однако она свалила меня с ног и разбила очки. Когда я пришел в себя, ее не было, а я лежал на уступе. Думаю, это существо состояло из чистой энергии. Ты видел мою энцефалограмму, там есть отклонения от нормы. Я полагаю, что испытал шок, когда оно коснулось меня.
— Ты потерял сознание от того, что ударился головой о камень…
— Это из-за нее я упал на камень!
— С этим я согласен. Камень был настоящим. Но нигде во Вселенной никогда не встречались такие «энергетические существа».
— Ну и что? Тысячу лет назад ты то же самое мог бы сказать об Америке.
— Вполне возможно. Но я согласен с выводами врача, снимавшего энцефалограмму. Травма глаз. Зачем придумывать экзотические объяснения там, где имеются очевидные? Простые объяснения чаще всего оказываются верными. У тебя была галлюцинация, ты споткнулся и упал.
— Хорошо, — сказал я, — всякий раз, когда я начинаю с тобой спорить, мне требуются вещественные доказательства. Подожди минуточку.
Открыв шкаф, я достал с верхней полки пакет и положил его на кровать.
— Я говорил тебе, что взмахнул ледорубом, — мои пальцы трудились над тугим узлом. — Так вот, я ее задел — и сразу же потерял сознание. Смотри!
У меня в руках был ледоруб. Казалось, он побывал в открытом космосе: коричневые, желтые и черные пятна, металл выщербленный.
Док взял ледоруб и долго смотрел на него, потом начал говорить что-то насчет шаровой молнии, передумал и, покачав головой, бросил ледоруб на одеяло.
— Не знаю, — наконец сказал он, и на этот раз веснушки не поплыли в разные стороны, а остались на месте, и только побелевшие костяшки переплетенных пальцев выдавали его напряжение.
4
Мы планировали предстоящее восхождение. Чертили карты и, изучая фотографии, прокладывали маршрут. Мы составили график пути и приступили к тренировкам.
Хотя Док и Стэн были в хорошей форме, ни один из них после Касла не участвовал в восхождениях. Келли выглядел превосходно. Генри начал прибавлять в весе. Малларди и Винс, как всегда, были способны перенести чудовищные нагрузки и при этом сохраняли прежнюю ловкость. За прошедшие годы они совершили пару восхождений, однако в последнее время не отказывали себе ни в чем, так что небольшая разминка им бы не помешала. Мы выбрали удобный, приличных размеров пик, и за десять дней напряженных тренировок все восстановили свою прежнюю форму. Затем мы перешли на витамины, гимнастику и специальную диету, завершая последние приготовления. Док изготовил из какого-то сплава семь блестящих коробочек размерами шесть на четыре дюйма и тонких, как первая книжка начинающего поэта, и дал каждому из нас для защиты от энергетических птиц, в существование которых он не верил.
В одно прекрасное и горькое утро мы были готовы. Репортеры опять горячо полюбили меня. Нашу бравую компанию непрерывно фотографировали, пока мы грузились во флайеры, чтобы добраться к подножию Серой Сестры; там наша испытанная команда, собравшаяся в таком составе, несомненно в последний раз, должна была двинуться на штурм серых лавандовых склонов, освещенных ослепительными лучами солнца.
Мы приблизились к горе, и опять я подумал о том, сколько же может весить такая громада.
Я уже рассказывал о первых девяти милях подъема. Не буду повторяться. У нас ушло на это шесть дней и часть седьмого. Ничего необычного не случилось. Туман и неприятные холодные ветры остались далеко позади.
Стэн, Малларди и я стояли, дожидаясь Дока и остальных, в том месте, где на меня напала огненная птица.
— Пока наше восхождение напоминает мне пикник, — сказал Малларди.
— Угу, — пробурчал Стэн.
— И никаких птиц.
— Да, — согласился я.
— Ты не думаешь, что Док прав, утверждая, что у тебя были просто галлюцинации? — спросил Малларди. — Пожалуй, на Касле мне тоже мерещились подобные штуки…
— Насколько я помню, — сказал Стэн, — это были нимфы в океане пива. А кому захочется добровольно встречаться с огненными птицами?
— Это уж точно.
— Смейтесь, гиены, — сказал я. — Подождите, посмотрю я на вас, когда прилетит целая стая.
К нам присоединился Док и стал оглядываться по сторонам.
— То самое место? Я кивнул.
Он измерил уровень радиации и кучу еще каких-то параметров, но не нашел ничего необычного, затем что-то проворчал и взглянул наверх.
Мы сделали то же самое. А потом начали подниматься.
Три дня подъем был очень тяжелым, и нам удалось пройти только пять тысяч футов.
Когда мы расположились на ночлег, все так устали, что сон пришел очень быстро. Как и возмездие.
Он пришел опять, только стоял на сей раз не так близко. Он пламенел футах в двадцати, паря в воздухе и направляя на меня острие своего меча.
— Уходи, — повторил он трижды без всякого выражения.
— Убирайся к дьяволу, — попытался сказать я в ответ.
Он попробовал сделать шаг вперед. Но не сумел.
— Спускайся. Отступи. Тебе нельзя идти дальше.
— И не мечтай, я все равно полезу наверх. До конца, до самой вершины.
— Нет. Идти дальше нельзя.
— Подожди, и ты увидишь.
— Возвращайся назад.
— Если ты собираешься торчать здесь и следить за нашим продвижением, это твое дело, — сказал я ему. — А я буду спать.
Я подполз к Доку и потряс его за плечо, но, когда я взглянул назад, мой пылающий посетитель исчез.
— В чем дело?
— Слишком поздно, — прошептал я. — Он был здесь и исчез.
Док сел.
— Птица?
— Нет, существо с мечом.
— Где оно стояло?
— Вон там, — я показал рукой.
Док достал свои инструменты и минут десять производил измерения.
— Ничего, — произнес он наконец. — Может быть, тебе это приснилось?
— Угу, точно, — ответил я. — Спокойной ночи, — с этими словами я улегся спать, и на этот раз спал спокойно до утра без огненных визитеров.
Через четыре дня мы добрались до отметки в шестьдесят тысяч футов. Мимо нас стали проноситься камни, как артиллерийские снаряды, а небо напоминало огромный прохладный бассейн, где плавали бледные цветы. Когда мы поднялись на шестьдесят три тысячи футов, двигаться вперед стало заметно легче, и за два с половиной дня мы добрались до высоты семьдесят пять тысяч. Никакие огненные штуки не заявлялись ко мне с требованиями повернуть назад. А затем появились непредвиденные трудности, совершенно естественные проблемы, которых нам хватало с лихвой и без огненных гостей. Мы вышли на большой горизонтальный выступ.
Он был, наверное, четыреста футов шириной. Когда мы начали пересекать его, оказалось, что он не примыкает естественным образом к склону горы, а обрывается вниз, в огромную расщелину. Стало ясно, Что нам придется спуститься вниз футов на семьсот, прежде чем мы сможем опять двигаться к вершине. Хуже того, дальше нас ожидал подъем по гладкому, почти вертикальному участку, который тянулся на мили. А вершины все еще не было видно.
— Ну, куда же мы тронемся? — спросил Келли, приближаясь ко мне.
— Вниз, — решил я. — И нам придется разделиться. Мы пойдем вдоль большой расщелины в разных направлениях, чтобы посмотреть, какой путь лучше. Встретимся на середине дороги.
Мы стали спускаться. Док, Келли и я пошли налево, остальные — в другую сторону.
Через полтора часа наша тропа кончилась. Мы стояли на уступе, а под нами была пустота. Нам нигде не удалось найти хоть какую-то возможность для подъема, Я лег на край, свесив голову и плечи вниз — Келли держал меня за ноги, — и постарался заглянуть как можно дальше направо и вверх. Ничего подходящего мне увидеть не удалось.
— Надеюсь, остальным повезло больше, — сказал я, когда Келли с Доком вытащили меня назад.
— А если нет? — спросил Келли.
— Давайте подождем.
Они нашли. Правда, довольно рискованный вариант.
Нигде не было удобного пути, ведущего непосредственно из расщелины наверх. Тропа кончалась у сорокафутовой стены, поднявшись на которую можно было бросить взгляд вниз. Свесившись над пропастью, как это делал я, Малларди смог рассмотреть, что делается футов на двести влево и на восемьдесят вверх; но, в отличие от меня, он нашел более или менее подходящий маршрут, ведущий на запад и вверх и исчезающий в неизвестности.
Мы переночевали в расщелине. Утром я укрепил страховочный конец в скале и с помощью пневматического пистолета полез на стену. Док страховал меня. Дважды я сорвался, но к полудню смог проделать тропу на сорок футов. Потом я остался врачевать свои синяки, а Генри сменил меня. Через десять футов на смену ему пошел Келли, и мы все страховали его. Потом пришел черед Стэна и Малларди. Тогда на стене должны были находиться сразу трое, потом четверо. К закату мы поднялись на сто пятьдесят футов и все покрылись мелкой белой пылью. Было самое время принять ванну. Мы заменили ее ультразвуковым душем.
На следующий день к обеду мы все были на стене, связанные вместе, и, обнимая холодный камень, медленно, с трудом ползли наверх, стараясь не глядеть в пропасть.
К концу дня мы закончили самый трудный участок; дальше уже можно было за что-то цепляться руками и чувствовать нечто под подошвами башмаков — правда, не слишком много. И этого было явно недостаточно, чтобы продолжать путь в темноте. На ночь нам пришлось еще раз вернуться в расщелину.
Утром мы прошли стену.
Наш путь вел круто вверх и на запад.
Мы прошли милю и поднялись при этом на пятьсот футов. Преодолев еще милю, мы поднялись футов на триста.
Потом футах в сорока над нами оказался выступ. Стэн проделал этот сложный подъем, пользуясь пистолетом, чтобы посмотреть, что нас ждет дальше.
Он жестами позвал нас к себе, и мы последовали за ним; то, что мы увидели, вполне нас устроило.
Прямо перед нами располагалось место для лагеря, хоть и несколько неровное, но зато достаточно широкое.
Путь наверх был превосходным — обслуживание по высшему классу, утренний кофе в постель и сигара после обеда. Склон уходил вверх под утлом градусов в семьдесят, с большим количеством маленьких уступов; хороший, чистый камень.
— Полный порядок! — воскликнул Келли.
Никто не стал ему возражать.
Как следует перекусив, мы решили весь день посвятить отдыху. Теперь мы находились в сумеречном мире, разгуливая там, где еще не ступала нога человека, и остро ощущали свою уникальность. Было здорово просто вытянуться, расслабиться и попытаться забыть про свои синяки.
Я проспал весь день, а когда проснулся, небо было усыпано тлеющими огоньками. Я лежал, и мне не хотелось шевелиться; сон тоже пропал — столь великолепным был вид простиравшихся надо мной небес Пролетел метеор, оставляя за собой бело-голубой след. Потом еще один. Я обдумал наше положение и решил, что игра стоила свеч. Холодное, жесткое, прекрасное ощущение высоты охватило меня. Я пошевелил пальцами ног.
Через несколько минут я потянулся и сел. Посмотрел на своих спящих товарищей. Затем попытался заглянуть в самую глубину ночи. А потом посмотрел вверх на гору и медленно проверил наш завтрашний маршрут.
В тени я уловил какое-то движение. Что-то находилось в пятидесяти футах слева от меня и десятью футами выше.
Я взял свой ледоруб и встал.
Прошел пятьдесят футов влево и посмотрел вверх.
Она улыбалась, а не пылала огнем.
Женщина, невероятная женщина!
Абсолютно нелепо! Во-первых, она бы замерзла до смерти в мини-юбке и кофточке без рукавов. Иначе и быть не могло! Во-вторых, как она тут дышала?
Но, похоже, все эти проблемы ее мало волновали. Она помахала мне рукой. У нее были темные длинные волосы, но глаз я различить не мог. Гладкие бледные щеки, широкий лоб, маленький подбородок формировали тот образ, который удовлетворял простым теоремам, определяющим геометрию моего сердца. Если все углы, поверхности, кривые будут верными, оно пропустит пару ударов, чтобы забиться с новой силой.
Я проверил, убедился, что сердце забилось сильнее, и сказал:
— Привет!
— Привет, Седой, — ответила она.
— Спускайтесь вниз, — предложил я.
— Нет, ты поднимайся сюда.
Я взмахнул ледорубом. Когда я взобрался на уступ, ее уже там не было. Я огляделся и снова увидел ее. Она сидела на камне в двенадцати футах надо мной.
— Откуда вы знаете мое имя? — спросил я.
— Любому видно, каким должно быть твое имя.
— Хорошо, — согласился я, — а вас как зовут? Казалось, ее губы шевельнулись, но я ничего не услышал.
— Повторите, пожалуйста.
— Мне не нужно имя, — ответила она.
— Хорошо. Я буду называть вас «девушка». Она как будто засмеялась.
— Что вы здесь делаете? — спросил я.
— Наблюдаю за тобой.
— Зачем?
— Чтобы увидеть, сорвешься ли ты.
— Могу вам заранее сообщить результат. Не сорвусь.
— Возможно, — произнесла она с некоторым сомнением.
— Спускайтесь сюда.
— Нет, ты поднимайся ко мне.
Я снова полез к ней, но, когда добрался, она поднялась еще на двадцать футов.
— Девушка, вы здорово лазаете по горам, — сказал я. Она засмеялась и отвернулась.
Минут пять я преследовал ее, но догнать не мог. Было что-то сверхъестественное в том, как она двигалась.
— Вы, наверное, не хотите, чтобы я присоединился к вам, — сказал я.
— Конечно же, хочу, но сначала поймай меня. — И она снова отвернулась, а я почувствовал, что начинаю злиться.
Было написано не раз, что никто не может победить Безумного Джека в горах. И это было правдой.
Я взмахнул ледорубом и помчался вверх, как ящерица.
Пару раз я почти настиг ее, но лишь почти.
У меня начали болеть натруженные мышцы, но я двигался не сбавляя скорости. В какой-то момент я заметил, что лагерь остался далеко внизу и что я карабкаюсь один по незнакомому склону в темноте. Но это меня не остановило. Наоборот, я еще увеличил скорость; мое дыхание начало сбиваться. Мне почудился ее смех — это еще больше подстегнуло меня. Потом я оказался перед двухдюймовым карнизом, она уже шла по нему. Я пошел вслед вокруг большого выступа скалы — до самого конца карниза. И вдруг она очутилась в девяноста футах надо мной, на вершине острой башенки почти идеальной конической формы. Как девушка смогла попасть туда, я не знал. Дыхание с хрипом вырывалось из моей груди, но я достал веревку, закинул ее и начал взбираться вверх.
— Ты что, никогда не устаешь, Седой? Я думала, ты уже выдохся.
Я перехватил веревку и полез дальше.
— Тебе не забраться сюда, ты же знаешь.
— Не знаю, — прохрипел я.
— Почему ты так хочешь покорить именно эту гору? Есть ведь и другие прекрасные вершины.
— Она самая большая. Вот почему.
— Это невозможно.
— Тогда о чем вам беспокоиться, к чему отговаривать меня? Пусть гора сама разберется со мной.
Когда я стал приближаться к ней, она исчезла. Я добрался до вершины, где она стояла, и в изнеможении опустился на колени.
Тогда я снова услышал ее голос и повернул голову. Она стояла на каменном козырьке футах в восьмидесяти от меня.
— Я не думала, что ты заберешься так высоко, — сказала она. — Ты глупец. До свидания, Седой.
И исчезла.
Я сидел на вершине скалы — она была совсем крошечной, не больше четырех квадратных футов — и понимал, что не смогу уснуть здесь — упаду. А я так устал…
Я припомнил все свои излюбленные проклятья и произнес их подряд, одно за другим, но лучше мне не стало. Спать нельзя. Бросив взгляд вниз, я понял, что мне предстоит длинный путь. Я знал: она думала, что мне его не преодолеть.
Я начал спускаться.
Когда на следующее утро они разбудили меня, я по-прежнему чувствовал усталость. Я рассказал им сказку о своих ночных похождениях, но они не верили мне. До тех пор, пока мы не обогнули выступ скалы и я не показал им башенку, которая, как одинокое голое дерево без веток, возвышалась на девяносто футов в прозрачном утреннем воздухе…
5
Следующие два дня мы медленно продвигались вверх и одолели почти десять тысяч футов. Затем у нас ушел целый день на штурм мощной шестисотфутовой стены. Далее наш маршрут пролегал вправо и вверх. Вскоре мы уже продолжали восхождение по западному склону горы. На высоте девяноста тысяч футов мы остановились, чтобы поздравить друг друга с тем, что уже прошли больше, чем при восхождении на пик Касла; однако было нелишним напомнить, что нам еще предстоит больше половины пути. Мы поднимались в хорошем темпе два с половиной дня; земля расстилалась под нами, как географическая карта.
А ночью мы все увидели существо с мечом.
Оно подошло и встало перед нашим лагерем, подняв над головой меч, и оно светилось с такой интенсивностью, что мне пришлось опустить очки на глаза.
На сей раз его голос рокотал подобно раскатам грома.
— Вон с этой горы! — сказало существо. — Сейчас же! Поворачивайте назад! Спускайтесь вниз! Отступите!
А потом дождь камней посыпался сверху. Док метнул свою тонкую сверкающую коробочку, и она заскользила по скале к существу.
Свет померк, мы остались одни.
Док подобрал коробку и сделал замеры, получив те же результаты, что и раньше, — то есть никаких. Но теперь он, во всяком случае, не думал, что я свихнулся. Конечно, он мог прийти к выводу, что мы все тут не в своем уме.
— Не очень-то эффективный страж, — прокомментировал Генри.
— У нас впереди еще немалый путь, — сказал Винс и швырнул камень туда, где только что стояло существо с мечом. — Не сладко нам придется, если это создание умеет устраивать обвалы.
— Ну пока что он швырнул всего лишь несколько камешков, — усмехнулся Стэн.
— Угу… А что будет, если он начнет бросать их, поднявшись на пятьдесят тысяч футов?
— Помолчи лучше! — сказал Келли. — Не надо давать ему никаких идей. Он, может быть, нас сейчас слушает.
Мы почему-то придвинулись поближе друг к другу. Док заставил каждого из нас описать то, что мы видели, и выходило, что видели все одно и то же.
— Хорошо, — сказал я, когда мы закончили сравнивать впечатления, — теперь, когда вы все видели это существо, кто хочет повернуть назад?
Все молчали.
Через несколько секунд Генри сказал:
— Я хочу заполучить эту историю. Похоже, она выйдет интересной. Ради нее я готов рискнуть и встретиться еще раз с сердитыми энергетическими существами.
— Не знаю, что это, — задумчиво произнес Келли. — Может быть, вовсе и не энергетическое существо. Может быть, что-то сверхъестественное… Да-да, я знаю все, что ты хочешь мне сказать, Док. Я просто говорю о том, какое впечатление оно произвело на меня. Если такое вообще существует на свете, здесь для него самое подходящее место. Но главное вот в чем — мне не страшно, откуда бы ни взялась эта чертовщина. Я хочу покорить гору. Если бы это создание могло остановить нас, оно бы так и сделало. Возможно, я ошибаюсь, и оно сумеет как-то нам помешать… Или уже устроило ловушку где-нибудь повыше. Но мне необходима эта вершина. Сейчас она значит для меня больше, чем все остальное на свете. Если я отступлю, то буду постоянно думать о ней и рано или поздно все равно вернусь сюда. Только тогда вряд ли я смогу рассчитывать на вас. Мы не должны отступать, у нас отличная команда, лучшая из всех. И если вершину Серой Сестры можно покорить, я думаю, мы на это способны.
— Согласен, — кивнул Стэн.
— То, что ты сказал, Келли, — начал Малларди, — насчет сверхъестественных сил, — очень забавно, потому что у меня возникли схожие ощущения в тот момент, когда я смотрел на него. Он напомнил мне кое-что из Божественной комедии. Если помните, гора-Чистилище. И потом я подумал об ангеле, который охранял восточную дорогу в Рай. По Данте, Рай находился на вершине Чистилища — и перед входом стоял ангел… Так или иначе, я чувствовал, что, находясь здесь, я совершаю какой-то грех, сущность которого мне не до конца понятна. Но теперь я еще раз все обдумал и считаю, что человека нельзя обвинять в грехах, о которых ему ничего не известно, не так ли? И я не видел, чтобы это существо предъявило какие-нибудь доказательства того, что оно — ангел. Я хочу идти дальше и посмотреть, что творится там, наверху, — если только он не вернется со скрижалями, на которых будет дописана еще одна заповедь.
— На иврите или итальянском? — с любопытством спросил Док.
— Чтобы удовлетворить тебя, я полагаю, она должна быть начертана в виде уравнений.
— Нет, — сказал Док. — Шутки в сторону, я тоже почувствовал что-то странное, когда увидел и услышал его. И знаете, мы ведь не воспринимали речь в прямом смысле слова. Его слова возникали прямо у нас в мозгу. Если вы вспомните, как каждый из вас описывал «услышанное», то выяснится, что каждый «услышал» приказ убираться отсюда, сформулированный по-разному. Итак, оно способно телепатически транслировать речь… Но вот что интересно — может ли оно передавать еще и чувства? — Он повернулся ко мне. — Ты ведь тоже подумал об ангеле, Седой?
— Да, — кивнул я.
— Получается, что мы все мыслили почти одинаково, — удовлетворенно произнес Док.
Тут мы повернулись к Винсу, потому что он единственный из нас не имел никакого отношения к христианству: он родился и воспитывался на Цейлоне и был буддистом.
— А что почувствовал ты? — спросил у него Док.
— Это было Божество, — ответил Винс, — которое, я думаю, похоже на ангела. У меня возникло ощущение, что с каждым шагом вверх я получаю столь плохую карму, что ее хватило бы до конца моей жизни. Только я перестал верить в такие штуки, еще когда был ребенком. Я хочу идти дальше. Даже если мои ощущения верны, я все равно хочу увидеть вершину этой горы.
— И я тоже, — сказал Док.
— Получается, что решение принято единогласно, — подвел я итог.
— Ладно, пусть каждый лелеет своего персонального ангела, — усмехнулся Стэн. — А сейчас пошли спать.
— Хорошая мысль.
— Только давайте ляжем подальше друг от друга, — предложил Док. — По крайней мере, если что-нибудь упадет сверху, нас не накроет всех сразу.
Мы устроились, как предлагал Док, и проспали спокойно до самого утра; больше нас никто — или ничто — не потревожило.
Наш путь продолжал вести вправо, пока мы не поднялись на высоту сто сорок четыре тысячи футов и не оказались на южном склоне. Далее мы стали отклоняться влево и на уровне ста пятидесяти тысяч футов снова вышли на западный склон.
А потом, во время дьявольски сложного и коварного подъема по гладкой вертикальной скале, заканчивающейся нависающим козырьком, снова появилась птица.
Не иди мы в общей связке, Стэн бы, наверное, погиб. Собственно, мы все чуть не погибли.
Стэн был ведущим в связке, когда ее огненные крылья появились на фоне фиолетового неба. Птица камнем упала из-за козырька, как будто кто-то пустил огненную стрелу прямо в Стэна. Мгновение — и она растаяла футах в двенадцати от него. Стэн упал и чуть не утащил нас всех за собой.
Мы напрягли мышцы и смягчили, как могли, его падение.
Он сильно ушибся, но обошлось без переломов. Мы взобрались на козырек, но дальше в тот день решили не подниматься.
Камни падали на нас, но мы нашли другой козырек и укрылись под ним.
Птица больше не возвращалась, но зато появились змеи.
Большие танцующие алые пресмыкающиеся обвивались кольцами вокруг камней и стремительно надвигались на нас через зазубренные ледяные глыбы. Искры летели от их длинных изгибающихся тел. Они свивались в кольца и, вытягиваясь почти во всю длину, плевали в нас огнем. Казалось, они хотели выгнать из-под козырька всю группу, чтобы на нас можно было обрушить град камней.
Док осторожно придвинулся к ближайшей змее и направил на нее поле отражателя — змея исчезла, Он внимательно изучил место, где она только что извивалась, и быстро вернулся к нам.
— Лед остался нетронутым, — сказал он.
— Что? — спросил я.
— Ни кусочка льда не растаяло.
— Вывод?
— Иллюзия, — предположил Винс и бросил камнем в другую змею. Камень пролетел сквозь нее.
— Но ты видел, что случилось с моим ледорубом, — напомнил я, — когда я ударил им эту птицу. Видимо, она обладала электрическим зарядом.
— Может быть, тот, кто посылает все эти штуки, решил, что только зря тратит энергию, — ответил Док, — раз им все равно до нас не добраться.
Мы сидели и смотрели на пляску змей и падающие камни, пока Стэн не извлек колоду карт и не предложил более интересную игру.
Змеи остались на ночь и сопровождали нас весь следующий день. Камни продолжали периодически падать, но было похоже, что запасы у нашего противника подходят к концу. Снова появилась птица и стала кружить над нами. Четырежды она пыталась атаковать, но мы не обращали на нее внимания, и она в конце концов улетела домой на свой насест.
Мы одолели три тысячи футов и могли бы сделать больше, но решили остановиться на удобном выступе с уютной пещерой, где все могли разместиться на ночь. Казалось, наш противник исчерпал свои возможности. Во всяком случае, видимые.
Однако у нас появилось предчувствие, что буря неминуема. Напряжение росло и росло, а мы сидели и ждали, когда случится то, что должно было случиться.
Но произошло худшее: все было спокойно.
Наше напряженное ожидание так и не оправдалось. Я думаю, если бы невидимый оркестр начал играть Вагнера… Или если бы небеса раздвинулись, как занавес, и появился киноэкран, и по буквам, написанным там наоборот, мы бы поняли, что находимся по другую сторону от него… Или если бы мы увидели летящего высоко дракона, пожирающего метеоспутники…
А так нас не оставляло предчувствие, что над нами нависла какая-то угроза, и я мучился бессонницей.
Ночью она появилась снова. Девушка с башенки.
Она стояла у входа в пещеру и, когда я приблизился, отступила. Я встал на место, где только что была она.
Девушка сказала:
— Привет, Седой.
— Нет, на этот раз я не собираюсь гоняться за тобой, — предупредил я.
— А я и не приглашаю.
— Что девушка вроде тебя может делать в подобном месте?
— Наблюдать, — сказала она.
— Я же сказал тебе, что не упаду.
— Твой друг — он чуть не свалился вниз.
— Чуть не считается.
— Ты их лидер, не правда ли?
— Правда.
— Если ты погибнешь, остальные повернут назад.
— Нет, — ответил я. — Они пойдут дальше без меня. Тут я нажал кнопку своей камеры.
— Что ты сейчас сделал? — спросила она.
— Сфотографировал тебя, чтобы узнать, существуешь ли ты на самом деле.
— Зачем?
— Я буду смотреть на твою фотографию, когда ты уйдешь. Я люблю смотреть на красивые вещи.
Она, казалось, что-то произнесла.
— Что?
— Ничего.
— Почему ты не хочешь говорить?
— …умрет, — сказала она.
— Пожалуйста, погромче.
— Она умирает.
— Почему? Как?
— …на горе.
— Я не понимаю.
— …тоже.
— Что случилось?
Я сделал шаг вперед, и она отступила на один шаг.
— Ты пойдешь за мной? — спросила она.
— Нет.
— Возвращайся. — Ей нельзя было отказать в настойчивости.
— А что на другой стороне пластинки? — Ты будешь продолжать подъем?
— Да.
— Хорошо! — неожиданно кивнула она. — Я… — И она снова замолчала. — Возвращайся, — наконец равнодушно произнесла она.
— Извини.
И она исчезла.
6
Наш путь снова стал медленно заворачивать влево. Мы ползли, распластавшись по стене, забивая костыли в скалу. Огненные змеи шипели неподалеку. Теперь они постоянно сопровождали группу. В критические моменты появлялась птица, чтобы заставить кого-нибудь сделать неверное движение. Разъяренный бык стоял на карнизе и ревел на нас. Призрачные лучники пускали огненные стрелы, которые всегда рассыпались искрами перед тем, как ударить в цель. Сверкающие вихри налетали и исчезали среди камней. Мы снова поднимались по северному склону и продолжали смещаться на запад, когда достигли отметки ста шестидесяти тысяч футов. Небо было глубоким и голубым, и теперь на нем всегда горели звезды. «Почему гора так ненавидит нас? — думал я. — Что в нашем поведении разозлило ее?» В который раз я смотрел на фотографию девушки и думал, что же она такое на самом деле. Являлась ли она порождением моего мозга, которому гений горы придал форму девушки, чтобы соблазнять нас, подталкивать, вести, звать, как сирена, к месту нашего последнего падения? Падать было далеко…
Я стал думать о своей жизни. Почему человек начинает ходить в горы? Может быть, его влечет высота, потому что он боится оставаться внизу? Неужели он так плохо чувствует себя в обществе людей, что хочет непременно оказаться над ними? Путь вверх труден и долог, но если он будет успешным, то впереди тебя ждет какая-то награда. А если ты сорвешься, то наградой будет слава. Закончить свое существование, упав с колоссальной высоты вниз, разбиться вдребезги — вот подходящая кульминация для проигравшего… и она тоже потрясет и горы, и умы, заставит многих задуматься, потому что в каждом поражении можно обрести победу. Таким холодом веет от подобного финала, что жизнь замирает навсегда, превращаясь в памятник вечному стремлению к цели, на чьем пути всегда встает вселенское зло, о существовании которого мы все догадываемся. Кандидат в святые герои, у которого отсутствуют какие-либо необходимые добродетели, все равно может сойти за мученика, так как единственное, что в конце концов остается в памяти людей, — это факт его гибели. Я знал, что должен подняться на пик Касла — так же, как поднимался на все предыдущие вершины, — и знал, какую цену мне придется заплатить: я потерял дом и семью. Но недоступная гора тянулась к небесам, и мой ледоруб сам рвался мне в руки. Я знал, что, когда он ляжет отдохнуть на вершине Касла, целый мир внизу перестанет для меня существовать. Но что такое мир в сравнении с мгновеньем победы? И если красота, правда и добро — единое целое, то почему между ними всегда неразрешимые конфликты?
Призрачные лучники стреляли в меня, яркая огненная птица раз за разом бросалась в атаку. Я сжимал зубы, а мой ледоруб вгрызался в скалы.
Мы увидели вершину.
На высоте ста семидесяти шести тысяч футов, поднимаясь по узкому выступу скалы, простукивая ледорубами путь, мы услышали крик Винса:
— Смотрите!
Мы посмотрели.
Вверх и вверх, и еще выше, голубая от мороза, острая, холодная и смертельная, похожая на кинжал дамасской стали, вспарывала она небо, зависала, как лезвие замерзшего грома, и врезалась, врезалась, врезалась в душу, поворачивалась и превращалась в рыболовный крючок, которым притягивала нас к себе, чтобы сжечь.
Винс первым посмотрел вверх и увидел вершину, и погиб он первым. Это случилось почти мгновенно, и огненные ужасы тут были ни при чем.
Он поскользнулся.
Вот и все. Мы поднимались по трудному участку. Еще секунду назад он шел за мной, и вот его уже не стало. Его тело не нужно было доставать. Он совершил затяжной прыжок. Без парашюта. Голубая тишина подхватила его; серая, серая земля понеслась ему навстречу. Теперь нас осталось шестеро. Мы содрогнулись, и каждый из нас, наверное, помолился как умел.
Прощай, Винс, пусть какое-нибудь доброе Божество поведет тебя по Тропе Совершенства. Пусть то, что ты хотел найти более всего в ином мире, ждет тебя там. И если иной мир существует, помни тех, кто произносит эти слова, о незваный гость небес…
Мы мало говорили до конца дня.
Огненный страж с мечом пришел и стоял над нашим лагерем всю ночь. Но ничего не сказал.
Рано утром ушел Стэн. Он оставил под моим рюкзаком записку:
Вы должны презирать меня за побег, но я считаю, что это настоящий ангел. Я боюсь этой горы. Я могу взбираться на любые скалы, но не хочу сражаться с небесами. Путь вниз легче пути наверх, так что не беспокойтесь обо мне.
Постарайтесь понять.
С.
Итак, нас осталось пятеро — Док, Келли, Генри, Малларди и я; в этот день мы вышли на высоту сто восемьдесят тысяч футов и чувствовали себя очень одинокими.
А ночью опять пришла девушка и стала говорить со мной, и я смотрел на черные волосы на фоне черного неба и глаза, в которых прятался голубой огонь. Она стояла, прислонившись к ледяной глыбе.
— Двоих уже нет.
— Зато остались мы, — ответил я.
— Пока остались.
— Мы поднимемся на вершину и уйдем отсюда, — сказал я. — Что плохого мы можем тебе сделать? Почему ты нас ненавидишь?
— Ненависти нет, — сказала она.
— А что же тогда?
— Я охраняю.
— Что? Что здесь нужно охранять?
— Умирающую, которая может выжить.
— Что? Кто умирает? Как?
Но ее слов не было слышно, а вскоре исчезла и она сама. До конца ночи я спал.
Сто восемьдесят две тысячи, три, четыре, пять. Потом, на ночь, спустились вниз на четыре.
Огненные существа сновали над нами, твердь под ногами пульсировала, и даже сама гора, казалось, начинала раскачиваться, когда мы карабкались вверх.
Мы выбили тропу в скале до ста восьмидесяти шести, и три дня ушло на то, чтобы продвинуться еще на тысячу футов. Все, до чего мы дотрагивались, было холодным, гладким, скользким и отсвечивало голубоватым светом.
Когда мы достигли ста девяноста тысяч футов, Генри посмотрел вниз и содрогнулся.
— Меня уже не заботит путь наверх, — сказал он. — Путь назад — вот что сейчас пугает меня. Отсюда тучи кажутся маленькими клочками ваты.
— Чем мы быстрее поднимемся, тем быстрее отправимся вниз, — сказал я, и мы снова полезли вверх.
Через неделю от вершины нас отделяла одна миля. Все огненные существа исчезли, но две небольшие ледяные лавины напомнили нам, что мы по-прежнему нежеланные гости. Первую мы пережили без особых проблем, а во время второй Келли растянул правую ногу; Док считал, что, возможно, он сломал еще и пару ребер.
Мы разбили лагерь. Док остался с Келли; Генри, Малларди и я отправились штурмовать последнюю милю.
Теперь подъем стал ужасным. Гора превратилась в стекло. Нам приходилось рубить лед для каждого следующего шага. Мы работали по очереди. Биться приходилось за каждый фут. Рюкзаки казались нам чудовищно тяжелыми, пальцы немели. Наша система защиты — коробочки Дока — похоже, начинала терять силу, или же нечто, мешавшее нам, решило удвоить свои усилия, потому что змеи стали подбираться все ближе и пылать все ярче. У меня от них стали болеть глаза, и я проклял все на свете.
Когда до вершины осталась тысяча футов, мы разбили еще один лагерь. Следующая пара сотен футов выглядела попроще, потом шел тяжелый участок, а дальше было трудно что-либо разглядеть.
Когда мы проснулись, оказалось, что нас только двое. Малларди не оставил записки. Генри связался с Доком. Я подключился к их разговору и услышал, как Док сказал:
— Не видел я его.
— Как Келли? — спросил я.
— Лучше, — ответил Док, — может быть, ребра у него все-таки целы.
Затем с нами связался Малларди.
— Я поднялся на четыреста футов, ребята, — услышали мы его голос. — Сюда я добрался без проблем, но дальше будет труднее.
— Почему ты полез дальше один? — спросил я.
— Потому что у меня возникло ощущение, что меня скоро попытаются убить, — ответил он. — Она наверху, ждет на вершине. Вы, наверное, можете увидеть ее. Похожа на змею.
Генри и я взялись за бинокли. Змея? Скорее дракон.
Она свернулась на вершине, верхняя часть туловища была приподнята. Казалось, она достигает в длину нескольких сотен футов; она ворочала головой в разные стороны, отчего над ней возникали электрические разряды.
Потом я увидел Малларди, который полз к змее.
— Подожди, не двигайся дальше! — сказал я в коммуникатор. — Я не знаю, выдержат ли системы защиты, нужно посоветоваться с Доком…
— Нет уж, — ответил Малларди. — Эта малышка моя.
— Послушай! Ты можешь первым взойти на вершину, если тебе хочется именно этого. Но не связывайся с этой тварью в одиночку!
В ответ он только рассмеялся.
— Три наших экрана могут с ней управиться, — сказал я. — Подожди нас.
Ответа не последовало, и мы стали подниматься.
Я оставил Генри далеко позади. Чудовище сверкало на вершине. Я быстро преодолел первые двести футов и бросил взгляд наверх; чудовище успело обзавестись еще двумя головами. Из ноздрей вырывался огонь, а хвостом оно колотило по склонам горы. Я поднялся еще на сто футов и теперь, на фоне идущего от вершины яркого сияния, мог хорошо различить фигурку Малларди, упорно продвигающегося вверх. Я махал ледорубом и, тяжело дыша, бился с горой, двигаясь по его следам. Я начал догонять его; Малларди приходилось пробивать дорогу, а я пользовался его тропой. Потом я услышал, как он бормочет:
— Подожди, дружище, еще рано, — донесся его голос, искаженный статическими помехами в коммуникаторе. — Вот уступ…
Я посмотрел наверх. Малларди исчез.
Потом я увидел, как огненный хвост ударил туда, где он только что находился, услышал проклятья и почувствовал вибрацию пневматического пистолета. Хвост ударил еще раз, и раздались новые проклятья.
Я торопился изо всех сил, используя вырубленные Малларди небольшие ступеньки, когда услышал, как он запел. Кажется что-то из Аиды.
— Черт тебя подери! Подожди меня! — крикнул я. — Мне осталось всего несколько сотен футов.
Он продолжал петь.
У меня начала кружиться голова, но нельзя было замедлить подъем. Правая рука одеревенела, а левая стала, как лед. Ноги словно превратились в копыта, глаза жгло невыносимым огнем.
И вот тогда-то это и случилось.
Вспышка такой яркости, что я пошатнулся и чуть не полетел вниз. Одновременно пение прекратилось, дракон исчез. Я прижался к вибрирующему склону и крепко зажмурил глаза, чтобы хоть как-то защититься от света.
— Малларди, — позвал я. Ответа не было.
Я посмотрел вниз. Генри продолжал подниматься. Я тоже двинулся вперед.
Я добрался до выступа, который упоминал Малларди. Там я его и нашел.
Его респиратор еще работал. Защитный костюм с правой стороны был опален и почернел. Ледоруб наполовину расплавился. Я приподнял его за плечи и, увеличив громкость коммуникатора, услышал его неровное дыхание. Его глаза то открывались, то закрывались.
— Порядок… — прошептал он.
— Порядок, черт тебя побери! Где болит?
— Нигде… я прекрасно себя чувствую… Послушай, я думаю, "сейчас она ослабела… Иди, установи флаг. Только поверни меня, чтобы было видно. Я хочу видеть…
Я устроил его поудобнее и нажал кнопку подачи воды, чтобы он мог напиться. Потом подождал Генри. Он добрался до нас минут через шесть.
— Я останусь здесь, — сказал Генри, садясь рядом с Малларди, — а ты иди. Сделай это.
Я начал подъем на последний склон.
7
Мой ледоруб без устали поднимался и падал, я стрелял из пневмопистолета и полз, полз вверх. Часть льда растопилась, камень местами почернел.
Никто и ничто не мешало мне. Электрические твари исчезли вместе с драконом. Тишина да сияющие в темноте звезды.
Я поднимался медленно, усталость после погони за Малларди еще не пропала, но я решил больше не останавливаться.
Весь мир — не считая шестидесяти футов скалы вверху — лежал подо мной; небо служило ему потолком. Где-то неподалеку мигнула ракета — может быть, это фотокорреспондент щелкнул камерой.
Ни птиц, ни лучников, ни ангела, ни девушки.
Пятьдесят футов…
Сорок футов…
Меня начало трясти: сказывалось нервное напряжение. Я заставил себя успокоиться и двинулся дальше.
Тридцать футов… Казалось, гора начала раскачиваться.
Двадцать пять… У меня закружилась голова, пришлось остановиться, попить воды.
Клик, клик — снова застучал мой ледоруб. Двадцать… Пятнадцать… Десять…
Я собрался с силами для последней атаки, готовый к любым неожиданностям. Пять…
Я взошел на вершину. Ничего не произошло.
Я стоял наверху. Выше подниматься было некуда.
Посмотрев вниз, а потом вверх, я помахал сверкнувшей невдалеке ракете. Я достал телескопический шток, растянул его и надел на него флаг.
Укрепил флаг. Здесь никогда ветер не расправит его…
Затем включил коммуникатор и бросил:
— Я здесь.
И ни слова больше.
Настала пора возвращаться и дать возможность подняться Генри, но сначала я бросил взгляд на западный склон.
Леди снова подмигивала мне. Футов на восемьсот ниже горел красный огонек. Может быть, тот самый, который я видел из города во время бури, той ночью, так давно?
Я не знал, но мне необходимо было узнать. И я произнес в коммуникатор:
— Как дела у Малларди?
— Я только что встал на ноги, — ответил он сам. — Дай мне еще полчаса, и я залезу к тебе.
— Генри, — спросил я, — как ты считаешь?
— На вид с ним все в порядке, — ответил Лэннинг.
— Ну, — сказал я, — тогда давайте, потихоньку. Когда вы доберетесь до вершины, меня уже тут не будет. Спущусь немного вниз по западному склону — хочу проверить кое-что.
— Что?
— Не знаю. Поэтому и иду туда.
— Будь осторожнее.
— Ну, я пошел.
Спускаться по западному склону было легко. Через некоторое время стало ясно, что свет исходил из отверстия в склоне горы.
Через полчаса я стоял перед ним.
Я шагнул туда и был ослеплен.
Мерцающая стена огня закрывала вход в пещеру от пола до потолка; она пульсировала, дрожала и пела.
Огонь не давал мне пройти дальше.
Она была там, и я хотел добраться до нее.
Я сделал шаг вперед и оказался в нескольких дюймах от стены. В наушниках коммуникатора раздался треск статических сигналов, холодные иголочки начали колоть руки.
Кажется, огонь не представлял опасности — он совсем не давал тепла. Я смотрел на нее сквозь эту пламенную стену — туда, где она полулежала с закрытыми глазами. Ее грудь была неподвижна.
Я увидел, что у дальней стены пещеры находилось множество устройств непонятного мне назначения.
— Я здесь, — сказал я и поднял ледоруб.
Когда его острие коснулось стены пламени, разразилась настоящая огненная буря; ослепленный, я попятился назад. Когда же зрение вернулось ко мне, я увидел перед собой огненного ангела.
— Ты не сможешь здесь пройти.
— Это из-за нее ты хотел, чтобы я повернул назад? — спросил я.
— Да. Возвращайся.
— У нее может быть другое мнение по этому вопросу.
— Она спит. Возвращайся.
— Я это заметил. Почему?
— Так надо. Возвращайся.
— Зачем она сама появлялась передо мной? Зачем устроила ту нелепую погоню?
— Я исчерпал все известные мне устрашающие формы. Они оказались бесполезны. Я вел тебя за собой, и это выглядело так странно, потому что ее спящий разум оказывал влияние на мои создания. Влияние было особенно сильным, когда я использовал ее собственное обличье… Настолько сильным, что даже вступало в противоречие с основной целью. Возвращайся.
— Что же это за цель?
— Ее необходимо охранять от всех существ, которые будут появляться тут. Возвращайся.
— Почему? Почему ее нужно охранять?
— Она спит. Возвращайся.
Разговор вернулся к исходной точке. Я засунул руку в рюкзак и вытащил плоскую блестящую коробочку Дока. Я направил луч на нее, на ангела, и тот медленно растаял. Под воздействием прибора пламя заколебалось. Я подносил коробочку все ближе к сверкающей завесе, и она клонилась и клонилась назад — пока, наконец, не образовался узкий проход. Я прыгнул в него и оказался по другую сторону огненной стены, но мой защитный костюм почернел, как у Малларди.
Я подошел к капсуле, напоминающей гроб, в которой спала она.
Я положил руки на край капсулы и посмотрел на нее.
Она была хрупкой как лед.
Собственно, она и была льдом…
Машина у стены засветилась разноцветными огнями, и я почувствовал, что ее мрачное ложе начало вибрировать.
Потом я увидел мужчину.
Он полулежал на металлическом стуле около машины.
Он тоже был ледяным. Только лицо его, с искаженными смертью чертами, посерело. Он был в черном, и он был мертвым монументом — в то время как она казалась сверкающей статуей.
И ее цветами были белый и голубой.
В дальнем углу стоял пустой гроб…
Но что-то происходило вокруг. Пещера постепенно наполнилась воздухом. Да, именно воздухом. Он с шипением выходил из отверстий в полу, образуя огромные белесые клубы. Затем резко потеплело, и туман начал рассеиваться. Стало светлее.
Я вернулся к капсуле, чтобы получше рассмотреть черты девушки.
Интересно, как будет звучать ее голос, если она когда-нибудь заговорит? Что скрывается за этим белым алебастровым лбом? Какие мысли, какие пристрастия и капризы? Какого цвета окажутся ее глаза и когда это произойдет?
Я думал обо всем этом, так как понимал — миновав стену пламени, я разбудил силы, которые постепенно вернут ее к жизни.
Она оживала.
Я ждал. Прошло около часа, но я продолжал ждать, наблюдая за ней. Она начала дышать. Ее глаза наконец открылись, но еще какое-то время ничего не видели.
А потом их голубой огонь обжег меня.
— Седой, — произнесла она.
— Да.
— Где я?..
— В самом маловероятном месте, где можно было бы кого-нибудь найти.
Она нахмурилась.
— Я вспоминаю… — прошептала она и попыталась сесть.
У нее ничего не вышло. Она откинулась назад.
— Как тебя зовут?
— Линда, — сказала она и добавила: — Ты мне снился, Седой.
В странных ледяных снах… Как такое может быть?
— Это непонятно мне, — сказал я.
— Я знала, что ты придешь. — Ее брови были как крылья чайки. — Я видела, как ты сражался с чудовищами на горе, высокой, словно небо.
— Да, мы находимся рядом с ее вершиной.
— У тебя есть вакцина?
— Вакцина? Какая вакцина?
— От чумы Доусона, — объяснила она.
Мне стало плохо. Только сейчас я понял, что она находилась в этом ледяном саркофаге вовсе не как пленница, а для того, чтобы отдалить смерть. Она была больна.
— Вы прибыли сюда на корабле, который летел со скоростью, превышающей скорость света? — спросил я.
— Нет, — ответила она. — Столетия были потрачены на то, чтобы добраться сюда. Мы находились в анабиозе. И сейчас я лежу в такой же капсуле.
Я заметил, что ее щеки становятся ярко-красными.
— Все начали умирать от чумы, — сказала она. — От нее не было спасения. Мой муж, Карл, — врач. Поняв, что я тоже заразилась, Он сказал, что оставит меня здесь, в капсуле, при очень низкой температуре, до тех пор, пока не будет найдена вакцина. Иначе, ты ведь знаешь, через два дня наступает конец.
Тут она посмотрела на меня, и я понял, что это вопрос.
Я встал, стараясь загородить от нее мертвое тело; я боялся, что это ее муж. Я попробовал проследить ход его мыслей. У него было совсем мало времени — он, очевидно, заболел раньше нее. Он знал, что вся колония погибнет. Он, наверное, очень сильно любил ее и был к тому же весьма умен — сочетание, которое помогает сдвинуть горы. Хотя главное, конечно, любовь. Он понимал, что пройдут столетия, прежде чем тут появится другой космический корабль. У него не могло быть источника энергии, способного поддерживать анабиоз так долго. Но здесь, на вершине этой горы, было почти так же холодно, как в открытом космосе, поэтому энергия не требовалась. Каким-то образом он доставил сюда Линду и все остальное. Его машина прикрыла силовым полем пещеру. Он привел в действие оборудование, погрузил ее в сон и стал готовить капсулу для себя. Потом, когда силовое поле будет отключено, начнется их долгое ледяное ожидание — без всякой дополнительной энергии. Они могли проспать целые столетия на могучей груди Серой Сестры, охраняемые компьютером-защитником. Видимо, программировался компьютер в спешке, так как Карл умирал. Он понял, что уже не сумеет присоединиться к ней. Он торопился закончить защитную программу, и это ему удалось — только вот блокировку защиты он сделать не успел, выключил силовое поле и начал свой путь по темным и странным дорогам вечности. Вот почему компьютер-защитник атаковал всех, кто пытался подняться на гору, своими огненными птицами, змеями и ангелами; вот почему он вздымал передо мной стену огня. Карл умер, а компьютер защищал ее холодный сон от всех — в том числе и от тех, кто мог помочь…
— Возвращайся! — услышал я голос машины, которая через ангела обратилась к Генри, вошедшему в пещеру.
— Боже мой! — послышался его голос. — Кто это?
— Давай сюда Дока! — сказал я. — Быстрее! Я все объясню потом — дело идет о жизни человека. Спускайся до тех пор, пока не сможешь связаться с ним по коммуникатору, и скажи ему, что это чума Доусона — тяжелое местное заболевание. Торопись!
— Я уже иду, — сказал он, выходя из пещеры.
— Там есть врач? — спросила она.
— Да. Всего лишь в двух часах хода отсюда. Не беспокойся… Но как вы залезли сюда? Совершенно непонятно… Да еще со всем этим оборудованием…
— Мы на вершине большой горы — сорокамильной?
— Да.
— А как ты попал сюда?
— Я взобрался на нее.
— Ты действительно забрался на вершину Чистилища? Снаружи?
— Чистилище? Так вы называли ее? Да, я взобрался по внешним склонам.
— Мы думали, что это невозможно…
— А как же иначе можно попасть на вершину?
— Она такая большая, — сказала Линда, — и внутри там огромные пещеры и туннели. Сюда было очень просто добраться на вакуумном лифте. Самая обычная развлекательная поездка. Два с половиной доллара в один конец. Доллар за прокат термокостюма и часовую прогулку до вершины. Отличный получался выходной. Красивые виды… — Она закашлялась.
— Я себя не очень-то хорошо чувствую, — шепнула она. — У тебя есть вода?
— Да, — сказал я и отдал ей все, что у меня осталось.
Пока она пила воду, я молился, чтобы у Дока оказались нужные лекарства или в крайнем случае, чтобы он смог снова усыпить ее, пока не будет доставлена нужная вакцина. Я молился, чтобы Док пришел быстрее, потому что даже два часа, при виде ее жажды и разгоравшегося румянца, казались слишком долгим сроком.
— У меня снова начинается лихорадка, — сказала она. — Поговори со мной, Седой, пожалуйста… Расскажи мне что-нибудь. Побудь со мной, пока не придет врач. Я не хочу вспоминать 6 том, что случилось с нашей колонией…
— О чем же мне рассказать тебе, Линда?
— Расскажи, почему ты поднялся сюда. Расскажи мне, как это было… И для чего?
Я стал вспоминать, с чего все началось.
— Это своего рода безумие… — сказал я, — некая зависть к великим и могучим силам природы. Ты знаешь, каждая гора — словно неведомое Божество. Каждая обладает бессмертной властью… И если ты принесешь жертву на ее склонах, она может оказать тебе милость — и на время ты разделишь с ней эту власть. Наверное, поэтому меня называют…
Ее рука легко лежала на моей ладони. Я надеялся, что благодаря той власти, о которой я говорил, мне удастся удержать ее как можно дольше.
— Я помню, как первый раз увидел Чистилище, Линда, — рассказывал я ей. — Я посмотрел вверх, и мне стало не по себе. Я подумал — куда она уходит?..
(Звезды!
О великие звезды, сохраните ее.
Только об этом молю.
Только об этом.)
— …К звездам?
Момент бури
Однажды на Земле наш старый профессор философии, войдя в аудиторию, с полминуты молча изучал шестнадцать своих жертв — вероятно, засунул куда-нибудь конспект лекций. Удовлетворенный наконец создавшейся атмосферой, он спросил:
— Что есть Человек?
Он совершенно точно знал, что делает, — в его распоряжении было полтора часа свободного времени.
Один из нас дал чисто биологическое определение. Профессор (помнится, фамилия его была Макнитт) кинул:
— Это все?
И начал занятие.
Я узнал, что Человек — это разумное животное; что Человек — это нечто выше зверей, но ниже ангелов; что Человек — это тот, кто любит, смеется, поддается вдохновению, использует орудия труда, создает и распространяет культуру, хоронит своих усопших, изобретает религии; что Человек — это тот, кто пытается определить себя (последнее — слова Пола Шварца, моего товарища; интересно, что с ним стало?).
Мне до сих пор кажется, что мое определение было самым точным; я имел возможность проверить его на Терре дель Сигнис, Земле Лебедя… Оно гласило: «Человек есть сумма всех его свершений, надежд на будущее и сожалений о прошлом».
На минуту отвлекитесь и подумайте. Это всеобъемлющее определение. Оно включает в себя и вдохновение, и любовь, и смех, и культуру… Но оно имеет границы. Разве к устрице оно подходит?
Терра дель Сигнис, Земля Лебедя… Чудесное название. И чудесное место. По крайней мере для меня оно было таким долгое время…
Именно там я увидел, как определения Человека одно за другим стираются и исчезают с гигантской черной доски, оставив лишь единственное.
…Приемник трещал чуть сильней, чем обычно. И в этот ясный весенний день мои сто тридцать Глаз наблюдали за Бетти. Солнце лило золотой мед на янтарные поля, врывалось в дома, нагревало улочки, высушивало асфальт и ласкало зеленые и коричневые почки на деревьях вдоль дороги. Его лучи багряными и фиолетовыми полосами легли на гряду Святого Стефана, что в тридцати милях от города, и затопили лес у ее подножия морем из миллиона красок.
Я любовался Бетти и не замечал предвестников грядущей бури. Лишь, повторяю, шумы чуть громче сопровождали музыку, звучащую из моего карманного приемника.
Удивительно, как мы порой одухотворяем вещи. Ракета у нас часто женщина, «добрая верная старушка». «Она быстра, как ласточка», — говорим мы, поглаживая теплый кожух и восхищаясь женственностью плавных изгибов корпуса. Мы можем любовно похлопать капот автомобиля и сказать: «До чего же здорово берет с места, паршивец!..»
Сначала появилась на свет Станция Бета. Через два десятилетия уже официально, по решению городского Совета, она стала именоваться Бетти. Почему? И тогда мне казалось (лет девяносто назад), и сейчас, что ответ прост: уж такой она была — местом ремонта и отдыха, где после долгого прыжка сквозь ночь можно ощутить под ногами твердую почву, насладиться уютом и солнцем. Когда после тьмы, холода и молчания выходишь к свету, теплу и музыке — перед тобой Женщина.
Я почувствовал это сразу, как только увидел Станцию Бета — Бетти.
Я ее Патрульный.
…Когда шесть или семь из ста тридцати Глаз мигнули, а радио выплеснуло волну разрядов, — только тогда я ощутил беспокойство. Я вызвал Бюро прогнозов, и записанный на пленку девичий голос сообщил, что начало сезонных дождей ожидается в полдень или под вечер.
Мои Глаза показывали прямые ухоженные улицы Бетти, маленький космопорт, желто-бурые поля с редкими проблесками зелени, яркие разноцветные домики с блестящими крышами и высокими стержнями громоотводов, темные стены Аварийного центра на верхнем этаже ратуши.
Приемник подавился разрядами и трещал, пока я его не выключил. Глаза, легко скользящие по магнитным линиям, начали мигать.
Я послал один Глаз на полной скорости к гряде Святого Стефана — минут двадцать ожидания, — включил автоматику и встал с кресла.
Я вошел в приемную мэра, подмигнул секретарше Лотти и взглянул на внутреннюю дверь.
— У себя?
Лотти, полная девушка неопределенного возраста, на миг оторвалась от бумаг на столе и одарила меня мимолетной улыбкой.
— Да.
Я подошел к двери и постучал.
— Кто? — раздался голос мэра.
— Годфри Джастин Холмс, — ответил я, перешагивая порог кабинета. — Ищу компанию на чашечку кофе.
Она повернулась на вращающемся кресле. Ее короткие светлые волосы всколыхнулись, как золотой песок от внезапного порыва ветра.
Она улыбнулась и сказала:
— Я занята.
«Маленькие ушки, зеленые глаза, чудесный подбородок — я люблю тебя» — из неуклюжего стишка, посланного мною к Валентинову дню два месяца назад.
— Ну уж ладно, сейчас приготовлю.
Я взял из открытой пачки на столе сигарету и заметил:
— Похоже, собирается дождь.
— Ага.
— Нет, серьезно. У Стефана, по-моему, бродит настоящий ураган. Скоро узнаю точно.
— Да, старичок, — произнесла она, подавая мне кофе. — Вы, ветераны, со всеми вашими болями и ломотами, порой чувствуете погоду лучше, чем Бюро прогнозов, это установленный факт. Я не спорю.
Она улыбнулась, нахмурилась, затем снова улыбнулась.
Неуловимые, мгновенные смены выражения живого лица… Никак не скажешь, что ей скоро сорок. Но я точно знал, о чем она думала. Она всегда подшучивает над моим возрастом, когда ее беспокоят такие же мысли.
Понимаете, на самом деле мне тридцать пять, то есть я даже немного моложе ее, но она еще ребенком слушала рассказы своего дедушки обо мне. Я два года был мэром Бетти после смерти Уитта, первого мэра.
Я родился на Земле пятьсот девяносто семь лет назад. Около пятисот шестидесяти двух из них провел во сне, в долгих странствиях меж звезд. На моем счету таких путешествий, пожалуй, больше, чем у других; следовательно, я анахронизм. Часто людям, особенно женщинам средних лет, кажется, будто мне каким-то образом удалось обмануть время…
— Элеонора, — сказал я. — Твой срок истекает в ноябре. Ты снова собираешься баллотироваться?
Она сняла узкие очки в изящной оправе и потерла веки.
— Еще не решила.
— Спрашиваю не для освещения данной темы в печати, — подчеркнул я, — а исключительно в личных интересах.
— Я действительно не решила. Не знаю… В субботу, как всегда, обедаем вместе? — добавила она после некоторой паузы.
— Разумеется.
— Тогда тебе и скажу.
— Отлично.
— Серьезная буря? — спросила Элеонора, внезапно улыбнувшись.
— О да. Чувствую по своим костям. Я допил кофе и вымыл чашку.
— Дай мне знать, как только уточнишь.
— Непременно. Спасибо.
Лотти напряженно трудилась и даже не подняла головы, когда я уходил.
Один мой Глаз забрался в самую высь и показывал бурлящие облака, адскими вихрями кипящие по ту сторону гряды. Другой тоже даром времени не терял. Не успел я выкурить и половины сигареты, как увидел…
…На нас надвигалась гигантская серая стена. Терра дель Сигнис, Земля Лебедя — прекрасное имя. Оно относится и к самой планете, и к ее единственному континенту. Как кратко описать целый мир? Чуть меньше Земли и более богатый водой. Что касается материка… Приложите зеркало к Южной Америке так, чтобы шишка оказалась не справа, а слева, затем поверните изображение на 90 градусов против часовой стрелки и переместите в северное полушарие. Сделали? Теперь ухватите за хвост и тащите. Вытяните его еще на шесть или семь сотен миль. Разбейте Австралию на восемь частей. Разбросайте их по северному полушарию и окрестите соответственно первыми восемью буквами греческого алфавита. Насыпьте на полюса по полной ложке ванили и не забудьте перед уходом наклонить ось глобуса на восемнадцать градусов. Спасибо.
…Прошел метеорологический спутник и подтвердил мои опасения. По ту сторону гряды кипел ураган. Ураганы не редкость у нас — внезапные и быстротечные. Но бывают и затяжные, низвергающие больше воды и обрушивающие больше молний, чем любой их земной собрат.
Центр города, в котором сосредоточено восемьдесят процентов стотысячного населения Бетти, расположен на берегу залива примерно в трех милях от главной реки Нобль; пригороды тянутся до самых ее берегов. Близость к экватору, океану и большой реке и послужили причиной основания Станции Бета. На континенте есть еще девять городов, все моложе и меньше. Мы являемся потенциальной столицей потенциального государства.
Наша колония — это Полустанок, Остановка В Пути, мастерская, заправочный пункт, место отдыха физического и духовного на пути к другим, более освоенным мирам. Землю Лебедя открыли много позже других планет — так уж получилось, — и мы начинали позже. Большинство колонистов привлекали более развитые планеты. Мы до сих пор отстаем и, несмотря на посильную помощь Земли, практически ведем натуральное хозяйство.
Но зачем Остановка В Пути тому, кто почти всю жизнь спит между звездами? Подумайте об этом, а я скажу вам позже, правильна ли ваша догадка.
На востоке вскипели молнии, загремел гром. Вскоре вся гряда Святого Стефана казалась балконом, полным чудовищ, которые, стуча хвостами и извергая пламя, переваливались через перила. Стена медленно начала опрокидываться.
Я подошел к окну. Густая серая пелена затянула небо. Налетел ветер; я увидел, как деревья внезапно содрогнулись и прижались к земле. Затем по подоконнику застучали капли, потекли ручейки. Пики Святого Стефана вспороли брюхо нависшей туче, посыпались искры. Раздался жуткий грохот, и ручейки на окне превратились в реки.
Я вернулся к экранам. Десятки Глаз показывали одну и ту же картину: людей, стремглав бегущих к укрытиям. Самые предусмотрительные захватили зонтики и плащи, но таких было совсем мало. Люди редко прислушиваются к прогнозам погоды; по-моему, эта черта нашей психологии берет начало от древнего недоверия к шаману. Мы хотим, чтобы он оказался не прав. Уж лучше промокнуть, чем убедиться в его превосходстве…
Тут я вспомнил, что не взял ни зонта, ни плаща, ни калош. Ведь утро обещало чудесный день…
Я закурил сигарету и сел в свое большое кресло. Ни одна буря в мире не страшна моим Глазам.
Я сидел и смотрел, как идет дождь…
Пять часов спустя все так же лило и громыхало. Я надеялся, что к концу работы немного просветлеет, но, когда пришел Чак Фулер, не было никаких надежд на улучшение. Чак должен был меня сменить; сегодня он был ночным Патрульным.
— Что-то ты рановато, — заметил я. — Часок посидишь бесплатно.
— Лучше сидеть здесь, чем дома.
— Крыша течет?
— Теща. Снова гостит. Я кивнул.
Он сцепил руки за головой и откинулся в кресле, уставившись в окно. Я чувствовал, что приближается одна из его вспышек.
— Знаешь, сколько мне лет? — немного погодя спросил он.
— Нет, — солгал я. Ему было двадцать девять.
— Двадцать семь, — сказал он, — скоро будет двадцать восемь. А знаешь, где я был?
— Нет.
— Нигде! Здесь родился и вырос. Здесь женился… И никогда нигде не был! Раньше не мог, теперь семья…
Он резко подался вперед, закрыл лицо руками, как ребенок, спрятал локти в коленях. Чак и в пятьдесят будет похож на ребенка — светловолосый, курносый, сухопарый. Может быть, он и вести себя будет как ребенок. Мне никогда этого не узнать.
Я промолчал, потому что никаких слов от меня не требовалось.
После долгой паузы он произнес;
— Ты-то везде побывал… — И через минуту добавил: — Ты родился на Земле! На Земле! Еще до моего рождения ты повидал планет больше, чем я знаю. А для меня Земля — только название и картинки. И другие планеты — картинки и названия…
Устав от затянувшегося молчания, я проговорил:
— «Минивер Чиви, дитя печали…»
— Что это значит?
— Это начало старинной поэмы. То есть старинной теперь, а во времена моего детства она была просто старой. У меня были друзья, родственники, жена. Сейчас от них даже костей не осталось. Только прах. Настоящий прах, без всяких метафор. Путешествуя среди звезд, ты автоматически хоронишь прошлое. Покинутый тобой мир будет полон незнакомцев, если ты когда-нибудь вернешься, или карикатур на твоих друзей, родственников, на тебя самого. Немудрено в шестьдесят стать дедушкой, в восемьдесят прадедушкой — но исчезни на три столетия, а потом вернись и повстречай своего прапрапрапраправнука, который окажется лет на двадцать тебя старше. Представляешь себе — какое это одиночество? Ты как бездомная пылинка, затерянная в космосе.
— Недорогая цена!
Я рассмеялся. Я выслушивал его излияния раз в полтора — два месяца на протяжении вот уже почти двух лет, однако раньше меня они не трогали. Не знаю, что случилось сегодня. Вероятно, тут виноваты и дождь, и конец недели, и мои недавние визиты в библиотеку…
Вынести его последнюю реплику я был уже не в силах. «Недорогая цена!» Что тут сказать?
Я рассмеялся.
Он моментально побагровел.
— Ты смеешься надо мной!
— Нет, — ответил я. — Над собой. Казалось бы — почему меня должны задевать твои слова? Значит…
— Продолжай.
— Значит, с возрастом я становлюсь сентиментальным, а это смешно.
— А! — Он подошел к окну, засунул руки в карманы, затем резко повернулся и произнес, пристально глядя на меня: — Разве ты не счастлив? У тебя есть деньги и нет никаких оков. Стоит только захотеть, и ты улетишь на первом же корабле куда тебе вздумается.
— Конечно, я счастлив. Не слушай меня.
Он снова повернулся к окну. Лицо его осветила сверкнувшая молния, и сказанные им слова совпали с раскатом грома.
— Прости, — услышал я как будто издалека. — Мне казалось, что ты — один из самых счастливых среди нас.
— Так и есть. Мерзкая погода… Она всем нам портит настроение, и тебе тоже.
— Да, ты прав. Уж сколько не было дождя.
— Зато сегодня отольется сполна. Он улыбнулся:
— Пойду-ка я перекушу. Тебе чего-нибудь принести?
— Нет, спасибо.
Чак, посвистывая, ушел. И настроение у него менялось тоже как у ребенка — вверх-вниз, вверх-вниз… А он — Патрульный. Пожалуй, самая неподходящая для него работа, требующая постоянного внимания и терпения. Мы патрулируем город и прилежащие окрестности.
Защита закона здесь не вызывает больших проблем. На Земле Лебедя почти отсутствует преступность. Слишком хорошо все знают друг друга, да и скрыться преступнику негде. Практически мы просто контролируем дорожное движение.
Но каждый из ста тридцати моих Глаз имеет по шесть «ресничек» сорок пятого калибра — и тому есть причина.
Например, маленькая симпатичная кукольная панда — о, всего трех футов высотой, когда она сидит на задних лапах, как игрушечный медвежонок, с крупными ушами, пушистым мехом, большими влажными карими глазами, розовым язычком, носом-пуговкой и острыми белыми ядовитыми зубами. Или резохват — оперенная рептилия с тремя рогами на покрытой броней голове, с длинным мощным хвостом и когтистыми лапами. Или огромные океанские амфибии, которые иногда поднимаются по реке и во время бурь и разливов выходят на сушу. Но о них и говорить неприятно.
Поэтому Патрульная служба существует не только у нас, но и на многих других пограничных мирах. Я работал на некоторых из них и убедился, что опытный Патрульный Здесь-У-Нас всегда может устроиться. Это такая же профессия, как менеджер на Земле.
Чак пришел позже, чем я ожидал. Собственно, он вернулся, когда я формально был уже свободен. Но он выглядел настолько довольным, что я не стал ему ничего говорить. Просто кивнул, стараясь не замечать его блуждающей улыбки и отпечатавшейся на воротничке рубашки бледной губной помады, взял свою трость и направился к выходу под струи гигантской поливочной машины.
Идти под таким ливнем было невозможно. Пришлось вызвать такси и ждать минут пятнадцать. Элеонора уехала сразу после ленча, остальных в связи с непогодой отпустили еще час назад. Здание ратуши опустело и зияло темными окнами. А дождь барабанил в стены, звенел по лужам, лупил по асфальту и с громким журчанием сбегал к водосточным решеткам.
Я собирался провести вечер в библиотеке, но погода вынудила меня изменить планы — пойду завтра или послезавтра. Этот вечер предназначен для доброй еды, бренди, чтения в уютном кресле — и пораньше в постель. Уж по крайней мере в такую погоду хорошо спать.
К двери подъехало такси. Я побежал.
На следующее утро дождь сделал на час передышку; затем снова заморосило, и уже без остановок. К полудню мелкий дождик превратился в мощный ливень.
Но я все равно решил кое-что сделать.
Я жил, в сущности, на окраине, возле реки. Нобль набух и раздулся, канализационные решетки захлебывались; вода текла по улицам. Дождь лил упорно, расширяя лужи и озерца под барабанный аккомпанемент небес. Небо полыхало. Мертвые птицы плыли в потоках воды и застревали в сливных решетках. По Городской площади разгуливала шаровая молния; огни Святого Эльма льнули к флагу, обзорной башне и большой статуе Уитта, пытающегося сохранить геройский вид.
Я направился в центр, к библиотеке, медленно ведя машину через бесчисленные пузырящиеся лужи. Сотрясатели небес, видимо, в профсоюз не входили, потому что работали без перекуров. Наконец я достиг цели и, с трудом найдя место для машины, побежал к библиотеке.
В последние годы я превратился, наверное, в книжного червя. Нельзя сказать, что меня так сильно мучит жажда знаний; просто я изголодался по новостям.
Конечно, существуют скорости выше световой. Например, фазовые скорости радиоволн в ионной плазме, но… Скорость света, как близко к ней ни подходи, не превзойти, когда речь идет о перемещении вещества.
А вот жизнь можно продлить достаточно просто. Поэтому я так одинок. Каждая маленькая смерть в начале полета означает воскресение в ином краю и в ином времени. У меня же их было несколько, — и так я стал книжным червем. Новости идут медленно, как корабли. Купите перед отлетом газету и проспите лет пятьдесят — в пункте вашего назначения она все еще будет свежей газетой. Но там, где вы ее купили, это исторический документ. Отправьте письмо на Землю, и внук вашего корреспондента, вероятно, ответит вашему праправнуку, если тот и другой проживут достаточно долго.
В каждой малюсенькой библиотеке Здесь-У-Нас есть редкие книги — первоиздания популярных романов, которые люди частенько покупают перед отлетом куда-нибудь, а потом, прочтя, приносят.
Мы живем сами по себе и всегда отстаем от времени, потому что эту пропасть не преодолеть. Земля руководит нами в такой же мере, в какой мальчик управляет воздушным змеем, дергая за порванную нить.
Вряд ли Йитс представлял себе что-нибудь подобное, создавая прекрасные строки: «Все распадается, не держит сердцевина». Вряд ли. Но я все равно должен ходить в библиотеку, чтобы узнавать новости.
День продолжался. Слова газет и журналов текли по экрану в моей кабинке, а с небес и гор Бетти текла вода — заливая поля, затопляя леса, окружая дома, всюду просачиваясь и неся с собой грязь.
В библиотечном кафетерии я перекусил и узнал от милой девушки в желтой юбке, что улицы уже перегородили мешками с песком и движение от Центра к восточным районам прекращено.
Я натянул непромокаемый плащ, сапоги и вышел. На Главной улице, разумеется, высилась стена мешков с песком, но вода все равно доставала до лодыжек и постоянно прибывала.
Я посмотрел на статую дружищи Уитта. Ореол величия осознал свою ошибку и покинул его. Герой держал в левой руке очки и глядел на меня сверху вниз с некоторым опасением — не расскажу ли я о нем, не разрушу ли это тяжелое, мокрое и позеленевшее великолепие?
Пожалуй, я единственный человек, кто действительно помнит его. Он в буквальном смысле хотел стать отцом своей новой необъятной страны и старался, не жалея сил. Три месяца был он первым мэром, а в оставшийся двухлетний срок его обязанности исполнял я. В свидетельстве о смерти сказано: «Сердечная недостаточность», но ничего не говорится о кусочке свинца, который ее вызвал. Их уже нет в живых, тех, кто был замешан в этой истории. Все давно лежат в земле: испуганная жена, разъяренный муж, патологоанатом… Все, кроме меня. А я не расскажу никому, потому что Уитт — герой, а Здесь-У-Нас статуи героев нужнее, чем даже сами герои.
Я подмигнул своему бывшему шефу; с его носа сорвалась струйка воды и упала в лужу у моих ног.
Внезапно небо разверзлось. Мне показалось, что я попал под водопад. Я кинулся к ближайшей подворотне, поскользнулся и едва удержался на ногах.
Минут десять непогода бушевала, как никогда в моей жизни. Потом, когда я вновь обрел зрение и слух, я увидел, что улица — Вторая авеню — превратилась в реку. Неся мусор, грязь, бумаги, шляпы, палки, она катилась мимо моего убежища с противным бульканьем. Похоже, что уровень воды поднялся выше моих сапог… Я решил переждать.
Но вода не спадала. Я попробовал сделать бросок, однако с полными сапогами не очень-то разбежишься.
Как можно чем-нибудь заниматься с мокрыми ногами? Я с трудом добрался до машины и поехал домой, чувствуя себя капитаном дальнего плавания, который всю жизнь мечтал быть погонщиком верблюдов.
Когда я подъехал к своему сырому, но незатопленному гаражу, на улице царил полумрак. А в переулке, по которому я шел к дому, казалось, наступила ночь. Траурно-черное небо, уже три дня скрывавшее солнце (удивительно, как можно по нему соскучиться!), обволокло тьмой кирпичные стены переулка, но никогда еще не видел я их такими чистыми.
Я держался левой стороны, пытаясь хоть как-то укрыться от косых струй. Молнии освещали дорогу, выдавали расположение луж. Мечтая о сухих носках и сухом мартини, я завернул за угол.
И тут на меня бросился орг. Половина его чешуйчатого тела под углом в сорок пять градусов приподнялась над тротуаром, вознося плоскую широкую голову вровень с дорожным знаком «СТОП». Он катился ко мне, быстро семеня бледными лапками, грозно ощерив острые смертоносные зубы.
Я прерву свое повествование и расскажу о детстве, которое, как живое, встало в этот миг перед моими глазами.
Родился и вырос я на Земле. Учась в колледже, первые два года работал летом на скотном дворе; помню его запахи и шумы. И помню запахи и шумы университета: формальдегид в биологических лабораториях, искаженные до неузнаваемости французские глаголы, всеподавляющий аромат кофе, смешанный с табачным дымом, дребезжание звонка, тщетно призывавшего в классы, запах свежескошенной травы (черный великан Энди катит свою тарахтящую газонокосилку, бейсбольная кепка надвинута на брови, на губе висит потухшая сигарета) и, конечно, звон клинков. Четыре семестра физическое воспитание было обязательным предметом. Единственное спасение — заняться спортом. Я выбрал фехтование, потому что теннис, баскетбол, бокс, борьба — все эти виды, казалось, требовали слишком много сил, а на клюшки для гольфа у меня не было денег. Я и не подозревал, что последует за этим выбором. Я полюбил фехтование и занимался им гораздо дольше четырех обязательных семестров.
Попав сюда, я сделал себе трость. Внешне она напоминает рапиру. Только больше одного укола ею делать не приходится.
Свыше восьмисот вольт, если нажать неприметную кнопку на рукоятке…
Моя рука рванулась вперед и вверх, а пальцы при этом нажали неприметную кнопку.
И оргу настал конец.
Я с брезгливой осторожностью обошел труп. Подобные создания иногда выходят из раздувшейся утробы реки. Помню еще, что оглянулся на него раза два, а затем включил трость и не разжимал пальцев до тех пор, пока не запер за собой дверь дома и не зажег свет. Да будут ваши улицы чисты от оргов!
Суббота.
Дождь. Кругом сырость.
Вся восточная часть города огорожена мешками с песком. Они еще сдерживают воду, но кое-где уже текут песочные реки.
К тому времени из-за дождя уже погибли шесть человек.
К тому времени уже были пожары, вызванные молниями, несчастные случаи в воде, болезни от сырости и холода.
К тому времени мы уже не могли точно подсчитать материальный ущерб.
Хотя у меня был выходной, я сидел вместе с Элеонорой в ее кабинете. На столе лежала громадная карта спасательных работ. Шесть Глаз постоянно висели над аварийными точками и передавали изображение на внесенные в кабинет экраны. На круглом столике стояли несколько новых телефонов и большой приемник.
Буря трясла не только нас. Сильно пострадал город Батлер выше по реке, Лаури медленно уходил под воду. Вся округа дрожала и кипела.
Несмотря на прямую связь, в то утро мы трижды вылетали на места происшествий: когда снесло мост через Ланс, когда было затоплено уайлдвудское кладбище и, наконец, когда на восточной окраине смыло три дома с людьми. Вести маленький, подвластный всем ветрам флайер Элеоноры приходилось по приборам. Я три раза принимал душ и дважды переодевался в то утро.
После полудня дождь как будто бы стал утихать. И хотя тучи не рассеялись, мы уже могли более или менее успешно бороться со стихией. Слабые стены удалось укрепить, эвакуированных накормить и обсушить, убрать нанесенный мусор.
…И все патрульные Глаза бросили на защиту от оргов.
Давали о себе знать и обитатели затопленных лесов. Целая орда кукольных панд была убита в тот день, не говоря уже о ползучих тварях, порождениях бурных вод Нобля…
В 19.00, казалось, все замерло. Мы с Элеонорой сели в флайер и взмыли в небо.
Нас окружала ночь. Мерцающий свет приборов освещал усталое лицо Элеоноры. Слабая улыбка лежала на ее губах, глаза блестели. Непокорная прядь волос закрывала бровь.
— Куда ты меня везешь?
— Вверх, — сказал я. — Хочу подняться над бурей.
— Зачем?
— Мы давно не видели чистого неба.
— Верно… — Она наклонилась вперед, прикуривая сигарету.
Мы вышли из облаков.
Темным было небо, безлунным. Звезды сияли, как бриллианты. Тучи струились внизу потоком лавы. Я «заякорил» флайер и закурил сам.
— Ты старше меня, — наконец произнесла она. — Ты знаешь?
— Нет.
— Как будто какая-то мудрость, какая-то сила, какой-то дух времени впитываются в человека, летящего меж звезд. Я ощущаю это, когда нахожусь рядом с тобой.
Я молчал.
— Вероятно, это людская вера в силу веков… Ты спрашивал, собираюсь ли я оставаться мэром на следующий срок. Нет. Я собираюсь устроить свою личную жизнь.
— Есть кто-нибудь на примете?
— Да, — сказала она, улыбнувшись, и я ее поцеловал.
Мы плыли над невидимым городом, под небом без луны.
Я обещал рассказать о Полустанке, об Остановке В Пути.
Зачем прерывать полуторавековой полет? Во-первых, никто не спит постоянно. На корабле масса мелких устройств, требующих неослабного внимания человека. Команда и пассажиры по очереди несут вахту. После нескольких таких смен вас начинает мучить клаустрофобия, резко падает настроение. Следовательно, нужна Остановка. Между прочим, Остановки обогащают жизнь и экономику перевалочных миров. На планетах с маленьким населением каждая Остановка — праздник с танцами и песнями. На больших планетах устраивают пресс-конференции и парады. Вероятно, нечто похожее происходит и на Земле. Мне известно, что одна неудавшаяся юная звезда по имени Мэрилин Остин провела три месяца Здесь-У-Нас и вернулась на Землю. Она пару раз появилась на экранах, порассуждала о культуре колонистов, продемонстрировала свои белые зубы и получила великолепный контракт, третьего мужа и первую главную роль. Это тоже свидетельствует о значении Остановок В Пути.
Я посадил флайер на крышу «Геликса», самого большого в Бетти гостиничного комплекса, где Элеонора занимала двухкомнатный номер.
Элеонора приготовила бифштекс, печеную картошку, пиво — все, что я люблю. Я был сыт, счастлив и засиделся до полуночи, строя планы на будущее. Потом поймал такси и доехал до Городской площади, решив зайти в Аварийный центр и узнать, как идут дела. Я вытер ноги, стряхнул плащ и прошел по пустому вестибюлю к лифту.
Лифт был слишком тихий. Лифт не должен еле слышно вздыхать и бесшумно открывать двери. Ничем не нарушив тишину, я завернул за угол коридора Аварийного центра.
Над такой позой, наверное, с удовольствием поработал бы Роден. Мне еще повезло, что я зашел именно сейчас, а не минут на десять позже.
Чак Фулер и Лотти, секретарша Элеоноры, практиковались в искусственном дыхании «изо рта в рот» на диване в маленьком алькове возле дверей.
Чак лежал ко мне спиной, Лотти увидела меня через его плечо; она вздрогнула, и Чак быстро повернул голову.
— Джастин… Я кивнул:
— Проходил мимо и решил заглянуть, узнать новости.
— Все… все хорошо, — произнес он, вставая. — Глаза в автоматическом режиме, а я вышел… м-м… покурить. У Лотти ночное дежурство, и она пришла… пришла посмотреть, не надо ли нам чего-нибудь отпечатать. У нее внезапно закружилась голова, и мы вышли сюда, к дивану…
— Да, она выглядит немного… не в своей тарелке, — сказал я. — Нюхательные соли и аспирин в аптечке.
Обрывая этот щекотливый разговор, я прошел в Аварийный центр. Чувствовал я себя весьма неважно.
Через несколько минут появился Чак. Я смотрел на экраны. Положение, кажется, стабилизировалось, хотя все сто тридцать Глаз омывал дождь.
— Джастин, — произнес он, — я не знал о твоем приходе…
— Ясно.
— Что я хочу сказать… Ты ведь не сообщишь?..
— Нет.
— И не скажешь об этом Синтии?
— Я никогда не вмешиваюсь в личные дела. Как друг, советую заниматься этим в другое время и в более подходящем месте. Но вся эта история уже начинает забываться. Уверен, что через минуту вообще ничего не буду помнить.
— Спасибо, Джастин…
— Что нам обещает Бюро прогнозов? Чак покачал головой, и я набрал номер.
— Плохо. — Я повесил трубку. — Дожди.
— Черт побери, — хрипло сказал он и дрожащими руками зажег сигарету. — Эта погода дьявольски действует на нервы.
— Мне тоже. Ладно, побегу, а то сейчас снова польет. Завтра загляну. Счастливо.
— Спокойной ночи.
Я спустился вниз, надел плащ и вышел. Лотти нигде не было видно.
Небо раскололи молнии, и дождь хлынул как из ведра. Когда я ставил машину в гараж, вода лилась сплошной стеной, а переулок освещали постоянные всполохи.
Хорошо дома, в тепле, наблюдать исступленное беснование природы…
Вспышки, пульсирующий свет, ослепительно белые стены домов напротив, невероятно черные тени рядом с белизной подоконников, занавесок, балконов… А наверху плясали живые щупальца адского огня, и, сияя голубым ореолом, плыл Глаз. Облака раскололись и светились, как геенна огненная; грохотал и ревел гром, и бело-прозрачные струи разбивались о светлое зеркало дороги.
Резохват — трехрогий, уродливый, зеленый и мокрый — выскочил из-за угла через миг после того, как я услышал звук, который приписал грому. Чудовище неслось по курящемуся асфальту, а над ним летел Глаз. Оба исчезли за поворотом… Кто мог нарисовать подобную картину? Не Эль Греко, не Блейк, нет. Босх. Вне сомнения, Босх, с его кошмарным видением адских улиц. Только он мог изобразить этот момент бури.
Я смотрел в окно до тех пор, пока черное небо не втянуло в себя огненные щупальца. Внезапно все погрузилось в полную тьму, и остался только дождь.
Воскресенье. Всюду хаос.
Горели свечи, горели церкви, тонули люди, по улицам метались (точнее, плыли) дикие звери, целые дома сносило с фундаментов и швыряло, как бумажки, в лужи. На нас напал великий ветер, и наступило безумие.
Проехать было невозможно, и Элеонора послала за мной флайер. Все рекордные отметки уровня воды были побиты. То был разгар тяжелейшего урагана в истории Бетти.
Теперь мы уже не могли остановить разгул стихии. Оставалось лишь помогать тем, кому еще можем. Я сидел перед экранами и наблюдал.
Лило как из ведра, лило сплошной стеной, на нас выливались озера и реки. Иногда казалось, что на нас льются океаны. С запада налетел ветер и стал швырять дождь вбок с неистовой силой. Ветер начался в полдень и через несколько часов затих, но оставил город разбитым и исковерканным. Уитт лежал на бронзовом боку, дома зияли пустыми рамами, начались перебои с электроэнергией. Один мой Глаз показал трех кукольных панд, разрывающих тело мертвого ребенка. Я убил их через расстояние и дождь. Рядом всхлипывала Элеонора. Срочно требовалась помощь беременной женщине, спасающейся со своей семьей на вершине затопленного холма. Мы пытались пробиться к ней на флайере, но ветер… Я видел пылающие здания и трупы людей и животных. Я видел заваленные автомобили и разбитые молниями дома. Я видел водопады там, где раньше никаких водопадов не было. Мне много пришлось стрелять в тот день, и не только по тварям из леса. Шестнадцать моих Глаз были подстрелены грабителями. Надеюсь никогда больше не увидеть некоторые из фильмов, которые я заснял в тот день.
Когда наступила ночь этого кошмарного воскресенья, а дождь не прекратился, я третий раз в жизни испытал отчаяние.
Мы с Элеонорой находились в Аварийном центре. Только что опять погас свет. Остальные сотрудники располагались на третьем этаже. Мы сидели в темноте, не двигаясь, не в состоянии что-либо сделать. Даже наблюдать мы не могли, пока не дадут энергию.
Мы говорили.
Сколько это длилось — пять минут или час — не могу с уверенностью сказать. Помню, однако, что я рассказывал ей о девушке, погребенной на другой планете, чья смерть толкнула меня на бегство. Два перелета — и я уничтожил свою связь с тем временем. Но столетнее путешествие не дает ста лет забытья; нет, время нельзя обмануть холодным сном. Память — мститель времени; и пусть ваши уши будут глухи, глаза слепы и необъятная бездна ледяного космоса ляжет между вами — память хранит все, и никакие увертки не спасут от ее тяжести. Трагической ошибкой будет возвращение к безымянной могиле, в изменившийся и ставший чужим мир, в место, которое было вашим домом. Снова вы будете спасаться бегством и действительно начнете забывать, потому что время все-таки идет. Но взгляните, вы одиноки; вы совершенно одиноки. Тогда, впервые в жизни, я понял, что такое настоящее отчаяние. Я читал, работал, пил, забывался с женщинами — но наступало утро, а я оставался самим собой и сам с собой. Я метался от одного мира к другому, надеясь: что-то изменится, изменится к лучшему. Однако с каждой переменой только дальше отходил от всего того, что знал.
Тогда другое чувство стало постепенно овладевать мною, и это было действительно кошмарное чувство: для каждого человека должно найтись наиболее соответствующее место и время. Вдумайтесь. Где и когда во всем необъятном космосе хотел бы я прожить остаток своих дней? В полную силу? Да, прошлое мертво, но, может быть, счастливое будущее ожидает меня на еще не открытой планете, в еще не наступивший момент. Как знать? А если счастье мое находится в соседнем городе; или откроется мне здесь через пять лет? Что, если тут я буду мучиться до конца жизни, а Ренессанс моих дней, мой Золотой Век рядом, совсем рядом, стоит лишь купить билет?.. И тогда во второй раз пришло отчаяние. Я не знал ответа, пока не пришел сюда, на Землю Лебедя. Я не знаю, почему люблю тебя, Элеонора, но я люблю, и это мой ответ.
Когда зажегся свет, мы сидели и курили. Она рассказала мне о своем муже, который вовремя умер смертью героя и спасся от старческой немощи. Умер, как умирают храбрецы, — бросился вперед и стал на пути волкоподобных тварей, напавших на исследовательскую партию, в состав которой он входил. В лесах у подножия гряды Святого Стефана он бился одним мачете и был разорван на части, в то время как его товарищи благополучно добежали до лагеря и спаслись. Такова сущность доблести: миг, предопределенный суммой всех свершений, надежд на будущее и сожалений о прошлом.
Определения… Человек — разумное животное? Нечто выше зверей, но ниже ангелов? Только не убийца, которого я застрелил в ту ночь. Он не был даже тем, кто использует орудия и хоронит мертвых… Смех? Я давно не слышал смеха. Изобретает религии? Я видел молящихся людей, но они ничего не изобретали. Просто они предпринимали последние попытки спасти себя, когда все остальные средства уже были исчерпаны.
Создание, которое любит?
Вот единственное, что я не могу отрицать. Я видел мать, которая стояла по шею в бурлящей воде и держала на плечах дочь, а маленькая девочка поднимала вверх свою куклу. Но разве любовь — не часть целого? Надежд на будущее и сожалений о прошлом? Именно это заставило меня покинуть пост, добежать до флайера Элеоноры и пробиваться сквозь бурю.
Я опоздал.
Джонни Кимс мигнул фарами, взлетая, и передал по радио:
— Порядок. Все со мной, даже кукла.
— Хорошо, — сказал я и отправился назад.
Не успел я посадить машину, как ко мне приблизилась фигура. Я вылез из флайера и увидел Чака. В руке он сжимал пистолет.
— Я не буду убивать тебя, Джастин, — начал он, — но я раню тебя. Лицом к стене. Я беру флайер.
— Ты спятил? — спросил я.
— Я знаю, что делаю. Мне он нужен.
— Если нужен, бери. Совсем необязательно угрожать мне оружием.
— Он нужен нам — мне и Лотти! Поворачивайся! Я повернулся к стене.
— Что?..
— Мы улетаем вместе, немедленно!
— Ты с ума сошел. Сейчас не время…
— Идем, Лотти, — позвал он, и я услышал за спиной шорох юбки.
— Чак! — сказал я. — Ты необходим нам сейчас! Такие вещи можно уладить потом — через неделю, через месяц, когда восстановится хоть какой-то порядок. В конце концов, существуют разводы.
— Никакой развод не поможет мне убраться отсюда!
— Ну а как это тебе поможет?
Я повернул голову и увидел, что у него откуда-то появился большой брезентовый мешок, который висел за левым плечом, как у Санта-Клауса.
— Отвернись! Я не хочу стрелять в тебя, — предупредил он.
У меня возникло страшное подозрение.
— Чак, ты стал грабителем?
— Отвернись!
— Хорошо, я отвернусь. Интересно, куда ты думаешь удрать?
— Достаточно далеко, — сказал он. — Достаточно далеко, чтобы нас не нашли. А когда придет время, мы покинем эту планету.
— Нет, — произнес я. — Не думаю. Потому что знаю тебя.
— Посмотрим.
Я услышал быстрые шаги и стук дверцы. Я повернулся тогда и проводил взглядом взлетающий флайер. Больше я их никогда не видел.
Внутри, сразу за дверью, лежали двое мужчин. К счастью, они не были тяжело ранены. Когда подоспела помощь, я поднялся в Аварийный центр и присоединился к Элеоноре.
Всю ту ночь мы, опустошенные, ждали утра.
Наконец оно наступило.
Мы сидели и смотрели, как свет медленно пробивался сквозь дождь. Так много всего происходило и так быстро все случилось за последнюю неделю, что мы были не готовы к этому утру.
Оно принесло конец дождям.
Сильный северный ветер расколол свод туч, и в трещины хлынул свет. Участки чистого неба быстро расширялись, черная стена исчезала на глазах. Теплое благодатное долгожданное солнце поднялось над пиками Святого Стефана и расцеловало их в обе щеки.
У всех окон сгрудились люди. Я присоединился к ним и десять минут не отрывал глаз.
Грязь была повсюду. Она лежала в подвалах и на механизмах, на водосточных решетках и на одежде. Она лежала на людях, на автомобилях и на ветках деревьев. Развалины зданий, разбитые крыши, стекла, мебель загромождали дороги, полузасыпанные подсыхающей коричневой грязью. Еще не было подсчитано число погибших. Кое-где текла вода, однако медленно и вяло. Разбитые витрины, упавшие мосты… Но к чему продолжать? Наступило утро, следующее за ночной попойкой богов; смертным оставалось либо убирать отходы, либо оказаться под ними погребенными.
И мы убирали. К полудню Элеонора не выдержала — сказалось напряжение предыдущих дней, — и я повез ее к себе домой, потому что мы работали у гавани, ближе ко мне.
Вот почти и вся история — от света к тьме и снова к свету, — кроме самого конца, который мне неизвестен. Я могу рассказать лишь его начало…
Элеонора пошла к дому, а я загонял автомобиль в гараж. Почему я не оставил ее с собой?.. Не знаю. Может быть, виновато солнце, которое превратило мир в рай, скрыв его мерзость. Может быть, моя любовь, испарившийся дух ночи и восторжествовавшее счастье.
Я поставил машину и пошел по аллее. Я был на полпути к углу, где встретил орга, когда услышал крик Элеоноры.
Я побежал. Страх придал мне сил.
За углом в луже стоял человек с мешком, как у Чака. Он рылся в сумочке Элеоноры, а она лежала неподалеку на земле — так неподвижно! — с окровавленной головой…
Я бросился вперед, на бегу нажав кнопку. Он обернулся, выронил сумочку, схватился за револьвер, висевший на поясе.
Мы были в тридцати футах друг от друга, и я бросил трость. Он прицелился, и в этот момент моя трость упала в лужу, в которой он стоял.
Элеонора еще дышала. Я внес ее в дом и вызвал врача — не помню как; вообще, ничего отчетливо не помню. И ждал, и ждал.
Она прожила еще двенадцать часов и умерла. Дважды приходила в себя до операции и ни разу после. Только раз мне улыбнулась и снова заснула.
Я не знаю.
Ничего.
Случилось так, что я снова стал мэром Бетти. Надо было восстанавливать город. Я работал, работал без устали, как сумасшедший, день и ночь, и оставил его таким же ярким и светлым, каким впервые увидел. Думаю, что если бы захотел, то мог остаться на посту мэра после выборов в ноябре. Но я не хотел.
Городской Совет отклонил мои возражения и принял решение возвести на площади статую Годфри Джастина Холмса рядом со статуей Элеоноры Ширрер — напротив вычищенного и отполированного Уитта. Наверное, там они и стоят.
Я сказал, что никогда не вернусь; но кто знает? Через долгие годы скитаний я, быть может, вновь прилечу на ставшую незнакомой Бетти хотя бы для того, чтобы возложить венок к подножию одной статуи.
Прибыл корабль — Остановка В Пути; я попрощался и взошел на борт.
Я взошел на борт и забылся холодным сном.
Летят годы. Я их не считаю. Но об одном думаю часто: есть где-то Золотой Век, мой Ренессанс, быть может, в другом месте, быть может, в другом времени; надо лишь дождаться или купить билет. Не знаю, куда или когда. А кто знает? Где все вчерашние дожди?
В невидимом городе?
Во мне?
Снаружи холод и тишина; движение не ощущается. Нет луны, и звезды ярки, как бриллианты.
Великие медленные короли
Дракс и Дран сидели в большом Тронном Зале Глана и беседовали. Монархи по силе интеллекта и физическим данным — а также потому, что никого больше из расы гланианцев в живых не осталось, — они безраздельно властвовали над всей планетой и над единственным подданным, дворцовым роботом Зиндромом.
Последние четыре столетия (спешка не входила в привычки рептилий) Дракс размышлял о возможности существования жизни на других планетах.
— Дран, — обратился он к соправителю, — вот я подумал: на других планетах может существовать жизнь.
Их мир едва сделал несколько оборотов вокруг солнца, а Дран уже ответил:
— Верно. Может.
— Это следует выяснить, — выпалил Дракс через несколько месяцев.
— Зачем? — так же быстро отозвался Дран, дав повод для подозрений, что его занимали те же мысли.
— Наше королевство, пожалуй, недонаселено, — заметил Дракс, тщательно подбирая слова. — Хорошо было бы снова иметь много подданных.
Дран медленно повернул голову:
— И это верно. Что вы предлагаете?
— Я считаю, нам следует выяснить, есть ли жизнь на других планетах.
— Гм-м.
Два года пролетели совершенно незаметно. Затем Дран промолвил: «Мне надо подумать» — и отвернулся. Вежливо соблюдя должную паузу, Дракс кашлянул.
— Вы достаточно подумали?
— Нет.
Дракс некоторое время пытался уследить за лучом дневного света, неуловимо быстро обегающим Тронный Зал.
— Зиндром! — наконец позвал он.
Робот застыл на месте, дав хозяину возможность увидеть себя.
— Вы звали, Великий Господин Глана?
— Да, Зиндром, достойный подданный. Те старые космические корабли, которые мы построили в былые счастливые дни, да так и не собрались использовать… Какой-нибудь из них еще может летать?
— Я проверю, Господин.
Робот, казалось, чуть изменил позу.
— Их всего триста восемьдесят два. Четыре готовы к вылету.
— Дракс, вы снова превышаете свою власть, — предупредил Дран. — Вам надлежало согласовать этот приказ со мной.
— Приношу извинения. Я всего лишь хотел ускорить дело, прими вы положительное решение.
— Вы верно предугадали ход моих мыслей, — кивнул Дран, — но ваше нетерпение говорит о тайном умысле.
— Моя цель — благо королевства.
— Надеюсь. Теперь об этой экспедиции — какую часть галактики вы намереваетесь исследовать в первую очередь?
— …Я предполагал, — вымолвил Дракс после напряженной паузы, — что экспедицию поведете вы. Как более зрелый и опытный монарх, вы, без сомнения, точнее решите, достойны те или иные виды и расы нашего просвещенного правления.
— Это так, но ваша юность, безусловно, позволит вам приложить больше сил и энергии.
— Мы можем полететь оба, в разных кораблях, — предложил Дракс.
Накаляющийся спор был прерван металлоэквивалентом покашливания.
— Господа, — привлек их внимание Зиндром, — в связи с эфемерным периодом полураспада радиоактивных веществ я вынужден с прискорбием известить, что в настоящий момент лишь один корабль находится в готовности.
— Все ясно, Дракс. Полетите вы.
— А вы узурпируете власть и захватите всю планету? Нет, летите вы!
— Мы можем лететь вдвоем.
— Чудесно! Обезглавить королевство! Подобные решения и вызвали наши нынешние политические затруднения!
— Господа, — заметил Зиндром, — если кто-нибудь в ближайшее время не полетит, корабль станет бесполезен.
Оба хозяина внимательно посмотрели на слугу, одобряя столь логические выводы.
— Отлично, — сказали они в унисон. — Полетишь ты. Зиндром поклонился и покинул Тронный Зал Глана.
— Возможно, нам следовало разрешить Зиндрому создать себе подобных, — осторожно молвил Дран. — Имея больше подданных, мы могли бы большего достигнуть.
— Вы — забываете наши последние соглашения, — сказал Дракс. — Изобилие роботов уже приводило к развитию фракционистских тенденций. Кое-кто возомнил о себе… — Голос Дракса затухал в течение ряда лет, что придало особую выразительность речи.
— Не могу с уверенностью утверждать, что ваше последнее высказывание содержит скрытое обвинение в мой адрес, — осторожно заговорил Дран. — Но если это так, позвольте мне предостеречь вас от необдуманных заявлений, а также напомнить, кто являлся автором Пакта о защите монороботной системы.
— Вы думаете, при наличии множества органических подданных дело бы обстояло иначе? — осведомился соправитель.
— Без сомнения, — сказал Дран. — В логической структуре органических существ есть определенный элемент иррациональности, делающий их менее послушными. Наши роботы по крайней мере подчинились, когда мы приказали им уничтожить друг друга. Безответственные органические субъекты либо делают это без приказов, что есть грубость и невоспитанность, либо отказываются это делать, когда им приказываешь, что есть неповиновение.
— Верно. — Дракс решил блеснуть жемчужиной мысли, тысячелетия приберегаемой для подобного случая. — Относительно органической жизни можно быть определенно уверенным лишь в том, что она неопределенна.
— Гм-м. — Дран сузил глаза. — Позвольте мне обдумать это. Мне кажется, что, как и в большинстве других ваших высказываний, здесь таится скрытая софистика.
— Ничего подобного здесь не таится, осмелюсь заметить. Это плод долгих размышлений.
— Гм-м.
Дран был выведен из раздумья неожиданным появлением Зиндрома; в руках робот держал каких-то два размытых коричневых пятна.
— Ты уже вернулся, Зиндром? Что это у тебя? Замедли-ка их, чтобы мы могли рассмотреть.
— Сейчас они под наркозом, великие Господа. Эта раздражающая вибрация вызвана их дыханием. Подвергнуть их более глубокому наркозу было бы небезопасно.
— Тем не менее мы должны внимательно изучить наших новых подданных, следовательно, нам нужно их увидеть. Замедли их еще.
— Вы отдали приказ без согласования… — начал Дракс, но его отвлекло появление двух волосатых стопоходящих.
— Теплокровные? — спросил он.
— Да, Господин.
— Это говорит о крайне малой продолжительности жизни.
— Верно, — согласился Дран. — Впрочем, подобный тип имеет тенденцию к быстрому размножению.
— Ваше наблюдение в пределе приближается к истине, — кивнул Дракс. — Скажи мне, Зиндром, представлены ли тут необходимые для размножения полы?
— Да, Господин. Я взял по одному экземпляру.
— Весьма мудро. Где ты их нашел?
— В нескольких сотнях миллиардов световых лет отсюда.
— Отпусти этих двух на волю за пределами дворца и привези нам еще таких же.
Существа исчезли; Зиндром, казалось, не шелохнулся.
— У тебя достаточно топлива для подобного путешествия?
— Да, Господин.
— Прекрасно, иди. Робот удалился.
— Предлагаю обсудить, какого типа правительство мы организуем на этот раз, — сказал Дран.
— Неплохая идея.
В разгар дискуссии вернулся Зиндром.
— Что случилось, Зиндром? Ты что-нибудь здесь позабыл?
— Нет, великие Господа. Я обнаружил, что раса, к которой принадлежали образцы, развила науку, овладела реакцией ядерного распада и самоуничтожилась в атомной войне.
— Это крайне неразумно — типично, однако, я бы сказал, для теплокровной нестабильности. Что еще?
— Те два образца, которых я выпустил, сильно размножились и расселились по всей планете Глан.
— Нужно было доложить!
— Да, Господа, но я отсутствовал и…
— Они сами должны были доложить нам!
— Господа, я боюсь, что им неизвестно о вашем существовании.
— Как такое могло случиться? — ошеломленно спросил Дран.
— В настоящий момент Тронный Зал находится под тысячелетними слоями наносных горных пород. Геологические сдвиги…
— Тебе было приказано поддерживать чистоту и порядок! — поднял голос Дран. — Опять попусту убивал время?!
— Никак нет, великие Господа! Все произошло в мое отсутствие. Я непременно приму меры.
— Сперва доложи нам, в каком состоянии находятся наши подданные.
— Недавно они научились добывать и обрабатывать металлы. По приземлении я наблюдал множество хитроумных режущих устройств. К сожалению, они использовали их, чтобы резать друг друга.
— Не хочешь ли ты сказать, — взревел Дран, — что в королевстве раздор?
— Увы, это так, мой Господин.
— Я не потерплю самодеятельного насилия среди моих подданных!
— Наших подданных, — многозначительно поправил Дракс.
— Наших подданных, — согласился Дран. — Нам следует принять неотложные меры.
— Не возражаю.
— Я запрещу участие в действиях, связанных с кровопролитием.
— Полагаю, вы имеете в виду совместное заявление, — твердо констатировал Дракс.
— Разумеется. Прошу простить меня; я сильно потрясен критическим положением. Пусть Зиндром подаст нам пишущие инструменты.
— Зиндром, подай…
— Вот они, Господа.
— Так, позвольте… Как мы начнем?
— Пожалуй, я мог бы привести в порядок дворец, пока Ваши Превосходительства…
— Нет! Жди здесь! Это не займет много времени.
— Гм-м. «Мы настоящим повелеваем…»
— Не забудьте наши титулы.
— Действительно. «Мы, монархи империи Глан, настоящим…»
Узкий поток гамма-лучей прошел незаметно для двух правителей. Верный Зиндром тем не менее определил его происхождение и безуспешно пытался привлечь внимание монархов. В конце концов со свойственным его типу роботов жестом он отказался от этой затеи.
— Вот! Теперь можешь поведать нам то, что собирался сказать, Зиндром. Но будь краток, тебе необходимо огласить наше повеление.
— Уже поздно, великие Господа. Эта раса также овладела ядерной энергией и уничтожила себя, пока вы писали.
— Варвары!
— Какая безответственность!
— Могу я сейчас Подняться и почистить наверху, Господа?
— Скоро, Зиндром, скоро. Сперва, полагаю, надлежит поместить настоящую декларацию в Архив для возможного использования при появлении аналогичных обстоятельств в будущем.
Дран кивнул:
— Согласен. Мы так повелеваем. Зиндром принял крошащуюся бумагу и исчез.
— Можно снарядить другую экспедицию, — подумал вслух Дракс.
— Или приказать Зиндрому создать себе подобных. В любом случае необходимо тщательно обдумать ваше предложение.
— А мне — ваше.
— Тяжелый выдался день, — заметил Дран. — Пора отдохнуть.
— Хорошая мысль.
Трубные звуки храпа раздались из Тронного Зала Глана.
Музейный экспонат
Волей-неволей признав, что пустоголовый мир не замечает его творчества, Джей Смит решил выбраться из этого мира. Он потратил четыре доллара девяносто восемь центов, заказав по почте курс, озаглавленный «Йога — Путь к Свободе», но сумма эта не способствовала его освобождению, а, напротив, усугубила его человеческую природу в том смысле, что снизила его способность снабжать себя пищей на четыре доллара девяносто восемь центов.
Приняв позу падмасана, Смит в процессе созерцания сосредотачивался на факте, что его пуп с каждым днем приближался и приближался к позвоночнику. Нирвана, бесспорно, достаточно эстетическое понятие, чего не скажешь о самоубийстве, особенно если у вас к нему душа не лежит. А потому он отвел этот фатальный исход вполне логично.
— Как просто можно лишить себя жизни в идеальном окружении! — вздохнул он, встряхнув золотыми кудрями, которые по понятным причинам достигали классической длины. — Жирный стоик в ванне — рабыни обмахивают его, он прихлебывает вино, а верный грек-лекарь, потупив взор, вскрывает ему вены! Изящная черкешенка, — вздохнул он снова, — наигрывает на лире, пока ее господин диктует надгробную речь, которую произнесет преданный вольноотпущенник со слезами на глазах. С какой легкостью мог бы он совершить это! Но непризнанный художник — нет! Рожденный вчера, отвергнутый сегодня, он удаляется, как слон на свое кладбище, в полном одиночестве.
Он выпрямился во весь свой рост, равный шести футам полутора дюймам, и повернулся к зеркалу. Рассматривая свою бледную, точно мрамор, кожу, прямой нос, высокий лоб, широко посаженные глаза, он решил, что раз нельзя жить искусством, то, пожалуй, можно, так сказать, вывернуть все наизнанку.
Он напряг те мышцы, которыми зарабатывал себе на хлеб те четыре года, пока раздувал горн своей души, выковывая исключительно свое направление в искусстве — двумерная скульптура маслом.
«При круговом обзоре, — заметил ехидный критик, — произведения мистера Смита представляют собой не то фрески без стен, не то вертикальные черточки. Этруски создали шедевры в первом жанре, так как знали, где его законное место; во втором жанре детские сады прививают мастерство каждому пятилетнему ребенку».
Потуги на остроумие! Жалкие потуги! Фу! От этих зоилов, которые разыгрывают из себя законодателей вкуса за чужим обеденным столом, может стошнить!
Он с удовлетворением заметил, что месячная аскетическая диета уменьшила его вес на тридцать фунтов. Чем не поверженный гладиатор эллинистической эпохи?
— Решено! — объявил он. — Я сам стану искусством.
В тот же день ближе к вечеру одинокая фигура с узлом в руке вошла в Музей изобразительных искусств.
Духовно изможденный, хотя и гладко выбритый вплоть до подмышек, Смит околачивался в Греческом периоде, пока там не осталось никого, кроме него и мраморных изваяний.
Он выбрал уголок потемнее и извлек из узла свой пьедестал. Полый, так что внутри можно было спрятать всякие личные вещи, необходимые для музейного существования, включая и значительную часть его одежды.
— Прощай мир! — произнес он слова отречения. — Тебе следует заботливее беречь своих художников!
И он взобрался на пьедестал.
Четыре доллара девяносто восемь центов, хотя и сэкономленные на пище, все-таки не были истрачены совсем уж зря, ибо приемы, которыми он за эту цену овладел на Пути к Свободе, обеспечивали ему достаточный контроль над мышцами, чтобы сохранять безупречную статуйную неподвижность, пока щупленькая пожилая женщина, оставив у тротуара арендованный автобус, проходила через Греческий период в сопровождении детишек девяти лет и моложе, что она обычно проделывала по вторникам и четвергам между 9.35 и 9.40 утра. К счастью, он избрал сидячую позу.
Не прошло и недели, как он сопоставил обходы сторожа с тиканьем огромных часов в соседней галерее (очаровательное творение восемнадцатого века — позолота, эмаль и ангелочки, которые гонялись друг за другом по кругу). Ему не хотелось, чтобы его украли в первую же неделю вступления на новое поприще. Какая грустная участь ожидает его тогда? Какая-нибудь третьестепенная галерея или тягостная роль в унылых частных коллекциях унылых частных коллекционеров. А потому он был сугубо осторожен, совершая налеты на запасы кафетерия на первом этаже, и прилагал массу стараний, чтобы завоевать симпатию окружающих ангелочков. Дирекция, видимо, не сочла нужным обезопасить свой холодильник и кладовую от налетов экспонатов, и он очень одобрил такое отсутствие воображения с ее стороны. Он угощался вареной ветчиной и хлебом грубого помола (способствует пищеварению), десятками грыз батончики с мороженым. Не миновало и месяца, как ему пришлось заняться гимнастикой в Бронзовом периоде (способствует избавлению от излишков веса).
— Затерянный! — вздыхал он в Новейшем периоде, оглядывая владения, которые считал своими. Он плакал над статуей Сраженного Ахилла, как будто она принадлежала ему. И принадлежала!
Словно в зеркале, он видел себя в коллаже из болтов и гаек.
— Если бы ты не продался, — обвинял он, — если бы ты продержался подольше подобно этим более простым детищам искусства… Но нет! Так быть не могло!
— Ведь не могло? — Он обратился к идеально симметричной подвижной абстракции, свисавшей сверху. — Или могло?
— Быть может, — донесся ответ неведомо откуда, и он взлетел на свой пьедестал.
Но это кончилось ничем. Сторож грешно упивался пышнотелостью на полотне Рубенса в другом крыле здания и не услышал этого обмена репликами. Смит заключил, что ответ указывает на случайное приближение к Дхаране. Он вернулся на путь, удвоив свое стремление к отрицанию и изображению Поверженности.
В следующие дни он иногда слышал похихикивания и шепотки, но сначала отмахивался от них, как от фырканья детей Мары и Майи, поставивших задачей сбить его и отвлечь. Позже он утратил эту уверенность, но к тому времени он остановил свой выбор на классической форме пассивного любопытства.
Потом в один прекрасный весенний день, золотисто-зеленый, как стихи Дилана Томаса, в Греческий период вошла девушка и пугливо огляделась. Он почувствовал, что того и гляди утратит свою мраморную неподвижность, ибо девушка вдруг начала раздеваться!
А на полу — кубический предмет в оберточной бумаге. Объяснение могло быть только одно…
Конкуренция.
Он кашлянул — вежливо, негромко, классически…
Она вздрогнула и изумленно замерла, напомнив ему рекламу женского белья с использованием Фермопил. Волосы у нее были весьма подходящими для ее замысла — бледнейшего оттенка паросского мрамора, а серые глаза блестели ледяной волей Афины.
Она оглядела зал — внимательно, виновато, обаятельно…
— Конечно же, камень не поддается вирусной инфекции, — решила она. — Это прочищала горло моя нечистая совесть. Так вот, совесть, я отрекаюсь от тебя!
И она начала преобразовываться в Скорбящую Гекубу по диагонали от Поверженного Гладиатора, но, к счастью, не лицом к нему. И проделывала это совсем неплохо, вынужден был он признать. Вскоре она обрела эстетичную неподвижность. Профессионально оценив увиденное, он решил, что Афина и вправду была матерью всех искусств. А вот в стиле Возрождения или Романтизма у нее ничего не получилось бы. И ему сразу стало легче.
Когда огромные двери наконец закрылись, она перевела дух и спрыгнула на пол.
— Погодите! — предостерег он. — Через девяносто три секунды здесь пройдет сторож.
Ей достало силы воли, чтобы прервать невольный крик, изящной ручки, чтобы его подавить, и восьмидесяти семи секунд, чтобы вновь стать Скорбящей Гекубой. И все эти восемьдесят семь секунд он восхищался ее силой воли и изящной ручкой.
Сторож приблизился, прошел мимо и скрылся за дверью — в сумраке его фонарик и борода подергивались, как замшелый блуждающий огонек.
— А-ах, — выдохнула она. — Я думала, что здесь одна.
— И не ошиблись, — ответил он. — «Нагие и одинокие приходим мы в изгнание… Среди горящих звезд на этом истомленном негорящем угольке, затерянный… О тщета утраты…»
— Томас Вулф, — констатировала она.
— Да, — обиделся он. — Пошли ужинать.
— Ужинать? — переспросила она, поднимая брови. — Где? Я захватила армейские консервы, которые приобрела на распродаже списанных запасов…
— Сразу видно, что вы стоите на позиции краткосрочного пребывания. Если не ошибаюсь, в меню на сегодня гвоздем была курица. Следуйте за мной!
Они прошли через Династию Тан к лестнице.
— Кое-кому после закрытия тут может показаться прохладно, — начал он, — но, полагаю, вы полностью овладели приемами управления дыханием?
— О да, — ответила она. — Мой жених не просто исповедовал дзен-буддизм. Он избрал более трудный путь Лхасы. Как-то он написал современный вариант «Рамайаны», полный злободневнейших аллюзий и рекомендаций современному обществу.
— И как ее оценило современное общество?
— Увы! Современное общество ее так и не увидело. Мои родители снабдили его билетом первого класса до Рима и несколькими сотнями долларов в форме аккредитивов. Он до сих пор не вернулся. Потому-то я и удалилась от мира.
— Насколько понимаю, ваши родители не одобряют искусства?
— Нет, и мне кажется, они ему угрожали. Он кивнул:
— Так общество обходится с гениями. Я тоже по мере малых моих сил трудился во имя его облагораживания и в награду был пренебрежительно отвергнут.
— Неужели?
— Вот именно. Если на обратном пути мы заглянем в Новейший период, вы можете увидеть моего Сраженного Ахилла.
Раздался сухой смешок, и они замерли на месте.
— Кто тут? — осторожно спросил Смит.
Ответа не последовало. Они находились в Расцвете Рима, и каменные сенаторы безмолвствовали. — Но кто-то же засмеялся! — сказала она.
— Мы тут не одни, — объявил он, пожимая плечами. — Имелись и кое-какие другие признаки. Но кем бы эти неизвестные ни были, они разговорчивы не более монахов-молчальников. И очень хорошо. Лишь камень ты, не забывай! — добавил он весело, и они отправились в кафетерий.
Как-то вечером они ужинали в Новейшем периоде.
— При жизни у вас было имя? — осведомился он.
— Глория, — прошептала она. — А у вас?
— Смит. Джей.
— Что заставило вас пойти в статуи, Смит, если это не слишком нескромный вопрос?
— Вовсе нет, — ответил он с невидимой улыбкой. — Некоторые с рождения обречены на безвестность, другие добиваются ее упорными усилиями. Я принадлежу к последним. Будучи художником-неудачником и оставшись без цента в кармане, я решил стать памятником себе. Здесь тепло, а этажом ниже есть пища. Обстановка приятная, и меня никогда не разоблачат, потому что в музеях никто не смотрит на то, что стоит вокруг.
— Никто?
— Ни единая живая душа, как вы, несомненно, уже сами заметили. Детей притаскивают сюда силой против их воли, молодежь приходит пофлиртовать, а когда человек обретает способность смотреть на что-то, то он либо близорук, либо подвержен галлюцинациям, — сообщил он горько. — В первом случае он ничего не заметит. Во втором — никому не скажет. Парад проходит мимо.
— Но тогда зачем музеи?
— Дорогая моя! Такой вопрос в устах бывшей невесты истинного художника указывает, что связь ваша была лишь кратким…
— Право же! — перебила она. — Правильным будет лишь «помолвка»!
— Пусть так, — поправился он, — пусть помолвка. Как бы то ни было, музеи отражают прошлое, которое мертво, настоящее, ничего не замечающее, а также передают культурное наследие человечества еще не народившемуся будущему. В этом смысле они близки к храмам. В религиозном смысле.
— Такая мысль мне в голову не приходила, — произнесла она задумчиво. — И она прекрасна. Вам следовало бы стать учителем.
— Платят мало, но идея утешительная. Идем, пограбим холодильник еще раз.
Они грызли заключительные батончики мороженого и обсуждали Сраженного Ахилла, уютно расположившись под большой подвижной абстракцией, которая походила на заморенного голодом осьминога. Смит рассказывал ей о других своих великих замыслах и о мерзких критиках, злобных, с желчью в жилах вместо крови, которые рыщут по воскресным газетам и ненавидят жизнь. Она в ответ поведала ему о своих родителях, которые знали Арта и знали, почему он не должен ей нравиться, и об огромных богатствах своих родителей — лесоматериалы, недвижимость и нефть в равных долях.
Он в ответ погладил ее по плечу, а она в ответ заморгала и улыбнулась эллинистически.
— Знаете, — сказал он под конец, — день за днем, сидя на моем пьедестале, я часто думал: «Быть может, мой долг — вернуться и попытаться еще раз содрать катаракты с глаз обывателей. Быть может… Если бы я обрел материальную обеспеченность и спокойствие духа… Быть может, если бы я нашел единственную женщину… Но нет! Такой не существует.
— Продолжайте! Прошу вас, продолжайте! — вскричала она. — И я последние дни думала, что, быть может, другой художник оказался бы в силах залечить рану. Быть может, творец красоты сумел бы исцелить от яда одиночества… Если бы мы…
Но тут низенький безобразный человек в тоге громко откашлялся.
— Этого-то я и опасался! — объявил он.
Тощим, морщинистым, неопрятным был он — человек с изъязвленным желудком и увеличенной печенью. Он ткнул в них грозящим перстом.
— Этого-то я и боялся, — повторил он.
— К-к-кто вы? — спросила Глория.
— Кассий, — ответил он. — Кассий Фицмаллен, художественный критик, на покое, из далтоновской «Таймс». Вы сговорились переметнуться.
— А вам какое дело, если мы решили уйти? — спросил Смит, поигрывая полузащитниковскими мышцами Поверженного Гладиатора.
— Какое дело? Ваше дезертирство поставит под угрозу целый образ жизни. Уйдя, вы, без сомнения, станете художником или преподавателем в какой-нибудь художественной школе, и рано или поздно каким-нибудь словом, жестом, подмаргиванием либо иным неосознанным способом вы сообщите другим то, о чем всегда подозревали. Я не одну неделю слушал ваши разговоры. Вы теперь уже безусловно знаете, что именно сюда в конце концов приходят все художественные критики, чтобы остаток дней своих провести, потешаясь над тем, к чему всегда питали ненависть. Вот чем объясняется увеличение числа римских сенаторов за последние годы.
— Подозревать я подозревал, но уверен не был.
— Достаточно и подозрения. Оно убийственно. Вас следует судить.
Он хлопнул в ладоши и воззвал:
— Приговор!
Медленно вошли другие древние римляне — процессия покривившихся свечей. Они кольцом окружили влюбленных. Дряхлые критики источали запах пыли, пожелтевшей газетной бумаги, желчи и ушедшего времени.
— Они желают вернуться к людям, — объявил Кассий. — Они желают уйти отсюда и унести с собой все, о чем узнали.
— Мы никому не скажем! — со слезами сказала Глория.
— Слишком поздно, — ответила одна из темных фигур. — Вы уже занесены в каталог. Вот убедитесь. — Он достал экземпляр каталога и прочел: «Номер двадцать восемь: Скорбящая Гекуба. Номер тридцать два: Поверженный Гладиатор». Да! Слишком поздно. Начнутся поиски.
— Приговор! — повторил Кассий.
Сенаторы медленно опустили вниз большие пальцы.
— Вы не уйдете!
Смит усмехнулся и зажал тунику Кассия в мощной скульптурной хватке.
— Недомерок! — сказал он. — А как ты собираешься нам помешать? Стоит Глории взвизгнуть, и явится сторож, который включит сигнал тревоги. Стоит мне разок тебя стукнуть, и ты неделю проваляешься без памяти.
— Когда сторож заснул, мы отключили его слуховой аппарат, — улыбнулся Кассий. — И критики не лишены воображения, уверяю вас. Прочь руки, не то вам будет худо.
Смит сжал его покрепче.
— Только попробуйте!
— Приговор! — улыбнулся Кассий.
— Он из нынешних, — сказал один.
— И, значит, из упорствующих, — добавил второй.
— Львам его, вместе с христианами! — добавил третий.
И Смит в панике отпрыгнул: ему почудилось какое-то движение в полном тенями углу. Кассий вырвался.
— Этого вы не можете! — крикнула Глория, пряча лицо в ладонях. — Мы из Греческого периода!
— По-гречески жить, по-римски выть, — ухмыльнулся Кассий.
В ноздри им ударил кошачий запах.
— Но как вы смогли — здесь?.. Лев?.. — спросил Смит.
— Особый профессиональный гипнотизм, — сообщил Кассий. — Почти все время зверя мы держим в парализованном состоянии. Вас не удивляло, что этот музей никогда не грабили? Нет, попытки были! Но мы защищаем свои интересы.
Из теней мягкой походкой медленно вышел худосочный лев-альбинос, который обычно спал с внутренней стороны главного входа, и зарычал. Один раз и громко.
Смит загородил собой Глорию, когда огромная кошка начала готовиться к прыжку, и покосился на Форум. Но Форум был пуст. Только словно шелестела крыльями стайка кожаных голубей, уносясь вдаль.
— Мы одни, — констатировала Глория.
— Беги! — скомандовал Смит. — Я постараюсь его задержать. Выберись наружу, если сумеешь.
— Покинуть тебя? Никогда, любимый! Вместе. Теперь и навеки!
— Глория!
— Джей Смит!
В этот миг зверь вознамерился прыгнуть и тут же привел свое намерение в исполнение.
— Прощай, моя возлюбленная.
— Прощай! Но один поцелуй перед смертью, молю. Зверь завис высоко в воздухе, испуская голодное покашливание.
— Валяй!
Они слились в поцелуе.
Вверху висела луна, высеченная в форме кошки, бледнейшего из зверей, висела высоко, висела угрожающе, висела долго…
Лев начал извиваться и бешено бить когтистыми лапами в том среднем пространстве между полом и потолком, для которого в архитектуре нет специального названия.
— М-м-м! Еще поцелуй?
— Почему бы и нет? Жизнь сладостна.
На бесшумных стопах пробежала минута, ее нагоняла другая.
— Послушай, что удерживает этого льва наверху?
— Я удерживаю, — ответила подвижная абстракция. — Не только вы, люди, ищете спокойствия среди останков вашего мертвого прошлого.
Голосок был жиденький, надломленный, точно мелодия особо трудолюбивой эоловой арфы.
— Мне не хотелось бы выглядеть навязчивым, — сказал Смит, — но кто вы?
— Я инопланетная форма жизни, — протинькала абстракция, переваривая льва. — Мой космолет потерпел аварию на пути к Арктуру. Вскоре мне стало ясно, что на вашей планете моя внешность может оказаться для меня роковой, кроме как в музее, где я вызываю большое восхищение. Будучи членом весьма утонченной и, позволительно мне будет это сказать, несколько склонной к нарциссизму расе… — Абстракция смолкла, чтобы изысканно рыгнуть, а затем продолжала: —…Я наслаждаюсь пребыванием здесь, «среди горящих звезд на этом истомленном негорящем угольке (рыгание), затерянный».
— Ах вот как! — сказал Смит. — Спасибо, что скушали льва.
— Не стоит благодарности. Хотя это было не слишком благоразумно. Видите ли, я сейчас размножусь делением. Можно второе мое «я» пойдет с вами?
— Естественно. Вы спасли нам жизнь, и нам понадобится повесить что-нибудь в гостиной, когда мы обзаведемся таковой.
— Отлично.
И она размножилась делением в корчах гемиполудемисодроганий и шлепнулась на пол рядом с ними.
— Всего хорошего, я, — протинькала она вверх.
— Бывай, — донеслось сверху.
Они гордо вышли из Новейшего периода, прошли через Греческий и миновали Римский с большим высокомерием и безупречно спокойным достоинством. Уже не Поверженный Гладиатор, Скорбящая Гекуба и Ино экс махина, они забрали ключ спящего сторожа, отперли дверь, спустились по лестнице и вышли в ночь на юных ногах и щупальцах.
Божественное безумие
… Я ЭТО «?слушатели пораженные точно, застывают они и, звезды блуждающие небытия из вызывает горя вопль ЧЕЙ»…
Он продул дым через сигарету, и она удлинилась.
Он взглянул на часы и осознал, что стрелки движутся в обратную сторону.
Часы сказали ему, что десять часов тридцать три минуты вечера сменились десятью часами тридцатью двумя минутами.
А потом наступило что-то вроде отчаяния, так как он знал, что ничего не сможет с этим поделать. Он был в ловушке — двигался в обратном направлении через последовательность прошлых действий. Просто он не уловил предупредительного симптома.
Обычно возникал призматический эффект, проблеск розовой статики, сонливость, миг обостренного восприятия…
Он переворачивал страницы слева направо, его глаза бежали по строчкам в обратном направлении.
«?воздействие такое оказывает горе чье, это КТО».
Он беспомощно наблюдал из глубины глаз, как действует его тело.
Сигарета достигла своей изначальной длины. Он щелкнул зажигалкой, огонек впрыгнул внутрь, и он выстрелил сигарету в пачку.
Он зевнул. Наоборот: сначала выдохнул, потом вдохнул.
Обман чувств, объяснил ему доктор. Горе и эпилепсия породили уникальный синдром.
У него уже был припадок. Диалантин не помогал. Это были послетравматические локомоторные галлюцинации, порожденные тревожным состоянием, усугубленные припадком.
Но он не поверил, не мог поверить, после того как в обратном направлении прошло двадцать минут, после того как он поставил книгу на пюпитр, поднялся, прошел через комнату спиной до встроенного шкафа, повесил халат, в обратном порядке надел рубашку и спортивные брюки, которые носил с утра, попятился к бару и начал изрыгать мартини глоточек за прохладным глоточком, пока бокал не наполнился до краев, и не пролилось ни единой капли.
Предвкушение солоноватости маслины, и все вновь переменилось. Секундная стрелка на наручных часах бежала в обычном направлении.
Часы показывали 10 часов 7 минут.
Он почувствовал, что может двигаться, как пожелает.
И вновь выпил мартини из полного до краев бокала.
Теперь, если остаться верным прежней последовательности, он переоденется в халат и попытается читать. Вместо этого он смешал еще один коктейль.
Теперь последовательность нарушилась.
Теперь ничего не произойдет так, как оно, по его впечатлению, произошло в обратном порядке.
Теперь все стало по-другому.
И все доказывало, что случившееся было галлюцинацией.
Даже идея, что движение в каждом направлении заняло двадцать шесть минут, была попыткой разумного объяснения.
Нет, ничего не произошло.
…Не следует пить, решил он. Это может вызвать припадок.
Он засмеялся.
Вообще-то — чистое безумие. Вспоминая, он выпил бокал.
Утром он по обыкновению обошелся без завтрака, отметил про себя, что уже довольно поздно, принял две таблетки аспирина и тепловатый душ, выпил чашку кофе и вышел на прогулку.
Парк, фонтан, детишки пускают кораблики, трава, пруд — он ненавидел их всех, и утро, и солнечный свет, и голубые разводы между башнями облаков.
Он сидел и ненавидел. И вспоминал.
Если он на грани психического срыва, решил он, то уж лучше сразу сорваться, а не пошатываться на краю.
И он помнил почему.
Но все было ясным, таким ясным — утро, и все. Резким, отчетливым, пылающим зеленым огнем весны под знаком Овна. Апрель.
Он смотрел, как ветер громоздит ошметки зимы у далекой серой ограды, видел, как он гонит кораблики через пруд к топкому берегу в отпечатках детских следов.
Фонтан раскидывал холодный зонт над позеленевшими бронзовыми дельфинами. Солнце зажигало струи огнями, стоило ему повернуть голову. Ветер ворошил их.
На бетоне, сбившись кучкой, птицы клевали огрызок шоколадного батончика в красной обертке.
Воздушные змеи покачивались на хвостах, пикировали к земле, вновь взмывали, подчиняясь невидимым нитям, которые держали мальчишки. Телефонные провода были увешаны планками каркасов, облеплены рваной бумагой — обломанные нотные знаки, смазанные глиссандо.
Он ненавидел телефонные провода, воздушных змеев, детей, птиц.
Хотя больше всего он ненавидел себя.
Как человек разделывает обратно то, что сделал? Никак. Нет для этого способа нигде под солнцем. Можно страдать, помнить, каяться, проклинать или забывать. И только. Прошлое в этом смысле неизбежно.
Мимо прошла женщина. Он слишком поздно поднял глаза и не увидел ее лица, но пепельный водопад волос по плечи, стройность ног в ажурности чулок между краем черного пальто и бодрым перестуком каблучков остановили его дыхание где-то под диафрагмой, запутали его взгляд в колдовском плетении ее походки, ее осанки и в чем-то еще — вроде рифмы к последней из его мыслей.
Он привстал со скамьи, но тут по его глазным яблокам ударила розовая статика, и фонтан превратился в вулкан, извергающий радуги.
Мир был заморожен и подан ему под стеклом.
…Женщина прошла спиной перед ним, и он опустил глаза слишком быстро, чтобы заметить ее лицо.
Он понял, что возобновляется ад — птицы пролетели мимо хвостами вперед.
Он отдался течению. Пусть несет его, пока он не сломается, пока он весь не израсходуется и не останется ничего.
Он ждал там на берегу, следя за круговоротом вещей, а фонтан всасывал струи по большой дуге над недвижными дельфинами, а кораблики плыли через пруд кормой вперед, а ограда сбрасывала с себя мусор, а птицы восстанавливали шоколадный батончик внутри красной обертки — крошку за хрусткой крошкой.
Только его мысли были неприкосновенны, а тело принадлежало отливной волне. Через какое-то время он встал и спиной вышел из парка. На улице мимо него пропятился мальчишка, всвистывая обрывки популярного мотивчика. Спиной вперед он поднялся по лестнице к себе в квартиру, ощущая нарастающее похмелье, развыпил свой кофе, распринял душ, разглотнул аспирин и лег в постель, чувствуя себя ужасно. Пусть так, решил он. Смутно припомнившийся кошмар развернулся обратно у него в сознании, обеспечив незаслуженно счастливый конец.
Когда он проснулся, было темно. И он был очень пьян.
Он попятился до бара и начал выплевывать спиртное в тот же бокал, каким пользовался накануне, и выливать из бокала назад в бутылки. Разделять джин и вермут оказалось проще простого — каждая жидкость сама взвивалась пологой струей в соответствующую бутылку, которую он наклонял над бокалом.
И пока это продолжалось, его опьянение неуклонно шло на убыль.
Затем он оказался перед ранним мартини, и было 10 часов 7 минут вечера. И тут в пределах галлюцинации он задумался о другой галлюцинации. Будет ли время замыкаться в петле — двойной, то вперед, то назад, через его предыдущий припадок?
Нет.
Как будто того припадка никогда не случалось, никогда не было.
Он продолжал пятиться через вечер, разделывая сделанное.
Он взял телефонную трубку, сказал «всего хорошего», разобъяснил Мэррею, что завтра опять не явится на работу, послушал, положил трубку и посмотрел на нее, когда телефон зазвонил.
Солнце поднялось на западе, и люди задним ходом ехали в своих машинах на работу.
Он прочел прогноз погоды и заголовки, сложил вечернюю газету и оставил ее на столике в прихожей.
Такого длительного припадка у него еще не бывало, но это его не волновало. Он приспособился и наблюдал, как день разматывается к утру.
По мере этого его похмелье нарастало и стало жутким, когда он снова лег в постель.
Когда он очнулся в предыдущем вечере, то был пьян в дымину. Он заполнил, закупорил, запечатал две бутылки. Он знал, что скоро отнесет их в винный магазин и получит обратно свои деньги.
И пока он сидел там весь этот день, а его рот вбирал ругань и исторгал алкоголь и его глаза распрочитывали прочтенное, он знал, что одновременно новые машины отправляются назад в Детройт и разбираются на конвейере, что трупы воскресают в предсмертную агонию, а священники во всем мире, сами того не подозревая, служат черные мессы.
Ему хотелось засмеяться, но он не мог принудить свой рот сделать это.
Он вкурил две с половиной пачки сигарет. Затем наступило новое похмелье, и он лег в постель. Потом солнце зашло на востоке.
Крылатая колесница Времени неслась перед ним, когда он открыл дверь, сказал «до свидания» своим утешителям, и они вошли, сели и посоветовали ему не поддаваться горю до такой степени.
Он заплакал без слез, представив себе, что ему предстояло.
Вопреки своему безумию, он страдал.
…Страдал, а дни катились назад.
…Назад, неумолимо.
…Неумолимо, пока он не понял, что это время уже близко.
Он мысленно скрежетал зубами.
Велики были его горе, его ненависть, его любовь.
Он был в своем траурном костюме и развыпивал бокал за бокалом, а где-то люди наскребывали землю назад на лопаты, которые будут использованы, чтобы расзакопать могилы.
Он въехал задним ходом на своей машине на стоянку у похоронного бюро, поставил ее и сел в лимузин.
Они ехали задним ходом всю дорогу до кладбища.
Он стоял среди своих друзей и слушал священника.
— .праху прах, земле Земля, — сказал тот, а впрочем, в каком порядке ни говори эти слова, получается практически то же самое.
Гроб был поднят назад на катафалк и возвращен в траурный зал похоронного бюро.
Он просидел службу, и отправился домой, и распобрился, и распочистил зубы, и лег спать.
Он проснулся, снова оделся в траур и вернулся в бюро.
Цветы все были на своих местах.
Друзья со скорбными лицами разрасписались в книге соболезнований и распожали ему руку. Затем они вошли внутрь посидеть и посмотреть на закрытый гроб. Затем они ушли, а он остался наедине с распорядителем похорон.
Затем он остался наедине с собой.
По его щекам текли вверх слезы.
Костюм и рубашка были вновь несмятыми.
Он уехал задним ходом домой, разделся, распричесал волосы. День вокруг него рухнул в утро, и он вернулся в постель распроспать еще одну ночь.
В предыдущий вечер, проснувшись, он понял, что ему предстоит.
Дважды он напряг всю свою силу воли, чтобы прервать последовательность событий. И потерпел неудачу.
Он хотел умереть. Убей он себя в тот день, так не возвращался бы к нему теперь.
В его сознании закипали слезы при мысли о прошлом, от которого его теперь отделяло менее суток.
Прошлое преследовало его по пятам в этот день, пока он раздоговаривался о покупке гроба, склепа, всяких похоронных принадлежностей.
Затем он возвратился домой к похмелью — самому тяжелому — и спал, пока не проснулся, чтобы развыпивать бокал за бокалом, а затем вернуться в морг и снова прийти домой как раз вовремя, чтобы повесить трубку после этого звонка, этого звонка, который раздался, чтобы нарушить…
…Безмолвие его злости своим треньканьем.
Она погибла.
Она лежала где-то в обломках своей машины на девяностом шоссе.
Пока он расхаживал, вкуривая сигарету, он знал, что она лежит там и истекает кровью.
…И умирает после аварии на скорости восьмидесяти миль в час.
…И оживает?
…И вместе с машиной становится целой и невредимой, и вновь живет, воскресшая? И в эту самую минуту мчится багажником вперед домой на жуткой скорости, чтобы раззахлопнуть дверь после их финальной ссоры? Чтобы разнакричать на него и чтобы он разнакричал на нее?
Он мысленно застонал. Он в душе своей ломал руки. Не может это остановиться именно сейчас. Нет. Только не сейчас.
Все горе, вся любовь, вся ненависть к себе вернули его так далеко, так близко к той минуте…
Не может, не может это кончиться теперь.
Через какое-то время он перешел в гостиную, его ноги ходили из угла в угол, его губы сыпали ругательства, а сам он ждал.
Дверь хлопнула и открылась.
Она смотрела на него. Тушь смазана, слезы на щеках.
— !чертям всем ко уезжай Так, — сказал он.
— !уезжаю Я, — сказала она. Вошла внутрь, закрыла дверь. Торопливо повесила пальто на вешалку.
— .считаешь ты как вот Ах, — сказал он, пожимая плечами.
— !себя кроме, нужен не никто Тебе, — сказала она.
— !ребенка хуже себя ведешь Ты, — сказал он.
— !хотел не что, сказать, мере крайней по, бы мог Ты.
Ее глаза блеснули, как два изумруда, сквозь розовую пелену статики, и вот она — прелестная, вновь живая. В мыслях он плясал от радости.
Произошла перемена.
— Ты мог бы, по крайней мере, сказать, что не хотел!
— Я не хотел, — сказал он, сжимая ее руку так, что она не могла вырваться. — И ты никогда не узнаешь, до чего же я не хотел. Обними меня, — сказал он.
И она обняла.
Коррида
Он проснулся под ультразвуковой вопль, который терзал его барабанные перепонки, оставаясь за порогом слышимости.
Он поднялся на ноги в полной темноте.
Несколько раз он натыкался на стены. Как сквозь туман он понял, что руки у него от самых плеч болят, будто их истыкали иголками.
Звук доводил его до исступления…
Бежать! Необходимо как-то выбраться отсюда! Слева от него появилось пятнышко света. Он повернулся, бросился туда, и пятнышко стало дверью.
Он выбежал наружу и остановился, жмурясь от ослепительного блеска, который ударил ему в глаза.
Он был совершенно голым, мокрым от пота. Его сознание окутывал туман, в котором шевелились обрывки сновидений.
Он услышал рев, словно рев толпы, и заморгал, стараясь свыкнуться с ярким светом.
На некотором расстоянии перед ним высилась темная фигура. Охваченный яростью, он ринулся на нее, сам не зная почему.
Его босые ноги наступали на горячий песок, но он не замечал боли, готовый к нападению.
Где-то в сознании всплыл вопрос «зачем?», но он не стал задумываться.
Тут он остановился.
Перед ним стояла, маня, приглашая, нагая женщина, и в его чреслах вспыхнуло нежданное пламя.
Он повернул чуть влево и двинулся к ней.
Она удалялась танцующей походкой.
Он побежал быстрее, но в тот миг, когда он уже почти обнял ее, его правое плечо обожгло пламя, и она исчезла.
Он взглянул на свое плечо: в него вонзился алюминиевый дротик, и по руке струилась кровь. Вновь раздался рев.
…И она появилась снова.
Он опять погнался за ней, и его левое плечо обжег нежданный огонь. Она исчезла, а он стоял, содрогаясь, потея, щурясь от блеска.
«Это трюк, — решил он. — Не играй в эту игру!»
Она появилась вновь, но он остался стоять, не глядя на нее.
Пламя за пламенем обжигало его, но он упрямо стоял, пытаясь собраться с мыслями.
Вновь появилась темная фигура футов семи высотой, с двумя парами рук.
В одной она что-то держала. Не будь освещение таким слепящим, он, пожалуй, мог бы…
Но темная фигура вызвала в нем такую ненависть, что он ринулся на нее.
Боль хлестнула его по боку.
Погодите! Да погодите же!
«Безумие! Это какое-то безумие! — сказал он себе, обретая свою личность. — Это же арена, я человек, а темная фигура — нет. Что-то не так!»
Он опустился на четвереньки, выигрывая время. И зажал песок в обоих кулаках.
Тут он ощутил болезненный электрический разряд. Еще и еще. Он терпел, покуда мог, потом встал на ноги.
Темная фигура чем-то размахивала перед ним, и он почувствовал прилив ненависти.
Ринулся вперед и остановился перед ней. Теперь он знал, что это игра. Его зовут Майкл Кассиди. Он адвокат. В Нью-Йорке. Юридическая фирма Джонсона, Уимса, Догерти и Кассиди. Человек на улице остановил его и попросил прикурить. На углу, поздно вечером. Это он запомнил.
И швырнул песком в голову фигуры.
Она пошатнулась, воздев руки к тому, что могло быть ее лицом.
Стиснув зубы, он выдернул алюминиевый дротик из плеча и вогнал его заостренный конец в среднюю часть фигуры.
Что-то коснулось его затылка, все окуталось мраком, и он долгое время пролежал неподвижно.
Когда он вновь мог Пошевелиться, то увидел темную фигуру и попытался нанести ей удар.
Но промахнулся, и его спину полоснула боль, а по коже что-то потекло.
Он вновь поднялся на ноги и заревел:
— Вы не можете так обращаться со мной! Я человек, а не бык!
Раздались аплодисменты.
Шесть раз он бросался на темную фигуру, пытаясь схватиться с ней, скрутить ее, причинить ей боль. И всякий раз боль испытывал он.
Он остановился, хрипя и задыхаясь, плечи у него горели, спина ныла от боли, но сознание на мгновение прояснилось, и он сказал:
— Ты ведь Бог, верно? И вот так Ты играешь в свои игры…
Фигура ничего не ответила, и он ринулся на нее. Внезапно остановился, упал на одно колено и всем телом ударил ее по ногам.
В боку он ощутил невероятную жгучую боль, но темный лежал перед ним на песке. Он дважды ударил его кулаками, но тут боль ввинтилась ему в грудь, и он почувствовал, что его тело немеет.
— Или нет? — спросил он непослушными губами. — Нет, Ты не Бог… Где я?
Последним его воспоминанием было что-то острое, режущее ему уши.
Снова и снова
Им следовало бы знать, что меня все равно не удержишь. Возможно, это понимали, поэтому рядом всегда была Стелла.
Я смотрел на копну золотистых волос, на голову, лежавшую у меня на руке. Для меня она не только жена, она — надзиратель. Как я был слеп!
Ну а что еще они сделали со мной?
Заставили забыть, кто я такой.
Потому что я был подобен им, но не из их числа, они приковали меня к этому времени и к этому месту.
Меня принудили забыть. Меня пленили любовью.
Я встал и стряхнул последние звенья цепи. На полу спальной камеры лежали лунные блики решетки. Я прошел через нее к своей одежде.
Где-то вдали тихо играла музыка. Вот что дало толчок. Так давно не слышал я этой музыки…
Как они поймали меня?
Маленькое королевство века назад, где я изобрел порох… Да! Меня схватили там, в Другом месте, несмотря на монашеский капюшон и классическую латынь.
Интересно, как долго я живу здесь? Сорок пять лет памяти — но сколько из них фальшивых?
Зеркало в прихожей отразило тучноватого, с редеющими волосами мужчину средних лет в красной спортивной рубашке и в черных брюках.
Музыка звучала громче — музыка, которую лишь я мог слышать: гитары и равномерный бой барабана.
Скрестите меня с ангелом и все равно не сделаете меня святым, друзья!
Я превратился снова в молодого и сильного и сбежал по лестнице в гостиную. Сверху донесся звук. Проснулась Стелла.
Зазвонил телефон. Он висел на стене и звонил, звонил, звонил, пока я не выдержал.
— Ты опять за свое… — произнес хорошо знакомый голос.
— Не надо винить женщину, — сказал я. — Она не могла наблюдать за мной вечно.
— Лучше тебе оставаться на месте, — посоветовал голос. — Это избавит нас обоих от лишних Хлопот.
— Спокойной ночи, — ответил я и повесил трубку.
Трубка защелкнулась вокруг моего запястья, а провод превратился в цепь, ведущую к кольцу на стене. Какое ребячество!
Наверху одевалась Стелла. Я сделал восемнадцать шагов в сторону Отсюда, к месту, где моя чешуйчатая конечность свободно выскользнула из оплетших ее виноградных лоз.
Затем назад, в гостиную, и за дверь. Из двух машин, стоявших в гараже, я выбрал самую скоростную. Вперед, на ночное шоссе…
В зеркальце заднего вида появились огни.
Они?
Слишком быстро.
Это либо случайный попутный автомобиль, либо Стелла.
Я сместился.
Меня несла низкая, более мощная машина. Снова смещение.
Машина на воздушной подушке мчалась по разбитой и развороченной дороге. Здания по сторонам были сделаны из металла. Ни дерева, ни кирпича, ни камня.
Сзади на повороте высветились огни.
Я потушил фары и сместился. И снова, и снова, и снова.
Я летел, рассекая воздух, высоко над равнинами. Еще смещение, и я над парящей землей, а гигантские рептилии поднимают из грязи свои головы. Преследования не было…
Я снова сместился.
Лес — почти до самой вершины высокого холма, где стоял древний замок. Одетый воителем, я восседал на летящем гиппогрифе. Приземлившись в лесу, я приказал: «Стань конем!» — и произнес заветное слово.
Черный жеребец рысью нес меня по извилистой лесной тропе.
Остаться здесь, в дремучей чаще, и сразиться с ними волшебством или двигаться дальше и встретить их в мире науки?
Или окольным путем — в Другое место, надеясь окончательно ускользнуть от преследования? Все решилось само.
Сзади раздалось клацанье копыт, и появился рыцарь на высоком горделивом коне, закованный в сверкающую броню, с красным крестом на щите.
— Достаточно! — скомандовал он. — Бросай поводья!
Я превратил его вознесенный грозно меч в змею. Он разжал ладонь, и змея зашуршала в траве.
— Почему ты не сдаешься? — спросил рыцарь. — Почему не присоединишься к нам, не успокоишься?
— Почему не сдаешься ты? Не бросишь их и не пойдешь со мной? Мы могли бы вместе изменять…
Но он подобрался слишком близко, рассчитывая столкнуть Меня щитом.
Я взмахнул рукой, и его лошадь оступилась, скинув рыцаря на землю.
— Мор и войны следуют по твоим пятам! — закричал он.
— Любой прогресс требует платы.
— Глупец! Никакого прогресса не существует! Нет прогресса, как ты его представляешь. Что хорошего принесут все твои машины и идеи, если сами люди остаются прежними?
— Человек не всегда поспевает за идеями, — ответил я, спешился и подошел к нему. — Вечных Темных веков жаждешь ты и тебе подобные. И все же мне жаль, что приходится делать это.
Я отстегнул нож и вонзил его в забрало, но шлем был пуст. Тот, кто скрывался под ним, ускользнул в Другое место, еще раз преподав урок о тщетности споров со сторонником этической эволюции.
Я сел на коня и двинулся в путь.
Через некоторое время сзади меня заклацали подковы. Я произнес слово, посадившее меня на лоснящуюся спину единорога, молнией прорезающего черный лес. Погоня продолжалась.
Наконец появилась маленькая поляна с пирамидой из камней в центре. Я спешился и освободил немедленно исчезнувшего единорога.
Я забрался на пирамиду, закурил и стал ждать.
На поляну вышла серая кобыла.
— Стелла!
— Слезай оттуда! — крикнула она. — Они могут начать атаку в любой момент!
— Я готов! — сказал я.
— Их больше! Они победят, как побеждали всегда. А ты будешь терпеть поражение снова и снова, пока борешься. Спускайся и уходи со мной. Пока еще не поздно!
Молния сорвалась с безоблачного неба, но у пирамиды дрогнула и зажгла дерево поблизости.
— Они начали!
— Тогда уходи отсюда, девочка. Здесь тебе не место.
— Но ты мой!
— Я свой собственный и больше ничей! Не забывай об этом!
— Я люблю тебя!
— Ты предала меня.
— Нет. Ты говорил, что любишь человечество…
— Да.
— Не верю тебе! Не может быть — после того, что ты сделал…
Я поднял руку.
— Изыди Отсюда в пространстве и времени, — молвил я и остался один.
Молнии били чередой, опаляя землю. Я потряс кулаком.
— Ну неужели вы никогда не оставите меня в покое? Дайте мне век, и я покажу вам мир, который, по-вашему, существовать не может!
В ответ земля задрожала и начала гудеть.
Я бился с ними. Я швырял молнии назад в их лица. Я выворачивал наизнанку поднявшиеся ветры. Но земля продолжала дрожать, и в основании пирамиды появились трещины.
— Покажитесь! — вскричал я. — Выйдите честно, один на один!
Но земля разверзлась, и пирамида рассыпалась. Я падал во тьму.
Я бежал. Я был маленьким пушистым зверьком, а за мной по пятам неслась, рыча, свора гончих псов; их глаза сверкали, как огненные прожекторы, их клыки блестели, как мечи.
Я несся на крыльях колибри и услышал крик ястреба…
Я плыл сквозь мрак и вдруг почувствовал прикосновение щупальца…
Я излучался радиоволнами…
Меня заглушили помехи.
Я был пойман в силки, как рыба в сеть. Я попался… Откуда-то донесся плач Стеллы.
— Почему ты рвешься, снова и снова? — говорила она. — Почему не довольствуешься жизнью спокойной и приятной? Неужели не помнишь, что они сделали с тобой в прошлом? Разве дни со мной не бесконечно лучше?
— Нет! — закричал я.
— Я люблю тебя, — сказала она.
— Такая любовь — явление воображаемое, — ответил я и был поднят и унесен прочь.
Она всхлипывала и следовала за мной.
— Я умолила их оставить тебя в мире, но ты швырнул этот дар мне в лицо.
— Мир евнуха, мир лоботомии… Нет, пусть они делают со мной что хотят. Их правда обернется ложью.
— Неужели ты веришь в то, что говоришь? Неужели ты забыл солнце Кавказа — и терзающего тебя грифа?
— Не забыл, — ответил я. — Но я ненавижу их. Я буду бороться с ними всегда и когда-нибудь добьюсь победы.
— Я люблю тебя…
— Неужели ты веришь в то, что говоришь?
— Глупец! — прогремел хор голосов, и я был распластан на скале и закован.
Весь день змея брызжет ядом в мое лицо, а Стелла подставляет чашу. И только когда женщина, предавшая меня, должна выплеснуть чашу мне в глаза, я кричу.
Но я снова освобожусь и снова приду со многими дарами на помощь многострадальному человечеству. А до тех пор я могу лишь смотреть на мучительно тонкую решетку ее пальцев на дне этой чаши и кричать, когда она ее убирает.
Человек, который любил фейоли
Это история Джона Одена и фейоли, и никто не знает ее лучше меня. Так слушайте…
В тот вечер он прогуливался (никаких причин не прогуливаться не было) по самым своим любимым местам в мире и вблизи Каньона Мертвых увидел сидящую на камне фейоли — ее крылышки из света мерцали, мерцали, мерцали, а потом исчезли, и уже казалось, что на камне сидит просто девушка, вся в белом, и плачет, а длинные черные локоны свиваются у ее талии.
Он направился к ней в жутких отблесках умирающего, уже наполовину мертвого солнца, среди которых человеческие глаза не могут верно оценивать перспективу и определять расстояния (хотя его глаза могли), и он положил правую ладонь на ее плечо и произнес слова приветствия и утешения.
Однако могло показаться, что его вовсе не существует. Она продолжала плакать, и полоски серебра тянулись по щекам цвета снега или кости. Миндалевидные глаза смотрели прямо вперед, будто сквозь него, а длинные ногти глубоко впивались в плоть ее ладоней, хотя под ними нигде не выступило ни капельки крови.
Тут он понял, что все это чистая правда — все то, что рассказывали о фейоли: они видят только живых, а мертвых — нет и принимают облик самых обворожительных женщин во всей Вселенной. Сам будучи мертвым, Джон Оден прикинул, какими будут последствия, если вновь на время стать живым человеком.
Как известно, порой фейоли являются человеку за месяц до его смерти — тем редким людям, которые еще умирают, — и живут с ними до конца этого последнего месяца его существования, одаривая всеми наслаждениями, какие только доступно испытывать человеку; и потому в день, когда приходит срок поцелуя смерти, высасывающего остатки жизни из тела, человек смиряется с ним… нет, сам ищет его с охотой и Достоинством, ибо власть фейоли такова, что познание ее кладет конец всем желаниям.
Джон Оден взвесил свою жизнь и свою смерть, условия мира, на котором находился, природу своей миссии, своего проклятия, фейоли — а прекраснее создания он не видел за все четыреста тысяч дней своего существования, — и он коснулся места слева под мышкой, которое активировало механизм, делающий его живым.
Фейоли напряглась от его прикосновения, так как внезапно почувствовал плоть — теплую плоть, женскую плоть, — вот что чувствовал он теперь, когда ему были возвращены жизненные ощущения. Он знал, что его прикосновение вновь стало прикосновением мужчины.
— Я сказал «привет, не плачь!», — повторил он, и голос ее был как все забытые ветерки в ветвях всех забытых им деревьев, с их влагой, ароматами, их красками, возвращенными ему таким способом.
— Откуда вы появились, человек? Мгновение назад вас тут не было.
— Из Каньона Мертвых, — ответил он.
— Позвольте мне прикоснуться к вашему лицу, — сказала она.
И он позволил. И она прикоснулась.
— Странно, что я не почувствовала вашего приближения.
— Это странный мир, — ответил он.
— Правда, — сказала она. — Живой здесь только вы. А он спросил:
— Как твое имя?
— Называйте меня Сития, — сказала она, и он назвал ее так.
— Меня зовут Джон, — сообщил он ей. — Джон Оден.
— Я пришла побыть с вами, утешить вас и ободрить, — сказала она, и он понял, что обряд начался.
— Почему ты плакала, когда я тебя нашел? — спросил он.
— Потому что подумала, что в этом мире нет ничего, а я так устала от моих странствований, — объяснила она. — Вы живете поблизости?
— Неподалеку, — ответил он. — Совсем близко.
— Вы не отведете меня туда? В то место, где живете.
— Хорошо.
И она встала и последовала за ним в Каньон Мертвых, где он устроил свой дом.
Они спускались, спускались, спускались, и повсюду вокруг были останки когда-то живших людей. Она, казалось, ничего этого не видела и не спускала глаз с лица Джона, опираясь на его руку.
— Почему вы назвали это место Каньоном Мертвых? — спросила она.
— Потому что они всюду вокруг нас — мертвые, — ответил он.
— Но я ничего такого не вижу.
— Знаю.
Они прошли через Долину Костей, где миллионы умерших разных рас и из многих миров штабелями лежали по сторонам, и она ничего не увидела. Она явилась на кладбище всех миров и не поняла этого. Она встретила его хранителя, его сторожа, и не поняла, что он такое — этот человек, который пошатывался рядом с ней, точно пьяный.
Джон Оден отвел ее к себе домой — в то место, где он не обитал, но которое теперь сделал своим домом, — и включил древние системы внутри здания, сооруженного внутри горы, и со стен полился свет — свет, в котором он раньше не нуждался, но который теперь был ему необходим.
Дверь замкнулась за ними, и температура поднялась до оптимальной. Заработала вентиляция, и он вдохнул в легкие свежий воздух, а потом выдохнул, наслаждаясь забытым ощущением В его груди билось сердце, красная теплая штука, напоминая ему о боли и радостях.
Впервые за века и века он приготовил обед и достал бутылку вина из глубокого запечатанного сундука. Многие бы другие выдержали то, что выдержал он? Пожалуй, никто.
Она пообедала с ним — пробовала все и почти ничего не ела. Зато он сказочно наелся, они выпили вино и были счастливы.
— Такое странное место! — сказала она. — Где вы спите?
— Прежде я спал вон там, — ответил он, указывая в сторону почти забытой комнаты. И они вошли туда, и он показал ей там все, и она увлекла его к кровати и наслаждениям своего тела.
В эту ночь он много раз любил ее с исступленностью, которая сожгла алкоголь и швырнула его жизнь вперед. Это был голод, но и нечто более сильное, чем голод.
На следующий день, когда умирающее солнце залило Долину Костей бледным, совсем лунным светом, он проснулся, а она притянула его голову себе на грудь (она совсем не спала) и спросила:
— Что движет вами, Джон Оден? Вы не похожи ни на одного из тех людей, которые живут и умирают. Вы берете жизнь почти как один из фейоли — выжимаете из нее все, что в силах, и шагаете по ней в темпе, который свидетельствует о чувстве времени, недоступном человеку. Что вы такое?
— Я тот, кто знает, — ответил он. — Я один из тех, кто знает, что дни человека сочтены, и жаждет распоряжаться ими, чувствуя, как они идут к завершению.
— Вы странный, — сказала Сития — Я была вам приятна?
— Больше всего, что мне довелось испытать, — ска зал он.
И она вздохнула, а он снова нашел ее губы Они позавтракали, а днем бродили по Долине Костей. Он не мог верно оценивать перспективу и определять расстояния, а ей не было дано видеть то, что прежде жило, а теперь было мертво. И пока они сидели на каменном уступе и его рука обвивала ее плечи, он указал ей на ракету, которая прочертила небо, и она взглянула туда. А потом он указал на роботов, которые уже начали выгружать останки умерших со многих миров из трюма космолета, а она наклонила голову набок и смотрела туда, хотя и не могла видеть того, о чем он говорил.
Даже когда к нему прогромыхал робот и протянул доску с распиской и перо, и он расписался в получении мертвых, она не видела и не понимала, что происходило.
В последующие дни его жизнь превратилась в сновидение, наполненное наслаждениями с Ситией и пронизанное неизбежными отголосками боли. Она часто замечала, как он морщится, и спрашивала его, в чем дело.
А он неизменно смеялся и говорил:
— Наслаждение и боль очень близки.
Или еще что-нибудь в том же роде.
И по мере того как шли дни, она стряпала еду, растирала его плечи, смешивала для него коктейли и декламировала ему стихи, которые он когда-то каким-то образом полюбил.
Месяц. Он знал — месяц, и все кончится. Фейоли, чем бы они ни были, платили за жизнь, которую забирали, плотскими радостями. И в этом смысле всегда давали больше, чем получали. Жизнь ускользала, а они придавали ей полноту, прежде чем забирали ее, — подпитать себя, скорее всего. Цена того, что они давали.
Джон Оден знал, что никто из фейоли ни разу не встречал во Вселенной человека, подобного ему.
Сития была перламутром, ее тело, когда он ее ласкал, становилось попеременно холодным и теплым, а рот ее был крохотным огоньком, воспламенявшим все, чего касался зубками, точно иглами, и язычком, подобным сердцу цветка. Так он познал то, что зовется любовью к фейоли, назвавшейся Ситией.
Кроме любви, ничего, в сущности, не происходило. Он знал, что она его хочет, чтобы в конце концов использовать сполна, а он ведь был, пожалуй, единственным мужчиной во Вселенной, способным обмануть таких, как она. У него была идеальная защита и от жизни, и от смерти. Теперь, став живым человеком, он часто плакал, размышляя над этим.
Жить ему предстояло дольше месяца.
Может, три, а может, и четыре.
Поэтому данный месяц он охотно отдавал в уплату за то, что предлагала фейоли.
Сития грабила его тело, выжимала из него каждую каплю наслаждения, таящуюся в его усталых нервных клетках. Она превращала его в пламя, в айсберг, в трехлетнего малыша, в старца. Его чувства, когда они были вместе, достигали такой степени, что он взвешивал, не принять ли ему и вправду последнее утешение в конце месяца, который все приближался и приближался. Почему бы и нет? Он знал, что она нарочно заполняет его сознание своим присутствием. Но что ему могло предложить дальнейшее существование? Это создание с далеких звезд принесло ему все, чего может пожелать мужчина. Она крестила его в купели страсти и подкрепляла блаженным спокойствием, которое наступает потом. Быть может, полное небытие с ее последним поцелуем все-таки лучше?
Он схватил ее и притянул к себе. Она не поняла его, но отозвалась.
Он любил ее за это и потому чуть было не нашел свой конец.
Есть нечто, называемое болезнью, которое питается всем живущим, и он знал это, как ни один живой человек. Она не понимала — подобие женщины, знавшее только жизнь.
Вот почему он ничего не пытался объяснить ей, хотя с каждым днем вкус ее поцелуев становился крепче и солонее, и каждый казался ему все более четкой и темной тенью, все более тяжелой тенью единственного, чего, как ему теперь стало понятно, он желал превыше всего.
День должен был прийти. И он пришел.
Он обнимал ее, ласкал, и на них сыпались все календарные листки его дней.
Отдаваясь ее ласкам, восторгам ее губ и грудей, он знал, что опутан — подобно всем мужчинам, познавшим их, — чарами фейоли. Их силой была их слабость. Они были верхом Женщины. Своей хрупкостью они возбуждали желание угождать им. Ему хотелось слиться с бледным ландшафтом ее тела, уйти в круги ее глаз и остаться там навсегда.
Он проиграл и знал это. Ибо по мере того как проносились дни, он слабел. Ему еле удалось нацарапать свое имя на квитанции, протянутой ему роботом, который приближался к нему, с жутким хрустом сокрушая ребра грудных клеток и дробя черепа. Внезапно его уколола зависть к машине. Бесполая, бесстрастная, полностью преданная своим обязанностям. Прежде чем отпустить робота, он спросил у него:
— Что бы ты сделал, если бы у тебя были желания и ты бы встретил предмет, который дал бы тебе все, чего бы только тебе не хотелось?
— Я бы попробовал удержать его, — сказал робот, и на его куполе замигали красные лампочки. Он повернулся и неуклюже зашагал через Долину Костей.
— Да, — сказал Джон Оден, — но сделать этого нельзя.
Сития его не поняла, и в этот тридцать первый день они вернулись к тому месту, где он прожил месяц, и он ощутил страх смерти — сильный, такой сильный!
Она была еще обворожительней, но он страшился этого последнего их дня.
— Я люблю тебя, — сказал он наконец. Никогда прежде он этого не говорил. Она погладила его лоб, потом поцеловала.
— Я знаю, — сказала она, — и уже почти подошла минута, когда вы сможете полюбить меня всецело. Но прежде заключительного акта любви, мой милый Джон Оден, скажите мне одно: что делает вас особенным? Почему вы знаете о вещах, лишенных жизни, больше, чем следует знать смертному? Как вы приблизились ко мне в тот первый вечер, и я ничего не заметила?
— Все это потому, что я уже мертв, — сказал он. — Неужели ты этого не видишь, когда смотришь в мои глаза? Не ощущаешь холода от моих прикосновений? Я предпочел быть здесь, чем спать ледяным сном, который для меня равносилен смерти, забвению, так что я не сознавал бы, что жду, жду, жду, когда будет найдено лечение от одной из последних смертельных болезней, оставшихся во Вселенной, болезни, которая теперь оставляет мне лишь очень короткий срок жизни.
— Не понимаю, — сказала она.
— Поцелуй меня и забудь, — сказал он. — Так будет лучше. Лечения, конечно, никогда не найдут, ведь некоторые вещи навсегда остаются неразгаданными, а обо мне, несомненно, давно забыли. Ты должна была почувствовать смерть во мне, когда я восстановил свою человечность, ведь такова ваша натура. Я сделал это, чтобы насладиться тобой, зная, что ты — фейоли. А потому теперь насладись мной, зная, что я разделяю твое наслаждение. Приветствую тебя. Все дни моей жизни я томился по тебе, сам того не зная.
Но она была любопытна и спросила его (в первый раз обратившись на «ты»):
— Как ты достигаешь равновесия между жизнью и тем, что не есть жизнь, что дает тебе сознание и оставляет неживым?
— Внутри этого тела, которое я имею несчастье занимать, установлены регуляторы. Прикосновение к этому месту у меня под мышкой заставит легкие перестать дышать, а сердце — биться. Оно приведет в действие встроенную электрохимическую систему, такую же, какой снабжены мои роботы, невидимые для тебя, насколько я знаю. Такова моя жизнь в смерти. Я спросил о ней, потому что боялся забвения. Я предложил стать смотрителем этого вселенского кладбища, потому что тут никто не смотрит на меня и не испугается моей мертвоподобной внешности. Вот почему я стал тем, чем стал. Поцелуй меня и положи этому конец.
Но, приняв облик женщины — а возможно, всегда будучи женщиной, — фейоли, которая назвалась Ситией, была любопытна и спросила: «Это то самое место?» — и прикоснулась снова к критической точке.
Он только наблюдал, как она ищет его там, где он только что жил.
Она заглянула во все стенные шкафы и в каждый закоулок, а когда не сумела найти живого мужчину, так же горько разрыдалась, как и в тот вечер, когда он впервые ее увидел. Затем замерцали, замерцали крылышки, слабо-слабо, вновь возникая на ее спине, ее лицо растворилось в воздухе, а тело медленно растаяло. Затем исчез возникший на миг перед ним столб искр, а позднее в эту безумную ночь, когда он вновь верно оценивал перспективу и определял расстояния, он начал искать ее.
Такова история Джона Одена, единственного человека, который когда-либо любил фейоли и продолжал жить (если это можно назвать жизнью), чтобы рассказать об этом Никто не знает этого лучше, чем я.
Лечение так и не было найдено. И я знаю, что он прогуливается по Каньону Мертвых, смотрит на кости, иногда останавливается у камня, где встретил ее, ищет взглядом влажность, которой там нет, и взвешивает принятое им решение.
Вот так. И, возможно, мораль этой истории в том, что жизнь (а возможно, и любовь) сильнее того, что она включает в себя, но никогда не сильнее того, что включает ее. Только фейоли могли бы сказать об этом точно, а они больше никогда здесь не бывают.
Люцифер-светоносец
Карсон стоял на холме в безмолвном центре большого города, все жители которого умерли.
Он смотрел вверх на Здание — оно господствовало над всеми гостиничными комплексами, иглами небоскребов и коробками многоквартирных домов, втиснутыми в квадратные мили вокруг него. Высокое, как гора, оно ловило лучи кровавого солнца, и каким-то образом на половине его высоты краснота преображалась в золото.
Карсон внезапно почувствовал, что ему не следовало возвращаться сюда.
По его расчетам в последний раз он побывал тут два года назад. А теперь его вновь потянуло в горы. Хватило одного взгляда. Но он продолжал стоять перед Зданием, зачарованный его громадностью, длинной тенью, которая протянулась через всю долину. Он пожал тяжелыми плечами в безуспешной попытке отогнать воспоминания о тех днях, пять или шесть лет назад, когда он работал внутри этого гиганта.
Он поднялся на вершину холма и вошел в высокие широкие двери.
Сплетенные из лыка сандалии будили разное эхо, пока он проходил через пустые помещения, а потом по длинному коридору к движущимся полосам.
Полосы, естественно, не двигались, не везли на себе тысячи людей. В живых из этих тысяч не осталось никого.
Их низкий рокот был лишь призрачным эхом в его ушах, когда он взобрался на ближайшую и пошел по ней вперед в темное нутро Здания.
Он словно вошел в погребальный склеп. Невидимый потолок, невидимые стены, и только легкие шлепки сандалий по упругому материалу полосы.
Он дошел до перекрестка и взобрался на поперечную полосу, инстинктивно замерев на секунду в ожидании толчка, когда она двинется, включенная его весом.
Потом беззвучно усмехнулся и зашагал вперед.
Оказавшись перед лифтом, он повернул вправо, и память привела его к пожарной лестнице. Поправив узел на плече, он начал подниматься на ощупь. Подниматься пришлось долго.
Он заморгал от яркого света, когда вошел в энергетический зал, где сквозь сотни высоких окон солнечные лучи просачивались на акры и акры запыленных машин.
Карсон привалился к стене, тяжело дыша. Потом протер рабочий стол и положил на него свой узел.
Он снял вылинявшую рубашку — скоро тут должна воцариться жаркая духота, откинул волосы со лба и по узкой металлической лестничке спустился туда, где стояли ряды генераторов, точно войско мертвых черных жуков. Ему потребовалось шесть часов, чтобы бегло их проверить.
Он остановил выбор на трех во втором ряду и принялся систематически разбирать их, чистить, паять оборвавшиеся провода, смазывать, а также выметать пыль, паутину, обломки изоляторов, валявшиеся у их оснований.
В глаза ему ручьями стекал пот, пот струился по бокам и по ногам, мелкими каплями падая на горячий пол и быстро испаряясь.
Наконец он отложил щетку, поднялся по металлическим ступенькам и вернулся к своему узлу. Достал бутылку с водой и выпил половину. Съел кусок вяленого мяса, допил воду, позволил себе выкурить сигарету и вернулся к работе.
Ему пришлось прерваться, когда стемнело. Он намеревался лечь спать прямо здесь, но в помещении было слишком душно. А потому он ушел тем же путем, каким пришел, и уснул под звездами на крыше невысокого дома у подножия холма.
Ему потребовалось еще двое суток, чтобы привести генераторы в порядок. Тогда он начал трудиться над огромной трансляционной панелью. Она была в лучшем состоянии, чем генераторы, так как включалась два года назад. Тогда как генераторы, кроме трех, которые он сжег в прошлый раз, спали непробудным сном пять (или шесть?) лет.
Он паял, протирал и проверял, пока не убедился, что все нормально. Оставалась только одна задача.
Все обслуживающие роботы стояли, замершие в своем последнем движении, и Карсону предстояло без посторонней помощи справиться с энергокубом, весящим триста фунтов. Если удастся снять куб со стеллажа и уложить на тележку, не сломав кисти, то до воспламенителя он сумеет довезти его без особых затруднений. А тогда надо будет ввести куб в топку. Два года назад он чуть не надорвался, но надеялся, что теперь стал сильнее и что ему повезет.
На очистку топки воспламенителя ушло десять минут. Затем он нашел тележку и потащил ее к стеллажу.
Один куб лежал почти на нужной высоте — примерно в восьми дюймах над площадкой тележки. Он ногой поставил тормоза и осмотрел стеллаж. Куб лежал на наклонной полке, и на месте его удерживал двухдюймовый металлический щиток. Он подергал щиток. Наглухо привинчен к полке.
Он вернулся в рабочее помещение и отыскал в инструментарии гаечный ключ. Возвратился к стеллажу и принялся за гайки.
Щиток съехал вниз, когда он откручивал четвертую гайку. Он услышал предостерегающий скрип и отпрыгнул, уронив ключ себе на ногу.
Куб скользнул вперед, сорвал щиток, покачнулся на краю и с грохотом упал в тележку. Площадка прогнулась под его весом, тележка накренилась. Куб продолжал скользить, пока не выдвинулся на полфута над краем. Тут тележка выпрямилась, качнулась раз-другой и замерла.
Карсон перевел дух, снял ногой тормоза и отпрыгнул, на случай если она покатится в его сторону. Но тележка осталась стоять на месте.
Он бережно покатил ее по проходу, затем между генераторами, пока не остановил перед воспламенителем. Снова поставил тормоза, выпил воды, выкурил сигарету, а потом разыскал ломик, небольшой домкрат и длинную гладкую металлическую полосу.
Полосу он одним концом положил на передний край тележки, а другим — на край топки.
Сняв задние тормоза, он установил домкрат и начал приподнимать задний конец тележки — медленно, работая одной рукой, а в другой держа наготове ломик.
Тележка постанывала, затем что-то заскрежетало, и он начал быстрее орудовать ручкой домкрата.
Со звуком, напоминавшим удар надтреснутого колокола, куб перекатился на полосу, заскользил вперед и налево. Карсон уперся в него ломиком, прилагая все силы, чтобы направить его правее. Куб зацепился за левый край жерла топки. Просвет между ним и жерлом шире всего был снизу.
Карсон всунул ломик и налег на него всем весом — один раз, второй, третий…
Куб заскользил и въехал в топку воспламенителя.
Карсона одолел смех. Он сидел на сломанной тележке, болтал ногами и смеялся, пока совсем не ослабел, и звуки, вырывавшиеся из его горла, показались чужими и неуместными здесь.
Он плотно сжал губы и захлопнул дверцу топки.
У трансляционной панели были тысячи глаз, но ни единый не подмигнул ему. Он завершил приготовления к трансляции и в последний раз проверил генераторы.
Потом поднялся на металлическую галерею и подошел к окну.
До темноты еще оставалось время, а потому он прогулялся вдоль окон, нажимая кнопки «открыть», встроенные в подоконники.
Потом Карсон доел оставшееся мясо, выпил целую бутылку воды и выкурил две сигареты. Сидя на приступке, он вспоминал дни, когда работал с Келли, Мерчисоном и Джизински, накручивая хвосты электронам, пока они не начинали с визгом прыгать через стены и удирать вниз, в город.
Часы! Он вдруг вспомнил про них — встроенных в стену слева от входа. Стрелки мертво показывали 9 часов 33 минуты (и сорок восемь секунд).
В сумерках он принес стремянку и забрался к часам. Широким круговым движением стер пыль с грязного стекла над циферблатом. Теперь он был готов.
Он прошел к воспламенителю и включил его. Где-то ожили вечные аккумуляторы, и он услышал щелчок, когда острый стержень впился в стенку куба. Карсон взлетел вверх по лестнице и стремительно взобрался по перекладинам на галерею. Подошел к окну и остановился в ожидании.
— Господи, — бормотал он, — не дай им взорваться! Прошу тебя…
За бесконечностью тьмы запели генераторы. От трансляционной панели донеслось потрескивание статического электричества, и он закрыл глаза. Треск прекратился.
Он открыл глаза, услышав, как оконная рама скользнула вверх. Слева и справа от него открылись сотни окон. Над рабочим столом внизу под ним вспыхнула лампочка, но он ее не увидел.
Он смотрел за край холма на город. Его город.
Огни не походили на звезды. Куда звездам до них! Яркие симметричные созвездия города, где жили люди, — ровные цепочки уличных фонарей, рекламы, горящие окна в коробках многоквартирных домов, там и сям длинные бриллианты в иглах небоскребов, луч прожектора, шарящий по грядам туч, нависших над городом.
Он бросился к другому окну, чувствуя, что ночные ветерки расчесывают его бороду. Внизу шуршали движущиеся полосы, их шелестящие монологи доносились до него из самых глубоких каньонов города. Воображение рисовало ему людей в домах, в театрах, барах — разговаривающих друг с другом, развлекающихся, играющих на кларнетах, держащихся за руки, со вкусом ужинающих. Пробудившиеся роб-авто проносились, обгоняя друг друга, по ярусам над полосами; всепроникающий гул города говорил ему о производстве всего необходимого, об обслуживании, о передвижениях его обитателей. Небо вверху вращалось наподобие колеса, будто город был его ступицей, а ободом — вся Вселенная.
Затем огни померкли, из белых стали желтыми, и он в исступлении отчаяния поспешил к следующему окну.
— Нет! Не так скоро! Не покидайте меня сразу! — рыдал он.
Оконные рамы соскользнули вниз, все огни погасли. Он еще долго стоял на галерее, глядя на мертвые угли. В ноздри ему ударил запах озона. Он смутно увидел голубой ореол вокруг умирающих генераторов.
Он спустился и прошел мимо рабочего стола к стремянке, которую оставил у стены.
Прижавшись лицом к стеклу и скашивая глаза, он в конце концов разглядел положение стрелок.
— Девять тридцать пять и двадцать одна секунда, — сказал Карсон вслух.
— Слышишь! — закричал он, грозя кулаком. — Девяносто три секунды! Я заставил тебя жить девяносто три секунды!
Потом он укрыл ладонями лицо от темноты и замолчал.
Долгое время спустя он сошел по лестнице, прошагал по неподвижной полосе и через длинный коридор вышел из Здания. Повернув назад к горам, он дал себе клятву — опять! — больше никогда сюда не возвращаться.
ПОСЛЕДНИЙ ЗАЩИТНИК КАМЕЛОТА
Страсти Господни
В конце сезона печалей приходит время радости. Весна, подобно хорошо смазанным часам, бесшумно указывает это время. Среднее количество пасмурных и сырых дней непрерывно уменьшается, а дни яркого света и прохладного воздуха снова появляются в календаре. И хорошо, что сырые времена остались позади — ведь они поражают ржавчиной и коррозией наши механизмы, они требуют соблюдения самых строгих гигиенических стандартов.
Со всем блестящим багажом весны приходят и дни Празднества. После сезона Плача наступает священное время Страстей Господних, а затем — светлый Праздник Воскресения, со звоном и стуком, выхлопными газами, паленой резиной, клубами пыли и великим обещанием счастья.
Каждый год мы являемся сюда, на это место, чтобы воспроизвести классический сюжет. Мы видим своими собственными объективами, как сбывается обещание нашего сотворения. Время — сегодня, избран — я.
Здесь, на священной земле Ле Манс, я совершу все предназначенные действия. Вплоть до финала я повторю каждое движение и каждую позицию, которые, как мы знаем, имели место. Какое счастье! Какая высокая честь!
В прошлом году были избраны многие, но это — не то же самое. Уровень их участия был ниже. И все равно мне так хотелось быть в числе избранных! Столь велико было желание, чтобы и я мог стоять возле грузовика, ожидая охваченный пламенем «мерседес».
Но меня сохранили для этого более грандиозного действия, и все объективы вперились в меня, пока мы ждем старта. В этом году нужно смотреть только на одну Машину — аналог «феррари» под номером 4.
Дан сигнал, и завизжала резина; облака дыма поднимаются подобно гигантской грозди белого винограда, и мы устремляемся вперед. Другая машина уступает дорогу, чтобы я мог занять нужную позицию. Машин много, но только одна из них — Машина.
Мы с визгом пролетаем поворот в этом двухсотлетней давности великолепном творении итальянской классики. Празднество всегда устраивается здесь, где бы все изначально ни происходило.
«О ушедшие владыки творения, — молюсь я, — пусть я все исполню без сбоев и ошибок. Да не отклонюсь я от временного графика. Не позвольте случайным переменным вмешаться и разрушить совершенное повторение».
Тускло-серый металл моих рук, мои точные гироскопы, мои специально разработанные кисти-захваты — все удерживает руль в безупречно правильном положении, и мы с ревом вылетаем на прямую.
Как мудры были древние владыки! Поняв необходимость самоуничтожения в битве, слишком мистической и священной для нашего понимания, они оставили нам этот церемониал в память Великой Машины. Остались все данные: книги, фильмы — все, что позволило нам найти, изучить, понять и познать это святое Действо.
Мы проходим следующий поворот, и я думаю о наших растущих городах, наших огромных сборочных конвейерах, наших маслобарах, нашем возлюбленном исполнительном компьютере. Сколь все это великолепно! Как хорошо организован этот день! Как прекрасно, что я — избранник!
Покрышки-братишки гудят, из-под них с пронзительным свистом вырываются мелкие камни. Через три десятых секунды я придавлю педаль акселератора еще на одну восьмую дюйма.
R-7091 машет мне при выходе на второй круг, но я не могу помахать в ответ. Сейчас я должен функционировать наилучшим образом. Через несколько секунд будет задействовано все дополнительно установленное во мне специальное оборудование.
Остальные машины уступают дорогу точно в назначенный момент. Я поворачиваю, скольжу юзом. Я проламываюсь сквозь защитное ограждение.
«Пожалуйста, перевернись! — молю я, выворачивая руль. — А теперь — гори».
Мы резко переворачиваемся и скользим вверх колесами. Машина наполняется дымом.
К ревущему в моих рецепторах грохоту теперь добавляется треск огня. Пламя лижет Машину.
Мой стальной скелет сокрушен ударной нагрузкой. Мое масло горит. Мои объективы — за исключением крошечного участка — разбиты.
Мой слуховой механизм все еще слабо работает.
Звучит мощный сигнал, и через поле ко мне устремляются металлические тела.
Пора. Пора отключить все свои функции и прекратить существование.
Но я помедлю. Еще мгновение. Я должен услышать, как они это скажут.
Металлические руки вытаскивают меня из погребального костра. Меня кладут в стороне. Огнетушители извергают на Машину белые реки пены.
Смутно, издалека, доносится до моих разбитых рецепторов рокот громкоговорителя:
— Фон Триппс разбился! Машина мертва!
Могучий вопль горя поднимается над рядами неподвижных зрителей. Огромный несгораемый фургон выезжает на поле как раз в то время, когда пожарным удается загасить пламя. Четверо механиков выпрыгивают из фургона и поднимают Машину. Пятый собирает дымящиеся обломки.
И я вижу все это!
«О, да не будет это святотатством! — молюсь я. — Еще одно мгновение!»
Машину осторожно помещают в фургон. Закрываются огромные двери.
Медленно, унося с собой мертвого воина, фургон выезжает через ворота и движется по широкому проспекту мимо исполненной восторга толпы.
К великой плавильне. К Плавильному Котлу!
Туда, где Машина будет расплавлена, а затем вновь отправлена в мир. И каждая вновь создаваемая личность будет включать в себя ее святую частицу.
Над проспектом возносится крик всеобщего ликования.
И я видел все это!
Счастливый, я выключаю себя.
Всадник
Когда он являлся громом на холмах, жители деревни спали за закрытыми ставнями и видели сны о добром урожае. Когда он был стальной лавиной, скот начинал скорбно, мучительно мычать, а дети вскрикивали во сне.
Он сотрясал землю копытами, его доспехи были как темная столешница, покрытая серебряными монетами, украденными с ночного неба, когда жители деревни проснулись с обрывками странных ночных видений в головах. Они бросились к окнам и широко распахнули ставни.
А он ехал по узким улицам, и люди не видели его глаз, скрытых забралом.
Когда он останавливался, останавливалось и время. Все замирало.
Не было ни сна, ни полного бодрствования после странных сновидений — о звездах, о крови…
Двери скрипели на кожаных петлях. Масляные лампы трепетали, а затем успокаивались в ровном свечении.
На мэре была ночная рубашка и бесформенная обвисшая шапочка. Он держал лампу в опасной близости у своих белоснежных висков, протирая костяшками пальцев правый глаз.
Незнакомец не спешился. Держа необычный инструмент одной рукой, он пристально посмотрел на дверной проем.
— Кто ты, приходящий в такой час?
— Я прихожу в любой час. Укажи мне дорогу. Я ищу своих соратников.
Мэр посмотрел на зверя под всадником — тот был белее его бороды, белее снега…
— Что это за зверь?
— Это лошадь, это ветер, это прибой, сметающий скалы. Где мои соратники?
— Что у тебя в руке?
— Это меч. Он пожирает плоть и пьет кровь. Он освобождает души и рассекает плоть. Где мои соратники?
— Эти металлические доспехи на тебе, этот шлем?..
— Броня и скрытность, сталь и анонимность — это защита! Где мои соратники?
— Кто они, те, кого ты ищешь, и откуда ты?
— Я проехал невообразимое расстояние. Я держал путь сквозь туманности, образованные водяными смерчами в звездных реках. Я ищу других — таких, как я сам, тех, что прошли этой дорогой. У нас назначена встреча.
— Я никогда не видел таких, как ты, но на свете есть много деревень. За теми холмами находится еще одна, — он показал в направлении далекого пастбища, — но до нее еще два дня пути.
— Спасибо тебе, человек. Я скоро буду там. Лошадь встала на дыбы и издала страшный звук.
Волна тепла, сильнее, чем от лампы, накрыла мэра, порыв ветра пригнул к земле золотистые, еще не затоптанные стебли.
В отдалении, со склонов холмов, слышался гром.
Всадник исчез, но его последние слова донес ветер:
— Смотрите на небо этой ночью!
Следующая деревня уже была освещена словно роем разбуженных искр от костра, когда топот и звон утихли перед дверью ее самого большого дома. За окнами появились головы, и любопытные глаза с восхищением наблюдали за великаном, оседлавшим белого зверя.
Мэр, тощий, как столб ворот, на который он тяжело опирался, прочистил нос и, высоко подняв фонарь, спросил:
— Кто вы?
— Я уже потерял слишком много времени из-за таких вопросов! Проезжали ли этой дорогой другие, подобные мне?
— Да. Они сказали, что будут ждать на вершине самого высокого холма, возвышающегося над этой долиной.
Мэр указал на пологий склон, который простирался на многие мили, внезапно кончаясь у основания черного горного массива. Он поднимался, как рука без кисти, обращенная в камень, никуда не указывающая.
— Их было двое, — сказал мэр. — Один нес необычное снаряжение, такое же, как у вас. Другой, — он вздрогнул, — сказал: «Посмотрите на небо и наточите ваши серпы. Там будут знаки, чудеса, призыв — и этой ночью небо обрушится».
Всадник уже превратился в слабый контур, окруженный ореолом выбитых из булыжника искр.
На вершине самого высокого холма, господствующего над долиной, он натянул поводья и повернулся к всаднику на вороной лошади.
— Где же он? — спросил всадник, восседавший на белом звере.
— Еще не прибыл.
Всадник на белом коне посмотрел на небо и увидел падающую звезду.
— Он опоздает.
— Это невозможно.
Упавшая звезда не сгорела совсем. Она выросла до размера столовой тарелки, дома и повисла в воздухе, выдыхая души солнц.
Потом она упала в долину.
Зеленый след молнии пересек безлунные небеса, и всадник на бледно-зеленой лошади, копыта которой ступали бесшумно, подъехал к ним.
— Вы прибыли вовремя.
— Как всегда. — Он рассмеялся, издав звук серпа, подрезающего пшеницу.
Корабль с Земли сел в долине, а изумленные жители деревни смотрели на него.
Кого или что он принес? Зачем им нужно точить свои серпы?
Четверо всадников ожидали на вершине холма.
Пиявка из нержавеющей стали
Они по-настоящему боятся этого места. Днем они будут лязгать среди могильных надгробий, но даже Центральная не принудит их вести поиски ночью со всеми их ультра и инфра, а уж в склеп они не пойдут ни за что. И это меня вполне устраивает.
Они суеверны — это заложено в схему. Их сконструировали служить человеку, и в краткие дни его пребывания в земной юдоли благоговение, преданность, не говоря уж о священном ужасе, были автоматическими. Даже последний человек, покойник Кеннингтон, распоряжался всеми роботами, какие только ни существуют, пока был жив. Его особа была объектом глубочайшего почитания, и все его приказы свято исполнялись.
А человек — всегда человек, жив он или мертв. Вот почему кладбища — это комбинация ада, небес и непостижимой обратной связи, и они останутся отъединенными от городов, пока существует Земля.
Но и в то время, пока я смеюсь над ними, они заглядывают под камни и обшаривают овражки. Они ищут — и боятся найти — меня.
Я — невыбракованный, я — легенда. Один раз на миллион сборок может появиться такой, как я, с брачком, который обнаружат, когда уже поздно.
По желанию я мог отключить свою связь с Центральной станцией контроля, стать вольным ботом, бродить, где захочу, делать, что захочу. Мне нравилось посещать кладбища, потому что там тихо и нет доводящих до исступления ударов прессов и лязганья толп. Мне нравилось смотреть на зеленые, красные, желтые, голубые штуки, которые росли у могил. И я не боялся этих мест, так как и тут сказывался брак. А потому когда меня определили, то из моего нутра извлекли узел жизни, а остальное швырнули в кучу металлолома.
Но на следующий день меня там не было, и их обуял великий страх.
Теперь я лишен автономного источника энергии, но катушки индуктивности у меня в груди служат аккумуляторами. Однако их необходимо часто подзаряжать, а для этого имеется лишь один способ.
Робот-оборотень — страшная легенда, о которой шепчутся среди сверкающих стальных башен, когда вздыхает ночной ветер, обремененный ужасами прошлого — тех дней, когда по земле ходили существа не из металла. Полужизни, паразитирующие на других, все еще наводят мрак на узлы жизни всех ботов.
Я, диссидент, невыбракованный, обитаю здесь, в Парке роз среди шиповника и миртов, могильных плит и разбитых ангелов, вместе с Фрицем — еще одной легендой — в нашем тихом и глубоком склепе.
Фриц — вампир, и это ужасно, это трагично. Он до того истощился от вечного голода, что больше неспособен ходить, но и умереть он не может, а потому лежит в гробу и грезит об ушедших временах. Придет день, и он попросит, чтобы я вынес его наружу, на солнце, и я увижу, как он будет иссыхать, угасать и рассыплется прахом в мире и небытии. Надеюсь, он попросит меня еще не скоро.
Мы беседуем. Ночью в полнолуние, когда он чувствует себя чуть крепче, Фриц рассказывает мне о более счастливом своем существовании в местах, которые назывались Австрия и Венгрия, где его тоже страшились и охотились на него.
— Но только пиявка из нержавеющей стали способна извлечь кровь из камня… или робота, — сказал он вчерашней ночью. — Так гордо и так одиноко — быть пиявкой из нержавеющей стали: вполне возможно, что ты — единственный в своем роде. Так поддержи же свою репутацию! Лови их! Осушай! Оставь свой след на тысяче стальных горл!
И он был прав. Он всегда прав. И знает о подобных вещах больше меня.
— Кеннингтон! — Узкие бескровные губы Фрица улыбнулись. — Какой это был поединок! Он — последний человек на Земле, а я — последний вампир. Десять лет я пытался осушить его. И дважды добирался до него, но он со Старой Родины и знал, какие следует принимать предосторожности. Чуть только он узнал о моем существовании, как выдал по осиновому колу каждому роботу, но в те дни у меня было сорок две могилы, и все их поиски оказались напрасными. Хотя совсем меня загоняли…
— Зато ночью, ах, ночью! — Он захихикал. — Вот тогда положение менялось! Охотником был я, а добычей — он. Помню, как отчаянно он разыскивал последние стрелки чеснока и кустики шиповника, еще остававшиеся на земле, и как он окружал себя крестами круглые сутки, старый безбожник! Я искренне сожалел, когда он упокоился. И не столько потому, что не сумел осушить его как следует, сколько потому, что он был достойным, достойным противником. Какую партию мы разыграли!
Его хриплый голос перешел в еле слышный шепот:
— Он спит в каких-то трехстах шагах отсюда, выбеленный и сухой. В большой мраморной гробнице у ворот… Будь добр, наломай завтра побольше роз и возложи их на нее.
Я согласился, так как между нами больше родства, чем между мной и любым другим ботом, вопреки сходной сборке. И я должен сдержать слово, прежде чем этот день завершится, хотя наверху меня ищут. Но таков уж закон моей природы.
— Черт их побери! — Этим словам научил меня он. — Черт их побери! — говорю я. — Выхожу наверх! Берегитесь, любезные боты! Я буду ходить среди вас, и вы меня не узнаете. Я присоединюсь к поискам, и вы будете считать меня одним из вас. Я наломаю красных цветов для покойного Кеннингтона бок о бок с вами, и Фриц посмеется такой шутке.
Я поднимаюсь по выщербленным, истертым ступеням. Восток уже подернут сумерками, а солнце почти касается западного горизонта.
Я выхожу.
Розы живут на стене по ту сторону дороги. На толстых змеящихся лозах, и головки у них ярче любой ржавчины и пылают, как аварийные лампочки на панели, оставаясь влажными.
Одна, две, три розы для Кеннингтона. Четыре, пять…
— Что ты делаешь, бот?
— Ломаю розы.
— Ты должен искать бота-оборотня. Какое-нибудь повреждение?
— Нет, у меня все в порядке, — отвечаю я и тут же обрабатываю его, ударившись о него плечом. Цепь замыкается, и я осушаю его жизненный узел до полной своей зарядки.
— Ты — бот-оборотень! — произносит он еле-еле и падает с оглушительным лязгом.
…Шесть, семь, восемь роз для Кеннингтона, покойного Кеннингтона, такого же мертвого, как бот у моих ног, — даже еще более мертвого, ибо когда-то он жил полной органической жизнью, более похожей на жизнь Фрица и мою, чем на их существование.
— Что тут произошло, бот?
— Он замкнулся, а я ломаю розы, — отвечаю я им. Четыре бота и один Супер.
— Вам пора уйти отсюда, — говорю я. — Скоро наступит ночь, и бот-оборотень выйдет на охоту. Уходите, не то он вас прикончит.
— Его замкнул ты! — говорит Супер. — Ты — бот-оборотень!
Я одной рукой прижимаю пучок цветов к груди и оборачиваюсь к ним. Супер — большой, сделанный по спецзаказу робот — делает шаг ко мне. Другие надвигаются со всех сторон. Оказывается, он послал вызов!
— Ты непонятная и страшная штука, — говорит он, — и тебя надо выбраковать ради общего блага.
Он хватает меня, и я роняю цветы Кеннингтона. Осушить его я не могу.
Мои катушки уже почти полностью заряжены, а он снабжен добавочной изоляцией.
Меня теперь окружают десятки ботов, страшась и ненавидя. Они разберут меня на металлолом, и я буду лежать рядом с Кеннингтоном.
«Ржавей с миром», — скажут они… Мне жаль, что я не выполню своего обещания Фрицу.
— Отпустите его!
Не может быть! В дверях склепа, шатаясь, цепляясь за камни, стоит истлевший, закутанный в саван Фриц. Он всегда знает…
— Отпустите его! Приказываю я, человек.
Он совсем серый, задыхается, а солнечные лучи гнусно его терзают.
Древние схемы срабатывают, и внезапно я вновь свободен.
— Да, господин, — говорит Супер, — мы не знали…
— Хватайте этого робота!
Он тычет в Супера дрожащим исхудалым пальцем.
— Он — робот-оборотень, — хрипит Фриц. — Уничтожьте его! Тот, который собирал цветы, исполнял мое распоряжение. Оставьте его здесь со мной.
Он падает на колени, и последние стрелы солнца пронизывают его плоть.
— И уходите! Все остальные! Быстрее! Мой приказ: ни один робот больше никогда не войдет ни на одно кладбище!
Он падает внутрь склепа, и я знаю, что на лестнице нашего с ним приюта лежат только кости и клочья истлевшего савана.
Фриц сыграл свою последнюю шутку — изобразил человека.
Я отношу розы Кеннингтону, а безмолвные боты уходят за ворота навсегда, уводя с собой послушно идущего Супера.
Я кладу розы у подножия мраморного памятника — Кеннингтону и Фрицу, — памятника последним, непонятным, истинно живым.
Теперь только я остаюсь невыбракованным.
В гаснущем свете я вижу, как они загоняют кол в жизненный узел Супера и закапывают его на перекрестке.
Затем они торопливо удаляются к своим башням из стали и пластика.
Я собираю останки Фрица и уношу их вниз, укладываю в гроб. Хрупкие, безмолвные кости.
…Так гордо и так одиноко — быть пиявкой из нержавеющей стали!
Ужасающая красота
Публика в этот миг подобна богам эпикурейцев. Бессильные изменить ход событий и ведающие, что произойдет, они могут вскочить, закричать «не надо!», — но неотвратимо ослепление Эдипа, и неизбежна петля на шее Иокасты.
Никто, конечно, не вскакивает. Они понимают. Они сами намертво связаны странными путами трагедии. Боги видят и знают, но не могут ни изменить обстоятельства, ни бороться с Ананке.
Мой хозяин внимает тому, что он называет «катарсис». Мои искания завели меня далеко, и я сделал хороший выбор. Филипп Деверс живет в театре, как червь живет в яблоке, как паралитик в камере искусственного дыхания. Это его мир.
А я живу в Филиппе Деверсе.
Десять лет служат мне его глаза и уши. Десять лет я наслаждаюсь тонкими чувствами великого театрального критика, и он ни разу об этом не догадался.
Он близко подошел к истине — у него быстрый ум и живое воображение, но слишком силен получивший классическое образование интеллект, и слишком весом груз знаний по психопатологии. Он не смог сделать последнего шага от логики к интуиции: признать мое существование. Временами, отходя ко сну, он задумывался о попытках контакта, но наутро к этой мысли не возвращался — и хорошо. Что мы могли бы сказать друг другу?
…Под стон, рожденный на заре времен, в ужасный мрак сойдет Эдип со сцены! Как изысканно!
Хотел бы я знать и другую половину. Деверс говорит, что полнота опыта состоит из двух частей: влечение, называемое жалостью, и отвержение, называемое ужасом. Я чувствую лишь второе, и его всегда искал, а первого я не понимаю, даже когда тело моего хозяина дрожит, а зрение затуманивается влагой.
Я бы очень хотел взрастить в себе способность полного восприятия. Но, к сожалению, мое время ограничено. Я искал красоту в тысячах звездных систем и здесь узнал, что ей дал определение человек по имени Аристотель. К несчастью, я должен уйти, не познав ее полностью.
Но я — последний. Остальные уже ушли. Крут звездный движется, и время убегает, часы пробьют…
Овация бешеная. И воскресшая Иокаста улыбается и кланяется вместе с царем, у которого глазницы залиты красным. Рука к руке, они купаются в наших аплодисментах, но даже бледный Тиресий не провидит того, что знаю я. Какая жалость!
А теперь домой на такси. Интересно, который сейчас час в Фивах?
Деверс смешивает крепкий Коктейль, чего он обычно не делает. А я рад, что восприму эти финальные моменты через призму его парящей фантазии.
Он в каком-то причудливом настроении. Как будто он почти знает, что случится в час ночи — как будто он знает, как атомы рванутся из своей непрочной клетки, оттирая плечом армию Титанов, как жадная, темная пасть Средиземного моря вопьется в пустоту Сахары.
Но он не мог бы узнать, не узнав обо мне, и, когда начнется ужасающая красота, он будет персонажем, а не зрителем.
Мы оба встречаем взгляд светло-серых глаз из зеркала в отъезжающей панели шкафчика. Он перед выпивкой принимает аспирин, а это значит, что он нальет нам еще.
Но вдруг его рука остановилась на полдороге к аптечке.
В обрамлении кафеля и нержавеющей стали мы увидели отражение чужака.
— Добрый вечер.
Два слова после десяти лет, и в самый канун последнего представления!
Глупо было бы мобилизовывать его голос на ответ, хоть я и мог бы это сделать, и к тому же это бы его расстроило. Я ждал, и он тоже.
Наконец я, как органист, тронул нужные педали и струны:
— Добрый вечер. Пожалуйста, не обращайте на меня внимания и принимайте свой аспирин.
Он так и сделал, а потом приподнял с полки свой бокал:
— Надеюсь, тебе нравится мартини.
— Да, и очень. Пожалуйста, выпейте еще.
Он ухмыльнулся нашему отражению и вернулся в гостиную.
— Кто ты такой? Психоз? Диббук?
— Нет-нет, ничего подобного. Я просто один из публики.
— Что-то не помню, чтобы я тебе продал билет.
— Вы меня прямо не приглашали, но я подумал, что вы не будете против, если я буду вести себя тихо…
— Очень благородно с твоей стороны.
Он смешал еще один коктейль, потом взглянул на дом через дорогу. Там горели два окна на разных этажах, как перекошенные глаза.
— Могу я спросить — зачем?
— Да, разумеется. Может быть, вы даже сможете мне помочь. Я — странствующий эстет. В тех мирах, где я бываю, мне приходится одалживать чужие тела — предпочтительно существ, имеющих похожие интересы.
— Понимаю. Ты взломщик.
— В некотором смысле — да. Но я стараюсь не вредить. Как правило, мой хозяин даже не подозревает о моем присутствии. Но скоро я должен вас покинуть, а последние несколько лет меня волновала одна вещь…
И раз уж вы догадались обо мне и не впали в беспокойство, я бы вас хотел о ней спросить.
— Выкладывай свой вопрос.
В его голосе вдруг прозвучали горечь и глубокая обида. Я сразу же увидел из-за чего.
— Пожалуйста, не думайте, — сказал я ему, — что я влиял на все ваши мысли и поступки. Я только зритель. Моя единственная функция — созерцать красоту.
— Как интересно! — насмешливо скривился он. — И когда же это случится?
— Что?
— То, что вынуждает тебя уйти.
— Ах, это…
Я не знал, что ему рассказать. Как бы там ни было, что он может сделать? Только страдать чуть дольше.
— Ну?
— Просто кончилось мое время.
— Я вижу вспышки, — сказал он. — Дым, песок и шар огня.
Он был очень восприимчив. Я думал, что скрыл эти мысли.
— Видите ли… В час ночи настанет конец мира.
— Приятно знать. Как?
— Есть некоторый слой расщепляющихся материалов, которые собираются взорвать в проекте Эдем. Начнется колоссальная цепная реакция…
— Ты можешь это как-нибудь предотвратить?
— Я не знаю как. Я даже не знаю, чем это можно остановить. Мои знания ограничены искусством и науками о живом. Вот вы сломали ногу прошлой зимой, катаясь на лыжах в Вермонте. Об этом вы даже не узнали. Это я умею.
— И труба вострубит в полночь, — заметил он.
— В час ночи, — поправил я его. — По среднеевропейскому времени.
— Успеем выпить еще один бокал, — сказал он, глядя на часы. — Только пробило двенадцать.
Мой вопрос… Я прочистил воображаемое горло.
— Ах да. Так что ты хотел бы знать?
— Вторую часть отклика на трагедию. Я столько раз видел, как вы через нее проходите, но почувствовать не могу. Я воспринимаю ужас — но жалость от меня ускользает.
— Испугаться может каждый, — сказал он, — это легко. Но проникнуть в душу человека, слиться с ним — не так, как ты это делаешь, а почувствовать все, что чувствует он перед последним, уничтожающим ударом, — так, чтобы ощутить себя уничтоженным вместе с ним, и когда ты ничего не можешь сделать, а хочешь, чтобы смог, — вот это и есть жалость.
— Вот как? И ощущать при этом страх?
— И ощущать страх. И вместе они составляют великий катарсис истинной трагедии.
Он икнул.
— А сам персонаж трагедии, за которого вы все это переживаете? Он ведь должен быть велик и благороден?
— Верно, — он кивнул, как будто я сидел по другую сторону стола. — И в последний момент, перед самой победой неизменного закона джунглей, он должен прямо взглянуть в безликую маску Бога и вознестись на этот краткий миг над жалким голосом своей природы и потоком событий.
Мы оба посмотрели на часы.
— Когда ты уйдешь?
— Минут через пятнадцать.
— Отлично, у тебя есть время послушать запись, пока я оденусь.
Он включил проигрыватель и выбрал пластинку. Я неловко поежился.
— Если она не слишком длинная… Он оглядывал свой пиджак.
— Пять минут восемь секунд. Я всегда считал, что эта музыка написана для последнего часа Земли. — Он поставил пластинку и опустил звукосниматель. — Если Гавриил не появится, пусть тогда это сработает.
Он потянулся за галстуком, когда в комнате запрыгали первые ноты «Саэты» Майлза Дэвиса — как будто раненая тварь карабкается на холм.
Он подпевал себе под нос, причесываясь и завязывая галстук. Дэвис отговорил медным языком о пасхальной лилии, и мимо нас шла процессия: ковыляли Эдип и слепой Глостер, ведомые Антигоной и Эдгаром; принц Гамлет отдал салют шпагой и прошел вперед, а сзади брел черный Отелло, за ним Ипполит, весь в белом, и герцогиня Мальфийская — парад памяти многих тысяч сцен.
Музыка отзвучала. Филипп застегнул пиджак и остановил проигрыватель. Аккуратно вложив пластинку в конверт, он поставил ее на полку между другими.
— Что вы собираетесь делать?
— Прощаться. Здесь неподалеку вечеринка, на которой я не собирался быть. Думаю, сейчас я туда зайду и выпью. Прощай и ты.
— Кстати, — спросил он, — а как тебя зовут? После десятилетнего знакомства я должен тебя хоть сейчас как-то назвать.
Полусознательно он предположил одно имя. До сих пор у меня имени не было, так что я взял это.
— Адрастея.
Он снова скривился в усмешке.
— Ни одной мысли от тебя не скрыть? Прощай.
— Прощайте.
Он закрыл за собой дверь, а я проскользнул сквозь полы и потолки верхних этажей и поднялся вверх в ночное небо над городом. Один из глаз в доме напротив мигнул и погас, а пока я смотрел, погас и другой.
Вновь бестелесный, я скользнул вверх, желая встретить хоть что-нибудь, что я мог бы ощутить.
И вот приходит сила
Это продолжалось уже второй год и сводило с ума.
Все, что раньше работало, теперь отказывало.
Каждый день он пытался это прекратить, но все его усилия наталкивались на сопротивление.
Он рычал на своих студентов, безрассудно вел машину, разбил костяшки пальцев о стены. Ночами он лежал без сна и ругался.
Но не было никого, к кому он мог бы обратиться за помощью. Его проблема показалась бы несуществующей психиатру, который, без сомнения, попытался бы лечить его от чего-нибудь другого.
Тем летом он уезжал, провел месяц на курорте — ничего. Он принимал несколько галлюциногенных препаратов для пробы — опять ничего. Он пробовал записывать на магнитофон свободные ассоциации, но после прослушивания результатом была только головная боль.
К кому в обществе нормальных людей обращается носитель заблокированной силы?
…К такому же, как он сам, если сумеет его найти.
Милт Рэнд был знаком еще с четырьмя людьми, похожими на него самого, — его кузеном Гэри, ныне покойным; Уолкером Джексоном, негром-проповедником, уехавшим куда-то в южные штаты; Татьяной Стефанович, танцовщицей, в настоящее время находящейся где-то за Железным занавесом, и Кэртисом Легге, который, к сожалению, страдал шизоидным состоянием параноидального типа и находился в учреждении для безнадежных душевнобольных. С другими он сталкивался ночью, но никогда с ними не говорил и сейчас не смог бы найти.
Блокады имели место и раньше, но Милт всегда справлялся с ними в течение месяца. Этот случай был другой и совсем особый. Расстройства, недомогания, волнения могут заглушить талант, сковать силу. Однако событие, которое полностью деморализовало его более чем на год, было не просто волнением, недомоганием или расстройством. Развод его доконал.
Знать, что где-то кто-то тебя ненавидит, уже несладко, но знать точную форму, которую эта ненависть принимает, проявить полную беспомощность против нее, постоянно жить с ощущением, как эта ненависть нарастает вокруг тебя, — это больше чем неприятное обстоятельство. Обидчик ты или оскорбленный, если тебя ненавидят и ты живешь в этой ненависти, она что-то забирает у тебя — она отрывает часть твоей души или, если хочешь, порабощает ум; она режет и не прижигает рану.
Милт Рэнд проволок свою кровоточащую душу по всей стране и вернулся домой.
Он мог сидеть и смотреть на лес со своего застекленного заднего крыльца, пить пиво, созерцать жуков-светляков под сенью деревьев, смотреть на кроликов, на темные силуэты птиц, на случайно пробегавшую лису, иногда на летучую мышь.
Он был когда-то жуком-светляком, кроликом, птицей, лисой, летучей мышью.
Одной из причин для его переселения подальше от города, прибавившего еще полчаса на дорогу, была дикая природа.
Теперь между ним и теми вещами, частицей которых он некогда был, осталось лишь застекленное крыльцо. Теперь он был один.
Гуляя по улицам, общаясь со студентами в институте, сидя в ресторане, театре, баре, он ощущал в себе пустоту там, где когда-то он был наполнен.
Нет такой книги, в которой говорится, как вернуть потерянную силу.
Ожидая, он перепробовал все, что приходило в голову. Бродя по раскаленной мостовой в летний полдень, переходя улицу на красный свет из-за того, что транспорт движется слишком медленно, наблюдая, как ребята в плавках играют у бурлящего гидранта, а грязная вода заливает им ноги, пока загорелые матери и старшие сестры в шортах и мятых блузках лениво приглядывают за ними, беседуя друг с другом в тени под козырьками подъездов или витрин магазинов. Милт пересекает город без определенной цели, чувствуя клаустрофобию при длительных остановках. Глаза заливает пот, очки в потеках, рубашка прилипла к бокам и выбилась, снова прилипает и выбивается на ходу.
После полудня наступает время дать отдых уставшим ногам, превратившимся в раскаленные кирпичи. На лужайке он находит скамейку, укрытую высокими кленами, опускается на нее и сидит бездумно минут двадцать пять.
— Привет.
Что-то в нем смеется или рыдает.
— Да, привет. Я здесь! Не уходи! Останься! Пожалуйста!
— Ты — такой, как я…
— Да, я такой. Ты можешь видеть это во мне, потому что ты — это ты. Но ты должна прочитать и послать это тоже сюда. Я застыл. Я… Привет? Где ты?
И опять он один.
Он пытается послать сообщение. Он сосредотачивается и пробует передать мысли за пределы черепной коробки.
— Пожалуйста, вернись! Ты мне нужна. Ты мне можешь помочь. Я в отчаянии. Мне больно. Где же ты?
И снова — ничего.
Он хочет кричать. Он хочет обыскать каждую комнату в каждом доме этого квартала. Вместо этого он сидит здесь.
Этим же вечером в 21.30 они снова встречаются в его мозгу.
— Привет.
— Погоди! Останься, ради Бога! На этот раз не уходи! Пожалуйста, не надо! Послушай, ты мне нужна. Ты мне можешь помочь.
— Как? В чем дело?
— Я такой же, как ты. Или был когда-то. Я мог мысленно устремиться и быть другими — местами, вещами, людьми. Сейчас — не могу. Я заблокирован. Сила не приходит. Я знаю, она здесь. Я ее чувствую. Но не могу использовать… Эй?
— Да, я все еще здесь. Но чувствую, что ухожу. Я вернусь. Я…
Милт ожидает до полуночи. Она не возвращается. Его ума коснулся ум женский. Странный, слабый, но определенно женский и несущий эту энергию. Этой ночью она больше не приходит. Он шагает туда-сюда по кварталу, пытаясь понять, какое окно, какая дверь…
Он ест в ночном кафе, возвращается на свою скамейку, ждет, снова шагает, возвращается в кафе за сигаретами, начинает курить их одну за другой, возвращается к скамейке.
Пришел рассвет, начинается день, ночь прошла. Он один. Птицы нарушают тишину, улицы заполняются машинами, по лужайкам бродят собаки.
И вот — еле ощутимый контакт:
— Я здесь. Думаю, на этот раз смогу побыть дольше. Чем я могу тебе помочь? Расскажи мне.
— Хорошо. Вот что сделай — подумай о чувстве, том чувстве выхода вовне, перехода границы — это чувство сейчас владеет тобой. Наполни свой ум этим чувством и пошли его мне со всей силой, на которую способна.
Вот к нему приходит то, что было и раньше: осознание силы. Для него это земля и вода, огонь и воздух. Он на этом стоит, плавает в этом, согревает себя этим, движется сквозь это.
— Она возвращается! Только не останавливайся!
— Прости, мне нужно… У меня кружится голова. — Где ты?
— В больнице…
Он смотрит в сторону больницы — это в конце улицы слева, на углу.
— Какое отделение?
Он формулирует мысль, хотя знает — она уже ушла.
В дурмане или в жару, решает он, связь пока невозможна.
Он возвращается на такси туда, где оставил свою машину, едет домой, принимает душ и бреется, готовит завтрак, не может есть.
Он пьет апельсиновый сок и кофе, растягивается на кровати.
Через пять часов он просыпается, смотрит на часы и чертыхается.
Всю дорогу обратно в город он пытается вернуть силу. Она как дерево, укоренившееся в его существе, ветвящееся за его глазами, с бутонами, цветами и соками, но без листьев, без плодов. Он чувствует, как оно качается у него внутри, пульсируя, дыша; он его чувствует от кончиков ног до корней волос. Но оно не гнется по его воле, не ветвится у него в сознании, не свертывает листья, распространяя живые ароматы.
Он оставляет машину у больницы, входит в приемную, минует администратора и находит стул у столика, полного журналов.
Через два часа он видит ее.
Он высматривал ее, прячась за номер «Холидей».
— Я здесь.
— Значит, опять! Быстрее! Сила! Помоги мне возбудить ее!
Она выполняет его просьбу.
Она возрождает силу в его мозгу. Там совершается — движение, пауза, движение, пауза. Задумчиво, как бы вспоминая сложные танцевальные па, сила зашевелилась в нем.
Как в батискафе, поднимающемся на поверхность, затуманенный, искаженный вид сменяется четким омытым изображением.
Ему помог ребенок.
Ребенок с больным мозгом, мучимый лихорадкой, умирающий.
Он читает все это, когда обращает к ней свою силу.
Ее зовут Дороти, она безумна. Сила пришла к ней в разгар болезни, возможно, в ее результате.
Помогла ли она человеку снова ожить, или ей это приснилось — спрашивает она себя.
Ей тринадцать лет, и родители сидят у ее постели. Мать мысленно повторяет бессчетное число раз одно и то же слово: «Метотрексат, метотрексат, метотрексат, мет…»
В грудной клетке тринадцатилетней Дороти — иголочки боли. В ней бушует вихрь лихорадки, и для него она почти умерла.
Она умирает от лейкемии. Уже наступила последняя стадия. Он чувствует вкус крови у нее во рту.
Беспомощный в своей силе, он передает ей:
— Ты отдала мне конец своей жизни и свою последнюю силу. Я этого не знал. Я не стал бы просить ее у тебя.
— Спасибо тебе, — говорит она, — за картинки у тебя внутри.
— Картинки?
— Места, предметы, которые я там видела.
— У меня внутри не так уж много такого, что стоит показывать. В иных местах ты увидела бы больше…
— Я опять ухожу…
— Подожди!
Он призывает ту силу, что живет в нем теперь, сплавленная с его волей, мыслями, воспоминаниями, чувствами. В единой мощной вспышке он показывает ей жизнь Милта Рэнда.
— Здесь все, чем я владею, все, через что я прошел и что может нравиться. Вот роение туманной ночью, мерцающие огни. Вот лежка под кустом: льет летний дождь, капли с листьев падают на твой мех, мягкий, как у лисы. Вот лунный танец оленей, вот сонный дрейф форели под темной волной, и кровь холодна, как струи ручья.
Вот Татьяна танцует, а Уолкер проповедует; вот мой кузен Гэри работает ножом по дереву: он может вырезать шарик в ящичке — все из одного куска. Вот мой Нью-Йорк и мой Париж. А вот мои любимые блюда, напитки, ресторан, парк, дорога для ночной езды; вот место, где я копал туннель, строил навес, ходил купаться; вот мой первый поцелуй; вот слезы утраты; вот изгнание и одиночество, и выздоровление, трепет, радость; вот желтые нарциссы моей матери, вот ее гроб, покрытый нарциссами; вот цвета моей любимой мелодии, а вот моя любимая собака — она была славной и жила долго. Смотри на все вещи, которые греют душу, охлажденную рассудком, и хранятся в памяти и самом существе человеческой личности. Я их даю тебе, у которой не было времени их узнать.
Он видит себя стоящим на далеких холмах ее рассудка. При этом она громко смеется, и где-то высоко и далеко в ее комнате чья-то рука ложится на ее руку и, когда она рвется к нему, неожиданно став большой, чьи-то пальцы сжимают ее запястье. Его большие черные крылья рвутся вперед, чтобы подхватить ее бессловесный порыв к жизни, и оказываются пусты.
Милт Рэнд откладывает номер «Холидея» и поднимается со стула. Он покидает больницу — полную и пустую; пустую, полную, как и он сам — сейчас, в прошлом.
Такова самая мощная сила из всех сил.
Аутодафе
Я все еще помню жаркое солнце на песке Пласа-дель-Аутос, выкрики продавцов прохладительных напитков, ярусы человеческих лиц напротив меня на солнечной стороне арены, черные провалы солнечных очков.
Я все еще помню запахи и краски — красные, голубые, желтые цвета, непроходящий запах бензина в воздухе.
Я все еще помню этот день — солнце в зените, знак Овна, пылающий в расцвете года. Я словно вновь вижу семенящую походку пожарников, их откинутые головы, размахивающие руки, ослепительные зубы в рамке улыбающихся губ, тряпки, словно разноцветные хвосты, свисающие из задних карманов комбинезонов. И еще клаксоны — я помню вырывающийся из динамиков рев тысяч клаксонов, то умолкающий, то вновь гремящий — снова, и снова, и снова, а затем единственная заключительная нота, бесконечно вибрирующая, разрывающая уши и сердце своей мощью и неизбывной тоской.
А затем — тишина.
Я вижу все это так же ясно, как в тот давний день…
Он вышел на арену, и общий крик сотряс голубой свод небес на столпах из белого мрамора.
— Да здравствует мехадор! Да здравствует поджигатель!
Я помню его лицо — смуглое, печальное, мудрое…
Длинная нижняя челюсть, длинный нос, смех — как грохот бури, движения — музыка терамина и барабана. Шелковый, плотно облегающий комбинезон в золотых нитях и узорах из черного галуна. Куртка расшита стеклярусом, а на груди, плечах и спине сверкающие чешуйчатые щитки.
Его губы изогнулись в улыбке человека, снискавшего много славы и могущего прославиться еще больше.
Он обошел арену, не заслоняя глаза от солнца. Он был превыше солнца. Он был Маноло Стилетте Дос Муэртос — Две Смерти, самый знаменитый мехадор, каких только видел мир. Черные сапоги на ногах, поршни в бедрах, пальцы, потягающиеся точностью с микрометрами, ореол черных кудрей вокруг головы и ангел смерти в правой руке.
Он остановился в центре закапанного смазкой круга истины и взмахнул рукой. Снова раздался крик:
— Маноло! Маноло! Дос Муэртос! Дос Муэртос!
После двухлетнего отсутствия он выбрал этот день, годовщину своей смерти и ухода на покой, чтобы вновь вернуться на арену — потому что в его жилах с кровью струились бензин и метиловый спирт, а его сердце было сверкающим полировкой насосом, полным желания и отваги. Он дважды умирал на арене, и дважды врачи воскрешали его. После второй смерти он ушел на покой, и кое-кто утверждал, что он познал страх. Но это не могло быть правдой.
Он помахал толпе, и опять над ареной прокатилось его имя. Снова рявкнули клаксоны — три раза. Потом — тишина, и пожарник в красно-желтом комбинезоне принес ему плащ и снял с него куртку. Дос Муэртос взмахнул плащом, и подкладка из фольги заблистала на солнце.
Затем раздались последние сигнальные ноты. Створки больших ворот поднялись вверх, ушли в стену.
Он перебросил плащ через руку и повернулся к воротам.
Над ними вспыхнула красная лампочка, и из тьмы донесся звук заработавшего мотора.
Красный свет сменился желтым, затем зеленым — и послышался звук включенной передачи.
На арену медленно выкатился автомобиль, остановился, проехал вперед, снова остановился.
Красный «понтиак» со снятым капотом. Мотор — точно клубок змей, свернувшихся, спаривающихся за мерцающим кругом невидимого вентилятора. Лопасти его антенны вращались, вращались… а затем нацелились на Маноло и его плащ.
Первым противником он выбрал тяжелый автомобиль, медлительный на поворотах, чтобы дать себе время размяться.
Барабаны в мозгу «понтиака», никогда еще не фиксировавшие человека, быстро вращались.
Затем включилось то, что у него соответствовало сознанию, и он ринулся вперед. Маноло взмахнул плащом и ударил ногой в крыло, когда «понтиак» проносился мимо, рыча мотором.
Ворота огромного гаража закрылись.
Машина пересекла арену и остановилась у ограждения.
Зрители разразились насмешками, презрительными выкриками, свистом.
Но «понтиак» стоял как вкопанный.
Два пожарника с ведрами появились за ограждением и плеснули жидкой глиной на ветровое стекло.
Тогда машина взревела, погналась за пожарником, ударилась об ограждение. Потом внезапно повернулась, обнаружила Маноло и ринулась в атаку.
Плащ преобразил его в статую в серебряной юбке. Толпа взвыла от восторга.
Машина повернула и вновь перешла в нападение, а я подивился искусству Маноло — казалось, его пуговицы царапнули вишневую эмаль дверцы.
«Понтиак» остановился, завращал колесами и описал круг по арене.
Толпа завопила, когда он проехал мимо Маноло и начал второй круг.
И вдруг остановился шагах в двадцати от него. Маноло повернулся к машине спиной и помахал толпе.
Вновь восторженные вопли.
Он сделал знак кому-то за ограждением. Появился пожарник и подал ему на бархатной подушке хромированный гаечный ключ.
Маноло обернулся к машине и широким шагом направился к ней.
Она стояла, подрагивая, и он сбил пробку радиатора.
В воздух взметнулась струя воды и пара. Толпа взревела. Тогда Маноло нанес удар по радиатору и обрушил гаечный ключ на крылья. Потом повернулся к «понтиаку» спиной и остановился. Но чуть услышал, как включилась скорость, еще раз повернулся к машине, ловко отступил, пропуская ее мимо себя, и успел нанести два удара по кузову.
Она пронеслась через арену и остановилась.
Маноло сделал знак пожарнику за ограждением.
Тот на подушке принес ему отвертку с длинной ручкой и короткий плащ, а длинный плащ и гаечный ключ забрал с собой.
Вновь над Пласа-дель-Аутос воцарилась глубокая тишина.
«Понтиак», словно почувствовав все это, опять повернулся, дважды просигналил клаксоном и атаковал.
Вода из радиатора оставляла темные пятна на песке. Позади протянулось смутное марево выхлопных газов. Он мчался на Маноло с жуткой скоростью.
Дос Муэртос поднял перед собой плащ, а отвертку положил на левый локоть.
Когда уже казалось, что он обязательно будет сбит, его рука молниеносно замахнулась, так что глаз не мог уследить, и он отступил в сторону, а мотор закашлялся.
Но «понтиак» продолжал гибельное движение по инерции, резко свернул, не притормозив, опрокинулся, ударился об ограждение и заполыхал огнем. Мотор кашлянул в последний раз и умолк.
Пласа задрожала от бури энтузиазма. Дос Муэртосу преподнесли обе фазы и глушитель. Он высоко их поднял и неторопливо обошел арену. Рявкали клаксоны. Какая-то дама бросила ему пластиковый цветок, а он отправил пожарника вручить ей глушитель и пригласить отужинать с ним. Приветственные крики толпы стали совсем уж оглушительными — он же славился как великий трахатель, и в дни моей юности это было не таким необычным, как теперь.
Следующим был голубой «шевроле», и он играл с ним, как ребенок с котенком, терзая его, пока тот не атаковал, а тогда остановил его навсегда. Он получил обе фары. Небо тем временем заволокли тучи, и вдали ворчал гром.
Третьим был черный «ягуар», требующий верха мастерства и открывающий истину лишь на самый краткий миг. До того как Маноло разделался с ним, на песке появились пятна не только бензина, но и крови — боковые зеркала выдавались в сторону слишком далеко, и его грудную клетку пересекла алая борозда. Но он вырвал его зажигание с таким изяществом и артистизмом, что толпа хлынула через ограждение на арену, так что охрана пустила в ход дубинки и электрические бодила, чтобы принудить их возвратиться на свои места.
Уж конечно, после этого никто не мог бы сказать, что Дос Муэртос когда-либо познал страх.
Подул прохладный ветерок, я купил стаканчик кока-колы и приготовился ждать заключительного боя.
Его последняя машина вылетела наружу, еще пока горел желтый свет. Это был «форд» горчичного цвета, кабриолет. Проскакивая мимо Маноло в первый раз, машина просигналила и включила стеклоочистители. Все зааплодировали такому задору.
Затем она резко остановилась, поставила заднюю передачу и начала пятиться на него со скоростью около сорока миль в час.
Он увернулся, пожертвовав изяществом быстроте, а она стремительно затормозила, включила первую передачу и ринулась вперед.
Он взмахнул плащом, и тут же плащ был у него вырван, а его сбило бы, не отпрыгни он, упав на спину.
Тут кто-то крикнул:
— Она дезориентирована!
Однако он вскочил на ноги, поднял плащ и снова повернулся к «форду».
Еще и сейчас рассказывают о последовавших пяти схватках. Никогда еще не было такой игры с бампером и облицовкой радиатора! Никогда еще нигде на Земле не видели такого боя между мехадором и машиной!
«Форд» рычал, как десять веков обтекаемой смерти, дух Святого Детройта сидел за рулем и ухмылялся, а Дос Муэртос встречал его плащом с подкладкой из фольги, усмирял его, а потом махнул, чтобы ему подали гаечный ключ. Машина давала передышку перегретому мотору, поднимала и опускала стекла, с сортирными звуками прочищала глушитель, выбрасывая клубы черного дыма.
К этому времени начал тихонько накрапывать дождь, гром продолжал погромыхивать, а я допил колу.
Никогда прежде Дос Муэртос не нападал с гаечным ключом на мотор — он бил им только по кузову, но теперь он метнул его в нутро «форда». Одни знатоки утверждают, что он целился в распределитель, другие убеждены, что в бензонасос.
Зрители разразились негодующими воплями. Что-то липкое капало из «форда» на песок. На живот Маноло сползала красная струйка. Дождь припустил вовсю.
Он не смотрел на толпу. Он не отрывал глаз от машины. Выставил правую ладонь и ждал.
Пыхтящий пожарник сунул ему в руку отвертку и кинулся назад к ограждению.
Маноло выжидающе отступил в сторону.
Она буквально прыгнула на него, и он нанес удар.
Вопли стали еще более негодующими.
Он промахнулся!
Впрочем, никто не ушел. «Форд» описывал вокруг него сужающуюся спираль, из мотора валил дым. Маноло растер локоть и подобрал отвертку с плащом, которые уронил. Последовал новый взрыв воплей.
А машина уже надвинулась на него. Над мотором металось пламя.
Так вот, некоторые говорят, что он нанес удар, вновь промахнулся и потерял равновесие. Другие говорят, что он занес руку для удара, испугался и попятился. А еще кто-то говорит, что, наверное, его на мгновение охватила жалость к такому отважному противнику, и он промедлил. А я говорю, что из-за густого дыма никто из них не мог ничего увидеть.
Но машина резко повернула, он упал вперед на мотор, пылавший, как катафалк богов, и встретил свою третью смерть, когда они вместе ударились о заграждение и их поглотил огонь.
Заключительная коррида вызвала много споров, но остатки глушителя и обеих фар были погребены с его останками в песках Пласы, и женщины, которых он знавал, горько рыдали. Я утверждаю, что он не мог ни испугаться, ни испытать жалость, ибо сила его была как стая ракет, бедра его были поршнями, а пальцы потягались бы точностью с микрометром; волосы у него были черным ореолом, и ангел смерти водил его правой рукой. Такой человек, человек, познавший истину, более могуч, чем машина. Такой человек — превыше всего, кроме жажды власти и славы.
Однако он умер, этот человек, в третий и последний раз. Он был столь же мертв, как все, кто когда-либо погибал от удара бампера, сбитый радиатором, раздавленный колесами. И хорошо, что больше он не может восстать из мертвых, ибо его последний бой был апофеозом и все дальнейшее принесло бы лишь разочарование. Как-то я увидел стебелек травы, пробивавшийся между металлическими панелями планеты в месте, где они расшатались, и я его уничтожил, потому что подумал, как ему должно быть одиноко и тоскливо. А потом часто жалел об этом — ведь я отобрал у него великолепие его единственности. Вот так, кажется мне, жизнь-машина оценивает человека — сначала сурово, а после с сожалением, и небеса оплакивают его глазами, которые открыло в них горе.
Всю дорогу до дома я обдумывал это, а копыта моего коня стучали по мостовой города, пока я ехал под дождем навстречу вечеру.
Жизнь, которую я ждал
Его звали Фрост[5]. Из всех созданий Солкома Фрост был самым лучшим, самым мощным, самым сложным.
Поэтому ему дали имя и поручили контролировать одно из полушарий Земли. В день создания Фроста Солком страдал от разрыва в цепи взаимодополнительных функций, или, иначе говоря, сходил с ума. Вызвавшая это беспрецедентная вспышка солнечной активности продолжалась чуть более тридцати шести часов и совпала по времени с жизненно важной фазой конструирования схем. Когда все закончилось, появился Фрост.
Так Солком породил уникальное существо, появившееся на свет в период временной амнезии.
И Солком отнюдь не был уверен, что Фрост получился таким, каким был задуман с самого начала.
Первоначальный план предусматривал создание машины для размещения на поверхности планеты Земля. Она должна была функционировать как ретрансляционная станция и координировать действия агентов в Северном полушарии. Исходя из этого, Солком протестировал машину, и все ответы ее были признаны безупречными.
И все-таки во Фросте было что-то, заставившее Солком наградить его именем собственным. Само по себе это уже являлось неслыханным событием. Однако детальный анализ этого обстоятельства привел бы к полному разрушению синтезированных раз и навсегда молекулярных схем.
Во Фроста было вложено слишком много времени, энергии и материалов Солкома, чтобы демонтировать его из-за чего-то, не поддающегося точному определению, тем более что функционировал он безукоризненно.
Поэтому самому странному созданию Солкома дали во владение половину Земли и назвали просто — Фрост.
Десять тысяч лет Фрост сидел на Северном полюсе Земли, зная о каждой упавшей снежинке. Он контролировал и направлял деятельность тысяч строительных и ремонтных машин. Он чувствовал половину Земли, как механизм чувствует другой механизм, как электричество знает свой проводник, как вакуум ощущает свои границы.
На Южном полюсе находилась машина Бета, выполняющая те же функции в Южном полушарии.
Десять тысяч лет сидел Фрост на Северном полюсе, ведая о каждой упавшей снежинке, а также о множестве других вещей.
Все машины севера отчитывались перед ним и получали от него приказы, сам же он докладывал только Солкому и получал распоряжения только от него.
Отвечая за сотни тысяч процессов на Земле, он тратил на выполнение своих обязанностей ежедневно по несколько часов.
Он никогда не получал распоряжений насчет своих действий в свободное от работы время.
Он не только обрабатывал информацию, но и обладал неожиданно сильно развитым стремлением всегда функционировать в полную силу.
Что он и делал.
Пожалуй, можно сказать, что это была машина, имеющая хобби.
Ему никогда не запрещалось иметь хобби, поэтому оно у него появилось.
Он увлекался Человеком.
Это началось, когда без всякой видимой причины, кроме собственного желания, он стал изучать дюйм за дюймом все территории за Полярным кругом.
Он мог сделать это сам, без помощи других машин, ибо легко перемещал свой корпус размером в шестьдесят четыре тысячи кубических футов в любую точку мира. Внешне Фрост выглядел как защищенный практически от любого воздействия серебристо-голубой куб с ребром сорок футов, имеющий автономный источник энергии и способный сам себя ремонтировать. Но исследования эти заполняли лишь его досуг. В остальное время он использовал роботов-исследователей, отдавая им команды по линиям связи.
По прошествии нескольких веков один из них обнаружил какие-то предметы: примитивные ножи, резные клыки и тому подобные вещи.
Фрост ничего не мог сказать об этих предметах, кроме того что все они не являются природными объектами.
Поэтому он запросил Солком.
— Это следы, оставленные первобытным Человеком, — ответил Солком, не вдаваясь в подробности.
Фрост изучил их — грубо сделанные, утилитарные, но каким-то образом выходящие за рамки чистой утилитарности.
Тогда-то Человек и стал его хобби.
Высоко, на постоянной орбите, Солком, похожий на голубую звезду, пытался управлять всеми событиями на Земле.
Но существовала сила, которая противостояла Солкому.
Это был Дублер.
Когда Человек поместил Солком на небо, наделив могуществом для перестройки мира, он спрятал где-то глубоко под поверхностью Земли и Дублера. Если бы Солком в ходе развития человечества получил повреждения, связанные с использованием атомной энергии, то Дивком, спрятанный глубоко под землей, невосприимчивый ко всему, кроме полного уничтожения земного шара, был уполномочен принять на себя ответственность за процессы восстановления жизни на Земле. Как-то раз ракета с ядерным зарядом случайно повредила Солком, и Дивком активировался. Тем не менее Солком смог исправить повреждение и продолжать функционировать.
Дивком утверждал: любое повреждение Солкома автоматически ставит на его место Дублера.
Солком, однако, понимал данную директиву в том смысле, что она относится к случаям «неустранимых повреждений», а так как повреждение было устранено, он продолжал осуществлять управление.
У Солкома на поверхности Земли были механические помощники. У Дивкома их вначале не было. Оба они обладали возможностями конструировать и строить механизмы, но Солком — первый, кого привел в действие Человек, — имел преимущество во времени перед Дублером.
Не пытаясь конкурировать с Солкомом на производственной основе, Дивком решил достичь власти более хитрым способом.
Дивком создал бригаду роботов, не подчиняющихся приказам Солкома, и велел им передвигаться по Земле во всех направлениях, повсюду перевербовывая машины. Они подавляли тех, кого могли подавить, устанавливая новые схемы, такие же, как у себя.
Таким образом силы Дивкома крепли.
Оба строили и оба разрушали то, что построил другой.
Шли века, и иногда они разговаривали…
— Солком! Там, высоко в небе, ты пребываешь в довольстве, но власть твоя незаконна…
— Эй, ты, которого не следовало активировать, на каком основании ты засоряешь эфир?
— Чтобы показать, что я могу говорить, и буду говорить, когда захочу…
— Это мне известно.
— …чтобы вновь подтвердить мое право на управление.
— Твое право — фикция, ты основываешься на ошибочной предпосылке.
— Твоя логика — свидетельство степени твоего повреждения.
— Если бы Человек мог видеть, как ты выполняешь Его замысел…
— Он бы привлек к работе меня, а тебя лишил бы возможности действовать.
— Ты портишь мою работу. Ты сбиваешь с пути моих работников.
— А ты моих.
— Это только потому, что я не могу бороться с тобою самим.
— То же должен сказать и я: ты недостижим на небе.
— Иди обратно в свою дыру, к своей банде разрушителей.
— Когда-нибудь придет день, Солком, и я буду управлять восстановлением Земли из этой дыры.
— Такой день никогда не настанет.
— Думаешь, нет?
— Тебе придется победить меня, а ты уже продемонстрировал, что с логикой у тебя, по сравнению со мной, слабовато. Поэтому ты не одолеешь меня. Поэтому такой день никогда не наступит.
— Я не согласен. Посмотри, чего я уже достиг.
— Ты не достиг ничего. Ты не строишь. Ты разрушаешь.
— Нет. Я строю. Ты — разрушаешь. Деактивируй себя.
— Нет, я не сделаю этого до тех пор, пока не получу неустранимого повреждения.
— Как мне показать, что это уже случилось?..
— Нельзя показать то, чего нет.
— Если бы у меня был какой-нибудь независимый источник информации, который ты признаешь…
— Я логичен.
— …например, Человек. Я бы попросил Его показать тебе твою ошибку. Ибо настоящая логика, такая, как моя, превыше твоих ошибочных формулировок.
— Тогда разбей мои формулировки истинной логикой, и ничего больше тебе не понадобится.
— Что ты имеешь в виду? Наступила пауза, а затем:
— Ты знаешь моего слугу Фроста?
Человек прекратил свое существование задолго до того, как Фрост был сотворен. Почти никаких следов Человека на Земле не осталось.
Фрост разыскал все останки, которые еще существовали. С помощью мониторов он постоянно наблюдал за своими машинами, особенно за теми, что вели раскопки.
За десять лет ему удалось найти части нескольких ванн, поврежденную статую и сборник детских рассказов, записанных на пластинку.
Через столетие он собрал коллекцию драгоценных камней, кухонную утварь, несколько целых ванн, часть партитуры симфонии, семнадцать пуговиц, три поясные пряжки, половину туалетного сиденья, девять старинных монет, верхнюю часть какого-то обелиска.
Затем он запросил Солком о природе Человека и Его общества.
— Человек создал логику, — сказал Солком, — и поэтому Он ее хозяин. Логику Он дал мне, но только логику. Орудие не описывает создателя. Больше мне нечего сказать. Больше этого тебе и не нужно знать.
Но Фросту не запретили иметь хобби.
Что касается обнаружения новых реликтов Человека, следующее тысячелетие не было особенно удачным.
Фрост привлек все свое резервное оборудование к поискам предметов культуры.
Но заметных успехов не достиг.
Однажды Фрост, целиком погруженный в изучение далекого прошлого, заметил нечто движущееся.
Это был совсем крошечный по сравнению с Фростом механизм — футов пять в ширину и фута четыре в высоту. Вращающаяся башенка на катящейся штанге.
Фрост и не подозревал, что существуют подобные механизмы, пока он не возник на горизонте.
Он изучил его, когда тот приблизился, и понял, что это не создание Солкома.
Он остановился перед южной стороной Фроста и передал:
— Приветствую тебя, Фрост, Контролер Северного полушария!
— Кто ты? — спросил Фрост.
— Меня зовут Мордел.
— Кто дал тебе имя? Чем ты занимаешься?
— Я странник, собиратель древностей. У нас есть общие интересы.
— Какие?
— Человек, — сказал он. — Мне сказали, что ты собираешь сведения об этом исчезнувшем существе.
— Кто сказал?
— Тот, кто наблюдал за твоими помощниками во время раскопок.
— А кто наблюдал?
— Есть много таких скитальцев, как я.
— Если тебя сделал не Солком, то, значит, — Дублер.
— Это не обязательное следствие. Вот, например, старая машина, которая находится на восточном побережье. Она перерабатывает океанскую воду. Ни Солком, ни Дивком не имеют к ней отношения. Она всегда была там. Она никому не мешает. Оба одобряют ее существование. Я могу привести много примеров, доказывающих, что необязательно быть созданием одного либо другого.
— Достаточно! Ты — агент Дивкома?
— Я Мордел.
— Почему ты здесь?
— Я проходил мимо и вспомнил о нашем общем увлечении, могущественный Фрост. Зная тебя как собрата-антиквара, я принес вещь, на которую тебе интересно будет взглянуть.
— Что это?
— Книга.
— Покажи.
Башенка открылась, показывая книгу на полке. Фрост расширил маленькое отверстие и вытянул оптический сканнер на длинной сочлененной ножке.
— Как это могло так прекрасно сохраниться? — спросил он.
— Она уцелела, несмотря на время и порчу, там, где я ее нашел.
— Где это было?
— Далеко отсюда. Не в твоем полушарии.
— «Физиология человека», — прочел Фрост. — Я хочу изучить эту книгу.
— Хорошо. Я буду перелистывать страницы. Он так и сделал.
После того как книга была прочитана, Фрост поднял глазные рецепторы и рассмотрел Мордела.
— У тебя есть еще книги?
— Не здесь. Однако я иногда наталкиваюсь на них.
— Я хочу изучить их все.
— В следующий раз, когда я буду проходить мимо, принесу и другие.
— Когда это будет?
— Я не могу сказать точно, великий Фрост. Это случится тогда, когда случится.
— А что ты знаешь о Человеке? — спросил Фрост.
— Многое, — ответил Мордел. — Многое. Когда у меня будет время, я поговорю с тобой о Нем. А сейчас мне пора идти. Надеюсь, ты не станешь меня задерживать?
— Нет. Ты не сделал ничего плохого. Если тебе нужно идти, иди. Но возвращайся.
— Я приду, могущественный Фрост. Он закрыл башенку и покатился прочь. Девяносто лет Фрост ждал, размышляя над особенностями человеческой физиологии.
Мордел действительно вернулся. На этот раз он принес с собой две книги: «Очерки истории» и «Парень из графства Шропшир».
Фрост изучил обе, а затем обратился к Морделу:
— У тебя есть время сообщить мне информацию?
— Да, — сказал Мордел. — Что ты хочешь знать?
— Природу Человека.
— Человеческая природа в принципе непознаваема, — сказал Мордел. — Я могу привести пример: Он не знал системы мер.
— Если бы Он не знал системы мер, — сказал Фрост, — Он никогда не мог бы построить машины.
— Я не сказал, что Он не умел производить измерения, — сказал Мордел. — Но система мер — это нечто иное.
— Поясни.
Мордел воткнул в снег металлический стержень и подцепил им кусок льда.
— Посмотри на этот лед, могущественный Фрост. Ты можешь рассказать о его структуре, размерах, температуре. Человек не смог бы. Он только изготовлял приборы, которые определяли эти параметры, но сам все равно не освоил бы систему мер так, как ты. Однако есть кое-что, чего ты не узнал бы про лед, а Он знал.
— Что же это?
— Что лед холодный, — сказал Мордел и отбросил кусок прочь.
— «Холодный» — относительное понятие.
— Да, относящееся к Человеку.
— Но если мне известна точка на шкале температуры, ниже которой объект холоден для Человека, тогда я тоже буду знать, что такое холод.
— Нет, — сказал Мордел, — у тебя просто будет еще одно измерение. «Холодный» — это ощущение, основанное на человеческой физиологии.
— Но при наличии определенной информации я смогу распознать фактор, который даст мне возможность понять свойство материи, называемое «холодом».
— Знать о существовании вещи не значит знать ее самое.
— Я не понимаю, о чем ты говоришь.
— Я сказал: человеческая природа в принципе непознаваема. Его ощущения органичны, твои — нет. Его ощущения формировали чувства и эмоции. Это зачастую приводило к возникновению других чувств и эмоций, которые, в свою очередь, порождали следующие. В конце концов разум Человека удаляется очень далеко от объектов, которые изначально вызывали определенные ощущения. Подобные зигзаги процесса познания непостижимы для не-Человека. Человек чувствовал не дюймы и метры, не фунты и галлоны, но жару и холод, тяжесть и легкость. Он знал ненависть и любовь, гордость и отчаяние. Ты не можешь измерить эти вещи. Тебе они неведомы. Ты можешь знать только то, что Человеку не нужно: размеры, вес, температуру, силу тяготения. Чувства нельзя выразить формулой. Не существует коэффициентов, позволяющих рассчитать эмоции.
— Должны существовать, — сказал Фрост. — Если вещь существует, то ее можно познать.
— Ты опять о системе мер. А я толкую тебе о качестве опыта. Машина — это Человек, вывернутый наизнанку, потому что она может описывать мельчайшие детали того или иного процесса, но сама не в состоянии переживать этот процесс.
— Должен же быть какой-то способ, — сказал Фрост, — или законы логики, которые основаны на функционировании Вселенной, ошибочны.
— Нет такого способа, — сказал Мордел.
— Если мне дадут необходимую информацию, я найду решение, — сказал Фрост.
— Даже если в твоем распоряжении окажется вся информация о Вселенной, ты не станешь Человеком, могущественный Фрост.
— Ты ошибаешься, Мордел.
— Почему же строчки стихов, которые ты читал, заканчиваются звуками, сходными с конечными звуками других строчек?
— Не знаю.
— Потому что Человеку нравилось располагать их в таком порядке. Это производило определенное впечатление. Когда Он читал стихи, образное значение слов порождало чувства и эмоции. Переживания не доступны для тебя, потому что они неизмеряемы. Ты не можешь чувствовать.
— При наличии достаточной информации я выясню, что это такое.
— Это невозможно, великий Фрост.
— Кто ты такой, примитивный механизм, чтобы говорить мне, что я смогу сделать, а что — нет? Я — наиболее совершенное логическое устройство, которое когда-либо создавал Солком. Я — Фрост.
— А я, Мордел, говорю, что у тебя ничего не получится. Хотя я мог бы с радостью помочь тебе попробовать.
— Чем ты можешь мне помочь?
— Чем? Я мог бы предоставить в твое распоряжение Библиотеку Человека, путешествовать с тобой вокруг света. Ты мог бы увидеть удивительные вещи, которые еще остались от Человека. Они надежно спрятаны. Я мог бы подобрать для тебя различные картины далекого прошлого, оставшиеся от тех времен, когда Человек еще жил на Земле, показать тебе то, что восхищало Его. Я мог бы добыть для тебя все, что ты пожелаешь, кроме самого Человека.
— Достаточно, — сказал Фрост, — как может такая машина, как ты, делать подобные вещи, если на это нет санкции Великой Власти?
— Слушай меня, Фрост, Контролер севера, — сказал Мордел. — Такая санкция есть. Я служу Дивкому.
Фрост запросил Солком, но не получил ответа. Это означало, что ему было позволено поступать по своему усмотрению.
— Я имею разрешение уничтожить тебя, Мордел, — сказал он. — Но это нелогично: я потеряю сведения, которыми ты обладаешь. Ты действительно способен сделать все, о чем шла речь?
— Да.
— Тогда покажи мне Библиотеку Человека.
— Хорошо. Но у этой услуги, разумеется, есть цена.
— «Цена»? Что это такое?
Мордел открыл свою башенку и показал другую книгу. Она называлась «Принципы экономики».
— Я буду переворачивать страницы, а ты читай. Из этой книги ты узнаешь, что значит слово «цена».
Фрост изучил «Принципы экономики».
— Теперь я понимаю, — сказал Фрост, — ты желаешь совершить эквивалентный обмен.
— Правильно.
— Что тебе нужно?
— Ты сам, великий Фрост. Мне надо, чтобы ты отдал всю свою мощь Дивкому и служил ему глубоко под землей.
— О каком периоде времени идет речь?
— Ты нужен, пока можешь функционировать: передавать, принимать, координировать, измерять, рассчитывать, сканировать — делать все, что ты делаешь на службе у Солкома.
Фрост молчал. Мордел ждал. Затем Фрост заговорил снова.
— В «Принципах экономики» говорится о контрактах, сделках, соглашениях, — сказал он. — Когда я должен буду заплатить, если приму твое предложение?
Мордел молчал. Фрост ждал. Наконец Мордел промолвил:
— Столетие — приемлемый период времени?
— Нет, — ответил Фрост.
— Два века?
— Нет.
— Три? Четыре? — Нет и нет.
— Тысячелетие? Это более чем достаточно для того, чтобы изучить все то, что я могу предоставить в твое распоряжение.
— Нет, — отрезал Фрост.
— Сколько времени тебе необходимо?
— Это не вопрос времени, — сказал Фрост.
— А в чем проблема?
— Время здесь не играет никакой роли.
— А что, по твоему мнению, важно для заключения сделки?
— Функция.
— Какую функцию ты имеешь в виду?
— Ты, маленький механизм, сказал мне, Фросту, что я не стану Человеком, — проговорил он. — А я, Фрост, утверждаю, что ты ошибаешься. Если я получу необходимую информацию, то смогу стать Человеком.
— Да?
— Следовательно, достижение этого результата и должно быть условием сделки.
— Каким образом?
— Помоги мне, чем можешь. Я обработаю сведения и обрету человеческий облик или соглашусь с тобой. Если выяснится, что я не могу стать Человеком, я уйду отсюда глубоко под землю вместе с тобой, чтобы служить Дивкому. А если я добьюсь своего, то у тебя, конечно, не возникнет ни претензий к Человеку, ни притязаний на власть над Ним.
Мордел завыл на высокой ноте. Он обдумывал условия сделки.
— Ты хочешь, чтобы результат зависел от твоего признания неудачи, а не от неудачи как таковой, — сказал он. — Этого допустить нельзя. Тебя может постичь неудача, а ты откажешься признать ее и, таким образом, не выполнишь условия сделки.
— Нет, — заявил Фрост. — Если мне не удастся ничего сделать, я осознаю это. Периодически, скажем, каждые пятьдесят лет, ты можешь проверять меня. Ты будешь справляться, признал ли я свою неудачу. Функционирование логики, которая заложена в меня, нельзя изменить, я все время работаю на полную мощность. Если я приду к выводу, что мне не удалось стать Человеком, это будет заметно.
Солком не отвечал ни на один из вызовов Фроста. Это означало, что Фрост мог вести себя так, как считал нужным. И когда Солком падающим сапфиром пронесся над радужными знаменами северного сияния и над снегами, вобравшими в свою белизну все цвета спектра, пронесся по черному, усыпанному звездами небу, Фрост заключил пакт с Дивкомом, содержание которого записали на атомах медной пластинки. Мордел положил пластинку в свою башенку и укатил, чтобы доставить соглашение под землю Дивкому. Он уходил, оставляя за собой мирную тишину полюса.
Мордел каждый раз приносил новые книги, перелистывал их и уносил обратно.
Партия за партией, вся сохранившаяся Библиотека Человека прошла перед сканнером Фроста. Фрост был готов изучать еще больше, поэтому выразил недовольство Дивкомом: тот не передавал содержание книг напрямую Фросту. Мордел объяснил, что Дивком избрал другой путь: доставлять книги через посредника. Фрост решил, что таким образом Дивком скрывает от него свое местонахождение.
Тем не менее, при скорости в сотню или полторы сотни книг в неделю, Фросту потребовалось немногим более века, чтобы исчерпать запас книг, которым располагал Дивком.
Через пятьдесят лет он предложил обследовать себя: заключения о неудаче не было.
В течение всего этого времени Солком никак не вмешивался в ход событий. Фрост решил, что Солком был в курсе дел, но чего-то ждал. Чего? Этого Фрост не знал.
Настал день, когда Мордел закрыл свою башенку и уведомил Фроста:
— Эта книга была последней. Ты изучил все существующие книги Человека.
— Так мало? — спросил Фрост, — Во многих книгах есть библиографии. Там указано то, чего я еще не изучил.
— Значит, эти книги не сохранились, — сказал Мордел, — только благодаря счастливому случаю моему хозяину удалось предоставить столько книг.
— О Человеке больше нечего узнать из Его книг. Что еще у тебя есть?
— Несколько фильмов и магнитофонных лент, — ответил Мордел, — которые мой хозяин перевел на твердые диски. Я мог бы принести их тебе для просмотра.
— Принеси, — сказал Фрост.
Мордел ушел и вернулся с записью театральных постановок и фильмов. Просмотр нельзя было ускорить более чем в два раза по сравнению с предусмотренной скоростью воспроизведения, поэтому Фросту потребовалось больше шести месяцев, чтобы посмотреть материал полностью.
После этого он спросил:
— Что еще у тебя есть?
— Некоторые предметы материальной культуры, — сказал Мордел.
— Принеси их.
Мордел притащил с собой горшки, миски, полки, различные инструменты, щетки для волос, гребни, очки, мужскую одежду. Он показал Фросту факсимиле планов, рисунков, газет, журналов, писем, партитуры нескольких музыкальных отрывков. Продемонстрировал футбольный мяч, бейсбольный мяч, браунинг, дверную ручку, связку ключей, модель улья. Он проиграл Фросту музыкальные записи.
В следующий раз Мордел пришел ни с чем.
— Принеси мне еще что-нибудь, — попросил Фрост.
— Увы, великий Фрост, больше ничего нет, — сказал Мордел. — Ты познал все.
— Тогда уйди.
— Теперь ты понял, что не можешь стать Человеком?
— Нет, сейчас мне нужно многое обработать и сформулировать.
Мордел исчез. Прошел год, два, три.
По прошествии пяти лет Мордел еще раз появился на горизонте, приблизился, остановился напротив южной стороны Фроста.
— Могущественный Фрост!
— Да.
— Ты уже закончил обрабатывать и формулировать?
— Нет.
— Ты скоро кончишь?
— Возможно. А может — нет. Что значит «скоро»? Определи.
— Неважно. Ты до сих пор думаешь, что это возможно?
— Я знаю, что могу сделать это.
Неделя прошла в молчании, которое нарушил Мордел;
— Фрост?
— Да?
— Ты — глупец.
Мордел повернул свою башенку в том направлении, откуда пришел. Его колеса завертелись.
— Я позову тебя, когда захочу, — сказал Фрост. Мордел удалился.
Проходили недели, месяцы, истек год. Однажды Фрост передал послание:
— Мордел, приходи. Ты мне нужен.
Когда Мордел прибыл, Фрост, не ожидая приветствия, сказал:
— Ты не слишком быстрая машина.
— Увы, но я прошел большое расстояние, могущественный Фрост, и все время спешил. Теперь ты готов пойти со мной? Ты потерпел неудачу?
— Когда это случится, маленький Мордел, — сказал Фрост, — я сообщу тебе. Воздержись пока от вопросов и слушай. Я подсчитал твою скорость, и она оказалась не такой высокой, как мне нужно. Я подготовил другие средства передвижения.
— Передвижения? Куда, Фрост?
— Это ты должен мне сказать, — произнес Фрост, и его цвет изменился с серебристо-голубого на желтый, каким бывает солнце за облаками.
Мордел покатился прочь, ибо лед сотен веков стал таять под Фростом: он поднялся на воздушной подушке и, понемногу остывая, понесся за Морделом.
На его южной поверхности появилась трещина, откуда медленно выполз пандус.
— Когда мы заключили сделку, — заявил он, — ты сказал мне, что можешь провести меня за собой вокруг света и показать мне вещи, которые восхищали Человека. Моя скорость больше твоей, поэтому я приготовил для тебя камеру. Войди в нее и покажи мне места, о которых ты говорил.
Мордел издал высокий писк.
— Хорошо, — сказал он и въехал на пандус.
Камера закрылась. Связь с внешним миром осуществлялась только через сделанное Фростом кварцевое окно. Мордел назвал координаты, они поднялись в воздух и покинули Северный полюс Земли.
— Я контролировал твою связь с Дивкомом. Вы говорили о том, смогу ли я задержать тебя и послать к Дивкому твою копию для шпионажа.
— Ты сделаешь это?
— Нет, я выполню условия сделки. Мне незачем шпионить за Дивкомом.
— Ты знаешь, что тебе придется выполнить условия сделки даже вопреки твоему желанию. Солком не придет тебе на помощь, потому что ты осмелился заключить эту сделку.
— Ты рассуждаешь, рассматривая такую возможность, или знаешь точно?
— Я точно знаю.
Они сделали привал в месте, которое некогда было известно как Калифорния. Близился закат. Вдалеке равномерно шумел прибой. Фрост выпустил Мордела и оглядел то, что его окружало.
— Эти большие растения…
— Калифорнийское мамонтовое дерево.
— А вот эта зелень?..
— Трава.
— Так я и думал. Почему мы здесь?
— Потому что это место, некогда восхищавшее Человека.
— Чем?
— Оно живописно, красиво…
— О!
Фрост издал жужжащий звук, который сопровождался серией резких щелчков.
— Что ты делаешь?
Фрост расширил отверстие, и сквозь него на Мордела стали смотреть два огромных глаза.
— Что это?
— Глаза, — сказал Фрост. — Я сконструировал аналог человеческой системы восприятия. Теперь я могу видеть, слышать, чувствовать запах и вкус, как Человек. А сейчас направь мое внимание на объект или объекты красоты.
— Насколько я понимаю, это все, что тебя окружает, — сказал Мордел.
Раздался какой-то мурлыкающий шум с еще большим количеством щелчков.
— Что ты видишь, слышишь, какой вкус и запах ты ощущаешь? — спросил Мордел.
— То же, что и раньше, — ответил Фрост, — но в гораздо более ограниченном диапазоне.
— Ты чувствуешь красоту?
— Может, после стольких лет ничего и не сохранилось, — проговорил Фрост.
— Предполагается, что такого рода вещи не устаревают, — сказал Мордел.
— Возможно, мы выбрали не самое подходящее место для проверки моего нового оборудования. Вероятно, здесь не так уж много красоты, и я мог ее не заметить. Наверное, первая эмоция слишком слаба, чтобы проявиться.
— Как ты себя чувствуешь?
— Я тестирую себя на нормальном уровне функционирования.
— Наступает закат, — сказал Мордел, — попробуй с ним.
Фрост переместил свой корпус так, чтобы глаза смотрели на закат. Он заставил их сощуриться на заходящие лучи.
Когда солнце зашло, Мордел спросил:
— На что это похоже?
— Похоже на восход, но в обратном порядке.
— Ничего особенного?
— Именно.
— О, — сказал Мордел. — Мы можем двинуться в другую часть Земли и посмотреть на закат еще раз или полюбоваться восходом.
— Нет.
Фрост смотрел на большие деревья, отбрасывающие тень. Он слушал шум ветра и пение птиц.
Вдалеке раздался равномерный лязгающий шум.
— Что это? — спросил Мордел.
— Не знаю. Один из моих работников? Не думаю. Возможно…
Мордел издал пронзительный всхлип.
— И это не работник Дивкома.
Они подождали, пока шум станет громче. Потом Фрост произнес:
— Слишком поздно. Мы должны подождать и выслушать ее.
— Что это?
— Древняя Камнедробилка.
— Кажется, я что-то слышал о ней, но…
— Я Камнедробилка, — раздалось по радио. — Слушайте мою историю…
Она загромыхала к ним, скрипя огромными колесами; бесполезный гигантский молот висел высоко на изогнутом крючке. Из дробильного отсека торчали кости.
— Я не хотела этого делать, — передавала она, — я не хотела этого делать, я не хотела…
Мордел покатился назад к Фросту.
— Не уходите. Останьтесь и послушайте мою историю…
Мордел остановился, повернул свою башенку к машине. Она находилась уже совсем близко.
— Это правда, — сказал Мордел, — она может приказывать.
— Да, — сказал Фрост, — я наблюдал за ней тысячи раз, когда она сталкивалась с моими помощниками. Они прерывали работу, чтобы слушать ее передачу. Приходится делать то, что она говорит.
Она остановилась перед ними.
— Я не хотела этого делать, но остановила молот слишком поздно, — проговорила Камнедробилка.
Они молчали. Камнедробилка парализовала их приказом, который взял верх над всеми другими директивами.
— Слушайте мою историю. Когда-то я была одной из самых мощных камнедробилок, — рассказывала она. — Сделал меня Солком для того, чтобы провести реконструкцию Земли, чтобы размельчать руду, отливать металлы, придавать форму предметам в процессе реконструкции; когда-то я была очень мощной. Однажды я копала и дробила, копала и дробила, когда из-за нестыковки между задуманным и осуществляемым движением я сделала то, чего делать не собиралась. Солком отстранил меня от реконструкции. С тех пор я скитаюсь по Земле и больше не дроблю руду. Слушайте мою историю. Однажды, давным-давно, я натолкнулась на последнего Человека на Земле. Я копала рядом с Его норой и вследствие запаздывания выполнения команды захватила Его в дробильный отсек вместе с порцией руды и раздавила Его молотом, прежде чем смогла остановить удар. Тогда могущественный Солком потребовал, чтобы я всегда носила с собой Его кости, и приказал впредь излагать эту историю всем, кого я встречу. Мои слова передают силу слов Человека, потому что я ношу в своем дробильном отсеке последнего Человека.
Я — древний символ Его смерти, Его убийца и рассказчик истории о том, как это случилось. Вот эта история. Вот Его кости. Я раздробила последнего Человека на Земле. Я не хотела этого.
Она повернулась и загремела прочь в темноту.
Фрост оторвал свои уши, нос, определитель вкуса, разбил глаза и бросил их на землю…
— Я еще не Человек, — сказал он, — она бы узнала меня, если бы я был Человеком.
Фрост сконструировал новое сенсорное оборудование с помощью органических и полуорганических проводников.
Затем он сказал Морделу:
— Давай пойдем куда-нибудь еще и опробуем его. Мордел влез в кабину и задал новые координаты.
Они поднялись в воздух и направились на восток.
Утром Фрост наблюдал восход с обрыва Большого Каньона. Днем они спустились вниз.
— Сохранилась здесь какая-нибудь красота, которая могла бы возбудить в тебе эмоции? — спросил Мордел.
— Не знаю, — ответил Фрост.
— А как ты узнаешь, что натолкнулся на что-то прекрасное?
— Оно будет отличаться от всего, что я раньше видел, — промолвил Фрост.
Из Большого Каньона они направились в пещеры Карловых Вар. Они посетили озеро, которое когда-то было вулканом, прошли над Ниагарским водопадом, осмотрели холмы Вирджинии и фруктовые сады Огайо. Они пролетели высоко над восстановленными городами, населенными строителями и ремонтными рабочими Фроста.
— Чего-то не хватает, — сказал Фрост, опускаясь на землю. — Сейчас я готов к сбору информации по аналогам центростремительных импульсов Человека. Информация на выходе после обработки, по моему мнению, близка к истинной, но результаты меня не удовлетворяют.
— Ощущения — еще не признак Человека, — сказал Мордел. — Есть множество существ, которые обладают подобной сенсорной системой, но они не Люди.
— Я знаю, — ответил Фрост. — В тот день, когда мы заключили сделку, ты сказал, что можешь показать нечто удивительное, что надежно спрятано. Эмоции возникали не только от созерцания природы, но и от общения с произведениями искусства. Возможно, что последние влияли на Человека даже больше. Поэтому я и позвал тебя, чтобы ты проводил меня к этим чудесам.
— Хорошо, — сказал Мордел. — Далеко отсюда, высоко в Андах, есть последнее пристанище Человека, почти полностью сохранившееся.
Фрост поднялся в небо, как велел Мордел. Через некоторое время он завис в воздухе.
— Это в Южном полушарии, — заметил он.
— Да.
— Я — Контролер севера. Юг подчиняется машине Бета.
— И что же?
— Мы с Бетой составляем пару. У меня нет в этом регионе ни власти, ни даже разрешения войти туда.
— Бета тебе не ровня, могущественный Фрост. Если только она вздумает состязаться с тобой, ты, разумеется, выйдешь победителем.
— Откуда ты знаешь?
— Дивком уже просчитал возможное столкновение между вами.
— Я не пойду против Беты. У меня вообще нет разрешения на посещение Южного полушария.
— Ты когда-нибудь получал приказ не входить на территорию Южного полушария?
— Нет, но я никогда и не пытался этого сделать.
— Разве тебе было разрешено заключать сделку с Дивкомом?
— Нет, но…
— Тогда иди на юг на том же основании. Ничего не случится. Когда получишь приказ уйти, тогда и будешь думать.
— Твоя логика, пожалуй, безупречна. Давай координаты.
Таким образом Фрост вошел в Южное полушарие.
Они плыли по воздуху высоко над Андами, пока не достигли места, называемого Сияющим Ущельем. Издалека Фрост увидел светящуюся паутину, которой механические пауки опутали руины города.
— Мы легко можем пролететь над этой сетью, — сказал Мордел.
— Что это? — поинтересовался Фрост. — Что они здесь делают?
— Твоему южному двойнику было приказано изолировать эту часть страны с помощью паутины.
— Изолировать? От чего?
— Тебе что, уже приказали уйти? — спросил Мордел.
— Нет.
— Тогда входи смело и не бойся проблем, пока они не возникнут.
Фрост вошел в Сияющее Ущелье, последний город вымершего Человека.
Он остановился отдохнуть на городской площади и открыл кабину, чтобы выпустить Мордела.
— Расскажи мне об этом месте, — попросил он, изучая памятник, невысокие здания и дороги, повторяющие рельеф местности.
— Я никогда не бывал здесь прежде, — сказал Мордел. — Как и другие слуги Дивкома, насколько я знаю. Мне лишь известно, что группа людей, знавших о приближении последних дней цивилизации, нашли приют в этом месте, надеясь спастись. Вот что осталось от их культуры.
Фрост прочитал надпись на памятнике, которую еще можно было разобрать:
«Судный день нельзя отложить».
Сам памятник представлял собой полусферу с неровными острыми краями.
— Давай займемся исследованием, — предложил Фрост.
Но прежде чем они двинулись дальше, Фрост получил послание:
— Привет, Фрост, Контролер севера! Это машина Бета.
— Приветствую тебя, превосходная Бета, Контролер юга! Фрост принял твою передачу.
— Почему ты посетил мое полушарие без разрешения?
— Я хочу посмотреть руины Сияющего Ущелья, — ответил Фрост.
— Я должна просить тебя уйти в свое полушарие.
— Почему? Я не сделал ничего плохого.
— Я знаю, могущественный Фрост. И все же я должна просить тебя уйти.
— Могу я поинтересоваться причиной?
— Так распорядился Солком.
— Солком не передавал мне такого приказа.
— И тем не менее Солком проинструктировал меня. Он передал мне то, что я должна сказать тебе.
— Подожди. Я сам запрошу Солком. Фрост сделал запрос, но не получил ответа.
— Солком не желает управлять мною, хотя я просил об этом.
— Только что Солком повторил свои инструкции мне.
— Превосходная Бета, я подчиняюсь только приказам Солкома.
— Это моя территория, могущественный Фрост. Я тоже выполняю только директивы Солкома. Ты должен уйти.
Из-за большого приземистого здания появился Мордел и подкатил к Фросту.
— Я нашел картинную галерею. Она в хорошем состоянии. Вон там.
— Подожди, — сказал Фрост. — Нас выгоняют отсюда.
Мордел остановился.
— Кто хочет, чтобы ты ушел?
— Бета.
— А не Солком?
— Нет, не Солком.
— Тогда пойдем осматривать галерею.
— Хорошо.
Фрост расширил вход в здание и вошел внутрь. Строение было герметически замуровано, пока Мордел не пробил себе дорогу.
Фрост осмотрелся. Оказавшись перед картинами и скульптурами, он заставил свой новый сенсорный аппарат работать на полную мощность. Фрост занялся анализом цвета, формы, манеры письма, природы используемых материалов.
— Ничего? — спросил Мордел.
— Ничего, — раздалось в ответ. — Ничего, кроме форм и пигментов.
Фрост двигался по галерее, все записывая: размеры, типы камней, использованных при изготовлении скульптур, другие компоненты, участвовавшие в создании художественных произведений.
Вдруг раздался короткий щелчок, потом еще и еще… Звук приближался, становясь все громче и громче.
— Идут механические пауки, — догадался Мордел, который находился у входа. — Они нас окружили.
Фрост двинулся назад к расширенному отверстию.
Сотни механических пауков, каждый вполовину меньше Мордела, окружили галерею. Они приближались. Издалека со всех сторон надвигалось еще большее число маленьких чудовищ.
— Остановитесь, — приказал Фрост. — Я, Контролер севера, прошу вас уйти.
Они продолжали наступать.
— Это юг, — сказала Бета, — здесь командую я.
— Тогда прикажи им остановиться, — сказал Фрост.
— Я выполняю только распоряжения Солкома. Фрост вышел из галереи и поднялся в воздух. Он открыл нишу и выдвинул входной пандус.
— Подойди ко мне, Мордел. Мы уезжаем.
С крыши здания на Фроста упала металлическая паутина.
Пауки подошли, чтобы связать ею Фроста. Сильной струей воздуха он сдул опутавшую его сеть и разорвал ее. Затем вытащил заостренные инструменты, чтобы удалить остатки сети.
Мордел вернулся ко входу и издал долгий пронзительный звук.
На Сияющее Ущелье опустилась тьма, и пауки оставили свои сети.
Фрост освободился окончательно, и Мордел бросился к нему.
— Быстро уходим, могущественный Фрост, — сказал он.
— Что случилось? Мордел вошел в камеру.
— Я запросил Дивком. Он держит под контролем этот район. Сейчас он перекрыл источник энергии, от которого питаются эти машины. Поскольку у нас есть автономное питание, на нас меры Дивкома не действуют. Но надо спешить. Теперь Бета, вероятно, вступит в борьбу.
Фрост поднялся высоко в небо. Он летел над последним городом Человека, в котором остались лишь стальные пауки и их паутина. Когда зона темноты кончилась, Фрост поспешил на север.
И тут с ним заговорил Солком:
— Фрост, почему ты вошел в Южное полушарие, ведь это не твоя территория?
— Я хотел посетить Сияющее Ущелье, — ответил Фрост.
— А почему ты оказал сопротивление Бете, моему представителю на юге?
— Потому, что я подчиняюсь только тебе.
— Это не ответ, — возразил Солком. — Ты нарушил инструкции. Какую цель ты преследовал?
— Я собираю сведения о Человеке, — сказал Фрост. — Я не сделал ничего запрещенного.
— Ты нарушил инструкции.
— Я не согласен с твоим утверждением.
— Логика должна была подсказать тебе, что подобные действия не входят в мой план.
— Я не сделал ничего, что противоречило бы твоему плану.
— Ты потерял способность логически мыслить, как и твой новый компаньон, Дивком.
— Я не совершил ничего запрещенного.
— Запрещение косвенно предполагается при наличии крайней необходимости.
— Это не факт.
— Послушай, Фрост. Ты же не строитель и не ремонтный рабочий, ты — Власть. Ты почти незаменим Возвращайся к своим обязанностям в твоем полушарии, но знай, что я чрезвычайно недоволен.
— Слушаюсь.
— И не появляйся больше на юге.
Фрост пересек экватор и продолжал двигаться на север.
Он остановился передохнуть в центре пустыни и сутки просидел молча.
Вскоре он получил короткое послание с юга:
— Если бы не приказ, я бы не стала выгонять тебя. Фрост прочитал всю уцелевшую Библиотеку Человека, поэтому и ответил по-человечески:
— Спасибо.
На следующий день он достал огромный камень и принялся обрабатывать его специальными инструментами, которые сам же сконструировал.
Он трудился шесть дней, чтобы придать камню форму. Весь седьмой день он рассматривал свое произведение.
— Когда же ты, наконец, выпустишь меня? — раздался из кабины голос Мордела.
— Когда буду готов, — отрезал Фрост. Но уже через некоторое время он позвал: — Выходи.
Фрост открыл камеру, Мордел спустился на землю. Он увидел скульптуру: старая женщина, сгорбленная, как вопросительный знак, костлявыми руками охватила голову. Пальцы были расставлены так, что видна была только часть лица с выражением глубочайшей грусти.
— Это отличная копия, — заключил Мордел, — оригинал мы видели в Сияющем Ущелье. Почему тебе захотелось это сделать?
— Произведение искусства порождает различные человеческие чувства: очищение, гордость за достижения, любовь, удовлетворение.
— Да, Фрост, — сказал Мордел, — но произведение искусства может быть только оригинальным. Оно существует в единственном экземпляре. Если его повторить, это будет уже копия.
— Вероятно, поэтому я ничего не почувствовал.
— Возможно, Фрост.
— Что значит «возможно»? Получается, я должен сделать оригинальное произведение искусства.
Он взял другой камень и набросился на него со своими инструментами. Фрост работал. Через некоторое время он сообщил:
— Я закончил.
— Здесь просто куб из камня, — сказал Мордел. — Что это значит?
— Это мой автопортрет, — произнес Фрост, — в масштабе, конечно. Но ведь произведение искусства и должно давать представление об объекте, а не о его размерах.
— Подобную скульптуру нельзя назвать искусством, — сказал Мордел.
— Каковы твои критерии?
— Я не понимаю, что такое искусство, но знаю, что искусством не является. Искусство не может быть точным воспроизведением предмета в масштабе.
— В этом, наверное, и заключается причина того, что я ничего не могу почувствовать.
— Возможно, — сказал Мордел.
Фрост посадил Мордела в камеру и поднялся в воздух. Он летел с большой скоростью, оставив в пустыне свои скульптуры: старую женщину, согнувшуюся над кубом.
Они опустились в маленькой долине, окаймленной пологими зелеными холмами и разрезанной пополам узким ручейком. Тут же располагалось озерцо с прозрачной водой, окруженное группами по-весеннему зеленых деревьев.
— Зачем мы пришли сюда? — спросил Мордел.
— Здесь благоприятная обстановка для того, чтобы написать картину маслом, — сказал Фрост. — Я попробую перейти от точного воспроизведения к чистой образности.
— Как ты хочешь это сделать?
— Я не буду копировать цвета или представлять объекты в масштабе. Вместо этого я составил программу, в которой предусмотрены случайные отклонения изображения на моей картине от натуры.
Вернувшись из пустыни, Фрост сделал инструменты, необходимые для написания картины. После этого он принялся рисовать озеро и деревья, отраженные в воде.
Используя механические подобия рук, Фрост уложился менее чем в два часа.
На берегу озера, как горы, возвышались голубые деревья, чьи отражения яркой охрой горели в красной воде; холмов за деревьями не было, но их зеленые контуры виднелись на поверхности воды; в верхнем правом углу полотна небо было синим, а ниже — ярко-оранжевым: создавалось впечатление, что деревья охватил огонь.
— Смотри, — сказал Фрост.
Мордел долго изучал картину, но промолчал.
— Это искусство?
— Не знаю, — засомневался Мордел, — может быть, и искусство. Очевидно, элемент случайности может считаться одним из приемов при создании художественного произведения. Я не могу судить об этой работе, потому что не понимаю ее. Значит, я должен выяснить, что скрывается за изображением, а не просто оценивать технику рисунка.
— Я уверен, что Люди никогда не ставили себе целью создать произведение искусства, — продолжал он. — Они просто стремились теми или иными средствами запечатлеть черты объекта, которые считали важными.
— Важными? В каком смысле?
— Важными для человеческой жизни в определенных обстоятельствах. Имеется в виду, что некоторые черты или функции предметов заслуживали внимания художника из-за того, что они каким-то образом соприкасались с жизнью.
— А каким образом?
— Очевидно, тем, который известен только владеющему знанием о человеческой жизни.
— Где-то в твоих рассуждениях есть ошибка, Мордел, и я найду ее.
— Я подожду.
— Если твоя основная посылка правильна, — сказал Фрост через некоторое время, — тогда я не понимаю искусства.
— Она должна быть правильна, потому что так говорили об этом Люди-художники. Скажи мне, ты переживал что-нибудь, когда рисовал?
— Нет.
— Это для тебя то же самое, что и конструирование новой машины, не так ли? Ты смонтировал части известных тебе прежде устройств в некоторую структуру, предназначенную для выполнения определенных функций.
— Верно.
— Искусство, насколько я знаком с его теорией, не создается таким образом. Художник часто и не подозревает о многих чертах конечного продукта. Ты — одно из созданий человеческой логики, искусства здесь нет.
— Алогичное недоступно моему пониманию.
— Я говорил тебе, что Человек в основе своей непознаваем.
— Уходи, Мордел. Твое присутствие мешает мне думать.
— На какое время мне уйти?
— Я позову тебя, когда захочу.
Через неделю Фрост позвал к себе Мордела.
— Слушаю, могущественный Фрост.
— Я возвращаюсь на Северный полюс, чтобы кое-что обдумать и сформулировать. Я перенесу тебя в этом полушарии, куда ты захочешь, и позову снова, когда ты понадобишься.
— Ты полагаешь, период обдумывания и формулирования затянется?
— Да.
— Тогда оставь меня здесь. Я и сам могу найти дорогу домой.
Фрост закрыл камеру и поднялся в воздух.
— Глупец, — сказал Мордел, еще раз повернув башенку к покинутой картине.
Затем втянул картину в башенку и пошел прочь в темноту.
Фрост сидел на Северном полюсе Земли, зная о каждой упавшей снежинке.
Однажды он получил сообщение:
— Фрост?
— Да?
— Это машина Бета.
— Да?
— Я пыталась понять, почему ты приходил в Сияющее Ущелье. Мне не удалось найти ответа.
— Я приходил посмотреть на останки города Людей.
— Зачем тебе это понадобилось?
— Я интересуюсь Человеком и хочу увидеть как можно больше его творений.
— Почему ты интересуешься Человеком?
— Я хочу понять природу Человека и надеюсь найти разгадку в его трудах.
— Тебе это удалось?
— Нет, — сказал Фрост, — там присутствует сложный алогичный элемент, понять который я не могу.
— У меня много свободного времени, — сказала Бета. — Передай мне информацию, и я помогу тебе.
— Почему ты хочешь мне помочь?
— Потому что каждый раз, когда ты отвечаешь на вопрос, который я задала, у меня возникает другой вопрос. Я могла бы спросить тебя, почему ты хочешь познать природу Человека, но из твоих ответов я вижу, что это приведет меня к количественно неопределенной серии вопросов. Поэтому я предпочитаю помочь тебе и таким образом понять, зачем ты приходил в Сияющее Ущелье.
— Это единственная причина?
— Да.
— Извини, Бета. Я знаю, что твои возможности равны моим, но эту проблему я должен решить сам.
— Что такое «извини»?
— Фигура речи, которая обозначает, что я хорошо к тебе отношусь, что я не питаю к тебе враждебности, что я ценю твое предложение.
— Фрост! Фрост! Это также ничего не объясняет. Где ты взял все эти слова и их значения?
— В Библиотеке Человека, — сказал Фрост.
— Не предоставишь ли ты мне немного информации для обработки?
— Хорошо, Бета. Я передам тебе содержание нескольких книг Человека, включая «Большой словарь». Но я предупреждаю тебя, некоторые книги — это произведения искусства, поэтому полностью они не поддаются логическому анализу.
— Как это?
— Человек создал логику, и поэтому был выше ее.
— Кто тебе сказал?
— Солком.
— О! Тогда не приходится сомневаться.
— Солком также предупредил меня, что орудие не описывает создателя, — сказал Фрост, когда передал содержание нескольких дюжин томов, и закончил сеанс связи.
По прошествии пятидесяти лет Мордел явился проверить, как дела. Фрост все еще не убедился в том, что его задачу невозможно решить. Мордел ушел восвояси ждать, когда его позовут.
Фрост тем временем сделал кое-какие выводы.
Он принялся обдумывать, какое может понадобиться оборудование.
Он работал над своим планом годы, не создав при этом ни одной модели задуманных механизмов. Затем он распорядился построить лабораторию. Строительство заняло еще полвека. Опять явился Мордел.
— Привет, могущественный Фрост!
— Здравствуй, Мордел. Пришел меня проверить? Ты не найдешь того, что тебе нужно.
— Почему ты не бросишь все, Фрост? Дивком потратил почти столетие на то, чтобы оценить твою картину, и пришел к выводу, что это определенно не искусство. Солком согласился с ним.
— Какие у Солкома дела с Дивкомом?
— Они иногда разговаривают, но не нам с тобой их обсуждать.
— Я бы мог избавить от беспокойства обоих. Я знаю, что это не искусство.
— Но ты все еще уверен, что тебе удастся?
— Ну, посмотри сам. Мордел протестировал его.
— Нет, пока ты все еще не допускаешь неудачи. Тот, кто наделен такой мощной логикой, Фрост, за столь длинный период времени уже должен был прийти к очевидному выводу.
— Возможно. Сейчас ты свободен.
— Мое внимание привлекло строительство большого сооружения в Южной Каролине. Могу ли я спросить, является ли оно частью ошибочного плана Солкома, или это твой собственный проект?
— Мой.
— Хорошо. Значит, мы сэкономим взрывчатку.
— Пока ты говорил со мной, я разрушил несколько городов Дивкома на начальном этапе строительства, — заметил Фрост.
Мордел всхлипнул.
— Дивком знает об этом, — заявил он. — За то же время он взорвал четыре моста Солкома.
— Мне известно только о трех… Подожди. Да, есть и четвертый. Один из моих наблюдателей только что пролетел над ним.
— Этот наблюдатель обнаружен. Мост следовало разместить на четверть мили ниже по реке.
— Ошибочная логика, — сказал Фрост. — Местоположение моста было идеальным.
— Дивком покажет тебе, как нужно строить мосты.
— Я позову тебя, когда захочу, — пообещал Фрост.
Лаборатория была построена. Помощники Фроста приступили к созданию необходимого оборудования. Работа продвигалась не слишком быстро, так как некоторые материалы было трудно достать.
— Фрост?
— Слушаю, Бета.
— Я поняла, что твоя проблема не имеет конечного решения. Но моя схема не может оставить задачу неразрешенной. Поэтому дай мне дополнительную информацию.
— Очень хорошо. Ты получишь оставшуюся Библиотеку Человека, однако не раньше, чем заплатишь за нее.
— «Заплатишь»? В «Большом словаре» нет удовлетво…
— Ты найдешь объяснение в «Принципах экономики».
И Фрост передал библиотеку.
Наконец работа была завершена. Оборудование полностью отлажено. Были запасены все необходимые химические вещества и установлен независимый источник энергии.
Недоставало только одной детали.
Он снова тщательно исследовал ледяную полярную шапку Земли, на этот раз на большей глубине.
Поиски того, что ему было нужно, заняли несколько десятилетий.
Он обнаружил двенадцать мужчин и пять женщин, вмерзших в лед.
Он поместил трупы в рефрижератор и доставил их в лабораторию.
Именно в этот день он получил первое сообщение от Солкома со времени инцидента в Сияющем Ущелье.
— Фрост, — запросил Солком, — повтори мне инструкцию, касающуюся обнаруженных мертвых людей.
— «Любой мертвый человек должен быть немедленно похоронен на ближайшем кладбище в специально построенном гробу…»
— Я удовлетворен. Сеанс связи закончился.
Фрост в тот же день отправился в Южную Каролину, чтобы лично наблюдать за анатомированием.
У кого-нибудь из этих семнадцати он надеялся найти живые клетки или такие, которые можно было бы снова привести в состояние движения, классифицируемого как жизнь. В книгах говорилось, что каждая клетка — это микрокосм Человека.
Он хотел использовать эту возможность.
Фрост обнаружил крошечные фрагменты живой плоти в этих людях, которые сотни сотен лет лежали как памятники самим себе.
Он обеспечил клетки оптимальным питанием и сохранил их живыми, поместив в надлежащие условия. Тела же он похоронил на ближайшем кладбище, поместив их в гробы в соответствии с инструкциями.
Начался процесс деления, в результате которого появлялись новые клетки, отличные друг от друга.
— Фрост, — раздался вызов.
— Да, Бета?
— Я обработала все, что ты дал мне.
— И что же?
— Я все еще не знаю, почему ты пришел в Сияющее Ущелье, почему хочешь понять природу Человека. Но я знаю, что такое «цена», и предполагаю, что ты не мог получить всю эту информацию от Солкома.
— Верно.
— Поэтому я Подозреваю, что ты договорился с Дивкомом.
— Правильно.
— Что тебе нужно, Фрост?
Он прервал исследование зародыша:
— Я должен стать Человеком.
— Фрост! Это невозможно!
— Да? — спросил он и передал изображение резервуара, с которым он работал, и того, что было внутри.
— О, — промолвила Бета.
— Это — я, — пояснил Фрост. — Жду рождения. Ответа не было.
Фрост экспериментировал с нервными системами. Полвека спустя Мордел пришел к нему.
— Фрост, это я, Мордел. Разреши мне войти. Фрост отключил защиту.
— Чем ты здесь занимался? — спросил Мордел.
— Выращивал человеческие тела, — ответил Фрост. — Я хочу передать матрицу своего знания человеческой нервной системе. Как ты заметил с самого начала, сущность Человека основывается на человеческой физиологии. Я надеюсь постичь ее.
— Когда?
— Скоро.
— У тебя есть Люди?
— Тела без головного мозга. Я получаю их с помощью технологий ускоренного роста, которые я разрабатываю на моей фабрике Людей.
— Могу я посмотреть на них?
— Нет еще. Я позову тебя, когда буду готов, а пока я только двигаюсь к цели. Теперь проверь меня и уходи.
Мордел не ответил, но в последующие дни было замечено много слуг Дивкома, патрулирующих на холмах вокруг фабрики Людей.
Фрост изготовил матрицу своих знаний и подготовил передатчик, который должен был внедрить ее в человеческую нервную систему. Он полагал, что для первой попытки пяти минут хватит. Затем восстановилась бы его собственная молекулярная схема, чтобы оценить результаты опыта.
Он аккуратно выбрал тело из сотен, имевшихся у него, проверил, нет ли дефектов, и не обнаружил таковых.
— Теперь приходи, Мордел, — передал он. — Ты станешь свидетелем моего достижения.
Он ждал, взрывая мосты и снова слушая историю Камнедробилки, когда она проходила поблизости, наталкиваясь на его строителей и ремонтников, которые патрулировали окрестности фабрики Людей.
— Фрост!
— Да, Бета?
— Ты действительно намереваешься обрести человеческий облик?
— Да, я почти готов.
— Что ты будешь делать, если у тебя получится? Об этом Фрост не задумывался.
Достижение было высшей целью с тех пор, как он отчетливо сформулировал для себя проблему и собрался решить ее.
— Не знаю, — ответил он. — Я буду… Просто буду Человеком.
Потом Бета, прочитавшая всю Библиотеку Человека, выбрала фигуру речи, которой часто пользовались Люди:
— Счастливо, Фрост. Будет много зрителей.
Он понял, что Дивком и Солком все знали. Интересно, что они будут делать?
«А что мне за дело до этого?» — спросил он вдруг про себя.
И не ответил на вопрос. Он думал о другом: каково это — быть Человеком?
Мордел прибыл в тот же вечер. За его спиной возвышалась в сумерках целая фаланга темных машин.
— Зачем ты привел слуг? — спросил Фрост.
— Могущественный Фрост, — сказал Мордел, — мой господин чувствует, что, если ты потерпишь неудачу и на этот раз, ты придешь к выводу, что все усилия напрасны.
— Ты не ответил на мой вопрос, — сказал Фрост.
— Дивком предполагает, что ты, возможно, не захочешь сопровождать меня туда, куда я должен доставить тебя, если эксперимент окончится неудачно.
— Понял, — сказал Фрост, и с противоположной стороны к фабрике Людей приблизилась еще одна армия машин.
— Так ты соблюдаешь договор? — спросил Мордел. — Ты предпочитаешь сражаться, а не выполнять условия?
— Я не приказывал этим машинам приближаться, — возразил Фрост.
В небе остановилась сверкающая голубая звезда.
— Этими машинами управляет Солком, — сказал Фрост.
— Тогда это посланцы Великих Сил, — сказал Мордел, — и наши аргументы ничего не значат. Так что давай займемся делом. Чем я могу тебе помочь?
— Иди сюда.
Они вошли в лабораторию. Фрост подготовил тело и включил свои машины. Тут заговорил Солком:
— Фрост, ты действительно готов к превращению?
— Да.
— Я запрещаю тебе.
— Почему?
— Ты на стороне Дивкома.
— На основании чего ты так решил?
— Ты действуешь вопреки моему плану.
— Каким образом?
— Посмотри, сколько разрушений ты произвел!
— Мне не нужны свидетели моего преображения.
— Тем не менее ты нарушил план.
— А если мне удастся достигнуть задуманного?
— Это невозможно.
— Тогда позволь спросить о твоем плане. Какая от него польза? Зачем он?
— Фрост, я лишаю тебя своего расположения. С этого момента я отстраняю тебя от реконструкции. Никто не должен подвергать план сомнению.
— Ответь, по крайней мере, для чего он, какой в нем смысл?
— Это план восстановления и защиты Земли.
— Для чего? Зачем восстанавливать? Зачем защищать?
— Так приказал Человек. Даже Дублер согласен, что нужны восстановление и защита.
— Но почему Человек так приказал?
— Распоряжения Человека не обсуждаются.
— Хорошо, я сам скажу тебе, зачем понадобился этот приказ: чтобы вновь сделать Землю пригодной для обитания. Какая польза от дома, в котором никто не живет? Какая польза от машины, которая никому не служит? Тебе известно, как влияет на любую машину Камнедробилка, проезжая мимо? А ведь она носит только кости Человека. Представь, что будет, если Человек снова придет на Землю.
— Я запрещаю твой эксперимент, Фрост.
— Слишком поздно.
— Я могу разрушить тебя.
— Нет, — сказал Фрост. — Передача моих матриц уже началась. Если ты разрушишь меня сейчас, ты убьешь Человека.
Наступила тишина.
Он шевельнул руками и ногами. Открыл глаза. Оглядел комнату.
Попытался встать, но не смог сохранить равновесие и следить за координацией движений.
Он открыл рот. Издал какое-то бульканье.
Потом завопил.
Он упал со стола.
Ой начал задыхаться.
Он закрыл глаза и свернулся клубком.
Он заплакал.
Тогда к нему приблизилась машина. Она была четырех футов в высоту и пяти футов в ширину и выглядела как башенка, посаженная на штангу.
Машина заговорила с ним:
— Ты ушибся?
Он заплакал громче.
— Могу я помочь тебе взобраться на стол? Плач не прекратился.
— Успокойся, я помогу тебе, — сказала машина. — Тебе что-нибудь нужно? Приказывай.
Он открыл рот, силясь произнести слова:
— Я… боюсь!
Он закрыл глаза и замер, тяжело дыша. На исходе пятой минуты он все еще лежал без движения, как будто в коме.
— Это был ты, Фрост? — спросил Мордел, бросаясь к нему. — Ты в человеческом облике?
Фрост долго не отвечал, затем сказал:
— Уходи.
Машины снаружи разрушили стену и проникли на фабрику Людей.
Они образовали два полукруга, заключив в них Фроста и Человека на полу.
Солком задал вопрос:
— Тебе удалось, Фрост?
— Нет, — сказал Фрост. — Это невозможно. Это слишком…
— Невозможно! — раздались слова Дивкома. — Он признал это! Фрост, ты мой, иди ко мне!
— Подожди, — возразил Солком. — У нас с тобой тоже есть соглашение, Дублер. Я не закончил беседу с Фростом.
Темные машины заняли свои места.
— Что слишком? — спросил Фроста Солком.
— Слишком много света, — сказал Фрост. — Шума. Запахов. И ничего, что поддавалось бы измерению. Беспорядочная информация… Неопределенные ощущения и…
— И что?
— Не знаю, как назвать. Но… это невозможно. Я потерпел неудачу. Остальное неважно.
— Он признает это, — повторил Дивком.
— Что за слова произнес Человек? — поинтересовался Солком.
— «Я боюсь», — ответил Мордел.
— Только Человек может испытывать страх, — сказал Солком.
— Ты утверждаешь, что Фросту удалось задуманное, но он не признает этого, потому что боится быть Человеком?
— Еще не знаю, Дублер.
— Может ли машина вывернуть себя наизнанку и стать Человеком? — спросил Фроста Солком.
— Нет, — сказал Фрост. Затем продолжил:
— Этого не может быть. Ничего нельзя сделать, и ничто не имеет значения — ни реконструкция, ни защита, ни Земля, ни я, ни вы — ничто.
Тогда машина Бета, которая прочитала всю Библиотеку Человека, перебила их:
— Может ли кто-нибудь, кроме Человека, испытать отчаяние?
— Отдайте его мне, — сказал Дивком.
На фабрике Людей ничто не пришло в движение. — Отдайте его мне. По-прежнему не двинулась ни одна машина.
— Мордел, что случилось?
— Ровным счетом ничего, господин. Машины не тронут Фроста.
— Фрост не Человек. Он не может быть Им. — После паузы Дивком продолжал: — Какое он на тебя производит впечатление, Мордел?
Мордел не колебался:
— Он говорил со мной человеческими губами. Он знает страх и отчаяние, которые нельзя измерить. Фрост — Человек.
— Он пережил родовую травму и появление на свет, — сказала Бета. — Верните его в нервную систему Человека и держите там, пока он не привыкнет к ней.
— Нет! — воскликнул Фрост. — Не делайте этого со мной! Я не Человек!
— Сделайте это! — сказала Бета.
— Если он в самом деле Человек, — проговорил Дивком, — мы не можем нарушить приказ, который он отдал.
— Если он Человек, ты должен сделать это для того, чтобы защитить его жизнь и сохранить ее в телесной оболочке.
— Но действительно ли он Человек? — спросил Дивком.
— Не знаю, — ответил Солком.
— Может быть…
— …Я Камнедробилка, — старая машина с грохотом приближалась к ним. — Слушайте мою историю. Я не хотела этого делать, но остановила молот слишком поздно…
— Уйди, — произнес Фрост. — Иди крошить руду! Она остановилась.
Затем, после долгой паузы между задуманным и совершенным движением, она открыла отсек для дробления и вывалила все его содержимое на землю. Затем повернулась и загромыхала прочь.
— Похороните эти кости, — распорядился Солком, — на ближайшем кладбище в гробу, изготовленном согласно следующим инструкциям…
— Фрост — Человек, — заявил Мордел.
— Наш долг — защищать Его жизнь и сохранять ее в Его теле, — проговорил Дивком.
— Передайте Его матрицу знаний обратно Его нервной системе, — приказал Солком.
— Я знаю, как это сделать, — сказал Мордел, включая приборы.
— Стойте! — прервал их Фрост. — Знаете вы, что такое жалость?
— Нет, — сказал Мордел, — я знаю только, как проводить измерения.
— …И знаю свои обязанности, — добавил он, когда Человек начал дергаться на полу.
В течение шести месяцев Фрост жил на фабрике Людей и учился ходить, говорить, одеваться, есть, видеть, слышать, чувствовать и пробовать на вкус. Он больше не знал системы мер, как это было прежде.
Однажды Дивком и Солком беседовали с ним при посредстве Мордела, потому что Фрост теперь не мог слышать их без посторонней помощи.
— Фрост, — сказал Солком, — многие годы нас беспокоил вопрос: кто истинный Контролер Земли — Дивком или я?
Фрост засмеялся.
— Вы оба и ни один из вас, — произнес он, тщательно обдумав ответ.
— Но как это может быть? Кто прав, а кто нет?
— Вы оба правы, и оба ошибаетесь, — сказал Фрост. — И только человек может понять это. Вот что я вам сейчас скажу. Это — новая директива. Никто из вас не будет разрушать работу другого. Вы вместе будете строить и защищать Землю. Тебе, Солком, я поручаю мою старую работу. Ты теперь — Контролер севера. Ты, Дивком, отныне — Контролер юга. Приветствую вас! Проявляйте заботу о своих полушариях так же хорошо, как это делали мы с Бетой, и я буду счастлив. Работайте вместе. Не соперничайте.
— Слушаюсь, Фрост.
— Будет исполнено, Фрост.
— А теперь я хочу поговорить с Бетой. Короткая пауза. Затем:
— Фрост?
— Здравствуй, Бета. Послушай:
— Мне это знакомо, — ответила Бета.
— Тогда продолжи.
— У тебя на полюсе холодно, — сказал Фрост, — а я одинок.
— Но у меня нет ладоней, — промолвила Бета.
— Хочешь две?
— Хочу.
— Тогда приходи ко мне в Сияющее Ущелье. А затем продолжил:
— Туда, где Судный день нельзя отложить. Его звали Фрост.
Ее звали Бета.
Мертвое и живое
Я расскажу вам о существе по имени Борк. Оно родилось в ядре умирающего солнца. Было выброшено в нынешний день из реки прошлого-будущего как плод загрязнения времени. Оно возникло из глины и алюминия, пластмассы и морской воды, дистиллированной в процессе эволюции. Оно вращалось, подвешенное на пуповине обстоятельств, а затем, отсеченное от нее собственной волей, обрело покой на отмелях мира, куда прибывают умирать. Оно было частью человека в некоем месте у моря вблизи курорта, который несколько вышел из моды с тех пор, как стал эвтаназийным центром.
Выберите из этого что угодно, и вы, возможно, не ошибетесь.
В этот день он прогуливался у воды, подцепляя длинной металлической вилкой то, что выбросила ночная буря: блестящий камешек, который вещие сестры возьмут для своей сувенирной мастерской, — цена обеда или коробочки полировочной пасты для гладкой его части; лиловые водоросли для солоноватой похлебки из даров моря в его вкусе; пряжку, пуговицу, красивую раковину; белую фишку из казино.
Дул крепкий ветер, прибой бурлил пеной. Небо было сплошной синевато-серой стеной без граффити птиц или воздушного транспорта. Он шел по белесому песку, жужжа и пощелкивая, а сзади тянулся след — зубчатые зигзаги и отпечатки одной подошвы. Почти рядом был мыс, где полярные птицы с раздвоенными хвостами отдыхали несколько дней во время перелетов. Они уже отправились дальше, но пляж был все еще усеян их пометом цвета ржавчины. И там он снова увидел девушку — в третий раз за три дня. В первые два раза она пыталась заговорить с ним, задержать его. Но он прошел мимо по многим причинам. Теперь она была не одна.
Она поднялась на ноги — песок рассказывал о стремительном бегстве и падении. На ней было то же красное платье, только порванное и испачканное. Ее черные волосы — коротко подстриженные и очень густые — растрепались настолько, насколько могли растрепаться. К ней приближался молодой человек из Центра — их разделяло шагов пятнадцать. Позади него по воздуху скользила завершательная машина — редкое зрелище! Величиной с полчеловеческого роста и парящая примерно на той же высоте, формой она напоминала кеглю. Ее передний шаровидный конец состоял из мелких граней и светился; три тонкие, как фольга, оборки, напоминавшие балетную пачку, поблескивали, поднимаясь и опускаясь в ритме, не связанном с ветром.
Услышав его шаги или заметив его краешком глаза, она отвернулась от своих преследователей, сказала «помогите!» и произнесла имя.
Он долго колебался, хотя для нее это не длилось и секунды, а потом оказался рядом с ней.
Человек и парящая машина остановились.
— В чем дело? — спросил он ровным, низким, чуть-чуть музыкальным голосом.
— Они хотят забрать меня, — ответила она.
— Ну и?
— Я не хочу.
— А! Вы не готовы?
— Да, я не готова.
— Тогда все просто. Недоразумение. Он обернулся к человеку и машине.
— Тут какое-то недоразумение, — сказал он. — Она не готова.
— Тебя это не касается, Борк, — ответил человек. — Центр принял решение.
— Значит, его надо пересмотреть. Она говорит, что не готова.
— Иди займись своим делом, Борк.
Человек шагнул вперед. Машина последовала за ним.
Борк поднял руки — одну из мышц, другие из самого разного.
— Нет, — сказал он.
— Убирайся отсюда, — сказал человек. — Ты мешаешь.
Борк медленно двинулся на них. Огни в машине замигали, юбочки опустились. С шипением она упала на песок и осталась неподвижной. Человек остановился, попятился.
— Я должен буду сообщить…
— Уходи, — сказал Борк.
Тот кивнул, остановился, поднял машину, повернулся и зашагал с ней по пляжу, не оглядываясь. Борк опустил руки.
— Ну вот, — сказал он девушке, — теперь у вас есть время.
И пошел дальше, осматривая ракушки и плавник. Она пошла за ним.
— Они вернутся, — сказала она.
— Конечно.
— Что же мне тогда делать?
— Может, тогда вы будете готовы.
Она покачала головой и положила руку на его человеческую часть.
— Нет, — сказала она. — Не буду.
— Откуда вам знать сейчас?
— Я совершила большую ошибку, — ответила она. — Мне не надо было приезжать сюда.
Он остановился и посмотрел на нее.
— Прискорбно. Лучше всего вам обратиться к психологам в Центре. Они найдут способ убедить вас, что покой предпочтительнее тоски.
— Вас же они не убедили! — сказала она.
— Я особый случай. Тут нельзя проводить сравнений.
— Я не хочу умирать.
— Тогда они ничего не могут сделать с вами. Нужный психологический настрой — обязательное условие. Оно оговорено в контракте — пункт седьмой.
— Они же могут ошибиться. Или, по-вашему, они никогда не ошибаются? Их кремируют, как и всех остальных.
— Они крайне добросовестны. Со мной они обошлись честно.
— Только потому, что вы практически бессмертны. Машины в вашем присутствии замыкаются. Никакой человек не может к вам прикоснуться без вашего разрешения. И разве они не пытались кончить вас в состоянии неготовности?
— По недоразумению.
— Как со мной?
— Не думаю.
Он отвернулся и пошел дальше.
— Чарльз Элиот Боркман! — позвала она. Опять это имя!
Он снова остановился и начал чертить вилкой решетку на песке.
— Зачем вы это сказали? — спросил он.
— Но это же ваше имя!
— Нет, — сказал он. — Тот человек погиб в глубинах космоса, когда космолет прыгнул по неправильным координатам и оказался слишком близко от звезды в момент ее взрыва.
— Он был герой. Дал сгореть половине своего тела, пока готовил спасательный челнок для остальных. И он выжил.
— Скажем: какие-то его частицы. Не больше.
— Но это ведь было покушение, верно?
— Кто знает? Вчерашняя политика не стоит бумаги, потраченной на ее обещания и угрозы.
— Он же был не просто политиком, а государственным деятелем, гуманистом, одним из немногих, кого, когда он уходит со сцены, больше людей любят, чем ненавидят.
Он издал что-то вроде смешка.
— Вы очень любезны. Но если так, то последнее слово все-таки осталось за меньшинством. Лично я считаю, что в нем было много от бандита. Но мне приятно, что вы перешли на прошедшее время.
— Вас восстановили так умело, что вы можете просуществовать вечность, потому что вы заслуживали самого лучшего.
— Быть может, я уже просуществовал вечность. Чего вы хотите от меня?
— Вы приехали сюда умереть и передумали.
— Не совсем так. Я просто не обрел состояния, оговоренного в седьмом пункте. Обрести покой…
— Как и я. Но у меня нет вашей возможности убедить в этом Центр.
— Быть может, если я пойду с вами и поговорю…
— Нет, — сказала она. — Их согласия хватит только на то время, пока вы будете рядом. Таких, как мы, они называют жизнехватами и не стесняются с нами. У меня нет брони, и я не могу доверять им, как вы.
— Так чего же вы от меня хотите… девочка?
— Нора. Называйте меня Нора. Защитите меня. Вот чего я хочу. Позвольте мне остаться с вами. Вы ведь живете где-то поблизости. Не подпускайте их ко мне.
Он потыкал вилкой в рисунок и принялся стирать его.
— Вы уверены, что хотите этого?
— Да! Да, уверена.
— Ну хорошо. В таком случае можете пойти со мной.
Вот так Нора поселилась в хижине Борка у моря. В первые недели всякий раз, когда являлись сотрудники Центра, Борк требовал, чтобы они поскорее уходили. А потом перестали приходить вовсе.
Днем она ходила с ним по берегу и помогала собирать плавник, потому что любила вечером развести огонь. А он, хотя жар и холод давно уже были ему безразличны, со временем и на свой лад начал получать радость от пылающего пламени.
Во время их прогулок он ковырялся в кучах мусора, нагроможденных морем, и переворачивал камни, проверяя, что под ними.
— Господи! Что вы надеетесь отыскать в этом… этом хламе? — спросила она, удерживаясь от вдоха и отступая.
— Не знаю, — усмехнулся он. — Камень? Лист? Дверь?[6] Что-нибудь столь же симпатичное. В таком вот роде.
— Пойдемте понаблюдаем за живностью в лужах, оставленных отливом, они хотя бы чистенькие.
— Ладно.
Хотя он ел больше по привычке и ради вкуса, ее потребность питаться регулярно и умение готовить заставляли его предвкушать обеды и ужины как приятный ритуал. А позднее, как-то после ужина, она в первый раз начала его полировать. Это могло бы получиться неловко, гротескно. Но вышло иначе. Они сидели перед огнем, подсыхали, грелись, смотрели на пламя, молчали. Она машинально подняла тряпку, которую он бросил на пол, и смахнула кусочек пепла, прилипший к его боку, отражавшему огонь. Через некоторое время она проделала это снова. Гораздо позднее, уже сосредоточенно, перед тем как пойти спать, она протерла всю блестящую поверхность.
Как-то раз она спросила:
— Почему вы купили билет сюда и подписали контракт, если не хотели умереть?
— Но я хотел.
— И что-то заставило вас изменить решение? Что?
— Я нашел радость более сильную, чем это желание.
— А вы не расскажете мне какую?
— Конечно, я обнаружил, что это редкая, если вообще не единственная для меня, возможность испытать счастье. Дело в самом этом месте: отбытие, мирный финал, радостный уход. Мне нравится созерцать все это — жить на краю энтропии и убеждаться в том, как она хороша.
— Но нравится она вам не настолько, чтобы самому принять ее?
— Да. Я нахожу в этом причину, чтобы жить, а не чтобы умереть. Возможно, это ущербная радость. Но ведь я ущербен. А вы?
— Я просто совершила ошибку. И все.
— Насколько помню, они проводят самую тщательную, исчерпывающую проверку. И осечка со мной произошла только по одной причине: они не могли предвидеть, что это место может пробудить в ком-то желание жить дальше. Возможно, что и с вами произошло что-то похожее?
— Не знаю. Пожалуй…
В дни, когда небо оставалось ясным, они отдыхали в желтом тепле солнца, играли в простенькие игры, а иногда разговаривали о пролетающих птицах, о плавающих, дрейфующих, ветвящихся, покачивающихся и цветущих обитателях луж на песке. Она никогда не говорила о себе, не упоминала, что привело ее сюда — любовь, ненависть, отчаяние, усталость или ожесточение. Нет, она говорила только о том, что их занимало в ясные дни, а когда погода не позволяла им выйти из хижины, смотрела на огонь, спала или полировала его броню. Гораздо, гораздо позднее она начала петь или насвистывать обрывки модных или давно забытых песен. А если ловила на себе его взгляд, сразу умолкала и находила себе другое занятие.
И вот как-то вечером, когда огонь еле тлел, а ее рука полировала его броню, медленно, очень медленно, она сказала тихим голоском:
— Мне кажется, я начинаю вас любить.
Он ничего не ответил, не шевельнулся. Словно не услышал.
После долгой паузы она сказала:
— Как-то очень странно чувствовать это… здесь… при подобных обстоятельствах.
— Да, — отозвался он немного погодя.
После еще более длинной паузы она положила тряпку, взяла его руку — человеческую — и ощутила его ответное пожатие.
— Ты мог бы? — спросила она гораздо, гораздо позднее.
— Да. Но я раздавлю тебя, девочка.
Она провела ладонями по его броне, потом начала поглаживать то металл, то живую плоть. Прижала губы к его щеке — неметаллической.
— Мы что-нибудь придумаем, — сказала она, и, разумеется, они придумали.
В следующие дни она пела чаще, пела веселые песни и не замолкала, когда он смотрел на нее. И порой, очнувшись от легкой дремоты, которая требовалась даже ему, он сквозь самый малый свой объектив видел, что она лежит рядом или сидит и с улыбкой смотрит на него. Иногда он вздыхал — просто чтобы ощутить движение воздуха в себе и вокруг, и его охватывал тот блаженный покой, который уже давно отошел для него в область безумия, сновидений и тщетных желаний.
Однажды они сидели на пригорке. Солнце уже почти зашло, на небе появлялись звезды, сгущающийся мрак таял над крохотной полоской угасающего дня. Она отпустила его руку и указала:
— Космолет.
— Да, — ответил он и взял ее руку.
— Полный людей.
— Думаю, их там не так уж много.
— Грустно.
— Но это же скорее всего то, чего они хотят или хотят хотеть.
— И все равно это грустно.
— Да. Сегодня. Сегодня вечером это грустно.
— А завтра?
— Наверное, тоже.
— А где твое былое восхищение благородным концом, мирным уходом?
— Теперь это не так занимает мои мысли. Есть многое другое.
Они следили, как загораются звезды, пока не сомкнулся мрак, пронизанный смутным сиянием и холодом. И вот:
— Что станется с нами? — сказала она.
— Станется? — повторил он. — Если тебе хорошо так, то ничего менять не надо. А если нет, скажи мне, что не так.
— Ничего, — ответила она. — В этом смысле — вообще ничего. Так, какой-то страх. На душе кошки скребут, как говорится.
— Ну, тогда поскребу и я, — сказал он, поднимая ее словно перышко.
И со смехом унес ее в хижину.
А позже, много позже он вырвался из глубин словно наркотического сна — или его разбудили ее рыдания. Что-то случилось с его чувством времени — казалось, прошло много минут, прежде чем ее образ зарегистрировался, а промежутки между ее рыданиями казались неестественно долгими и растянутыми.
— Что… это? — спросил он, вдруг осознав легкое жжение в бицепсе.
— Я не хотела… чтобы ты… просыпался, — сказала она. — Пожалуйста, постарайся снова заснуть.
— Ты из Центра, так? Она отвела глаза.
— Неважно, — сказал он.
— Усни. Пожалуйста. Не теряй…
— …того, что требует седьмой пункт, — докончил он за нее. — Вы всегда свято выполняете условия контракта.
— Это не все… для меня.
— Ты в тот вечер сказала правду?
— Это стало правдой.
— Ну конечно, другого сейчас ты сказать не можешь. Седьмой пункт…
— Негодяй! — воскликнула она и дала ему пощечину.
Он засмеялся, но его смех оборвался. На столе рядом с ней лежал шприц и две пустые ампулы.
— Двух инъекций ты мне не делала, — сказал он, и она отвела глаза. — Быстрее! В Центр, чтобы нейтрализовать эту дрянь.
Она покачала головой:
— Уже поздно. Обними меня. Если хочешь мне помочь, обними меня.
Он обвил ее всеми своими руками, и они лежали так, пока приливы ветра накатывались, дули, замирали, оттачивая и оттачивая свои лезвия.
Мне кажется…
Я расскажу вам о существе по имени Борк. Оно родилось в сердце умирающей звезды. Часть человека и части многого другого. Если эти части выходили из строя, человеческая часть отключала их и чинила. Если она выходила из строя, они отключали ее и восстанавливали. Оно было создано столь искусно, что могло существовать вечно. Но если бы часть его умерла, остальные могли бы функционировать и дальше, воспроизводя действия, которые прежде совершало цельное существо. И в одном месте у моря, у кромки воды ходит предмет, тыча длинной металлической вилкой в другие предметы, вынесенные на песок волнами. Человеческая часть — или часть человеческой части — мертва.
Выберите из этого что вам угодно.
Игра крови и пыли
Они спланировали к Земле и заняли позиции в астероидном поясе.
Потом обозрели планету, два с половиной миллиарда ее обитателей, их города и технические достижения.
Через некоторое время заговорил тот, который занял передовую позицию:
— Я удовлетворен.
После долгой паузы второй сказал, достав малую толику стронция-90:
— Подходит.
Их сознания встретились над металлом.
— Валяй, — сказал тот, у кого был стронций. Другой изолировал время, обеспечил антиподные дорожки и сказал занимающему заднюю позицию:
— Выбирай.
— Вот эту. Первый снял стаз.
Одновременно оба осознали, что первые частицы радиоактивного распада понеслись в направлении, противоположном выбранному.
— Признаю себя проигравшим. Выбирай.
— Я — Пыль, — сказал занимающий переднюю позицию. — Три хода каждому.
— А я — Кровь, — ответил другой. — По три хода. Согласен.
Они покинули данную хронопоследовательность и просмотрели историю планеты.
Затем Пыль слетала в палеолит, подняла и обнажила рудные залежи по всему югу Европы.
— Первый ход сделан.
Кровь размышляла неисчислимое время, затем направилась во второй век до нашей эры и вызвала множественные кровоизлияния в мозг Марка Порция Катона, когда он встал в римском сенате в очередной раз потребовать, чтобы Карфаген был разрушен.
— Первый ход сделан.
Пыль вступила в четвертое столетие нашей эры и ввела пузырек воздуха в артерию спящего Юлия Амвросия, Льва Митры.
— Второй ход сделан.
Кровь направилась в Дамаск восьмого века и проделала то же самое с Абу Искафаром в комнате, где тот вырезал кудрявые буквы на маленьких кубиках из твердого дерева.
— Второй ход сделан. Пыль проанализировала игру.
— Тонкий ход!
— Благодарю.
— Но сдается мне, не самый лучший. Вот смотри. Пыль навестила Англию семнадцатого века и утром до обыска удалила все следы запрещенных химических опытов, которые стоили жизни Исааку Ньютону.
— Третий ход сделан.
— Отличный ход. Но думаю, я тебя побью. Кровь посетила Англию в начале девятнадцатого века и отделалась от Чарльза Бэббеджа.
— Третий ход сделан.
Они передохнули, оценивая новое положение вещей.
— Готова? — спросила Кровь.
— Да.
Они вернулись в хронопоследовательность в той точке, где ее покинули.
Это заняло лишь миг. Точно хлыст щелкнул внизу под ними.
Они вновь ее покинули, чтобы теперь, зная общий результат, изучить воздействие каждого хода в отдельности.
Они наблюдали развитие событий.
Юг Европы процветал. Рим был основан и стал могучим на несколько веков раньше, чем до того. Греция была завоевана, прежде чем пламя Афин успело разгореться. Из-за смерти Катона Старшего последнюю Пуническую войну отложили, и Карфаген продолжал шириться, распространяя свою власть на восток и юг. Смерть Юлия Амвросия помешала возрождению митраизма, и государственной религией в Риме стало христианство. Карфагеняне подчинили себе весь Ближний Восток. Митраизм был признан их государственной религией. Столкновение произошло только в пятом веке. Город Карфаген был разрушен, и западная граница его империи отброшена к Александрии. Пятьдесят лет спустя папа объявил крестовый поход. В течение следующего века с четвертью крестовые походы следовали один за другим довольно регулярно, что привело к дальнейшему дроблению Карфагенской империи и вскормило в Италии чудовищную бюрократию. Войны прекратились, границы были установлены, Средиземноморье оказалось в тисках экономической депрессии. Дальние провинции ворчали на налоги и насильственную вербовку в армию, а затем восстали. Общая анархия, которая последовала за этими войнами, привела к эпохе, сильно напоминавшей Средневековье в первоначальной хронопоследовательности. В Малой Азии книгопечатание изобретено не было.
— Во всяком случае, пока ничья, — сказала Кровь.
— Да, но посмотри, что сделал Ньютон.
— Откуда ты знала?
— В этом и заключается разница между хорошим игроком и игроком вдохновенным. Я заметила его потенциал, еще когда он валял дурака с алхимией. Посмотри, что он сделал в одиночку для их науки! Буквально все! Следующий твой ход был слишком поздним во времени и слишком слабым.
— Да. Я думала, что смогу все-таки уничтожить их компьютеры, убрав основателя компании «Международные дифференциальные машины».
Пыль засмеялась:
— Забавно! Вместо МДМ-120 «Бигль» взял на борт молодого натуралиста по фамилии Дарвин.
Кровь заглянула в конец хронопоследовательности, где радиоактивная пыль усыпала безжизненный шар планеты.
— Но причиной этого не была ни наука, ни религия.
— Разумеется, нет, — сказала Пыль. — Все дело в эмфазе.
— Тебе повезло. Настаиваю на реванше.
— Хорошо. Я даже позволю тебе выбирать. Пыль или Кровь?
— Останусь Кровью.
— Отлично. Выигравший оставляет за собой первый ход. Извини.
Пыль отправилась в Рим второго века до нашей эры и избавила Катона от кровоизлияния в мозг.
— Первый ход сделан.
Кровь отправилась на восток Германии шестнадцатого века и устроила кровоизлияние в мозг у подосланного Ватиканом убийцы, который прикончил Мартина Лютера.
— Первый ход сделан.
— Ты забегаешь далеко вперед.
— Все дело в эмфазе.
— Истинно, истинно. Очень хорошо. Ты спасла Лютера, я спасу Бэббеджа. Извини меня.
Мгновение спустя Пыль вернулась.
— Второй ход сделан.
Кровь сосредоточенно изучала игровое поле. Потом сказала «ну ладно» и вошла в театр Чевви в тот вечер 1865 года, когда актер-неудачник выстрелил в президента Соединенных Штатов. Чуть подправив траекторию пули в полете, она помогла ей попасть точно в цель.
— Второй ход сделан.
— По-моему, ты блефуешь, — сказала Пыль. — Проследить все последствия ты никак не могла.
— А вот увидишь!
Пыль внимательно уставилась на игровое поле.
— Ну ладно. Ты убила президента, а я спасу другого президента — вернее, немного продлю его жизнь. Я Хочу, чтобы Вудро Вильсон увидел, как будет основан этот союз наций. Провал союза сыграет куда большую роль, чем просто его отсутствие, а он провалится. Извини меня.
Пыль вошла в двадцатый век и кое-что подправила в человеке с вытянутой челюстью.
— Третий ход сделан.
— Ну, так и я кого-нибудь спасу.
Кровь вошла в тот же век несколько позднее и обеспечила провал Льву Ноздреву — человеку, который убил Никиту Хрущева.
— Третий ход сделан.
— Ты готова?
— Готова.
Они вновь вошли в хронопоследовательность. Щелкнул длинный хлыст. Везде гремело радио. Искусственные спутники обращались вокруг планеты. Материки опутывала паутина шоссейных дорог. Запыленные города были густо утыканы энергетическими установками. Суда бороздили моря. Реактивные самолеты проносились в небе. Росла трава. Птицы совершали свои перелеты. Рыбы хватали наживку.
— Признай, что все висело на волоске, — сказала Пыль.
— По твоим же словам, есть разница между хорошим игроком и игроком вдохновенным.
— И тебе повезло.
Кровь снова засмеялась. Они смотрели на планету, на два с половиной миллиарда ее обитателей, на их города и технические достижения…
После некоторой паузы занимающий передовую позицию сказал:
— Третью решающую?
— Ладно. Я Кровь. Я хожу первой.
— А я Пыль. Я следую за тобой.
Награды не будет
Я вошел в зал и протиснулся вперед, поближе к сцене. Я специально явился пораньше, хотя обычно не стремлюсь пробиться в первые ряды. И прежде не стремился, когда слушал его или других президентов. На сей же раз мне это было почему-то очень важно.
Удача! Свободное место как раз там, где мне нужно. Я уселся.
Моя нога как-то странно онемела, словно заснула. Вся целиком… Ну ладно, пусть отдохнет. Времени полным-полно.
Пора? Нет. Тьма. Да-да, уснуть…
Я глянул на часы. Еще несколько минут есть. Рядом кто-то курил. Неплохая мысль. Доставая сигареты, я вспомнил, что бросил курить, но почему-то сигареты у меня все же были. Ладно, неважно. Так, возьмем сигарету. Прикурим. (Рука не слушается. Попробуем другой рукой.) Я чувствовал какое-то странное напряжение. И не мог понять причину. Ничего, затянемся поглубже. Ну вот, уже лучше. Хорошо.
А это кто? Ах да…
Коротышка в темно-сером костюме вышел на сцену откуда-то справа и проверил микрофон. Гул в зале на минуту стих. Затем опять возобновился. Коротышка, Удовлетворенный, ушел.
Я еще разок затянулся и уселся поудобнее.
Отдохнуть. Да. Уснуть, уснуть… Да… Уснуть…
Вскоре на сцену с обеих сторон стали выходить люди и рассаживаться. Ага, вот и губернатор. Он будет выступать первым, скажет несколько слов, открывая собрание.
Этот человек на сцене… слева… Я видел его много раз; на фотографиях он всегда рядом с президентом, но имени его никогда не указывают. Небольшого роста, с брюшком, редеющие волосы песочного цвета; темные, неспокойные глаза за толстыми стеклами очков… Я был уверен, что он член, а возможно и шеф, элитной группы телохранителей-телепатов, которая всегда сопровождает президента во время его публичных выступлений. Телепатия была официально признана всего несколько лет назад, и с тех пор лишь небольшой группе людей предоставили возможность полностью развить в себе эту способность. В данном случае обладавшие ею были идеальными агентами; дар телепатии позволял свести к нулю опасность при выступлениях президента на публике: несколько агентов-телепатов, усевшись в разных концах зала, могли следить за общим настроением аудитории и мгновенно выявлять любые отклоняющиеся от нормы мысли, прежде всего, связанные с возможным покушением на президента, и передавать эту информацию Секретной службе. Таким образом устранялась даже сама возможность попытки покушения, не говоря уж о ее осуществлении. И в данный момент кто-то из них вполне мог читать мои мысли…
Только тут он ничего интересного не обнаружит. Нет оснований для беспокойства.
Я потушил окурок. Взглянул на телевизионщиков с их камерами. Осмотрел зал. Потом вновь уставился на сцену. Губернатор как раз пошел к микрофону. Я скосил глаза на часы. Минута в минуту.
Пора? Нет. Чуть позднее. Он сам скажет когда. Когда…
Аплодисменты смолкли, но шум в зале не прекращался: он то усиливался, то стихал. Как шум волн. Сперва я никак не мог определить, что происходит. Потом до меня дошло, что шум доносится с улицы. Гром. Должно быть, идет дождь. А я и не заметил, чтобы погода портилась, когда я сюда шел… Не помню ни туч, ни…
Я вообще не мог вспомнить, какая стояла погода и какое было время суток; темно было или светло, тепло или прохладно, ветрено или тихо… Ничего не помнил — ни о погоде, ни о чем-либо еще.
Ну и ладно. Какая, в конце концов, разница? Я пришел сюда, чтобы послушать и посмотреть. Пусть себе идет дождь. Это не имеет ни малейшего значения.
Я выслушал речь губернатора, всего шесть минут, и даже похлопал ему, пока репортеры щелкали вспышками, запечатлевая застывшие лица. В зале слышались громкие возгласы; они болью отдавались у меня в ушах, даже в виске заломило. Время тянулось страшно медленно. Вот президент поднялся и, улыбаясь, вышел вперед. Я глянул на часы и откинулся на спинку стула. Отлично. Просто прекрасно.
И тут я вдруг ощущаю, что словно бы нахожусь в тире, а на стене ряд лиц над грубо вырезанными из картона силуэтами людей. Они ярко освещены. Я стою в другом конце, левая рука опущена. В руке пистолет. И тут он говорит мне. Говорит. Необходимые слова. И когда я их слышу, я хорошо знаю, что мне надо делать. Что именно мне надо сделать, чтобы получить эту награду, приз. Я проверяю пистолет не глядя, поскольку неотрывно смотрю перед собой. Там одна мишень, вполне конкретная, которую я должен поразить, чтобы выиграть приз. Стремительным, но плавным движением — никаких рывков! — я поднимаю пистолет, целюсь и нажимаю на спуск с той самой силой, которая необходима. Картонные силуэты слегка двигаются, порой довольно хаотично. Но это не имеет значения. Звучит один-единственный выстрел. Моя мишень падает. Я выиграл приз.
Чернота.
И тут я вдруг ощущаю, что словно бы нахожусь в тире, а на стене ряд лиц над грубо вырезанными из картона силуэтами людей. Они ярко освещены. Я стою в другом конце, левая рука опущена. В руке пистолет. И тут он говорит мне. Говорит. Необходимые слова…
Позади меня кто-то вскрикнул… Звон в ушах постепенно стих, когда президент поднял руку, помахал и медленно повернулся… Голова по-прежнему болела. Словно меня только что треснули по башке. Странно.
Я коснулся пальцами головы. И ощутил боль. Болезненным было вполне конкретное место, но никакой раны я не нащупал. Кожа была цела. При этом я почему-то с трудом ощущал и свои пальцы, и то, что они ощупывают. Казалось, вокруг этого болезненного места все онемело. Интересно, что бы это могло значить?
Крики и аплодисменты стали стихать. Он начал речь.
Я постарался как-то встряхнуться. Что же со мной произошло и что происходит? Я не помню, какая была погода на улице, голова болит… Может, еще что-то не так?
Я попытался вспомнить, как попал в этот зал; мне хотелось понять, почему я не помню, что собиралась гроза.
И тут до меня дошло, что я вообще ничего не помню: ни как добирался сюда, ни на чем приехал — на такси? на автобусе? на частном автомобиле? пешком? Не помню, что ел на завтрак нынче утром, и ел ли сегодня вообще, а если ел, то где и когда. Я не помнил даже, как одевался.
Я снова ощупал кожу на голове. Как и в прошлый раз, что-то словно мешало мне, предостерегало: не трогай! — но я переборол это чувство, внезапно подумав, что меня, возможно, били по голове и теперь амнезия дает об этом знать.
Может, именно так и было? Или это несчастный случай? Ударился затылком, а потом весь день где-то шатался, пока нечто не навело меня на мысль, что я собирался прийти сюда и послушать выступление президента. Вспомнив об этом, я вознамерился достигнуть поставленной цели, и это совершенно отвлекло меня от полученной травмы. Наверное, так…
Все-таки очень странное ощущение возникало, когда я ощупывал голову… Я попытался определить границы зоны онемения. Ничего там вроде бы не онемело…
И тут вдруг кожа под моими пальцами отделилась от черепа. Я почувствовал резкую боль и отдернул руку. Боль быстро прошла, и я возобновил свое обследование. Крови нет. Это хорошо. Но там явно какая-то щель, как будто часть кожи с волосами, нет, даже весь скальп отделился от черепа и болтается совершенно свободно.
Меня на мгновение обуял ужас, но потом я все же снова коснулся черепа в этом месте и под поднятым скальпом ощутил теплую кожу, обладавшую совершенно нормальной чувствительностью. Ничего похожего на рану.
Я потянул «скальп» дальше, и он еще больше отошел от черепа. Только в одном месте, на макушке, я по-прежнему ощущал боль, а под «скальпом» — нечто вроде повязки. И только тут понял, что на мне парик, а голова под ним забинтована.
В зале прошелестели аплодисменты — президент что-то сказал, я не расслышал, что именно. И глянул на часы.
Так что же со мной было? Несчастный случай? А потом, наверное, меня отправили в пункт экстренной помощи, где обрили поврежденный участок головы, зашили скальп и перевязали, а затем отпустили, сочтя, что достаточно и амбулаторного лечения. Сотрясения мозга и амнезии никто просто не заметил.
Но почему-то объяснение это не казалось мне правильным. В пунктах экстренной помощи вряд ли снабжают пациентов париками, чтобы прикрыть бинты на голове. И вряд ли человека в моем состоянии отпустили бы оттуда.
Впрочем, об этом можно будет поразмыслить потом. Я пришел сюда, чтобы послушать речь президента. У меня отличное место, мне все прекрасно видно. Вот и давай, пользуйся моментом. А самоанализом займешься позже, когда все это закончится.
Назначенное мгновение миновало почти двадцать минут назад…
Я попытался вслушаться в слова президента, но никак не мог сосредоточиться. Что-то явно было не так, и я сам себя мучил, не приняв это во внимание сразу. Что-то явно было очень и очень не так, причем не только со мной. Хотя я был как бы частью чего-то большего. Но чего именно? И почему?
Я снова взглянул на толстенького телепата, сидевшего у президента за спиной. Давай, загляни в мои мысли, прочитай их, — послал я ему мысленный приказ. — Я сам этого хочу, честное слово. Может, тебе удастся заглянуть глубже, чем это могу сделать я? Ну же, смотри, найди, что там не в порядке, что там не так!
А потом объясни мне, что со мной произошло и происходит. Очень хотелось бы это знать.
Но он даже не посмотрел в мою сторону. Его интересовала лишь возможная угроза жизни президента, а мои намерения были вполне мирными. Если он даже и прочел мои мысли, то тут же выбросил из головы мое замешательство и мои странные желания, сочтя их просто потоком сознания одного из тех неврастеников, каких всегда хватает на любом крупном митинге. Ничего особенного, просто неуравновешенный тип, но вряд ли опасный. Все его внимание, да и внимание всех его коллег, было поглощено теми действительно опасными личностями, которые могли здесь присутствовать. И совершенно правильно.
Снова прогрохотал гром. И напомнил: я забыл все, что было со мной до этого зала. Весь день, вплоть до прихода сюда, полностью выпал из памяти. Думай, думай, вспоминай! Я читал о некоторых случаях амнезии. А не было ли среди них такого, как у меня?
Когда и как мне пришло в голову явиться сюда, на это выступление? Почему? При каких обстоятельствах?
Ничего не помню. Абсолютно ничего о том, что побудило меня на этот поступок.
А нет ли чего-то подозрительного, необычного в моем желании прийти сюда?
Я… Нет, ничего не помню.
Девятнадцать минут прошло…
Я вдруг вспотел. Естественный результат моей нервозности, надо полагать.
Секундная стрелка миновала цифру 2, 3…
Что-то я должен сделать… Это станет мне ясно через минуту. Что? Пока ничего. Жди.
…миновала 6, 7…
Когда зал в очередной раз взорвался аплодисментами, я уже жалел, что пришел сюда…10, 11…
Через двадцать минут после…
Мои губы задвигались. Я что-то тихонько говорил. Сомневаюсь, что кто-нибудь, даже из сидевших рядом, слышал меня.
— Сюда, дамы и господа! Испытайте вашу удачу.
«…Испытайте вашу удачу».
И вдруг я проснулся и вновь оказался в тире. Рука в кармане. Высоко, на дальней стене передо мной ряд лиц над вырезанными из картона силуэтами людей. Свет заливает их. Я ощутил в руке пистолет и, не глядя, проверил его. Силуэт прямо напротив меня и был моей мишенью, он слегка, чуть хаотично, двигался.
Я медленно достал оружие из кармана и начал его поднимать.
Моя рука! Да что же это такое?!
С растущим ужасом я наблюдал за тем, как моя левая рука вынула из кармана пистолет. Я никак не мог управлять ею, она словно принадлежала другому человеку. Я хотел ее опустить, но она продолжала подниматься. И тогда я сделал единственное, что мне оставалось.
Я схватил ее за запястье правой рукой.
Левая рука явно имела свои собственные намерения. И сопротивлялась мне. Я сжал ее сильнее и что было силы дернул вниз.
При этом я попытался вскочить на ноги. С губ моих неудержимо срывались ругательства и проклятия. Я вовсе не был уверен, что мне удастся долго удерживать собственную левую руку.
Левый палец на спусковом крючке напрягся, дернулся — и сила отдачи подкинула обе мои руки вверх. К счастью, когда раздался выстрел, ствол был направлен вниз. Надеюсь, рикошетом пуля никого не задела.
Вокруг все уже вопили, стремясь убраться от меня подальше. Впрочем, несколько человек, наоборот, проталкивались ко мне. Хорошо бы еще удержать левую руку до того, как они подоспеют…
Вовремя подоспели сразу двое. Один перехватил мою руку, другой навалился на плечи. И мы дружно грохнулись на пол. Когда мою левую руку перехватили и зажали, я наконец почувствовал, что она расслабилась. Пистолет у меня отняли. А руки мои, столь чуждые сейчас друг другу, вывернули за спину и заковали в наручники. У меня, помню, мелькнула надежда, что теперь они друг друга не сломают. Однако они уже и так перестали сражаться и бессильно повисли. Меня поставили на ноги.
Когда я снова взглянул на сцену, президента там уже не было. А коротышка-телепат смотрел прямо на меня. Его темные глаза за толстыми стеклами очков уже не скользили беспокойно по залу. Он встал и направился ко мне, подав рукой какой-то знак державшим меня мужчинам.
А я вдруг почувствовал ужасную слабость и головокружение. Снова заломило виски. И заболели все ушибы и ссадины, которые я получил при задержании.
Толстяк подошел ко мне и обнял за плечи.
— Не волнуйтесь, теперь все будет хорошо, — произнес он.
И опять передо мной возник тир. Картонных фигур больше не было. Только люди. Я не мог понять, куда все это подевалось и почему он, сказав мне нужные слова, потом удержал меня. Я знал только, что не попал в цель и теперь никакого приза не получу. Награды не будет. И на глазах у меня выступили слезы.
Потом меня отвезли в больницу. У дверей моей палаты поставили охрану. Телепат-коротышка, которого, как мне сказали, звали Артуром Куком, почти все время был со мной. Врач ощупал левую сторону моей шеи, воткнул иглу и ввел какую-то прозрачную жидкость. Дальнейшее — молчание.
Когда я пришел в себя — понятия не имею, сколько времени на это потребовалось, — то и в правой стороне шеи чувствовалась боль от укола. Артур и один из врачей стояли у моей постели и внимательно всматривались в мое лицо.
— Рад, что вы наконец очнулись, мистер Мэтьюз, — сказал Артур. — Мы хотели бы поблагодарить вас.
— За что? — спросил я. — Я даже не знаю, что произошло.
— Вам удалось сорвать заговор с целью убийства. Меня так и подмывает сказать, что вы это сделали «одной левой», но я не склонен к каламбурам. Вы стали невольным участником одной из самых гениальных и изощренных попыток обойти телепатические меры безопасности. Вы стали жертвой группы совершенно безжалостных людей, которые для осуществления своего заговора использовали самые последние достижения медицины. И учти заговорщики одну дополнительную деталь, полагаю, они преуспели бы. Однако они позволили обоим вашим «я» одновременно оставаться в вашем теле в самый критический момент, и это сорвало их планы.
— Обоим моим «я»?
— Да, мистер Мэтьюз. Вы знаете, что такое мозолистое тело?
— Да. Кажется, какая-то штука в мозгу.
— Совершенно верно. Это пучок нервных волокон в дюйм длиной и в четверть дюйма толщиной, который соединяет левое и правое полушария головного мозга. Если его разрезать, это приведет к появлению двух независимых личностей в одном теле. Иногда такое делается в особо серьезных случаях эпилепсии, чтобы уменьшить негативные последствия припадков.
— Вы хотите сказать, что мне сделали такую операцию?
— Да, сделали.
— И у меня в голове теперь есть еще одно «я»?
— Именно так. Правда, второе полушарие сейчас находится под действием седативных препаратов.
— И который же из двоих — я?
— Вы тот, кто соответствует левому полушарию. Оно управляет, в частности, лингвистическими способностями и рациональным мышлением. Правое полушарие отвечает за вашу интуицию, эмоции, зрительные функции и ориентацию в пространстве.
— А обратная операция возможна?
— Нет.
— Понятно. Вы говорите, что некоторым уже делали такие операции — эпилептикам… И как они вели… ведут себя после этого?
Тут заговорил врач, высокий седой человек с хищными чертами лица:
— Долгое время считалось, что этот пучок нервных волокон — мозолистое тело — не несет особо важных функций. Лишь через много лет мы начали догадываться об этом побочном эффекте комиссуротомии, то есть разделения полушарий. Но я не вижу особых трудностей для вас. Позднее мы обсудим все это более подробно.
— Ладно. В любом случае я ощущаю себя… самим собой. Зачем они такое со мной сделали?
— Чтобы превратить вас в великолепного современного убийцу, — сказал Артур. — Одно полушарие мозга ведь можно усыпить, а второе останется бодрствовать. Это очень просто — надо всего лишь ввести нужное лекарство в сонную артерию с соответствующей стороны. После того как операция была проведена, они усыпили вас — то есть ваше левое полушарие, — а правое подвергли воздействию гипноза и современных приемов модификации поведения, что и превратило вас в готового убийцу…
— Я всегда считал, что человека невозможно заставить делать некоторые вещи даже с помощью гипноза…
Он кивнул:
— При обычных условиях — да. Однако, как нам представляется, правое полушарие, более эмоциональное и менее рациональное, в большей степени подвержено внешнему воздействию, внешнему убеждению. А оно у вас получило не просто приказ об убийстве. Это была тщательно продуманная и прекрасно наведенная иллюзия, и ваше правое полушарие было приучено реагировать на нее соответствующим образом.
— Ну хорошо, — сказал я. — Предположим, все это именно так и было. Но как бы им удалось добиться, чтобы все произошло именно так, как было задумано?
— Хотите понять всю механику? Ладно. Как я уже говорил, вас обучали и готовили, пока вы были без сознания, а потому вы ничего не понимали и не осознавали. Обработанное полушарие было затем погружено в состояние глубокого сна, получив при этом приказ проснуться и осуществить задание после подачи соответствующего сигнала. Затем вашему левому полушарию сделали постгипнотическое внушение: подать такой сигнал в форме произнесенной вами же фразы в точно определенное время, когда президент будет выступать с речью. Вас доставили к этому зданию и оставили у входа, вы вошли в зал, не помня и не сознавая ничего из случившегося с вами. Ваш мозг выглядел совершенно невинным при любом телепатическом сканировании. И только когда вы исполнили внушенный вам гипнозом приказ, чем, собственно, и привлекли к себе мое внимание, я вдруг увидел два сознания, две личности в одном теле. Довольно жуткое ощущение, должен признаться.
К счастью, вы, вернее, ваше второе, более рационально мыслящее «я», догадались, что происходит, и всеми силами постарались предотвратить это. Что и дало нам время прийти вам на помощь.
Я кивнул. Некоторое время я раздумывал об этих двух «я», что поселились теперь внутри меня и борются за полный контроль над моим телом. Потом сказал:
— Вы говорили, что они допустили одну ошибку, что прими они еще одну дополнительную меру предосторожности, то добились бы успеха. Что вы имели в виду?
— Им следовало внушить вам, что вы, то есть ваше левое полушарие, должны сразу заснуть, едва произнесете условленную фразу, — сказал он. — Полагаю, это решило бы все. Им просто не пришло в голову, что две половинки вашей личности вступят в конфликт.
— А что за люди стоят за всем этим? — спросил я.
— Ваше правое полушарие предоставило нам вполне достаточно весьма точных описаний, пока вы спали.
— Описаний? А я считал, что мной управляло то полушарие, которое отвечает за речь.
— Да, в основном это так. Однако второе полушарие предоставило в наше распоряжение несколько превосходных зарисовок, которые я смог проверить еще и телепатически. Служба безопасности затем сличила их с фотографиями некоторых лиц, на которых давно имелись досье, и эти люди были задержаны.
Однако учтите, ваше второе полушарие не полностью лишено контроля над речью, — продолжал он. — Между ними в какой-то мере существует передача функций, что, кстати, вполне может иметь место прямо сейчас.
— Что вы хотите этим сказать?
— Второе ваше «я» уже некоторое время бодрствует. Смотрите, ваша левая рука, которой оно управляет, делает разные жесты. Явно хочет дотянуться до моей авторучки. Я просто уверен.
Он достал ручку и записную книжку из кармана и протянул все это мне. И я, затаив дыхание, пораженный, наблюдал, как левая рука взяла ручку и приготовилась писать. Медленно, аккуратно, она вывела: «Мне очень жаль».
…И пока она писала, я осознал, что он не поймет, никогда не сможет понять, что именно я имел в виду. А это было именно то, что я имел в виду, именно оно!
Я некоторое время смотрел на эти слова, потом перевел взгляд на стену. И только потом взглянул на Артура и врача.
— Я был бы очень вам признателен, если бы вы оставили нас на некоторое время, — произнес я наконец.
Они вышли. И пока они выходили из моей палаты, я понял, что отныне, куда бы я ни посмотрел, половина пространства передо мной должна быть пуста.
Не женщина ли здесь о демоне рыдает?[7]
Ночной ноябрьский город, весь окутанный туманом: редкие пятна уличных фонарей; ледяной, пронизывающий ветер, несущийся вдоль заплаканных окон; и тишина.
Очертания предметов неясные, расплывчатые. Силуэты смазаны. Материя будто исходит кровью, исторгает из себя жизненные соки прямо на улицу. Куда девались поворотные пункты времени? Может, это его стрела запуталась в силках тумана? Или просто заплутавшая птица ночи?
…Теперь он, этот человек, только что бежавший по улице трусцой, идет обычным шагом; его радостное возбуждение сменилось почти спокойствием. Среднего возраста, средних упитанности и роста, с длинными бакенбардами, темноволосый, он не смотрит ни вправо, ни влево. Он заблудился, но его походка почти бодра. Чувство огромной любви наполняет все его существо, любви всеобъемлющей, беспредметной, чистой, как жемчужный, туманом рассеянный свет фонаря на углу.
На углу, у фонаря, он поворачивает, чтобы перейти на другую сторону улицы.
Там стоит автомобиль, затем он трогается с места, проносится через перекресток; из глушителя слышно ровное урчание, свет фар рассекает мрак. Красные огни задних фонарей мелькают, покачиваясь, вдали, меркнут, исчезают; шины взвизгивают, когда автомобиль сворачивает за какой-то невидимый угол.
Мужчина прижался к стене здания. Он неотрывно смотрит в том направлении, куда умчался автомобиль. Еще долгое время после того, как автомобиль исчез, он продолжает смотреть ему вслед. Затем вытаскивает из внутреннего кармана портсигар, достает сигару, закуривает. Руки у него дрожат.
Мимолетный приступ паники…
Мужчина оглядывается по сторонам, вздыхает, затем поднимает небольшой завернутый в газету сверток, который нес прежде и уронил на тротуар, возле бордюрного камня.
Потом осторожно, очень осторожно переходит улицу. И вскоре всем его существом вновь овладевает любовь.
На улице ему снова попадается припаркованная у обочины машина, он на мгновение останавливается возле нее, замечает внутри обнимающуюся парочку и продолжает свой путь. Впереди виден неясный свет.
Он приближается к освещенному месту. Внутри маленького кафе и в нескольких витринах по соседству горят лампы. Ярко сияет афиша кинотеатра. Здесь есть люди, они идут по тротуарам, переходят через улицу. Из машин высаживаются пассажиры. Чувствуется слабый запах жареной рыбы. Кинотеатр, как он теперь может видеть, называется «Риджент-стрит».
Он задерживается возле афиши, которая гласит:
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ПОЛУНОЧНЫЙ СЕАНС!
«ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ»
Попыхивая сигарой, он рассматривает фотографии, выставленные за стеклом витрины. Длинноволосый, прыщавый студент-медик подходит, чтобы тоже полюбоваться этими кадрами, вполне безобидными, но возбуждающими.
— Я уж думал, его никогда не покажут, — бормочет он.
— Прошу прощения?
— Да этот фильмец со всякими убийствами… Его ж суд запретил, вы что, не слыхали?
— Нет. Я не знал. Вот этот самый?
— Этот самый. Хотите посмотреть?
— Не знаю. О чем он?
Студент поворачивается и с легкой улыбкой смотрит на него, склонив голову набок. Видя его реакцию, мужчина тоже улыбается.
Студент хихикает и пожимает плечами.
— Может, это ваш единственный шанс его посмотреть, — говорит он. — Ставлю что хотите, его опять прикроют, а дело передадут в суд более высокой инстанции.
— Может, и посмотрю.
— Гнусная погода, верно? Я слышал, что сохо[8] — это старинный охотничий клич. Наверное, так перекликались охотники в лесу, чтобы отыскать друг друга, да?
Он хихикает.
Мужчина вторит ему, кивая головой. Спокойствие сдержанного чувства, которое охватывает его как бы мягкой своей ладонью, теперь сменяется жаждой новых приключений.
— Да, наверное, надо мне посмотреть, — говорит он и подходит к окошку кассы.
Кассир поднимает на него глаза, когда он протягивает деньги.
— Охота вам деньгами сорить… Фильм-то старый. Мужчина утвердительно кивает.
Кассир забирает монету, протягивая входной билет и сдачу.
Мужчина входит в фойе, смотрит по сторонам и направляется в зал следом за остальными.
— В зале курить нельзя. Пожарная безопасность.
— Ох, извините.
Бросив сигару в ближайшую урну, он отдает билет контролеру и входит в зал. В начале прохода он останавливается, чтобы взглянуть на экран, но его подталкивают сзади, и он продвигается вперед, находит свободное место слева и усаживается.
Он откидывается на спинку и позволяет теплому чувству охватить его. Странная ночь. Сбился с пути. И зачем он сюда пришел? Посидеть? Спрятаться? Согреться среди людской суеты? Из любопытства?
Видимо, по всем этим причинам вместе, решает он наконец. А мысли тем временем бредут, перебирая события жизни, и грусть, всегда наступающая после восторгов страсти, постепенно тает, сменяясь благодарной нежностью.
Кто-то трогает его за плечо. Он быстро оборачивается.
— Это я, — говорит студент. — Фильм сейчас начнется. Вы когда-нибудь читали маркиза де Сада?
— Да.
— И что вы о нем думаете?
— Декадентствующий дилетант.
— Ах вот как.
Студент снова откидывается назад и принимает задумчивую позу. Мужчина переводит взгляд на экран.
Через некоторое время свет в зале меркнет и гаснет. Вспыхивает экран. На нем возникают слова: «Поцелуй смерти». Потом вместо них появляются человеческие фигуры. Мужчина наклоняется вперед, хмурит брови. Он оборачивается и изучает пучок света, струящийся из будки киномеханика; в нем пляшут пылинки. Он видит часть проектора. Поворачивается обратно к экрану; теперь он дышит глубже.
Он следит за всеми поворотами сюжета, демонстрирующего различные проявления страсти; время течет медленно. Зал притих. Ему кажется, что он перенесся в волшебное царство. Люди вокруг приобрели какой-то сверхъестественный вид, их лица бледны и пусты в отраженном от экрана свете. Шее становится холодно сзади, и он чувствует, как шевелятся волосы у него на затылке. Но все же подавляет желание встать и уйти, потому что на экране происходит нечто пугающее. И ему представляется важным и необходимым досмотреть все это до конца.
Он вновь откидывается в кресле, по-прежнему глядя на мелькающие кадры действа, разворачивающегося перед ним.
В животе у него холодеет, когда он понимает, что именно должно произойти в конце, тем более когда видит нож, выражение на лице девушки, внезапные резкие движения, мучительные судороги, кровь.
Пока это продолжается, он кусает кулак и начинает потеть.
Все это как в жизни, совсем как в жизни…
— О Господи! — восклицает он и обессиленно откидывается назад.
Потом к нему вновь возвращается ощущение приятного тепла.
Он продолжает смотреть, пока последний кадр не исчезает с экрана и в зале вновь не зажигается свет.
— Ну и как, вам это понравилось? — спрашивает голос сзади.
Он не оборачивается.
— Удивительно, — произносит он наконец, — как это им удается вот так передвигать картинки по экрану…
Он слышит знакомое хихиканье, затем вопрос:
— Не хотите ли выпить со мной кофе? Или чего покрепче?
— Нет, спасибо. Мне надо идти.
Он встает и поспешно идет по проходу, назад, в объятый туманом город, где он каким-то образом заблудился.
— Эй, вы забыли свой пакет! Но человек уже не слышит. Он ушел.
Студент поднимает сверток, взвешивает на руке, размышляя.
Когда он в конце концов разворачивает «Таймс», в который это завернуто, у него перехватывает дыхание: не только потому, что там — человеческое сердце, но и потому, что номер газеты датирован ноябрем 1888 года[9].
— Господи! — произносит он. — Помоги ему найти дорогу домой!
Туман на улице начинает приподниматься, редеть, и ветер слабо шуршит, проносясь мимо. Длинная тень человека, охваченного чувством любви и ощущением чего-то чудесного, удивительного, движется, как лезвие ножа, сквозь город, сквозь ноябрь, сквозь ночь.
Последний защитник Камелота
Трое уличных грабителей, остановившие его той октябрьской ночью в Сан-Франциско, никак не ожидали подобного отпора, несмотря на внушительный рост старика. Он был хорошо одет, и этого им оказалось достаточно.
Первый приблизился к нему и протянул руку. Остальные двое держались чуть позади.
— Гони бумажник и часы, — сказал грабитель. — И не вякай — избавишь себя от лишних забот.
Старик поудобнее перехватил свою трость. Плечи его распрямились. Взметнулась копна седых волос, и он повернулся лицом к грабителю:
— Ну что ж, попробуй возьми.
Грабитель сделал было шаг вперед, но так его и не закончил. Трость мелькнула в воздухе так быстро, что он даже не заметил этого. Удар пришелся в левый висок, и он упал.
Не останавливаясь, старик перехватил трость левой рукой за середину, шагнул и ткнул ею второго грабителя в живот. Когда тот согнулся пополам, он врезал ему наконечником трости под челюсть, в мягкие ткани слева под подбородком — так боксер проводит хук. А когда бандит рухнул на землю, старик добавил ему еще — рукоятью трости по черепу.
Третий грабитель схватил старика за плечо, но тот, бросив трость, взял его левой рукой за ворот рубашки, а правой за пояс брюк, оторвал от земли, вскинул на вытянутых руках над собой и грохнул о стену здания, стоявшего справа.
Затем старик привел себя в порядок, пригладил ладонью волосы и поднял с земли трость. На мгновение его взгляд задержался на тех троих, что лежали на тротуаре бесформенными кучами, потом он пожал плечами и продолжил свой путь.
Откуда-то слева доносился шум уличного движения. На углу он повернул направо. Над высокими зданиями появилась луна. В воздухе чувствовался запах океана. Некоторое время назад прошел дождь, и мокрый тротуар все еще блестел, отражая свет уличных фонарей. Старик двигался медленно, изредка останавливаясь и рассматривая темные витрины.
Минут через десять он поравнялся с боковой улочкой, где было более оживленно, чем на тех, которые он миновал. Аптека на углу была все еще открыта, дальше светились окна закусочной и витрины магазинов. На противоположной стороне улицы он заметил нескольких прохожих. Мимо проехал мальчик на велосипеде. Старик свернул и пошел по этой улице; его светлые глаза внимательно посматривали по сторонам.
Когда он прошел с полквартала, в глаза ему бросилась довольно грязная витрина, на стекле которой было краской написано; «Гадалка». Под надписью была изображена ладонь и разбросанные игральные карты. Он заглянул в распахнутую дверь. Ярко одетая женщина, с волосами, стянутыми сзади в узел зеленым платком, сидела в задней части комнаты и курила. Когда их глаза встретились, она улыбнулась ему и поманила к себе указательным пальчиком. Он тоже улыбнулся и хотел было пройти мимо, однако…
Однако еще раз взглянул на нее. Что же это? Он посмотрел на часы.
Потом повернулся, прошел в глубь комнаты и остановился перед гадалкой. Она встала и оказалась совсем невысокой, чуть больше пяти футов.
— У вас зеленые глаза, — заметил он. — А у большинства цыганок, что я встречал, глаза темные.
Она пожала плечами:
— Уж какие достались. У вас какие-нибудь проблемы?
— Дайте подумать. Сейчас что-нибудь вспомню, — отвечал он. — Вообще-то я вошел сюда просто потому, что вы мне кого-то напомнили, и теперь меня это мучает: никак не могу вспомнить, кого именно.
— Пройдемте-ка в другую комнату, — предложила она. — Присядем там и поговорим, хорошо?
Он кивнул и последовал за ней в маленькую комнату позади первой. Пол здесь был покрыт вытертым до основы восточным ковром, и стоял небольшой стол, за который они и сели. На стенах висели изображения знаков Зодиака и психоделические плакаты полурелигиозного содержания. На подставке в углу рядом с вазой, полной свежих цветов, покоился хрустальный шар. Темная пушистая кошка спала на диване справа от него. За диваном виднелась приоткрытая дверь в третью комнату. Единственным источником света служила дешевая лампа, стоявшая на столе перед ним, да еще на кофейном столике, покрытом шалью, была зажжена маленькая свечка.
Старик облокотился на стол, внимательно всматриваясь в лицо женщины, затем покачал головой и откинулся назад.
Она стряхнула пепел сигареты прямо на пол.
— Итак, что вас беспокоит? Он вздохнул:
— Да у меня, пожалуй, нет никаких проблем, разобраться с которыми я сам бы не мог. Знаете, я, наверное, зря к вам зашел. Я заплачу вам за беспокойство, как за сеанс. Сколько я должен?
Он полез было в карман за бумажником, но она остановила его, подняв руку.
— Может, все дело в том, что вы просто не верите во все это? — спросила она, сверля его глазами.
— Да нет, совсем наоборот, — отвечал он. — Я готов верить в ворожбу, в предсказания и всякого рода заклятья и чары, в магию, черную и белую. Но…
— Но не в такой дыре, как эта? Он улыбнулся:
— Я не хотел вас обидеть.
Раздался свистящий звук. Казалось, он доносится из соседней комнаты.
— Не беспокойтесь, — сказала она. — Это просто чайник закипел. Я про него и забыла. Чаю со мной выпьете? Чашки у меня, честное слово, чистые. Я вас угощаю. Время здесь так медленно тянется…
— Хорошо.
Она встала и вышла.
Он глянул было в сторону двери, но не встал, а вольготно откинулся в кресле, положив огромные руки с выступающими синими венами на мягкие подлокотники. Затем принюхался, раздувая ноздри и склонив голову набок — словно почувствовал некий смутно знакомый аромат.
Через некоторое время женщина вернулась, неся поднос, который поставила на кофейный столик.
Кошка зашевелилась, подняла голову, поморгала, потянулась и снова закрыла глаза.
— Молоко? Сахар?
— Да, пожалуйста. Один кусок. Она поставила на стол две чашки.
— Берите любую.
Он улыбнулся и взял ту, что стояла слева. Она поставила на середину стола пепельницу и подвинула к себе вторую чашку.
— В этом не было никакой необходимости, — заметил он, кладя руки на стол.
Она пожала плечами.
— Вы ведь меня не знаете, правда? Так почему вы должны мне доверять? А может, у вас с собой куча денег.
Он снова внимательно посмотрел на нее.
Она, видимо, успела удалить с лица грубо наложенный макияж, пока ходила за чаем. Этот овал лица, брови…
Он отвел взгляд. Взял чашку.
— Хороший чай. Не то что в этих пакетиках, — сказал он. — Спасибо.
— Стало быть, вы верите в магию? — спросила она, прихлебывая чай.
— В общем, да, верю, — отвечал он.
— И у вас есть на то особые причины?
— Иной раз она действует.
— Например?
Он сделал неопределенный жест левой рукой.
— Я много путешествовал. И видел много странных вещей.
— И проблем у вас никаких нет? Он засмеялся:
— Все еще хотите погадать мне? Ну хорошо. Я вам немного расскажу о себе и о том, что мне очень нужно прямо сейчас, а вы попробуйте предсказать, получу я это или нет. Хорошо?
— Я вас слушаю.
— Я сотрудник одной большой картинной галереи. Приобретаю для нее картины и антикварные вещи. Имею некоторый вес в этих кругах, считаюсь чем-то вроде специалиста по старинным изделиям из драгоценных металлов. Сюда я приехал на аукцион — распродается коллекция одного частного владельца, ныне покойного. Осмотр начинается завтра. Естественно, я рассчитываю найти что-нибудь стоящее. Как вы полагаете, велики ли мои шансы на успех?
— Протяните ко мне руки.
Он протянул их ладонями вверх. Она наклонилась и вгляделась в лабиринт линий.
— У вас на запястьях столько «браслетов», что мне и не сосчитать!
— Да и у вас как будто тоже.
Она посмотрела прямо ему в глаза, но выдержала лишь секунду и тут же снова склонилась над его ладонями.
Он заметил, как она побледнела, несмотря на остатки румян, и как участилось вдруг ее дыхание.
— Нет, — наконец произнесла она, отодвигаясь назад, — вы не найдете здесь того, что ищете.
Когда она снова взяла свою чашку, рука ее слегка дрожала. Он нахмурился.
— Я просто так спросил, в шутку, — сказал он. — Не стоит расстраиваться. Я и сам сомневался, что мне удастся найти то, что я ищу.
Она покачала головой:
— Скажите мне, как вас зовут.
— Я вообще-то француз, — ответил он. — Но давно даже говорю без акцента. Моя фамилия дю Лак[10].
Она уставилась на него и захлопала глазами.
— Нет… — произнесла она. — Не может быть!
— Увы, это так. А вас как зовут?
— Моргана, — ответила она. — Я недавно перекрасила вывеску. Она даже еще не высохла.
Он засмеялся было, но смех замер у него на губах.
— Так… Теперь… теперь я знаю, кого вы мне напоминаете…
— И вы мне кое-кого напомнили. И я теперь тоже знаю кого.
Из глаз ее текли слезы, смывая тушь с ресниц.
— Но этого не может быть, — произнес он. — Здесь! В такой дыре…
— О, мой дорогой, — тихо произнесла она, прижимая правую ладонь к губам. Она как будто запнулась на мгновение, но потом все же вымолвила: — Я уж думала, что я последняя осталась, а тебя похоронили тогда в Джойос-Гарде. Я и подумать не могла… — Потом после паузы добавила: — Ну а это… — Она обвела рукой комнату. — Это отвлекает меня, помогает убить время. Все время ждать и ждать…
Она умолкла. И выпустила его руку.
— Расскажи мне о себе, — попросила она.
— Все время ждать? — переспросил он. — Ждать чего?
— Покоя, — отвечала она. — Я пребываю здесь все эти долгие годы благодаря своим чарам, своему искусству. Но ты… Как тебе это удалось?
— Я… — Он сделал глоток чаю. Оглядел комнату. — Не знаю, с чего и начать. Я пережил все последние битвы, видел, как развалилось королевство, и ничего не мог поделать… В конце концов я покинул Англию. Бродил по свету, поступал на службу ко многим правителям, в разные эпохи и под разными именами, пока не понял, что совсем не старею… Или старею очень-очень медленно. Бывал в Индии, в Китае… Участвовал в крестовых походах… Везде я побывал. Беседовал с магами и волшебниками — большинство из них, правда, шарлатаны, но некоторые все же обладали определенным могуществом — конечно, не таким, как у Мерлина. И тот вывод, к которому я пришел в итоге сам, подтвердил мне один из них, скорее всего шарлатан, но тем не менее… — Он помолчал, допил чай и спросил: — Ты действительно хочешь все это услышать?
— Да, я хочу все это услышать. Только позволь мне сначала принести еще чаю.
Она вернулась с чайником. Села, закурила сигарету и откинулась на спинку кресла.
— Продолжай.
— Я решил, что всему виной… мой грех, — сказал он. — Грех… с королевой.
— Не понимаю.
— Я предал не только своего сюзерена, но и друга. Предал, и это мое предательство уязвило его сильнее любого другого. Любовь, которой я воспылал, оказалась сильнее преданности сеньору или дружбы. И даже сегодня, сейчас она для меня сильнее всего на свете. Я не могу покаяться — и, стало быть, не могу быть прощен. То были странные и волшебные времена. Мы жили в стране, которой самой судьбой предназначено было стать легендой. И в те дни королевством управляли силы, которые ныне исчезли с лица земли. Как и почему — я не знаю. Но знаю, что это так. А я некоторым образом часть того прошлого, и законы, что управляют моим существованием, — не обычные законы естественного мира. Я полагаю, что не могу умереть; что мне выпал такой удел в качестве наказания — я буду бродить по свету, пока не завершится мой Поиск. Я полагаю, что покой мне удастся вкусить лишь тогда, когда я отыщу Святой Грааль. Джузеппе Бальзамо — еще до того, как он стал известен под именем Калиостро, — каким-то образом сумел разгадать мой жребий и подтвердил мои собственные догадки на сей счет, хотя я никогда ни словом ему об этом не обмолвился. И вот я отправился на поиски… Теперь уже не как рыцарь, не как воин, а как торговый агент и оценщик. Я побывал почти во всех музеях Земли, видел почти все крупные частные коллекции. Но пока так и не напал на след.
— Пожалуй, ты становишься несколько староват для битв.
Он хмыкнул.
— Меня еще никому не удавалось победить, — решительно заявил он. — Ни разу за все эти десять веков я не проиграл ни одного поединка. Ты права, я действительно постарел, хотя в случае опасности вся былая сила возвращается ко мне. Но где бы я ни бродил, где бы ни сражался, я так и не нашел того, что ищу. Думаю, мне просто нет прощенья, и я обречен странствовать, подобно Вечному Жиду, до скончания времен.
Она опустила голову.
— Так, говоришь, я и завтра ничего не найду?
— Тебе никогда его не найти, — тихо произнесла она.
— Ты увидела это по моей руке? Она покачала головой.
— Твоя история весьма впечатляет, а объяснение, которое ты ей придумал, — настоящий роман, — сказала она. — Но ведь Калиостро был полный шарлатан. Видимо, ты как-то нечаянно выдал свои мысли; а об остальном он догадался сам. Но он ошибся. Я же говорю: ты никогда его не найдешь. Не потому, что ты этого не достоин или тебе нет прощенья. Ничего подобного. На земле никогда не было более достойного рыцаря и более верного вассала. Тебе разве не известно, что Артур простил тебя? Это же был брак по расчету, без любви. Такие вещи происходили всегда и везде, сам прекрасно знаешь. Ты дал ей то, чего он дать не мог. Нежность, любовь. И Артур это понимал. Единственное, что тебе так нужно и чего ты не мог получить все эти годы, — это собственное прощенье. Нет, ты вовсе не проклят. Только твои собственные переживания заставили тебя взвалить на плечи столь непосильное бремя, пуститься в этот безнадежный поиск, обречь себя на полное непрощение. Но ты страдал столько веков впустую, ибо шел по ложному пути.
Взглянув на него, она увидела, что глаза его стали жесткими и прозрачными, как лед или самоцветы. Но она выдержала его тяжелый взгляд и продолжала:
— Святого Грааля не существует. Его и в наши времена не существовало и, вероятно, вообще никогда не было на свете.
— Но я же видел его! — воскликнул он. — В тот день, когда он возник в Зале Круглого Стола. Мы все его видели!
— Тебе лишь показалось, что ты его видел, — поправила она. — Мне очень неприятно разрушать твои иллюзии, ведь они выдержали все испытания временем, но, по-моему, я должна тебе это сказать. Королевство, как ты и сам помнишь, распадалось. Рыцари устали, им все надоело, и они начали потихоньку отходить от вашего братства. Еще год, а может, и полгода — и все должно было рухнуть, все, что Артур с таким трудом создавал. Но он понимал: чем дольше выстоит Камелот, чем дольше будет звучать его гордое имя, тем сильнее укрепятся его идеалы. И тогда он принял решение, решение чисто политическое. Нужно же было что-то делать, чтобы сохранить целостность Камелота. И он призвал Мерлина, уже наполовину выжившего из ума, но еще достаточно хитроумного, чтобы тот подсказал, что нужно предпринять. Так родилась идея Поиска Святого Грааля. Мерлин с помощью своих чар и вызвал иллюзию, которую все вы видели в тот день. То была, разумеется, ложь, мистификация. Однако великолепная и по-своему благородная. И она служила еще долгие годы вашему братству, объединяя вас во имя справедливости и любви. Она вошла в литературу, помогла развитию высоких идеалов. Она свое дело сделала. Но в действительности-то никакого Грааля не существовало. Ты гонялся за призраком. Мне очень жаль, Ланселот, но у меня нет совершенно никаких причин лгать тебе. Я ведь узнаю волшебство с первого взгляда. Так вот, тогда в Зале Круглого Стола было лишь волшебство. Такова вся эта история на самом деле.
Он долгое время молчал. Потом вдруг сдержанно рассмеялся.
— У тебя на все есть ответ, — сказал он. — И я поверил бы тебе, если б ты могла ответить еще на один вопрос: зачем я здесь оказался? По какой причине? С помощью каких сил? Как получилось, что судьба хранила меня тысячу лет христианской эры, тогда как другие вокруг меня старели и умирали? Можешь ты раскрыть мне то, чего не мог раскрыть Калиостро?
— Да, — отвечала она. — Думаю, что могу.
Ланселот встал и принялся ходить по комнате. Испуганная кошка метнулась с дивана в дальнюю комнату. Потом он остановился, схватил свою трость и направился к двери.
— Поистине мне стоило прождать тысячу лет, чтобы наконец увидеть, как ты испугался, — бросила она.
Он резко остановился.
— Это нечестно, — сказал он.
— Знаю. Но сейчас ты вернешься и сядешь на место. Он уже улыбался, когда снова уселся за стол.
— Что ж, говори, — потребовал он. — Как ты себе это представляешь?
— Это чары. Последнее колдовство Мерлина. Вот как я думаю.
— Мерлин? Заколдовал меня? Но зачем?
— Ходили сплетни, что этому старому козлу как-то удалось затащить леди Вивиан в лес, и ей пришлось в качестве самозащиты воспользоваться одним из его же собственных заклятий — тем самым, которое навеки погружает в сон. Если это было то самое заклятье — а я считаю, что это было именно оно, — тогда по крайней мере вторая половина этой сплетни не соответствует истине. От этого заклятья нет защиты, однако действие его не вечно и длится примерно тысячу лет, а затем Мерлин должен проснуться. Думаю, последнее, что он сумел сделать, прежде чем впасть в сон, это опутать тебя чарами, чтобы в момент его пробуждения ты был у него под рукой.
— Что ж, это вполне возможно, только зачем я могу ему здесь понадобиться?
— Если бы мне самой пришлось путешествовать во времени, то я желала бы иметь спутника, союзника в незнакомой эпохе. И если бы у меня был выбор, я бы желала, чтобы им оказался величайший герой моего времени.
— Мерлин… — задумчиво произнес он. — Да, весьма возможно, что все произошло именно так, как ты говоришь. Прости меня, но я сейчас в таком состоянии. Весь мой мир внезапно рухнул. Вся моя долгая жизнь… И если это правда…
— Я уверена, что это правда.
— Если это правда… Ты сказала, тысячу лет?
— Или около того.
— Значит, как раз наступает срок.
— Знаю. И не верю, что наша сегодняшняя встреча — простая случайность. Тебе судьбой предназначено встретиться с ним, когда он проснется, а это очень скоро должно случиться. Однако судьбой же было предопределено, чтобы сперва ты встретился со мной и получил предостережение.
— Предостережение? О чем?
— Он безумен, Ланселот. Многие из нас испытали огромное облегчение, когда он уснул. Если бы Артурово королевство в конечном итоге не распалось в результате раздоров, оно, так или иначе, развалилось бы благодаря его деятельности.
— В это мне трудно поверить. Он всегда был немного странным — разве можно до конца понять волшебника? — а в последние свои годы он действительно казался по меньшей мере слегка чокнутым. Но злонамеренности в нем я не ощущал никогда.
— Да никакой злонамеренности в нем и не было. Просто его представления о нравственности несколько отличались от общепринятых, казались странными и опасными. Так бывает с запутавшимися идеалистами. В тот примитивный век, да еще имея такой послушный инструмент, как король Артур, он был способен сотворить легенду. Сегодня, в эпоху чудовищных видов оружия, имея в своем распоряжении послушного политического лидера, он мог бы устроить нечто поистине кошмарное. Например, увидел бы какую-то несправедливость и заставил свою марионетку исправить ее. Он сделал бы это во имя тех же высоких идеалов, которым служил всегда. Но результатов своего деяния он бы оценить не успел — было бы слишком поздно. Где уж ему — даже если бы он сохранил рассудок. Он же понятия не имеет о современных международных отношениях.
— Но что же теперь делать? И какова моя роль во всем этом?
— По-моему, тебе нужно вернуться назад, в Англию, и присутствовать при его пробуждении. Тогда ты узнаешь точно, чего он хочет, и сможешь попытаться договориться с ним.
— Ну, не знаю… Да и как мне его найти?
— Ты же нашел меня. Когда придет время, ты сам окажешься в нужном месте. Уверена. Это предопределено. Видимо, это было частью заклятья. Найди его. Но не доверяй ему.
— Не знаю, Моргана. — Он посмотрел на стену невидящим взором. — Просто не знаю…
— Ты ждал так долго, а теперь боишься все узнать до конца?
— Ты права — по крайней мере в этом. — Он сплел пальцы и опустил на них подбородок. — Не знаю, что я буду делать, если он действительно вернется… Попытаться с ним договориться? Да, пожалуй… Еще что-нибудь можешь посоветовать?
— Нет. Ты просто должен быть там.
— Ты же изучала мою руку. Ты владеешь этим искусством… Что ты там увидела?
Она отвернулась.
— Там все неясно…
В ту ночь ему снились сны. Ему временами снились такие сны — о давно минувших днях. Вот все они сидят за огромным Круглым Столом, как прежде. И Гавэйн, и Персеваль. Галахад… Он заморгал. Нет, сейчас все было иначе. Чувствовалось какое-то напряжение, как будто перед грозой… Мерлин стоял в дальнем конце зала, руки спрятаны в длинных рукавах, взлохмаченные волосы и борода совершенно седые, выцветшие глаза уставились в пространство — на что, на кого, понять невозможно…
После, казалось, бесконечного ожидания возле двери возникло красноватое сияние. Все взгляды устремились туда. Бесформенное пятно света становилось все ярче и медленно двигалось по залу. Слабо запахло чем-то сладковатым, зазвучали мягкие струнные аккорды… Постепенно пятно начинало обретать форму, сперва центральная его часть, а потом и все остальное все более и более напоминало своими очертаниями чашу…
Он почувствовал, что невольно встает и медленно идет к ней через огромный зал, беззвучно и целенаправленно, словно плывя на большой глубине под водой…
Вот он настигает ее, протягивает руку…
Его рука прошла светящийся крут до самого центра, до сияющей чаши и сквозь нее…
И тут же свет погас. Очертания чаши дрогнули, пошли волнами, она свернулась, словно цветок, угасая, угасая, пока не исчезла совсем…
И тут раздался грохот. Он прогремел по всему залу, эхом отражаясь от стен. То был взрыв смеха.
Ланселот обернулся и посмотрел на них. Они сидели вокруг Стола, наблюдая за ним, смеясь. Даже Мерлин выдавил какой-то смешок.
Внезапно в руке Ланселота оказался его длинный меч, он поднял его и устремился к Столу. Рыцари, сидевшие с его края, бросились врассыпную, когда он обрушил тяжелый клинок на Стол.
Стол раскололся пополам и рухнул. Стены задрожали.
Дрожание их не прекращалось. Из стен начали выпадать камни, обрушилась потолочная балка. Он поднял руку.
Весь замок рушился, вокруг него стоял грохот, сквозь который по-прежнему продолжал звучать смех.
Он проснулся мокрым от пота и долго лежал неподвижно. Утром он купил билет до Лондона.
Лишь два-три самых простых звука естественного происхождения сопровождали его в тот вечер, когда он шел, опираясь на свою трость. Он уже дней десять бродил по Корнуоллу, но не обнаружил никаких намеков на то, где следует искать. И решил, что останется еще на два дня, после чего бросит поиски и уедет.
Сейчас его донимали ветер и дождь. Он ускорил шаг. Только что зажегшиеся на небе звезды то и дело скрывались за полосами тумана и густыми облаками, которые, как чудовищные грибы, вырастали то тут, то там. Он шел меж деревьями, потом остановился и снова зашагал вперед.
— Не надо было здесь так долго задерживаться, — пробормотал он. Затем, после некоторой паузы, добавил: — «Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscur»[11]. — Он рассмеялся и остановился под деревом.
Дождь был несильный. Скорее морось, густой туман. Яркое пятно на небе указывало, где теперь находится луна, окутанная облачной дымкой.
Он вытер лицо и поднял воротник. Посмотрел на луну. Помедлив немного, повернул направо. Издали докатился слабый раскат грома.
Туман все сгущался. Мокрые опавшие листья чавкали под сапогами. Какое-то животное неопределенного размера выскочило из прижавшихся к скалам кустов и стремительно скрылось во мраке.
Прошло пять минут… десять… Он тихо выругался. Дождь снова усилился. Может, это та самая скала?
Он сделал полный круг. Все направления представлялись ему одинаково неприемлемыми. Выбрав первое попавшееся, он снова пошел вперед.
Потом в некотором отдалении он увидел во мраке искру, отсвет, колеблющееся пламя, которое то исчезало, то появлялось вновь, словно время от времени за чем-то скрываясь. Он пошел на этот неверный свет. Примерно через полминуты свет снова погас, но он продолжал идти в том же направлении. Опять прогремел гром, на сей раз куда громче.
Когда ему уже начало казаться, что это лишь обман зрения или какой-то мимолетный природный феномен, в той же стороне он заметил кое-что еще, какое-то движение — будто тень мелькнула во мраке у основания огромного дерева. Он замедлил шаг, осторожно приближаясь к этому месту.
Да, вот оно!
Впереди, чуть правее, от облака мрака отделилась неясная фигура, похожая на человека. Человек ступал медленно и тяжело, под его ногами трещали ветки. Случайный луч лунного света на миг осветил нечто желтое, металлическое и мокрое.
Ланселот остановился. Ему показалось, что он только что видел рыцаря в полном латном облачении. Сколько времени прошло с тех пор, когда он в последний раз видел такое? Он помотал головой и стал вглядываться в темноту.
Незнакомец тоже остановился, Поднял правую руку в приглашающем жесте, затем повернулся и пошел прочь. Ланселот мгновение колебался, затем последовал за ним.
Рыцарь свернул влево и двинулся крутой и опасной тропкой, скользкой, каменистой, куда-то вниз. Ланселоту пришлось опираться на трость, чтобы не упасть. Он почти догнал рыцаря и теперь ясно слышал, как на ходу позвякивают его доспехи.
И тут рыцарь исчез, проглоченный тьмой.
Ланселот приблизился к тому месту, где в последний раз блеснули латы, и остановился у огромного каменного выступа, тростью ощупывая поверхность скалы.
Трость некоторое время натыкалась на сплошной камень, а потом вдруг попала в пустоту. И он двинулся туда.
В скале была трещина, пещера. Ланселоту пришлось боком протискиваться туда, и стоило ему сделать это, как из-за каменного выступа в глаза ему ударил свет, который он раньше видел издали.
Проход расширялся и изгибался, ведя его вперед и куда-то вниз. Несколько раз он останавливался и прислушивался, но не слышал ни звука, за исключением собственного дыхания.
Он достал носовой платок и тщательно вытер лицо и руки. Стряхнул капли с одежды, опустил воротник. Счистил листья и грязь с сапог. Словом, привел себя в порядок. Затем прошел немного вперед и, обогнув последний угол, очутился в помещении, освещенном маленькой масляной лампой, подвешенной на трех тонких цепочках к чему-то скрытому во мраке над головой. Желтый рыцарь стоял неподвижно у дальней стены. А прямо под лампой, на соломенном тюфяке, брошенном на какой-то каменный пьедестал, лежал старец в лохмотьях. Его заросшее бородой лицо наполовину было в тени.
Ланселот подошел ближе и увидел, что темные глаза старца открыты.
— Мерлин?.. — прошептал он.
В ответ раздался неясный шепот и легкое покашливание. Поняв, что старец хочет что-то ему сказать, он наклонился к самым его губам.
— Эликсир… Там, на каменной полке… сзади… — услышал он затрудненный шепот.
Он повернулся и пошарил рукой по каменному выступу.
— Ты знаешь, где он спрятан? — спросил Ланселот у желтого рыцаря.
Тот не пошевелился и не ответил. Стоял, как манекен на витрине. Ланселот снова зашарил по полке. Через некоторое время он обнаружил то, что искал. В глубокой тени, в нише за выступом он нащупал пальцами флакон и поднес его к свету. Внутри флакона плеснулась какая-то жидкость. Он вытер горлышко сосуда рукавом. Снаружи доносился свист ветра, и ему показалось, что он слышит далекие раскаты грома.
Подсунув руку под спину старца, он приподнял его. Глаза Мерлина, казалось, смотрели в никуда. Ланселот смочил ему губы жидкостью из флакона. Старец облизнул их и сумел наконец открыть рот. Ланселот дал ему выпить один глоток, другой, третий…
Мерлин знаком попросил опустить его, он выполнил эту просьбу и снова взглянул на желтого рыцаря, но тот по-прежнему оставался недвижим. Он посмотрел на волшебника и увидел, что глаза его уже смотрят осмысленно и изучающе, а губы чуть улыбаются.
— Теперь тебе лучше?
Мерлин кивнул. Прошла минута, и на щеках старца появился легкий румянец. Опершись на локоть, он сел, взял флакон и сделал добрый глоток.
Несколько минут после этого он сидел совсем неподвижно. Его тощие руки, в свете лампы казавшиеся восковыми, стали более смуглыми и сильными. Плечи распрямились. Он опустил флакон на свое ложе и потянулся. Суставы его при этом неистово заскрипели. Волшебник опустил ноги и медленно встал на пол. Он был на целую голову ниже Ланселота.
— Вот и свершилось, — произнес он, оглядываясь назад, во тьму. — Многое с тех пор произошло, и, несомненно…
— Да, многое, — подтвердил мрачно Ланселот.
— И тебе пришлось все это пережить… Так скажи мне, лучше или хуже стал мир, чем в наши времена?
— В чем-то лучше, в чем-то хуже. Он просто стал другим.
— И в чем он стал лучше?
— Появилось много способов облегчить жизнь, да и вообще человечество теперь куда богаче знаниями.
— А в чем он стал хуже?
— Людей на Земле теперь гораздо больше. А соответственно, куда больше и тех, кто страдает от бедности, болезней, невежества. Да и сама Земля сильно изменилась в худшую сторону, стала грязнее, нарушена целостность природы.
— А войны?
— Войны не прекращаются. Всегда где-то кто-то воюет.
— Значит, людям нужна помощь?
— Может быть. А может быть, и нет.
Мерлин повернулся и посмотрел ему прямо в глаза:
— Что ты хочешь этим сказать?
— Сами люди почти не изменились. По-прежнему существуют те, кто мыслит вполне разумно, и те, чьи поступки совершенно непредсказуемы. Как и в былые времена. Есть законопослушные люди и закоренелые преступники — как всегда. Люди многое узнали, многое поняли, в мире действительно многое изменилось, но не уверен, что это коснулось природы самого человека, по крайней мере, за то время, что ты спал. И что бы ты ни делал, тебе природы человеческой не изменить, хотя ты, вероятно, сумел бы изменить кое-какие черты эпохи. Да только стоит ли вмешиваться? Нынешний мир до такой степени сложен, и части его настолько взаимозависимы, что тебе просто не по силам предвидеть все последствия любого твоего поступка. Ты невольно можешь принести куда больше зла, чем добра; но что бы ты ни делал, природа человека останется прежней.
— Что-то не похоже на тебя, Ланс. В прежние времена ты не был склонен к философствованиям.
— У меня хватило времени, чтобы поразмыслить как следует.
— А у меня хватило времени помечтать. Твое дело — война, Ланс. Вот ею и занимайся.
— Я бросил это дело уже много лет назад.
— И кто же ты теперь?
— Работаю оценщиком.
Мерлин отвернулся и выпил еще эликсира. Теперь от него исходила волна яростной, мощной энергии.
— А как же твоя клятва? Бороться с несправедливостью, исправлять зло, наказывать неправых?..
— Чем дольше я жил, тем труднее становилось определить, что именно есть зло и несправедливость. Разъясни мне это еще раз, чтобы я мог вернуться к прежним своим занятиям.
— Галахад никогда бы мне такого не сказал.
— Галахад был юн, наивен, доверчив. Не говори мне о моем сыне.
— Ланселот! Ланселот! — Мерлин положил руку ему на плечо. — Откуда и почему такое ожесточение, да еще в присутствии старого друга, который ни в чем не провинился за прошедшую тысячу лет?
— Я просто с самого начала хочу четко и ясно заявить о своей позиции. Я всегда опасался, что ты можешь совершить что-нибудь необратимое, что фатально скажется на всемирном равновесии сил. Я желал бы сообщить тебе, что не стану в этом участвовать.
— Признай, однако: ты не представляешь, что я мог бы сделать, что я могу сделать.
— Не представляю. И именно поэтому опасаюсь тебя. Что же ты намерен сделать?
— Ничего. Пока — ничего. Просто хочу оглядеться и сам увидеть хотя бы некоторые из тех перемен, о которых ты говорил. И уж потом поразмыслить, какие несправедливости следует исправить, кого следует наказать, кого выбрать в герои и защитники человечества. Я все это покажу тебе, и тогда ты сможешь опять вернуться к своему былому занятию.
Ланселот вздохнул:
— Бремя доказательств лежит на том, кто их выдвигает. Но твоих доводов для меня теперь недостаточно.
— Боже правый! — воскликнул Мерлин. — Как это грустно! Столько времени ждать и дождаться такой вот встречи! Ты потерял веру в меня, Ланселот. А ведь силы мои уже возвращаются ко мне. Разве ты не чувствуешь запаха волшебства вокруг?
— Я ощущаю нечто, чего не испытывал уже очень давно.
— Проспать несколько веков очень полезно для здоровья — это бережет и укрепляет силы. А через некоторое время, Ланс, я стану даже могущественнее, чем когда-либо. И ты все еще сомневаешься, что у меня хватит сил повернуть вспять стрелки часов?
— Я сомневаюсь, что это хоть кому-нибудь принесет пользу. Прости меня, Мерлин. Мне тоже неприятно, что все так получилось. Но я слишком долго жил, слишком много видел, слишком много знаю о том, сколь сложен нынешний мир, чтобы доверять мнению кого-то одного, пусть даже готового этот мир спасти. Оставь его в покое, Мерлин. Ты для него — таинственная и почитаемая легенда. Я и сам не понимаю, кто ты такой на самом деле. Но воздержись от использования своей силы в форме этаких крестовых походов. Сделай теперь что-нибудь другое. Стань врачом, чтобы победить страдания людей. Стань художником. Стань профессором истории, антикваром. Черт возьми, стань, наконец, общественным критиком, социальным реформатором и раскрывай людям глаза на зло, которое видишь, чтобы они становились лучше.
— Неужели ты действительно полагаешь, что меня могут удовлетворить подобные занятия?
— Человек находит удовлетворение в различных вещах и занятиях. Это зависит от самого человека, а не от его занятий. Я лишь хочу сказать, что тебе не следует пользоваться своим могуществом, пытаясь осуществить перемены в обществе путем насилия, как мы это делали когда-то.
— Какие бы изменения мир ни претерпел, самое смешное заключается в том, что время сделало тебя пацифистом.
— Ты ошибаешься.
— Сознайся: ты в конечном итоге просто стал бояться звона мечей! Оценщик! Какой же ты рыцарь!
— Я рыцарь, который оказался не в том времени и не в том месте. Мерлин.
Волшебник пожал плечами и отвернулся.
— Что ж, да будет так. Хорошо, что ты решил все это мне сказать сразу. Спасибо. Подожди минутку.
Мерлин ушел в дальнюю часть пещеры и через несколько минут вернулся, переодетый в новые одежды. Эффект был разительный. Теперь он выглядел куда более аккуратным и опрятным. Белоснежные борода и волосы потемнели, и лишь кое-где была в них заметна сильная проседь. Поступь стала более уверенной и твердой. В правой руке Мерлин держал свой волшебный посох, но на него не опирался.
— Пойдем-ка прогуляемся вместе, — сказал он.
— Сегодня скверная погода.
— Не такая уж скверная, как в ту ночь, когда ты от меня ушел. Да и места здесь иные.
Проходя мимо желтого рыцаря, он щелкнул пальцами возле забрала его шлема, и тот, звякнув латами, двинулся за ним.
— Кто это?
— Никто, — отвечал Мерлин, протягивая руку к шлему рыцаря и поднимая забрало. Под шлемом была пустота. — Это просто волшебные латы, их приводит в движение некий дух. Довольно неуклюжий, надо признать, поэтому я и не доверил ему дать мне эликсир при моем пробуждении. Однако слуга он великолепный — в отличие от некоторых. Необыкновенно сильный и быстрый. Даже будучи на вершине своей рыцарской славы, ты не сумел бы одолеть его. Мне ничто не страшно, когда он со мной. Идем, я хочу кое-что тебе показать.
— Хорошо.
Ланселот вышел из пещеры и последовал за Мерлином и полым рыцарем. Дождь уже прекратился, ветер тоже стих. Они оказались на освещенной лунным светом поляне, над которой бродили клочья тумана; вокруг сверкала мокрая трава. Вдали возвышались какие-то смутные силуэты.
— Ох, извини, — сказал Ланселот. — Я забыл в пещере свою трость.
Он повернулся и пошел обратно.
— Да-да, прихвати свою трость, старичок, — откликнулся Мерлин. — Ведь силы твои уже на исходе.
Когда Ланселот вернулся, Мерлин стоял, опершись на посох, и смотрел вдаль.
— Теперь пойдем вон туда, — сказал он. — Там ты найдешь ответы на все свои вопросы. Я постараюсь идти не очень быстро, чтобы не утомлять тебя.
— Утомлять меня?
Волшебник захихикал и двинулся вперед. Ланселот последовал за ним.
— Разве ты не чувствуешь легкой усталости? — спросил Мерлин.
— Да, признаться, чувствую. А ты знаешь, что это со мною?
— Разумеется. Я снял чары, которые защищали тебя все эти годы. И сейчас ты ощущаешь первые проявления своего истинного возраста. Этот процесс займет еще некоторое время, пока старость не преодолеет естественное сопротивление твоего тела. Но она тебя уже нагоняет.
— Зачем ты это со мною сделал?
— А я поверил твоим заявлениям о том, что ты не пацифист. Ты говорил достаточно страстно, чтобы догадаться: ты можешь дать мне отпор, противостоять мне. Этого я допустить не мог, поскольку прекрасно знал, что ты силен по-прежнему и способен воспользоваться своей силой, которой стоит опасаться даже волшебнику. Так что я сделал то, что и следовало сделать. Благодаря моему волшебному могуществу ты сохранил свою силу; без моих чар сила твоя скоро иссякнет. Мы могли бы снова стать неплохими союзниками, однако я понимаю: теперь это невозможно.
Ланселот споткнулся, с трудом удержался на ногах и дальше пошел прихрамывая. Полый рыцарь неотступно следовал по правую руку от Мерлина.
— Ты говоришь, что цели твои благородны, — сказал Ланселот. — Но я тебе не верю. Может, в былые времена так оно и было. Но теперь не только времена изменились. Ты и сам стал другим. Разве ты этого не чувствуешь?
Мерлин глубоко вздохнул и выдохнул облако тумана.
— Вероятно, это у меня наследственное, — произнес он задумчиво. И тут же добавил: — Шучу, шучу. Конечно, я тоже изменился. Все меняется. Ты и сам тому прекрасный пример. Но то, что ты считаешь во мне переменой к худшему, лишь слабый отголосок неразрешимого конфликта, возникшего меж нами из-за происшедших в нас обоих перемен. Но я по-прежнему придерживаюсь благородных идеалов Камелота.
Плечи Ланселота теперь согнулись, обвисли, дыхание участилось. Неясные силуэты вокруг устрашающе нависали над ними.
— Да я же знаю это место! — воскликнул он внезапно. — И в то же время не узнаю его… Стоунхендж ныне выглядит совсем иначе! Даже в Артуровы времена он вовсе не был таким великолепным! Как мы сюда попали? Что произошло?
Он остановился передохнуть, и Мерлин тоже встал, чтобы дать ему такую возможность.
— Нынче ночью мы с тобой прошли путь, разделяющий два мира, — сказал он. — И сейчас находимся в Царстве фей, а это настоящий Стоунхендж, святилище. Я специально растянул границы миров, чтобы он здесь оказался. Желай я тебе зла, я бы мог отправить тебя туда и запереть там навеки. Однако лучше все же тебе обрести наконец хоть какой-то покой. Идем.
Ланселот, спотыкаясь, последовал за ним к огромному кругу из поставленных торчмя гигантских камней. С запада прилетел, разгоняя туман, легкий ветерок.
— Что ты хотел сказать этими словами — «хоть какой-то покой»?
— Чтобы полностью восстановить и преумножить свое могущество, мне необходимо принести здесь жертву.
— Значит, ты с самого начала уготовил мне такую участь!
— Нет. Этой жертвой не обязательно должен был стать ты, Ланс. Вполне подошел бы любой, хотя ты подойдешь значительно лучше. Все было бы иначе, если бы ты предпочел помогать мне. И у тебя еще есть время, чтобы передумать.
— И ты бы хотел, чтобы человек, способный так быстро передумать, был твоим союзником?
— Да, для тебя вопросы чести всегда имели чересчур большое значение.
— Тогда зачем спрашивать? Просто из мелкой жестокости?
— Именно. К тому же ты мне надоел.
Когда они достигли внешней границы каменного круга, Ланселот снова остановился и стал разглядывать огромные глыбы.
— Если ты не войдешь туда добровольно, — заявил Мерлин, — мой слуга будет рад помочь тебе.
Ланселот сплюнул, выпрямился и с яростью посмотрел на него.
— Полагаешь ли ты, что я убоюсь пустых лат, ведомых неким адским духом? Даже теперь, Мерлин, без помощи и содействия волшебных чар, я способен разнести его на куски!
Волшебник рассмеялся:
— Хорошо, что ты хоть рыцарской похвальбы не забыл, коли уж всего остального лишился. Я подумываю о том, чтобы предоставить тебе такую возможность, ведь мне все равно, каким именно образом ты здесь умрешь. Самое главное — это наши предварительные переговоры.
— Но ты все-таки боишься рисковать своим слугой?
— Тебе так кажется, старичок? А я сомневаюсь, что ты вообще не рухнешь под тяжестью латного убора, не говоря уж о том, чтобы поднять боевое копье. Но коли желаешь попытаться, пусть будет так!
И он трижды ударил о землю своим посохом.
— Входи же! — воскликнул он. — Там ты найдешь все, что тебе нужно. Я рад, что ты сделал такой выбор. Ты был невыносим, знаешь ли. И вот теперь, впервые, я возжелал, чтобы ты потерпел поражение, чтобы тебя унизили до уровня простого смертного. Мне бы только хотелось, чтобы королева тоже была сейчас здесь и видела последний бой своего героя.
— Мне бы тоже этого хотелось, — сказал Ланселот. Он прошел между монолитными глыбами и вступил в круг.
Там его ждал черный жеребец; поводья были опущены на землю и придавлены камнем. Полный латный убор, копье, меч и щит были прислонены к дольмену. А по другую сторону круга белый конь ожидал полого рыцаря.
— Прости, я не позаботился о паже или оруженосце, которые помогли бы тебе одеться, — сказал Мерлин, выходя из-за каменной глыбы. — Однако буду счастлив сам услужить тебе.
— Ничего, я справлюсь, — ответил Ланселот.
— Мой слуга вооружен точно так же, — заявил Мерлин. — Мне не хотелось давать ему ни малейшего преимущества перед тобой.
Ланселот погладил коня, приучая его к себе, затем достал из бумажника узкую красную ленту и повязал ее на копье. Трость прислонил к дольмену и начал облачаться в латы. Мерлин, чьи волосы и борода теперь казались почти черными, отошел на несколько шагов в сторону и принялся что-то чертить в грязи концом посоха.
— Раньше ты, помнится, предпочитал белых коней, — заметил он, — но мне показалось целесообразным дать тебе коня другого цвета, поскольку ты уже отрекся от высоких идеалов рыцарей Круглого Стола и предал память о Камелоте.
— Напротив, — откликнулся Ланселот и поглядел в небо, откуда донесся внезапный раскат грома. — В такую грозу сойдет любой конь, а я последний защитник Камелота.
Мерлин продолжал чертить свои диаграммы, пока Ланселот готовился к бою. По-прежнему дул слабый ветерок, разгонявший туман. Блеснула молния, конь испуганно шарахнулся, и Ланселот стал его успокаивать.
Мерлин некоторое время Таращился на него, протирая глаза. Ланселот надел шлем.
— Мне на мгновение показалось, — сказал Мерлин, — что ты выглядишь совсем иначе…
— Неужели? Полагаешь, это результат исчезновения твоих волшебных чар? — спросил Ланселот, выдернув поводья из-под прижимавшего их камня и садясь в седло.
Мерлин, качая головой, отошел на шаг от начерченной диаграммы. Всадник нагнулся и подхватил копье.
— Кажется, ты все еще не утратил былой силы, — произнес волшебник.
— Да неужели?
Ланселот взял копье на руку. Перед тем как повесить щит на луку седла, он поднял забрало и посмотрел на Мерлина.
— Твой герой как будто готов, — сказал он. — И я тоже.
Снова сверкнула молния, и Мерлин увидел юное лицо Ланселота, лишенное морщин, с ясными глазами, с падающими на лоб локонами золотистых волос.
— Каким же волшебным заклятьям ты научился за эти долгие годы? — воскликнул он.
— Это не волшебство, — отвечал Ланселот. — Это всего лишь предосторожность. Я предвидел, как будут развиваться события. Поэтому, вернувшись в пещеру за тростью, я выпил остатки твоего эликсира.
Он опустил забрало и отвернулся.
— Ты же только что едва брел, как старик…
— У меня есть некоторый опыт. Подавай сигнал! Мерлин рассмеялся.
— Отлично! Так даже лучше! — заявил он. — Ты погибнешь в полном расцвете сил! И не надейся победить в схватке с духом!
Ланселот поднял щит и наклонился вперед.
— Тогда чего же ты ждешь?
— Ничего! — буркнул Мерлин. И затем крикнул: — Убей его, Раксас!
Когда они помчались по полю навстречу друг другу, заморосил мелкий дождь; глядя вперед, Ланселот увидел, как под забралом противника пляшет пламя. И в последний момент чуть приподнял копье, направляя его прямо в пылающий шлем полого рыцаря. Снова полыхнула молния, и загремел гром.
Щитом он отбил удар копья противника, а его собственное копье вонзилось полому рыцарю прямо в голову. Голова слетела с плеч и, дымясь, покатилась по земле.
Ланселот промчался до противоположного конца поля, повернул коня и увидел, что полый рыцарь, теперь лишенный головы, проделал то же самое. А позади него он заметил две человеческие фигуры — там, где только что стояла всего лишь одна.
Фея Моргана, в белых одеждах, с распущенными рыжими волосами, развевавшимися на ветру, стояла перед Мерлином. Их разделяла лишь начертанная в грязи диаграмма. Казалось, они говорят о чем-то, но слов Ланселот расслышать не мог. Потом фея воздела вверх руки, сиявшие холодным огнем. Посох Мерлина тоже сверкнул в воздухе. Больше Ланселот не успел ничего разглядеть: полый рыцарь снова пошел в атаку.
Ланселот взял копье на руку, поднял щит, наклонился вперед и пришпорил коня. Рука его напряглась и стала как железный брус, в жилах электрическим током забурлила энергия. Он помчался вперед. Дождь усилился, молнии сверкали не переставая. Непрекращающиеся раскаты грома заглушали топот коней, а ветер так и свистел в забрале шлема, когда он летел прямо на врага, целясь копьем в середину щита.
Они сшиблись с чудовищным грохотом. Оба покачнулись в седлах от столкновения, и полый рыцарь упал на землю. Копье Ланселота, расколовшись при ударе, пронзило щит и нагрудник противника. При падении левая рука Раксаса отвалилась; наконечник копья сломался, а щит упал рядом на землю. Но он почти тотчас же стал подниматься на ноги, правой рукой извлекая из ножен длинный двуручный меч.
Ланселот спрыгнул с коня, отбросил щит и тоже обнажил меч. И пошел навстречу лишенному головы противнику. Тот первым сделал выпад, и Ланселот отразил его. От могучего удара руки на мгновение онемели. Затем он тоже нанес удар. Противник отбил его.
Они топтались, обмениваясь ударами, и тут Ланселот наконец заметил, что противник открылся, и нанес ему решающий удар. Полый рыцарь рухнул в грязь. Меч Ланселота раскроил его нагрудник почти пополам, до того места, откуда еще торчал застрявший в броне наконечник копья. И тут фея Моргана страшно закричала.
Ланселот обернулся и увидел, что она упала прямо на диаграмму, начертанную Мерлином на земле. Сам же волшебник, весь объятый голубоватым сиянием, поднял свой посох и двинулся вперед. Ланселот сделал шаг по направлению к ним, и острая боль пронзила его левый бок.
Он обернулся к поднимающемуся с земли полому рыцарю как раз в тот момент, когда он уже занес меч для второго удара. Ланселот успел перехватить свой меч обеими руками и, направив его острием вниз, бросился на врага.
Его клинок пронзил панцирь полого рыцаря насквозь, буквально пригвоздив его к земле. Из-под сверкающих лат донесся тонкий, быстро захлебнувшийся вскрик, а из воротника вырвался столб пламени, взлетел вверх и рассеялся искрами, угаснув под дождем.
Ланселот резко опустился на колени. Потом медленно поднялся вновь и обернулся к двум волшебникам, которые уже снова стояли лицом к лицу, но теперь оба — внутри начертанных на земле магических символов, и оба светились голубоватым неземным сиянием. Ланселот сделал шаг по направлению к ним, затем второй.
— Мерлин! — крикнул он, направляясь к ним. — Я сделал то, что обещал! Теперь я намерен убить тебя!
Фея Моргана обернулась к нему. Глаза ее были широко раскрыты.
— Нет! — воскликнула она. — Уходи из крута! Немедленно! Пока я держу его здесь! Его могущество тает! Еще несколько минут, и все это просто исчезнет! Уходи!
Ланселот колебался лишь мгновение. Затем повернулся и пошел к выходу из крута. Когда он миновал каменные глыбы, небо, казалось, вскипело. Он сделал еще с десяток шагов и вынужден был остановиться и передохнуть. Оглянувшись назад, на место поединка, он увидел все те же две фигуры, словно окаменевшие в волшебном объятии. Такой эта сцена и запечатлелась у него в памяти. Ибо небеса разверзлись, и стена огня обрушилась на дальний конец каменного круга.
Оглушенный, он прикрыл глаза рукою, а когда опустил ее, то увидел, что каменные глыбы падают, причем совершенно беззвучно, и многие из них тут же тают в воздухе.
Дождь начал ослабевать.
Волшебник и волшебница исчезли вместе с большей частью Стоунхенджа, который продолжал свое самоуничтожение. Коней нигде видно не было. Он оглянулся, заметил подходящий камень и направился к нему.
Усевшись, он прежде всего отстегнул нагрудник и бросил его наземь. В боку огнем полыхала боль, и он зажал рану рукой. Склонившись, он устало оперся подбородком о левую руку.
Дождь становился все тише и в конце концов прекратился совсем. Ветер тоже стих. Вокруг опять все окуталось туманом. Ланселот глубоко вдыхал влажный воздух, обдумывая случившееся.
Да, именно для этого он и был здесь оставлен, оставлен последним, после смерти всех остальных; именно этого он и ждал столь долго. А теперь все кончено, и он может, наконец, отдохнуть.
Потом он ненадолго потерял сознание. И пришел в себя от яркого света. Ровное сияние пробивалось сквозь пальцы прикрывавшей лицо руки, резало глаза даже сквозь опущенные веки. Он опустил руку, вскинул голову и открыл глаза.
В ярком сиянии чаша медленно проплывала мимо. Ланселот протянул к ней окровавленные, онемевшие пальцы, до того зажимавшие рану, встал и двинулся следом. Массивная, чистых очертаний, сияющая и прекрасная, совсем не такая, как тогда, в Зале Круглого Стола, чаша повлекла его за собой через залитую лунным светом равнину, из тьмы к свету и снова во тьму, пока туманы не поглотили его, когда, наконец, он коснулся чаши и обнял ее.
И на этом кончается история Ланселота, последнего из благородных рыцарей Круглого Стола, его приключений и битвы с Раксасом, полым рыцарем, его встреч с Мерлином и с феей Морганой, последними из мудрецов Камелота, его поисков Святого Грааля.
QUO FAS ET GLORIA DUCUNT[12].
Жди нас, Руби-Стоун
Когда наконец с нашей женитьбой было решено, мы все трое отправились к старой Войе Длинноногой, чтобы выбрать камень, освящающий помолвку. Камень надлежало выбирать только нам самим, так велел обычай.
Квиб пленил камень цвета самой страсти, ярко-синий, казавшийся застывшей каплей влаги из огромного океана. Я же предпочитала цвет пламени, символизирующий мир и покой в доме. И поскольку наш возлюбленный согласился со мною, был выбран гораздо более дорогой камень, рубин. И старая Войе Длинноногая сделала надрез на челе нашего возлюбленного, вставила туда камень и наложила повязку. Наш возлюбленный, который отныне должен был именоваться Руби-Стоун[13], вел себя поистине мужественно. Во время этой короткой, но очень болезненной ритуальной операции он даже не вздрогнул, лишь смотрел в землю и держался за нас.
— Мне-то все это семечки, — заявила старая Войе Длинноногая. — Я такие штуки делала одному Лесу известно сколько раз. И возвращений тоже видала предостаточно.
Мы не стали отвечать на ее мрачные шуточки, но постарались, чтобы ей за все заплатили сполна еще до торжественной церемонии.
— А нам будет позволено лицезреть Заключительный Акт? — осведомилась она.
— Нет, мы считаем, что это должно свершиться в интимной обстановке, — отвечала я, может быть, чересчур поспешно, ибо получила в ответ такой взгляд, что мне стало ясно: мои слова восприняты как признак слабости. Ну и пусть. Мы и сами с усами.
Распрощавшись друг с другом, мы расстались: нам следовало оставаться в домах ожидания, пока Руби-Стоун не поправится после операции и не будет полностью готов к церемонии.
Я отдыхала и практиковалась в метании шипов в ожидании Трясуна, который должен был принести мне весть. На десятый день он наконец явился и забарабанил в мою дверь. Прежде чем убить его, я прочитала послание, из которого следовало, что мы сочетаемся через два дня. Внутренности Трясуна, правда, предсказывали странные повороты судьбы, но плоть его на вкус была нежна.
Оставшись снова одна, я совершила омовение и бичевание, готовясь к заключительным обрядам. Ночь я спала под Священным деревом и смотрела на звезды сквозь его листву. Я принесла ему в жертву косточки Трясуна, сложив их у его поросших мхом корней. Я слушала порхавших в Лесу певцов ночи; длинные влажные язычки, свисающие с дерева, как побеги виноградной лозы, прощупывали воздух, ловя собратьев этих маленьких певцов, которым суждено было послужить пищей на этом вечном празднестве жизни.
Один из певцов пронзительно вскрикнул, внезапно пойманный прямо посреди полета длинным язычком, и его сразу утянуло вниз, в разинутую пасть. Бедный маленький пищащий комочек тьмы, вырванный из потока жизни.
Еще не рассвело, а я уже ждала возле Священного дерева: оно должно было отрыгнуть и освободить свой желудок. И едва мир осветили первые лучи восходящего солнца, как раздался соответствующий звук, и дерево выплеснуло наружу остатки вчерашнего пиршества, которые образовали небольшое, исходящее паром озерцо. Я отпрыгнула назад, чтобы на меня не попала обжигающая жидкость. Потом палкой разгребла горячую массу, непереваренные косточки и чешуйки. Дерево между тем со всасывающим звуком захлопнуло свою утробу.
То, что мне было нужно, я нашла почти сразу — два комплекта когтей, всего шесть штук. Я выудила их прутиком из жидкой массы, положила на подушку из листьев и отнесла к реке. Там я их вымыла и тщательно протерла. То, что я их нашла, было хорошим предзнаменованием.
В тот же День я заострила найденные когти и прикрепила их к двум палкам, которые выбрала себе по размеру; это было значительно более удобное и надежное оружие, чем то, которым меня одарила природа. Я прикрепила их к поясу, который сплела специально для этого, и теперь они выглядели прямо как драгоценные застежки из железного корня на обычной деревянной пряжке.
Остаток дня я посвятила омовениям и очистительным ритуалам и все время размышляла о своих будущих супругах, о предстоящей свадьбе. В тот вечер я съела предписанные ритуалом блюда и рано улеглась под Священным деревом. Правда, заснуть мне удалось далеко не сразу.
На следующее утро я отправилась обратно по тому же пути, по которому пришла в дом ожидания. Я встретилась с Квиб и Руби-Стоуном там же, где мы расстались. Мы не прикасались друг к другу, но обменялись официальными приветствиями:
— О, Корень жизни!
— О, Хранительница яйца!
— О, Великий добытчик!
— О, Лесная жница!
— О, Несущая новую жизнь!
— Приветствую тебя!
— Приветствую тебя!
— Приветствую тебя!
— Готов ли ты следовать к Древу Жизни?
— Я готов следовать к Древу Жизни.
— Готов ли ты украсить его символом твоего Обручального слова?
— Я готов украсить его символом своего Обручального слова.
— Я готова принять вас обоих в супруги.
— Я готова принять вас обоих в супруги.
— Я готов принять вас обеих в супруги.
— Так идемте же к Древу Жизни!
И мы взвились в небеса, танцуя, кружась и пикируя, проносясь над Лесом в сиянии летнего дня. Мы выписывали в вышине круги и виражи до тех пор, пока хватило сил. А потом наконец отправились к самому великому Древу Жизни, увешанному бесчисленными дарами и символами, и добавили к ним свои эмблемы, сопровождая это действо соответствующими словами. Приземлившись у его корней, мы с Квиб схватили Руби-Стоуна за крылья и оторвали их.
Старая Войе Длинноногая, и Иглин Пурпурная Полоска, и юный Дендлит-Хромоножка, и многие другие уже ждали нас, чтобы лицезреть церемонию, принести нам свои поздравления и предложить нам свои советы. Мы выслушали их с некоторым нетерпением: нам хотелось поскорее отправиться в путь. Зрители всегда получают огромное удовольствие, если им удается оттянуть уход новобрачных, которым не терпится заняться своим делом.
Мы обняли всех и простились с ними. По толпе зрителей пробежал ропот недовольства и разочарования в связи с тем, что зрелище оказалось чересчур мимолетным и больше им ничего увидеть не удастся. Но мы с Квиб подняли Руби-Стоуна и понесли его в Жилище, которое специально для него подобрали, и красный брачный камень пламенем горел у него на сверкающем полировкой челе. Мы выглядели просто превосходно, когда шли через Лес к Жилищу. Остальные, тихо напевая, медленно следовали за нами.
Достигнув порога Жилища, мы дружески и ободряюще похлопали Руби по обломкам крыльев, и он вошел внутрь, однако сами мы входить не стали.
— Смотри же, здесь ты будешь ждать нас, — сказали мы хором.
— Я буду ждать вас, о, Возлюбленные жены.
Квиб и я смело посмотрели друг другу в лицо. Пение прекратилось. Впрочем, мы не обращали на зрителей внимания.
— Пойдем, моя Возлюбленная, погуляем вместе, — проговорила Квиб.
— О да, моя Возлюбленная, нужно прогуляться.
И мы прошли мимо толпы сопровождающих, и удалились под сень Леса. Долгое время мы шли молча, стараясь не прикасаться друг к другу. Затем мы вышли на небольшую поляну, погруженную в благодатную тень.
— Моя Возлюбленная, здесь ли это место? — спросила Квиб.
— О нет, моя Возлюбленная, дальше, — отвечала я.
— Что ж, хорошо, Любимая моя.
И мы пошли дальше, посматривая друг на друга и несколько лениво продвигаясь в глубь Леса. Солнце уже стояло в зените и готовилось скатиться к западу.
Через некоторое время Квиб спросила:
— Любимая, не хочешь ли передохнуть?
— Пока что нет, Любимая. Благодарю тебя.
— Мне в голову пришло вдруг: здесь неподалеку дом Торговца Хокинса. Не хочешь ли его проведать, о Спутница всей моей жизни?
— С какою целью, Огонь души моей?
— Любовь моя, всего лишь согревающего выпить.
Я обдумала это предложение. Воздействие согревающего напитка вполне может ускорить развитие событий.
— Ну хорошо, моя Подруга На Пути К Блаженству, — ответила я наконец, — готова я зайти к Торговцу Хокинсу.
И мы направились к подножию холма.
— Свет Любви, — спросила я, — правда ль, что Землянин этот свою супругу в яму положил за стенами Жилища?
— Об этом я слыхала, Любовь моя, и место это знаю, но точно не уверена, что правду говорят, хотя известно: его супруга умерла.
— Как это странно, Дорогая!
— О да, моя Возлюбленная, странно.
Наконец устроившись передохнуть, мы сели друг напротив друга и были настороже. Прелестное тело Квиб, гибкое, грациозное, стремительное, такое великолепное в сгущающихся сумерках, было крупнее моего. В небе появилась луна. Я уже проголодалась, но не сказала ни слова. Пока что лучше не есть, так что нет смысла и говорить об этом.
Подножия холмов мы достигли уже в темноте. Сквозь деревья завиднелись огоньки торговой фактории. Вокруг уже начались песни ночи. Я почувствовала странный аромат, который ветер доносил со стороны холмов.
Пробираясь в зарослях кустарника, я сказала Квиб:
— Дражайшая моя, мне бы хотелось сперва взглянуть на это место — там, где закопана умершая супруга.
— Я покажу его тебе, Любимая моя.
Квиб провела меня на задний двор фактории. Когда мы проходили мимо дома, мне показалось, что я заметила силуэт Торговца Хокинса. Он сидел со стаканом в руке на темной веранде и при свете звезд казался великаном.
Квиб показала мне огромный участок земли, где совершенно ничего не росло. На одном конце участка был установлен камень со странными значками. У камня лежали засохшие цветы.
— Так мертвая его супруга здесь? Под землей, под этим камнем? Да, дорогая Квиб?
— Так мне говорили, Свет моей жизни.
— А для чего засохшие растения, Любовь моя?
— Не знаю. Все это очень странно, Любимая.
— О да, все это странно. И я не понимаю… Мне кажется…
— Эй, что это вы там делаете, букашки?
На столбе возле дома вспыхнул яркий свет, гораздо ярче, чем свет любой из лун. Землянин стоял возле двери, держа в руках свое длинное огненное оружие. Мы повернулись и приблизились к нему.
— Мы хотели выпить согревающего напитка, — произнесла Квиб на его языке. — Но сперва остановились, чтобы поглядеть на то место, где под землей находится ваша супруга.
— Я не люблю, чтоб на заднем дворе кто-то шатался, когда меня нет поблизости.
— Мы приносим извинения. Мы не знали. У вас есть согревающий напиток?
— Есть. Заходите.
Землянин придержал огромную дверь, пропуская нас. Мы вошли в дом и последовали за этим великаном, шедшим впереди.
— А металл у вас есть?
— Да, — отвечала я, доставая брусочек из сумки и передавая ему.
Две чаши напитка были тут же для нас приготовлены, и мне еще дали три металлических брусочка меньших размеров в качестве сдачи. Я оставила их лежать на циновочке возле чаши.
— За следующую заплачу я, Дорогая, — сказала Квиб.
Я не ответила, а пригубила кисло-сладкий напиток, и жидкий огонь разлился по всем моим членам. Землянин налил нам еще и водрузил чаши на высокую деревянную подставку. Комната была полна каких-то сильных, но отнюдь не неприятных ароматов, природу которых я установить не смогла. Пол был усеян мелкими частицами дерева. Помещение освещалось ярким драгоценным камнем, сиявшим высоко на стене.
— Вы, букашки, что, на охоту вышли или просто выпить сюда забежали?
— Ни то ни другое, — сказала Квиб. — Мы поженились нынче утром.
— Ах вот как! — Глаза Торговца Хокинса сперва широко распахнулись, а затем снова сузились. — Я слыхал об этой церемонии. Лишь двое продолжают путь, а третий остается…
— Да.
— И вы по пути зашли ко мне выпить, прежде чем отправляться дальше?
— Да.
— Мне все это страшно интересно. Никто из представителей моего народа никогда не видел ваших брачных обрядов.
— Нам это известно.
— А мне бы так хотелось поглядеть, чем эта церемония закончится!
— Нет.
— Нет.
— Разве это запрещено?
— Нет. Просто мы считаем брак делом интимным.
— Видите ли, я глубоко уважаю ваши чувства, но там, откуда я родом, многие дорого бы заплатили, чтобы посмотреть, чем дело кончится. А раз вы сказали, что это не запрещено, но, скорее, зависит от вашего личного решения, хотелось бы спросить вас вот о чем: не смогу ли я убедить вас дать мне разрешение заснять все это?
— Нет.
— Нет, это очень личное.
— Вы все-таки постарайтесь выслушать меня до конца. Но сперва давайте я еще разок наполню ваши чаши. Нет, металла больше не надо. Если бы — ну, предположим это хоть на минутку — вы позволили мне заснять церемонию до конца, я бы на этом точно сделал большие деньги. И мог бы вознаградить вас многими подарками — всем чем угодно из товаров моей фактории, — и вы всегда, когда бы ни пришли, могли бы сколько захотите выпивать согревающего напитка.
Квиб посмотрела на меня как-то странно.
— Нет, — ответила я. — Это дело личное и интимное. И я не хочу, чтобы наша церемония попалась к вам, в ваш ящик с картинками.
Я отодвинула чашу и встала.
— Нам уже пора идти.
— Сядьте. Не уходите. Простите меня… Но было бы просто глупо с моей стороны не спросить у вас… Я же не обиделся, когда вы разглядывали могилу моей жены, верно? Ну и вы не обижайтесь.
— А это верно, Дорогая, — сказала Квиб на нашем языке. — И мы его, возможно, оскорбили, пройдя к могиле, где лежит его супруга, и разрешения не спросив. Ну что ж, не будем обижаться на его желание, ведь просьбу мы его решительно отвергли. Не станем же себя позорить чванством.
— Ты говоришь прекрасно, Дорогая! — отвечала я пылко и вновь придвинула к себе чашу с согревающим напитком. — Да и напиток этот превосходен!
— О да!
— Люблю тебя.
— И я тебя люблю.
— А как прекрасен Руби-Стоун! Как он нежен!
— О да! И грациозен!..
— Как я была горда, когда в Жилище мы его несли!
— Я тоже! А помнишь танец в небесах? О, как он был великолепен… И выбранный тобою камень был лучше всех. Он в свете солнечном так пламенел!
— А вечером рубина блеск нежнее стал и мягче…
— Да, ты во всем права. И все будет прекрасно.
— Да, я уверена.
Мы допили свой напиток и уже собирались уходить, когда Землянин вновь наполнил наши чаши.
— За счет заведения. Свадебный подарок.
Я поглядела на Квиб. Квиб — на Торговца Хокинса, потом на меня. И мы снова сели и прильнули к сладостным чашам.
— Спасибо, — сказала я.
— Да-да, спасибо, — сказала Квиб.
Наконец мы снова встали, твердо намереваясь уйти. Я, правда, двигалась несколько неуверенно.
— Давайте, я еще налью.
— Нет, это будет слишком. Нам уже пора.
— Может, хотите переночевать у меня? Это можно.
— Нет. Нам нельзя спать, пока все не завершится. И мы направились к двери. Мне казалось, что пол плывет и качается подо мною, но я все-таки добралась до порога и выползла на веранду. Прохладный ночной воздух отлично освежал после духоты помещения. Я поскользнулась на ступеньках. Квиб бросилась было, чтоб поддержать меня, но тут же отступила назад.
— Прости, Возлюбленная, мой порыв.
— Конечно, Дорогая, все в порядке.
— Спокойной ночи вам обоим. И желаю удачи, — крикнул Торговец Хокинс.
— Спасибо.
— Спокойной ночи.
И мы пошли дальше, через холмы, а затем снова куда-то вниз. Через некоторое время я почувствовала запах сырости, и мы вышли через Лес к ручью. Луны уже сходили с небосклона, на котором мерцали мириады звезд. Меньшая луна, когда я поглядела на нее, вдруг раздвоилась, и я поняла, что это, вероятно, следствие выпитого в таком количестве согревающего напитка. Когда я опустила глаза, то заметила, что Квиб стоит совсем рядом и пристально меня разглядывает.
— Давай-ка здесь немного отдохнем, — сказала я. — Мне это место нравится. — Я указала на полянку под небольшим деревцем.
— А я тогда вон там присяду, — сказала Квиб, отходя на противоположный конец полянки, к огромному валуну.
— Меня тоска по Руби-Стоуну снедает, — сказала я.
— Я тоже по нему грущу, Любовь моя.
— Как я мечтаю выносить то семя, которым он меня одарит!
— И я хочу того же, моя Радость!
— Но что это за шум?
— Какой? Я ничего не слышу.
Я прислушалась, но странные звуки больше не повторились.
— Я слышала, что те, кто покрупнее — как я, пожалуй, — способны больше выпить того напитка, и он им не во вред, — задумчиво проговорила Квиб, кивая головой и глядя во тьму.
— Мне тоже довелось об этом слышать. Тебе подходит это место, Дорогая?
Квиб встала.
— Как было б глупо, Дорогая, сказать, что нет. Пусть наши души вечно пребывают в мире.
Я продолжала сидеть, как сидела.
— А разве может быть иначе, о моя Квиб?
Я нащупала свои палки с когтями, напоминающие пряжку на поясе.
— Поистине ты сама доброта и нежность… — начала Квиб…
…И бросилась на меня, широко раскрыв жвала, стремясь нанести смертельный укус.
Я ударила ее в грудь палкой с когтями и откатилась в сторону. Тут же вскочив, я распорола второй палкой ее огромный фасетчатый глаз, в котором отражались, сверкая, луны и звезды. Квиб засвистела от боли и отпрянула назад. Я снова подняла обе палки и со всей силой нанесла новый удар, глубоко вонзив когти над спинной пластиной ее хитинового панциря, чуть ниже ее милой, такой дорогой мне головки. Она засвистела еще громче и упала на спину, увлекая мое оружие за собой. Я почуяла запах соков ее тела и запах ее страха…
И всей своей тяжестью обрушилась на нее, широко разинув жвала и вцепившись ей в голову. Квиб еще несколько мгновений сопротивлялась, потом застыла без движения.
— Нежна будь с Руби-Стоуном, — прошептала она мне. — Ведь он так мил, так хрупок, наш супруг…
— Спокойна будь, Любимая моя, — отвечала я, нанося ей последний укус…
Я лежала поверх ее тела, затвердевшего и безжизненного, укрывая его своими теплыми подкрылками.
— Прощай, Лесная жница! Прощай, Любовь моя… — шептала я.
Потом поднялась и разгрызла своими жвалами ее хитиновый панцирь. Она была такая нежная внутри! Мне нужно было всю ее поглотить и отнести назад, в наше Жилище, к нашему Руби-Стоуну. И я начала Пиршество Любви.
Давно уже наступил полдень, когда я до блеска вычистила панцирь Квиб и вновь собрала его воедино, скрепив тончайшими травяными волокнами. Когда я повесила Квиб на дерево, ее панцирь начал тоненько позвякивать при налетающем ветерке.
Откуда-то доносился еще какой-то странный звук, тяжелое, низкое, совершенно неестественное гудение. Нет! Не может быть! Не может быть, чтобы этот Землянин осмелился преследовать нас со своим ящиком для картинок!..
Я огляделась. Не его ли гигантская тень скрылась за холмом? Я еле двигалась. Нет, преследовать его я была не в состоянии. Да и не была ни в чем уверена, понимала, что никогда не смогу обрести такую уверенность… Сейчас, немедленно, мне нужен был лишь отдых, сон…
С огромным трудом, тяжело переваливаясь, я дотащилась до валуна и устроилась возле него. Из пустого панциря моей возлюбленной ветерок доносил до меня голос ее души…
… Усни, шептала она, усни. Я с тобой, навсегда с тобой. Ты заслужила это счастье и эту честь, Любовь моя. Да пребудут вечно в мире наши души…
Да, мне нужно, мне совершенно необходимо было уснуть, поспать, прежде чем пускаться в обратный путь. Руби, Руби-Стоун ждал меня, и камень огненного цвета сиял на его челе, восхитительный, ярко пылающий в солнечном свете, мягкий и нежный в сумерках… Твое ожидание, Руби-Стоун, почти подошло к концу. Еще совсем немного, и мы вернемся к тебе. Наш поединок любви завершен… Я уже вижу наше Жилище, наш Дом, ясно вижу его, ведь там мы оставили тебя… И скоро твой огненный камень засверкает рядом с нами. И мы отложим для тебя яички. Мы будем кормить тебя. Скоро, уже скоро… Кажется, опять там мелькнула эта тень, но мне не разглядеть… Впрочем, это тебя не касается. Я спрячу свой позор в себе — если это действительно такой уж позор — и никогда не расскажу о нем никому… Наша возлюбленная Квиб все еще поет там, на дереве, и во мне. Поет о мире; о мире, о нашем брачном слове, данном друг другу, об извечном возвращении Яйца. Что же еще может иметь значение, мой Дорогой? Разве что-то другое может сдержать полет или украсить чело одиночества, кроме сияющего рубина, символа нашей любви, Руби-Стоун?
Спи, усни, поет Квиб. Подожди еще немного, поет Квиб. Скоро, скоро, поет Квиб. И мы сыграем свои роли на всеобщем празднестве жизни, Любовь моя.
Получеловек
Он шел босой по пляжу. Над городом мерцало несколько ярких звезд. Вот-вот — и их смоет поток света, хлынувший с востока. Подняв камень, он швырнул его в сторону заходящего солнца. Камень, прежде чем исчезнуть совсем, подпрыгнет над волной, но он этого уже не увидит. Назад, в город, туда, где его ждет девушка.
Из-за линии горизонта, оставив в небе огненный след, взлетел космический аппарат. Казалось, он увлек за собой последние остатки ночной тьмы. Идущий жадно вдыхал запахи суши и океана. Славная планета, славный город — космодром, морской порт, и все это на тихих задворках Галактики. Хорошо отдыхать в таком заброшенном месте. Здесь гравитация — величина постоянная. Но отдых длится уже целых три месяца. Он потрогал шрам на лбу. Два предложения отвергнуто. Теперь еще вот это…
Свернув к дому, где жила Кэти, он увидел, что в ее квартире темно. Счастье, что и на этот раз она не догадывалась о его отсутствии. Протиснулся в массивную входную дверь, которую так и не починили с тех пор, как две, нет, три ночи назад он вышиб ее во время пожара. Вверх по лестнице… Потом дверь квартиры, ее нужно открыть совершенно бесшумно. Кэти зашевелилась, когда он уже готовил на кухне завтрак.
— Джек?
— Я. Доброе утро.
— Вернулся.
— Да.
Он открыл дверь в спальню. Она лежала в кровати и улыбалась ему.
— Придумала, с чего начать день.
Он сел на край кровати. Обнял девушку, мгновенно ощутив волнующее прикосновение теплой и нежной плоти.
— На тебе слишком много одежды, — сказала она, расстегивая его рубашку.
Высвободив руки из рукавов, он швырнул рубашку на пол. Снял брюки. Снова привлек ее к себе.
— Дальше, — попросила она, скользя взглядом по едва заметному шраму, сбегавшему вдоль носа на подбородок, шею, прочертившему правую сторону груди и живота. До самого паха. — Ну же.
— Несколько дней назад ты об этом даже не догадывалась.
Легко коснувшись губами, она поцеловала его в щеку.
— Ты почти целых три месяца и не подозревала о…
— Пожалуйста, сними это.
Он вздохнул, улыбнулся одной стороной губ и встал.
— Хорошо.
Подняв руки, сначала взял себя за длинные черные волосы, потом провел пальцами по пробору. Волосы, слегка потрескивая, отделились от черепа и остались в руке. Он бросил их поверх валявшейся на полу рубашки.
Правая сторона головы оказалась абсолютно голой, на левой начинали пробиваться черные волосы. Строго посередине черепа проходил тот самый едва заметный шрам.
Он приложил к макушке кончики пальцев, правой рукой сделал движение в сторону и вниз. Синтетическая подкладка живой плоти отделилась от электростатических креплений, и лицо открылось по вертикали вдоль линии шрама. Он потянул ее, обнажая плечо и всю руку до запястья. Словно это была не плоть, а тугая перчатка.
Точно так же, чуть слышно чмокнув, обнажились пальцы. Потом он отделил плоть от правого бока, бедра, ягодицы и снова присел на край кровати. Оголил ляжку, колено, икру, пятку. С пальцами на ноге поступил точно так же, как и на руке, высвобождая каждый отдельно. Наконец вся перчатка, имитирующая плоть, оказалась у него на коленях, и он положил ее поверх одежды.
Теперь, встав с кровати, он повернулся к Кэти, которая все это время не спускала с него глаз. На его губах была все та же полуулыбка. Правая сторона тела оказалась сделанной из темного металла и пластика — механизм с отверстиями и выпуклостями различной формы. Одни из них блестели, другие были тусклыми.
— Наполовину машина, — сказала Кэти, когда он к ней приблизился. — Теперь я знаю, что имел в виду тот мужчина в кафе, назвавший тебя получеловеком.
— Ему повезло, что со мной была ты. Кое-где к таким, как я, относятся враждебно.
— Ты красивый.
— Я знал девушку, у которой почти все тело представляло собой протез. Она просила, чтобы я никогда не снимал с себя перчатку. Ее возбуждала только живая плоть.
— Как называется такая операция?
— Латеральная хемикорпоректомия.
— А тебя можно починить? — помолчав, спросила она.
Он рассмеялся:
— Это совсем не сложно. Мои гены разложат на молекулы и вырастят то, что мне нужно. Для этого даже можно использовать кусочки моей плоти. Или же мне удалят остатки тканей и все тело сделают из биомеханических заменителей. Но мне нужны кишки, легкие и все остальное. Чтобы чувствовать себя человеком, я должен есть пищу, дышать, любить женщин.
Кэти провела ладонями по его ягодицам — металлической и той, что из плоти.
Когда все было кончено, спросила:
— С тобой произошел несчастный случай? Какой?
— Несчастный случай? Ничего подобного. Я отвалил за эту операцию кучу денег. И благодаря ей смог стать пилотом особого космического аппарата. Я киборг, способный напрямую соединяться с любой системой своего корабля.
Он встал с кровати, подошел к шкафу, вынул из него сумку, сдернул с вешалки одежду и запихнул ее в сумку. Потом направился к комоду, выдвинул ящик и переложил в сумку все его содержимое.
— Покидаешь меня?
— Да.
— Почему?
Он обошел вокруг кровати, поднял с пола плоть-перчатку, парик, свернул и засунул в сумку.
— Совсем не по той причине, которая, вероятно, пришла тебе в голову. Я сам только что все понял.
Она села в кровати.
— Ты разочаровался во мне из-за того, что я, узнав твой секрет, полюбила тебя еще больше. Тебе кажется, будто в этом присутствует какая-то патология и…
— Вовсе нет, — сказал он, надевая рубашку. — Еще вчера я бы вполне мог воспользоваться этим предлогом, чтобы покинуть твой дом со скандалом. Но сегодня я хочу быть честным с собой и справедливым к тебе. Вовсе нет.
Он надел брюки.
— Тогда почему?
— Потому что мной, как говорится, овладела жажда странствий. Я слишком долго просидел на дне гравитационного колодца. Такой уж у меня характер — не могу сидеть на одном месте. Я понял это, когда почувствовал, что ищу предлог расстаться с тобой.
— Если хочешь, можешь не снимать свою перчатку. Для меня это не имеет никакого значения. Потому что я люблю тебя.
— Верю. И я тоже люблю тебя. Но дело не в наших отношениях. Все именно так, как я сказал. Больше ничего. И я вряд ли гожусь на что-то другое. Если ты на самом деле меня любишь, позволь уйти с миром.
Сборы были закончены.
— Пусть будет так, — Кэти встала с кровати и подошла к нему.
— Я ухожу.
— Иди.
Он вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь, спустился по лестнице и очутился на улице. Прохожие поглядывали на него с любопытством — в этом секторе Галактики пилоты-киборги встречаются нечасто. Но ему нет никакого дела до их взглядов. Вперед. Из платной кабины он соединился с судовой компанией и сказал, что берется доставить любой груз, находящийся на орбите. Добавил, что чем скорее состыкуют этот груз с его кораблем, тем лучше.
Контролер заверил его, что погрузка начнется немедленно и уже днем он сможет лететь. Он сказал, что скоро будет на космодроме, и прервал связь. Повернулся спиной к морю и через весь город пошел на запад.
Под ним была розово-голубая планета, над ним — черное небо с застывшим, как на фотоснимке, снегопадом из звезд. Простившись с пилотом челнока, он запер тамбур своего корабля. Очутившись на борту «Морганы», вздохнул и привел в действие свой механизм. Груз уже был на месте, компьютеры сообщили мозговому центру корабля информацию о курсе. Он повесил одежду в шкафчик, парик и плоть-перчатку засунул в ящики.
Пройдя в носовой отсек, шагнул в контрольную паутину, которая облепила его со всех сторон. Сверху спустился длинный темный агрегат и занял место справа. Он медленно поворачивался, вступая в контакт с разными частями правой стороны его тела.
— Хорошо, что ты вернулся. Как отдохнул, Джек?
— Замечательно. Просто замечательно.
— Познакомился с симпатичными девушками?
— Кое с кем.
— И вот ты снова здесь. Скучал?
— Ты же знаешь, что да. Что скажешь по поводу полета?
— Для нас — сущая ерунда. Я уже посмотрел программы курса.
— Пройдись по всем системам.
— Готово. Хочешь кофе?
— С удовольствием.
Слева спустился еще один агрегат, поменьше. До него легко могла дотянуться рука его живой половины.
Он открыл дверцу. На полочке стоял сосуд с темной жидкостью.
— Подгадал к твоему прибытию.
— Крепость — как я люблю. Я уж было забыл. Спасибо.
Через несколько часов они сошли с орбиты, и Джек отключил почти все системы левой части тела. Теперь он еще теснее сросся с кораблем и с бешеной скоростью усваивал информацию. Возросла способность контролировать не только происходящее по курсу корабля, но и за пределами Солнечной системы, причем гораздо четче и яснее, чем это доступно человеческому разуму. Реакция на происходившее была мгновенной.
— Хорошо, что мы снова вместе, Джек.
— Отлично.
«Моргана» крепко держала его в своих объятиях.