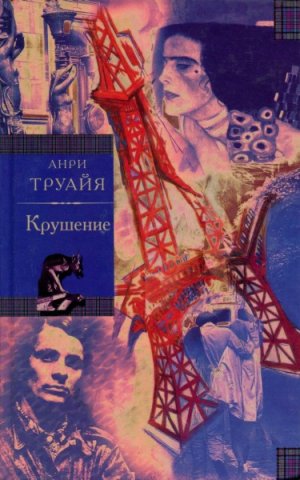
I
Двадцать минут одиннадцатого. С каждым днем он встает все позже! Как, вообще, можно спать под стук ее пишущей машинки? Конечно, ему ужасно тесно в этой крохотной передней, где нет даже окна. «Подергать его за ноги, или пусть спит дальше?» — колеблется Франсуаза, глядя на дверь в прихожую. Желтая краска в самом центре стены вздулась и начала осыпаться. Франсуаза пожалела, что, делая ремонт, не выбрала другой цвет: к примеру, бледно-голубой или миндально-зеленый. Ее пальцы вновь прикасаются к клавиатуре. «В половине одиннадцатого я его растолкаю!» Текст, который Франсуаза перепечатывает для фирмы «Топ-Копи», оказался, как обычно, таким нудным, что она больше не пытается вникнуть в его смысл — какие-то юридические выкладки, перемежающиеся колонками цифр. Она обещала все сдать до двенадцати. Александр сейчас в кафе — корпит над своими переводами, сидя за столиком. Впрочем, ему всегда нравилось писать среди гула голосов и мелькающего взад-вперед люда. Он ненавидит условности и старается не создавать себе комфортных условий для работы.
А погода все-таки улучшается. Солнечный луч проскользнул в комнату. Резной орнамент на двери засиял, словно облитый медом. Дверная ручка из белого фаянса поворачивается вокруг своей оси. На пороге возникает Николя — лицо заспанное, волосы темным вихром вздыблены на макушке, взгляд отсутствующий. На нем старая, с обтрепанными обшлагами пижама Александра. Расстегнутая куртка свободно болтается вокруг тела, пижамные штаны почти сползли с бедер. При каждом шаге Николя рискует потерять их окончательно. Случись это на самом деле, Франсуаза смутилась бы гораздо сильнее, чем он. Она подозревала, что он абсолютно лишен чувства стыда. Как и его отец. Но если у Александра презрение к предрассудкам было, как ей казалось, результатом долгих размышлений, то у Николя всем руководил инстинкт. Зевая, он прошествовал в совмещенную с кухней ванную, чтобы умыться.
— Ты знаешь, который теперь час? — крикнула Франсуаза.
— Нет.
— Половина одиннадцатого.
— Угу.
— Как только будешь готов, убери постель.
Николя молчит.
— Убери постель! — повторяет она.
— Ладно, понял.
— И давай-ка поторопись!
— Поторопись-поторопись, ты еще хуже матери.
Франсуаза усмехнулась при мысли, что он мог сравнить ее со своей матерью, ведь она всего на три года старше его. Водопроводные трубы загрохотали: Николя включил душ. Сквозь шум падающей воды ей было слышно, как он что-то напевает. Наконец Николя вышел: пижама местами прилипла к плохо вытертому телу, в волосах поблескивают капельки воды. Бросив на него быстрый взгляд, Франсуаза продолжает печатать.
— Ты сделаешь мне кофе? — спрашивает он.
— Не могу, я очень тороплюсь.
— От тебя дождешься.
Николя разворачивается и идет на кухню. Слышно, как он пытается одну за другой зажечь спички. Одна, две… десять. Франсуаза с трудом заставляет себя не вмешиваться. Звякает посуда.
— Франсуаза, где сахар?
— Ищи!
Хлопает дверца шкафчика. Николя нервничает.
— Вот черт! Никогда его нет на месте! Скажи, куда ты его задевала на этот раз? Ой, молоко убегает!
Тут уж Франсуаза вскакивает и опрометью бежит на кухню. Там все в порядке, он ее обманул. Наблюдая за ней, Николя хохочет, Франсуаза тоже начинает смеяться. Дав ему пинка, она забирает у него из рук кастрюлю, а затем наливает кофе в большую кружку. Николя пьет стоя. Ей хочется сделать ему бутерброд, но она сдерживает себя.
— Поможешь мне убрать постель? — с полным ртом бормочет Николя. В его глазах цвета жженого сахара читается просьба. Франсуаза сдается.
— Нет, так я никогда не закончу к двенадцати! — восклицает она.
Вместе они входят в прихожую. Рядом с лежащим прямо на полу матрасом валяется детектив. Чуть в стороне стоит полная окурков пепельница. Франсуаза начинает срывать с постели одеяло и простыни. Николя озадачен ее энергичными действиями.
— Ты прямо как ураган.
— Зато ты что-то уж больно спокоен. Надеюсь, ты будешь более бодрым, когда пойдешь устраиваться в магазин кожаных изделий.
— Какой магазин кожаных изделий?
— Тот, из объявления в газете.
— Ох уж эти мне газетные объявления! Я в них больше не верю — придешь, а место уже занято.
— Потому что ты слишком поздно приходишь.
В течение двух месяцев Франсуаза выискивала для него в газетах предложения о найме на работу. Николя же таскался на эти собеседования со все возрастающим чувством отвращения. Видно, нанимаясь на работу, он выглядел таким унылым, что ни у кого не возникало желания его взять.
Чтобы освободить проход, они поставили матрас вдоль стены, водрузили на него сложенные простыни и все это прикрыли одеялом. Затем Франсуаза опять села за машинку, а Николя пошел одеваться в прихожую.
— Тебе какая из моих теннисок больше нравится, голубая или красная? — спрашивает он.
— Красная, — откликается Франсуаза и делает опечатку.
Двадцать минут двенадцатого. Она закончила. Фирма «Топ-Копи» располагается на бульваре Бертье, надо ехать через весь Париж.
— На завтрак у нас ничего нет, — предупреждает Франсуаза. — Купи фаршированные помидоры и ножки в сухарях.
Николя скривился.
— Ты что, больше не любишь ножки в сухарях? — удивляется она.
— Люблю, когда они стоят на столе. Но если надо за ними идти…
— Тебе и так нечего делать, а ты еще пререкаешься. Да, не забудь еще хлеб. И накрой на стол.
Николя встал перед ней как истукан. На нем была голубая тенниска. Наверно, потому что она сказала ему, что ей больше нравится красная.
— Зачем мне бегать в поисках работы, когда ты можешь прямо сейчас нанять меня в домработницы. У тебя есть деньги?
Она открыла сумочку, достала десятифранковую купюру и тут же спохватилась:
— Вчера я тебе давала пять франков на хлеб. Сдачу ты мне не вернул.
— Точно. Совершенно забыл, подожди секунду.
Николя роется в карманах с честным и деланно озабоченным видом.
— Куда же я мог их задевать?.. — бормочет он. — А, вспомнил! Я купил сигареты.
— Ничего себе!
— Как только я начну зарабатывать на жизнь, я все тебе возмещу, — с пафосом произносит он.
— Нельзя так много курить!
— Почему? Посмотри на моего отца.
Франсуазе казалось, что в последнее время Николя доставляет особое удовольствие употреблять в разговоре слово «отец». Видимо, это было для него своего рода компенсацией. Она протянула ему десять франков, мельком глянула на себя в зеркало, открыла дверь и стремглав понеслась вниз по лестнице.
Директор «Топ-Копи» был с ней крайне обходителен и в обмен на напечатанное вручил рукопись, состоявшую из двухсот страниц. Она покинула офис очень довольная — сдав одну работу, можно было сразу же приниматься за следующую. За две недели она получит четыреста пятьдесят франков. Своего рода рекорд! Когда Франсуаза выходила из метро на станции «Бак», солнце ослепило ее. Было уже начало октября, а лето все еще продолжалось. На улице царило веселое оживление. Она шла прямиком в кафе «Обриан», в котором обосновался Александр. Ей нередко приходилось вот так заходить за ним в это кафе, поскольку он совершенно забывал о времени. Александр, как обычно, сидел за своим столиком в глубине зала. Перед ним стояла чашка кофе со сливками. Его бумаги были разложены и на приставном столике, и на диванчике. Русско-французский и франко-русский словарь служил ему подставкой для пачки сигарет, пепельницы и большой коробки хозяйственных спичек. Александр писал. Пепел с его сигареты падал на лацкан пиджака.
— А, это ты, — пробормотал он, заметив, что Франсуаза садится рядом с ним.
К их столику подошел официант, чтобы принять заказ.
— Нет, спасибо, ничего не надо. Мы сейчас уходим.
Официант отошел. Александр прочел несколько строк в лежавшей слева от него русской книжке и, немного подумав, начал быстро писать. На губах у него появилась заговорщическая улыбка. Франсуаза смотрела на эту сильную, с выступавшими венами руку, которая скользила по бумаге. Усердие Александра ее забавляло. То, что он был ее мужем, порой все еще казалось ей невероятным.
— Тебе много осталось? — поинтересовалась она.
— Нет-нет…
— У Николя встреча в половине третьего на рю де Пирамид. Может, хоть с этим магазином кожаных изделий что-нибудь выгорит.
— Как же, надейся!
Она взглянула на Александра с удивлением. У него на лице было то же выражение довольного жизнью лодыря, что и у его сына.
— Один шанс из тысячи, — продолжал Александр. — Лучше бы он от моего имени зашел к Брекошону.
— К кому?
— К Брекошону. Я тебе сто раз о нем говорил. У него книжный магазин на бульваре Сен-Жермен. Я тут недавно его встретил, и он дал мне понять, что у него могла бы найтись работа для Николя.
— И ты только сейчас мне об этом говоришь?! — воскликнула Франсуаза. — Но ведь это же так важно, Александр!
— О да, важно! Учитывая, сколько он там сможет заработать…
Александр расправил плечи и, положив руки по обеим сторонам своей рукописи, откинулся на спинку диванчика. Растрепанная бледная девица, с черными кругами вокруг глаз, виляя бедрами, пробиралась к ним между столиками.
— Добрый день, месье. Здравствуй, Франсуаза. Что поделываешь?
Это была Колетт Люше, студентка Школы восточных языков. Не очень хорошенькая, но с чувственным взглядом и большим красивым ртом, она всегда пользовалась успехом у ребят.
— Да ничего особенного, — ответила Франсуаза.
— А почему ты больше не ходишь на занятия?
— Много дел дома.
— Ну, понятно. Ты не видела Альбера?
— Нет.
Франсуаза не знала, о каком Альбере идет речь. Колетт Люше отошла от их столика. В своем облегающем ядовито-зеленом трикотажном платье она прохаживалась среди посетителей, пробегая ищущим взглядом по их лицам. Было ясно, что она ждет приглашения выпить стаканчик. Колетт покинула кафе с видом оскорбленного достоинства. Александр подозвал официанта и, отдавая ему свои бумаги и книги, попросил:
— Положи это там у себя около кассы, я сегодня еще вернусь.
Дома они увидели накрытый стол и ожидавшего их Николя, который, развалясь в кресле, держал перед глазами газету. На кухонном столе стояли заливные яйца, запеченный в тесте паштет и мясной салат в салатнице.
— Это что еще такое! — возмутилась Франсуаза.
— Я подумал, что это будет лучше, чем твои ножки в сухарях, — ответил Николя, не меняя позы.
— Возможно, но и в три раза дороже.
— А вот и нет. За все про все я им остался должен всего одиннадцать франков.
Александр прыснул со смеху, и Франсуаза бросила на него гневный взгляд.
— Сразу видно, что не вы занимаетесь хозяйством. Вот когда в конце месяца…
— Когда в конце месяца мы останемся без гроша, то будем есть дешевую требуху, — заявил Александр. — А пока что да здравствуют деликатесы! Этот запеченный паштет выглядит потрясающе!
Его гастрономические пристрастия сводились обычно к сытной и острой пище. Уже в который раз Франсуаза отметила про себя эту мужскую солидарность, союз отца и сына, который они заключали, чтобы подразнить ее. С одной стороны, она не хотела служить мишенью для их шуточек, а с другой — ей было лестно оказаться единственной женщиной в компании этих двух мужчин. Когда они, шумные, жующие, с блеском в глазах, полные невинного веселья, смотрели на нее каким-то особенным взглядом, она таяла от удовольствия, как в те времена, когда братья, бывало, подтрунивали над ней.
— И что здорово, — радовался Николя, — не надо ничего разогревать. Ешь как есть!
Поглощая закуски, оба мужчины издавали возгласы восхищения. На самом деле яйца были переварены, а паштет оказался слишком жирным.
— Так вы отобьете у меня охоту вам готовить, — заметила Франсуаза.
Покончив с салатом, отец и сын закурили. У Николя была та же манера сидеть, положив ногу на ногу, и выпускать дым изо рта, что и у Александра. Франсуаза ждала, что Александр заведет разговор о своем приятеле из книжного магазина. Вместо этого он с жаром говорил о ближайших скачках. Неужели он забыл, что договорился о месте для Николя? Она дала Александру возможность еще немного поразглагольствовать, потом встала, принесла вазу с фруктами и шепнула ему через стол фамилию Брекошона. Александр хлопнул себя по лбу.
— Ну конечно! У меня же для тебя есть кое-что интересное, — обратился он к сыну.
И Александр принялся описывать счастливый удел работника книжного магазина: чистое и достойное занятие; интеллектуальная среда; компетентный, корректный и снисходительный начальник.
— Там ты будешь чувствовать себя, как в кругу семьи. И кто знает, если ты понравишься Брекошону, то не исключено, что через несколько лет сможешь его заменить.
Николя слушал отца с недоверием. Ему было трудно представить, чтобы какая-то работа могла оказаться столь привлекательной.
— Во всяком случае, — подвел итог Александр, — уж если выбирать между кожгалантереей и книжным магазином, то тут нечего и думать. Сегодня же сходи к Брекошону. Я ему о тебе говорил.
— А сколько я буду там получать? — поинтересовался Николя.
— Откуда я могу знать, сам подумай. Наверно, поначалу не очень много…
— Хорошенькое дело!
— А что ты себе воображаешь, дружок?! — не выдержала Франсуаза. — С твоим-то образованием… у тебя нет даже свидетельства о профессиональной подготовке, ты не говоришь ни на одном иностранном языке. На что ты вообще рассчитываешь?
— Да ладно, Франсуаза, знаю я твои подходцы: сейчас начнешь рассказывать про хороших учеников и тех, кто не боится остаться на второй год. Но если стартовать с самого низа, то можно и увязнуть. Разве не так?
— Так, — отозвался Александр. — Но у Брекошона другое дело. Пройти у него практику, это все равно что напасть на золотую жилу. Во всяком случае, ты не можешь и дальше бить баклуши!
— Конечно, нет! — воскликнул Николя. — Я не хочу бездельничать. Поверь мне, все изменится. Ты увидишь…
У него на лице отразилось такое рвение, что волна радости охватила Франсуазу. Она мысленно присоединилась к его стремлению бороться и победить.
— А ты уверен, что Брекошон во второй половине дня будет на месте? — спросил Николя.
— Да, между тремя и пятью, — подтвердил Александр.
— Ну, хорошо, я схожу.
Его энтузиазм таял на глазах.
— Я могу остаться в этом? — спросил Николя, двумя пальцами оттягивая на груди тенниску.
— Почему бы и нет.
— Может, твой библиофил придерживается строгих правил в вопросах одежды.
— Надень лучше сорочку, — посоветовала Франсуаза.
— А она чистая?
— Я вчера ее постирала.
— Да пусть идет в тенниске, — воскликнул Александр. — Какая разница!
Николя встал из-за стола, придирчиво оглядел себя в висящем на стене зеркале и важно заметил:
— Пожалуй, пойду в тенниске.
Франсуаза принесла кофе. Мужчины, смакуя, выпили его маленькими глотками. Пора было идти.
На лестнице Николя спросил у Александра:
— Ты сходишь со мной к Брекошону?
— А ты что, маленький, сам не справишься?
— Справлюсь. Но что я ему скажу? Что меня прислал отец?
Александр окинул его быстрым оценивающим взглядом.
— Разумеется.
Александру вдруг показалось, что он как-то отяжелел. Как будто за то время, что они шли, он прибавил в весе. На мгновение ему стало грустно, но грусть тут же уступила место искрящемуся веселью. Он посмеялся над собой. Отец! Комедия продолжается. Однако маскарадный костюм трещит по всем швам, и дышать становится легче.
Они остановились у кафе «Обриан». Николя тоже хотелось войти.
— Я так ужасно хочу пить. Конечно, паштет был слишком соленый…
Александр всегда с интересом наблюдал за людьми, которые пытались прикрыть свою лень или малодушие целой лавиной оправданий. Он диву давался, с каким мальчишеским упорством Николя отстаивает свою праздность, и мог бы испытать к сыну чувство презрения, обладай тот хоть в малой мере теми блестящими способностями, которые все родители жаждут обнаружить в своем потомстве.
— Ладно, пойдем, — сказал он, хлопнув Николя по плечу.
Войдя, Александр испытал чувство мгновенного облегчения: его столик в глубине зала под зеркалом, приветливая и понимающая улыбка кассирши, уродливая бронзовая вешалка с гнутыми ножками и не слишком расторопный официант, протягивающий ему бумаги и книги.
— Вот, все в целости и сохранности. Что вам принести?
Они заказали по кофе и по коньяку. Александр взял рукопись, прочел последнюю переведенную фразу.
— А что, трудно делать переводы? — спросил Николя.
— Не слишком.
— Но за это мало платят?
— Мало — не то слово.
— Если бы платили больше, я бы тоже этим занялся.
— Тогда для начала выучи хоть какой-нибудь язык, — заметил Александр.
— Не велика наука!
— Ты прав, вот только времени на это нужно много.
— Точно. А я не люблю ни на чем зацикливаться. Мне надо, чтобы все крутилось-вертелось…
Прищелкнув несколько раз пальцами в быстром темпе, Николя склонился над лежавшей перед ним страницей рукописи, прочел вполголоса: «Ветер бушевал с такой силой, что ветки дерева, словно заблудившийся путник, громко стучали в окно».
— Неплохо, — сказал он, выпрямляясь. — Кто это написал?
— Некий Валериан Быков, молодой советский писатель. Его совершенно не знают во Франции.
— А название?
— «Таяние снегов». Роман.
— Слушай, а сам-то ты взялся бы за роман?
— Не думаю.
— Ты пробовал?
— Да, марал бумагу в двадцать лет, но дело не пошло.
— Что, лень заела?
Николя прыснул, и в его юном смеющемся лице с ненасытным ртом, полном крепких зубов, в прищуренных от смеха глазах Александр увидел свое отражение. Казалось, что это смеется он сам. Недалеко от их столика какой-то белокурый юнец упражнялся на электрическом бильярде. Каждый раз, когда шарик задевал контакт, механизм чихал. Николя взял рюмку и, наслаждаясь терпким вкусом напитка, погрузился в свои мысли. Потом спросил:
— А знаешь, как моя мать называла тебя?
— Нет.
— Она всегда начинала со слов: «Твой негодяй отец…»!
Александр кивнул:
— Она была права. Всегда кто-то считает тебя негодяем. Вообще, жить — это мучить других. Или же надо полностью отказаться от своего собственного «я».
Это был их первый серьезный разговор. Поставив локти на стол, Николя с жадностью слушал Александра. Казалось, что он не может утолить жажду после долгого пути.
— Как это верно, то, что ты говоришь, — наконец пробормотал он. — Но тогда я еще над этим не задумывался. Надо же, ведь я тебя ненавидел! Ребенком я мечтал разыскать тебя, чтобы свести счеты.
— Ты начитался дешевых романов.
— Мать их обожала.
— Ты любил ее?
— Само собой. Только она постоянно жаловалась. Уставала на работе, болела, вот и возненавидела всех и вся.
— Значит, после ее смерти ты приехал ко мне «сводить счеты»?
— Нет. Мне хотелось пожить в Париже. Я предполагал остановиться у тебя на недельку-другую. Теперь вроде пришло время возвращаться, а я все еще здесь. И мне не хочется уезжать!
Александр был раздосадован охватившей его нежностью — она его размягчала. Он тянулся к добру так же, как растение тянется к солнцу.
— Ясно, что не хочется, — ответил он, — но ты усложняешь мне жизнь.
— Ты говоришь так из-за квартиры?
— И из-за этого тоже.
— Да, действительно тесновато. И у Франсуазы прибавилось работы. Она у тебя высший класс. Как только я начну зарабатывать, буду вам помогать. Мы сможем переехать. У меня в комнате будет книжный шкаф, глобус, подсвеченный изнутри, а может, бар, замаскированный под книжную полку? Как тебе такая идея?
— Не в моем вкусе, — ответил Александр.
Юнец, стоявший у игрового автомата, закончил играть в бильярд, ударил кулаком по ящику для монет и, загребая ногами, поплелся к выходу.
— Я бы тоже хотел разок сыграть. Ты не дашь мне немного мелочи?
Александр протянул ему несколько монет.
— А ты? — начал Николя, переминаясь с ноги на ногу, — можно сыграть вдвоем.
Александр поднялся и подошел к автомату.
— А как же Брекошон?
— Да, верно, Брекошон, — прошептал Николя и сделал первый удар.
Автомат затренькал, замигал красными, желтыми и зелеными лампочками. На стеклянной панели была изображена картинка — девушка в мини-юбке вскидывала ногу перед огромной улиткой.
— Сто двадцать! — взвыл Николя.
И тут же добавил:
— Тебе не кажется, что сегодня уже поздновато идти к Брекошону? Схожу-ка я лучше завтра.
Александр был очень доволен.
— Хорошо, завтра, — согласился он, — но чтобы уж точно.
— Теперь твоя очередь.
Александр потянул ручку автомата на себя, потом отпустил ее. Шарик запрыгал по какому-то фантастическому пейзажу, испещренному нелепыми разноцветными грибами, металлическими колокольчиками и золотыми гвоздиками.
II
Филипп прохаживался из угла в угол по ярко освещенной гостиной. Каждый раз, поравнявшись с закрытой дверью, за которой переодевалась Кароль, он бросал на дверь быстрый взгляд. До последней минуты его не оставляли опасения, что Кароль совсем разболеется и не сможет выйти к обеду. Однако она не захотела переносить встречу с «детьми».
Раздался звонок у входной двери. Это они. Поразительно — даже раньше времени. Филипп, к своему удивлению, почувствовал, что рад их приходу. В зловещей пустоте существования после разрыва с Кароль дети могли стать связующим звеном. Сами того не желая, они вынуждали Филиппа разыгрывать перед ними картину полного взаимопонимания с Кароль, изображать то согласие, о котором он все еще хранил нежные воспоминания. По крайней мере, в их присутствии ему верилось, что у него есть жена.
Даниэль, Дани, Александр и Франсуаза с шумом ввалились в квартиру.
— Мы встретились внизу, — объяснил Александр.
Филипп никак не мог свыкнуться с мыслью, что этот человек с нервным лицом, более близкий по возрасту и жизненному опыту к нему, чем к его дочери, действительно его зять. Верно ли, что, женившись на молоденькой, можно помолодеть самому? В свое время, беря в жены Кароль, Филипп в это верил. Теперь-то он понял, что трюк не удался. Нельзя безнаказанно жульничать с возрастом. Рано или поздно прожитые годы обрушатся на тебя тяжелым грузом. Филипп поймал себя на том, что ненавидит Александра за то, что тот обманом проник в мир молодежи. Живот Даниэлы выпирал все сильнее. Она гордо выставляла его вперед, и это казалось Филиппу смешным. На каком она месяце? На шестом или на седьмом?.. Над свободным красновато-коричневым платьем высилась смешливая детская головка. «Младенец в младенце», — говорила Кароль. Даниэль с довольным и гордым видом по-хозяйски опекал жену. Филипп сухо приложился к щеке сияющей юной матери. Потом повернулся к Франсуазе. Отсутствие Жан-Марка нарушало семейную идиллию. Всякий раз, встречаясь с дочерью и младшим сыном, Филипп испытывал не дававшее ему покоя чувство потери. Но появись вдруг Жан-Марк перед отцом собственной персоной, он в гневе выставил бы его за дверь.
— Кароль ужасно простужена. Она с трудом может открыть глаза, — предупредил Филипп.
— Правда? Как жалко! Но мы хоть сможем ее повидать?
Кто это произнес? Впрочем, не имеет значения. Все расселись, Аньес принесла аперитив. Разговор перескакивал с одного на другое. И тут в гостиную вошла Кароль. Бледная, слабая, невесомая, в затемненных очках, она была одета в черное платье, которое делало ее еще более стройной. У покрасневших ноздрей она держала малюсенький платочек.
— Только не надо меня целовать, — сказала она, умело понизив голос. — Я стала прибежищем всех возможных микробов. Особенно вам, Дани, надо поберечься.
Филипп умилился, видя, что она, несмотря на недомогание, приветлива с детьми. Тем более с чужими. Временами, наблюдая, как Кароль изливает свое очарование на окружающих, Филипп сомневался в ее ненависти к нему. И не терял надежды снова ее завоевать. Когда-то Филипп так часто ей изменял! Из любопытства, из любви к приключениям. Сейчас он бы все отдал за то, чтобы Кароль опять принадлежала ему. Перед этой юной публикой Кароль улыбалась Филиппу, ласково говорила с ним. А он, подыгрывая ей, словно переносился на пять лет назад, к началу их супружества. У него появилось странное ощущение праздника. За столом Филипп сидел напротив Кароль. Ее хорошее настроение передалось и ему. Желая блеснуть перед ней, он принялся с юмором рассказывать о деловой встрече с прижимистыми американскими клиентами у себя в конторе, очень натурально передразнивал их акцент. Кароль сняла очки. По ее глазам Филипп догадался, что она довольна, и отнес это на свой счет. Аньес подала обед. Утка с оливками благоухала. Монтраше 1959 года оказалось восхитительным. Да, вечер удался на славу. Даже Даниэла с ее лучистой улыбкой и жизнеутверждающим животом, на которую Филипп избегал смотреть с тех пор, как ее фигуру обезобразила беременность, даже она не так раздражала его, как обычно, когда его взгляд случайно натыкался на нее. Пользуясь паузой в разговоре, Даниэль принялся расхваливать своего преподавателя философии, некоего Коллере-Дюбруссара. В первый же день учебного года этот неординарный человек покорил учеников оригинальностью своих воззрений и дружелюбием, с каким их излагал.
— Понимаешь, — продолжал Даниэль, обращаясь к отцу, — в прошлом году в выпускном классе у нас уже было немножко философии. Но что там мог преподать наш старикан Потье?! Просто смех! Здорово, что нам повторяют курс заново. По крайней мере, теперь-то я отлично подковался. Я считаю так: кто не проходил философии, тот будет вечно хромать в жизни.
— У меня не было философии, но что-то я не чувствую себя хромым, — рассмеялся Филипп.
— Ну конечно, папа! Но все-таки, когда знаешь философию, тебе по-другому видится опыт, накопленный человечеством. Ты переживаешь его более осознанно и глубоко.
Даниэль говорил с таким пылом, что Дани млела от восторга, забывая о еде.
— Одно плохо, — вмешался Александр, — у каждого философа существует своя концепция. Ты же не станешь разрываться между сотней теорий, когда придет время применить к себе, например, опыт отцовства?
— Я выберу ту, которая, по моему мнению, будет больше всего соответствовать реальной жизни.
— Или, в крайнем случае, создашь свою собственную.
— Может, и так.
Александр улыбнулся:
— Хотел бы я быть в твоем возрасте.
— Почему?
— Потому что это возраст слепой веры.
— А у тебя сейчас возраст постоянных сомнений?
— Скажем, умеренного скептицизма. А вы как считаете, Филипп?
Филипп вздрогнул от неожиданности — он был поглощен созерцанием Кароль. Она попросила принести ей горячего бульона с хрустящими хлебцами.
— Безусловно, — ответил Филипп несколько невпопад, — скептицизм является неотъемлемой частью правосудия. Быть непредвзятым — значит, в какой-то степени быть скептиком.
— Зря ты не ешь утку, Кароль, — сказал Даниэль, — она просто потрясающая!
При этих словах хлопотавшая вокруг стола Аньес надулась от гордости.
— Да-да, — подхватил Филипп, — тебе надо немного поесть.
— Ну, нет! Это свыше моих сил, я даже дышать не могу, — возразила Кароль и высморкалась.
— Вот увидишь, — продолжал Александр, обращаясь к Даниэлю, — стоит тебе стать отцом, и твои взгляды изменятся.
— Взгляды на что?
— Да на философию! Ребенок опустит вас с небес на грешную землю. Когда надо будет зарабатывать на кусок хлеба, все забудешь — и чудесные теории, и Спинозу.
— А вы откуда это знаете? — с лукавым кокетством поинтересовалась Кароль.
Окинув присутствующих веселым взглядом, Александр ответил:
— Мой сын доставляет мне много хлопот.
Возникла неловкая пауза. Лицо Франсуазы побагровело.
— У вас есть сын?! — воскликнула пораженная Кароль.
Она в упор смотрела на Александра, прижимая к носу смятый платок. Поверх белого комочка были видны ее серые, подведенные карандашом глаза, выражавшие крайнее изумление. Филиппу стало ясно, что из всех присутствующих это явилось новостью только для него и жены. Не было сомнения, что Франсуаза уже давно ввела в курс дела брата и Даниэлу.
— У вас есть сын? — повторила Кароль. — Сколько же ему лет?
— Шестнадцать с половиной, — ответил Александр.
— Так много? Значит, он родился, когда вам было…
— Семнадцать.
Переведя дыхание, Кароль изобразила на лице светскую улыбку и пробормотала:
— Прелестно! И как его зовут?
— Николя.
— Где же он живет?
— У нас, — ответила Франсуаза с вызовом.
Со смешанным ощущением сочувствия и гнева Филипп перевел взгляд с дочери на зятя. В какую переделку она попала! А ведь Александр обязан был предупредить ее еще до свадьбы. Вероятно, он так и сделал, но она предпочла хранить все в тайне. Как могла она, его дочь, оказаться в столь сомнительной ситуации, согласившись взвалить на себя это бремя? Похоже, Франсуаза каким-то непостижимым образом притягивает к себе всевозможные неудачи, и ее жизнь теперь неразрывно связана с моральной и материальной нищетой. Впрочем, если ей нравится возиться с незаконнорожденными детьми, которых ее муж, должно быть, наплодил немало, то это ее право. Главное — как отреагирует Кароль. Хотя она-то, кажется, в восторге от своего открытия.
— Надо непременно привести его к нам, — продолжала Кароль.
— Да-да, — неопределенно отозвался Александр.
— Он похож на вас?
— Немного.
— Как это немного?! — возмутилась Франсуаза. — Николя — просто вылитый ты!
— А где его мать? — слегка прищурив глаза, поинтересовалась Кароль.
Франсуаза с достоинством ответила:
— Она умерла.
— Вообще-то, он малый что надо! — вмешался в разговор Даниэль: — Я виделся с ним всего два раза, но сразу почувствовал, что мы с ним сойдемся. Ведь очень важно, когда между людьми с первой встречи возникает контакт. И Жан-Марку он тоже понравился. А Жан-Марк у нас, вы знаете, совсем не прост в общении.
Филипп напрягся. Чего это ради Даниэль на каждом шагу поминает Жан-Марка? Странная причуда. А может, он делает это с умыслом? Неужели семейство уже в курсе, и за это надо благодарить Мадлен? Посмотрев на Даниэля и Дани, Филипп еще раз все взвесил. Нет, конечно, они пока ничего не знают. Их оставили в стороне от событий, ведь они еще слишком молоды, бедняжки. Где уж им понять! Пусть пребывают в мечтах и покое. После сыра Аньес сменила тарелки и подала десерт — мороженое с ананасами. Среди всеобщего оживления Кароль жалобно вздохнула:
— Ну как, вкусно? У меня нёбо словно деревянное, я ничего не ощущаю.
Она поднялась и вышла. Через минуту она вернулась в столовую, разворачивая на ходу большой носовой платок Филиппа. Ее лицо полностью исчезло в этом куске материи. Все застолье покатилось со смеху. Кароль возмутилась:
— Хотела бы я посмотреть на вас в такой ситуации!
Нос у нее был заложен, горло опухло, поэтому «т» она произносила, как «д». Даниэль передразнил ее: «Ходела бы я позмодредь на вас в дакой сидуации!»
Кароль чихнула. Филиппу захотелось сжать жену в объятиях, причинить ей боль. Почему даже когда Кароль болеет, она не может вести себя, как все? Ее насморк был необычайным событием, представлением, очередным поводом для того, чтобы соблазнять и удивлять. Жар разрумянил ей щеки. Губы были приоткрыты, она тяжело дышала. Без сомнения, присутствие за столом и участие в разговоре стоили ей немалых сил. Когда все опять перешли в гостиную выпить кофе, Кароль, почувствовав внезапную слабость, опустилась на ручку кресла и простонала:
— Нет, я так больше не могу, мне лучше лечь. Только вы обо мне не беспокойтесь и, пожалуйста, побудьте еще.
Она вновь надела дымчатые очки, обвела всех страдальческим взглядом и, помахав на прощание изящными и гибкими наманикюренными пальчиками, скрылась за дверью своей комнаты. В одно мгновение свет померк для Филиппа. Сын и дочь, с которыми он только что так радостно общался, тотчас превратились для него в докучливых посетителей. Слушая их, Филипп не мог скрыть охватившей его тоски. Как ему хотелось, чтобы они поскорее ушли! Казалось, его взгляд выпроваживает их за дверь. Франсуаза, заметив его досаду, проговорила:
— Уже поздно, папа устал. Я думаю, нам пора…
На рю Бонапарт Александр, взяв под руку с одной стороны Франсуазу, а с другой — Дани, заявил:
— Ну что, дети мои, я думаю, что для сна еще слишком рано. Предлагаю закончить наш вечер в домашней обстановке. Идет?
Даниэль и Дани с радостью поддержали идею. Франсуза же, припомнив, что у нее, кроме вина, ничего нет, огорчилась. Было уже темно, пространство между домами заполняла холодная и влажная мгла. Свет уличных фонарей создавал иллюзию расплывчатых космических туманностей. Кое-где в витринах антикварных лавок сквозь запотевшие стекла, словно призраки былых времен, проступали силуэты старинной мебели.
— А Кароль здорово простужена! — заметил Даниэль.
— Да, — откликнулся Александр, — и твой отец этим очень взволнован.
— Положим, он взволнован не насморком Кароль, — тихо сказала Франсуаза, — а твоими откровениями насчет Николя.
— Хочешь сказать, мне не стоило распространяться на эту тему?
— Вот именно…
— Но согласись, Франсуаза, мы не можем всю жизнь скрывать, что он существует и что мы взяли его к себе. Это же не смертный грех.
— Папа не из тех, кто способен такое понять и войти в наше положение.
— А по-моему, он-то как раз из тех! К тому же ему абсолютно до лампочки, что у нас делается. Он погряз в своих личных делишках. Его волнует только Кароль и никто, кроме нее.
— Ты прав, — согласилась Франсуаза, — и это очень печально.
— Очень печально то, — прервал ее Даниэль, — что папа поругался с Жан-Марком. Как ты думаешь, это надолго?
— Откуда я могу знать.
— К сожалению, с ними обоими так трудно, — вздохнул Даниэль. — Я уже сто раз пытался выяснить, что у них там произошло! Как только я при отце произношу имя Жан-Марка, у него делается каменная физиономия. Несколько раз я спрашивал у Жан-Марка, почему он не показывает носа к родителям, но он либо замыкается в себе, либо увиливает от ответа. Может, хоть у тебя получится, Франсуаза?
— Вряд ли.
— Ну подумай, ведь должна же быть какая-то причина. Тебе ничего не приходит в голову?
Франсуаза отрицательно помотала головой. Александр, взглянув на нее, заметил с иронией:
— Опять тайны! Нельзя говорить твоему отцу, что Николя живет у нас. Нельзя, чтобы Даниэль узнал, что Жан-Марк навлек на себя гнев Филиппа из-за его истории с Кароль. И чего ты добьешься своими школьными секретами?
Даниэль замер.
— У Жан-Марка что-то было с Кароль?
Франсуаза, лишь на мгновение растерявшись от того, что сказал Александр, быстро, не давая ему продолжить, ответила:
— Да, Кароль испробовала на нем свои волшебные чары, и Жан-Марк влюбился. Ну а папа узнал.
Столь подретушированная версия событий вызвала улыбку на губах Александра. А невинная Даниэла просто оцепенела от услышанного.
— Нет, этого не может быть, — прошептала она. — Какой ужас!
После некоторого размышления Даниэль с важным выражением на лице произнес:
— Теперь-то я понимаю, почему Жан-Марк оказался в таком отчаянном положении. По Фрейду, существует целая куча типов, которые испытывают половое влечение к своим матерям. Что же тогда говорить о мачехе?! Из этого следует, что отец определенно перебарщивает. А Кароль — просто шлюха, раз она играет в такие игры. Она не отдает себе отчета, что человек с таким либидо в башке может запросто сдвинуться.
Окинув присутствующих пламенным взором философа, Даниэль продолжил путь.
— Только не проговорись Жан-Марку, что ты в курсе, — посоветовала Франсуаза.
— За кого ты меня принимаешь? Я уж дождусь, когда он мне сам расскажет.
— Он тебе не расскажет.
— Наверно, ты права, знаю я эту породу. Он из тех, кто любит разбирать по косточкам свое второе «я» втихаря.
Даниэла высвободила руку из-под локтя Александра и прошла немного вперед. С прямой спиной и гордо выставленным животом, она переваливалась из стороны в сторону, как уточка. Даниэль догнал ее и обнял. Дани подняла к нему свое детское личико, и они обменялись легким, как дуновение, поцелуем.
Александр открыл дверь и щелкнул выключателем. Резкий свет от лампы без абажура упал на лежащий посреди прихожей матрас. Николя приподнялся на локтях. Ослепленный, он ошалело смотрел на вошедших. В ожидании отца и Франсуазы он лег, не раздеваясь.
— Вот это мило, ты уже спишь? — воскликнул Александр. — Еще нет одиннадцати!
— Побывал бы ты в моей шкуре, — недовольно заметил Николя: — Я еле приползаю домой.
Франсуазу позабавило его ворчание. Вот уже десять дней, как Николя работал у Брекошона и считал весь мир в ответе за свою хроническую усталость.
Заметив Даниэля и Дани, Николя все же удостоил их улыбкой и невнятным приветствием. При этом он и не подумал двинуться с места. Франсуаза откинула край постели, и Николя завалился набок. Только тогда он встал. Франсуаза, Дани, Даниэль и Александр по очереди перешагнули через край матраса и прошли в комнату. Николя, почесывая затылок, поплелся за ними.
— Прости, мы тебя разбудили, — проговорил Даниэль.
— Да нет, — зевая, возразил Николя, — я еще не успел вырубиться. Так, просто немного задремал.
Все расселись за столом. Франсуаза достала из шкафчика стаканы, печенье и бутылку вина.
— Ну, давай, Николя, расскажи, что ты делаешь там у себя на работе, — попросил Даниэль.
Попытавшись скрыть горькую усмешку, Николя начал повествование о своих злоключениях. Конечно, он занят в магазине только вторую половину дня, но достается ему самая тяжелая и унизительная работа. Кто открывает пачки с книгами? Николя. Кто расставляет тома и вытирает пыль со стеллажей? Опять-таки он. Кому надо спускаться на склад, чтобы, как говорится, «обновить ассортимент», а потом тащить наверх тяжелые кипы? Ясное дело — ему. Коллеги тоже так себе. Кассирша, мадам Бук, женщина невероятных размеров с глазами навыкате, у которой голова полна цифр. Продавщица, мадемуазель Лафоллик, старая дева, худая, как копченая селедка, напичканная литературой и консультирующая покупателей с плотоядным выражением на лице. Она называет Николя «малышом» даже при посторонних и, желая взрастить из него образцового работника книжной торговли, жарким шепотом наставляет по вопросам коммерции. А сам Брекошон… Залетает в магазин минут на десять, охваченный внезапным порывом, начинает переустраивать витрины или раздает указания по телефону касательно неходовых подарочных изданий. Николя теряется в догадках, каким образом предприятие, управляемое вопреки здравому смыслу, может себя окупать. Будь он на месте Брекошона, он повел бы дело совершенно иначе. А самое возмутительное, продолжал Николя свой горестный рассказ, — что под предлогом его ученичества ему платят всего четыреста франков в месяц.
— А что, в суконном магазине в Тулузе ты получал намного больше? — поинтересовался Александр.
— Конечно!
— Потому что работал целый день.
— Ну, да.
— Значит, и здесь все в твоих руках, решай.
Коварное предложение не выбило Николя из колеи. Его взгляд, устремленный в пространство, казалось, обличал общество, ставящее ежемесячную зарплату в зависимость от вложенного труда.
— Ох, чувствую, что в одно прекрасное утро пошлю я все это куда подальше, — покачивая головой, процедил он сквозь зубы.
Эта так часто повторявшаяся им угроза ни на кого не произвела впечатления. Однако Николя она принесла видимое облегчение.
— Ты поужинал? — спросила Франсуаза.
— Да, — ответил Николя, — и даже посуду помыл.
Его подвиг был встречен возгласом восхищения. Николя расцвел. По его виду было ясно, что он не без удовольствия воспринимает тот факт, что его пресловутая лень уже вошла в легенду. Откинувшись на спинку стула, Николя светским тоном поинтересовался:
— Ну, и как там все прошло у твоего отца?
— Очень хорошо — ответила Франсуаза. — Много говорили о тебе.
— Правда?
— Да. Ты даже приглашен на следующий раз.
Николя и бровью не повел, вероятно, взяв за правило ничему не удивляться.
— Буду счастлив познакомиться с твоим отцом и мачехой, — важно и в то же время с иронией произнес он.
Франсуазу восхищала эта смесь сарказма и достоинства. Откуда у него такая непринужденная манера держаться? Уж, конечно, не из Тулузы, где его воспитывала мать. До знакомства с Николя Франсуазе никогда и в голову бы не пришло, что даже в красной тенниске и в вытянутых на коленях бежевых вельветовых брюках можно казаться элегантным. Николя пригубил вина, откусил кусочек печенья и, заглянув под стол, стал внимательно рассматривать ботинки Даниэля.
— Тебе что, нравятся узорчатые носы? — спросил он, выпрямляясь.
— Ну, не знаю, такие сейчас носят, — ответил Даниэль.
— Это уже вышло из моды, — категорично заявил Николя.
— Да?
— Да. Вот как только получу у Брекошона свои «бешеные» деньги, куплю себе настоящие английские сапоги с серебряными застежками.
После этой тирады Николя поднялся и включил проигрыватель. Волнующий женский голос, усиленный во множество раз, сотряс стены комнаты. Ритм был очень быстрый, певица как будто всхлипывала в такт гитаре.
— Откуда эта пластинка? — удивилась Франсуаза.
— Я взял ее у Брекошона, — объяснил Николя.
— То есть как это взял?
— Очень просто. Он потом вычтет из моей зарплаты. Правда, высший класс? Только вот проигрыватель у тебя — барахло. Ну, ничего, в следующем месяце я куплю получше.
— А какую машину ты выберешь? — насмешливо спросил Александр.
— Естественно, «феррари», — без тени улыбки ответил Николя, — спортивное купе красного цвета с пятью скоростями. Предельная скорость — 270 километров в час!
При этих словах Николя сделал быстрый поворот на месте. Все его тело задвигалось, словно под воздействием электрического тока. Ноги болтались, как на шарнирах, руки были раскинуты в стороны, живот ходил ходуном. Казалось, он придумывает танец прямо в эту минуту, на глазах у всех, и что вовсе не музыка диктует ему свой ритм, а он заставляет мелодию следовать за собой. Даниэлю тоже захотелось исполнить нечто подобное. Он вышел на середину комнаты и, не спуская глаз с ног Николя, начал неуклюже подпрыгивать. В отличие от своего взлохмаченного, хохочущего и вездесущего визави он выглядел угловатым и неловким. Дани тоже встала — мелодия ей очень нравилась, и она больше не могла противиться искушению. Мелкими осторожными шажками она переступала по комнате. Раскачиваясь из стороны в сторону на своих тонких ножках, с животом, похожим на бочонок, Даниэла ничуть не смущалась. «Она не понимает, что выглядит смешно, и в этом ее очарование», — подумала Франсуаза и ободряюще улыбнулась Дани. Пластинка кончилась. Николя поставил другую.
— Эта еще лучше! — объявил он и тут же опять принялся танцевать. Его неподвижный взгляд был устремлен вперед, рот приоткрыт.
— Покажи, как ты это делаешь, — попросила Дани. — Три шага влево, один назад?
— Точно, — подтвердил Николя, — потом прыжок на месте, и все сначала, но во вращении…
— А у меня получается? — поинтересовался Даниэль, красный от натуги.
Он очень старался, но выходило у него плохо.
— Смотри, не провались на нижний этаж! — смеясь, предупредил Николя.
Какое-то время Франсуаза наблюдала, как каждый из них исступленно беснуется в своем углу, а потом, отбросив сомнения, присоединилась к танцующим. Ноги сами вытолкнули ее на середину комнаты. Николя подал Франсуазе руку, чтобы ей было легче освоить движения.
Сидя со стаканом вина и отбивая пальцами такт по краю стола, Александр с удовольствием наблюдал за царившей вокруг веселой суматохой. Ему казалось, что он находится на школьном дворе во время переменки. Франсуаза и Николя принадлежали к одному поколению. Тесно прижавшись друг к другу, рука в руке, они легко выделывали ногами странные па. Их плечи сотрясались, головы ритмично раскачивались, а в глазах одинаково сверкали искорки радости. Александр сделал глоток вина, только теперь распробовав его терпкий вкус. Музыка, бестолковая и оглушительная, грохотала во всю мощь. Александра посетила нелепая мысль. А ведь настоящая-то пара — это не он и Франсуаза, а Франсуаза и Николя. Он представил себе, как они занимаются любовью. Тайком. А может, у него на глазах. Почему бы и нет? Эта воображаемая сцена придала особую остроту его чувствам. Подумать только, Филипп был взбешен, узнав, что Кароль наставляет ему рога с его собственным сыном. Вот идиот! На его месте Александр выжал бы из этой ситуации максимум удовольствия. Ведь для настоящего мужчины только это и имеет значение, остальное не в счет. Франсуаза, запыхавшись, рухнула на стул рядом с мужем, ее щеки пылали, прядь волос прилипла ко лбу. Александру показалось, что в ней появилось нечто такое, чего он раньше не замечал.
Монография о Второй мировой войне, которую Филипп поначалу взялся читать с большим интересом, вдруг в одночасье наскучила ему. Сидя на кровати и пробегая глазами страницы убористого текста, он размышлял о прошлом, о том, как быстро мирная жизнь восстала из руин. Живительная способность человечества зализывать свои душевные раны была сродни чуду. Целая пропасть пролегла между теми, кто пережил войну, и молодежью, узнающей о ней из учебников. Славные имена, трагические даты, уже почти канувшие в Лету… Все чаще Филипп отрывался от книги и останавливал свой взгляд на двери, будто ждал, что она вот-вот откроется. Впрочем, он не обманывал себя, понимая, что Кароль не зайдет сюда. Может быть, он ошибся, решив перебраться в комнату Жан-Марка? Но здесь все-таки лучше ночевать, чем в конторе. Нет, Кароль ни за что не рискнет появиться в этом уголке квартиры, где каждая мелочь будет мучительно напоминать ей о прошлом… Хотя все это вздор! Если бы Кароль захотела поговорить с ним с глазу на глаз, то сделала бы это где угодно. В действительности, она просто избегает встреч с ним. В его присутствии она чувствует себя неловко. В очередной раз Филипп поднял голову и прислушался. В коридоре послышалось легкое шуршание шелка. Филипп вскочил, накинул на себя халат и устремился туда. Кароль в пеньюаре персикового цвета стояла у плиты. Лицо было помятым, глаза лихорадочно блестели.
— Ты что здесь делаешь? — спросил Филипп.
— Я совершенно не могу дышать, хочу выпить стакан грога.
— Я все тебе сделаю и принесу, — с готовностью предложил Филипп.
— А ты сумеешь?
— Конечно, иди ложись.
— Только не дай рому закипеть и не забудь про лимон.
Кароль ушла, Филипп остался один среди сверкающего кафеля кухни. Колдуя над грогом, он понимал, что смешон с этой кастрюлькой в руках. Пять минут спустя Филипп осторожно входил в спальню, неся на блюдце стакан, полный ароматной обжигающей жидкости. Кароль полусидела на кровати, опершись спиной на подушки и накинув на плечи ночную кофточку из белой шерсти; у носа она держала платок. Филипп присел рядом на колонку музыкального центра и смотрел, как она пьет. Грог был чересчур горячим, и Кароль едва не подавилась двумя таблетками аспирина. У нее на глазах выступили слезы. Как давно у Филиппа не было повода пожалеть ее. Теперь, обессиленная болезнью, она казалась ему еще более соблазнительной. Как бы он хотел прижать Кароль к себе, чтобы кожей ощутить жар ее тела. Она передала ему пустой стакан и закашлялась, прикрывая рот платком.
— Ты мерила температуру? — спросил Филип.
— У меня ее нет.
— А я уверен, что есть. Надо позвонить доктору Мопелю.
— Думаю, неловко беспокоить его среди ночи из-за пустякового насморка. Нет, пожалуй, не станем звонить. Если бы я могла сделать ингаляцию…
— Что тебе мешает?
— У меня для этого ничего нет.
— Хочешь, я схожу в аптеку? Та, что на бульваре Сен-Жермен, работает до полуночи. Есть еще четверть часа. Я сейчас оденусь и сбегаю.
— Было бы хорошо, — отозвалась Кароль. — Купи ингалятор, упаковку перубора или чего-нибудь в этом роде.
Не успев опомниться, Филипп оказался на темной улице. Его переполняло чувство безотчетной радости. Он почти бежал, полы расстегнутого плаща развевались на ветру в такт торопливым шагам. Аптека на бульваре Сен-Жермен была ярко освещена. С трудом переводя дыхание, Филипп обратился к девушке в белом халате, которая священнодействовала за прилавком. Выходя из аптеки со свертком в руке, Филипп воображал, как удивится и растрогается Кароль. «Какой молодец, так быстро справился с поручением!» Охваченный нетерпением, он быстро возвращался домой.
Войдя в квартиру, Филипп услышал легкий щелчок. Кароль только что повесила трубку. Кому она могла звонить посреди ночи? Врачу? Он хотел бы в это поверить, но горечь зарождающегося подозрения постепенно отравляла его радость. Какое-то время он стоял в гостиной, не решаясь обнаружить свое присутствие. Наконец открыл дверь спальни.
— Ты звонила Мопелю? — спросил он.
Бросив на него жесткий взгляд, Кароль ответила:
— Нет, почему ты так решил?
— Просто мне показалось… — пробормотал Филипп, и у него сжалось сердце.
Он положил сверток на кровать. Уйти? Остаться? Притвориться, что ничего не понимает? Филипп не знал, как ему поступить.
— А, тебе все удалось купить, — немного смягчившись, сказала Кароль. — Вот и чудесно!
Эта небрежно брошенная похвала окончательно выбила почву у него из-под ног. Он-то надеялся на искреннюю благодарность, а что получил? Снисходительность и безразличие женщины, решившей никогда больше не принадлежать ему? Он догадывался, кому она звонила в его отсутствие — Ксавье Болье, тридцатилетнему хлыщу из семьи богатых биржевых спекулянтов, торгующих зерном и мукой. Это с ним она летала в июне на Антильские острова, с ним ездила на две недели в Солонь в конце сентября, с ним проводила почти все вечера, не считая нужным даже скрывать это. Пока он, как дурак, бегал в аптеку, она ворковала с этим мерзавцем. Лежа, практически раздетая, в постели, с прижатой к уху трубкой, она дрожала от вожделения, отдавалась в своих мечтах этому типу.
Кароль встала, чтобы пойти в ванную. Филипп видел, как сквозь тонкую ткань ночной рубашки просвечивает ее изящный силуэт. У двери он поймал ее за руку. Кароль с удивлением посмотрела на него. У Филиппа не хватило смелости настаивать, и он, смутившись, спросил:
— Тебе больше ничего не нужно?
— Нет, спасибо, — ответила Кароль.
Он отпустил ее руку и вышел.
III
Поток учащихся стремительно катился к воротам. Подхваченный течением, Даниэль, вытягивая шею, пытался разглядеть улицу поверх голов своих товарищей. Он искал глазами жену, которая часто ждала его у выхода из лицея. Поначалу приятели отпускали глупые шуточки по поводу ее беременности, но теперь зауважали, а заодно повысился и авторитет Даниэля. Шутки шутками, но в своем классе он был единственным женатым мужчиной. Благодаря этому обстоятельству Даниэль обрел зрелость суждений, необходимую для освоения философской премудрости. Сегодняшняя лекция Коллере-Дюбруссара повергла Даниэля в шок. Она была посвящена роли восприятия и представлений в теории познания. Вплоть до сегодняшнего дня ему не приходило в голову, что «пространство есть форма координации сосуществующих объектов». В действительности, именно физическое тело разворачивало вокруг себя пространство. Вот, скажем, расстояние, отделяющее его от улицы, создавалось им самим с учетом физических возможностей его собственного существа, являясь экзистенциальным, то есть проживаемым расстоянием.
Он споткнулся и чуть было не упал. Лоран, случайно налетев на Даниэля сзади, толкнул его в спину. Даниэль обернулся и, беззлобно чертыхнувшись, влился в шумную суету бульвара Сен-Мишель.
Под деревьями, в ожидании хозяев, стояли велосипеды и мопеды, их колеса были закрыты на замок. Даниэла с отстраненным видом прогуливалась поодаль. Просторный плащ не мог скрыть ее большого и высокого живота. Казалось, она, как и раньше, прячет под плащом свои тетрадки. Хотя вряд ли эту совершенную и тугую округлость спутали бы с чем-нибудь еще, такой роскошной и живой она выглядела. Подойдя к жене, Даниэль нежно поцеловал ее.
— Представляешь, Коллере-Дюбруссар вернул нам домашние работы. Я получил тринадцать с половиной баллов из пятнадцати, — объявил он.
— Вот здорово! — обрадовалась Дани. — А Лоран?
— Девять, он не раскрыл тему. А ведь я ему говорил…
Как раз в эту минуту к ним присоединился Лоран с товарищами. Дани оказалась в окружении юных философов. В сравнении с ее мужем и братом они выглядели почти детьми. Даниэль и Лоран, не сдав экзамен на степень бакалавра, теперь повторяли курс, имея за плечами лишний год. Мрачный блондин подозрительно косился на живот Дани, словно никогда в жизни не встречал беременной женщины. Остальные непринужденно болтали, притворяясь, что не находят в положении Дани ничего особенного. Компания обменивалась едкими критическими замечаниями по поводу последних фильмов. Все были единодушны в том, что эти новые картины — не что иное, как оскорбительный вызов искусству и здравому смыслу. Неожиданно в центре кружка возник высокий худощавый усатый человек в очках. Это был Коллере-Дюбруссар собственной персоной. Он доброжелательно и одновременно с интересом посмотрел на Дани. Без сомнения, кто-то из учеников уже довел до его сведения, что Эглетьер женат. Поколебавшись мгновение, Даниэль гордо произнес:
— Месье, разрешите вам представить мою жену. Дани, это господин Коллере-Дюбруссар, мой преподаватель философии.
Тот учтиво поклонился и пожал протянутую Даниэлой руку.
— Я счастлив познакомиться с супругой одного из моих лучших учеников. Надеюсь, до скорой встречи, мадам. До завтра, господа.
Он ушел, оставив за собой аромат старомодной галантности.
— Все-таки он потрясающий!
— Да, не скажешь, что преподаватель лицея, — признала Дани и добавила: — Ты пойдешь со мной? У меня сейчас занятия для молодых мам.
Даниэль молча покачал головой.
— Почему? Ты занят? — поинтересовалась она.
Он взял ее за руку и отвел подальше от товарищей.
— Утром по дороге в лицей я увидел на улице Жан-Марка. Мы договорились встретиться в половине пятого в кафе «Суффло».
— Тогда я с тобой!
— Я бы предпочел пойти один.
— Почему?
— Потому что хочу поговорить с ним кое о чем.
— О ссоре с отцом?
— Да, а в твоем присутствии ему будет неловко отвечать на мои вопросы.
— Зря ты вмешиваешься в эту историю!
— Но я, как-никак, его брат, правда?
— Ты, правда, добрый человек, — сказала Даниэла, и в ее глазах отразились любовь и нежность к мужу.
Даниэль досадливо пожал плечами. При чем здесь доброта? Его намерение встретиться и поговорить с Жан-Марком не было связано ни с какими сантиментами. Для него это всего лишь вопрос порядочности, выдержки и здравого смысла. Очевидно, что все разногласия между братом и отцом возникли из-за недоразумения, значит, кто-нибудь здравомыслящий должен убедить обоих, что они заблуждаются. И, конечно, такой личностью мог быть только он, Даниэль, единственный мужчина в семье, не являющийся заинтересованной стороной. Уже целые две недели, прошедшие с того момента, как Франсуаза приоткрыла ему завесу тайны над причиной ухода Жан-Марка, Даниэль, все больше воодушевляясь, разрабатывал этот план.
— Ты там долго пробудешь? — спросила Дани.
— Откуда я знаю, сама подумай. Как только освобожусь — сразу домой.
Даниэла, выражая согласие, кивнула. Она всё и всегда одобряла, что бы ни говорил и ни делал ее муж. Добродетель, редко встречающаяся у женщин. Но он и не потерпел бы обратного. Даниэль воображал, что именно он за несколько месяцев совместной жизни так благотворно повлиял на характер Дани.
Когда они расстались и она повернула за угол, Даниэль послал ей вслед взгляд, выражающий необыкновенную любовь. Потом, погрузившись в размышления о предстоящей встрече, направился выполнять свою миссию.
Застекленная терраса кафе «Суффло» была забита посетителями. Переступив порог, невозможно было сделать ни шагу вперед, настолько скученно было внутри. Тем не менее Даниэлю удалось разглядеть в глубине зала свободное место. Он расположился на диванчике у стоящего в углу столика и заказал кофе. Жан-Марка еще не было. Даниэлю это было даже на руку, он мысленно оттачивал свои доводы в предстоящем нелегком разговоре. Если ему повезет, какое это будут счастье для всей семьи! В предвкушении предстоящей победы он уже видел себя озаренным лучами славы. В этот момент какая-то тень заслонила от него дневной свет. Жан-Марк с мрачным видом пододвинул к себе стул и сел напротив брата.
— Официант, чай с лимоном, — заказал он.
— А что, это мысль, — подхватил Даниэль, — не взять ли и мне чашечку чая?
— И в самом деле! Возьми.
— После кофе?
— Ну да.
Официант принес два чая. Братья пили в полном молчании. Даниэль выжидал, готовясь перейти в наступление. Вдруг Жан-Марк спросил:
— Что у тебя случилось, старик? Рассказывай.
Даниэль вздрогнул.
— Вообще-то, ничего, — удивленно ответил он. — А почему ты спрашиваешь?
— Я полагал, раз ты захотел меня увидеть, у тебя неприятности.
— Вовсе нет.
Жан-Марк заказал еще одну чашку.
— Тем лучше. А Даниэла не с тобой?
— Нет, она занята.
— Жаль, я бы с удовольствием с ней повидался. Когда ожидается счастливое событие?
— Думаю, в начале года.
— Мне кажется, она хорошо переносит беременность.
— Да, тут вроде все в порядке.
— А у тебя-то самого как дела? Как учеба?
— Учусь понемножку, — пробормотал Даниэль.
Он начинал нервничать. Разговор явно уходил в сторону, и Даниэль не мог придумать, как направить его в нужное русло. Все возникающие в его мозгу уловки он отвергал, они казались ему глупыми. Наконец, решив идти напролом, он произнес серьезным тоном:
— Жан-Марк, тебе не кажется, что твоя ссора с отцом — это идиотизм?
Лицо Жан-Марка окаменело. Взгляд стал жестким, уголки рта опустились. Было заметно, что он злится.
— Кто тебя просил в это вмешиваться?
— Никто, — пролепетал Даниэль, — но когда я узнал…
— И что же ты узнал?
— Что ты питал некоторую слабость к Кароль.
Не успев произнести эти слова, Даниэль понял, что брат замыкается в себе и он теряет с ним контакт.
— Займись-ка лучше своими делами, старик, и предоставь мне заниматься своими, — ледяным тоном произнес Жан-Марк. — Это все, что ты хотел мне сказать?
Ужасно расстроенный своей неудачей, Даниэль молчал. Он почему-то решил, что брат сейчас встанет и уйдет. Однако Жан-Марк предложил ему сигарету, закурил сам и, непринужденно откинувшись на спинку стула, начал журить Даниэля:
— Очень глупо с твоей стороны, что ты не позвал сюда Даниэлу. Я жду Валери, мы могли бы их познакомить.
Услышав имя Валери, Даниэль понял, что попал впросак, приставая к брату с разговором о Кароль. Он совершил распространенную ошибку — но что тут удивительного: Жан-Марк такой сложный человек, не мудрено и запутаться в его привязанностях. Даниэль сделал глоток из чашки, чай оказался чуть теплым. Нет уж, он обойдется без такого пойла. Затянувшись сигаретой, он начал понемногу успокаиваться. Кто знает, может быть, Валери удастся разрубить этот гордиев узел? Этакая ласковая телочка, возвращающая в родное стойло рассвирепевшего быка.
Солнечный зайчик, отраженный стеклянной дверью, скользнул по лицу Даниэля. В кафе вошла девушка в узкой замшевой куртке фисташкового цвета. На голове у нее был клетчатый шотландский берет с большим помпоном, на руках зеленые перчатки. Губы накрашены бледной помадой, во взгляде подведенных глаз — разочарование. Даниэль узнал Валери. Удивительно, но и в таком нелепом наряде она не казалась смешной. Валери, почти не глядя на Даниэля, поздоровалась с ним, устало опустилась на стул и простонала:
— Можно и мне чаю?
— Конечно, если ты очень хочешь пить, — ответил Жан-Марк и, позвав официанта, заказал чай.
Валери сняла берет и помотала головой из стороны в сторону. Светлые пряди, словно языки пламени, взвились вокруг ее бледного лица. Окинув ее оценивающим взглядом, Даниэль с полной беспристрастностью решил, что Дани намного симпатичнее. Хотя, конечно, уверенные манеры Валери могли ввести в заблуждение мужчину, не слишком искушенного в жизни. Сделав глоток, Валери взяла двумя пальцами ломтик лимона. Откусив кусочек, она сморщилась и вдруг спросила:
— Кстати, ты увиделся с Жильбером?
— Да, — ответил Жан-Марк, — сегодня утром. Мы обо всем договорились.
— А как они отреагировали на цену?
— Согласились, не моргнув глазом.
Жан-Марк сиял.
— Видишь, я была права. Сколько раз в неделю?
— Три! Это невероятно! Я начинаю завтра.
Повернувшись к Даниэлю, Жан-Марк объяснил:
— У Валери есть двоюродный брат, Жильбер Крювелье, ему 17 лет. Он остался на второй год. Я буду давать ему уроки французского, математики, английского, в общем, всего…
— А ты сумеешь? — спросил Даниэль.
— Должен. Конечно, прежде пролистаю свои конспекты…
— Ну, и как он тебе? — поинтересовалась Валери.
— Мне показалось, что он из тех бедняг, которых состоятельные бабушки и дедушки воспитывают в тепличных условиях, — ответил Жан-Марк.
— Точно! — воскликнула Валери. — Я его всегда терпеть не могла. Он такой зануда!
Она отложила объеденную корку в сторону и тут же взяла следующий ломтик с блюдца Жан-Марка, принявшись грызть его с каким-то радостным остервенением. После некоторого молчания Жан-Марк спросил:
— Его родители развелись?
— Нет, его мать погибла в автомобильной катастрофе. Отец женился во второй раз не то в Голландии, не то в Дании, в общем, в краях, где кругом молочные продукты, протестанты и всяческая добродетель. Эти Крювелье непереносимо скучные. Мои родители иногда с ними видятся, но я туда ни ногой. Ужасно жаль времени, ведь жизнь так коротка. Я давно сделала свой выбор между острыми и пресными блюдами в пользу первых.
Даниэль признался себе, что, пожалуй, еще год назад столь блестящая тирада привела бы его в восторг. Теперь же, благодаря Коллере-Дюбруссару, он научился распознавать истинную суть вещей под мишурой красивых формулировок. Рядом с этой упивающейся дерзким красноречием девицей Даниэль чувствовал себя взрослым мужчиной, уверенным и снисходительным. Вознесенный на вершину философской мысли, он постигал законы человеческого общества, тогда как другие люди, вроде Валери и его братца, изо дня в день влачили бесцельное существование. Неожиданно Валери обратилась к Даниэлю, будто только теперь заметив, что кроме них с Жан-Марком за столиком сидит еще кто-то.
— Ну, а у вас как дела? Жан-Марк говорил, что вы живете у родителей жены. Наверно, это ужасно — оказаться в таком семейном общежитии, где под дверьми спальни дежурят надзиратели?
Даниэль едва не вспылил, но сумел совладать с собой. Ему даже показалось, что в этот момент сам Спиноза успокаивающим жестом положил руку ему на плечо.
— К счастью, надзиратели достаточно умны, чтобы оставить нас в покое.
— Они просто затаились, выжидают. Увидите, что будет через несколько месяцев.
— Я думаю, они не изменятся, не те люди.
— Тогда вам здорово повезло!
— Вероятно.
— Если бы я, выйдя замуж, жила со своими родителями, все закончилось бы печально. Я обожаю маму, но одна мысль о том, что она может вмешаться в мои отношения с мужем…
Даниэль понял, что в словах Валери присутствует тонкий расчет и что совсем не случайно завела она при Жан-Марке этот разговор о замужестве. Однако тот, казалось, с интересом слушал Валери и улыбался. Неужели его уже обвели вокруг пальца? Не может же он, в конце концов, свалять такого дурака! А почему нет? Если он, Даниэль, находит Валери несносной, это вовсе не означает, что Жан-Марк должен разделять его мнение. У них всегда были разные вкусы.
— А как ребенок? — спросила Валери.
— Какой ребенок? — не понял Даниэль, все еще пребывавший во власти своих размышлений.
— Ваш! Вы не забыли, что скоро станете отцом?
Слушая Валери, Даниэль вдруг подумал: «А ведь цель ее жизни — оскорблять, нападать, смущать и приводить в отчаяние». Чтобы самоутвердиться, этой девушке необходимы резкие слова и колкости, подобно тому, как другим нужны доброта, очарование и тактичность. Даже взгляд у нее колкий, а голос неприятно резкий.
— Вы кого хотите? — продолжала она допрос. — Девочку или мальчика?
— Мальчика.
— Вот и правильно. Нечего плодить дур. Ваша жена, полагаю, собирается рожать по методике естественного обезболивания?
— Да.
— Мой дядя, профессор Дебюисак, категорически против. Он считает это ловушкой для простаков. Этих несчастных обучают, если можно так выразиться, как правильно дышать, как тужиться, разыгрывают перед ними комедию, а когда подходит время родов и они начинают орать, им говорят: «Вам только кажется, что вам больно!» Все проще простого. И ваша Даниэла во все это верит?
— Да, — процедил Даниэль сквозь зубы.
Ему бы очень хотелось бросить ей в ответ какую-нибудь хлесткую реплику, но, выигрывая в содержании, он наверняка проиграл бы во внешней форме. Почувствовав, что вот-вот окончательно выйдет из себя, он поднялся.
— Уже уходишь? — спросил Жан-Марк.
— Меня ждут дома, — буркнул Даниэль в ответ.
С тяжелым сердцем он вышел на улицу.
— Ну что, как все прошло? — спросила Дани, когда Даниэль вошел в комнату. Она сидела на кровати и разбирала летние фотографии.
— Отлично, — ответил Даниэль, — но мне кажется, что Франсуаза ошибается насчет Кароль. Впрочем, даже если Жан-Марк и был какое-то время к ней неравнодушен, то теперь все кончено. Он по уши влюблен в Валери. Это видно невооруженным глазом.
— Тогда почему он не заходит к отцу?
— Наверно, они поругались из-за чего-нибудь другого. А может, Жан-Марку просто неохота туда идти, вот он и увиливает под разными предлогами. Ты же знаешь, он у нас со странностями. Я пытался с ним поговорить, но его ничто не интересует, он замкнулся в себе. Я даже заметил, что раздражаю его. Мы так с ним толком ни о чем и не поговорили.
Даниэль сел за письменный стол, открыл конспекты и, обернувшись через плечо, спросил:
— А Лоран уже вернулся?
— Да, он у себя в комнате. Вам много задали на завтра?
— Не очень, я полистаю лекции по философии и сделаю кое-что по химии.
В комнате тихо играла музыка. Вначале звучала нежная, протяжная песня на итальянском языке. Потом ее сменила другая, на английском, темпераментная, возбуждающая. Резкий контраст между этими двумя мелодиями был для Даниэля неожиданным, но приятным. Дани хотела выключить проигрыватель.
— Нет-нет, не надо, — остановил ее Даниэль, — оставь, мне нравится…
Покачав головой, он углубился в тетрадь, исписанную его рукой. «Представления — это образы тех предметов, которые когда-то воздействовали на органы чувств человека, а потом восстанавливаются по сохранившимся в мозгу связям. Когда я смотрю на фотографию товарища, мне кажется, что именно снимок порождает у меня представления о нем. На самом же деле, здесь играют роль мои личные ощущения (знакомая личность, воспоминания о прошлом, приятные впечатления). Фотография же сама по себе, являясь неодушевленным предметом, не несет в себе никакой информации».
Даниэль, оторвав взгляд от страницы, посмотрел на Дани, которая в этот момент вставляла «образы предметов» в альбом. Как здорово, что можно вот так, легко проанализировать и объяснить с философской точки зрения все мельчайшие поступки любимого человека. Комната, оклеенная розовыми обоями, погружалась в сумерки. На верхней полке этажерки рядком сидели куклы Дани, полкой ниже стояли учебники Даниэля.
Звук рычащего крана сотряс перегородку. Это Шарль Совло, придя с работы, мыл руки. Вот уже несколько дней он возвращался домой с озабоченным видом. Занимая должность руководителя исследовательских работ в крупной компании, он подрабатывал техническим консультантом в маленькой фирме, специализирующейся на бытовых приборах. С недавних пор эта фирма находилась на грани банкротства. Если худшие опасения подтвердятся, Шарль лишится дополнительного заработка, что наверняка скажется на семейном бюджете. Он несколько раз заводил об этом разговор за столом. Даниэль страдал от того, что ему приходится жить на деньги тестя. Он был бы рад тоже пополнять семейный бюджет. Но как? Его отец, верный своим принципам, не дает ему ни гроша. Даниэль помнил его слова: «Я предупреждаю тебя: хочешь жениться против моей воли, женись. Но тебе придется выкарабкиваться самому, вместе с теми, кто втянул тебя в эту глупую авантюру». Иногда Даниэлю казалось, что отец не только не испытывает к нему никакой нежности, но даже не интересуется его делами. Чем реже он видит своих детей, тем счастливее ему живется. Все, что напоминало Филиппу о семье, раздражало его, выводило из равновесия. Почему Кароль и он никогда не приглашают в гости родителей Дани? Более того, даже когда супруги Совло звали их на обед, они каждый раз находили предлог, чтобы не пойти. Можно было подумать, что они считают родителей Даниэлы недостойными своего посещения. Даниэль знал наверняка, что его тесть и теща были оскорблены подобным отношением к себе.
Дани встала, положила альбом в выдвижной ящик туалетного столика, покрытого вышитой гладью скатеркой, и вышла. Даниэль догадался, что она пошла к матери. Они часто болтали друг с другом в каком-нибудь укромном уголке квартиры. Эти разговоры были почти беспредметны и могли продолжаться часами. Даниэлю очень хотелось узнать, что они говорят про него. Одно не вызывало сомнений — вся семья безоговорочно приняла его. Шарль и Марианна Совло обращались с ним, как с сыном. Если бы только он мог зарабатывать! Даниэль погрузился в мечты. Он думал о том, как будет завоевывать себе место в жизни и добывать хлеб насущный. О том, что, может быть, удача ждет его в какой-нибудь экзотической стране, вроде Кот-д’Ивуар. Вот он — владелец лесоразработки вблизи Бондуку. И Дани, конечно же, находится с ним. У них темнокожие преданные слуги. Даниэлю приходится совершать долгие, изнурительные поездки на джипе по неровным дорогам. На его глазах происходит торжественная гибель могучих деревьев, медленно падающих в треске ломающихся веток. Он возвращается в полном изнеможении домой. Обедает на террасе вдвоем с женой при свете керосиновой лампы. Наслаждается сигарой, а вокруг звучат пронзительные крики ночных животных в зарослях рядом с домом. Стоп! Он размечтался, как в детстве. Тот же тип представлений, что и у Декарта. Переживание ощущений вне телесной субстанции. Позитив, выстроенный на небытии. Блестящая формулировка. Надо будет использовать ее как-нибудь в письменном задании по философии… Деньги! Какая ужасная зависимость и унизительная обреченность. Особенно когда ты женат. Даже такой человек, как Козлов, и тот иногда вынужден экономить на всем.
Дверь открылась, и в комнату с хмурым лицом вошел Лоран.
— Пойдешь смотреть телевизор? — пробормотал он.
— Я еще не повторил философию.
— Да ладно, нас завтра не спросят. Он ведь сказал…
Даниэль с легкостью дал себя уговорить. В гостиной никого не было. Молодые люди сели в самые удобные, стоявшие напротив экрана кресла и закурили. Перед их глазами замелькали скучные кадры какой-то передачи для женщин.
— Господи, какая пошлость, — недовольно ворчал Лоран, — это просто поразительно!
— Ну что, выключаем? — предложил Даниэль.
— Нет, подожди. Я хочу посмотреть, до какой степени идиотизма они дойдут.
До недавнего времени Лоран был вполне мирным и сговорчивым юношей, но занятия философией почему-то породили в нем бунтарский дух оппозиционера. Лоран считал, что, находясь в состоянии постоянной конфронтации с окружающим миром, он тем самым демонстрирует свое прогрессивное мышление. Он это называл «стилем жизни». И хотя Даниэль учился лучше Лорана, но, поддаваясь влиянию шурина и друга, иногда соглашался с ним.
— Ты пойми, телевизионные передачи делают в расчете на кретинов, — убеждал друга Даниэль. — Ты же не можешь требовать, чтобы для тебя одного снимали то, что не подходит другим. Если не хочешь противопоставить себя обществу.
Еще долго они обсуждали убийственную альтернативу: следует ли художнику опускаться до уровня масс и творить на потребу публике или, наоборот, необходимо нести высокую культуру в массы, даже рискуя быть непонятым. На этой горячей точке их диспут был прерван появлением в гостиной родителей и Дани. Горничная объявила, что ужин подан.
Даниэлю нравились эти семейные трапезы, но сегодня Шарль Совло выглядел грустным. Понятно, что его огорчала ситуация на фирме. Марианна с шутливым негодованием рассказывала о своих препирательствах с шофером такси — возможно, дело тут было в ее более сильном характере или она была недостаточно осведомлена об истинном положении вещей. Шофер, по ее словам, отказывался брать у нее стофранковую купюру на том основании, что та, видите ли, заклеена скотчем.
— Бесполезно было ему объяснять, что деньги совершенно нормальные. Он все время, как дурак, повторял: «Поставьте себя на мое место».
— И был абсолютно прав! — отрезал Лоран. — Главный порок буржуазии в том, что она не хочет ставить себя на место трудящегося человека.
Все были удивлены этим выпадом. Лоран явно искал повод, чтобы развязать одну из тех политико-социальных дискуссий, которыми он в последнее время так упивался. Видимо, он считал, что участие в бурных дебатах позволит ему самоутвердиться в глазах родственников.
— А ты сам разве не буржуа? — с иронией спросил отец.
— Нет!
— Вот это новость! А как же среда, в которой ты живешь, образование, которое ты получил?
— Но ведь это не я выбирал среду и образование.
— Конечно, но ты извлекаешь из них пользу.
— Ну и что? Можно извлекать пользу, но при этом осуждать.
Лоран ликовал. Наконец-то он добился того, о чем мечтал с самого начала обеда — словесная баталия была в разгаре.
— Не очень красиво. Тебе не кажется? — продолжал Шарль Совло.
— А что ты хочешь, чтобы мы делали в нашем возрасте? Вы не даете нам действовать, но вы не можете запретить нам судить!
— Интересно, кого и что вы собираетесь судить?
— Общество, — значительно произнес Лоран, — в том виде, в каком вы его сформировали.
Даниэль понимал, что его шурин явно «перегибает палку», но не вмешивался, боясь еще больше обострить ситуацию. Горничная переменила тарелки и поставила на стол запеченный окорок со шпинатом.
Шарль Совло, улыбаясь, подвел итог:
— То есть ты упрекаешь нас, родителей, в том, что мы недостаточно расчистили перед тобой жизненную перспективу?
— Вот-вот, — горячился Лоран, — обустраивая общество, вы только о себе и думаете. И так продолжается безостановочно. Вы занимаете лучшие места, а молодежь вынуждена пробуксовывать.
— Это в порядке вещей, так было всегда.
— Да, но раньше молодежи было меньше.
— И она меньше стремилась мгновенно сделать себе карьеру.
— А что ей оставалось?
— Хорошо, предположим, что завтра мы все уволимся, — продолжал Шарль Совло. — Что вы будете делать?
— Мы отбросим все старое и начнем с чистого листа. Необходимо, чтобы к управлению обществом пришло новое поколение.
— Твое новое поколение столкнется с теми же проблемами, что и мы.
— Но решать оно их будет по-другому!
В этом вопросе Даниэль не мог не согласиться с Лораном. Ему казалось неоспоримым, что молодежь должна обрести более широкие права и что ускорение темпов прогресса во всех областях жизни неизбежно приведет к досрочной отставке старших.
— Наше общество развивается очень быстро, — вступил в разговор Даниэль. — Отношения отцов и детей не могут оставаться прежними. Уже нет ни деспотичного авторитета с одной стороны, ни слепого послушания — с другой. Все строится на взаимной привязанности.
— Не могли бы вы выразиться яснее? — сквозь зубы процедил Шарль Совло.
— Ты что, сомневаешься? — воскликнула его жена. — Нет, это уже слишком! Из-за своих неприятностей ты теперь все видишь в черном цвете.
Как обычно, она приняла сторону молодежи.
После фруктов все перешли в гостиную. Довольный тем, что довел спор до точки кипения, Лоран завел с отцом мирную беседу о технических характеристиках и преимуществах цветного телевидения. Шарль Совло без особого воодушевления высказал свое мнение по этому вопросу. Его внимательно выслушали. Однако он был не такой простак, чтобы поверить в этот внезапный интерес к своей персоне. Он встал и раньше обычного ушел из гостиной. Жена последовала за ним.
Лоран опять включил телевизор и попал на середину какой-то довоенной мелодрамы. Вначале они потешались над смешной женской модой, но вскоре невыразительные диалоги, прилизанные пейзажи и назойливая тошнотворная музыка показались им невыносимыми.
— Надо же, а папа говорил, что у него остались прекрасные воспоминания об этом фильме, — удивленно воскликнула Дани.
— Все относительно, — начал объяснять ей Лоран, — в свое время этот фильм казался хорошим, потому что, кроме него, не было ничего стоящего. С тех пор кино сделало значительный шаг вперед.
Он выключил телевизор.
— Знаешь, ты сегодня переборщил со своим отцом, — заметил Даниэль.
— Да-да. Я как раз тоже хотела сказать тебе об этом, — поддержала его Дани.
— Может быть, — согласился с ними Лоран, — но надо же когда-нибудь высказаться до конца. Понимаешь, папа — чудесный человек, только ему иногда кажется, что на дворе 1938 год. Он как-то абстрагировался от того, что это его сверстники проиграли войну в сороковом и что именно они изобрели атомную бомбу. Он подзабыл, что это его поколение никак не может восстановить мир в Азии и Африке, из-за чего целые народы буквально подыхают с голоду. Он не хочет понять, что это люди его возраста бросают на ветер бешеные деньги, проводя ядерные испытания вместо того, чтобы строить жилье и дороги. И если сейчас мы находимся у края пропасти, то это — их вина! Подобные споры несколько освежат его память и вернут к реальности.
— У него сегодня был такой печальный вид, — вздохнула Дани.
— Ничего, к завтрашнему дню он все это переварит и с моральной точки зрения ему станет только лучше. Пить хочешь?
— Какой же ты все-таки грубый! — возмутилась Дани и пошла на кухню взять три бутылки кока-колы.
Они пили прямо из горлышка. Уютно устроившись в кресле и устремив взгляд на гравюры со сценами псовой охоты, Даниэль пытался представить себе, что он какой-нибудь важный человек. Однако мысли о том, что ему еще только девятнадцать лет, что он еще не зарабатывает на жизнь и вынужден квартировать у родителей жены, мешали ему возвыситься в своих мечтах. Вскоре Дани пожаловалась на усталость и пошла спать. Сидя друг против друга, Даниэль и Лоран еще какое-то время молча курили. Погрузившись в полное безделье, они тем самым продлевали приятный вечер. Какие-то неясные образы бродили в их сознании, не оставляя следов. Наконец Даниэль тоже встал и пошел в свою комнату. Дани только что вернулась из ванной. Сквозь тонкую ткань ночной рубашки ее тело казалось еще более грузным. Неужели в один прекрасный день она вновь обретет былую стройность?!
— Это ужасно, — простонала Дани, — я боюсь взглянуть на себя в зеркало.
Даниэль, тоже удрученный переменами в ее внешности, милосердно возразил:
— С ума сошла! Ты… ты просто потрясающе выглядишь! И потом… В общем, ты скоро об этом забудешь.
У Дани на глазах выступили слезы. Даниэль обнял ее и бережно прижал к своей груди. Как странно: верхняя и нижняя части ее тела остались изящными, лоно же раздулось и выпирает вперед, мешая ему почувствовать желание. Сделав над собой усилие, Даниэль пробормотал:
— Моя Дани, моя дорогая Дани.
Она подставила ему губы. В ее дыхании чувствовался запах зубной пасты. Вдруг она резко высвободилась и быстро легла в постель, натянув одеяло до самого подбородка. Даниэль лег рядом и обнял ее. Дани слабо сопротивлялась, ее смущало, что рядом находилась комната Лорана. Было слышно, как тот ходит за стенкой.
— Моя милая Дани, я люблю тебя, — шептал Даниэль.
— Хорошо, хорошо, только молчи.
— Почему?
— Там же Лоран…
— Ах да…
Они с головой накрылись простыней. Их руки и ноги переплетались, рты жадно искали друг друга под сводом матерчатой пещеры. Они занимались любовью в полной тишине. После этого Дани сразу же уснула, а Даниэль еще долго лежал без сна, заложив руки под голову. Погруженный во мрак, он размышлял о ребенке, который скоро родится, о Спинозе, о Канте, о Бергсоне, об экзаменах на степень бакалавра, о будущем их брака и о профессии, которую он выберет. Эти раздумья вызывали в нем тревогу и страх. Сон не шел к нему, и тогда Даниэль решил, что если он будет повторять про себя лекции по философии, то это поможет ему уснуть.
IV
— Прошу месье следовать за мной, — произнес слуга, — мадам ожидает месье.
Жан-Марк был удивлен, что его ведут к госпоже Крювелье, а не прямо к Жильберу. Неужели она сейчас сообщит ему, что по здравом размышлении передумала и не видит необходимости в частных уроках для своего внука? Девяносто франков в неделю уплывали у него из-под носа. А он на них так рассчитывал! Нет, это невероятно, не может же у нее быть семи пятниц на неделе.
Волнуясь, Жан-Марк переступил порог гостиной, где накануне его принимали госпожа Крювелье с супругом. Это была просторная комната с высокими потолками и стенами, обитыми деревянными панелями с легкой позолотой в стиле Людовика XV. Ковер с пасторальными мотивами, расстеленный под огромной хрустальной люстрой, освежал комнату. Обстановка изобиловала инкрустированной мебелью, старинными картинами, изящными безделушками, китайскими лаковыми ширмами. Всего было в избытке. Дверь открылась, и в комнату вошла элегантная хрупкая женщина с аристократически тонким носом, светло-голубыми глазами и шапкой густых белых волос. Обратившись к Жан-Марку, госпожа Крювелье сказала:
— Жильбер еще не пришел. Но, откровенно говоря, я рада, что могу увидеться с вами наедине прежде, чем он вернется. Вчера в его присутствии я не смогла поговорить с вами так, как мне бы хотелось.
Сев в глубокое кресло и предложив сесть Жан-Марку, госпожа Крювелье со старомодным кокетством продолжила разговор:
— Не скрою, вам достался непростой ученик. Более того, ваша миссия в этом доме будет в достаточной степени деликатной.
Жан-Марк облегченно вздохнул: речь шла не об отказе от уроков.
— Я хочу, чтобы вы меня поняли. Жильбер — очаровательный юноша, но надо найти к нему подход. Трагедия, омрачившая его детство, сделала характер Жильбера ранимым и беспокойным, хотя по натуре он был, скорее, мечтательным ребенком. Вам уже известно, что его мать, моя невестка, погибла у него на глазах в автомобильной катастрофе?
— Да-да, — пробормотал Жан-Марк, — Валери мне рассказывала.
— Ему тогда было шесть лет. Слава Богу, Жильбер отделался всего несколькими царапинами, а ведь он сидел рядом с матерью на переднем сиденье. Его отец — мой сын — очень быстро женился за границей во второй раз, предоставив нам с мужем воспитывать Жильбера. Надо ли объяснять, что внук стал для нас единственным смыслом жизни.
— Он сильно отстает в учебе, мадам?
— Не особенно. Вернее, он учит только то, что его занимает. Что тут можно поделать?! Но, к сожалению, впереди экзамены, и мы должны об этом думать. Честно говоря, Жильбер нуждается не столько в репетиторе, сколько в старшем товарище, с которым он мог бы свободно говорить обо всем. Нам бы хотелось, чтобы молодой человек, взявшийся за эту задачу, просвещал Жильбера, ободрял его, прививал ему вкус к учебе…
— Да-да, я понимаю — отзвался Жан-Марк.
«Меня словно нанимают преподавателем к наследному принцу», — подумал он про себя. Госпожа Крювелье погрузилась в раздумье: ее глаза затуманились, на губах блуждала чуть заметная улыбка. Неподвижная поза и ореол белоснежных волос придавали ей сходство с персонажами старинных полотен XVIII века, которые смотрели на нее со стен гостиной. Только ее короткое платье цвета темной морской волны выглядело анахронизмом. Прошло несколько минут, и госпожа Крювелье продолжила:
— Жильбер у нас немножко дикарь. Насколько я могу судить, у него практически нет друзей. С одноклассниками ему неинтересно…
Она все говорила и говорила, и Жан-Марк с удивлением отметил про себя, что даже столь утонченная женщина может быть болтливой. Похоже, она страдает «недержанием речи», которое он так не любит в пожилых дамах. Забывая о возрасте, они упрямо продолжают играть роль светских кокеток; поблекшие и элегантные, все еще стремятся очаровывать всех вокруг. Возможно ли, что и Кароль тоже со временем сделается похожей на мадам Крювелье? От подобной мысли у него в ужасе замерло сердце.
— Настоящая проблема — это посещаемость! — не умолкала госпожа Крювелье. — Из-за этого мы не хотели зачислять его в лицей. Без сомнения, ему лучше посещать частную школу Магеллана, в этом заведении нет религиозного уклона. Правда, к сожалению, там учатся и девушки. Вероятно, вы считаете меня отсталой?
— Нет-нет, мадам, — поспешил опровергнуть ее Жан-Марк.
Она поблагодарила его теплым взглядом, и синева ее глаз восхитила Жан-Марка. «Наверно, она была хорошенькой», — подумал он.
— Я сразу поняла, месье, что вы не принадлежите к жалким университетским смутьянам, возомнившим себя цветом французской молодежи. Если у вас возникнет малейшая проблема с Жильбером, обращайтесь ко мне — мы решим ее вместе. А вот и он!
Жильбер торопливо вошел в гостиную. Он был небольшого роста, со светлыми волосами, стройный, слегка нервный, с широкими скулами, коротким носом и живыми блестящими глазами. Поцеловав руку бабушке, он обратился к Жан-Марку:
— Извините, что заставил вас ждать, но преподаватель физики задержал нас после урока на десять минут, чтобы вернуть тетради с домашним заданием.
— Ничего страшного, не беспокойтесь, я пришел недавно, — ответил Жан-Марк.
Посмотрев на них с нежностью, госпожа Крювелье мягко проговорила:
— Вот и хорошо, отправляйтесь-ка учиться.
Жан-Марк шел следом за Жильбером по длинной галерее, стены которой украшали картины, причем в таком количестве, что рамы их соприкасались. В просвете между двумя портретами Жан-Марк заметил дверь, прикрытую портьерой.
— Это моя спальня, — сказал Жильбер, приглашая Жан-Марка войти.
Комната больше походила на кабинет: три стены заняты книгами, в одном из стеллажей устроена ниша для дивана. На стене по обе стороны окна под стеклом висели рисунки. Жан-Марк узнал Матисса и Дюфи[1].
— Вам они нравятся? — спросил Жильбер.
— Очень!
— А я видеть их больше не могу! Бессодержательно, поверхностно… Кажется, что художники просто валяют дурака, решив посмеяться над нами.
— Да, вы — сложная личность! — воскликнул Жан-Марк, подумав про себя: «Валери права — противный парень. Может, и неглупый, но уж больно неприятный». Внимательно посмотрев на Жильбера, Жан-Марк уже в который раз усомнился в том, что принял правильное решение, согласившись на эту работу. Его собственные школьные познания четырехлетней давности были порядком подзабыты, и хотя он пытался их освежить, видимых результатов это не принесло.
Сев за письменный стол напротив Жильбера, Жан-Марк решил начать с английского. Здесь он чувствовал себя вполне уверенно. В школе Жильбер проходил шекспировского «Макбета». Жан-Марк взял книгу и прочел седьмую сцену из первого акта. Потом он попросил своего ученика прочесть ее вслух и перевести. Произношение у Жильбера было отвратительное. Пока он мучился над переводом, Жан-Марк разглядывал его лицо. Левую бровь Жильбера пересекал тонкий шрам. Возможно, последствие той аварии, которая стоила жизни его матери? На письменном столе в металлической рамке стояла фотография молодой светловолосой женщины: держа на руках маленькую пушистую собачку, она улыбалась, щурясь от солнечного света. Никакого сходства с Жильбером. И все-таки он, бесспорно, сын этой покойной незнакомки, этой призрачной красавицы. Задумавшегося Жан-Марка вернула к реальности тишина — Жильбер замолчал. Жан-Марк объяснил ему смысл нескольких архаизмов и задал пару вопросов по грамматике. Что дальше? Сознавая, что не силен ни в математике, ни в физике, ни в химии, Жан-Марк выбрал французский. Здесь-то, по крайней мере, он сможет выкрутиться и не ударить в грязь лицом. Жильбер объяснил, какое домашнее задание он должен подготовить. Полный кошмар! «Прочитав поэтическое послание Буало о пользе врагов, напишите, разделяете ли вы утверждение автора. Обоснуйте, почему Расин не был согласен с аргументами Буало». Не зная толком, что отвечать, Жан-Марк, тем не менее, посоветовал Жильберу в первой части задания кратко высказаться о пользе врагов, о том, что они, уязвляя самолюбие писателя, побуждают его превзойти в творчестве самого себя. Во второй же части, более объемной, можно было бы порассуждать о том, что враги Расина, далекие от объективной критики, использовали самые гнусные приемы, чтобы очернить его произведения, так что Расин был прав, не соглашаясь со своим другом Буало.
— Ненавижу Буало! Этот идиот со своими нравоучениями отравил умы французов на целые века вперед, — возмущенно заметил Жильбер.
— Да, меня он тоже ужасно раздражает, — согласился с ним Жан-Марк. — Однако ему ставят в заслугу то, что он сформулировал правила и нормы классицизма.
— Все эти правила и нормы убивают живое искусство. В один прекрасный день ученые-искусствоведы будут плясать на костях Бодлера и Рембо! Вы любите Рембо?
— Конечно!
— «Я помню серебристые мгновения и солнечные лучи, тянущиеся к водам рек, и легкое прикосновение сельской природы к своему плечу, и то, как мы ласкали друг друга, стоя среди пряных лугов», — наизусть прочитал Жильбер.
— Это из книги «Сквозь ад»?
— Нет, это из «Озарений».
— Я не читал «Озарения», — признался Жан-Марк.
— Как?! Это же еще важнее, чем «Сквозь ад»! По этой книжке можно судить, с какой болезненной одержимостью писал Рембо. В «Озарениях» ему приходилось буквально выворачивать душу наизнанку, чтобы лучше выразить свои мысли и чувства. А вам нравятся «Песни Мальдорора» Лотреамона[2]?
Не дожидаясь ответа, Жильбер вскочил и выхватил со стеллажа одну из книг. Открыв ее наугад, он прочел:
— «Жизнь была брошена мне как оскорбление. Так пусть же Создатель всматривается в ее зияющую пустоту каждый миг своего бесконечного существования!» Интересно, что бы сказал на это старина Буало? — С довольным видом Жильбер положил книгу на стол и, хотя в комнате было очень тепло, зябко потер ладони. — Как вы считаете, есть ли скрытая взаимосвязь между творчеством Рембо и Лотреамона? — продолжил он разговор.
— Честно признаться, я никогда об этом не думал. Но поскольку они оба были антиконформистами…
— Конечно, они — разрушители традиционных форм языка. И если у Лотреамона еще можно найти что-то такое, что напомнило бы нам о Байроне, о Данте, о Бодлере, то Рембо производит впечатление человека, который все придумал сам. Но все-таки Лотреамона я ставлю выше Рембо, я бы назвал его гением темной поры. И подумать только, Верлен не включил его в свою «галерею проклятых поэтов»! Это что, невольное упущение или гнусность по отношению к собрату по профессии?
Возбужденно жестикулируя, Жильбер нервно метался по комнате из угла в угол. Очень скоро Жан-Марку надоели и его красноречие, и непрерывное мелькание перед глазами. Как и во время разговора с госпожой Крювелье, у Жан-Марка возникло ощущение, что перед ним разыгрывается сцена из спектакля или эстрадный номер под названием «юный гений размышляет о литературе».
— А вы знаете, что Андре Бретон[3] считал Лотреамона родоначальником всей сюрреалистической поэзии? — не унимался Жильбер.
— Послушайте, друг мой, — не терпящим возражений тоном произнес Жан-Марк, — я здесь не для того, чтобы готовить доклад об истоках сюрреализма, я призван помочь вам сдать экзамены. Давайте вернемся к Буало, к Расину и к интригам против «Федры».
Ораторский пыл Жильбера угас.
— Извините, просто мне кажется, что Лотреамон настолько значительнее всех остальных… — успокоившись, смущенно пробормотал юноша.
Однако чуть позже, когда Жан-Марк попросил его проанализировать произведения Расина, он опять оживился и стал с горячностью утверждать, что, по словам Поля Валери, Расин скорее внес бы изменения в характер Федры, чем написал некрасивую строфу.
— Об этом упоминает Андре Жид[4] у себя в «Дневнике», хотите, я вам покажу?
Не ответив, Жан-Марк продолжал задавать своему ученику вопросы по литературе XVII века. Выяснилось, что у Жильбера нелады с датами, что он не читал половины пьес Мольера, что Лафонтен наводит на него смертельную скуку, что он не уверен в позиции Паскаля относительно янсенизма[5] и что едва ли он может сказать что-либо определенное относительно спора о «древних и новых авторах»[6]. Было ясно, что Жильбер черпает знания из того, что попадается ему под руку, и что его образование зависит от случайного выбора книг. Но Жан-Марк чувствовал, что, несмотря на эту бессистемность в обучении, его ученик в своих взглядах был разностороннее, оригинальнее и смелее его самого. «Зачем меня сюда занесло?» — подумал Жан-Марк и мужественно перешел к алгебре. Склонившись над параграфом о функции трехчлена, он вполголоса прочел его текст, потом перечитал еще раз и, опираясь на смутные воспоминания, начал объяснять Жильберу. Время от времени Жан-Марк заходил в тупик, и тогда Жильбер, вызывая в памяти недавно пройденное в классе, помогал своему учителю. Покончив с теорией, они перешли к практическим заданиям. С грехом пополам, подсказывая друг другу, продирались они сквозь дебри кривых, касательных и абсцисс.
Сидя за столом, Жан-Марк ощущал за своей спиной интеллектуальную мощь книжных томов, которые неподвижно покоились на стеллажах. Гениальные мысли всех этих знаменитых писателей, казалось, в любой момент были готовы выскочить из своего бумажного плена, словно чертик из коробочки. Книги придавали комнате сходство со святилищем, в котором собрана вся премудрость человечества. Такая библиотека у семнадцатилетнего юнца! Разве это справедливо? Жан-Марк старался побороть в себе глухое раздражение, вызванное богатством, буквально лезшим в глаза повсюду, от вестибюля до спален. Кстати, раньше он не обращал особого внимания на дорогую обстановку, окружавшую его в доме отца. И только поселившись отдельно и начав вести крайне скромный образ жизни, он стал замечать возмутительное всевластие денег. Жан-Марк был вынужден ограничивать себя во всем, порой даже в самом необходимом. Ему было неприятно видеть, как другие купаются в роскоши. Однако Жан-Марк не испытывал к ним чувства зависти, изо всех сил стараясь подавить в душе зарождающуюся классовую ненависть. Осуждать богатых — это слишком просто. Одной только едкой критикой нельзя изменить мир к лучшему. Разве Жильбер виноват в том, что его дед — удачливый финансист и член правления многих крупных корпораций? И почему бы господину Крювелье, заработавшему огромное состояние, не тратить его на приобретение произведений искусства? Хотя он наверняка плевать хотел на искусство, для него это просто удачное вложение средств! Но Жильбер не похож на своего деда. Вполне вероятно, что он прочел лишь одну четвертую или пятую часть томов, стоящих на полках его библиотеки, но даже те книги, в которые он ни разу не заглянул, смогли каким-то мистическим образом передать ему свое содержание. Проводя почти все свое время в лесу печатных страниц, среди несуществующих персонажей, этот юноша и сам приобрел какую-то искрящуюся эфемерность эльфа.
Задаче по алгебре не было видно конца, но Жан-Марк не хотел признаваться в своем невежестве. Двигаясь от уравнения к уравнению, он, обессилев, все-таки решил ее. Жильбер вздохнул:
— Вот уж не думал, что у нас что-нибудь получится, — признался он.
Было поздно, Жан-Марк встал, собираясь уходить.
— Я бы хотел дать вам «Озарения», — предложил Жильбер. — Прочтите, вы увидите…
— А вы прочтите «Поэтическое искусство» вашего друга Буало, — язвительно улыбнувшись, сказал Жан-Марк и тут же об этом пожалел.
Он ничего не мог с собой поделать: юноша одновременно и раздражал, и занимал его. Взяв протянутую ему книжку в зеленой кожаной обложке, Жан-Марк опустил ее в карман пиджака. В обратном порядке последовали коридор, картины, вестибюль, колонны из порфира с резными алебастровыми капителями и гобелены с блекло-розовыми мифологическими персонажами среди орнамента из синеватых листьев.
Стоя поздним вечером на тротуаре бульвара Мориса Барреса[7], Жан-Марк испытывал странное ощущение, словно он только что вынырнул на поверхность после длительного погружения в прошлое. Последние слова его ученика еще звучали у него в ушах. Жильбер говорил и думал совсем не так, как его ровесники. Он казался выходцем из довоенного времени. Кто знает, может, это влияние родителей его отца? Обращение на «вы», любовь к чтению, потрясающий комфорт, отсутствие друзей… Жильбер был несколько старомоден и в своем наивном энтузиазме, и в своей вежливости.
Брошюрка оттягивала Жан-Марку карман пиджака. При каждом шаге она острым углом больно впивалась ему в ногу. Подняв воротник пальто, Жан-Марк углубился в холодный сырой сумрак, в котором слабым светом мерцали точки уличных фонарей. Слева возвышались отвесные утесы богатых домов, справа простирался темный хаос Булонского леса, пахнущего прелой листвой. Вся эта часть Нёйи[8] надежно покоилась на солидных банковских счетах. Но имел ли Жан-Марк право возмущаться подобным положением вещей? Он, чей отец… «Да нет у меня отца!» — вдруг с горечью подумал он. В глубине души Жан-Марк признавался себе, что пытается оправдать свою нынешнюю убогую жизнь высокими идеалами, прекрасно понимая, что его бедственное положение — не что иное, как случайность. Если бы у него появилась возможность вернуться в семью, с какой радостью он бы это сделал! Ведь материальное благополучие — тот же наркотик. Человек, хоть раз испытавший на себе его действие, уже не может от него отказаться. А если и сможет, то лишь путем мучительной ломки. В свое время Жан-Марк решил, что сумеет переломить себя, и вот теперь он медленно изнемогает.
От затхлого запаха, стоявшего в вагоне метро, Жан-Марка замутило. Его окружали усталые люди в поношенной одежде. Как можно любить нищету? Пока он мучается, зажатый среди этих неимущих работяг, Жильбер небрежно листает книги по искусству, скользит взглядом по рисунку Матисса и акварели Дюфи. Время от времени поезд останавливался в недрах пещер, кафельные стены которых пестрели рекламными щитами, и толпы пассажиров штурмовали двери вагонов. Нет, на земле все-таки слишком много людей!
Вернувшись к себе, Жан-Марк сразу ощутил царящий в помещении холод. Как обычно, трубы отопления, идущие из нижней квартиры вдоль внутренней стены, мгновенно остужали его комнату. Жан-Марк приложил ладонь к перегородке и почувствовал, что она ледяная. Без сомнения, соседи, уходя из дома, перекрыли отопление. Жан-Марк включил электрический обогреватель. При существующих ценах на электричество он мог позволить себе не больше пятнадцати минут счастья. Закутавшись в домашний халат, повязав шейный платок и укрыв колени одеялом, Жан-Марк сел за стол. Его ужин состоял из сардины и остатков грюйера. Он мог бы ходить в университетскую столовую, но все еще предпочитал скудную домашнюю пищу казенному меню общепита. Проглотив последний кусочек сыра, Жан-Марк придвинул к себе конспекты и учебники по гражданскому праву. Надо было подготовиться к практическим занятиям, назначенным на следующее утро. Каждая оценка, выставленная на четвертом курсе, может быть принята во внимание, когда комиссия будет обсуждать балл на выпускном экзамене. От серого, плохо отпечатанного текста лекций у Жан-Марка быстро устали глаза. Он вынул из кармана пиджака зеленую кожаную книжицу и машинально раскрыл ее.
Короткие, пронзительные фразы. Повсюду на полях страницы были разбросаны карандашные пометки. «Я соединил колокола всех колоколен, протянул гирлянды от окна к окну, связал золотыми цепочками звезды и стал танцевать». Почему Жильбер подчеркнул именно эту фразу Рембо? Может, он и сам испытал в этот момент то же ощущение радости, удивительной воздушной легкости? Размышляя о нем, Жан-Марк почему-то вспоминал то дрессированную цирковую собачку, то бенгальский огонь с его непредсказуемыми вспышками, пожирающий свою же проволочку. Честно признаться, он был доволен проведенным днем. Ему хотелось верить, что сегодня он совершил нечто более значительное, чем просто дал урок. Он помог другому. Есть люди, которые, озаряя вашу жизнь своим внутренним светом, позволяют вам поверить в себя.
Жан-Марк вновь вернулся к правам наследования. Открыв главу «Продажа унаследованного имущества», он продолжал думать о библиотеке, где провел часть сегодняшнего дня в компании с Буало, Расином, алгеброй и старомодно вежливым, скрытным, тщеславным подростком, насквозь пропитанным комфортом и литературой. Поэзия и юриспруденция слились в голове Жан-Марка в некую адскую смесь. Вот еще одна подчеркнутая Жильбером фраза: «Все — на продажу. Анархию — народным массам, безудержное наслаждение — высшим ценителям, мучительную смерть — верующим и влюбленным!» В свою очередь Жан-Марк подчеркнул у себя в тексте лекции: «В случае если какое-либо лицо, не упомянутое в завещании, имеет равные права с законными наследниками — что может иметь место, когда один из супругов пережил другого, — то это лицо, располагая правом на пожизненное пользование имуществом, должно послать запрос о выделении данной части из общей суммы наследства». И дальше у Рембо: «Продаются корыстные соображения, поразительные по красоте прыжки в пустоту…»
Жан-Марк отодвинул лекции и полностью погрузился в «Озарения». Лишь прочитав книжку до конца, он опять взялся за гражданское право. На душе у него было спокойно, он больше не мерз. Прозанимавшись до двух часов ночи, усталый, довольный и голодный, Жан-Марк лег спать.
V
Даниэль выскочил из дверей клиники, увернулся в последний момент от въезжавшей в ворота больничного сада санитарной машины и, прижимая локти к телу, как спринтер рванул к авеню дю Руль. Там ему удалось с ходу поймать такси. Залезая в машину, он прохрипел:
— Бульвар Сен-Мишель, 44.
— Это, случайно, не лицей Людовика Святого? — спросил шофер.
— Точно, — все еще тяжело дыша, подтвердил Даниэль.
Он посмотрел на часы. Маловероятно, но, если повезет, можно будет успеть к началу контрольной по философии. Еще утром Даниэлю казалось, что он будет вынужден пропустить ее. Вот была бы досада, ведь на этот раз он выучил все от корки до корки. Если темой станет «Намерение и поступок» или «Человек и пространство», у него даже есть надежда обогнать Панонсо, который в ноябре был первым. И все-таки Даниэль ни за что на свете не оставил бы Дани одну, пока все не завершится благополучно.
Какая была ужасная ночь! Неожиданный подъем в два часа, поспешные сборы в клинику, куча пакетов и одеял, стонущая Дани, Марианна Совло со спокойным и одухотворенным лицом полководца накануне сражения, комната ожидания в стиле Людовика XV, фотографии младенцев… Лоран с отцом остались дома. Доктор Болепье говорил прямо, без обиняков, и был полон оптимизма. И все-таки роды продолжались дольше, чем ожидалось. Без боли? Как же, жди! Бедняжка Дани, конечно, очень мучилась. Чтобы хоть как-то убить время ожидания в этой тихой и плохо освещенной комнате, Даниэль просматривал свои конспекты. Пока он листал тетрадь, его теща, сидевшая рядом, периодически бросала на него то печальные, то нежные взгляды. Было ясно, что она не понимала, как можно чем-то заниматься в такой момент. Если бы она знала Коллере-Дюбруссара! Сама Марианна не глядя перелистывала какой-то женский журнал.
Шаги, приглушенные мягким линолеумом, тиканье настенных часов. Время еле ползет. В голове тяжесть. В четверть седьмого утра на пороге комнаты показалась сияющая акушерка: «У вас девочка!» Марианна Совло обняла Даниэля. Он был очень растроган, хотя хотел мальчика. Пережив первый порыв радости, он подумал: «Раз так, я еще успеваю на контрольную». На лице у Марианны царило ликование, она встала, расправила смявшееся платье и обратилась к Даниэлю: «Пойдем!» Дани была бледная, слабая и счастливая. Рядом с ней, в детской кроватке, лежал сверток с красным сморщенным комочком внутри. Отец! Дани устала, надо дать ей отдохнуть. Все складывается как нельзя более удачно. Если его присутствие не так уж необходимо Дани, он может сейчас поехать в лицей. Понятно, что во второй половине дня он туда не вернется. Физика, химия, английский — второстепенные предметы. Но для начала ему надо принять слова извинения от доктора Болепье. Пусть хоть на что-то сгодится! Они звонили ему ночью несколько раз, и в итоге он приехал только тогда, когда все давным-давно началось. «Смехотворно! Архисмехотворно!» — как любит выражаться Лоран. Такси медленно вползало на авеню де ля Гранд Арме.
— Не могли бы вы ехать немножко быстрее, — попросил Даниэль.
Шофер проворчал в ответ нечто неразборчивое и нажал на газ. «Славный малый!» — решил Даниэль. Впрочем, сегодня утром у Даниэля все были «славными». Отец! Какое странное ощущение. Однако он еще не настолько отошел от происшедшего, чтобы анализировать свои чувства с философских позиций. Для него в слове «отец» соединились и торжественная гордость, и подспудные опасения, и непонятное уважение. Даниэлю хотелось смеяться, доказывать всем окружающим свою значимость. Если бы только ему удалось стать первым по философии! Да, сегодня речь идет не о рутинной контрольной. Это должен был быть письменный опрос с целью приучить учащихся к подобным заданиям при сдаче экзамена на степень бакалавра. И все-таки отличиться в подобном конкурсе — очень почетно. Даниэль мечтал преподнести свой успех Дани в качестве подарка. При мысли о ней его переполняли жалость, любовь, нетерпение. Как могут Елисейские поля быть так забиты в этот час?! После занятий он поедет прямо в клинику. Оттуда он позвонит отцу, матери, Маду, Франсуазе и Жан-Марку. Он представлял себе радость родных, когда они узнают эту новость. А что, если на контрольной будет тема, которую Коллере-Дюбруссар читал в первой четверти? Тогда Даниэль попадет в западню, ведь он этого не предусмотрел. Выхватив из портфеля тетрадь и положив на колени, Даниэль опять принялся перелистывать ее. Машина дергалась, и это мешало ему читать. Он мысленно повторял названия некоторых тем: «Учение Платона, идеи Декарта, направление философских взглядов Канта». А в каком направлении движется его такси? Почему он поехал по набережным, идиот?! Ну вот, попали в пробку. «Философия — это не любовь к мудрости, а мудрость любви» — писал Хайдеггер[9]. Даниэль закрыл тетрадь и, вытянув шею, стал нервно следить за тем, как его такси, зажатое в потоке других машин, еле-еле ползет к бульвару Сен-Мишель. В окошке счетчика выскакивали цифры. Хватит ли у него денег? Слава Богу, тютелька в тютельку, но уж без чаевых. Такси остановилось перед лицеем Святого Людовика. Даниэль заплатил шоферу, выскочил из машины и захлопнул дверцу.
Он добрался до класса в момент, когда Коллере-Дюбруссар, расположившись за кафедрой, широким жестом раскрывал свою коричневую кожаную папку. Лоран, сидевший двумя рядами дальше, вполголоса окликнул его. Даниэль обернулся.
— Ну, как там? — прошептал он.
— Девочка, — ответил Даниэль, зардевшись от счастья. Весь класс смотрел на него.
«Человек и рука». О такой теме можно было только мечтать. За неясной формулировкой скрывалось широкое поле для творчества. Как только Даниэль осознал, что речь идет о «человеческом опыте», его перо мгновенно вошло в соприкосновение с белизной чистого листа. Казалось, воспоминания о лекциях по философии, всплывая вначале в голове Даниэля, плавно перетекают в его руку.
Даниэль писал не останавливаясь, почти без помарок. «Пространство, окружающее человека, бывает ориентированным в какую-либо сторону. Чаще всего оно соприкасается с его правой, наиболее умелой рукой. Таким образом, можно утверждать, что мир находится у человека справа». Эту фразу в свое время произнес на лекции Коллере-Дюбруссар, однако у Даниэля возникло пьянящее чувство, будто он сам только что придумал ее. Не отрывая глаз от стола, Даниэль, тем не менее, знал, что рядом с ним трудятся, склонив головы, его одноклассники. Словно галерные рабы, упорно налегая на свои весла-ручки, они медленно двигали корабль вперед… «Нельзя терять ни минуты. Надо опередить Панонсо», — подумал Даниэль и приступил к основным различиям между «человеком действующим» и «человеком мыслящим». «Наши доисторические предки изготавливали каменные орудия еще до того, как научились разумно мыслить. По Бергсону, homo faber, то есть человек, пользующийся орудиями, предшествовал homo sapiens, то есть человеку разумному». Теперь разовьем тему: «Рука как прообраз орудия труда». Коллере-Дюбруссар будет на седьмом небе от счастья. «Проведем аналогию между кулаком и камнем, между пальцем и палкой…» Восторгаясь собственными познаниями, Даниэль одновременно испытывал какое-то другое радостное чувство, никак не связанное с его авторскими успехами. Лучи непонятного счастья просвечивали сквозь красиво выстроенные фразы, озаряя его мысли необычным сиянием. «Кажется, в моей жизни произошло что-то очень-очень хорошее. Ах да, ведь я теперь отец! Я, Даниэль! Это невероятно!» Один за другим товарищи Даниэля сдавали свои работы. Он же никак не мог решиться перейти к заключению. Коллере-Дюбруссар был вынужден вынуть у него листы прямо из-под пера. Выходя из класса, Даниэль в отчаянии ударил себя по лбу: он забыл упомянуть об «экспрессивном значении руки»!
— Что можно успеть за два часа? Это очень мало! — сетовал он. Одноклассники Даниэля не разделяли его мнения. Расспрашивая о том, что им удалось сделать, Даниэль пришел к выводу, что его работа наиболее полно раскрывает тему. К тому же Панонсо как-то подозрительно быстро смотался, не приняв обычного участия в «тротуарных» дискуссиях. А это был верный признак того, что на сей раз он оказался не на высоте.
— Ну, что, теперь едем в клинику? — спросил Лоран, отводя Даниэля в сторону.
— Да, едем, но сначала мне надо купить цветы для Дани. Ты не мог бы одолжить мне десятку?
— У меня самого только на метро.
— Вот черт, — вздохнул Даниэль, — не могу же я в такой день явиться без цветов.
К счастью, их одноклассники еще не разошлись. Вернувшись к товарищам, Даниэль напрямик высказал им свою просьбу. Среди молодых людей возникло замешательство. Тогда он объяснил, что только сегодня утром стал отцом и поэтому в спешке забыл деньги дома. Даниэль обещал завтра отдать все сполна. На самом деле он был не очень уверен в этом последнем пункте, но, тем не менее, говорил с таким жаром, что сумел завоевать доверие. Богатенький Дюбонде, не знавший, на что бы еще потратить свои деньги, протянул Даниэлю купюру в пятьдесят франков.
— Мелких у меня нет.
— Это слишком много! — воскликнул Даниэль. — Мне столько не вернуть.
Тогда Дюбонде, вывернув карманы, наскреб ему необходимые десять франков монетами по двадцать су. Даниэль поблагодарил и быстрым шагом направился в цветочный магазин. Лоран, ворча, следовал за ним.
— Надеюсь, ты не собираешься все потратить на цветы?
— Раз надо, значит, надо, — строго сказал Даниэль, открывая дверь цветочного магазина.
Лоран, все еще переживавший за судьбу десяти франков, вошел следом за ним. Взгляд Даниэля упал на охапки роз и сирени. Сегодня Дани была достойна самых прекрасных цветов на свете, но, справившись о цене, Даниэль вспыхнул и чуть не вышел из магазина. Продавщица насмешливо посмотрела на него. Под ее пристальным взглядом ему пришлось спуститься на несколько ступенек по лестнице цветочной иерархии. Немного поколебавшись, он наконец решился на покупку небольшого букетика полевых цветов. Букет был упакован в прозрачную пластиковую коробку и стоил всего семь франков. Лоран пожал плечами: он считал, что и это дорого. В метро Даниэлю пришло в голову, что цветы лучше было бы купить прямо в Нёйи, а не тащиться с ними из Латинского квартала. Какой же он все-таки непрактичный! В вагоне, среди ужасного грохота, Лоран расспрашивал Даниэля, как прошли роды. Тот снисходительно отвечал:
— Ясно, что она страдала, все роженицы страдают. Таков уж закон природы.
— А младенец симпатичный?
— Ты хоть раз видел симпатичного младенца?
— Он похож на тебя?
— Во-первых, не «он», а «она». Во-вторых, она ни на кого не похожа.
— Это просто смехотворно, что вы решили назвать ее Кристиной!
— Кристина, Мадлен, Ядвига. Какая разница? Что тебя смущает?
— Да нет, ничего, но я бы предпочел Натали.
— Ну уж нет! Только не это! Помнишь мадам Натали, нашу бывшую учительницу по математике? Каждый раз, называя дочь по имени, я ждал бы появления математички с ее перекошенной пастью!
В коридоре клиники они встретили Шарля и Марианну Совло, которые жались около двери в палату. Что-нибудь случилось? Нет, нет, просто санитарный час. Вскоре появилась медсестра и объявила, что можно войти. Даниэль с бьющимся сердцем переступил порог и увидел полусидевшую в кровати жену, слабую, но розовую и улыбающуюся. Рядом с ней в колыбельке, прикрытой прозрачной тканью, лежала крошечная девочка — лобик нахмурен, кулачки крепко сжаты, веки плотно закрыты, а на вытянутой головке редкие черные волосики. Только бы она со временем выровнялась!
— Ой, цветы, спасибо! — радостно воскликнула Дани, приподнявшись со своих подушек.
Даниэль обнял ее так осторожно, словно прижимал к груди воздушную гимнастку с переломанными конечностями. Ему казалось, что после всех тех мук, которые из-за него перенесла Дани, он уже никогда не сможет избавиться от чувства вины перед ней. Ответственность за жену и ребенка делала его в этой палате еще более неуклюжим, чем обычно.
— Ну, рассказывай скорее. Все в порядке? — с нетерпением в голосе спросила Даниэла.
Даниэль был потрясен этим простым вопросом. Как все-таки она его любит! Как умеет понять его интересы!
— Надеюсь, что да, — важно ответил Даниэль.
— Почему «надеюсь»? Что до меня, то я в этом абсолютно уверена! В такой день тебе не могло не повезти. А как твои дела, Лоран?
— Я с трудом выжал из себя две страницы. И тема была какая-то дурацкая, — ответил Лоран.
— Нет уж, извини, — запротестовал Даниэль, — задание было сформулировано очень грамотно — «Человек и рука».
— Ну и что? Уж если на то пошло, это скорее из курса психологии. Всякие там представления, образы…
— Ничего ты не понял! Не надо было тебе писать об образах!
— Нет, надо.
— Нет, не надо.
— Знаешь, что, старик…
Даниэль решил, что продолжать спор бессмысленно. Ему не хотелось из-за своего нерадивого шурина выходить из роли молодого отца и нарушать торжественность момента. Лоран вынул сигарету и протянул пачку Даниэлю. Тот уже собрался было закурить, но вмешалась Даниэл:
— Нет-нет! Не надо курить в комнате Кристины!
Шарль Совло поднялся. Он не мог дольше оставаться, его ждали на работе. После его ухода Марианна прибралась в палате, сложила вещи в шкафу и вновь села рядом с дочерью. Дани взяла ее лежавшую поверх одеяла руку и, сжав кончиками пальцев, посмотрела матери в глаза. Даниэлю она напомнила маленькую беспомощную девочку. Конечно, сейчас Дани больше нуждается в своей матери, чем в нем. Вполне естественно, что после первых родов женщина прежде всего обращается к той, что сама когда-то подарила ей жизнь. Тесная внутренняя взаимосвязь, переходящая из поколения в поколение. Но Даниэль ничуть не чувствовал себя забытым. Если честно, то он немного скучал в этом ограниченном, пахнущем лекарствами, бесшумном мирке, предназначенном только для женщин. Чтобы хоть как-то оправдать свое присутствие, Даниэль склонился над колыбелькой. Он пытался выдавить из себя немного нежности, но испытывал только тревожное любопытство и удивление. С философской точки зрения, факт рождения человека крайне интересен. Там, где только что ничего не было, внезапно появляется живое существо. Причем, существо безупречное, цельное и законченное. У него есть уши, волосы, ногти. Оно возникло в результате чудовищного катаклизма, к которому можно приравнять роды, и теперь живет со своими кровеносными сосудиками, печенью в миниатюре, крохотным комочком бьющегося сердца. И возможно, где-то глубоко внутри, в генах, зашифрована вся его будущая жизнь. Оно родилось на свет, хотя и не просило об этом. С каждым вздохом его легкие расправляются под натиском воздуха этого нового, пока что чужого для него мира. Отныне это существо живет в ожидании радостей и печалей для себя и своих близких. Внезапно Даниэлю пришла в голову безумная мысль: а ведь Дани права, сегодня ему все должно удаваться. Прежде всего, надо восстановить мир в своей семье. Как давно он об этом мечтал! Рождение его ребенка — прекрасный предлог для воссоединения отца и брата. Естественно, он не станет говорить заранее о встрече, которую подготовит. У этой колыбели они забудут все свои раздоры и упадут друг другу в объятия. Его губы растянулись в улыбке.
— О чем ты думаешь? — спросила Даниэла.
— Мне надо позвонить своим и сообщить новость.
— Как?! — удивилась Марианна Совло. — Вы еще не звонили?
Телефонный аппарат стоял у Дани рядом с изголовьем. Даниэль снял трубку и задумался: с кого начать? Если время визита отца и брата он хотел совместить, то свидания отца с матерью следовало избежать во что бы то ни стало. Удивительно — но любое важное событие в семье Эглетьеров омрачено этой междоусобной войной. Голос девушки с коммутатора прервал его размышления. Застигнутый врасплох, Даниэль назвал номер отца.
Франсуазе медсестра принесла стул, а Жан-Марк и Лоран уселись на подоконник. Даниэлу немного лихорадило: щеки у нее раскраснелись, глаза блестели. Вокруг кровати в вазах разных размеров и форм были расставлены букеты, от которых исходил приторно-сладкий аромат. «Вся в цветах, словно кинозвезда!» — восхищенно воскликнула медсестра. Должно быть, в каждой палате она говорит одно и то же, подумал Даниэль. И все-таки ему верилось, что даже этой женщине, с утра до вечера занимавшейся роженицами, ухаживать за Дани было особенно приятно. Франсуазу малышка просто очаровала. Она и Марианна Совло поминутно склонялись над детской кроваткой. Любая женщина бывает глубоко тронута рождением новой жизни. Отцовская любовь — это анализ, материнская — инстинкт. Интересно, будет ли в дальнейшем в лекциях по философии затронута тема страсти и ее зависимости от половой принадлежности индивидуума? Даниэль читал, что морские коньки помогают своим подругам откладывать икринки, которые потом в виде ленты обвиваются вокруг тела самки. Самцы лосося выкапывают на поверхности дна ямки, чтобы самки могли метать туда икру. А вот у черепах и крокодилов отцы не принимают никакого участия ни в появлении потомства на свет, ни в его воспитании. Как было бы увлекательно провести сравнительный анализ отцовского поведения и психики человека и животных!
Находясь невероятно далеко от столь жизненно важных проблем, Жан-Марк и Лоран преспокойно обсуждали гоночные автомобили. Беспечность обоих поражала Даниэля. Очевидно, необходимо жениться и стать отцом семейства, чтобы познать жизнь во всех ее тонкостях. Лоран поднял руку и посмотрел на часы. Неужели этот тип даст сейчас сигнал к отправлению? Уж Жан-Марк-то не преминет этим воспользоваться. А ведь всего четверть пятого. Даниэль назначил отцу встречу на четыре, а матери на шесть часов вечера. Если отец еще хоть чуть-чуть задержится в конторе, то их встреча с Жан-Марком не состоится. Больше такого удачного случая не представится! Обстановка, атмосфера, торжественное событие, симпатичные свидетели их примирения… Все как на заказ! Единственная досадная деталь — отсутствие Маду. Услышав новость по телефону, она невероятно обрадовалась. Но из Тука не так просто приехать, она доберется до Парижа только поздно вечером. В ближайшей перспективе еще одна сцена восторгов и умиления. Жан-Марк вдруг соскочил с подоконника. Испугавшись, что он собирается улизнуть, Даниэль спросил:
— Ты что, уже уходишь?
— Нет, — ответил Жан-Марк, — просто здесь можно задохнуться.
Все это время он просидел, не снимая пальто, и теперь снял его. Даниэль облегченно вздохнул. Действительно, невероятно жарко. Палата Дани была очень симпатичной: в бело-голубых тонах, с видом на сад, с собственным туалетом. Каждый раз, оглядывая эту комнату, Даниэль думал о предстоящих расходах. Понятно, что оплачивать эту роскошь придется его тестю. А он и без того находится в затруднительном положении. «Честно говоря, с моей стороны было порядочнее бросить учебу и искать себе работу, все равно какую!» — с горечью думал Даниэль. Но у него не хватало духу отказаться от философии. Он не хотел оставить свой ум неразвитым и не хотел жертвовать будущим ради настоящего. Сегодня он находился в самом трагичном положении, в какое только может попасть мужчина. Никакая пытка не сравнится с муками студента, ставшего отцом семейства и вынужденного содержать семью на деньги другого человека. Даниэль окинул Дани влюбленным взглядом. Она вся светилась в ореоле обретенного материнства. Конечно, как всякая женщина, она считала нормальным, что ее содержат. Неважно кто, родители или муж. Даниэль завидовал ее беззаботности. Похоже, в этой палате только его одолевают тревожные мысли.
— Смотрите, как она сжимает мой палец, — радовалась Франсуаза. — Вот это сила! А какие у нее ямочки на ручках… Мне кажется, она вылитая Дани: форма глаз, рта…
В дверь постучали. У Даниэля сильно забилось сердце. Он открыл и впустил в палату отца, улыбающегося и очень импозантного. Не готовый к подобному повороту событий, Жан-Марк незаметно для всех выпрямился и замер. Филипп поздоровался с Марианной и Шарлем Совло, поцеловал Франсуазу, пожал руки Даниэлю и Лорану, подошел к постели Дани и, поцеловав ее в лоб, сказал, что она чудесно выглядит. Только после этого он бросил холодный взгляд в сторону старшего сына и сухо произнес:
— Здравствуй, Жан-Марк.
— Здравствуй, папа, — ответил тот и взглянул на брата.
Даниэль уловил в его глазах беспокойство и ненависть. «А ведь ты сделал это нарочно! — говорил, казалось, его взгляд. — Ты знал, что он придет». Даниэль стоически выдержал этот немой укор. Почему Жан-Марк никак не поймет, что пора наконец покончить с этой глупой историей? Пора начать вести себя, как мужчина, а не как нервный впечатлительный мальчишка.
Филипп подошел к детской кроватке.
— Правда, она прелесть? — спросила его Франсуаза.
— Очаровательная малышка, — ответил Филипп.
Восхищение его было искусственным, приклеенная к лицу улыбка — фальшивой.
— Странно, что Кароль еще не пришла, — сказал он, выпрямляясь.
— Наверно, где-то застряла в пробке, — предположила Марианна. — В Париже такой ужас творится на дорогах!
Жан-Марк взялся за пальто.
— Как, ты уже уходишь? — с досадой в голосе воскликнул Даниэль.
— Да, мне пора, — ответил Жан-Марк.
— Но ведь ты только что пришел, еще и пяти минут не прошло!
Жан-Марк отрицательно покачал головой. Он говорил неправду, и все это видели. Один взгляд, любое слово отца могли остановить его, но Филипп молчал с каменным лицом. Жан-Марк поспешил уйти, дверь за ним едва закрылась, а Даниэль уже почувствовал горечь и разочарование. Он не знал, кого — отца или брата — больше винить в том, что его миротворческая миссия провалилась. В палате вновь зазвучали голоса: теперь говорили о нем. Разговор был таким скучным и банальным, что Даниэль быстро потерял к нему интерес и стал смотреть в окно. Вскоре он увидел, что через сад идет Кароль. На ней был серо-бежевый плащ с воротником из выдры. Интересно, встретились ли они с Жан-Марком у ворот клиники?
— А к нам новый посетитель, — объявил Даниэль.
Филипп сделал стойку.
— Кто? — поинтересовалась Дани.
— Кароль, — ответил ей Даниэль.
— Наконец-то, — проворчал Филипп.
Последовало долгое молчание. Филипп чувствовал на себе взгляды сына и дочери, но ему было плевать, какого они о нем мнения. Внутренне сжавшись, он ждал появления Кароль. «У входа она должна была столкнуться с Жан-Марком, — думал он. — Что она почувствовала, увидев его? Какой же я наивный глупец, ведь они и так могут встречаться! А как же тогда Ксавье Болье? Хотя одно другому не мешает. Она такая мерзавка, что может держать при себе обоих, и меня в придачу!» Филипп настолько привык к этим проявлениям ревности, что, как хронический больной, мог не только предвидеть приближение приступа, но и распознавать все его этапы, от момента, когда боль начинается, и до того, как она отпускает. В сотый раз он упрекнул себя в том, что не разузнал хорошенько, с кем встречается его жена. Надо было проследить за ней. В конце концов, нанять частного детектива. Нет, невозможно, чтобы он опустился до такой степени. Да и стало ли бы ему легче, узнай он все?!
Дверь в палату открылась. Как всегда бывало при появлении Кароль, присутствующие оживились. За одну минуту она очаровала своей улыбкой Марианну Совло, как родную дочь расцеловала Даниэлу, издала возглас восхищения, увидев младенца, прижала к себе Даниэля, назвав его «папашкой», и подарила ночную кофточку матери и летний комбинезончик ребенку.
— Мне показалось, что розовое вам будет к лицу, — обратилась она к Даниэле. — Клянусь, более восхитительной малютки я не видела никогда в жизни!
Пока Кароль, склонившись над колыбелью, расточала комплименты, Филипп любовался ею. Да, эта женщина — в его вкусе. Ничто не испортило ее красоты. Она не знала тягот вынашивания ребенка, не кормила грудью. От своего пола она взяла все самое лучшее, самое романтическое. Может, ее действительно тронуло простодушное счастье Даниэля и Дани? Что, если, наблюдая за тем, как они вьют свое семейное гнездышко, она вновь захочет обрести покой и радость в семье? И, может быть, теперь, встретившись с детьми и вспомнив прошлое, она вернется к нему? При этой мысли Филиппа охватило чувство невероятного ликования. Сделав знак сыну, что хочет переговорить с ним, он вышел из палаты в коридор.
— Я слушаю тебя, папа, — сказал Даниэль.
— Проводи-ка меня в администрацию клиники, — попросил Филипп тоном, не терпящим возражений.
Они спустились по главной лестнице. В конце коридора первого этажа находилась застекленная дверь. Остановившись перед ней, Филипп произнес:
— Все расходы по пребыванию Даниэлы в клинике оплачиваю я. — Не дав сыну возможности поблагодарить его, Филипп вошел.
Пока он разговаривал с бухгалтером, Даниэль, онемевший от изумления, мысленно упрекал себя в том, что недооценивал отца. Вот это человек! Он не дает детям помыкать собой и не вмешивается в их дела. Сбились с пути, выкручивайтесь сами. Он и глазом не моргнет. Но в последний момент, если риск слишком велик, все-таки протянет руку помощи. Со своими сыновьями я буду таким же — строгим, но справедливым!
Закрыв чековую книжку, Филипп положил ее в задний карман брюк. Они вышли в коридор.
— Знаешь, папа, то, что ты сделал, это… это просто потрясающе! — пробормотал Даниэль и обнял отца.
Вначале Филипп, как обычно, хотел уклониться от подобного выражения чувств, но потом, вспомнив о Кароль и о том, что она больше его чтит дух семьи, сделал над собой усилие. Выполняя последний пункт своего замысла, он продолжал:
— Завтра ты откроешь счет в моем банке.
— Но, папа, мне нечего на него положить, — смущенно сказал Даниэль.
Филипп протянул ему стофранковую купюру.
— Для начала положишь вот это. Время от времени я буду переводить тебе небольшие суммы.
Растерявшись от внезапного проявления его великодушия, Даниэль не знал, что сказать.
— Большое спасибо, папа. Но, может, для тебя это затруднительно?
— Будь это так, я не стал бы этого делать.
— Должен признаться, что это чертовски кстати! Учитывая предстоящие расходы… Дани будет так счастлива!
— Мне кажется, не стоит ей говорить.
— От нее у меня секретов нет!
— Ну ладно, как хочешь, дело твое. Только дождись, пока вы останетесь вдвоем.
Вспомнив, что отец ненавидит всяческие излияния, Даниэль счел за благо не настаивать. Когда они вернулись в палату, Кароль уже собиралась уходить.
— Ты отвезешь меня? — обратилась она к Филиппу.
— Конечно.
Филипп ликовал, ему показалось, что, предложив помощь Даниэлю, он тем самым оказал бесценную услугу самому себе, и первой наградой стала просьба Кароль. Конечно, она торопится попасть домой всего лишь для того, чтобы переодеться и уйти, — она теперь все чаще уходит вечерами. Сейчас ни в коем случае нельзя упрекать ее или быть грубым, вернуть женщину назад можно только терпением, хитростью и лаской.
Кароль закрылась в ванной. Оставшись в спальне, Филипп прислушивался к дыханию, тихому плеску воды, позвякиванию флаконов. Следуя за этими звуками, он представлял, как Кароль расслабленно лежит в пене, как слегка колышется ее грудь… грудь, знавшая только любовные ласки.
Трудно поверить, что совсем недавно Кароль полностью принадлежала ему, а он волочился за другими. Осел! Его желание становилось все сильнее, горячая волна крови прилила к лицу. Не в силах сдерживаться, Филипп постучал.
— Входи, — отозвалась она.
Он проскользнул в ванную и попал в облако теплого, пропитанного ароматом Кароль пара. В пеньюаре из розовой махровой ткани она сидела перед туалетным столиком и расчесывала волосы. Широкие рукава, скользнув вниз, обнажили руки до самых подмышек. Между приоткрытыми полами халата угадывалась ее красивая большая грудь. Стоя у нее за спиной, Филипп с трудом сдерживал нервную дрожь, но чем больше усилий он прикладывал, чтобы обуздать себя, тем сильнее ему хотелось обнять Кароль, повернуть к себе, целовать в ненакрашенные губы.
— Я сказал Даниэлю, что оплачу все расходы, связанные с пребыванием Даниэлы в клинике, — негромко проговорил Филипп.
— Правильно, я как раз хотела тебе это посоветовать.
— И еще я решил положить ему небольшое содержание, триста франков в месяц. Что ты об этом думаешь?
— Не слишком щедро!
— В его годы достаточно.
Кароль улыбнулась ему в зеркале. Можно ли это считать поощрением к действию? Филипп положил руку жене на плечо, ощущая под толстой тканью халата стройное, чувственное тело. Кароль встала и, обернувшись к нему, равнодушно произнесла:
— А Франсуаза?
— Что Франсуаза?
— Ей бы тоже надо помочь.
— Ну, Франсуаза — это совсем другое дело. У ее мужа есть работа, она сама кое-что зарабатывает. Мне бы не хотелось вмешиваться. Разве что в случае, если ей станет совсем трудно…
При этих словах Филипп положил вторую руку на плечо жены: теперь он почти обнимал ее, но как пленницу. Достаточно было одного легкого движения — и он притянул бы ее к себе. Филипп стоял так близко, что уже чувствовал тепло, исходившее от ее лица. Кароль не протестовала, не становилась неподатливой. Боже милостивый! Неужели она согласна?! Филипп уже потянулся к ее приоткрытым, ждущим поцелуя губам, но тут она прошептала:
— А что мы станем делать с Жан-Марком?
Словно ледяной шквал ударил Филиппа в лицо. Отпрянув от Кароль, он резко выпрямился и посмотрел на нее. Она не улыбалась, но он уловил у нее в глазах искорки жестокой радости.
— А Жан-Марк, — повторила она, — он тебя не интересует? Ему ты не хочешь помочь? Я часто спрашиваю себя, на что он живет?
Да, Кароль тщательно подготовила ответный удар, признался себе Филипп. Она разожгла в нем желание, дала повод надеяться, а потом, в последний момент, отбросила назад — в пустоту, в одиночество. Впрочем, не исключено, что это — экспромт. В любом случае, она сильнее, и она с ним играет. Скорее всего, именно этим она его и держит, потому что никто никогда не обращался с ним подобным образом. В своих отношениях с женщинами он всегда был хозяином положения. А теперь годы, усталость… Филипп отступил на шаг назад: ему показалось, что сейчас он ее ненавидит. Кароль запахнула пеньюар, прикрыв полуголую грудь.
— С кем ты проводишь сегодняшний вечер? — спросил он глухим голосом.
— С друзьями.
— С кем именно?
— Ты их не знаешь.
— С Ксавье Болье?
— И с ним тоже.
Филипп вышел из ванной, хлопнув дверью. Что делать? Еще нет и половины седьмого. Вернуться в контору? Нет, делами он сыт по горло. На прошлой неделе у Зюрелли случился второй сердечный приступ, и теперь дела в европейском секторе затормозились. Надо будет найти ему замену, какого-нибудь молодого энергичного парня. Ладно, завтра посмотрим, решил Филипп, выходя в коридор.
— Месье будет обедать дома? — спросила проходившая мимо Аньес.
— Нет, — ответил Филипп.
И тут же ему пришла в голову мысль: а вдруг Кароль уйдет только после обеда, часов в девять? Надо было спросить… А что если сегодня она приглашена на поздний ужин? Филипп спохватился, ему стало стыдно своих колебаний, и он еще раз твердо повторил: «Нет!» Пройдя мимо Аньес, измученный и несчастный, он вошел в библиотеку. Здесь пахло кожей и табаком, на столе лежала почта. Филипп вскрыл несколько конвертов — ничего интересного: счета, рекламные проспекты, приглашения. Много приглашений… Он решил отклонить все, зная, что Кароль не очень хочется появляться с ним на людях. Сколько продлится эта сомнительная ситуация? Он сойдет с ума, если Кароль не смягчится. Как она может быть такой жестокой с ним и такой очаровательной с другими? Какое ангельское выражение лица было у нее сегодня в палате Даниэлы! Филипп вынул из кармана ручку и написал распоряжение в свой банк: «27 числа каждого месяца на счет моего сына, Даниэля Эглетьера, должна переводиться сумма в размере трехсот франков». Поставив точку, сказал себе: «Ну вот, маленький хитрец добился того, чего он хотел».
VI
В складском подвале печатной продукцией пахло еще сильнее, чем в самом магазине. Даже печенье, которое жевал сидевший на стуле Николя, отдавало бумагой и типографской краской. Возмутительное дело, чтобы заморить червячка и передохнуть, он вынужден прятаться! Эти две дамочки сверху могли бы хоть на время оставить его в покое. Но куда там, даже в отсутствие Брекошона они не перестают шпионить, придираться к мелочам, лезть не в свои дела. Можно подумать, что если он, Николя, не работает, то тем самым наносит ущерб их карману. Просто две дуры, причем, каждая — в своем роде. Перед хозяином вечно лебезят, а ему так и норовят сделать какую-нибудь гадость. Ну, ничего, они у него еще попляшут! Уж он-то им отомстит! Как? Этого он пока не решил.
Набив полный рот, Николя какое-то время предавался сладостным мечтам об изощренной мести, которую он им уготовит. Потом его скучающий взгляд скользнул по полкам, где стояли книги, рассортированные по фамилиям авторов. Когда-то, вначале, он ради развлечения просматривал некоторые из них. Это были романы, эссе, исторические произведения… Он листал Стендаля, Пруста, Достоевского, Джойса, Гете, более или менее известных современных авторов. Неужели можно все это прочесть?! Когда-нибудь он обязательно это сделает. Потом. Сейчас он так закрутился, что ему не до чтения. К тому же, если время от времени полистывать эти книжки, глядишь, чего-нибудь и нахватаешься. Ведь важно не быть образованным, а производить впечатление образованного.
Посмотрев на висевшую прямо перед ним табличку «курить воспрещается», он щелкнул зажигалкой, сделал несколько затяжек и загасил окурок о каблук. Спать хотелось так, что сводило скулы. Вчера он просидел в кафе «Наличник» до трех часов ночи: танцевал там до упаду, выпил на спор четыре порции виски, за которые заплатила Коринна. После этого она привела его к себе: в премиленькую однокомнатную квартирку, где все было из пластика. В скандинавском стиле, кажется. Она и сама тоже скандинавского типа — высокая, светловолосая, крепкая. Дыхание, как у спортсменки. В борьбе она точно уложила бы его на обе лопатки. Но в любовных утехах главным был, конечно, он. Уж тут-то он отличился! Перебрав в памяти свои ночные подвиги, Николя наградил себя медалью за боевую доблесть. Завтра они опять встречаются. Будь что будет. Коринна часто меняла ухажеров, но любому достаточно пройтись с ней один раз, чтобы его зауважали. Она здорово котируется в их квартале. Николя страстно жаждал признания. Он мечтал, чтобы его узнавали издали и, завидев, говорили: «Смотрите-ка, вон идет Николя! Интересно, с кем это он сегодня?» Ему хватило всего нескольких месяцев, чтобы прижиться в Париже. Да, это его город. В Тулузе он никогда не ощущал такого единения с улицей. Правда, в Париже он редко выходил за пределы своего квартала. Районы Сен-Жермен, Сен-Мишель и Монпарнас ограничивали ареал его счастливого обитания.
Николя зевнул во второй раз, глубже и смачнее, чем в первый. Какой же мерзкий здесь воздух — все пропахло бумагой и пылью! Но будет ли лучше в другом месте? Николя не любил перемен. Он боялся трудностей в обучении новому ремеслу. У Брекошона его держала не мизерная зарплата, а небольшие левые заработки. Он сказал хозяину, что хочет постепенно собрать себе библиотеку из книг по искусству. Как работнику магазина ему предоставлялась скидка. Получая эти книги по сниженной цене, он потом отдавал их своему приятелю Пьеро Куане, большому специалисту по торговле книгами с доставкой на дом, который перепродавал их по дорогой цене любителям искусства. Прибыль они делили пополам. В декабре, месяце подарков, Николя наварил своей коммерцией около ста франков. В январе, когда после праздников кошельки опустели, ему пришлось довольствоваться тридцатью. В феврале Николя намеревался получить нечто среднее между этими двумя цифрами. Пьеро заказал ему книги, на которые у него уже были покупатели: «Офорты Рембрандта», «Тулуз-Лотрек» и «Импрессионисты». Брекошон без возражений отдал эти издания в распоряжение своего служащего на обычных условиях. Он заберет их сегодня вечером, предварительно попросив кассиршу мадам Бук удержать их стоимость из его жалованья. В прошлый раз она ядовито заметила: «Я вижу, вы очень интересуетесь живописью». В тот день ее придирчивый тон вывел Николя из себя. Однако сам Брекошон был, казалось, абсолютно счастлив, что продавец его магазина оказался таким тонким ценителем прекрасного. А он, Николя, и был ценителем прекрасного. Только в данном случае объектом его восхищения стали черные кожаные сапоги, которые он смог купить себе на декабрьский и январский барыш.
Николя вытянул ногу и покачал носком сапога справа налево. Свет электрической лампочки отразился от металлической застежки на щиколотке. Весь шик английской обувной промышленности сконцентрировался на уровне его ног. Безусловно, он мог бы заработать вдвое больше, если бы сам продавал книги. Но это предполагало долгие хождения по квартирам, звонки в дверь, путаные объяснения, лязг захлопывающейся перед носом двери. Нет, подобные унижения не для него. Лучше меньше зарабатывать, но зато жить спокойно. Мелкие брызги грязи испачкали каблук сапога. Плюнув на указательный палец, Николя стер пятна. Кожа сверкала. Двадцать пять минут шестого. Еще полтора часа тянуть лямку. Он опять принялся за печенье. Из открытого люка до него донесся голос мадемуазель Ляфоллик:
— Ну что, месье Верне, мы когда-нибудь дождемся нового товара?
Николя не любил, когда его называли Верне. При жизни матери — еще куда ни шло, но теперь он предпочел бы называться Козловым. А для этого необходимо, чтобы отец официально признал его. Сможет ли Александр сделать это законным путем по прошествии стольких лет? И главное, захочет ли? Конечно, нет. Плевать ему на семейные узы! И он прав. Что такое фамилия? Ничего, все равно что бирка или порядковый номер.
— Вы слышите меня, месье Верне?
— Иду, иду! — проворчал Николя.
Он сложил книги в корзину, быстро проверил по списку, все ли на месте, и, взяв корзину за ручку, стал подниматься по винтовой лестнице, ведущей в магазин. В торговом зале ему пришлось расставлять книги по названиям на тех стеллажах, которые ему указывала мадемуазель Ляфоллик. Потом она поручила ему поправить стопки с новинками и вытереть пыль на полках в глубине магазина. В общем и целом, поручения для прислуги. Зато, как только на пороге появлялся клиент, именно она летела ему навстречу со своей бархатной улыбочкой. Николя тоже хотелось бы время от времени продавать книги. Ему очень редко поручали работать с покупателями, но каждый раз после этого у него создавалось впечатление, что он обманул простака. Глядя, как клиент, выходя из магазина, гордо несет под мышкой свой сверток, Николя радовался, что ловко обвел клиента вокруг пальца. Без пяти семь он подошел к кассе, чтобы взять три книги, которые приготовила для него мадемуазель Ляфоллик. Вопреки обыкновению, мадам Бук воздержалась от каких-либо замечаний.
— Вы занесете это на мой счет? — спросил Николя.
— О, конечно, конечно, не беспокойтесь!
Она улыбалась. Вылитое свиное рыло с маленькими глазками. Хорошо бы, подумал Николя, взять ее за нос и крутануть, пока не хрустнет хрящ.
— Всего доброго, мадам, до завтра, — сказал Николя нарочито вежливым тоном.
Он вышел из магазина, неся под мышкой «Рембрандта», «Тулуз-Лотрека» и «Импрессионистов». Как было условлено, он отдал пакет Луиджи, хозяину бистро на рю дез Эколь. Завтра утром Пьеро, прежде чем начать обход своих клиентов, должен будет забрать у того товар.
Погода стояла ясная и холодная. Николя, подняв воротник и засунув руки в карманы, вышел на бульвар Сен-Жермен и смешался с прохожими. На ходу он любовался своими сапогами, сиявшими в свете уличных фонарей. Он мог бы прогуливаться еще очень долго, влекомый вперед своей удивительной обувью, но на перекрестке с рю де Бюси заметил, что его преследует какой-то мужчина. Лет сорока, с розовым цветом лица, седой гривой и солидным животиком. Было ясно, что он ищет партнера. В этом квартале таких типов было много. Симон, приятель Николя, однажды попробовал. Говорит, ничего особенного. В большинстве случаев эти господа довольствуются лишь поверхностными вольностями. Взамен можно получить разные небольшие презенты: к примеру, часы или ремень… Николя, конечно, был заинтересован в каком-нибудь подарочке, но мысль о том, что такой субъект станет его лапать, была ему неприятна. Ему больше нравились девчонки. Важную роль здесь играла кожа. Разве можно сравнивать Коринну с ее нежным, легким телом и стройными длинными ногами и этого толстого брюхана? Николя обернулся. Мужчина, который шел за ним, послал ему слащавую улыбку. Он мог быть дипломатом или чиновником высокого ранга… Скользкий, как обмылок. С вкрадчивыми движениями. Уж этот-то, наверно, мог бы научить многому! Но у Николя что-то не было охоты учиться. Он сжал челюсти, бросил на преследователя яростный взгляд и прибавил шагу. Чиновник быстро отстал. Николя ликовал. Сапоги несли его по воздуху, словно сказочные сапоги-скороходы. Он так и шел, восхищаясь ими, пока не уткнулся носом в кафе «Обриан». Наудачу он заглянул внутрь. Александр сидел за своим столиком, разложив вокруг себя бумаги. Подперев голову рукой, он что-то писал.
— Угостишь меня кока-колой? — попросил Николя и рухнул на диванчик, показывая всем своим видом, как он измотан после долгого рабочего дня.
Александр сделал заказ и, продолжая писать, как бы между прочим обратился к Николя:
— Кстати, я говорил тебе, что пригласил Брекошона на обед?
— Нет, — пробормотал Николя. — А когда он придет?
— Сегодня.
Это было прямое попадание. С потухшим взглядом Николя, осознавая опасность, просчитывал варианты отступления. «Если Брекошон придет к нам домой, то обязательно заведет речь о книгах, которые я беру у него со скидкой. Он думает, что я покупаю их для себя. Как же мне выкрутиться?» Николя судорожно соображал, как отвести от себя беду. Страх в душе рос.
— Вот незадача, — сказал он отцу, — сегодня вечером я не могу. Я договорился…
— Значит, передоговоришься.
— Это невозможно!
— Сделай так, чтоб стало возможно. Брекошон придет ради тебя.
— Ради меня?!
— Да, он хочет посмотреть твою библиотеку.
Александр улыбался, глядя на Николя. Улыбка была невыразительной: губы раздвинуты, глаза прищурены, а в лице ни малейшего намека на веселость.
— Он сам тебе это сказал? — в ужасе прошептал Николя.
— Да.
— А что именно?
— Ну, он сказал, что ты коллекционируешь книги по искусству.
— Ну, и?..
— Я был удивлен, даже изумлен, и ему этого хватило, чтобы все понять. Он давно тебя подозревает.
— Но в чем? — дрожащим голосом спросил Николя.
— Не строй из себя идиота.
— Он что, правда, придет сегодня вечером?
— Нет, я это выдумал, хотел тебя проверить.
Николя перевел дух. Самым страшным для него была бы очная ставка и необходимость давать объяснения.
— Я действительно только что его встретил, — продолжал Александр, — но ради меня он замнет это дело.
Николя вспыхнул. Теперь, когда не надо было играть перед благородным Брекошоном роль раскаявшегося грешника, он мог позволить себе сопротивляться.
— Пошлю-ка я этого Брекошона куда подальше!
— Это — твое право, — признал Александр. — А что дальше?
— Больше я туда ни ногой.
— Само собой разумеется. Брекошон тебя уволил!
На какое-то время за столиком воцарилась тишина. Николя допил содержимое своего стакана. Александр закурил сигарету.
— И что же тебя сподвигло на подобные махинации? — поинтересовался Александр между двумя затяжками.
— А что здесь такого? Кому от этого стало хуже? Я бы мог стянуть кучу книг у него из магазина, а он бы этого даже не заметил. И все бы спокойненько списали на недобросовестных клиентов! Я же довольствовался только разницей в цене. И теперь этот старый кретин, который не знает, куда ему девать свои деньжищи, позволяет себе упрекать меня?! Нет, это уж слишком! Разве не так?
— Если бы все служащие магазина поступали так, пришлось бы прикрыть лавочку.
— Но ведь они так не поступают! На что же он жалуется?
— На твой обман. Он взял тебя по моей рекомендации, доверял тебе…
— Значит, ты злишься из-за этого? Надеюсь, что ты не станешь читать мне мораль!
— Плевать я хотел на мораль, — резко ответил Александр. — Пусть каждый живет, как хочет. При условии, что он не мешает соседу. Но чего я не могу простить, так это глупости. А ты вел себя, как последний дурак. Чтобы заработать несколько жалких монет, ты рисковал так, словно впереди у тебя маячило несколько тысяч. Не умеешь, не берись! Послушай меня, если у тебя нет призвания к мошенничеству, сиди спокойно и не дергайся. Короче, с этим делом покончено, тебе придется искать себе другое место. Хотя сомневаюсь, что ты сумеешь найти что-нибудь лучшее!
После приступов страха и гнева Николя всей своей массой погрузился в душевный покой. Он вновь плавал в тихих водах и размышлял об отце. Какой он необыкновенный человек! Несмотря на весь свой цинизм, все может понять и простить. Как будто ему тоже восемнадцать.
— Ты мне не дашь сигарету? — попросил Николя.
Александр протянул ему через стол открытую пачку.
— Бери.
Они молча курили. Николя был погружен в свои мысли. Внезапно он спросил:
— А что ты скажешь Франсуазе?
— Правду, — ответил Александр.
Николя насупился.
— Не надо. Я ей скажу, что Брекошон меня уволил, потому что праздники уже прошли и он больше не нуждается в моих услугах.
— Как хочешь.
— Иначе она раздует из этого целую историю! Просто поразительно, какой беспокойный характер у твоей жены. Кажется, она из всего готова сделать трагедию.
— Зато ты со своим спокойствием хорошо ее уравновешиваешь, — заметил Александр.
Николя откинулся на спинку диванчика, поднял глаза к потолку и негромко произнес:
— Мне очень нравится Франсуаза! Но она слишком серьезная. Скажи, она тебе не надоела?
— Если бы надоела, я бы ушел.
— Но вы же женаты!
— И что с того?! Нет, старик, надо близко знать Франсуазу, чтобы оценить ее по достоинству. Часто случается, что самые большие скромницы оказываются великолепны в постели!
— Так, значит, ты счастлив?
— Да.
— Это хорошо, — важно произнес Николя. — А я, мне кажется, не мог бы быть счастливым, живя все время с одной и той же женщиной. У меня тут есть одна, Коринна…
— Да ну? — удивился Александр. — А я думал, ты девственник.
— Издеваешся?!
— Ну, и какая она, эта твоя Коринна?
— Шведского типа, очень опытная. Ты наверняка встречал ее в нашем районе. Ее все знают. Мне с ней очень нравится. Но, чувствую, в один прекрасный день я ее брошу…
— Если она тебя не опередит!
Николя оскорбился. Скривив губы, он уставился на носки своих сапог. Александр начал складывать свои бумаги и книги в портфель.
— Вообще-то, — заговорил Николя тягучим голосом, — нам, молодым, не везет в жизни.
— Это почему же?
— Потому что мы родились в трудное время. Угораздило же нас появиться на свет в этом омерзительном мире. Думаешь, легко принадлежать к послевоенному поколению?
— Должен тебе заметить, что, начиная с доисторических времен, каждое новое поколение является послевоенным.
— Ты прав! — согласился Николя. — Значит, так гнусно устроен мир. Закажешь мне еще кока-колы?
— Нет, — ответил Александр. — Пора идти. Франсуаза ждет гостя к обеду сегодня вечером.
Сердце Николя екнуло.
— Ты же мне сказал, что сочинил про Брекошона!
— Речь не о Брекошоне.
— А тогда о ком?
— О Жан-Марке.
— Это меня больше устраивает, — с облегчением вздохнул Николя и, покачав головой, через мгновение добавил: — Но лучше бы мы обедали втроем.
Они встали. Проходя мимо электрического бильярда, Николя упросил отца сыграть с ним хотя бы одну партию. Возбужденные непредсказуемыми отскоками шарика, треньканьем звоночков и дурацким подмигиванием огоньков на табло, они сыграли в итоге семь раз и только в половине девятого с сожалением отправились домой.
Франсуаза вытряхнула пепельницу. Смятые окурки полетели в мусорное ведро. Весь вечер трое мужчин курили и разговаривали, около одиннадцати ушел Жан-Марк, за которым увязался Николя, заявив, что хочет глотнуть свежего воздуха. Александр был готов последовать за ними, но не сделал этого из уважения к жене.
— У тебя там надолго? — спросил Александр, глядя в потолок.
— Не очень. А ты что собираешься делать?
— Лягу и почитаю.
Франсуаза сполоснула стаканы теплой водой. Черт, проклятая бедность: стакан со щербинкой, у одного из ножей расшаталась ручка…
— Знаешь, я очень расстроилась, что у Николя не пошли дела в книжном магазине. Я все понимаю, Брекошон платил ему гроши, а работать приходилось за четверых, но что он сможет найти вместо этого?
— Он же тебе сказал. Если отец его приятеля действительно владелец кинотеатра на Елисейских полях, то он возьмет его к себе.
— И ты в это веришь?
— Ну, на сей раз он, может, и не врет.
— Даже если и так, разве билетер в кинотеатре — это профессия?
— Профессия — не профессия, какая разница? Зато они имеют бешеные деньги на чаевых!
Франсуаза покачала головой.
— Николя еще слишком молод для такой работы.
— Наверно, ты боишься, как бы он не увидел там фильмы «до восемнадцати»? — смеясь, предположил Александр.
Беря одну за другой грязные тарелки, Франсуаза счищала с них остатки еды и опускала в мойку. Бледными плоскими лунами они медленно погружались в расходящуюся кругами мутную воду.
— Глупый ты, — вздохнула Франсуаза, — над всем смеешься, ведешь себя с Николя как с приятелем, а ведь он — твой сын. Вчера он пришел домой в три часа ночи, а сегодня, видимо, ляжет и того позже…
— В его возрасте это вполне естественно! Вот нагуляется и успокоится.
— Нужно, чтобы он хоть кому-то подчинялся.
— На меня не рассчитывай: я не собираюсь записываться в надзиратели, я вообще не верю, что родители способны лепить характеры своих детей. Полная чушь! Вот улица — это да, там-то и происходит настоящее воспитание!
— На улице? Ну да, конечно! Когда я вижу некоторых своих ровесников, грязных, скучающих, нелепо одетых, которые целыми днями бесцельно слоняются по тротуарам, у меня мурашки бегут по спине!
— Что ж, моя богатая девочка из буржуазного квартала, меня это нисколько не удивляет! Ты же у нас добропорядочная хозяйка дома, связанная по рукам и ногам строгими принципами! Когда же тебе, наконец, станет ясно, что в жизни мужчины этот этап очень быстротечен? Посмотри на меня, в молодости я делал все, что хотел, и если теперь у меня есть характер, то этим я обязан именно свободе.
— Пусть так, Александр, — согласилась Франсуаза, — вот только ты — особенный.
Александр, стоя сзади, обхватил ее руками за талию. Франсуаза поставила чистую тарелку в сушку, вынула из мыльной воды следующую и ополоснула ее. Она чувствовала его дыхание на своем затылке.
— Оставь все это, — хрипло выговорил он, — пойдем.
Франсуаза высвободилась.
— Ты не хочешь?
Она и радовалась его желанию, и раздражалась прямолинейной грубости, с какой он заявлял свои права на нее. Как будто ему достаточно приказать — и она мгновенно подчинится. Осознание собственной физической порабощенности выбивало Франсуазу из колеи.
— Я хочу домыть посуду! — быстро ответила она.
— Завтра домоешь.
— Нет, я не могу все так бросить, здесь же ужас что творится! А завтра у меня очень тяжелый день. Я обещала сдать работу до двенадцати.
Франсуаза вернулась к тарелкам.
— Ладно, раз кухня для тебя важнее всего, тогда спокойной ночи! — улыбаясь, сказал Александр. Он вышел, оставив Франсуазу одну, рассерженную и взволнованную.
После тарелок настал черед кастрюль и сковородок. Это было еще противнее. Остатки расплавленного сыра присохли ко дну. Франсуаза безуспешно пыталась отскрести их. Корка едва отходила. Как можно думать о любви, когда тебя преследует запах отбросов? Спасибо хоть обед удался. С каким аппетитом Жан-Марк набросился на картошку, запеченную с сыром! Наверно, ему надоела университетская столовая. Франсуаза никогда прежде не видела его таким нервным и неуравновешенным. От судорожного смеха он мгновенно переходил к мрачной задумчивости. Ясно как день: что-то у него в жизни не ладится. Можно подумать, у нее ладится! Франсуаза чувствовала себя одинокой. Она постоянно мечется между пишущей машинкой и домашними хлопотами. А как же ее душа? Они с Александром все реже оставались наедине. Он был занят преподаванием русского в Институте восточных языков и переводами, а потому проводил большую часть времени вне дома. Когда же он возвращался, между ними почти сразу встревал Николя. Франсуазе хотелось, чтобы они жили с Александром вдвоем, как муж и жена, а вместо этого она вынуждена постоянно следить за своими словами и жестами. Добро бы еще Николя был скромным и воспитанным юношей, но где там, он никогда не давал забыть о себе! В их небольшой, неудобной квартирке третий жилец явно был лишним. Даже когда Николя не было дома, все равно казалось, что он рядом. Невозможно было ничего решить, не принимая его в расчет. Приходилось учитывать его нужды, и зачастую они возглавляли список домашних расходов.
Вначале, когда Николя только-только поселился у них, Франсуаза была даже растрогана этим подобием семейной жизни, но теперь она, не сожалея, что приняла его, все-таки с каждым днем все больше страдала от этой невыносимой тесноты. Иногда в своих мечтах она отправлялась с Александром в свадебное путешествие по теплым солнечным странам. Неужели ему никогда не хотелось вырваться отсюда?! Может, и нет, ведь он такой странный! Временами ей казалось, что эта убогая жизнь его вполне устраивает. Он со смехом наблюдал за проделками Николя, снисходительно относился к его лени и безделью. Что до нее, то ей было ясно, что Николя отдаляет ее от мужа, вбивая клин в их супружескую жизнь. Без сомнения, все могло бы измениться с рождением ребенка. Как страстно она хотела этого! Почему у Дани получилось, а у нее нет? Каждый месяц она проходила один и тот же путь от надежды к разочарованию. С Александром она этим, естественно, не делилась, он просто рассмеялся бы ей в лицо. Сколько раз он повторял, что терпеть не может детей! Типичные рассуждения холостяка. Если бы только у нее появился малыш, уж она сумела бы сделать так, чтобы Александр его полюбил! Но что толку думать об этом сейчас, и суждено ли ей вообще испытать это счастье, возвышенное и одновременно такое земное?
Последние остатки присохшей корки наконец-то отмокли в воде. От ее рук пахло объедками. Франсуаза не могла припомнить, в какой момент своей жизни она вдруг ощутила разочарование. Почему она так незаметно для себя смирилась с крушением своих надежд? С холодной ясностью она осознала, что мечты ее разбиты. А можно ли было этого избежать? Все вопросы оставались без ответа. Жизнь текла своим чередом, подтачивая илистые берега, делая крутые повороты, скрываясь под землей, продолжая свой путь в темноте и вновь появляясь на поверхности совершенно неузнаваемая. Разве кто-нибудь в силах предвидеть все сочетания удач и неудач, которые неумолимо выпадут на его долю? Все уже решено заранее, помимо него, и судьба будет развиваться по единожды утвержденному сценарию, несмотря на чью-либо хваленую силу воли. Франсуаза вымыла раковину, закрыла мусорное ведро и развесила тряпки по местам. Кухня сияла чистотой. Теперь можно было перейти от роли прислуги к роли жены.
Она разделась, вошла в душевую кабину и, задернув занавеску, включила воду. Горячие струи ударили ее по плечам. Казалось, она вновь обрела грудь, бедра, живот. Проводя махровой варежкой по своему телу, она думала об Александре. Выйдя из-под душа, Франсуаза быстро вытерлась и, завернувшись в банный халат, подошла к кровати. Александр читал, опершись спиной на подушки.
— Ах, вы все-таки соизволили прийти! — произнес он с притворной строгостью. — А что если теперь я не хочу? Ужасно интересная книжка! Ты разрешишь мне закончить главу?
Без всякой тени смущения Франсуаза рассмеялась. Александр, пристально разглядывая жену, тоже смеялся. В том, как он смотрел на нее, чувствовалась спокойная уверенность хозяина. Франсуаза сняла с ночного столика розовую скатерку и накрыла лампу. Потолок опустился, стены сдвинулись. Она скинула халат и легла под одеяло. Александр обнял ее и нежно прижал к себе. Они словно слились в единое целое. Его жадный рот впился в ее губы, руки обхватили бедра. Пока что лишь короткие волны удовольствия слегка пробегали по поверхности ее обнаженного тела, но от нее не укрылось, что Александр с трудом сдерживает нетерпение. В ответ на растущее желание мужа глубоко внутри нее рождался ответный отклик. Ей становилось все труднее контролировать себя. Почти потеряв сознание, сквозь тысячи ненужных мыслей она чутко следила за тем, как поднимается в ней невыразимое блаженство. В этот момент, где-то далеко на краю земли, хлопнула дверь. Франсуаза вздрогнула и, придя в себя, прошептала:
— Это Николя!
— Да… — пробормотал Александр.
Он продолжал ласкать ее, но Франсуаза больше ничего не чувствовала. Она вся напряглась, внимательно вслушиваясь в шорохи, доносящиеся из прихожей, а потом вдруг резко отодвинулась от Александра. Он попытался вновь притянуть ее к себе. Франсуаза, сопротивляясь, высвободилась и прикрыла простыней обнаженную грудь.
— Ну, что с тобой? Не бойся, он не войдет, — успокаивал ее Александр. — Он сейчас ляжет, и все.
В это мгновение дверь открылась. Франсуаза отвернулась и притворилась спящей. Но их выдавала лампа, накрытая розовой тканью, разбросанная по полу одежда. Типичная постельная сцена, уж кого-кого, а Николя-то не проведешь!
— Ничего-ничего, не беспокойтесь, — сказал юноша, стоя на пороге комнаты, — просто я увидел под дверью полоску света и подумал, что вы еще не спите. Я хотел налить себе стакан воды на кухне.
Он медленно прошел из комнаты в кухню, стараясь не смотреть в сторону кровати. Франсуаза, оцепенев от стыда, тяжело дышала. Никогда еще ей не приходилось оказываться в таком неловком положении. Обычно они с Александром, прежде чем заняться любовью, ждали, пока Николя уснет. А бывало, что Александр приходил домой днем, когда сын был в книжном магазине. В этих тайных свиданиях было даже свое очарование.
Николя повторил свой путь в обратном направлении.
— Спокойной ночи, — проходя мимо кровати, пожелал он.
— Спокойной ночи, — зевая, ответил Александр.
Николя вернулся к себе в прихожую и закрыл дверь. Александр повернулся к Франсуазе. Его руки вновь заскользили по чувствительным местам ее тела. Он хотел возобновить игру с того момента, как ее прервали. Случившееся стало для него не более чем антрактом. Александра нисколько не смущало, что рядом, за перегородкой, всего в двух шагах, находится его сын. Он приподнялся на локте. В полутьме Франсуаза различала его жаждущее лицо, приоткрытый рот. Она была для него источником. Он наклонился, чтобы напиться. Прямо как Николя только что на кухне.
— Нет, Александр, — прошептала она, — теперь это невозможно.
С нежностью он положил ладонь под голову Франсуазы и, слегка взъерошив ей волосы, тихо сказал на ухо:
— Ну, давай, сделай это сама. Так будет лучше.
— Нет! — в ужасе воскликнула Франсуаза.
— Дурында, — с раздражением бросил ей Александр, — похоже, ты так никогда и не изменишься!
Откинувшись на спину, он погасил свет. Франсуаза еще долго лежала без сна. В глазах у нее стояли слезы, ей было ужасно горько и обидно.
— По-моему, ты просто преувеличиваешь, — устало возразила Франсуаза.
Люси высморкалась и, повернув к дочери измученное лицо, продолжила:
— А как можно объяснить его постоянные отлучки, деловые завтраки, срочные командировки?
— Но это еще ничего не доказывает, мама!
— Сразу видно, что ты не живешь с нами! Он так переменился ко мне. Вот, например, сегодня. Ведь в субботу у него выходной, мог бы он побыть со мной дома?
— А где он?
— Точно не знаю, какое-то там спортивное мероприятие… как он говорит.
— Может быть, это правда!
— Нет, моя дорогая, все он врет. Я знаю, я это чувствую!
Люси говорила взволнованно, немного задыхаясь, из глаз у нее текли слезы. Тушь и голубые тени размазались по векам. Вокруг рта собрались мелкие морщинки. Франсуазе она казалась смешной и жалкой. В таком возрасте уже неприлично страдать от любовных переживаний! И не стыдно ей было вызывать дочь к себе без всяких объяснений, якобы по срочному делу?! По дороге Франсуаза думала, что застанет мать тяжело больной, а вместо этого на нее обрушилась лавина скорбных излияний брошенной женщины, которая тщетно пытается удержать мужа. Франсуаза уже два месяца не появлялась у матери. Жан-Марк, Даниэль и Дани, со своей стороны, тоже под разными предлогами старались не заглядывать в Севр. Но если Люси и жаловалась на их невнимание, то только для виду. Она прекрасно обходилась без своих взрослых детей, наверняка опасаясь, что в их присутствии будет казаться Иву Мерсье более старой.
«Как же я все-таки безжалостна к ней!» — удивилась самой себе Франсуаза. В глубине души она все еще не могла забыть свою досаду на мать из-за имущественных разногласий.
— В один прекрасный день он уйдет от меня и начнет требовать развода, — не унималась Люси. — Что мне тогда делать — одной, с Анжеликой на руках? Останется только умереть!
— Не говори глупостей, мама! — возмутилась Франсуаза. — Ты сражаешься с ветряными мельницами. Придумывая этот бред, ты сама себе причиняешь боль!
— Понимаешь, я не могу с тобой поделиться некоторыми вещами… это относится к интимным подробностям… Ну, в общем, доченька, Ив меня больше не любит. Я не существую для него как женщина. И это доказывает, что у него есть другая!
Франсуазе стало стыдно за мать, ей совершенно не хотелось вникать в альковные дела супругов Мерсье. Вместо того чтобы подбодрить Люси, подтолкнув ее тем самым к дальнейшим откровениям, Франсуаза замкнулась в себе и замолчала. После долгой паузы Люси вновь оживилась.
— Конечно, я понимаю, он не хочет ничего менять. Ему выгодно сохранять «статус-кво», видимо, мои мучения его забавляют. Здорово он устроился! Но так больше продолжаться не может!
Она достала сигарету и подрагивающей рукой щелкнула зажигалкой.
— Ты что, куришь теперь? — удивилась Франсуаза.
— Да, меня это успокаивает. В конце концов, я должна его опередить. Надо припереть его к стене, и уж тогда-то ему придется выложить все начистоту!
— Как ты ошибаешься, мама!
— Почему?
— Не могу объяснить, но я чувствую, что, обвиняя его подобным образом, без всяких доказательств, ты очень рискуешь. Ведь он может ожесточиться. Ты словно сама толкаешь его к измене!
— Что ж, может, ты и права, — вздохнула Люси.
Глубоко затянувшись, она со страдальческим видом выпустила струю дыма прямо перед собой. Маленькая гостиная, она же столовая, с зеленовато-голубыми обоями, обставленная модной, полированного клена мебелью, своей чистотой и порядком контрастировала с перевернутым лицом Люси. За стенкой Анжелика играла с погремушкой. Повернувшись на звон бубенчиков, Люси вновь всплакнула.
— Мой бедный маленький котеночек, мы с тобой теперь никому не нужны!
Перед Франсуазой вдруг предстала вся нелепость сложившейся ситуации. Она, дочь, дает советы матери, да еще в вопросах личной жизни! Причем ревность, ожесточение и безумие выказывались зрелостью, а трезвый ум и рассудительность — юностью. Интересно, в других семьях тоже так бывает? Франсуазе пришло на ум, что, окажись она на месте матери, у нее бы достало гордости не откровенничать перед своим ребенком. Приступ кашля сотряс тело Люси. Она затушила сигарету, отодвинула пепельницу и, шмыгнув носом, сказала:
— Ну ладно, так и быть, пока я ничего не буду ему говорить. Надо набраться терпения, выждать. Может, он сам чем-нибудь себя выдаст? Посмотрим… К тому же я сейчас так устала, плохо выгляжу, прическа просто ужас!
Люси взглянула на маленькие бронзовые часы, стоящие в центре каминной полки, и вскинулась:
— Боже мой, уже без десяти шесть! Ив говорил, что вернется к шести. Пойдем скорее, мне надо привести себя в порядок.
Пока мать причесывалась перед зеркалом, Франсуаза наблюдала за ней, сидя на бортике ванны. Каждый раз, когда Люси проводила щеткой по золотистым, с темными корнями, волосам, голова у нее откидывалась назад. Сжатый рот придавал ее лицу серьезное, даже суровое выражение. Неожиданно Люси повернулась к дочери, ее рука, все еще державшая щетку для волос, безвольно опустилась вдоль тела. На фоне гладкой, ухоженной кожи взгляд ее глаз казался жестким.
— Во всяком случае, вот что я тебе скажу, — прошептала она. — Ты молодец, что вышла замуж за человека, который намного старше тебя. В другом варианте это… сущий ад, малышка. Чуть взглянешь в зеркало и сразу же видишь, что сделало с тобой время, как убывают молодость и привлекательность. А он совершенно не меняется, ни одной морщинки! Как будто его держали в холодильнике! Вечная борьба! Я так больше не могу!
Люси опять встала перед зеркалом и тщательно накрасилась. Ее глаза и губы вновь засияли искусственным блеском. Закончив, она развернулась на каблуках в сторону дочери. Одетая в очень короткое платье, Люси напомнила Франсуазе маленькую девочку со сморщенным личиком, которая ищет свою куклу. Ив Мерсье должен был скоро вернуться, и Франсуаза не испытывала ни малейшего желания встречаться с ним. Она встала.
— Мне надо идти, мама.
— Да, да, конечно, иди. Я буду держать тебя в курсе. Только никому ничего не говори, особенно братьям!
Было заметно, что Люси хочется встретить мужа одной. Из наперсницы Франсуаза в мгновение ока превратилась для нее в надоедливую гостью. Люси поцеловала дочь в обе щеки и, слегка подтолкнув к лестничной площадке, захлопнула за ней дверь.
Все произошло так стремительно и странно, что, выйдя на улицу, Франсуаза задалась вопросом: «А все ли в порядке с головой у ее матери?» Она размышляла об этом всю дорогу из Севра домой.
Входя в квартиру, Франсуаза думала, что дома никого нет, но там ее ждал Александр. Увидев его, она необыкновенно обрадовалась и замерла на пороге, словно пораженная снизошедшим на нее откровением. Нет, она живет не зря. Ее жизнь оправдана присутствием этого мужчины в рубашке с расстегнутым воротом, который, положив ноги на журнальный столик, сидит в кресле и читает русскую книжку.
VII
Филипп наклонился к селектору и сказал:
— Попросите господина Блондо зайти ко мне.
— Он еще не вернулся, месье! — отозвалась замогильным голосом секретарша.
— Вот как… — недовольно процедил Филипп и посмотрел на часы. Уже двадцать минут четвертого. — Тогда, как только он вернется, сразу же пришлите его ко мне! — с раздражением в голосе потребовал он и, опустив вниз металлический рычажок, отключился.
Этот молокосос ни в чем себе не отказывает. Не прошло и десяти дней, как его приняли в штат, а он уже позволяет себе опаздывать! Когда речь зашла о том, что надо кем-то заменить всерьез заболевшего Зюрелли, Виссо в первую очередь вспомнил о Жан-Марке. «Вы говорили, что хотели бы взять в дело сына. Вот и подходящий случай: сейчас или никогда». Филиппу стоило огромных усилий ответить как можно естественнее: дескать, он уже подумывал об этом, но в отношении сына у него другие планы. Тогда Виссо выдвинул кандидатуру своего племянника, Жана Блондо. По его словам, это был необыкновенно серьезный и ответственный субъект. Но Филипп знал, что серьезность и ответственность молодежи и людей зрелого возраста — это разные вещи. За его гневом на Блондо, этого гениального выкормыша юридического факультета и Свободной школы политических наук, скрывалось и тайное удовлетворение. Вот и на этот раз он, Филипп, оказался прав, и этот частный случай только подтверждает его выводы. Конечно, было бы куда лучше нанять сотрудника лет тридцати пяти, более основательного и не такого наглого. «Теперь, если я его уволю, бедняга Виссо сделает из этого целую трагедию. Никогда не надо брать на работу людей по рекомендации друзей или коллег. Когда ведешь дела честно, всякие личные отношения становятся помехой». Во всяком случае, зря он доверил Блондо дело «Трубай — Пирене». Слишком оно трудное для новичка!
Продолжая размышлять, Филипп окинул взглядом свидетельства своей жизненной состоятельности. Коричневые стены, глубокие кожаные кресла, книжный шкаф из красного дерева, заполненный томами юридической литературы. Все здесь было добротным, нужным и дорогим. И все же, присмотревшись повнимательнее, и на мебели, и на книгах можно было заметить неуловимые следы времени. Современная обстановка, и та потихоньку устаревала. Обои немного выцвели, кожаная обивка кое-где провисла, углы потеряли свою заостренную форму. Филипп подумал, что, видимо, существует скрытая взаимосвязь между ветшанием мебели и его собственной усталостью. Но если стены можно было оклеить заново, а мебель перетянуть, то сам он точно не подлежит ни малейшему обновлению. Он будто зашит в мешок из кожи и плоти, который дряхлеет день ото дня и не способен вновь обрести молодость. Любопытно, сколько еще лет ему отпущено? Как долго он сможет в полную силу вести свое дело? В дверь постучали.
— Вы меня вызывали, месье?
Это был Блондо. Невысокого роста, худощавый, с гордо поднятой головой и умным взглядом. Под мышкой он держал папку с досье.
— Где вы были, позвольте спросить? — сухо поинтересовался Филипп.
— Я немного задержался на деловом завтраке, — ответил Блондо.
Похоже, он не чувствовал за собой никакой вины и вопрос патрона показался ему абсурдным. Филиппу было ясно, что, упорствуя в своей приверженности к дисциплине, он приобретает в глазах этого мальчишки репутацию начальника-ретрограда. Разве можно требовать уважения и пунктуальности от этих юных зазнаек, которые силой обстоятельств нисходят и всходят по карьерной лестнице, оставаясь тонкими политиками и очаровательными повесами. Все они одним миром мазаны: развлечения, бахвальство, непомерные амбиции…
— Вы просмотрели дело «Трубай — Пирене»?
— Да, конечно, месье. Я как раз хотел вам о нем доложить.
Не дожидаясь, пока Филипп предложит ему сесть, молодой человек расположился в кресле, поправил манжеты и, слегка картавя, начал излагать суть конфликта. Не вызывало сомнений, что он чувствует себя в своей тарелке.
— Я в курсе предыстории вопроса, — прервал его Филипп, — продолжайте дальше.
Ничуть не смутившись замечанием шефа, Блондо перешел к юридическим аспектам развития дела. Было видно, что он изучил досье от корки до корки и выявил все возможные ловушки и подводные камни, скрытые под огромным количеством документов. Речь шла о фабрике по производству клееной фанеры, разделенной по смерти владельца, господина Пирене, между его сыном и дочерью, которая была замужем за Трубаем. Потом Трубай задним числом обнаружил, что при разделе наследства имела место фальсификация учета наличности в пользу его шурина. Ущерб, нанесенный супругам Трубай, был оценен в одну четверть от всего наследуемого имущества. Далее молодой человек перешел к исковому заявлению потерпевшей стороны касательно отмены уже имевших место судебных решений. Блондо ничего не забыл. Он предлагал подстраховаться, так как (все бывает!) новый раздел имущества может оказаться не столь выгодным для супругов Трубай, как предыдущий. Принимая во внимание данные опасения, Блондо все больше склонялся к тому, чтобы сослаться на статью 792 Гражданского кодекса о сокрытии части имущества и незаконном завладении им.
Филипп был того же мнения. Молодой человек продолжал, и речь его звучала все более уверенно. Филипп внимательно разглядывал его. Блестящие глаза, здоровые зубы, удивительная гибкость молодого ума и тела. Да, Филиппу оставалось только мечтать об этом. Во время беседы он несколько раз представлял на плечах Блондо голову Жан-Марка. Это было чем-то вроде вспышки или озарения, но потом все опять вставало на свои места. Блондо, наверно, года на два старше Жан-Марка. Одни и те же учебные заведения, планы, мысли… Подумать только, на месте этого самодовольного выскочки мог бы сидеть Жан-Марк! Какое это было бы счастье — иметь рядом собственного сына! Посвятить его в фамильное дело, работать вместе с ним, передавать ему свой опыт, гордиться его успехами… Совсем другой оборот! Филипп старательно пытался стереть из своей памяти причины, породившие в нем ревность и злобу. Словно оправившийся после изнурительного недуга больной, который, встав с постели, впервые пытается выйти за пределы палаты, Филипп с опаской преодолевал страх, внушаемый ему этим новым поворотом мыслей. Медленно и осторожно возвращался он к утраченной привязанности и доверию, к нежным воспоминаниям. Он даже начал подумывать о перспективах возможной встречи, но внезапно в его мозгу возник образ Кароль, и все благие намерения превратились в дым. Стыд и ярость вновь зажглись в его сердце.
Блондо умолк и со спокойным удовлетворением замер в ожидании.
— Ну, хорошо, — проворчал сквозь зубы Филипп, — оставьте мне досье.
— Сожалею, месье, но это невозможно! Я должен еще изучить некоторые детали, чтобы быть готовым к завтрашней встрече с супругами Трубай.
— Я сам их приму.
Блондо даже подскочил на месте.
— Как, разве вы не доверили мне вести это дело?
— Нет, месье Блондо, я не поручал вам вести дело. Я поручал вам его подготовить. А это не одно и то же!
— Не могли бы вы пояснить, месье, — произнес Блондо с некоторой заносчивостью.
— Могу: в нашей фирме важных клиентов принимаю я сам.
Блондо встал и, побледнев от еле сдерживаемого возмущения, положил папку на край письменного стола.
— Вот, пожалуйста, месье, — проговорил он дрожащим голосом.
— Если мне понадобятся уточнения, я вас вызову, — сказал Филипп. — А пока попросите Виссо передать вам досье Парижской компании электрических проводов и кабелей. Вы доложите мне об этом деле завтра.
Не проронив ни слова, молодой человек направился к двери.
Оставшись один, Филипп представлял, как Блондо, сидя сейчас за своим столом, кипит от гнева и без конца повторяет про себя то, что не посмел высказать ему. Небось, горюет о том, что не может хлопнуть дверью и уволиться. «А не слишком ли я строг с ним? — спрашивал себя Филипп. — Нет, тысячу раз нет! Такое зазнайство, такой апломб!» В его годы, будучи стажером, Филипп и помыслить не смел о том, чтобы разговаривать со своим начальником так, как Блондо только что разговаривал с ним. Подумаешь, дипломы! Что этот щенок себе возомнил — если у него их несколько, значит, ему все позволено? Стоит только чуть ослабить вожжи, и он через неделю начнет указывать Виссо, а через месяц вознамерится сесть в кресло шефа. Да, сейчас молодые люди его возраста все как один наглые и самодовольные. Это болезнь времени. Теперь мальчики и девочки рождаются с большими, прожорливыми глотками. Юные карьеристы одинаково хорошо плодятся и в аристократических, и в спальных районах, просто как кролики в крольчатнике. Если верить статистике, сейчас каждый пятый француз ходит в школу. Кошмарное соотношение! Молодежь заполонила всю страну. Эта мафия молодых людей сформировала свое государство в государстве! Задача каждого здравомыслящего человека как-то бороться с ними, а не помогать им. Ведь у них одна цель — выжить своих отцов. Тот, кто лебезит перед молодежью, не видя в ней врага, предает святое дело. Таких людей можно считать коллаборационистами, как во времена оккупации. (А ведь эти сопляки даже не знают такого слова!) Многие родители стараются не перечить своим чадам и во всем потакают им из страха прослыть старомодными. А сколько печатных изданий подстраивается под вкусы тех, кому меньше двадцати, лишь бы не упали их хваленые тиражи?! А какое количество предприятий выпускает товары на потребу этих выскочек, опять же из страха, как бы не снизились прибыли?! На самом деле люди зрелого возраста должны были бы объединиться между собой. Однако они — кто из трусости и малодушия, кто от алчности — преклоняются перед молодежью и чуть ли не сами призывают разрушить свой мир. По радио и по телевидению только и слышишь о войнах да революциях в Азии или Африке, но ведь это ничто по сравнению со скрытой борьбой, которая разворачивается почти во всех странах. Война между поколениями идет не на жизнь, а на смерть. Никто и не сомневается, что победа будет за молодыми, но основная задача отцов — максимально оттянуть момент капитуляции. Разве не является преступлением то, что прыщавые выпускники школ победят, в конечном счете, ученых с мировым именем, причем только потому, что их клетки окажутся более жизнестойкими? Весь мир построен на этой несправедливости! Юные дарования слишком заняты собой, чтобы от них можно было дождаться хоть малейшего уважения. Даже если им и случается кем-нибудь восхищаться, то они видят в этом человеке не пример для подражания, а досадное препятствие. Таким, как Блондо, кажется, что я стою у них на дороге. И Жан-Марку, и Даниэлю. Их настоящая жизнь начнется в тот день, когда я сыграю отбой.
Филипп опустил голову на грудь. Интересно, как долго он предавался своим горьким размышлениям… Еще раз окинув взглядом свой кабинет, аккуратный и чопорный, он ужаснулся. Ему вдруг стало ясно, что всю свою жизнь он разыгрывал в этой комнате спектакль, играя перед скоросшивателями, селектором и телефоном роль преуспевающего адвоката.
Филипп посмотрел на часы: десять минут шестого. Он поставил свою машину на профилактику, и она будет готова только завтра к двенадцати. Придется брать такси. Но уходить еще рановато. Хотя кто ему мешает? Сегодня как раз тот редкий вечер, когда у него нет никакой важной встречи. Клиентов второго сорта примет Виссо. Ах, да, дело «Трубай — Пирене» завтра утром! Филипп полистал папку и сделал кое-какие пометки. Блондо все предусмотрел. Мальчик с будущим, далеко пойдет!
«Чужое будущее — это моя старость и моя смерть!» Филипп вздрогнул, словно у него за спиной открылась дверь. Дома его никто не ждет, Кароль предупредила, что к ужину не вернется. Еще утром она уехала за город. Наверняка со своим Ксавье Болье. И как это он устраивается, что у него столько свободного времени?! Пожалуй, будет лучше взять досье домой. Там можно изучить его еще раз, на свежую голову. Не исключено, что даже удастся найти какие-нибудь детали, ускользнувшие от Блондо. Если бы только удалось ткнуть его носом в ошибку! Внезапно Филипп почувствовал необыкновенный прилив сил. Он был готов посвятить долгие часы кропотливой работе, лишь бы достичь желаемого результата. Ребячество! Филипп сложил документы в портфель. Без десяти шесть. Короткие указания по селектору Виссо и мадемуазель Бигарро, и вот он уже спускается по лестнице, ощущая под ногами мягкий ворс темно-синей ковровой дорожки.
Сухой, холодный ветер ударил Филиппу в лицо. С первыми глотками свежего воздуха у него вновь прибавилось жизненной энергии. Он прошел по улице Франциска I к площади Канады. В этот час поймать такси было трудно. Ни одной свободной машины. Тогда Филипп решил идти пешком. Прекрасная разминка после трудового дня в конторе. С тех пор как Филипп перестал придерживаться диеты, он набрал килограммов шесть. Брюки стали тесны ему в поясе. Он давал себе обещания отказаться от мучного, спиртного, от мяса под острыми соусами… Хотя кому нужны эти его жертвы? Кароль над ним только посмеивалась, а больше у него никого не было. Невероятно, но уже несколько месяцев кряду он был верен жене, которая не хотела иметь с ним дела. Вспоминая свое прошлое, далекое и недавнее, он вдруг сделал для себя открытие: впервые он не был связан ни с одной женщиной. Филипп был абсолютно одинок, как морально, так и физически, вроде заключенного, который мечтает только о жратве.
Перейдя мост Александра III, Филипп вышел на эспланаду перед Дворцом Инвалидов. Длинный фасад, прорезанный множеством окон и увенчанный едва подсвеченным куполом. Эта неодушевленная, в серых тонах, архитектура поразила его своей красотой. А ведь раньше его волновали только живые существа. Не был ли этот внезапный интерес к предметам первым признаком надвигающейся старости? У Филиппа устали ноги, он запыхался — видимо, шел слишком быстро. Пришлось сбавить темп. Портфель тяжело оттягивал руку. Надо же было сделать такую глупость — потащить папку с делом домой! Мимо проехало такси. Пустое. Филипп хотел было остановить его, но из гордости передумал. Посольства, министерства, здания с торжественными порталами, исторические памятники… Когда Филипп проходил по рю Сен-Доминик, ему казалось, что он идет по галерее, в которой царит атмосфера респектабельности и спокойствия. Выйдя к бульвару Сен-Жермен, он вновь попал в водоворот жизни и ярких огней. И тут только Филипп обратил внимание, что на тротуарах появилось большое количество молодежи. Казалось, молодые люди стекаются сюда со всех сторон. У Филиппа пересохло в горле. Войдя в кафе с застекленной террасой, он заметил освобождающийся столик. Филипп сел и заказал себе шотландского виски. Лишь хрупкая стеклянная перегородка отделяла его от улицы. Филипп повернулся спиной к внешнему миру. Внутри, как и снаружи, молодежь составляла большинство. Во всяком случае, она обращала на себя внимание. Солидные люди и степенные пары служили контрастом для этой неотесанной поросли с упругой плотью. Словно стыдясь и уступая дорогу молодым, пожилые посетители прятались по углам кафе. За соседним столиком Филипп заметил девушку с большими, сильно подведенными глазами. Сидя между двумя тщедушными юнцами, она громко разговаривала и раскатисто хохотала. В какой-то момент ее взгляд упал на Филиппа. Потом она еще раз, в упор, посмотрела на него. Филипп удивился. Чего она хотела? Был ли здесь скрытый намек на приглашение? Девушка показалась Филиппу смешной, но все же ему польстило ее внимание. Года двадцать три, не больше… Хорошенькая, несмотря на вульгарную косметику. В нем потихоньку просыпался инстинкт охотника. Но она отвернулась от него, продолжая флиртовать с другими. Все ясно: она просто хотела увеличить число обожателей!
Филипп отпил из стакана немного виски и закурил сигарету. Тяжелая тоска навалилась на него. Даже если бы эта юная незнакомка зашла в своей игре достаточно далеко, и то он не предпринял бы никаких усилий, чтобы провести с ней остаток вечера. Какая-то важная пружина лопнула у него внутри. Положение, в котором он теперь оказался, не вызывало в нем никаких чувств, кроме горького разочарования и отвращения. И впереди у него тоже ничего не было, кроме безжизненной пустыни надвигающегося пятидесятилетия. Юноши и девушки входили, выходили, снова возвращались, толклись у стойки, фланировали между столиками. Девицы — с нависшими над глазами челками, бледными губами, пустыми глазами. Их кавалеры — с длинными до плеч волосами и пресыщенными взглядами. Все-то они уже видели, все знают. Они утомлены, ничто их не интересует, кроме них самих, естественно. Филипп допил свой стакан. Уйти? Но к кому? Остаться? И что дальше? Он заказал вторую порцию виски и, купив у продавца, который ходил по залу, вечернюю газету, погрузился в финансовые новости.
Едва переступив порог, Жан-Марк сразу же отпрянул назад и отпустил застекленную дверь.
— Пойдем куда-нибудь еще.
— Почему? — удивилась Валери.
— Здесь мой отец, — ответил Жан-Марк, указав подбородком на один из столиков.
Филипп сидел спиной к входу и не видел их.
— Забавно, — заметила Валери, — что он тут делает один?
— Ничего забавного! Просто отвратительно! Видно, хочет подцепить себе подружку на ночь.
— Серьезно?! Если бы тебя со мной не было, я бы с ним пококетничала.
— Флирт был бы недолгим. Ввиду отсутствия конкуренток он выбрал бы тебя.
Взяв Валери за руку, Жан-Марк повел ее подальше от кафе. Она высвободилась.
— Послушай, ты надоел мне со своими глупостями. Я хочу съесть бутерброд перед концертом.
— Точно такие же бутерброды можно найти где-нибудь поблизости.
— Нет, в другом месте они будут не такие вкусные. Я хочу настоящий бутерброд, большой, как для грузчиков, с мягким хлебом и копченой колбасой!
Неожиданно Валери свернула в боковую улицу и толкнула дверь небольшого итальянского ресторанчика.
— Постой! Ты куда? — ужаснулся Жан-Марк.
— Я передумала, пожалуй, лучше я съем спагетти. Пойдем, не бойся, на этот раз тебя приглашаю я.
В тускло освещенном зале почти половина столиков были пустыми. Выйдя из оцепенения, с которым она только что созерцала улицу, официантка поспешно приняла заказ. Десять минут спустя на их тарелках возвышались горы спагетти, сдобренные коричневым с комочками соусом.
— Знаешь, вчера вечером у нас были дед и бабка Жильбера, — сообщила Валери, наматывая макароны на вилку. — Ты их окончательно покорил. Похоже, благодаря тебе мой тупица братец делает какие-то необыкновенные успехи.
— Во-первых, твой кузен вовсе не тупица, — возразил Жан-Марк, — а во-вторых, если он и делает успехи, то не только благодаря мне. Я не учу его, а пытаюсь привить ему вкус к учебе, что не одно и то же!
— Ладно, не скромничай! Ты бы только слышал, какие дифирамбы они тебе пели! В глазах моих родителей твои ставки выросли в мгновение ока. Они в восторге от тебя. Думаю, надо не дать им остыть. — Валери отправила в рот очередную порцию макарон и уточнила: — Я имею в виду родителей, а не спагетти.
— Да-да, конечно, — согласился Жан-Марк.
— А значит, нам пора наконец определиться.
— Но мы вроде бы все решили.
— Возможно, только никто, кроме нас, об этом не знает. Так дальше продолжаться не может. Мама меня измучила, а отец делает вид, будто его все это не касается. С меня хватит!
Жан-Марк сделал глоток вина и промокнул губы бумажной салфеткой. Живительно, но подобного рода разговоры возникали между ними как раз в те моменты, когда он меньше всего этого ждал. Только что небо было ясным, горизонт чистым и ничто не предвещало грозы, но вдруг, в одно мгновение, со всех сторон набегали облака и слышались раскаты грома. Необходимость оправдываться вызывала у Жан-Марка отвращение — скорее всего потому, что совесть была нечиста. Не так давно смирившись с идеей женитьбы, он стал воспринимать ее как очередной этап, как пункт программы по достижению цели.
— Ты же сама говорила, что лучше подождать до весны, чтобы можно было устроить помолвку в Шантийи[10], — пробормотал он.
— Вот именно! И весна уже не за горами! Можно было бы назначить помолвку на апрель, сразу после Пасхи, а свадьбу сыграть в мае.
— Как хочешь!
— Можно подумать, что я заставляю тебя жениться силком! — смеясь, заметила Валери.
Какое-то время они продолжали есть молча, потом Жан-Марк вдруг спросил:
— А на моем месте ты бы думала о свадьбе?
— Ну уж нет! — ответила Валери. — Я не такая дура! Но у меня другой характер. Если бы я была мужчиной, независимость была бы для меня превыше всего! А с тобой всегда кто-то должен быть рядом, иначе ты пропадешь. Нравится тебе это или нет, но ты из породы мужей! Успокойся, в нашем с тобой браке все будет очень демократично.
— Вот это мило!
— А разве ты сам не этого хочешь?
— Этого.
— Понимаешь, я выхожу замуж, чтобы освободиться. У нас с тобой будет что-то вроде свободного союза.
Валери положила вилку поперек тарелки, в которой еще оставалась добрая половина макарон, и вздохнула:
— Я больше не могу.
Потом она взяла ломтик хлеба и, намазав его горчицей, с жадностью откусила.
— Как ты можешь есть такую гадость? — удивился Жан-Марк.
— Это божественно!
Валери ужасно раздражала Жан-Марка, но, что удивительно, несмотря на все ее недостатки, он уже не мог без нее обходиться. Ему не удавалось припомнить, в какой точно момент он окончательно смирился с перспективой женитьбы. Все происходило постепенно, изо дня в день, от встречи к встрече. В нужную минуту Валери всегда оказывалась рядом, всегда под рукой. Жан-Марк и не подозревал, что она опутывает его своими сетями. Опутывает нежно, медленно, но очень крепко. В один прекрасный день он вдруг осознал, что не может больше ни пошевелиться, ни вздохнуть. При этом он был, скорее, пленником привычек, чем данных обещаний. Жениться Жан-Марк совершенно не хотел. Он просто подчинился обстоятельствам, отдавая себе отчет в том, что свадьба, видимо, должна стать логическим завершением их дружбы. Но мысль о выгоде, которую влекло за собой это решение, тоже была ему не чужда, хотя оттого, что он принимает во внимание и материальную сторону дела, Жан-Марку становилось как-то не по себе. С другой стороны, что ему делать? Не может же он отказаться от Валери только потому, что у нее состоятельные родители. Она говорила, что ее отец не прочь взять его к себе на фирму, в юридический отдел. В этом случае Жан-Марк имел бы возможность полдня работать в бюро, а все остальное время готовиться к экзаменам. Со временем можно было бы подумать и о диссертации: вначале — на степень лиценциата[11], потом — докторской. Он словно стоял со связанными ногами на краю пропасти, а внутренний голос нашептывал ему: «Ну, давай, прыгай! Прыгай! Вот увидишь, ты не разобьешься, ты полетишь!» Жан-Марк с удовольствием доел остатки своих спагетти.
— Ну, что? Надо решаться, дорогой мой! Когда ты поговоришь с моими родителями?
Жан-Марка охватила паника, он не знал, что ответить.
— Какой же ты можешь быть занудой, — вздыхая, выдавил он из себя.
— Занудой?! — воскликнула Валери, насупив брови. — Это уж слишком! Объяснись-ка!
Жан-Марк разозлился, его пробирала дрожь. Пойманный в ловушку, он высоко поднял голову. Это было восстание раба.
— Я сам решу, когда и что мне делать, — проговорил он. — А если ты будешь мне надоедать, то я вообще не пойду к ним.
Валери вытянула сигарету из лежащей на столе пачки Жан-Марка и взглядом попросила дать ей прикурить. Он щелкнул зажигалкой. Это Валери ему ее подарила. Позолоченная, с тонкой гравировкой. Из зажигалки вырвался язычок пламени. Валери на секунду склонилась к огню и выпрямилась. Ее лицо было спокойным и строгим.
— На этот раз, мой дружочек, ты перешел все границы. Ты что думаешь, я долго буду терпеть все эти выкрутасы? Шаг вперед, два шага назад. Может быть, тебя это и забавляет, но меня-то уж точно нет!
— Ладно, не сердись, — внезапно смягчившись, сказал Жан-Марк. — Вполне естественно, что я раздумываю. Для меня это очень важное решение.
— А для меня что, не важное?
— Ну, не такое.
— Потому что ты считаешь себя блестящей партией, а меня — так себе, второсортным товаром!
— Не говори глупостей. Я имел в виду, что для девушек брак — это цель жизни.
— А для юношей средство?
— Нет, но молодые люди не строят все свое будущее на браке.
— Будь спокоен, девушки тоже не строят.
— Но в какой-то мере все-таки…
— Не в наше время, дорогой мой. Ты отстал от жизни!
Официантка принесла им меню. Все еще злясь, Валери заказала себе апельсиновый десерт. Жан-Марк взял чашку кофе «эспрессо». Эта ссора утомила его. Будучи от природы мягким и покладистым, он терпеть не мог сложных ситуаций, громких жалоб и упреков. Он предпочитал недосказанность, намеки, полутона. Неужели своими дурацкими капризами Валери испортит ему сегодняшний вечер?
А ведь он уже заранее предвкушал удовольствие, которое получит от концерта. Бетховен, Бах… Валери продолжала есть свой апельсиновый десерт, зачерпывая его самым кончиком чайной ложки.
— Ну как, вкусно? — спросил Жан-Марк.
— Тебе-то какое дело? — надменно ответила Валери.
Он взял ее за руку и сказал:
— Я поговорю с твоим отцом в следующую субботу. Ты довольна?
— Мне наплевать!
Какое-то время они холодно смотрели друг на друга, а потом, чуть поколебавшись, дружно расхохотались.
Поток звуков словно покрывалом накрыл Жан-Марка и, подхватив, унес в такую невероятную высь, что на глазах у него выступили слезы. Он мельком взглянул на Валери. Под аллегро из Тройного концерта до мажор Бетховена она, должно быть, размышляла об их будущем. Они сидели на самой верхотуре, где места были дешевле.
Раньше, когда Жан-Марк бывал здесь вместе с Кароль, он всегда брал билеты только в партер. Она ни за что не согласилась бы сидеть на плохих местах. Он вспомнил тот день, когда она заставила его уйти в начале антракта, потому что у нее якобы разыгралась мигрень. Валери никогда так не поступит, можно не опасаться! У каждой из них была своя манера слушать. Музыка обволакивала Кароль. Казалось, проникая сквозь поры ее кожи, звуки пронизывают все ее существо, и от этого Кароль становится еще более таинственной и женственной. Что же до Валери, то лившаяся со сцены мелодия как бы наталкивалась на нее и, не задерживаясь, обтекала, точно кусок прекрасного белого мрамора. Она слушала старательно, но равнодушно. Вслед за оркестром основную тему по очереди подхватывали и с изысканной утонченностью развивали солирующие инструменты: фортепьяно, скрипка и виолончель. Каждый раз, когда вновь слышался лейтмотив, у Жан-Марка сладко щемило сердце.
Он не виделся с Кароль с того дня, когда они случайно встретились в саду клиники. На ней тогда был серо-бежевый плащ с воротником из выдры. И все вокруг тоже было серым: и небо, и земля, и деревья, и старая каменная стена. Она улыбнулась ему: «Здравствуй, Жан-Марк». Взгляд ее серых, цвета мокрого асфальта, глаз был ласковым и грустным. В этом взгляде читалась напрасная мольба, прощание с прошлым и в нем, как в зеркале, отразились все бессонные ночи Жан-Марка. Ночи, когда он не мог уснуть, представляя себе ее немного увядшее, печальное лицо с приоткрытым чувственным ртом. Какой элегантный плащ! А как прелестно ее короткое синее пальто! И меховой жакет из оцелота, и костюм цвета увядшей листвы. Жан-Марк помнил все ее платья. Он мог бы с закрытыми глазами описать содержимое ее шкафов, шкатулки для драгоценностей. И в то же время ему случалось забыть, во что днем раньше была одета Валери. Ну и что? Это ничего не значит! Ведь женщину любят не за ее туалеты.
Жан-Марк постарался вновь сосредоточиться на музыке. Обычно на концерте он забывал обо всем на свете. Почему же сегодня ему это никак не удается? Каждую долю секунды в его мозгу возникали посторонние мысли, которые мешали получать удовольствие. Жан-Марк посмотрел вниз, на темные спрессованные ряды публики, сидевшей в партере. А вдруг, подумал он, Кароль тоже там, с подругой или с каким-нибудь мужчиной… Кароль всегда заявляла, что обожает Бетховена, хотя Жан-Марк подозревал, что она при этом совершает над собой некоторое насилие. Несколько раз ему казалось, что он видит ее, и он был поражен волнением, которое его при этом охватывало. И все же он ни за что на свете не согласился бы опять вернуться к Кароль. Если сегодня он решился воскресить ее в своей памяти, то только потому, что рядом с Валери был абсолютно уверен в себе.
Скрипка, издав пронзительный и чистый звук, утвердила его в мысли, что он любит только Валери и никого другого. В ее ярко-зеленом свитере и черной плиссированной юбке. Похвальная скромность! Она послала ему свою улыбку. Такая молоденькая, такая золотоволосая! И к чему только эта молодость, эти светлые волосы? Со сцены плавно и широко разливалось ларго. Словно глубокий вздох оживил музыкальное повествование. Кароль, наверно, очень взволнована. Ерунда! Ее нет в зале. Валери склонила голову набок. Кого она ему напомнила этой прилежной позой? Ах, да, Жильбера, когда тот пытается разобраться в алгебраической задаче. Хотя они совершенно не похожи. Фамильные гены, вероятно. Интересно, а любит ли музыку Жильбер? За те два месяца, что Жан-Марк давал ему уроки, у них ни разу не заходила речь о музыке. Завтра надо его об этом спросить. Во многом их вкусы совпадали.
Жан-Марк вспомнил об игре, которую они придумали, — время от времени во время разговора надо было вставлять фразы из Лотреамона. Идея принадлежала Жильберу. Эффект превосходит все ожидания, только нужно старательно подбирать цитаты. В запасе у Жан-Марка не осталось ни одной. Дома, после концерта, он полистает «Песни Мальдорора».
Казалось, что в мощную музыку Бетховена вплетались произведения Лотреамона. Ах, как чудесно звучит фортепьяно. А может ли Валери оценить изящество этих арпеджио? А почему бы и нет? Конечно, может, как и Кароль. Каким высказыванием Лотреамона так упивался Жильбер? «Жизнь была брошена мне, как оскорбление!» Потрясающе. Ужасно и все-таки потрясающе. «Жизнь была брошена мне, как оскорбление!» Жан-Марк подумал, что эта фраза могла бы стать его девизом. Или эпитафией. И вот опять мысли отвлекают его от музыки. Невыносимо! Вновь загремел оркестр. Гордость, нежность, печаль, насмешку — все несли в себе накатывающиеся одна за другой на зал сверкающие волны. Внезапно Жан-Марк почувствовал, что он свободен, спасен. Музыка свежей, могучей струей вымыла из его головы все ненужные мысли. Не было больше проблем с деньгами, не было экзаменов по гражданскому праву, женитьбы. Вместо этого его мозг стал средоточием льющихся со сцены чистых и прекрасных звуков. Он был абсолютно счастлив, находясь между небом и землей. Потом зал взорвался аплодисментами. Дирижер и солисты раскланялись перед публикой.
Валери, не переставая хлопать в ладоши, спросила:
— Здорово, правда?
Жан-Марк посмотрел на нее с удивлением. Что она делает здесь, рядом с ним?
VIII
Никогда еще занятия не были такими скучными! Вот уже три четверти часа Жильбер пытался по рисунку из учебника определить направление тока в электроцепи. Каждый раз, когда он ошибался, Жан-Марк поправлял его:
— Да нет же, старик, подумай! Если мы отодвигаем северный полюс магнита от цепи, то магнитное поле уменьшается…
— Мне это все осточертело! — отпихивая учебник, недовольно проворчал Жильбер.
— Ну, давай, наберись терпения. Еще немного, и мы закончим.
— Немного — это сколько?
— Немного — это время, «необходимое для того, чтобы размозжить ударом молотка женскую голову!», — ответил Жан-Марк.
Вчера вечером он выудил эту цитату из «Песен Мальдорора». Жильбер рассмеялся:
— Потрясающая фраза, я ее обязательно запомню! — пообещал он и, взбодренный этой литературной отсылкой, мужественно вернулся к физике.
Ровно в пять часов раздался стук в дверь. В комнату, держа двумя руками поднос, вошла горничная. На подносе стояли чашки, заварной чайник и несколько небольших горшочков. Подобные чаепития стали у них традицией. Китайский чай — Жильбер не пил другого — с сухариками и горьковатым апельсиновым джемом. Пока горничная устанавливала на столе поднос, Жильбер, подняв вверх указательный палец, произнес:
— «Сова несет в клюве крысу или лягушку, так как живой корм сладок для малышей».
Это было смешно еще и потому, что горничная со своим крючковатым носом и круглыми глазами действительно была похожа на сову. Жан-Марк напрягся и сжал челюсти, чтобы не прыснуть со смеху. Горничная покинула комнату с мрачным достоинством ночной птицы.
— Один — ноль в твою пользу! — воскликнул Жан-Марк.
Уже на втором уроке он решил, что они будут на «ты». Поначалу Жильберу было как-то неловко, но теперь, подружившись с Жан-Марком, он чувствовал себя совершенно естественно. Сидя за столом, на котором царил школярский кавардак, они маленькими глоточками пили горячий душистый чай. Им предстояло заниматься еще целый час. Жильберу хотелось, чтобы это время было посвящено литературе, но его слабым местом была физика, и Жан-Марк, повинуясь долгу, хотел подтянуть его именно по этому предмету. Откусив кусочек сухарика, Жан-Марк сообщил об этом ученику.
— Ты принимаешь мои успехи слишком близко к сердцу, — заметил тот.
— А как же иначе! Я дал себе слово, что ты сдашь философию.
— Скажи, занятия со мной отнимают у тебя не слишком много времени?
— О чем ты говоришь!
— А твои лекции по праву? Тебе же столько всего надо пройти на четвертом курсе! Что ты рассчитываешь делать дальше, получив степень лиценциата?
— Поступлю в докторантуру. При этом я, естественно, буду работать юристом.
— У своего отца?
По телу Жан-Марка пробежала дрожь. Кто мог ему рассказать? Валери? Нет, похоже, Жильбер ничего не знает.
— Я поссорился с отцом, — сказал Жан-Марк, — мы с ним никогда не встречаемся.
— Я тоже со своим не встречаюсь, — признался Жильбер, — хотя мы, в общем-то, и не ссорились. Просто ему нет до меня никакого дела и мне до него тоже. А тебе не кажется, что можно прекрасно обходиться и без родителей?
— Согласен, — ответил Жан-Марк, невольно бросив взгляд на угол письменного стола. Оттуда, со снимка в металлической рамке, за ними наблюдала молодая светловолосая женщина. Жильбер, заметив, что он смотрит на фотографию, сказал:
— Это моя мама.
— Красивая, — смущенно проговорил Жан-Марк.
— Ты так считаешь? Это изображение убило во мне все воспоминания. Я теперь не могу представить себе маму иначе, как неподвижной, немой, с белой кожей и черными губами. Правда, иногда я вспоминаю момент аварии.
— Ты был слишком маленьким.
— И все-таки я помню. Причем с годами все отчетливее и отчетливее! Знаешь, что меня особенно поразило сразу же после удара? Маму выбросило из машины. Она лежала на откосе. Юбка задралась ей на лицо, и было видно ее нижнее белье. Я ужасно стыдился этого, потому что вокруг собрались люди. Последнее, что я помню о маме, это раскинутые в сторону ноги и маленькие трусики посередине.
По лицу Жильбера пробежала слабая, вымученная улыбка, и он добавил:
— Наверно, я очень тебе доверяю, раз решился рассказать об этом.
В комнату вновь вошла горничная, на этот раз, чтобы забрать поднос.
— Ну что же, пора вернуться к электромагнитной индукции. Напомни мне правило Ленца, — попросил Жан-Марк.
Жильбер откинулся на спинку стула. Лицо у него было странным: подчеркнуто плоское, с раскосым разрезом глаз. Вьетнамец-блондин, подумал Жан-Марк.
— «Направление наведенного тока всегда таково, что его магнитное поле противодействует тем процессам, которые вызывают индукцию», — наизусть отчеканил Жильбер и, подняв палец, добавил: — «Скарабей трепещет от страха перед этими неожиданными речами».
На этот раз Жан-Марк запретил себе смеяться. Нельзя, чтобы урок превращался в цирк. С самым серьезным видом он пустился в объяснения, которые на него самого наводили скуку. Жильбер, ерзая на стуле, тяжело вздыхал: «Да я уже во всем разобрался!», хотя на самом деле не понимал и половины. Постепенно Жан-Марком овладевала какая-то истома. Горячий ароматный чай, апельсиновый джем, сухое тепло батарей притупляли его умственные способности. Ему было так хорошо в этом кабинете, среди множества книг, что он мог бы проводить в нем дни. В шесть тридцать Жильбер решительным жестом захлопнул тетрадь. Они взяли по сигарете, закурили и, сидя друг против друга, оба одинаково радовались тому, что покончили с науками.
— Вчера я был на концерте, — сообщил Жан-Марк, — дирижировал Барнович. Это было что-то необыкновенное!
— Ты ходил с Валери? — спросил Жильбер.
Жан-Марк посмотрел на него с удивлением.
— Это она тебе сказала?
— Нет, но я догадался. Ты ведь часто ее приглашаешь.
— В общем, да.
— А я редко с ней вижусь. Она меня терпеть не может. Не могу понять, почему?
— Мне кажется, ты выдумываешь, — не очень уверенно возразил Жан-Марк.
— Есть такие признаки, по которым сразу все понимаешь. Ошибиться невозможно. Я ощущаю ее враждебность, как холодный ветер, который дует прямо в лицо.
— Успокойся, она мне ничего такого про тебя не говорила…
— Я знаю, она злая. Красивая, умная, но злая.
— Ты находишь ее красивой?
— Да, а ты разве нет?
— Я тоже.
В наступившей тишине Жан-Марку вдруг представилась Валери. С плотно сжатыми губами, леденящим взглядом. «Мой тупица братец…»
— Ну, а что, концерт действительно был хороший? — поинтересовался Жильбер.
— Да, это был очень красивый концерт Бетховена. Называется «Тройной концерт для фортепьяно, скрипки и виолончели». Ты его знаешь?
— Я не меломан. Живопись и поэзия для меня действительно много значат, а вот музыка… Но, думаю, у бабушки есть пластинка. Хочешь, пойдем в гостиную, посмотрим.
Жильбер уже направлялся к двери. Жан-Марк последовал за ним, удивляясь порывистости его движений. Быстрым шагом они миновали галерею, увешанную помпезными полотнами, вряд ли способными привлечь чей-либо взгляд, и попали в гостиную. Жильбер зажег полный свет. Выдвинувшись из тени, со стен на них смотрели другие картины. Дурачась, Жильбер с напускной важностью сообщал их названия: «Похищение Деяниры», «Диана и Актеон», «Маленькая рыбачья гавань», «Амур, разоружающий воина»…
Повернувшись вокруг себя на каблуках, Жильбер продолжал:
— Они такие прилизанные, меня от них тошнит! Но мои старики без ума от французской школы восемнадцатого века, поэтому я вынужден дышать этим веком с утра до вечера. Смешно! Ну, что ж, вперед, на взятие Бастилии!
Один из секретеров служил дискотекой. Жильбер вытащил оттуда толстый альбом.
— Концерты Бетховена. Посмотри, есть ли там твой?
Он там оказался. Жильбер подошел к громоздкой старомодной тумбе из темного дерева и открыл дверцы. Внутри был спрятан проигрыватель. Жильбер поставил диск и нажал на пуск. Потом он прямо в костюме сел на ковер и потыкал пальцем рядом с собой:
— Молодой человек, «наклоните коленные чашечки ближе к полу»!
Это, вероятно, снова был Лотреамон.
— А не сменить ли нам автора? — предложил Жан-Марк.
— Согласен. Кого выберем?
— Может, Бодлера?
— Будет не так смешно.
— Тогда Рембо.
— Отлично!
В этот момент по комнате поплыли первые такты «Тройного концерта». Чистые, плавные, величавые. У древнего проигрывателя было удивительное звучание. Сосредоточившись, Жан-Марк испытал те же эмоции, что и накануне. Другие солисты, другой дирижер, но замысел Бетховена был выше этих различий. Первая сторона закончилась прямо перед началом ларго.
— Ставить вторую сторону? — спросил Жильбер.
— Да, но если тебе не нравится…
— Нравится… нравится… — отозвался Жильбер. Он нерешительно повертел в руках пластинку и вдруг спросил: — А почему ты никогда не рассказываешь мне о своей матери?
От неожиданности Жан-Марк смутился, но потом ответил:
— В молодости она, по всей видимости, была дурой. Затем развелась с отцом, чтобы выйти замуж за дурака. Так что теперь она дура вдвойне! Вот и все.
— Как ты жесток к ней! — прошептал Жильбер.
Жан-Марк преисполнился гордости. Впервые он кому-то показался жестоким. Ведь изо дня в день он корил себя за мягкотелость, чувствительность, нерешительность. Жильбер поставил вторую сторону пластинки и, сев на ковер и скрестив под собой ноги, вернулся к своей позе будды.
— Если тебе надоело, можно выключить, — несколько минут спустя предложил Жан-Марк.
— Нет, мне не надоело, но музыка меня трогает меньше, чем поэзия. В музыке есть нечто такое, что воздействует прямо на подкорку, тогда как в поэзии все иначе, более тонко, что ли. Я не вижу ничего удивительного в том, что звуковые волны заставляют вибрировать мои нервы и я получаю от этого большее или меньшее удовольствие. Но… поразительный факт, старик! Самые простые и обыденные слова, соединенные определенным образом, доставляют мне величайшее наслаждение! Взять, хотя бы, самые избитые — «дождь», «крыша», «земля»… В чистом виде в них нет эмоциональной нагрузки. Твоя консьержка употребляет их сплошь и рядом. Потом ты даешь их Верлену. Он пишет: «Тихий шелест дождя по крышам и влажной земле…» И дальше над этой фразой можно размышлять всю жизнь!
— Мне кажется, ты несколько упрощаешь. Не стоит сравнивать с музыкой ни поэзию, ни живопись, — сказал Жан-Марк.
В этот момент в исполнении оркестра зазвучала прекрасная грустная мелодия. Жан-Марк прикрыл глаза.
— Согласен, это красиво. Даже очень красиво, — тихо сказал Жильбер. — Но я не знаю, как истолковать язык музыки.
— Потому что ты задаешься вопросом, какие чувства он выражает. Но ты должен понять, что музыка не выражает никаких уже существующих чувств, она создает новые эмоции. Попробуй вообразить, что музыка не задается целью поведать тебе что-то или в чем-то тебя убедить. Она призвана увлекать за собой, переносить в мир, совершенно отличный от реального. Музыка предлагает не твое отражение или отражение твоего окружения, она дарит тебе озарение, луч света. Представь, наконец, что ты стоишь не перед зеркалом, а перед окном.
Замолчав, они не проронили ни слова, пока не закончился музыкальный отрывок. Потом Жан-Марк спросил:
— Вот ты так любишь поэзию, а сам не пробовал сочинять?
— Еще бы! — отозвался Жильбер. — Как и все!
— Ты мне покажешь?
— Ну уж нет! Они отвратительные!
— Уверен, что это не так!
Жильбер бросил на него благодарный взгляд и проворчал:
— Ты говоришь это потому, что я много распространяюсь о поэзии? Но разве ты не знаешь, что истинные художники гораздо меньше других рассуждают об искусстве, которому служат.
Произнося эту фразу, Жильбер сцепил пальцы, вытянул вперед обе руки и, вывернув кисти ладонями наружу, потянулся.
— Уже двадцать минут восьмого! — констатировал Жан-Марк, взглянув на часы. — Мне пора идти.
В тот момент, когда он вставал, в гостиную вошла госпожа Крювелье. Не дав ему возможности попрощаться, она сразу же пригласила его остаться на ужин.
— Мы просто поставим еще один прибор.
Жан-Марк принял приглашение и сделал это с легкостью, которой способствовали два обстоятельства. Во-первых, он был голоден, а во-вторых, в его памяти всплыло содержимое шкафчика для провизии: остатки печеночного паштета и небольшой кусочек швейцарского сыра. На лице Жильбера Жан-Марк прочел неподдельную радость, и это было ему приятно. С тех пор как дом отца оказался для него закрытым, он стал как-то особенно нуждаться в человеческом тепле. В гостиную вошел и господин Крювелье. Жан-Марк видел его во второй раз. Серебристые волосы, кожа цвета слоновой кости, тонкая полоска темных усов над верхней губой. Он был очень бодр для своего возраста, ведь ему, должно быть, никак не меньше шестидесяти пяти! Господин Крювелье положил руку на плечо Жильбера, было заметно, что он гордится внуком. Вся его успешная финансовая деятельность была оправдана присутствием под крышей его дома этого утонченного юноши. Крювелье расспросил Жан-Марка о его учебе, о планах на будущее, сообщил, что в свое время у него были деловые контакты с его отцом и тот дал ему весьма ценные советы. Потом он посетовал на новые тенденции в экономической политике Франции. Дал отрицательную оценку постоянно возрастающему влиянию государства на процессы развития рынка и убедительно доказал, что все это мешает созданию равных условий, необходимых, по его мнению, для конкурентной борьбы.
Все перешли в ротонду, где располагалась небольшая столовая с обшитыми светлым деревом стенами и обтянутыми кожей оливкового оттенка старинными стульями. Жан-Марк оценил и дорогое вино, и изысканные легкие блюда, и бесшумную прислугу. Напрасно он, из принципиальных соображений, осуждал стяжание земных богатств, теперь приходилось признать, что для счастья необходима некоторая роскошь. Жан-Марк подумал, что, женившись на Валери, он сможет вновь обрести достойную жизнь. Поначалу эта мысль ужаснула его, но он все-таки задержался на ней. Не странно ли, что атмосфера этого дома каким-то образом склоняла его к браку? Возможно, ностальгия по комфорту мучила бы его не так сильно, если бы он не приходил сюда?
Жан-Марк старался участвовать в общем разговоре, но отвлекался и думал о своем. Жильбер тоже казался рассеянным. В присутствии деда и бабки он несколько стушевался, стал менее раскованным и опять превратился в задумчивого, послушного мальчика, который не перебивает взрослых. После ужина все присутствующие перешли в гостиную. Кофе или травяной чай? По совету госпожи Крювелье Жан-Марк выбрал второе. У напитка был непередаваемый букет, в котором перемешались запахи множества сухих растений. В десять часов Жан-Марк решил, что теперь уже вполне прилично попрощаться и уйти. Господин Крювелье предложил отправить его домой на машине. Жан-Марк не нашел в себе сил отказаться.
Восседая один на заднем сиденье огромного черного «мерседеса», он видел перед собой мясистый затылок шофера, его коротко остриженные волосы под форменной фуражкой. Забавляясь, Жан-Марк по очереди представлял себя банкиром, богатым промышленником, министром, известным адвокатом… Интересно, станет ли когда-нибудь эта игра воображения явью? Жан-Марк не мог в это поверить. С другой стороны, разве все сильные мира сего не были в свои двадцать лет такими же, как сейчас он, переживающий за свое будущее? Шофер, привыкший возить стариков, вел машину медленно и осторожно. Жан-Марк перенесся во времена Первой мировой войны. Вот он кавалер ордена Почетного легиона, член нескольких административных советов, личный друг премьер-министра, потерявший в последние годы многих своих товарищей. Коллекция табакерок, два шедевра Ренуара, один — Утрилло и один — Пикассо. Вполне насыщенная жизнь. Кошмар! Жан-Марк откинулся на спинку сиденья. За стеклом, то погружаясь во мрак, то взрываясь фейерверками огней, неспешно проплывал Париж. На Елисейских полях, не доезжая до площади Согласия, Жан-Марк неожиданно попросил:
— Остановите здесь, пожалуйста.
Он вылез из машины, поблагодарил грузного мужчину с красным лицом, который тщетно попытался успеть открыть ему дверцу, и легким шагом направился в сторону дома.
Рефлектор алым пятном светился в углу комнаты. Ночью волна холодного воздуха опустилась на город. Окна покрылись изморозью. Сквозь щели в двери внутрь пробирался ледяной воздух. Жан-Марк, чтобы было теплее, занимался в постели. На пижаму он натянул свитер. Его окоченевшие пальцы перелистывали отпечатанный на ротапринте курс по политэкономии. У соседей громко играло радио. Ничего не поделаешь — воскресное утро, имеют право. Перейдя к новой главе, Жан-Марк услышал приближающиеся шаги.
— Господин Эглетьер! Господин Эглетьер!
Он узнал задыхающийся голос консьержки. Встав, он открыл дверь и спросил:
— Что случилось?
— Вас к телефону!
Меньше месяца назад владелец дома установил у консьержки телефон, но если принимать сообщения та в исключительных случаях еще соглашалась, то подзывать жильцов к телефону отказывалась категорически. Видимо, сегодня у нее были веские причины изменить своим правилам.
— Иду! — сказал Жан-Марк, накидывая домашний халат. — Кто меня спрашивает?
— Откуда я знаю, но это срочно. Очень срочно. Похоже, это вопрос жизни и смерти.
Ужас сковал Жан-Марка. Он подумал об отце, о Франсуазе, Даниэле, Маду, обо всех, кого любил.
Проскочив мимо консьержки, которая после подъема на пятый этаж все еще никак не могла отдышаться, он дрожащим голосом пробормотал «Спасибо, мадам» и выбежал на лестницу. Внизу он схватил трубку и с трудом выдохнул.
— Да, я слушаю…
Искаженный мужской голос откуда-то издалека продекламировал:
— «Разве можно быть серьезным, когда тебе семнадцать и когда на бульваре шумят зеленые липы?»
— Кто говорит? Что случилось? — прошептал Жан-Марк.
— Ничего серьезного, — ответил Жильбер.
— Тогда почему же ты сказал?..
— Она не хотела подниматься к тебе. Чтобы она согласилась, я придумал чрезвычайные обстоятельства.
Успокоившись, Жан-Марк тут же разозлился.
— Тебе не кажется, что это слишком?!
Он не мог припомнить, чтобы вообще давал Жильберу свой телефон.
— Ну как, вчера вечером ты нормально добрался? — спросил Жильбер.
— Превосходно!
— А сегодня во второй половине дня ты, случайно, не свободен?
— К сожалению, нет, старина.
— Жаль, а то у меня какая-то хандра.
— Что-нибудь случилось?
— Да нет, ничего особенного. Просто тоскливо, скучно, неинтересно, ничего не хочется делать, словно навалился тяжелый груз. С тобой когда-нибудь так бывает?
— Бывает, — ответил Жан-Марк, — но я пытаюсь как-то с этим бороться, предпринимаю усилия… — Подумав, он добавил: — Сегодня в два часа я встречаюсь с Валери. Мы собирались пойти в Лувр. Хочешь, пойдем с нами.
— Ну уж нет! — воскликнул Жильбер.
— Почему?
— Не хочу вам мешать.
— Если я тебе это предлагаю, значит, считаю, что ты нам не помешаешь.
— Хорошо! — с неожиданной радостью согласился Жильбер. — Тогда как мы договоримся?
— Я встречаюсь с Валери в два пятнадцать у входа в крыло «Денон», рядом с кассой. Тебе это удобно?
Консьержка с трагическим лицом входила в свои апартаменты. Увидев ее, Жан-Марк едва успел соответственно случаю скорчить печальную мину. С похоронным видом он опустил трубку на рычаг.
— Ну, что там? — полюбопытствовала она.
— Мой дядя Эрнест очень плох, — ответил Жан-Марк, — спасибо, что предупредили. — Закаменев в горе, в котором невозможно было усомниться, он вышел за порог.
Вернувшись в комнату, Жан-Марк подумал, что Валери, вероятно, разозлится, узнав, что он пригласил Жильбера. Тем хуже для нее! В конце концов, он достаточно часто проводит с ней время наедине. Пусть же хоть иногда с ними будет кто-нибудь третий. Всего десять минут назад предстоящая встреча не сулила ничего необычного, и вдруг все изменилось, словно перед ним открылась сияющая перспектива. Лувр, прекрасные полотна, желчные замечания Валери, приятная, интеллигентная беседа с Жильбером. Жан-Марка охватило нетерпение, он хотел поскорее оказаться там. Еще немного, и он начал бы собираться, но было всего десять утра, а бриться заранее он не хотел — у него слишком быстро отрастала щетина.
— Удивительно, что все еще находятся люди, желающие полюбоваться этой старушкой! — заметил Жильбер, останавливаясь перед «Джокондой».
Несколько посетителей посмотрели на него с возмущением.
— Пойдем, — дотрагиваясь до его плеча, сказал Жан-Марк.
— Не могу. Она меня завораживает, только не красотой, а идиотизмом. Надо бы придумать специальный термин для определения самодовольной глупости ее лица. Что-нибудь вроде «джокондизма».
— Говорят, Леонардо поначалу рисовал мальчика, а потом переделал его в Мону Лизу, — вступила в разговор Валери.
— Это что еще за история? — удивился Жан-Марк.
— Ты что, разве не знаешь, что да Винчи был гомосексуалистом?
— Ты путаешь с Микеланджело!
— Вовсе нет! И он тоже! Собственно говоря, в этом и состоит секрет его дарования. Лично я, в отличие от Жильбера, считаю, что в «Джоконде» все-таки что-то есть.
— Разве что пейзаж, — вставил Жильбер, — но уж никак не физиономия.
Все более многочисленные ценители прекрасного собирались у «Джоконды», как мухи у кусочка сахара. Они поглощали положенную им дозу красоты, качество которой гарантировалось надписью на табличке. То тут, то там какой-нибудь посетитель с видом знатока растолковывал суть шедевра своим соседям. Хорошо еще, что по воскресеньям не бывает организованных экскурсий! Жан-Марка, как и Жильбера, раздражало всеобщее преклонение перед «Джокондой», он предпочел бы любоваться этим полотном в одиночестве. Однако он был далек от того, чтобы умалять талант Леонардо только потому, что миллионы людей считают его великим живописцем. А вообще-то, поведение Жильбера его разочаровало. Не исключено, конечно, что столь тонкого и обычно проницательного юношу подтолкнуло к парадоксальным высказываниям присутствие кузины.
Не торопясь, все трое прошли к соседним полотнам. Итальянская школа выплеснула на них поразительную прозрачность тщательно покрытых лаком лиц. Но лица эти так походили одно на другое, и от картины к картине восторг угасал.
Валери, чтобы было удобнее ходить, сняла туфли и несла их в руках. Проходя по галерее, она пританцовывала. Музейные смотрители провожали ее подозрительными взглядами. Жан-Марку она казалась смешной в своей теплой фисташковой дубленке. На голове у нее была белая вязаная шапочка с застежкой под подбородком. Из круглого отверстия, как из альпинистского шлема, выглядывало розовое остренькое личико.
— Тебе не жарко? — спросил Жан-Марк.
— Нет, мне отлично!
Жильбер отошел от них подальше, как бы подчеркивая, что он знать не знает этой девушки. На нем было темно-синее, похожее на морской бушлат короткое пальто, и в нем он казался одетым в форменную одежду учеником колледжа, который вышел на прогулку в город. На шее Жильбера пузырился темно-красный шелковый шарф, отсвет которого, падая на лицо, окрашивал крылья носа в розовый цвет. Засунув руки в карманы, Жильбер шел по галерее, время от времени останавливаясь перед какой-нибудь картиной. Придирчиво и недоброжелательно осмотрев полотно, он выносил ему нелестный приговор и продолжал свой путь. Отстав, Жан-Марк и Валери нагнали Жильбера в голландском зале перед «Вирсавией» Рембрандта.
— Вот это уже лучше, — важно произнес он. — По крайней мере, Рембрандт ничего не приукрашивает на потребу публике. — Жестоко, но честно и прямо…
— Да, но эта женщина со своими желтыми телесами просто безобразна! — воскликнула Валери.
— Зато она настоящая! — раздраженно бросил Жильбер.
— К тому же, если бы рисовали только красивых, то живопись стала бы уделом парикмахеров, — заметил Жан-Марк.
— Кто знает, — прошептала Валери, — может быть, во времена Рембрандта это и был идеал красоты?
— «Однажды вечером у меня на коленях сидела Красота, но она казалась мне отвратительной, и я осыпал ее бранью», — процитировал Жильбер, с видом заговорщика посмотрев на Жан-Марка.
Тот легким кивком дал понять, что узнал отрывок из Рембо.
— О чем это ты? — удивилась Валери.
— Да так, ни о чем, — загадочно улыбаясь, быстро ответил Жильбер. — Во всяком случае, я сменял бы всех этих Джоконд и Святых Анн на одного миниатюрного «Размышляющего философа»[12] с его винтовой лестницей и сумерками за окном.
Валери устало опустилась на банкетку и стала надевать обувь.
— Ну, все, я выдохлась. Уходим?
— А как насчет того, чтобы еще понаслаждаться живописью? — с издевкой спросил Жильбер. От злости его лицо казалось почти глупым.
Валери вместо ответа встала и повисла на руке Жан-Марка, всем своим видом показывая, как она безумно утомлена. Прижавшись к нему, обессиленная и отяжелевшая, она шла так до самого выхода. Видимо, ей хотелось продемонстрировать какую-то особую близость между ними. Жильбер, продолжая критиковать картины, старался не смотреть на своих спутников. Иногда его высказывания напоминали Жан-Марку насмешки Валери. Несомненно, и тот, и другая обладали живым, противоречивым, язвительным складом ума. Ненавидя друг друга, Жильбер и Валери, тем не менее, вполне могли бы быть родными братом и сестрой. Внезапно Жильбер повернулся и стал пятиться назад.
— Вы молодцы, что взяли меня сегодня с собой, — сказал он. — Благодаря вам я получил массу приятных впечатлений.
Притворялся ли он или говорил правду? Жан-Марк предпочел не выяснять.
— Только мне все-таки кажется, что я вам мешаю, — продолжал Жильбер, — вернее, стесняю вас своим присутствием. Насколько вам было бы лучше без меня!
— Не говори глупостей! — одернул его Жан-Марк.
— Хотите, чтобы я ушел?
— Да-да, уходи, — сказала Валери, отодвигаясь от Жан-Марка. — Ты ведь давно об этом мечтаешь!
— Нет, пожалуй, я останусь.
— Ладно, оставайся.
— Нет, ухожу!
Он все еще продолжал двигаться, пятясь и не обращая внимания на то, что находилось у него за спиной. Внезапно он налетел на двух пожилых женщин, которые негромко вскрикнули.
— Осторожно! — проворчал Жан-Марк.
— «Постучите-ка своими наколенниками, мои дурнушки!» — тихо произнес Жильбер, подмигнув ему.
Жан-Марк рассердился, у него не было никакого желания продолжать игру в цитаты. Жильбер еще дважды пытался привлечь внимание Жан-Марка фразами из Рембо, но его сигналы не были приняты. Телеграфная линия не работала. Валери уже на выходе из музея решила купить открытки: «Мадонну в гроте» Леонардо да Винчи, «Юношу с перчаткой» Тициана и «Даму с веером» Гойи. Выбор был неплохим, но Жильбер не преминул над ним посмеяться.
На улице прозрачный морозный воздух перехватывал дыхание. Землю припорошили белые снежные крупинки. На черных ветвях деревьев образовались ледяные отростки, и от этого ветки казались длиннее. Жан-Марк предложил пойти в английскую чайную, которая находилась за бульваром Сен-Мишель. Они отправились туда, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться. Но вскоре Жильбер отделился от них и пошел один. Время от времени он оглядывался, чтобы удостовериться, что Жан-Марк и Валери идут за ним. Нос Жильбера приобрел фиолетовый оттенок, и Жан-Марк запоздало сообразил, что в своем коротком бушлате и тонком шарфике подросток слишком легко одет для такой погоды.
Они вошли в небольшой зал, где было тепло и тихо. Натертая воском мебель из золотистого дуба, ситцевые абажуры. Валери с Жан-Марком в изнеможении рухнули на диванчик, Жильбер разместился напротив них. Все заказали чай и тосты. Валери сняла дубленку и белую шапочку. Светлые волосы пружинисто вырвались на волю. Она мотнула головой и храбро посмотрела в глаза Жан-Марку. Он улыбнулся и, протянув руку, поправил непослушные, упавшие на ее лицо пряди. Жильбер наблюдал за ними, медленно отпивая из чашки чай. Жан-Марк мог бы уже убрать руку, но вместо этого слегка провел указательным пальцем по холодной и гладкой щеке Валери. Странно, но ему не было неприятно оттого, что Жильбер наблюдал за этой затянувшейся лаской. Глаза юноши смотрели, не мигая. Валери дышала очень тихо. Потом она вдруг завладела рукой Жан-Марка, поднесла ее ко рту и, оскалившись, укусила ему кончики пальцев. Жан-Марк приглушенно вскрикнул. Валери рассмеялась и откинула голову назад.
Жильбер поставил чашку на стол.
— Ну, ладно, на этот раз я действительно ухожу.
— Как, уже? — встрепенулась Валери, словно очнувшись от своих раздумий.
— Да, мне пора.
— Ты что, обещал бабушке?
— Вот именно, — грустно улыбнувшись, ответил Жильбер.
Жан-Марк чувствовал себя виноватым, хотя ему не в чем было себя упрекнуть. Жильбер сделал все, чтобы испортить сегодняшний день. Когда он ушел, Валери прошипела:
— Рвотный порошок! Больше я с ним никуда не пойду!
Жан-Марк кивнул ей в знак согласия. Что с ним происходит? Никогда еще он не хотел ее так, как в эту минуту. Он притянул ее к себе и глухим голосом сказал:
— Пойдем ко мне?
Валери встала. Можно было не сомневаться — она заранее знала, чем закончится их поход в музей. Как ему было легко с ней!
IX
Они ждали Николя к завтраку до последнего. Но в три у Александра начинались занятия, поэтому в половине второго Франсуаза поджарила бифштексы, разогрела картофельное пюре и поставила на стол. Александр с энтузиазмом принялся за мясо. Сама же Франсуаза, расстроенная из-за Николя, потеряла аппетит и едва притронулась к еде. Неорганизованность, непоследовательность, наплевательское отношение ко времени, простительные, с ее точки зрения, отцу, ужасно раздражали в сыне, в отношении которого она сохранила всю трезвость суждений. Он, как и следовало ожидать, унаследовал все недостатки Александра, преумножив их стократ. Поселившись у отца и его жены, Николя позволял себе жить так, как ему хочется, не пытаясь хотя бы немного облегчить бремя своего присутствия. Естественно, он не нашел ничего похожего на работу. Место билетера в кинотеатре, которое, как он говорил, было ему обещано — более того, даже оставлено за ним, — теперь упоминалось только как некая гипотетическая возможность. Изредка Николя давал себе труд заглянуть в маленькие газетные объявления, пребывая при этом в полной уверенности, что там не найдется ничего подходящего. Зато он вбил себе в голову, что ему надо посещать уроки актерского мастерства. Считая, что сына надо хоть чем-то заинтересовать, Александр поддерживал его в этом начинании. Он надеялся, что тексты классических произведений, над которыми придется трудиться Николя, пусть немного, но все же послужат его образованию. Это лучше, чем шататься по кафе, думал Александр. Теперь четыре раза в неделю, по вечерам, Николя посещал занятия Клебера Бодри. Он уходил в восемь, а возвращался в час ночи, преисполненный чувства собственной значимости. Франсуаза волновалась, понимая, что это только иллюзия деятельности. К тому же, она все больше страдала от тесноты. Но что она могла сделать?! Правда, недавно у нее в голове возник один план, нереальный и в то же время очень заманчивый. Она мучилась, не решаясь рассказать о нем мужу.
Александр, сидя перед ней, жадно и торопливо поглощал пищу. Он даже не подозревал о мыслях, которые тяготили Франсуазу. Наконец она решилась:
— Знаешь, я тут подумала… на рю Бонапарт есть еще одна комната для прислуги. Вполне приличная. Она не занята… я хочу поговорить с Кароль о Николя.
Александр дожевал кусок мяса, вытер салфеткой губы и, выпив стакан вина, пробурчал:
— Не понимаю, что ему делать на рю Бонапарт?
— А тебя не смущает, что он все время находится между нами?
— Если он будет жить отдельно, это обойдется нам вдвое дороже.
— Когда он найдет работу…
Александр покачал головой.
— Это не так просто, у него же нет никакой специальности.
— Как только он лишится тепличных условий, которые мы ему создали, то рано или поздно, со специальностью или без, но что-нибудь да отыщет по части заработка.
— Что ж, может быть. В общем, как я понял, ты хочешь выставить его за дверь.
— Нет, я просто хочу поселить его в другом месте.
Франсуаза поменяла тарелки и принесла сыр.
— Хорошо, — проворчал Александр, — поговори с Кароль.
Не возобновив этот разговор, они медленно, с удовольствием пили кофе. Теперь, когда она открыла мужу свой план, Франсуаза не намеревалась торопиться с его воплощением в жизнь. Перспектива просить Кароль об одолжении парализовала ее. К тому же, было неизвестно, как отнесется к этому предложению сам Николя? Имела ли она моральное право, однажды дав ему приют, теперь выгонять его?
Александр посмотрел на часы и, взяв кофейник, налил себе еще чашку. В этот момент дверь резко распахнулась и на пороге возник улыбающийся Николя. Как всегда, у него был вид бойца, идущего в атаку.
— Надеюсь, вы меня не ждали? — спросил он и, повернувшись к входной двери, добавил: — Ты идешь?
Позади него, виляя бедрами, появилась высоченная плоская девица с трагическим лицом. Темные прямые волосы падали ей на плечи.
— Это — Алисия, мы с ней вместе учимся, — пояснил Николя. — Нам с ней надо отрепетировать одну сцену к сегодняшнему вечеру.
Он еще ни разу не приводил в дом девушек. Франсуаза, взбешенная этим бесцеремонным вторжением, все-таки пересилила себя и, улыбнувшись девушке, предложила ей присесть. Вместо ответа Алисия состроила противную мину и плюхнулась на стул. Рот и глаза у нее были очень большими, но при этом она казалась немой и слепой. Красивая и равнодушная, она снисходительно относилась ко всем и вся. И как только столь апатичная особа могла возомнить себя драматической актрисой? Ей было не больше двадцати. «Моя ровесница», — с удивлением подумала Франсуаза, чувствуя себя значительно старше. Из вежливости она поинтересовалась, из какой пьесы они будут готовить сцену.
— «С любовью не шутят»[13], — ответил Николя.
— Полагаю, вы будете Камиллой, мадемуазель, — спросил Александр, закуривая.
Не разжимая губ, девушка утвердительно кивнула.
— Она очаровательная щебетунья, эта ваша Камилла. Суровое сердечко, ненасытный клювик, яркие перышки, — продолжил Александр.
Чуть сморщившись, Алисия дала понять, что согласна с подобной трактовкой образа.
— Вы давно работаете над ролью? — поинтересовалась Франсуаза.
Алисия качнула головой слева направо.
— Мы только что каждый в отдельности разобрали сцену, теперь нам надо все свести вместе, — вмешался Николя.
Алисия улыбкой поблагодарила его. Он избавил ее от тяжкой необходимости выражать мысли вслух. Разъясняя ситуацию, Николя взял большой кусок грюйера и отправил его в рот без хлеба.
— Может быть, вы тоже чего-нибудь съедите? — предложила Франсуаза Алисии.
Девушка опустила веки.
— Ну, что ж, тогда приятного аппетита! — пожелал им Александр, направляясь к двери.
После его ухода Франсуаза разделила пополам оставшийся бифштекс и принесла с кухни пюре. У Николя и Алисии заблестели глаза. Подняв головы и принюхиваясь, они замерли в ожидании своих порций. Удивительно, но девушка, несмотря на свою эфемерную внешность, обладала прожорливостью землеройки. К концу трапезы она все еще не проронила ни слова. Франсуаза убрала со стола, причем Алисия даже пальцем не шевельнула, чтобы помочь ей.
Вскоре, держа в руках грязные стаканы, на кухню пришел Николя.
— Знаешь, старик, — строго сказала ему Франсуаза, — может быть, твоя девушка и замечательная, но то, что вы собираетесь репетировать здесь, меня совершенно не устраивает.
— Почему?
— Потому что у меня куча работы на сегодня!
— Мы тебе не помешаем, мы устроимся в моей комнате.
— Где?!
— В моей комнате. Нам там будет чудесно, — ответил Николя, величественным жестом указывая в сторону коридора. При этом он умоляюще смотрел на нее.
Франсуаза сдалась. «Во-первых, — говорила она себе в оправдание, — это в первый и последний раз, а во-вторых, Николя скоро будет жить отдельно». Пока она мыла посуду, Алисия и Николя удалились в прихожую. Вновь став полноправной хозяйкой комнаты, Франсуаза поставила пишущую машинку на край стола и села печатать. Речь в тексте шла о загрязнении окружающей среды. Расположенное в департаменте Сена-и-Уаза химическое предприятие сбрасывало отходы производства в реку. Машинка без устали выстреливала буквами, и они ровными строчками ложились на лист бумаги. Сквозь эти пулеметные очереди до Франсуазы доносились патетические завывания. У Алисии был низкий голос с вульгарными интонациями и легким арабским акцентом:
— «Неужели я не найду здесь благородного человека? Когда ищешь кого-нибудь, то как-то особенно остро ощущаешь свое одиночество! Ах, кузен, когда же вы намерены сыграть свадьбу?»
— «Как можно скорее, я уже договорился с нотариусом, кюре и со всеми крестьянами!» — пылко произнес Николя.
— «Так вы что, в самом деле, хотите жениться на Розетте?»
— «Конечно!»
Оба они играли плохо, злоупотребляя комедийным пафосом. Франсуаза старалась не отвлекаться, но невольно прислушивалась к диалогу. Вот и опечатка! Франсуаза с раздражением исправила ее. Нет, пока эти двое надрываются в прихожей, ей не удастся поработать по-настоящему. Как только она вновь собралась печатать, Николя приоткрыл дверь и спросил:
— Ты не могла бы подавать нам реплики?
Подобное предложение сначала удивило Франсуазу, а потом развеселило. Почему бы и нет? Все равно день пропал. Пожалуй, она попечатает вечером. И она со смехом согласилась.
Держа в руках книжечку с текстом пьесы, в комнату вошла Алисия. Николя выстроил им обеим некое подобие мизансцены:
— Ты, Франсуаза, появишься отсюда. Ты будешь Розеттой, молочной сестрой Камиллы. Пердикан приударяет за тобой назло Камилле, которая отвернулась от него. Камилла впадает в ревность и начинает нервничать…
— Я знаю содержание, — с улыбкой сказала Франсуаза.
— Правда? — удивился Николя, бросив на нее недоверчивый взгляд.
— Ну что, мы когда-нибудь начнем? — вмешалась Алисия. — Франсуаза, держи-ка мой текст.
Беспардонное тыканье, завершившее продолжительный этап немоты, привело Франсуазу в замешательство. Алисия протянула ей помятую брошюрку со слепым текстом и острым, покрытым розовым перламутром ногтем ткнула в середину страницы.
— «Месье, — начала Франсуаза, — я пришла умолять вас о милости. Все жители деревни, с которыми я беседовала сегодня, в один голос говорили мне, что вы любите свою кузину, а за мной ухаживаете ради потехи».
— Что я теперь должна говорить? — спросила Алисия.
— Пока ничего, я все еще продолжаю, — ответила Франсуаза и стала читать дальше.
— «Когда я иду по улице, все надо мной издеваются. Если я стану всеобщим посмешищем, то не смогу найти себе мужа в нашей округе».
— Что ты так монотонно бубнишь, — заметил Николя, — тебе не хватает эмоций.
— Зато у тебя их чересчур много! — обиженно огрызнулась Франсуаза. — Ты не говоришь, а распеваешь. Я же хочу быть естественной.
— Ну ты даешь, старушка! Слышал бы тебя Клебер Бодри! Естественности еще надо добиться. Ее можно обрести только в результате долгих поисков. Ведь естественность — это переваренная непосредственность.
— Видно, твоя непосредственность так и осталась в желудке!
— Ну, хватит пререкаться, — вмешалась Алисия. — Давай, Франсуаза, продолжай.
Франсуаза продолжила:
— «Я бы хотела вернуть вам ожерелье, которое вы мне подарили. Позвольте мне, как и раньше, спокойно жить в доме моей матери».
Алисия погладила щеку Франсуазы тыльной стороной ладони и проговорила шелестящим голосом:
— «Ты — хорошая девушка, Розетта, оставь это ожерелье себе. Я дарю его тебе, а вместо него мой кузен возьмет мое. Что же касается замужества, то не беспокойся, я сама найду тебе мужа».
Глядя на это лицо утопленницы, обрамленное длинными прямыми волосами, Франсуаза вдруг почувствовала, что в ее жизни произошел какой-то сдвиг. Она больше не ощущала себя замужней женщиной, обремененной домашним хозяйством, заботами, работой, она будто вырвалась из душного класса и теперь, во время переменки, играла со своими сверстниками на школьном дворе. Франсуаза испустила притворный вздох. Получилось очень смешно.
— Как здорово! — воскликнула Алисия.
— Что здорово? — удивился Николя.
— Она так к месту вздохнула!
— Тебе всегда все нравится.
— Да нет же, нет, Николя! В ней действительно что-то есть! Знаешь, Франсуаза, не хочу лезть к тебе с советами, но мне кажется, тебе надо пройти прослушивание у Клебера…
Николя хлопнул себя по ляжкам.
— Представляю себе лицо Александра, когда он узнает, что его жена собирается стать звездой!
— Кто знает, может быть, он обрадуется? — предположила Франсуаза.
— Даже наверняка обрадуется, — подтвердил Николя. — Тут-то все, не дай Бог, и начнется. Давайте продолжать. На чем мы там остановились?
— Я выхожу, меня провожает Пердикан. Теперь ты, Камилла.
— Что я должна говорить? Подскажи.
— «Что со мной происходит…»
Подхватив реплику, Камилла, сверкая темными глазами, продолжила:
— «Что со мной происходит? Он спокойно уходит с ней. Невероятно! У меня голова идет кругом. Неужели он и правда на ней женится?» — Алисия заскрежетала зубами.
Франсуаза с трудом подавила рвущийся наружу здоровый смех, но тут же испустила вопль, который не был предусмотрен по ходу пьесы. Оба партнера, остановив творческий порыв, воззрились на нее.
— Я совершенно забыла про белье! — объяснила Франсуаза. Если я сейчас не схожу в прачечную, мне придется стирать его самой.
— А ты не можешь пойти попозже? — спросил Николя.
— Нет, старик, позже я, с твоего разрешения, буду работать. Я и так потеряла из-за вас массу времени.
— Ну хорошо, хорошо, иди.
Франсуаза покинула Николя и Алисию в разгар любовного конфликта, суть которого они вряд ли могли уловить. Их громкие восклицания были слышны даже на лестнице.
Когда через полчаса, сделав свои дела, она вернулась, на лестничной площадке царила тишина. Франсуаза повернула ключ в замке и поняла, что дверь заперта изнутри. Обо всем догадавшись, она стала со злостью звонить в звонок и стучать. Некоторое время в квартире было тихо, потом Николя открыл ей дверь.
— Представляешь, я случайно опустил собачку, — хитро улыбаясь, объяснил он. — Глупо, правда?
Испепелив его взглядом, Франсуаза прошла в комнату. Алисия, должно быть, едва успела привести себя в порядок. На ее прическе все происшедшее сказалось не сильно — волосы были только чуть более растрепаны, чем раньше, но в глазах светилось животное удовлетворение. Франсуаза была готова устроить скандал, но сдержалась. В чем она может их упрекнуть? В том, что они занимались любовью в ее спальне? Вот уж они посмеялись бы над ней! Ей не хотелось представать перед ними старомодной защитницей буржуазной морали. К тому же, они и так поняли, что она возмущена. Нет смысла пережимать. Потом, наедине, она, конечно, поговорит с Николя. Теперь же он невнятно объяснял ей, усталой и униженной, что они уже закончили репетировать и уходят, чтобы не мешать ей. Алисия набросила на себя шубку из кролика, выделанного под бобра, и, виляя бедрами и двигая плечами так, словно пробиралась в каминную трубу, направилась к двери. Проходя мимо Франсуазы, она поскребла пальцами воздух: «Чао!»
Когда они ушли, Франсуаза распахнула окно. Ей хотелось поскорее проветрить комнату. В горле у нее защипало, еще немного, и она расплачется. Все в ее жизни шло наперекосяк. «Нет, так дальше продолжаться не может», — решила она. Холодный воздух, ворвавшись с улицы, заставил ее вздрогнуть. Франсуаза закрыла окно, села за машинку и, перечитав последнюю напечатанную страницу, вновь взялась за работу.
Некоторое время спустя в дверь позвонили. Пневматическая почта. Франсуаза дала на чай почтальону и, узнав на конверте почерк матери, с опаской вскрыла письмо.
«Моя дорогая, ты была права. Я поговорила с Ивоном. Я, действительно, сумасшедшая. Мы с ним любим друг друга еще сильнее, чем прежде. Забудь все, что я тебе наговорила. До скорого! Только не приезжай в это воскресенье, мы хотим уединиться за городом, на природе. В ближайшее время я пришлю тебе весточку. Крепко тебя целую.
Твоя мама — очень счастливая!»
— Мне кажется, ты заблуждаешься, — сказала Кароль, — это крошечная комнатка! Бедному мальчику там негде будет развернуться.
— Ты думаешь, у нас в прихожей ему есть где развернуться? — отозвалась Франсуаза.
— Не знаю, тебе виднее. Разве у вас так тесно? Во всяком случае, сейчас, в вашей квартире, ему более или менее удобно, а представляешь, как он будет жить там, наверху: без водопровода, без отопления. Впрочем, иди и посмотри сама, если ты решишь, что тебя это устроит, то пожалуйста…
Кароль лучезарно улыбнулась. Степень ее любезности возрастала по мере того, как убывало желание откликнуться на просьбу Франсуазы. Если Николя поселится на служебном этаже, то непременно по двадцать раз на дню под разными предлогами станет спускаться к ним в квартиру: принять душ, погреться, позвонить, почитать газеты… а потом, кто знает, может, ему придет в голову мысль занять одну из тех комнат, которые пустуют после отъезда Франсуазы и Даниэля? С него станется! А ведь она в свое время приложила столько усилий, чтобы избавиться от этих двоих. И вот теперь вместо них ей на голову может свалиться этот самозванец. Единственное, что утешало Кароль во всей этой истории, так это то, что падчерице, которую она ненавидела, все-таки пришлось обратиться к ней за помощью. Потому-то Франсуаза и заявилась сегодня раньше всех остальных — ей надо было поговорить наедине.
— А я уверена, что если сделать в этой комнате небольшой ремонт и как-то благоустроить ее, то она станет вполне пригодной для жилья, — сказала Франсуаза, вставая.
Кароль зажгла лампу, стоявшую на журнальном столике. Изысканная гостиная, в которой сочетались табачные и розовые тона, как по волшебству, возникла из полумрака. За окнами светились голубые сумерки.
— Может быть, — вздохнула Кароль. — Хотя там, наверно, навалено столько всякого хлама!
Франсуаза стремительно вышла из гостиной и направилась на кухню, где, в одиночестве стоя перед плитой, сама с собой вела беседы Аньес. Франсуаза втянула в себя соблазнительный запах слоеных пирожков и спросила:
— А какой номер у второй комнаты для горничной?
— Тридцать второй. По коридору налево, — ответила Аньес и кивнула в сторону висевшей на гвозде связки ключей.
Франсуаза не узнавала служебной лестницы: по обе стороны старых грязных ступеней возвышались ослепительной белизны стены. Сильно пахло свежей краской. Ремонт все еще продолжался. На площадке стояли ведра с грязной водой, рядом валялись щетки и тряпки. В результате многолетних бесплодных дискуссий совладельцам дома пришлось договориться, чтобы привести в порядок эту часть здания. Франсуазе это было на руку. Отныне Николя станет подниматься в свое новое жилище по чистой лестнице. А вообще, откуда эти колебания? Что ее смущает? Живет же Жан-Марк в комнате для прислуги! Миновав узкий и темный коридор, Франсуаза отперла дверь комнаты № 32 и сразу же отступила назад. Перед ней высилась гора старых пыльных чемоданов и сломанной мебели. Да, этот чулан еще меньше его теперешней конуры. В полном отчаянии Франсуаза заперла дверь. Когда она вернулась в гостиную, там уже находились Даниэль и Дани.
— Ну, и как тебе комната? — спросила Кароль.
— Да, она действительно непригодна для жилья. Очень жаль! — ответила Франсуаза, опускаясь на диван рядом с Даниэлой. Ее руки безвольно упали на колени.
— Не надо так расстраиваться, — успокаивала ее Кароль. — Пока ты была наверху, я кое-что придумала. У Олимпии есть подруга, Рози Корнуа, которая работает в одном солидном агентстве по недвижимости. Более того, она как раз специализируется на найме квартир. Мы попросим ее подыскать вам более просторное и удобное жилье взамен вашего.
— Я уже думала об этом, — призналась Франсуаза. — К сожалению, это нереально. Мы не сможем доплачивать за метраж и удобства. Очень трудно найти жилье с такой же невысокой квартплатой, как наша.
— Можно, можно! Всегда есть варианты!
— У Александра нет лишних денег.
— Но вы же не одни на свете, — нежно проворковала Кароль.
Франсуаза сжалась при мысли, что ей придется принимать подачки, в особенности от отца. Ведь если он и захочет что-нибудь для нее сделать, то только благодаря вмешательству этой женщины. Сегодня она, забавляясь, делает его добрым, тогда как вчера ради развлечения делала его злым. Кароль нравится демонстрировать свою власть над ним.
— И все-таки, что вам конкретно нужно? — не унималась Кароль. — Одну гостиную и две спальни?
— Что толку об этом говорить? — ответила Франсуаза. — Я никогда не соглашусь, чтобы папа давал нам деньги.
— Но помогает же он Даниэлю!
Франсуаза ничего об этом не знала. Смутившись, она посмотрела на брата. Он сидел рядом с Даниэлой за низким столиком и с нескрываемым интересом листал журналы мод. Похоже, они оба не слышали, о чем говорила Кароль.
— Это разные вещи — прошептала Франсуаза.
— А мне кажется, что нет. Почему можно помогать Даниэлю и нельзя — тебе?
— Потому что он еще учится, — объяснила Франсуаза.
— Какие мы гордые! Брось ты все это, мы же одна семья.
— Здесь дело не во мне, а в Александре! — покраснев, жестко ответила Франсуаза.
Настойчивость мачехи вызывала у нее ответное сопротивление. Если Кароль пыталась склонить ее к какому-либо решению, то Франсуаза тут же поступала прямо противоположным образом. Не то чтобы она сознательно действовала мачехе назло, просто терпеть не могла принуждения.
Кароль все всегда просчитывала наперед, и поэтому ее участие казалось Франсуазе подозрительным. Чего она добивается теперь? А может быть, она всего лишь хочет, чтобы Франсуаза чувствовала себя обязанной ей? Изощренная форма ненависти. Франсуаза начала жалеть, что завела с мачехой речь о комнате.
Приход отца прервал цепь ее размышлений. Уже с порога он заявил, что умирает от жажды. Все расселись вокруг низкого столика, на котором стояли бутылки, ведерко со льдом и поднос с легкими закусками. Радующий глаз натюрморт. Все еще погруженная в свои невеселые мысли, Франсуаза слышала краем уха, как отец рассказывает о телефонном разговоре с Мадлен. Она звонила ему в контору. У нее все хорошо, единственное, на что она жалуется, так это на то, что племянники и племянница ленятся ей писать. Даниэль запротестовал: совсем недавно он послал ей открытку.
— А кстати, почему Маду больше не приезжает в Париж? — спросил он с участливым сарказмом. — Раньше она, худо-бедно, но добиралась до нас на своем драндулете. А теперь извольте ей писать. Ну и дела! За кого она себя принимает, за госпожу Севинье[14]?
Франсуазу охватило горькое уныние. Ведь она действительно не удосужилась ответить на последнее письмо тетки. Маду уходила из ее жизни подобно тому, как уходят в прошлое воспоминания детства. В этом был виноват Александр. Когда Маду в последний раз приезжала в Париж на крестины новорожденной, Франсуаза видела ее всего дважды и держалась при этом очень сдержанно. Ей казалось, что Маду не сможет ее понять.
Франсуаза дала себе слово завтра же написать ей. Но о чем? Она пригубила портвейн. Даниэль с восторгом рассказывал о дочери:
— Она такая смешная! Представляете, она нас всех уже узнает!
Какой у него счастливый вид. Глядя на него, все, сидящие вокруг, улыбаются.
С приходом Александра и Николя в гостиной стало многолюднее. Перед Кароль словно зажглись огни рампы. И не только перед ней. Николя тоже участвовал в представлении. Он был здесь в третий раз, но уже вел себя, как дома. Он потратил, вероятно, не меньше часа, чтобы навести на себя лоск. Франсуаза отутюжила ему брюки, Александр одолжил свой галстук. Но все затмевали сапоги с металлическими застежками. Британский шик! Небрежно закинув ногу на ногу, со стаканом шотландского виски в руке, Николя сидел за низким столиком и упивался каждой деталью своего образа. У Франсуазы закрадывалось подозрение, что он, даже участвуя в разговоре, думает только о том, как произвести на всех должное впечатление. Филипп поинтересовался, не нашел ли он себе работу. С выражением скорби на лице Николя горестно вздохнул:
— Нет, где там! Я впустую перелопатил горы газетных объявлений, целыми днями обивал пороги. Все безрезультатно! Или прихожу слишком поздно, и место уже занято, или слишком молод для них, или им не подходит мое образование…
— Лично у меня такое впечатление, что в этих объявлениях речь идет только о местах, куда никто не хочет идти работать, — заметила Кароль.
— И это притом, мадам, что я согласен абсолютно на все! — воскликнул Николя. — Если бы вы знали, как это невыносимо тяжело — сидеть без работы! Бывают дни… — Не закончив фразы, Николя с досадой ударил кулаком по колену, точно укоряя себя за то, что вообще появился на свет. — Но я уверен, все изменится! — с убеждением в голосе продолжил он. — Не может не измениться!
Его лицо выражало неподдельную искренность. Охваченный благородным порывом, он был готов продолжать борьбу за существование. Франсуаза и Александр весело переглянулись.
— Главное — не отчаиваться, не терять веры в себя, — сладко пропела Кароль. — Ведь когда очень хочешь чего-нибудь, обязательно добьешься.
При этих словах у нее приятно защемило в груди. Накануне, во время обеда, Рихард сказал эту фразу Ксавье. Правда, она не помнила, по какому поводу. У него такой красивый низкий голос. Вчера, когда он говорил, Кароль почему-то представлялось ведро, которое спускается на дно глубокого темного колодца. У Ксавье с Рихардом какие-то деловые отношения, поэтому он пригласил его, Олимпию и Марселя Ляшо в «Максим»[15]. Они виделись в третий раз. Рихард вел себя очень сдержанно. Тридцать пять лет, высокий стройный блондин, светлые глаза за массивной черепаховой оправой очков. В нем чувствовались сила, уравновешенность и ум. Сидя за столом напротив него, Кароль пыталась удержать его взгляд, но ей это не удалось. Может, ему не нравится ее внешность? Или он в кого-то влюблен? Оставалась еще вероятность, что он из деликатности, боясь задеть чувства Ксавье, не хочет оказывать ей знаки внимания. Хотя вряд ли, они с Ксавье не друзья, просто случайно познакомились на какой-то важной встрече. Вот подпишут контракт и разойдутся в разные стороны. Впрочем, Олимпия ему тоже не понравилась. Видно было, что она его раздражает. Почему-то в последнее время она вдруг стала кривляться. Боже, каким ледяным взглядом он посмотрел на нее вчера, когда она начала делать вид, что опьянела от капли вина! Кароль не хотела все время думать о Рихарде, но ее мысли почему-то возвращались к нему по поводу и без повода. Сделав над собой усилие, она вернулась к разговору с Николя:
— Надеюсь, вам больше повезет с вашими актерскими курсами, чем с газетными объявлениями.
— Да, — ответил Николя. — В студии дела идут отлично!
— Скажите, а Клебер Бодри хороший преподаватель?
— Потрясающий! Он учит нас не играть, а чувствовать.
— Наверно, это требует большой самоотдачи?
— Безусловно! Надо тренировать память, да и вообще все. С ума можно сойти от того, сколько текстов приходится вбивать себе в голову! Знаете, если хочешь заниматься театром, надо отказаться от всего и посвятить себя ему, как религии.
Франсуазе пришлось прикусить нижнюю губу, чтобы не расхохотаться.
— А что у вас сейчас по программе? — спросил Даниэль. — Что-нибудь из классики?
— И классика, и современность! Чего только нет! Совсем недавно я репетировал «С любовью не шутят», а теперь «Благовещение» Клоделя[16]. Какой у него прекрасный язык!
Со знанием дела покачав головой, Николя допил виски. Кароль обнесла всех блюдом с соленым миндалем. Александр и Филипп, сидя в сторонке, беседовали о политике. До Франсуазы долетали обрывки их разговора, и она поняла, что Александр излагает отцу свои мысли по поводу СССР.
— Со временем они, безусловно, сблизятся с нами. Им никуда не уйти от Европы, хотят они этого или нет. В конечном счете, когда речь идет о политике, географический фактор всегда оказывается важнее идеологии.
— А вам никогда не хотелось проверить свои догадки на месте? — спросил Филипп.
— Конечно, хотелось! Я думаю об этом уже несколько лет. Иногда меня туда очень тянет, а иногда я колеблюсь и меня охватывают сомнения. Но ведь так просто не поедешь, надо, чтобы подвернулся какой-то случай!
— А вот я бы туда ни за что не поехал. Чего я там не видел? Признаться, я предпочитаю приятный отдых познавательным поездкам.
— Но ведь одно другого не исключает!
— Не согласен, — возразил Филипп. — Ведь туда едут не для того, чтобы получить удовольствие, а чтобы посмотреть, как людям живется при коммунистах.
— Их коммунизм уже в значительной мере видоизменился…
— Кто знает, кто знает…
— Когда же мы увидим вас на театральных подмостках? — спросила Кароль, обращаясь к Николя.
— Видимо, не скоро, — ответила Франсуаза.
— А вот и ошибаешься! — возмутился тот. — Сейчас решается вопрос о том, чтобы ученики Клебера Бодри приняли участие в телевизионной передаче «Надежда на успех».
— И тебя отобрали?
— Нет.
— Что ж так?
Смутившись, Николя насупился.
— А что это будет за передача? — спросила Дани.
— Серия коротких пьесок на исторические темы. Их напишут молодые авторы, а играть в них будут начинающие актеры, — объяснил Николя.
Кароль, пока разговор обходился без нее, вновь погрузилась в свои мечты. «Я не люблю телевидение! — сказал Рихард за обедом в „Максиме“. — Оно вынуждено ежедневно менять картинки, чтобы зрители не заскучали. Тем самым оно отбивает у людей желание самостоятельно мыслить, притупляет их воображение». У него был немного резковатый выговор. Имеет ли для нее значение то, что он немец? Нет, конечно. Надо постараться забыть все те ужасы, о которых пишут в газетах, в книгах, которые показывают в кино. Все эти журналисты, писатели, режиссеры словно сговорились и хотят помешать людям, которые пережили войну, вновь стать счастливыми. Рихард, как и Кароль, был ребенком, когда началась война. Он не носил военной формы, не участвовал в политической жизни. Кажется, его родители ненавидели Гитлера. Правда ли это? У нее не было оснований не верить ему. Рихард великолепно говорил по-французски, часто приезжал по делам в Париж. Он даже снял однокомнатную квартиру на год. На набережной Бетьюна, на острове Сен-Луи. Когда они теперь встретятся? Идиотизм! Чтобы увидеться с ним, она вынуждена дожидаться, когда Ксавье соизволит пригласить его! К тому же и сам Ксавье послезавтра уезжает на две недели в Румынию.
Ее размышления прервал протяжный голос Аньес:
— Кушать подано, мадам.
Кароль встала и взяла Франсуазу под руку. Не забыть поговорить с Рози Корнуа о найме квартиры. Внезапно ей страстно захотелось быть великодушной, понимающей. Рихард занимал все ее мысли. Интересно, хорошо ли он занимается любовью? Говорят, немцы чувственны и грубы. Ерунда! У него такие изящные руки. Сделав пару шагов в направлении столовой, Кароль остановилась и, чуть повернув голову, легким жестом пригласила семейство следовать за ней.
Невнятные крики прервали сон Даниэля. Он перевернулся с одного бока на другой. На часы можно не смотреть: ровно шесть. Кристина требует положенного. Чтобы иметь возможность выспаться, Даниэла укладывала малышку в ванной комнате, которая находилась напротив спальни родителей. Но дверь к себе она оставляла приоткрытой. В первое кормление бутылочку Кристине давала Марианна. В коридоре заскрипел паркет, послышались энергичные шаги. Возмущенный плач прекратился, должно быть, бабушка взяла Кристину на руки. Женский голос на высокой ноте сюсюкал с младенцем. Даниэлю это не нравилось, он бы предпочел, чтобы над его дочерью не разводили этих дурацких причитаний. Развивать ум нужно с умом. Потревоженная утренними шумами, Дани вздохнула и уткнулась носом в подушку. Она станет настоящей матерью позже, когда будет отбывать следующую «повинность», как она сама выражается. Даниэль с радостью вспомнил, что ему надо идти на занятия только к половине одиннадцатого: заболел их преподаватель истории. Так что сегодня, в среду, у него только философия. Интересно, спросит ли его Коллере-Дюбруссар о диалектике и априорных познавательных формах? Прикрыв глаза, Даниэль повторил все, что знал о категориях у Канта. Почему именно эти категории, а не другие? Размышляя о высоких материях, Даниэль, тем не менее, слышал все передвижения тещи в ванной комнате. Покормив малышку из бутылочки, она задержалась, чтобы поменять ей пеленки, и теперь нашептывала внучке какие-то ласковые слова. Наконец она прошла к себе. Даниэль поудобнее устроился на подушке. Дани, совсем еще сонная, скользнула в его объятия. Она была такая горячая и нежная, ночная рубашка у нее задралась. Даниэль почувствовал, что ужасно хочет ее, но Дани его оттолкнула.
— С ума сошел! Мама может вернуться!
Какое-то время они внимательно прислушивались. Все было тихо. Однако у Даниэля острота желания уже спала, и он тяжело вздохнул:
— Все-таки было бы лучше жить отдельно!
— Как это, отдельно? — удивилась Дани.
— В другой квартире. Ты слышала, что вчера вечером говорила Кароль? Можно было бы попросить ее знакомую подыскать что-нибудь и для нас.
— Тебе здесь плохо?
— Да нет, не плохо, но мы никогда не можем остаться наедине. И потом, твоя мама все за нас делает, меня это смущает.
— Не беспокойся, ей нравится. Она, конечно, жалуется, что у нее много работы, но это только для виду. На самом деле она еще никогда не была так счастлива.
— А ты сама, ты счастлива?
— Естественно!
— А тебе не хотелось бы иметь свое жилье, делать, что хочется?
— Я и так делаю, что хочется!
— Но только с разрешения матери.
— Ты меня удивляешь! Мама мне просто помогает, и все дела! Иначе у меня была бы куча проблем! Ты представляешь нас с Кристиной в какой-нибудь дыре на окраине Парижа?
— Ну почему обязательно в дыре, на окраине?
— Потому что ты сам знаешь, нам нечем платить за нормальную квартиру в приличном районе!
— Это может зависеть от некоторых факторов.
— От каких еще факторов?
— Например, от моих договоренностей с отцом.
Произнося эти слова, Даниэль понимал, что загоняет себя в угол. Никогда, ни при каких обстоятельствах он не осмелился бы просить отца снять им более удобное жилье. И даже если бы Филипп захотел оказать ему помощь, самолюбие не позволило бы Даниэлю принять ее. Однако все эти терзания носили сугубо теоретический характер.
— Я не хочу уезжать от родителей, — недовольно пробормотала Даниэла.
Было ясно, что она чувствует себя спокойной и уверенной только возле родного очага, в кругу семьи. Даниэль счел за благо не спорить с женой, тем более что ничего не мог предложить ей взамен.
— Понимаешь, здесь мне просто, — шептала Дани ему на ухо, — ни у меня, ни у тебя нет никаких забот. Ведь когда-нибудь…
— Нет-нет! Это невозможно! — запротестовал Даниэль.
Но его протест быстро сошел на нет. Он обнял жену, но она опять ему отказала. Даниэль был недоволен, и Дани шепотом намекнула, что, по ее подсчетам, сегодня не очень удачный день. Было решено, что они пока не могут позволить себе второго ребенка. Вот и еще одно подтверждение тому, насколько он, Даниэль, зависим от законов капитализма. Когда же он сможет заработать достаточно денег, чтобы жить там, где ему хочется, иметь свободу действий, самому решать, делать или не делать детей своей жене? После экзамена на степень бакалавра он будет еще год или два готовиться к поступлению в школу Сен-Клу, потом еще четыре года учебы и затем военная служба. Да, он станет хозяином своей судьбы не раньше, чем к двадцати пяти — двадцати шести годам. Этот день казался ему таким же далеким будущим, как каменный век — далеким прошлым. Даниэла не понимает, что ему все тяжелее терпеть угрызения совести из-за того, что он абсолютно во всем зависит от родителей своей жены. Как бы он хотел оказаться на их месте! Такой человек, как его тесть, может гордиться тем, что всю жизнь напрямую следовал к достижению намеченной цели. Хотя, конечно, и его в свое время одолевали сомнения и колебания, но без победы над ними невозможно совершить трудный переход от юности к зрелости. Когда ему, Даниэлю, стукнет пятьдесят, все вокруг него будет солидным, основательным и ясным, а не таким туманным и неопределенным, как сейчас, в двадцать. Какое это счастье, глядя в зеркало, говорить себе: «Я стал тем или этим…» вместо «Я буду тем или этим…» О сладость сбывшихся надежд! О упоительное совпадение задуманного и сделанного!
Положив голову ему на плечо, Дани вновь погрузилась в сон. Даниэль прислушивался к ее ровному дыханию и чувствовал себя одновременно отцом и сыном, молодым и старым, победителем и побежденным, радующимся жизни и до конца не понимающим, для чего он вообще живет на земле.
— Шарль, ты спишь? — спросила Марианна.
— Нет, — хрипло ответил он.
— Кристина опять срыгнула часть того, что высосала. Это продолжается уже третий день. Я хочу позвонить доктору Мишле!
Шарль Совло открыл глаза. Справа от него белел силуэт его жены. Он втянул в себя сладковатый запах ночного крема. Марианна сидела на кровати и смотрела в его сторону.
— Я уверен, это все из-за того, что ты ее перекармливаешь, — устало проворчал он.
Шарлю ужасно хотелось спать, и он боялся, как бы взволнованная Марианна не пустилась в длинную дискуссию на тему воспитания младенцев, которая могла затянуться на целый час. Когда Марианну захватывала какая-нибудь идея, она забывала об усталости. Шарль же совершенно не жаждал слушать бесконечные истории о грудных детях. Да и вообще, женская суета вокруг колыбели казалась ему смешной. Женщины придают всему слишком большое значение. Они преисполнены собственной значимости и забывают, что природа уже обо всем позаботилась.
— Я даю ей ровно столько, сколько положено трехмесячному младенцу! — возразила Марианна.
— Она теряет в весе?
— Нет. Пока нет.
— Тогда в чем дело? К тому же Дани не слишком беспокоится, а ведь мать все-таки она!
— Мать! Скажешь тоже! — раздраженно воскликнула Марианна. — Ты забываешь, что она сама еще ребенок!
— Ну хорошо, хорошо, — проворчал Шарль, — звони своему Мишле, пусть придет.
Повернувшись лицом к стене, Шарль отгородился от жены глухой стеной собственной спины. Марианна не винила его в этом ночном дезертирстве. Все мужчины, думала она, толстокожие и грубые существа, и поэтому им свойственна некоторая резкость суждений. Гораздо больше ее огорчало то, что у дочери практически отсутствует материнский инстинкт. Настоящая мать нутром чувствует, что нужно ее ребенку. Для Дани же оставалось загадкой, что хорошо, а что плохо для дочки. Бесконечно твердя друг другу одну и ту же фразу: «Нет проблем», молодежь потеряла чувство ответственности. Мысленно критикуя дочь, Марианна попыталась вспомнить, какой была она сама в свои двадцать лет. Уж если быть честной до конца, то приходилось признать, что никогда — ни из-за дочери, ни из-за сына — не испытывала она такого щемящего радостного беспокойства, какое охватывает ее при виде внучки. Марианна была убеждена, что этот младенец крайне хрупок и уязвим и что никто, кроме нее, не отдает себе в этом отчета. Кристина была ее ребенком, хотя и не она родила ее. Между ней и внучкой установилась связь высшего порядка, которая с годами будет только крепнуть. Появившись в жизни Марианны без приглашения, этот младенец подарил ей вторую молодость. Она обновлялась и расцветала, суетясь между бутылочками и пеленками. А ее муж, напротив, после рождения внучки состарился. С рождением Кристины его взгляд потух, плечи поникли. Марианна вновь стала матерью, тогда как Шарль превратился в деда. Еще немного, и их будет разделять целое поколение. Марианна прикрыла глаза и погрузилась в приятное забытье.
Какой-то отдаленный звук из ванной комнаты заставил ее вздрогнуть. Кристина опять плакала. Марианна встала, накинула халат и направилась к двери. Шарль не слишком умело сделал вид, что он только-только проснулся. Подскочив в постели, он пробормотал:
— Что? Что случилось? Ты куда?
Марианна оставила его вопросы без ответа. Когда она вышла, он зажег лампу у изголовья и достал из пачки сигарету. Без двадцати семь. Для него ночь закончилась. Откинувшись спиной на подушку, он курил и думал о неприятностях, которые ждали его сегодня утром. Совещание у Каюбека в десять тридцать, как всегда, пройдет впустую. Там соберутся все инженеры и начальники отделов компании. Он, Шарль, будет отстаивать свой проект. Его будут критиковать, придираться к мелочам. Он ничего не добьется и уйдет, забрав проект с собой. Никто, кроме него самого, не сможет оценить все преимущества, которые сулит внедрение новой технологии. Утро будет потеряно в бесплодных попытках объяснить свою точку зрения профанам. Все эти менеджеры по продажам ни черта не смыслят в технике, а претензий у них хоть отбавляй! И этим остолопам платят больше, чем ему! Пойти, что ли, к Каюбеку, попросить у него прибавки? Хотя ответ он знает наперед: «Вы уже достигли своего потолка, друг мой».
Конечно, все особенно осложнилось после банкротства фирмы, где он подрабатывал техническим консультантом. Обидно вот так взять и потерять в одночасье две тысячи франков в месяц. Чтобы выкрутиться, пришлось уволить горничную. Теперь у них одна домработница, да и та приходит только по утрам. Урезаны все второстепенные расходы. Он продал свой «ситроен» и купил в рассрочку «рено-4». Правда, теперь Даниэль вносит триста франков в общий котел, но сто из них, а может, и больше, Марианна отдает ему обратно, чтобы у него хоть что-то было на карманные расходы. Этот уговор с его отцом в силе, пока он учится. Кем он будет работать? Преподавателем философии? Почему бы и нет? Но он еще сто раз может передумать. Сейчас это просто восторженный и наивный мальчик. Только бы он не сделал Дани второго ребенка! И с Лораном проблемы. Совершенно забросил учебу. Начал год вроде бы ничего, а теперь еле-еле плетется в хвосте у всего класса. Зато такой самонадеянный, все критикует, все отвергает. Сидит, закрывшись, в своей комнате, якобы он там делает домашнее задание, а сам читает детективы. Какую профессию он себе выберет? Разве сейчас угадаешь?
Шарль затушил сигарету и опустил голову на подушку. У него не было оснований гордиться ни сыном, ни дочерью, ни зятем. «Мы в свое время были другими. Мы не смогли бы поступать так, как они. Откуда это удивительное легкомыслие, это стремление к обеспеченной жизни? Они не хотят рисковать, для них важнее всего подстраховаться. Кто в этом виноват? Мы с Марианной уступали им всегда и во всем, конечно, ради мира в семье. Между родителями и детьми малейшая напряженность должна устраняться только полюбовно. Интересно, мы одни такие? Думаю, нет, это социальный феномен. Скоро настанет момент, когда никто из старшего поколения не сможет пойти против течения. Нам остается только довериться молодежи…»
Излив самому себе душу, Шарль пожалел, что не смог обсудить это с Марианной. С рождением малышки он словно лишился жены. Он жил теперь с бабушкой! Даже когда они оставались вдвоем, темой ее разговоров становились только Кристина, Дани, Даниэль или Лоран.
Она больше не старалась ему понравиться и забывала о том, что она женщина. Иногда Шарлю казалось, что он уже никогда не проведет приятный вечер наедине с женой. Изредка выпадали моменты, когда в квартире никого, кроме них двоих, не было, но это означало лишь, что молодые супруги умчались в кино, оставив младенца на их попечение.
Марианна вернулась успокоенная: Кристина спала.
— Прелестное создание! — с умилением воскликнула она. — Я вынула ей изо рта пальчик. Ты бы ее видел!
Марианна сняла халат и бросила его на кресло. Жест ее руки, поворот плеча, изгиб бедра поразили Шарля. Она показалась ему прекрасной, легкой, неутомимой, как те греческие девы, что танцуют с воздушными покрывалами на орнаментах древних ваз. Он хотел сказать ей об этом, но, боясь показаться смешным, промолчал и отвел взгляд. Марианна легла и погасила лампу. Сквозь шторы уже проникал дневной свет. Через полчаса прозвонит будильник.
X
— Это правда, что ты женишься на Валери? — как бы невзначай, закрывая тетрадь, спросил Жильбер.
— Правда, — подтвердил Жан-Марк.
— Мне эту новость вчера вечером сообщила бабушка. Почему ты сам мне ничего не сказал?
— Понимаешь, это еще неофициально. Я только послезавтра буду разговаривать с ее отцом.
— А что, чтобы мне сказать, это обязательно должно быть официально?
Не ответив, Жан-Марк встал и закурил сигарету.
— Послезавтра, — продолжал Жильбер, — это серьезно! Ты хорошо подумал?
— Естественно!
— Я не представляю тебя мужем Валери! Вы такие разные… Но, в конце концов, это твое дело. И когда же состоится мероприятие?
— Мы планировали объявить о помолвке в конце месяца. Думаю, сразу после этого и поженимся.
Жильбер снял с полки какую-то книгу, повертел ее в руках и поставил на место. На его лице отразилась растерянность.
— Значит, мы больше не будем видеться?
— С чего ты решил?
— Да уж, наверно, у тебя найдутся дела поважнее, чем уроки с двоюродным братом жены!
Жан-Марк улыбнулся.
— Знаешь, Жильбер, когда я впервые пришел сюда, то думал только о том, как бы заработать себе на жизнь. А теперь для меня все изменилось, и для тебя, надеюсь, тоже. Мне хочется верить, что я для тебя не просто репетитор, который дает уроки за деньги.
— Ты мой единственный друг, — прошептал Жильбер, опуская голову.
В наступившем молчании Жан-Марк посмотрел на часы. Четверть восьмого. Он взял пальто, которое перед уроком бросил на стул прямо под акварелью Дюфи.
— Уже уходишь? — спросил Жильбер.
— Да.
— У тебя свидание с Валери?
— Нет, я иду к Дидье Коплену. Нас ждет уйма работы. Сегодня мы будем вкалывать часов до двух ночи.
— А что ты делаешь завтра вечером?
— Вообще-то, мы с Валери собирались пойти большой компанией в «Бигарад». А почему ты спрашиваешь?
— В пятницу в Лувре будет вечерняя экскурсия, посвященная греко-римской скульптуре.
— Правда? Это должно быть потрясающе!
— Я бы хотел, чтобы мы пошли туда вместе.
— Не думаю, что Валери сильно обрадует такая перспектива, — засмеялся Жан-Марк. — По-моему, ей вполне хватило Лувра в прошлое воскресенье.
— Что ж поделаешь, — проворчал Жильбер. — Мы с ней, как кошка с собакой. А не могли бы мы пойти с тобой вдвоем?
— Нет, старик, мне будет неудобно перед Валери.
Жильбер покачал головой.
— Да, конечно, но ты же знаешь, я-то лично против нее ничего не имею…
— Отлично! Тогда, мне кажется, надо устранить все недоразумения! Завтра я позвоню Валери, если Лувр окажется выше ее сил, ты пойдешь с нами в «Бигарад».
— В ночной клуб?! Что я там буду делать? Общаться с девицами и разными типами, которых я знать не знаю? Ну уж нет!
— Не строй из себя идиота! — воскликнул Жан-Марк, похлопав Жильбера по плечу. — Надо немножко встряхнуться, пообщаться с людьми. «Бигарад» — очень симпатичное местечко. Вот увидишь, тебе не захочется оттуда уходить. Решено, ты идешь с нами.
Перекусив в университетской столовой, Жан-Марк отправился к Дидье Коплену. Дидье ждал его, обложившись лекциями, отпечатанными на ротапринте. Друзья не медля погрузились в сложности, которые возникают при определении размера наследуемого имущества. Они задавали друг другу каверзные вопросы и по очереди разбирали наиболее тонкие нюансы наследственного права. Однако очень скоро оказалось, что говорит только Дидье. Думая о своем, Жан-Марк делал вид, что слушает его, и одобрительно кивал головой.
Как близко они сошлись с Жильбером! Всего за несколько недель! Вот Коплен — тоже его друг, но разве можно сравнить искреннюю симпатию, которую он испытывал к Дидье, и удивительное единение душ между ним и Жильбером. Буквально на каждом шагу, каждую минуту Жан-Марку хотелось узнать мнение юноши о прочитанной книге, поделиться мыслями, мимолетными впечатлениями. В то же время он отдавал себе отчет, насколько Жильбер нуждается в нем, и то, что он стал центром вселенной для этого юного, открытого создания, льстило его самолюбию.
В полночь, устав, Дидье предложил сделать перерыв и пошел принести что-нибудь попить. Через приоткрытую дверь Жан-Марк слышал, как в коридоре он разговаривает с матерью.
— Ничего, мама, не беспокойся, я все возьму сам. Спокойной ночи!
Эта семейная сценка на какое-то мгновение взволновала Жан-Марка. Как далек от него теперь мир родительской любви!
Дидье вернулся с двумя бутылками сока. На полках стояли немногочисленные книги. Подумать только, не так давно эта более чем скромная библиотека восхищала Жан-Марка! Конечно, Дидье тоже любил читать и охотно цитировал Кафку и Кьеркегора[17], но в понимании литературы, смелости суждений, оригинальности трактовки он никоим образом не мог сравниться с Жильбером.
Они пили сок, курили, говорили о своем будущем. Дидье спросил у Жан-Марка про семью: как дела у Даниэля, у Франсуазы.
— Я так давно не видел ее, — сказал Дидье. — Она счастлива?
— Надеюсь, да, — ответил Жан-Марк.
— А ведь я в некотором роде несу за нее ответственность!
— Ответственность?!
— Я был свидетелем на ее свадьбе в мэрии.
— Ах, да, — воскликнул Жан-Марк, — я и забыл!
Взгляд Дидье затуманился, казалось, образы далекого прошлого проплывают у него перед глазами. На его губах играла задумчивая улыбка. Он снял очки и долго двумя пальцами массировал переносицу. «Должен ли я сказать ему, что мы с Валери скоро поженимся? — размышлял Жан-Марк. — Нет, не сейчас, скажу потом».
— Ну что, приступаем к «сделкам на безвозмездной основе»? — предложил Дидье, надевая очки.
— Валяй! — отозвался Жан-Марк.
Дидье начал излагать содержание параграфа, но Жан-Марк не слушал его. Он словно вновь покинул пределы комнаты. Как завтра поведет себя Жильбер в ночном клубе? В том, что Валери откажется идти в Лувр, Жан-Марк почти не сомневался. Он вдруг понял, что это бесчеловечно — подвергать столь ранимого подростка подобному испытанию. Желая излечить, Жан-Марк может его смертельно ранить. Как же одинок этот мальчик, воспитанный бабушкой и дедушкой! Он совсем не знает жизни и абсолютно беззащитен перед грубостью и жестокостью мира. Вот Валери — та сделана из другого теста: ей можно наврать, ее можно обидеть, в последний момент отменить встречу, и ее это не слишком заденет. В конце концов, у них с Валери впереди еще целая вечность, чтобы вместе наслаждаться жизнью!
— Ну ладно, — проворчал Дидье, — я вижу, ты совершенно не слушаешь. Может, закончим?
XI
Прижимая к щеке телефонную трубку, Кароль обернулась: в гостиную входил Филипп.
— Алло! Алло! — несколько раз машинально повторила она.
Ответа не было. Воистину, свершится чудо, если ей удастся заказать такси в восемь часов вечера. Филипп устроился в кресле и развернул «Монд»[18].
— Это просто ужасно! — возмущенно воскликнула Кароль. — В Париже в час пик, кроме как на метро или на автобусе, ни на чем не уедешь!
Филипп кивнул в знак согласия и опустил газету. Кароль выдержала его проницательный взгляд. До сих пор он еще ни разу не смотрел на нее подобным образом. Казалось, какое-то шестое чувство подсказывало ему, насколько важен для Кароль сегодняшний вечер. А может, за его поразительной интуицией кроется банальная ревность? Кароль посмотрелась в висевшее над камином зеркало. Ей было важно увериться в непогрешимости своей прически и легкого, почти незаметного грима. После долгих колебаний она наконец остановилась на светлом выходном костюме, отделанном серебристой вышивкой. Неброский, но одновременно нарядный, он очень шел ей и придавал ее взгляду необыкновенную глубину.
В трубке слышалась негромкая мелодия, которая оставляла надежду на то, что связь не разъединилась.
— Господи, как же долго! — вздохнула Кароль. — Алло! Алло!
— Наверно, про тебя забыли, — заметил Филипп. — Нелепая ситуация.
Еще немного, и он предложит отвезти ее на свидание. Кароль догадывалась, что Филипп готов на любую низость, лишь бы иметь возможность побольше разузнать о ее личной жизни.
— Не вешайте трубку, — прорезался женский голос на другом конце провода.
Кароль оперлась коленом о подлокотник кресла. Как девчонка, подумала она. В последнее время она ощущала в себе необыкновенную легкость. Кароль была уверена, что Рихард не случайно пригласил ее к себе сегодня вечером. Он наверняка знал, что Ксавье все еще в командировке. Конечно, он упомянул, что ждет к обеду нескольких друзей, но из его слов вытекало, что ни Олимпии, ни Марселя Ляшо там не будет: приглашены только незнакомые Кароль люди. Скорее всего, он хочет устроить деловой банкет, и за столом ему нужны красивые женщины, чтобы придать мероприятию некоторый блеск. А вдруг она окажется единственной француженкой среди немцев? Что ж, это было бы даже забавно!
— Машина будет у вас через четыре минуты, — пообещала диспетчер.
Кароль с сияющим лицом положила трубку на рычаг.
— Все в порядке! — объявила она мужу.
Филипп поднялся, чтобы подать ей манто из черной норки. Галантный жест сопровождался зловещим взглядом.
— Ты вернешься поздно?
— Откуда я могу знать, сам подумай! — ответила Кароль и, взглянув на себя в зеркало, поправила пальцем выбившуюся прядь.
Переступая порог квартиры, она испытывала восхитительное чувство мести: с ее уходом за дверью начинались страдания, приступы ненависти, мучительное ожидание. Ей доставляло удовольствие сознавать, что причиной всему этому кошмару была только она одна.
Когда Кароль села в такси, шофер обернулся и спросил:
— Куда едем?
Его физиономия показалась ей простоватой, но ужасно симпатичной. Машина выехала на набережную Малаке, пересекла мост Карусель и свернула направо. Перед Кароль медленно разворачивался фасад Лувра, блеклый и величественный. В окнах первого этажа горел свет, казалось, что во дворец вернулись его прежние обитатели. Должно быть, сейчас там проходит какая-нибудь выставка, подумала Кароль. Вечерний Париж был необыкновенно красив: здания, полные воспоминаний, темные провалы между домами, ослепительный пунктир уличных фонарей. Глядя из окна машины на это сверкающее великолепие, Кароль радовалась каждой новой картинке. Надо отдать должное вкусу Рихарда. Только мужчина экстракласса мог выбрать себе квартиру на острове Сен-Луи — в квартале, где все дышит очарованием старины и покоем. Она впервые ехала к нему домой, и это обстоятельство еще больше подстегивало ее любопытство.
Дом, перед которым остановилось такси, был построен несколько веков назад. Кованая дверь походила на ворота исправительной тюрьмы. Лифт с зеркальными стенками, узкий, как поставленный вертикально гроб, вознес Кароль на пятый этаж. В ответ на ее звонок Рихард сам открыл дверь. Она была взволнована взглядом его холодных голубых глаз. Он поцеловал ей руку, снял с нее манто и провел в просторную комнату с высокими потолками, которая раньше, скорее всего, была мастерской художника. На фоне белых стен выделялись немногочисленные предметы мебели темного массивного дерева. Посредине стоял стол, накрытый на двоих. Ничем не выдав своего удивления, Кароль взглянула на Рихарда.
— Мне очень жаль, — сказал он своим низким, волнующим голосом, — но в последний момент выяснилось, что мои друзья не смогут прийти.
Кароль сдержалась, чтобы не улыбнуться. Мысленно она уже играла роль в новой пьесе.
Войдя в большой зал, Жан-Марк был потрясен открывшимся перед ним фантастическим зрелищем: со всех сторон, залитые электрическим светом, его окружали застывшие нагие тела и отколовшиеся от торсов головы с пустыми глазницами. Скульптурные изображения казались мертвее самих мертвецов, наводя на мысль о бренности этого мира. Стоявшие здесь мужчины и женщины когда-то страдали, лгали, любили, возводили города, купались в лучах славы, но потом, покончив с земной суетой, оставили после себя лишь мраморные изваяния, по которым рассеянным взглядом скользили посетители музея. Чувствовалось, что и на Жильбера витавший здесь погребальный дух подействовал угнетающе. В своем морском бушлатике, засунув руки в карманы, он переходил от скульптуры к скульптуре и, задрав голову, с грустью взирал на их носы.
— Да, похоже, ваяние не самый веселый вид искусства, — вздохнул Жильбер. — Когда любуешься картиной, хочется пройти сквозь полотно и окунуться в яркие краски, а стоя перед скульптурой, почему-то невольно задумываешься о смерти. Вот, например, это лицо, оно вроде бы улыбается, но от этой улыбки мурашки бегут по спине. Ты не находишь?
— Согласен, но мне кажется, что, если лицо искажено гримасой боли или отчаяния, оно смотрится еще ужаснее. Лично я считаю, что скульптор не должен слишком натурально изображать чувства и позы. Их надо лишь слегка наметить, пусть зритель сам додумает остальное. Иначе, если мастер переусердствует, получится пародия на человека, что-то вроде кукольного театра. Взять хотя бы этого кошмарного «Лаокоона и его сыновей»!
— Здорово, что ты про него вспомнил, я его тоже терпеть не могу! — радостно воскликнул Жильбер.
Жан-Марк приятно удивился тому, насколько близки их вкусы. Да, все-таки он был прав, отказавшись от сегодняшнего похода в «Бигарад». По телефону все прошло гладко. В качестве предлога он выдумал дополнительные практические занятия. Валери вроде бы даже и не удивилась. Сейчас она, должно быть, веселится с друзьями: сыплет заранее заготовленными остроумными словечками, пьет из стакана Ника, танцует щека к щеке с Бертраном… «Что ж, пусть, если ей это нравится!» — подумал Жан-Марк и тут только заметил, что идет рядом с Жильбером. Интересно, как долго они шли в ногу?
Переходя из зала в зал, Жан-Марк и Жильбер то восхищались сдержанной наготой подростка, то размышляли над куском мрамора, из которого вырывался наружу мужской торс с напряженными от мучительной боли мышцами, то пытались разгадать тайну лица с отбитым носом и сложенными в чувственную улыбку губами. Время от времени, по знаку экскурсовода, посетители сбивались в плотные группы и окружали какой-нибудь из мировых шедевров.
— Пошли дальше, — шептал Жильбер, — я не могу слушать эту ахинею.
Внезапно погас свет. Все скульптуры, кроме одной, растворились в темноте. В центре «Зала кариатид» луч прожектора высветил изваяние Дианы-охотницы. Шея богини была длинной, ступня узкой и изящной, рукой она нащупывала стрелу в висевшем у нее на плече колчане. Рядом резвилась лань.
— Тебе нравится? — спросил Жильбер.
— Нет, по мне, так слишком слащаво, — ответил Жан-Марк.
— К тому же у нее такое тупое выражение лица! Мне кажется, греки в принципе не умели изображать женщин. У них получались или грудастые матроны, или плоские девицы с мальчишескими фигурами!
Когда в зале вновь зажегся свет, Жильбер углубился в правую нишу и замер перед очередным надгробием, изображавшим юношу с поднятыми вверх и соединенными над головой руками.
— Ты не находишь, что это уже лучше? — заметил Жильбер.
— Без сомнения. Почему они засунули его в угол?! Здесь же его никто не увидит! Идиотизм! — возмутился Жан-Марк.
Просветленное выражение лица, мягкость жеста, зернистая фактура мрамора, каждая деталь отдельно и все вместе создавали впечатление полного совершенства. Довольно долго они простояли перед этим юным незнакомцем, потом пошли дальше. Рассматривая каждый новый экспонат, Жан-Марк и Жильбер радовались полному совпадению своих мнений и оценок. Снизойдя все же до «Венеры Милосской» и других божественных знаменитостей мирового масштаба, они, уже больше ни на что не отвлекаясь, направились к более необычным экспонатам. Им казалось, что в тайну этих архаичных изображений, кроме них двоих, не дано проникнуть никому. Очень древняя статуя Аполлона с увечным фаллосом, сатир, играющий с ребенком… Внезапно Жильбер остановился перед скульптурной композицией, представляющей двух подростков, слегка склонившихся друг к другу. Один из них, с отколотой правой рукой, как будто что-то читал по своей левой ладони. Другой, положив левую руку на бедро, правую как-то странно, растопырив пальцы, держал над затылком своего друга, при этом глядя на него с братской нежностью. Оба были наги, но гармоничные линии мускулатуры, едва проступавшие сквозь мрамор, придавали их облику необыкновенную чистоту. Даже пенисы, отчетливо видимые среди кудрявых волос, не нарушали гармонии этого скульптурного ансамбля. Навеки оставшиеся молодыми тела были глубоко целомудренны и полны достоинства. Вечная юность, благородство, жизнь на лоне природы и мужественные игры — вот что пришло на ум застывшему перед пьедесталом Жильберу.
— Боже мой, какая красота! — восхищенно прошептал он.
— Да, — подтвердил Жан-Марк и, наклонившись, прочел надпись на табличке: — «„Орест и Пилад“, архаический стиль, слепок со скульптуры, относящейся к пятому веку до нашей эры».
— Когда смотришь на них, то возникает ощущение, что люди, жившие в Древней Греции, обладали каким-то особенным секретом счастья, который мы утеряли, одевшись в мрачные одеяния и придумав, начитавшись Библии, дурацкие правила приличия, — сделал вывод Жильбер. — Орест и Пилад! Два друга…
— Ладно, пойдем, — позвал его Жан-Марк.
Они покинули зал античной скульптуры и оказались у подножия монументальной лестницы в тот момент, когда вновь погас свет. На этот раз луч прожектора был направлен на верхнюю площадку, где высилось изваяние Ники Самофракийской. Словно фигура на носу корабля, она, раскинув мощные крылья, летела вперед на фоне ночного неба, величественная и обезглавленная. Под сильным напором ветра одеяние богини, собираясь в складки, плотно облегало ее живот, бедра и грудь.
— Она кажется красивой, потому что у нее нет лица, — дал свою оценку Жильбер. — Если кто-нибудь откопает ее голову, это будет катастрофа!
— Ну что, будем подниматься в другие залы? — спросил Жан-Марк.
Жильбер колебался.
— Я думаю, хватит, — ответил он наконец. — Нельзя за один раз переварить такое количество шедевров. Все впечатления смешаются в одну кучу. Может быть, мы пойдем к тебе? Я бы очень хотел посмотреть, как ты живешь.
Еще вчера Жан-Марк отказался бы показать свою комнату Жильберу, но сегодня утром тайком приходила Аньес. Теперь у него дома полный порядок.
— Хорошо, пойдем, — согласился Жан-Марк, — но предупреждаю, я живу в комнате для прислуги.
— Подумаешь!
Они вышли и сквозь холодную ночь направились пешком к дому Жан-Марка. Проходя по рю Бонапарт, Жан-Марк показал Жильберу окна квартиры, где прошло его детство.
— Ты переехал после того, как поссорился с отцом? — поинтересовался Жильбер.
— Нет, раньше.
— Почему?
— Чтобы ни от кого не зависеть.
— А что для тебя означает независимость? Возможность спать с девушками?
— Не только, но и это тоже.
— У тебя их было много?
— Несколько.
— А у меня не было ни одной, — усмехаясь, признался Жильбер. — Наверно, я кажусь тебе болваном. Через три недели мне стукнет восемнадцать, а я еще не знал женщин!
— Ты мне абсолютно не кажешься болваном. Все это дело случая. И вообще, мне кажется, что чем позже начнешь, тем лучше…
Какое-то время они шли молча, потом Жильбер сказал:
— Знаешь, что я попросил у дедушки с бабушкой ко дню рождения?
— Нет.
— «Моррис»[19]. Они согласны!
— Но у тебя же нет водительских прав!
— Я сдам экзамен на права. Со мной занимается Леон.
— Леон?
— Да, наш шофер. Мне кажется, восемнадцать лет — это важная веха в жизни. Правда?
— Да, так считаешь, пока тебе самому не исполнилось восемнадцать, а когда исполнится, то думаешь уже по-другому.
— В общем, все так же, как с девушками!
— То есть?
— Вначале это кажется необыкновенным, а вот потом…
— Да и потом неплохо! — рассмеялся Жан-Марк.
Они уже шли по рю д’Ассас. На лестнице Жан-Марк еще раз предупредил Жильбера:
— Приготовься, старик, у меня очень тесно. Ты будешь разочарован. — Открыв дверь, он включил свет и пропустил гостя вперед. — Знаешь, выпить у меня нечего, — признался он. — Но, может быть, согласишься на яблочный сок?
— Да-да, конечно, — рассеянно отозвался Жильбер, — яблочный сок — это то, что надо.
Внимательно осмотрев комнату, он неожиданно воскликнул:
— Как мне здесь нравится!
— Издеваешься?
— Вовсе нет, уверяю тебя!
— Но ведь тут просто негде повернуться!
— Это не имеет значения. Зато сразу видно, что это твоя комната. А какой потрясающий вид на крыши Парижа! Каминные трубы, чередующиеся скаты, черепица, слуховые окошки, где-то далеко внизу городские огни! Клянусь, я без малейших колебаний променял бы свою комнату на твою!
Похоже, Жильбер говорил искренне. Пресытившись комфортом, дорогой мебелью, картинами, книгами, он, вероятно, действительно был бы не прочь, ради разнообразия, пожить в богемной обстановке. Жан-Марка охватила необыкновенная радость. Неожиданно ему самому очень понравилась эта комната, хотя раньше он почти не замечал, где живет. Он протянул Жильберу стакан с соком. Тот, сделав глоток, склонился над письменным столом. Взяв какую-то книгу, наугад раскрыл ее и прочел:
— «…доля имущества, которой можно свободно распоряжаться», «право прямого наследования по закону или по завещанию». Темный лес! Как ты это запоминаешь?! Лично для меня в слове «завещание» слышится что-то зловещее. Когда у тебя экзамены?
— Письменный — в конце мая, устный, думаю, в июне.
— Ты готов?
— Не совсем, но время у меня еще есть.
— А что будешь делать потом? Мне кажется, твоя ссора с отцом — это какая-то глупость! Он бы мог помочь тебе на первых порах.
Жан-Марк промолчал. Разве он мог признаться Жильберу, что, возможно, скоро ему предложат место на фармацевтическом заводе Шарнере-Дюпуйи и что оно будет во много раз лучше того, что могло ждать его в конторе отца? Хотя Жильбер наверняка и сам обо всем догадывается. Видимо, он затронул эту тему просто так, чтобы немножко подразнить его. Господи, а ведь завтра ему предстоит встретиться лицом к лицу с самим месье де Шарнере! Предстоит четко изложить свою позицию относительно его дочери, принять окончательное решение и связать себя обязательством на всю жизнь. Жан-Марка пробрала дрожь. В комнате было холодно. Повернув колесико, он включил обогреватель на полную мощность. Потом, почти убрав звук, поставил пластинку. По комнате тихо поплыли звуки Третьей симфонии Бетховена. Послушав немного, Жильбер спросил:
— Ты мне так и не сказал, почему Валери не пошла с нами в Лувр?
— Она устала, — пробурчал Жан-Марк. Он не собирался рассказывать Жильберу о том, что наврал Валери, чтобы пойти с ним вдвоем.
— Надо же! Это на нее не похоже, — заметил Жильбер.
Жан-Марк прикрыл глаза, притворившись, что слушает музыку. У него колотилось сердце. А что, если Жильберу когда-нибудь вздумается рассказать Валери об этой вечерней экскурсии в Лувр? Нет, невозможно, — этот мальчик слишком проницателен, чтобы совершить подобную оплошность. Интуиция всегда компенсирует ему недостаток информации.
Когда закончилась вторая сторона, Жильбер сказал:
— Мне пора. Когда мы увидимся?
— В понедельник, на уроке.
— А раньше не получится?
— Думаю, нет. У тебя как раз будет время, чтобы решить задачи по тригонометрии, которые я тебе задал.
— Я все сделаю, не беспокойся, — обронил Жильбер.
Жан-Марк вышел с ним вместе на улицу. Жильбер поймал такси и прежде, чем забраться в него, тихо сказал:
— Спасибо, Жан-Марк… за сегодняшний вечер и за твою дружбу… Как здорово, что мы с тобой познакомились!
Дверца захлопнулась, и машина отъехала от тротуара. Жан-Марк долго смотрел вслед удаляющемуся такси. Его переполняло какое-то неизъяснимое ощущение счастья.
Так как было относительно рано, он решил пойти в «Бигарад». Возможно, ему еще удастся застать там Валери со всей честной компанией.
— Вот здесь, — показала Кароль. — Видите большие ворота сразу за антикварной лавкой?
Рихард подъехал к тротуару. Выскочив из машины, он распахнул правую дверцу, чтобы помочь Кароль выйти. Какое-то время они стояли молча, Рихард смотрел ей прямо в глаза. Как всегда, он выглядел солидным и значительным. Кароль улыбнулась и протянула ему руку.
— Ну что ж, до свидания, Рихард. Было очень мило.
— Могу ли я позвонить вам на днях, чтобы пригласить на такой же милый ужин?
Кароль ощутила, как вибрация его низкого голоса передалась ее телу. Такое с ней уже бывало. И ей вновь подумалось о подземелье и о глубоком колодце, на дне которого стоит темная вода. Справившись с волнением, она хитро прищурилась и спросила:
— А ваши друзья? Надеюсь, на этот раз они смогут прийти?
— Не жалейте, что их не было. Они все такие скучные!
Кароль нажала на кнопку звонка, раздался щелчок, и ворота открылись.
— Послезавтра возвращается Ксавье, — сказала она.
— А когда он в Париже, вы никуда без него не ходите?
— Еще не пробовала.
— Тогда непременно надо попробовать, и как можно скорее! Я позвоню вам послезавтра.
— Лучше дня через три.
Рихард почтительно поклонился. Кароль вошла в ворота. На душе остался какой-то неприятный осадок. Решетка позади нее захлопнулась. Она быстро пересекла мощеный двор. Он был заставлен машинами, которые, казалось, дремали, залитые лунным светом. Какой странный вечер! Обычно в подобных ситуациях она не выпускала инициативу из своих рук, сегодня же Рихард полностью подчинил ее себе. Впервые она не только не вела игру сама, но даже не подозревала, в какой стадии развития эта игра находится. Кароль вошла в кабину, двери лифта закрылись. Она машинально нажала на кнопку третьего этажа. Во время обеда (икра, холодный цыпленок, шампанское и ни единого человека прислуги) Рихард расспрашивал Кароль о ее жизни, о муже, о Ксавье. Ей, естественно, пришлось лгать, чтобы приукрасить действительность. Она намекнула, что между ней и Ксавье некогда была большая и нежная привязанность, но теперь, к сожалению, все уже не так, как прежде. Филиппа она охарактеризовала как черствого и неуживчивого человека и сообщила, что в данный момент находится в стадии развода с ним. Однако, несмотря на все его недостатки, она уважает мужа и считает возможным жить под его крышей. Но их расставание уже не за горами. Увы! В ее жизни было столько разочарований! Теперь она грустна и полна сомнений. Под маской веселья ей приходится скрывать от всех свои истинные чувства. Рихард внимательно слушал ее и вроде бы верил. Но что удивительно, за весь вечер он ни разу не попытался приблизиться к ней — даже когда после обеда они сидели на диване перед зажженным камином! Он не сделал ни одного смелого жеста, не произнес ни одного неосторожного слова. До самого конца он выглядел восхищенным и вел себя корректно. Слишком корректно! Вправе ли она упрекать его в сдержанности?
Вот и третий этаж. Кароль достала из сумочки ключ и тихонько отперла дверь. Бывают обстоятельства, при которых излишняя почтительность граничит с дерзостью. Она чувствовала себя одновременно и оскорбленной, и польщенной. Ей казалось, что ее вознесли до небес и в то же время обвели вокруг пальца, как дуру. Кароль злилась, не зная, что и думать об этом мужчине, но еще больше ее раздражало другое: она не знала, что он думает о ней. Когда пробило одиннадцать, Рихард завел разговор о Германии, о своем детстве, о красотах Шварцвальда. Кароль понимала, что он делает это с умыслом, и ей волей-неволей пришлось подыгрывать ему. «Ах, уже поздно, мне пора ехать. Да-да, пора…» Как он красив!.. Мужественные черты лица, холодный взгляд, уверенная улыбка. Кароль хотела бы найти в себе силы больше никогда не встречаться с ним. Если он действительно позвонит через три дня, она откажет ему.
Кароль щелкнула выключателем. В прихожей зажглась небольшая люстра из венецианского стекла. В коридоре чувствовался неистребимый запах еды. Вечно Аньес забывает закрывать дверь на кухню! Последнее время она стала работать спустя рукава. Призвать ее к порядку? «А мне-то что? Разве это мой дом?» Нет, все-таки поведение Рихарда необъяснимо. Так не ведут себя с женщиной, которую приглашают к себе домой провести вечер наедине! Кароль раздраженно сбросила манто. Внезапно со стороны кабинета до нее донесся шум. Она могла бы и догадаться: Филипп не спит. Возможно, он специально не ложился, чтобы дождаться ее. Ничтожество! В этот момент дверь распахнулась. На пороге в фиолетовом халате, с золотистым шелковым платком на шее и с книгой в руке стоял Филипп. «Строит из себя плейбоя. Интересно, что означает этот маскарад? Боже мой, он же вознамерился меня соблазнить!» — догадалась Кароль, и ее охватила какая-то злобная радость.
— Что-то ты рано вернулась, — заметил Филипп.
— Да, я немного устала. Мне бы ужасно хотелось чего-нибудь выпить.
Филипп засуетился. Виски, вода, лед, стаканы — все это в мгновение ока было сервировано на низком столике в гостиной. Пока Филипп наливал ей виски, Кароль внимательно следила за ним и даже находила трогательной его услужливость. Ей вдруг захотелось быть доброй, и это желание передалось ее коже. Она благодарно улыбнулась этому жалкому попрошайке и спросила, какую книгу он читает. Не дослушав ответа, она вновь улыбнулась. У нее появилась забавная идея: а что, если взять реванш за неудачу с Рихардом? Филипп протянул ей полный стакан. Их глаза встретились. В его взгляде она прочла молчаливую мольбу. Филипп был настолько же потрепан годами, безоружен и прост, насколько Рихард — молод, силен и загадочен. Кароль ненавидела Филиппа и все же решила подать ему милостыню. Да, ей нужно быть щедрой, чтобы отомстить тому, другому, и перестать думать о поражении. Кароль мобилизовала все свое очарование и, вложив его в грустную улыбку и задумчивый взгляд, которые чуть раньше предназначались Рихарду, но оставили его равнодушным, тихо проговорила:
— А не перейти ли нам в спальню?
Филипп вскочил с места и замер от волнения, глядя на Кароль долгим пронизывающим взглядом и не смея поверить своему счастью. Кароль была неприятно удивлена, заметив, что у него на глазах заблестели две маленькие слезинки.
— Пошли, — сказала она и встала.
XII
Студенты маленькими группками, по три-четыре человека, покидали здание Института восточных языков. Наконец, держа под мышкой портфель, в дверях показался Александр. Увидев Франсуазу, он искренне удивился. Она ждала его на другой стороне тротуара, напротив входа.
— Ты что тут делаешь? — спросил он, перейдя улицу.
— Пойдем быстрей. У нас важное дело, — ответила она и потянула его за собой в сторону Сены.
Когда они миновали рю де Сен-Пер и подошли к набережной Вольтера, Франсуаза сделала глубокий вдох и радостно сообщила:
— Мне кажется, мы скоро сможем переехать!
Александр резко остановился.
— Переехать? Куда?
— В более просторную и удобную квартиру!
Главная фраза была произнесена, самое страшное теперь позади. Франсуаза с трепетом ожидала ответной реакции Александра. У нее в ушах глухими и сильными ударами отдавалось биение сердца. В конце концов, чего она боится? Александру давно известно, что ей хочется сменить квартиру.
— Надо же! — удивился он. — Это Кароль тебе что-то нашла?
— Нет, я сама. Я увидела объявление в «Фигаро». Представляешь, четыре комнаты! И не где-нибудь, а в шестнадцатом округе[20]!
— В шестнадцатом? — переспросил Александр. У него на лице читалось явное недоверие.
Франсуаза попыталась опередить его возражения.
— Потрясающая квартира! Причем квартплата не намного выше нашей. Я ходила туда сегодня утром. Хозяева — симпатичная молодая пара. Он — художник, пишет картины. И, ты не поверишь, он просто спит и видит, как бы перебраться на Левый берег[21]! Видел бы ты, как они отреагировали, узнав, что мы живем на рю дю Бак!
— Погоди радоваться. Еще неизвестно, что они скажут, когда посмотрят нашу квартиру.
— Они ее уже видели.
— Когда же?
— В три, сразу после того, как ты ушел, и, надо сказать, пришли в полный восторг. Послушать их, так мы можем переезжать хоть завтра!
Франсуаза и Александр пошли дальше. Александр засунул руки в карманы и низко опустил голову, глядя себе под ноги.
— Да, ты у меня просто ураган, — задумчиво проговорил он. — Еще утром все было тихо, и вот, пожалуйста…
— В таких случаях надо действовать быстро. Если мы будем долго раздумывать, квартиру уведут у нас из-под носа.
— Так ты думаешь, что это подходящий вариант?..
— Естественно! Ты только представь, Александр, у тебя будет рабочий кабинет, у Николя — своя комната. Спальня, большая кухня, отдельная ванная комната! Другая жизнь!
Александр улыбнулся, его умиляла приверженность Франсуазы буржуазным ценностям. Удивительно, как важны для нее бытовые удобства. Он всегда подозревал, что каждая женщина в душе тайно наслаждается, заправляя постели, разбирая шкафы, пересчитывая белье… Но если быть честным, то и он не без греха. Считая себя человеком, презирающим предрассудки, он все же предпочитает шестой или седьмой округ шестнадцатому. Разве это не предрассудок? Считать, что один район Парижа лучше другого, означает признавать превосходство материального мира над духовным. Мужчина с головой должен уметь создавать свой мир в любом месте. Меняешь ты адрес или рубашку, какая разница?
— Так куда ты меня все-таки ведешь? — спросил он.
— На рю Сен-Дидье. Супруги Пассеро ждут нас.
Александр рассмеялся.
— Ну и конспирация!
Франсуаза повисла у него на руке.
— Знаешь, если тебе не понравится, будет достаточно одного твоего слова…
Они перешли через мост Карусель, миновали сады Лувра и сели в метро на станции «Пале-Рояль».
— Вот видишь, всего одна пересадка — на «Площади Звезды», — не унималась Франсуаза. — Ты будешь тратить на дорогу минут двадцать, не больше…
Свернув за угол, Александр сразу же ощутил холодную атмосферу респектабельности, которая царила на рю Сен-Дидье. То тут, то там между домами, нависающими над тротуаром, словно крутые скалы, стояли припаркованные автомобили. Франсуаза остановилась перед шестиэтажным зданием с хмурым фасадом и темными окнами. По его виду можно было сказать, что оно построено в начале XX века.
— Вот мы и пришли, — сказала она, устремляясь к дверям.
В подъезде горела лампочка, заключенная в матовый стеклянный абажур в виде лотоса.
— Здесь есть лифт! — гордо объявила Франсуаза.
Однако на ручке кабины болталась табличка с надписью: «Временно отключен».
— Хорошенькое начало, — пробормотал Александр.
— Для нас это неважно, — отозвалась Франсуаза. — Нам — на второй этаж.
— Тогда почему ты так радуешься наличию лифта?
Франсуаза не ответила.
— Смешная ты, — качая головой, заключил он.
Они начали подниматься по лестнице, на ступенях которой лежала дешевая ковровая дорожка в цветных узорах. Примерно каждая третья из удерживающих дорожку металлических реек была сломана. На площадку выходили три коричневые деревянные двери. Франсуаза позвонила в левую. Ей открыла молодая женщина лет тридцати. Маленького роста, с выпученными глазами, бесцветная и угловатая, она приветливо улыбалась. При этом ее улыбка казалась шире, чем само лицо.
— Мадам Пассеро, разрешите представить вам моего мужа, — обратилась к ней Франсуаза.
Тут же в коридоре появился и господин Пассеро собственной персоной. Это был мужчина богатырского сложения с косматой шевелюрой. Его гордо выпяченная грудь была обтянута толстым свитером с желтыми и зелеными полосками на рукавах. Посасывая потухшую трубку, господин Пассеро сделал гостеприимный жест и сказал:
— Проходите, прошу вас.
Очень узкий коридор вел в мрачную столовую, на окнах которой висели бордовые шторы. Мебель была современной, но выглядела обшарпанной и тусклой. Потолок с четырех сторон украшал гипсовый лепной бордюр. Около окна гордо возвышался черный бойлер, его труба пересекала всю комнату и уходила в противоположную стену.
— Как видите, мы отапливаемся сами, — сказала госпожа Пассеро. — Это большое преимущество, так как можно по собственному желанию регулировать температуру в помещении, и потом, это очень выгодно. Ящик с углем стоит прямо за стеной, в коридоре. Фред, ты зимой сколько раз загружаешь топку? Три?
— Нет, два, — зевая, отозвался Фред.
— Вот, видите.
Осмотревшись вокруг, Александр обратил внимание на висевшие по стенам странные картины без рам. Они были расположены как-то очень близко одна к другой и представляли собой пятна ядовитых цветов, которые налезали друг на друга. В некоторых местах к холсту густым слоем краски были приклеены разные предметы: рыбий хребет, монета, колпачок от шариковой ручки. Все работы были подписаны: «Фред». Заинтригованный этим художественным хаосом, Александр совсем забыл о квартире. Он переходил от одного полотна к другому, рассматривая их вблизи и издалека, и поражался тому, как нормальный с виду человек может быть одержим манией замазывания краской белого пространства. Это уже даже не абстракция, а вытирание кистей о холст. Франсуаза подергала мужа за рукав.
— Ты идешь?
— Да-да, — рассеянно пробормотал Александр.
— Правда, чудесная столовая?
— Чудесная, только слегка темноватая.
Франсуаза пожала плечами и строго заметила:
— А какой ты хочешь, чтобы она была, на втором-то этаже?
Спальня располагалась в самом конце длинного коридора. Это было зловещее помещение с пожелтевшими тюлевыми занавесками, крашеной деревянной кроватью в стиле Людовика XV и лиловыми обоями в матовую и блестящую полоску, на которых висели другие потрясающие душу картины Фреда.
— Вы пришли не в очень подходящий момент, — сказала госпожа Пассеро. — В первой половине дня, до двух часов, наша квартира просто залита солнцем. — Проходя мимо кресла, она поправила на нем подушку и открыла дверцу стенного шкафа.
— Вешалки, вешалки, вешалки, — несколько раз повторила она и добавила: — А у вас на рю дю Бак есть стенной шкаф? Что-то я не припоминаю…
— Да, конечно есть, — быстро ответила Франсуаза. — К сожалению, всего один, но очень большой.
— В наше время стенные шкафы совершенно необходимы, если хочешь жить свободно. Сюда, пожалуйста…
Обветшалая ванная комната с газовой колонкой отделяла спальню от другого, совсем маленького помещения. Там стояли диван, кресло и мольберт.
— Это будет комната Николя! — торжествующе объявила Франсуаза.
И здесь по стенам были развешаны живописные полотна, еще более странные и дикие. Некоторые картины, прислоненные к стене, стояли на полу. На мольберт был водружен белый холст, посреди которого алела яркая клякса, обклеенная вокруг виноградными косточками.
— Все, что я могу вам сказать, так это то, что в этой комнате чертовски здорово работается, — объявил Фред. — Никто не мешает, и все такое…
Осмотрев вторую комнату, они опять прошли длинным коридором и оказались в каземате, слабо освещенном узким высоким окошком.
— Это кабинет моего тестя, — объяснил Фред.
— Теперь он будет твоим, — шепнула Франсуаза, обращаясь к мужу.
— Он умер в январе, — вздохнула госпожа Пассеро. — Собственно, поэтому мы и хотим переехать. Квартира теперь стала слишком велика для нас.
На полках из светлого дерева стояли книги и толстые папки. Стол был погребен под ворохом бумаг.
— Мой отец был консультантом по налогообложению, — сочла нужным добавить госпожа Пассеро.
— Понятно, — кивнул Александр.
Сколько он ни старался, ему не удавалось представить себя в роли преемника налогового консультанта. И тем не менее он должен был признать, что эта квартира больше и удобнее, чем его собственная. Франсуаза уже обстоятельно, как будущая хозяйка, инспектировала кухню. Вернувшись в столовую, она отвела мужа в сторонку и спросила:
— Ну, как тебе?
— Не слишком веселенькая квартирка, — с сомнением в голосе буркнул он.
— Просто здесь надо все перекрасить, переклеить обои, сменить занавески! Поверь мне, Александр, я сделаю все как надо! Это будет потрясающая квартира!
Александр восхитился тем, с какой легкостью она мысленно выкинула за борт весь интерьер супругов Пассеро, чтобы заменить его собственным.
— Присаживайтесь, пожалуйста, — предложил Фред. — Кики, у нас есть что-нибудь выпить?
Кики поставила на стол бутылку черешневого ликера и четыре рюмки.
— Предположим, что мы договорились. Как будем действовать дальше? — поинтересовался Александр.
— Очень просто, — сказала госпожа Пассеро. — Мы уже обсуждали это с вашей женой. Прежде всего, мы должны послать нашим домовладельцам заказные письма с уведомлением о вручении. В них мы сообщим о предполагаемом обмене с целью улучшения жилищных условий, что, собственно говоря, так и есть.
— Да, конечно, — подтвердила Франсуаза.
— А потом, если ваши и наши домовладельцы не обжалуют это в суде, через две недели мы можем преспокойно переезжать. Мы попадаем в разряд квартиросъемщиков, которые, не заключив договора о найме, имеют право занимать площадь.
— Вы в этом уверены? — уточнил Александр.
— Абсолютно!
— Я уже звонила нашему управляющему, — сказала Франсуаза. — В принципе, он согласен. А поскольку домовладелец никогда ничего не предпринимает без его совета…
— Что касается нас, то я думаю, что здесь тоже все будет в порядке, — заявила госпожа Пассеро.
— Остается только одно, — заметил Александр, — ваша квартплата выше нашей.
— Разница всего семьдесят пять франков. Ерунда!
— Что касается доплаты, — процедил Фред, — то мы решили ограничиться полутора тысячами франков.
— Какой доплаты? — удивился Александр.
— Да, о доплате вы мне ничего не говорили! — воскликнула Франсуаза.
Фред Пассеро вяло улыбнулся и испачканными в краске пальцами поскреб подбородок.
— Мы тут с женой посоветовались… Все-таки наша квартира значительно больше вашей, и мы бы хотели получить за разницу в метраже. И потом, мы оставляем вам шторы и палас в коридоре.
— Сожалею, господа, — произнес Александр, вставая, — но подобной суммой я не располагаю.
Франсуаза тоже поднялась. Вид у нее был подавленный.
— Подождите, подождите, — остановил их Фред, — я же не требую все деньги сразу. Вы могли бы выплатить их частями, в рассрочку.
— Нет, месье, для нас этот переезд и без доплаты довольно тяжелое дело. Мы вынуждены отказаться.
Франсуаза последовала за мужем в прихожую. Было слышно, как супруги Пассеро о чем-то шептались у нее за спиной. Александр уже собирался уходить, когда между ним и дверью протиснулся Фред.
— Ну ладно, что вы так сразу, расслабьтесь. Можно же поговорить, обсудить, — мямлил он, пытаясь их задержать.
— Пожалуйста, я готов обсуждать все что угодно, кроме доплаты, — ответил Александр.
— Вам повезло, уж больно ваша рю дю Бак запала мне в душу. Конечно, на этом обмене я потеряю, но тем хуже для меня. Что поделаешь, я же художник…
Александр мельком взглянул на Франсуазу. В ней явно возрождалась надежда. Осушив до дна свою рюмку, госпожа Пассеро предложила, не откладывая, написать домовладельцам.
Шагая по улице рядом с Александром, Франсуаза чувствовала, что от счастья у нее из груди вот-вот выпрыгнет сердце.
— Ну что, ты довольна?
— А ты?
— Я — да, потому что тебе нравится эта квартира.
— Нравится это не то слово, я ею очарована. Мы там будем так счастливы!
— Да, конечно, — подтвердил Александр. — Расслабимся и все такое прочее… прямо, как они.
Франсуаза рассмеялась и прижалась к нему. Александр обнял ее за плечи. Как мало нужно, чтобы угодить женщине!
— Как я понял, если все пойдет гладко, то через две недели уже можно будет переезжать?
Франсуаза, выскользнув у него из-под руки, несколько раз покружилась на середине тротуара. Вернувшись к мужу, она воскликнула:
— Ты только представь себе!
— Я представляю. И в особенности то, что через две недели меня, скорее всего, не будет в Париже.
— А где же ты будешь? — поразилась Франсуаза.
— В Москве.
Она с опаской посмотрела на него и тихо спросила:
— Зачем ты туда едешь?
— Это идея Шевалье-Виньяра, — объяснил Александр. — На прошлой неделе к нему из СССР приехал главный редактор одного крупного литературного журнала, Виссарион Боголюбов. Я тоже с ним встречался. Мы втроем обсуждали возможность выпуска совместного русско-французского издания. Параллельные публикации романов на двух языках, обмен материалами и так далее. Понимаешь, как я заинтересован в этом проекте? Поэтому, чтобы изучить все детали на месте, мне надо съездить в Москву.
— И сколько же тебя не будет?
— Неделю или от силы дней десять, думаю, не больше.
— А как же твои лекции?
— Я договорился с мадам Чуйской. Она с удовольствием меня подменит.
— Почему же ты мне ничего не сказал?
— Я хотел сделать это сегодня, но ты была слишком увлечена этой историей с квартирой.
На какое-то мгновение Франсуаза растерялась, но тут же взяла себя в руки. Перспектива переезда помогла ей смириться с мыслью о скорой разлуке. Она выдавила слабую улыбку и сказала:
— Значит, когда ты вернешься, мы с Николя уже все обустроим на новом месте.
Александр не ответил. Они молча прошли несколько шагов. Потом, устремив взгляд куда-то вдаль, Александр заговорил глухим голосом. Франсуазе показалось, что он забыл о ней и говорит сам с собой.
— Надо же, я еду в страну, язык которой я преподаю и о которой больше тридцати лет пытался составить представление, читая русские книги. Удивительно. Сам бы я, наверно, никогда не решился поехать туда. Россия одновременно и притягивает, и отталкивает меня. Я кажусь себе человеком, который боится взглянуть на свое отражение в зеркале. Знаешь, я пригласил Виссариона Боголюбова на ужин.
— Когда? — с тревогой поинтересовалась Франсуаза.
— Сегодня вечером.
Тут ее прорвало:
— Ты мог бы для приличия сначала посоветоваться со мной?!
— О чем тут советоваться, он послезавтра уезжает. Или сегодня, или никогда.
— Но у меня дома ничего нет!
— Ну и ладно, пойдем в армянскую лавку, купим там пирожков, водку. У нас получится великолепный русский обед.
— По случаю твоего отъезда в командировку? — горько вздохнула Франсуаза.
— Нет, по случаю переезда на новую квартиру!
Словно вихрь радости оторвал Франсуазу от земли. С Александром всегда так: стоило ей затаить на него злобу, как он умудрялся тут же сказать что-нибудь такое, что от всех ее обид не оставалось и следа. Она посмотрела ему в глаза и произнесла вслух:
— Нет, ты все-таки невозможный человек!
Про себя же она подумала, что если и есть для нее что-нибудь невозможное, то это жизнь без него.
Положив локти на стол, Виссарион Боголюбов ел жадно и торопливо. Лицо у него стало багровым. Франсуазу удивляли его скверные манеры, но в то же время она не могла не признать, что он ей нравится. Седой, с голубыми глазами, этот «мужик», которого стеснял европейский костюм, казалось, излучал добродушие. Время от времени он улыбался детской, бесхитростной улыбкой. Он не знал ни одного слова по-французски, а его русский очень отличался от того языка, на котором говорил Александр. Речь Боголюбова была неторопливой, певучей, с сильным нажимом на гласные. Глубокие знания преподавателя литературы и поведение сельского жителя. Франсуаза недостаточно хорошо знала русский, чтобы понять весь разговор, но иногда ей удавалось уловить смысл некоторых фраз. Чтобы ей было легче, муж по ходу переводил отдельные слова. Без сомнения, Александр был полностью покорен своим гостем.
— Жаль, что ты не все понимаешь! — сокрушался он.
Франсуаза улыбалась. Иногда Боголюбов искоса поглядывал на нее и, выпив рюмку водки, опять возвращался к содержимому своей тарелки. Николя отсутствовал. Вечером у него должны были быть занятия в студии, и он исчез из дома еще до прихода гостя. Как же Николя обрадовался, узнав, что в новой квартире у него будет своя комната! И только Александр оставался равнодушным ко всем благам, которые сулил этот переезд. Пожалуй, ему не хватает воображения, решила Франсуаза.
Сама же она не раз мысленно возвращалась на рю Сен-Дидье. В мечтах она позволяла себе вволю походить по комнатам, расставить мебель, повесить занавески, зажечь плиту, поискать подходящее место для кастрюль…
— Ты поняла, что он только что сказал? — донесся до нее вопрос Александра.
— Нет.
— Он рассказывает поразительные вещи! Оказывается, в СССР власти все еще оказывают политическое давление на интеллигенцию. При этом он считает, что, несмотря ни на что, подобное нарушение прав человека несет в себе и некий положительный заряд. Писатели чувствуют, что в какой-то степени находятся в оппозиции к режиму. Это дает им ощущение борьбы, ощущение риска. Они уверены, что, создавая свои произведения, совершают геройский поступок, а не просто переводят чернила. За свои слова они могут попасть в тюрьму, распрощаться с благополучной жизнью! На Западе, где каждый безнаказанно говорит все, что хочет, свобода несколько приелась. Западные писатели воспринимают ее как нечто само собой разумеющееся, поэтому европейская литература потеряла свой боевой дух и стала предметом купли-продажи. Здесь не надо преодолевать трудности, а раз легко, значит — неинтересно. Я подкинул ему мысль о том, что в эпоху царизма происходило то же самое. Пушкин, Достоевский, Горький, даже Тургенев, да и многие другие поплатились за то, что позволили себе критиковать власть. Одни из них попали в тюрьму, другие в ссылку.
Александр повернулся к Боголюбову. Они одновременно опрокинули по рюмке водки и продолжили оживленный разговор. Франсуаза поняла, что Боголюбов не соглашается с Александром. Ни в коем случае нельзя сравнивать советскую цензуру и цензуру, существовавшую при царизме! Потом они успокоились и стали говорить спокойнее. Франсуаза догадалась, что они обсуждают план будущей командировки Александра. Сама она с тревогой думала о его путешествии. Целых десять дней! Это не просто долго, это бесконечно долго! Что он будет там делать, в этой закрытой, засекреченной стране? Но достаточно было взглянуть на Александра, и сразу становилось понятно, как он рад предстоящему отъезду. В его отсутствие ей придется полностью изменить всю внешнюю сторону их жизни. Хорошо, что хоть Николя поможет таскать тяжелые вещи!
— За ваше здоровье! — с забавным акцентом произнес по-французски Боголюбов.
Подняв рюмку, он жестом пригласил Франсуазу выпить с ними. Она не могла отказаться. Крепкий напиток обжег ей нёбо. Мысли беспорядочно метались у нее в голове. Напротив, на стене, висела картина — русский пейзаж. Всего через несколько дней Александр своими глазами увидит такое же поле, небольшие деревянные домики, рощу серебристо-белых берез. А вот ее рядом не будет, и он не сможет разделить с ней свои восторженные впечатления.
Франсуаза встала, поменяла тарелки и принесла десерт. На сладкое у них был круглый, правда, несколько подсохший, пирог — «ватрушка», как его называл Александр. Выражая восхищение, Виссарион Боголюбов закатил глаза, а потом, склонившись к Франсуазе, заговорил с ней по-русски.
— Я ничего не понимаю, — прошептала она Александру.
— Он говорит, что сожалеет, что ты не едешь в Москву.
— Скажи, что я сожалею еще больше, чем он.
Боголюбов налил себе еще рюмку водки. Александр поинтересовался, знает ли он какие-нибудь популярные современные песни. Без долгих уговоров Боголюбов приятным, чистым баритоном стал напевать какую-то грустную мелодию. Александр в такт покачивал головой. На столе царил полный хаос: грязные тарелки, смятая скатерть. По комнате стелился сигаретный дым. А надо всем этим слышалась рокочущая русская речь. У Франсуазы создалось странное впечатление: ей казалось, что она находится не дома, а в каком-то чужом месте. Время от времени на душе у нее становилось тяжело, и тогда в ее мозгу вспыхивала спасительная искорка радости: новая квартира!
Когда в час ночи вернулся Николя, они все еще сидели за столом.
XIII
Выстирав и выжав два носовых платка, Жан-Марк аккуратно прилепил их к поверхности висевшего над умывальником зеркала. Завтра утром они будут чистыми и выглаженными, как от прачки. Рядом, в тазу, полном «супер-активной» пены, были замочены его носки. Это Франсуаза дала ему бутылку какого-то «чудодейственного» моющего средства. Ничего, скоро его жизнь изменится. Позавчера он встречался с родителями Валери, и разговор с ними расставил наконец все по своим местам. Пути к отступлению нет. Честно говоря, он был рад этой определенности, может быть, даже слишком рад. Перед ним открывалась дорога в будущее. Она казалась Жан-Марку такой широкой и ровной, что он испытывал даже некоторую неловкость. Хочет он того или нет, но ему придется мириться с тем, что материальное благополучие придет к нему не в результате его личных заслуг, а лишь вследствие удачной женитьбы. В том, как месье де Шарнере пожимал ему на прощание руку, угадывался намек на грядущий тесный союз, что было довольно противно. Становясь членом семьи, принадлежащей к высшему обществу, Жан-Марк автоматически превращался в шахматную фигуру, которая обязана делать ходы в строгом соответствии с отведенной ей ролью. Уже одно то, что он будущий муж Валери, придаст ему больше веса, чем все его дипломы. Ее родители выразили желание, чтобы они поженились сразу после Пасхи. Однако Жан-Марк объяснил им, что хотел бы дождаться конца экзаменов. Исключительно из соображений здравого смысла. Сдав сессию, он сможет спокойно отправиться в свадебное путешествие. Месье де Шарнере нашел доводы Жан-Марка вполне разумными, а его супруга неохотно согласилась с ним. Что касается самой Валери, то она ограничилась одной фразой: «Полный идиотизм, но мне наплевать!» В итоге они договорились, что свадьба состоится через два месяца. При мысли об этом Жан-Марку становилось легче дышать, ему казалось, что с души у него свалился тяжкий груз. Зато помолвка, когда о ней зашла речь, была назначена на более близкий срок: через две недели. В этом вопросе Валери была неумолима. Прием в Шантийи, на открытом воздухе. Шампанское, тарталетки. Светская суматоха.
Вернувшись к столу, Жан-Марк решил, что пора заканчивать с занятиями. Половина второго ночи! Он сложил конспекты, принял душ и, улегшись в постель, закурил сигарету.
На простыню упал пепел, Жан-Марк щелчком сбросил его на пол. Он любил эти долгие часы ночного одиночества. Неужели, когда он женится на Валери, ему придется навсегда отказаться от уединения? Какое странное испытание: постоянно чувствовать себя прикованным к одной женщине. Днем и ночью. Вместе с ней ему придется говорить, молчать, есть, спать, любить, болеть и радоваться здоровью. Переживать краткие минуты счастья и годы разочарования.
Вчера вечером Валери торжественно надела себе на палец сверкающий бриллиант. Обручальное кольцо. Жан-Марк не мог себе позволить ничего подобного, поэтому Валери и ее мать, выбрав среди фамильных драгоценностей алмаз средней величины, заказали для него новую оправу. «Конечно, камень не самой чистой воды, — говорила Валери, — но смотрится хорошо. Со временем, когда у тебя появится возможность, ты подаришь мне настоящее обручальное кольцо. Это будет даже оригинальнее, чем получить его в подарок сейчас». Всякий раз, когда страдало его самолюбие, она умело, несколькими словами, уводила разговор в сторону от разницы в их имущественном положении.
Докуривая сигарету, Жан-Марк чуть было не обжег пальцы. Он потушил окурок в стоявшей на полу у кровати пепельнице и погасил лампу. Однако темнота не принесла ему желанного сна. В голове роились какие-то фразы, обрывки мыслей. На свету его размышления были более связными, теперь же у него в мозгу царил хаос. Жан-Марк не мог понять, во сне или наяву происходит все, что он видит. Вот Кароль помогает Валери вскарабкаться на крупную пегую кобылу. Лосины Валери от натуги лопаются, Кароль хохочет. Валери пускает лошадь галопом и скрывается из виду… Конечно, ни отец, ни Кароль не будут присутствовать на свадьбе. Зато мать и Ив Мерсье не преминут поучаствовать в торжестве. Как они себя поведут? Он преспокойно обошелся бы без них. А Маду? Надо ее пригласить. Хотя, ладно, время еще есть! Что она делает в своем Туке среди безделушек, в компании лисички? Он ясно представил себе ее: грузная, с открытым лицом, с сигаретой в зубах, костерящая нерадивых племянников, которые ей не пишут. Без сомнения, она будет разочарована, узнав, что он женится на Валери. «Что это на тебя нашло, Жан-Марк? Зачем ты это делаешь?» И вот уже он сам цепляется за поводья, лошадь понесла и тащит его по грязи. Он изо всех сил тянет поводья, останавливая ее. Кароль выпрыгивает из седла — она в амазонке, на пальце у нее кольцо Валери. Что будет, если супруги де Шарнере узнают?! Он видит, как они, задыхаясь от ярости, странными неровными шагами бегут к нему и начинают колотить в его дверь. В полусне Жан-Марк нащупал выключатель. Свет лампы прогнал призраков, но стук в дверь оказался реальностью.
Жан-Марк встал, повернул ключ в замке, открыл дверь и тут же в удивлении отпрянул назад. Прислонившись к косяку, на пороге стоял Жильбер. Бледный, как смерть, с пустым взглядом и влажными губами, он еле слышно бормотал:
— «О, прекрасный сын Пана, чей лоб увенчан цветами и виноградными гроздьями, глаза твои сияют, как драгоценные камни!»
— Откуда ты взялся? — спросил Жан-Марк.
— Кто это написал?
— Слушай, ты же абсолютно пьян!
— Рембо! — икнув, выдавил из себя Жильбер. Скорчив тупую мину, он продолжил: — Да, я пьян, старик, пьян в стельку. А все почему? Потому что пил всякую дрянь.
Жан-Марк помог ему войти, усадил в кресло и расстегнул ворот рубашки.
— Не шевелись, я сейчас…
Ставя на плиту чайник, он услышал у себя за спиной жалобные всхлипы:
— Плохо, Господи, как же мне плохо! Жан-Марк, я сейчас сдохну!
Пришлось поить его из чашки. Сразу после чая глаза Жильбера полезли из орбит, он часто моргал, пыхтел, надувал щеки. Казалось, язык не умещается у него во рту. «Надо было влить в него не чай, а черный кофе, — с досадой подумал Жан-Марк, — в таких случаях положено поить кофе. А теперь его точно вырвет!»
Подхватив Жильбера под мышки, он потащил его к двери. Уборная, общая для всех жильцов этажа, находилась на лестничной клетке. Кабина была старого образца, без сиденья, но относительно чистая. Жильбер уперся рукой в стену и наклонился, сильные спазмы сотрясали его тело. Изо рта у него хлынула рвота, мерзкий запах кислятины донесся до Жан-Марка. Его затошнило, и он испугался, что сейчас его самого стошнит. Стоя позади Жильбера, он сдерживал дыхание и старался не смотреть на густую слизистую массу, стекавшую по белому фаянсу. Когда Жильбер немного отдышался, Жан-Марк пошел в комнату за полотенцем, а вернувшись, нашел его лежащим без чувств с лицом, опущенным в унитаз. Его ноги были подогнуты и мешали открыть дверь. Его снова вывернуло наизнанку, он хрипел, как в предсмертной агонии. Вся грудь рубашки была перепачкана. Преодолев отвращение, Жан-Марк отер ему лицо полотенцем. Жильбер заморгал, но не произнес ни слова. В коридоре скрипнула дверь, кому-то понадобилось в туалет. Только этого еще и не хватало!
— Что тут у вас? Надо же! Похоже, вашему приятелю совсем худо.
Это оказался сосед Жан-Марка, славный малый, который всегда умел поднять ему настроение. Коренастый, черноволосый и смуглый, со сломанным носом, он был одет в цивильные брюки и пижамную куртку.
— Ничего страшного, — попытался оправдаться Жан-Марк, — просто у него несварение, то есть отравление…
— Помощь требуется?
— Да, спасибо, мне надо дотащить его до комнаты.
— Для начала приведем его в чувство. Сейчас покажу, как я за это берусь.
Перешагнув через Жильбера, сосед спустил воду. Неистовый водопад хлынул в лицо несчастному. Едва не захлебнувшись, он вскрикнул и приподнялся на локтях.
— Вот так! — довольно заржал сосед.
Он был так горд достигнутым результатом, что Жан-Марк счел за лучшее промолчать.
— Оставьте меня, оставьте! — умолял Жильбер, у него по лицу стекала вода.
Они вдвоем подняли его за руки и за ноги, перенесли в комнату и опустили на кровать.
— Уборная вам больше не нужна? — поинтересовался сосед.
Жан-Марк заверил, что нет, поблагодарил и закрыл за ним дверь. Одежда на Жильбере промокла насквозь. «Надо же быть таким идиотом, чтобы спустить воду!» — подумал Жан-Марк.
Он с трудом раздел Жильбера: стащил с него брюки, снял носки, содрал рубашку. Жильбер был в полубессознательном состоянии — руки и ноги едва двигались. Он ничем не помогал Жан-Марку. Потом махровой рукавицей Жан-Марк вымыл ему лицо, грудь, руки, вытер его, укрыл одеялом. Жильбер стучал зубами от холода. Жан-Марк, набросив поверх одеяла свое пальто и плед, спросил:
— Ну что, тебе лучше?
— Да, — пробормотал Жильбер дрожащим голосом. Щеки у него немного порозовели, но было заметно, что он все еще не согрелся. — Извини меня за это свинство! Явиться к тебе и наблевать!
— Ничего, бывает. Мы же друзья.
Жан-Марк был удивлен собственной выдержкой. Его начинало мутить от любого пустяка, а тут он спокойно смотрел на кучу грязной вонючей одежды, лежащую на подоконнике. Кроме того, даже почувствуй он мимолетное отвращение при взгляде на этого парнишку в своей постели, он мгновенно забыл бы об этом, — так тихо и ровно дышал Жильбер. Свет лампы, стоявшей в изголовье, подчеркивал совершенные очертания его высоких скул. Жильбер отрастил длинные волосы, что придавало ему романтический вид. Интересно, спит он или нет? Жан-Марк подвинул кресло и устроился в нем, положив ноги на стул. После всех пережитых треволнений на него снизошло удивительное умиротворение, подобное тому, что он обычно испытывал, прослушав длинный музыкальный отрывок. Жан-Марк хотел бы выбросить все из головы и ни о чем не думать, но тут его поразила внезапная мысль: Жильбер даже не сказал, откуда явился. Что подумают его родные, если он не вернется ночевать? Необходимо во что бы то ни стало отвезти его домой!
— Жильбер, Жильбер, — шепотом позвал он. — Надо ехать домой! Бабушка с дедушкой с ума сойдут от беспокойства!
— Они уехали на четыре дня в Дордонь, к друзьям, — слабым голосом сказал Жильбер.
Жан-Марк снова откинулся в кресле и погрузился в раздумья. После долгого молчания он спросил:
— С кем ты так здорово расслабился?
— Один приятель из класса пригласил меня к своим кузенам. Нас было человек тридцать в их особняке, в Нёйи. Мы пили коктейли, танцевали, не помню, что еще было… Боже, как же раскалывается голова!
— Тебя больше не поташнивает?
— Нет, с этим вроде все.
— Сможешь встать, чтобы поехать домой?
— Похоже, что нет, у меня такая слабость! Голова кружится.
— Ладно, будешь ночевать здесь.
— А ты? — спросил Жильбер.
— Не волнуйся, я прекрасно устроился в кресле. Все в порядке.
Жан-Марк погасил лампу и закрыл глаза. Пройдет еще несколько минут, и он погрузится в сон. Слушая, как ровно дышит Жильбер, ему, Бог знает почему, представлялась галера, весла которой синхронно опускались в воду. В этот момент до него из темноты сквозь дрему донесся тихий настойчивый шепот:
— Жан-Марк!
— Да?
— Знаешь, а я больше не девственник!
«Он все еще не протрезвел!» — такой была первая догадка Жан-Марка.
— Молчи и постарайся уснуть, — ответил он.
— Ты мне не веришь? — воскликнул Жильбер. — Но это правда: сегодня я переспал с одной девчонкой…
Непонятное волнение охватило Жан-Марка. Он не понимал причины своей паники и не мог с ней справиться.
— Что еще за девчонка? — удивился он.
— Я встретился с ней там, в Нёйи. Изабель… Изабель… забыл фамилию.
— Ты ее любишь?
— Нет, конечно!
— Тогда зачем ты это сделал?
— Так было нужно! — ответил Жильбер. — Это жизнь! Настоящая мужская жизнь, разве нет?
— Возможно, — отозвался Жан-Марк.
Его растерянность улеглась, уступив место печали и разочарованию. Какая глупость! Он почти упрекал этого мальца, которого в свое время вознес на пьедестал, за то, что тот унизился до вульгарной прозы жизни. Тоже мне жизненный опыт! В этот момент Жильбер показался ему грязнее, чем когда того рвало в уборной.
— Она хотя бы хорошенькая? — перехваченным от волнения голосом спросил он.
Жильбер ответил ему злым пьяным смехом:
— Она восхитительна! Большая грудь, и остальное — как у настоящей женщины! Что еще нужно, чтобы удовлетворить мужчину?!
Господи, какая мерзость!
— Понимаешь… — вдруг неожиданно для самого себя признался Жан-Марк, — иногда бывает, что в первый раз…
— А ты, ты тоже в первый раз был разочарован?
— Да.
— А теперь Валери тебя полностью устраивает?
Жан-Марк промолчал, повисла тяжелая пауза. Потом Жильбер отвернулся к стене и пробормотал:
— Вообще-то, все это совершенно неважно.
Жан-Марк на цыпочках вошел в комнату. Он спускался за свежими булочками к завтраку. Жильбер все еще спал, выражение его лица было спокойным и безмятежным. Повернутая ладонью вперед обнаженная рука свисала с кровати и почти касалась пола. Она была бледной, с голубой жилкой на сгибе. Жильбер не слышал, как Жан-Марк встал, принял душ, оделся и вышел. Не проснулся он и тогда, когда Жан-Марк, поставив на плитку чайник, начал освобождать стол от бумаг. Но было уже почти десять, и дневной свет проникал сквозь щель между шторами. Жан-Марк дал возможность Жильберу поспать еще пятнадцать минут. В конце концов, сегодня же воскресенье! Потом он склонился над кроватью, и его тень упала на лицо юноши.
— Жильбер, Жильбер, — шепотом позвал он.
— Да, — ответил Жильбер, — открывая глаза. — Который час?
— Десять.
Веки Жильбера наполовину приоткрылись, и между ними блеснули ясные, живые глаза.
— Нет! Это невероятно! Я спал, как бревно. А ты? Неужели тебе пришлось всю ночь просидеть, скрючившись в этом кресле?
— Не переживай! Я прекрасно провел ночь. Как ты себя чувствуешь?
— Великолепно! Я ощущаю себя чистым и легким, словно заново родился.
Жильбер сел на кровати и потянулся. Голый по пояс, с поднятыми и скрещенными над головой руками, он откинулся назад, и солнечный свет осветил ему затылок и подмышки. Потом он соскочил с постели, одетый только в маленькие узкие трусики. Жан-Марк зажмурился, как от яркой вспышки. Ему вспомнился Лувр с прекрасными греческими эфебами, мускулистыми и томными, сотворенными из мрамора и в то же время теплыми. Жильбер уже плескался под душем. Когда он вышел, с его тела струйками стекала вода, вокруг бедер было обмотано полотенце. Подойдя к умывальнику, он взял зубную щетку Жан-Марка и засунул ее в рот. Поначалу удивившись, Жан-Марк, тем не менее, не испытал ни брезгливости, ни недовольства: такой возвышенной была дружба между ними. Потом он наблюдал, как Жильбер бреется его бритвой и причесывается его расческой. Одежда Жильбера была вся перепачкана, и Жан-Марк дал ему свою. Они были примерно одинакового роста. На этом стройном, светловолосом юноше его рубашка в тонкую полоску, брюки стального серого цвета и замшевый пиджак смотрелись совершенно неожиданным образом. Жильбер, смеясь, рассматривал себя в зеркало.
— А что, мне в этом очень даже неплохо, правда?
— Тебе очень идет, — серьезно ответил Жан-Марк.
Они сидели за столом напротив друг друга и завтракали.
— На всякий случай я заварил чай, — сказал Жан-Марк, — но если ты предпочитаешь кофе…
— Нет, нет, чай! — воскликнул Жильбер. — Я буду чай!
Он выпил две чашки, проглотил три булочки с маслом и джемом и перешел к сухарикам. Жан-Марк с удовольствием отметил, что молодой человек, за здоровье которого он вчера так волновался, сегодня весел и полон жизни. Жан-Марку хотелось бы провести с ним весь день, но на три у него было назначено свидание с Валери.
— Пойдем с нами, — предложил он Жильберу. — Правда, мы еще не решили, что будем делать.
Жильбер отрицательно покачал головой.
— Лучше я побуду один.
— Один? — с иронией спросил Жан-Марк. — Ты уверен?
— Естественно! — возмутился Жильбер.
— А что ты будешь делать?
— Наверно, схожу в кино.
— А потом?
— Вернусь домой.
— Ты не хотел бы, чтобы мы с тобой встретились часов в восемь?
— А ты… ты что, сможешь освободиться?
— Постараюсь, — ответил Жан-Марк.
Вторая половина дня пролетела для Жан-Марка в одно мгновение ока. Валери пригласила всю их компанию к себе домой. Не отходя от невесты, Жан-Марк легко и не без удовольствия играл роль счастливого жениха. Однако он несколько раз ловил себя на том, что его хорошее настроение связано не с Валери, а с Жильбером. Он радовался тому, что вечером они непременно увидятся. В семь Жан-Марк под предлогом, что ему еще надо встретиться с Дидье Копленом, собрался уходить. Валери вышла с ним на лестничную площадку и подставила на прощание губы для поцелуя. Прильнув ртом к ее рту, лаская языком ее язык, Жан-Марк думал о Жильбере и представлял, как тот, стоя перед умывальником, чистит зубы его щеткой.
— Мне действительно пора, — пробормотал он, отрываясь от ее рта.
— Ну ладно, иди.
Валери улыбалась. В этот момент она была очень хороша собой: чуть приоткрытые губы, самоуверенный взгляд. Именно этот взгляд почему-то привел его в бешенство. Он попрощался и ушел.
Жан-Марк оставил ключ от входной двери под ковриком. Жильбер ждал его. Он сидел в кресле и читал книгу. Услышав шаги Жан-Марка, Жильбер поднял к нему счастливое лицо. Он не спросил, как Жан-Марк провел день, и тот, в свою очередь, не поинтересовался, что Жильбер делал сегодня. Казалось, что время, проведенное врозь, не имело для них никакого значения или даже просто не существовало. Все события, произошедшие после завтрака, будто канули в Лету. Жан-Марк и Жильбер спешили вновь обрести друг друга, соединить в единый, непрерывный поток благодатные часы сегодняшнего утра и вечера. Весь остальной мир перестал существовать для них.
Жан-Марк в свое время обнаружил симпатичный ресторанчик на рю дю Драгон. Они пошли туда пообедать. Приглашал Жильбер. Он настоял на этом, утверждая, что при деньгах, да и к тому же через неделю у него день рождения. За столом речь опять зашла о машине, которую он получит в подарок. Спортивный автомобиль с откидывающимся верхом. Белый с черным. Жильбер недавно записался в школу вождения. Как только ему исполнится восемнадцать, он тут же пойдет сдавать экзамен на права.
— Потом мы будем ездить вместе на чудесные прогулки, — мечтательно произнес он.
— Ну, а если ты провалишься? Знаешь, с первого раза мало кто сдает.
— Если я провалюсь, за руль сядешь ты. Машина у нас будет как раз тогда, когда настанут теплые деньки!
«Теплые деньки!» — с грустью подумал Жан-Марк, вспомнив о своей скорой свадьбе. В душе у него образовалась какая-то пустота. С трудом заставив себя вернуться к разговору, он улыбнулся и вдруг с восхищением заметил золотые точки, искрящиеся в глазах его визави: это светильники ресторана отражались в зрачках Жильбера.
Они заказали две порции телятины, которых никак не могли дождаться. Было заметно, что Жильбер теряет терпение. Он зябко повел плечами и спросил:
— Ты не чувствуешь сквозняк?
— Нет, — отозвался Жан-Марк.
— Наверно, окно за нами плохо закрыто. Нет, так сидеть невозможно!
— Хочешь, давай пересядем.
— Если ты не возражаешь…
Как только на другом конце зала освободился столик, они перебрались туда. Но там, рядом с ними, громко разговаривали посетители, а через открывающуюся на кухню дверь время от времени доносился резкий запах подливки. Жильбер сидел, нахмурившись. Жан-Марк догадывался, что находиться в подобном месте было для него пыткой. Он с тревогой заметил, как изменилось его настроение. Жильбер был таким тонким и деликатным, он желал, чтобы все вокруг него было совершенным, и, не находя этого совершенства, страдал больше других.
— Мне жаль, что тебе здесь не нравится, — сказал Жан-Марк, — надо было пойти в другое место.
— Да нет, почему же? — с вымученной улыбкой возразил Жильбер. — Конечно, эти люди за соседним столом просто невыносимы, но ведь, в конце концов, можно их и не слушать.
Наконец официант принес телятину. Жан-Марк и Жильбер лишь слегка притронулись к ней и, не сговариваясь, поморщились.
— Посмотри на это, — прошептал Жильбер и указал Жан-Марку на стоявшую посреди стола керамическую горчичницу. В крышку была вставлена деревянная ложечка. Ложечка выдавила часть содержимого, и горчица вываливалась из баночки густыми зеленовато-желтыми подтеками.
— Ты когда-нибудь видел что-либо противнее, чем это? — спросил Жильбер. — Когда я был маленьким, то не мог без содрогания смотреть на горчицу с засохшими корками. Меня сразу же мутило. Даже теперь я никогда ее не ем. А ты?
Жан-Марку вспомнилась Валери, любившая полакомиться хлебом с горчицей, «как простые люди», по ее собственному выражению.
— Нет, я тоже ее не ем, — ответил Жан-Марк.
Официант сменил тарелки и подал фруктовый салат, который они заказали на десерт.
— Жаль, что я не был с тобой знаком, когда тебе было лет шесть или восемь, — задумчиво произнес Жан-Марк.
— Со мной тогда было неинтересно. Я только что потерял мать и не знал, на кого опереться…
Со стороны соседнего столика послышался сальный смех. От возмущения у Жан-Марка свело челюсти, но снисходительный взгляд Жильбера обезоружил его. Он словно прочел в его глазах: «Да оставь ты их! Бог с ними, они — другие. Их мир и наш с тобой мир никогда не соприкоснутся». Потом Жильбер зевнул, закрыв рот рукой.
— Ты, наверно, очень устал. Хочешь, пойдем? — предложил Жан-Марк.
— Нет-нет, ничего, — запротестовал Жильбер, но голос у него стал вялым, глаза затуманились.
Усталость мгновенно охватила его. Так устают маленькие дети: вот они еще совсем бодрые, а через минуту их уже сморила ночь.
Жан-Марк проводил Жильбера домой. В квартире было пусто и тихо. Как только юноша оказался в знакомой обстановке, он заметно оживился и стал уговаривать Жан-Марка не уходить, не выпив с ним на прощание последний стаканчик. Они пошли в гостиную, взяли там виски, а водой и льдом запаслись на кухне. Потом с полными руками они сделали обратный марш-бросок и уселись в кресла. В комнате было жарко, Жильбер стащил с себя галстук и расстегнул ворот рубашки. Стоявшая на низком столике небольшая настольная лампа выхватывала из полумрака полки с книгами. Жан-Марк смотрел на Жильбера с восхищением и тревогой. Он был поражен фантастическим очарованием его лица, как мог бы быть поражен произведением искусства, которое принадлежит лишь ему одному. Случайно или нет Жильбер снял галстук и принял эту непринужденную позу?
Молчание и неподвижность были частью их общей игры. Они сидели лицом к лицу, и им не обязательно было говорить, чтобы понять друг друга. Поток времени соединял их в единое целое, совмещал биение их сердец.
Жан-Марк вспомнил рыбалку в открытом море, недалеко от Корсики. Он был там лет пять назад с друзьями во время каникул. Они наняли лодку, чтобы порыбачить, но мотор неожиданно заглох. После навязчивого механического жужжания наступила оглушающая тишина. Стоявшее высоко солнце жарило изо всех сил. Над синей морской гладью поднималась сверкающая дымка, от которой болели глаза. На горизонте ни единого паруса. Пока лодочник пытался устранить неполадки, Жан-Марк остро ощутил необычайное одиночество. Его одновременно охватили и чувство восторга, и боязнь открытого пространства. Почти полное отсутствие каких-либо звуков, кроме тихих всплесков воды и потрескивания хрупкого корпуса лодки над прозрачной, бездонной пропастью. Размытая линия горизонта. Жан-Марку казалось, что он находится невероятно далеко от цивилизации. Поразительно, но все то же самое он испытывал и сейчас! Испытывал в комнате, полной книг, в присутствии Жильбера, который молча курил и пил виски. Они еще долго сидели, застыв каждый в своем кресле, не произнося ни слова, подавленные охватившим их непреодолимым взаимным влечением. «Господи, что со мной происходит? — подумал Жан-Марк. — Почему мне так хорошо?»
Внезапно, пораженный догадкой, он поднялся и поставил пустой стакан на стол.
— До свидания, Жильбер, мне пора бежать, — прошептал он.
Жильбер, казалось, совсем не удивился и, проводив друга до двери, пожал ему руку. Это сильное мужское рукопожатие вернуло Жан-Марка к действительности.
XIV
Бреясь перед зеркалом, Филипп заметил, что плохо выглядит. Неудивительно — после той ночи, которую он провел! Вместо того чтобы спать, он много часов подряд выстраивал в голове разговор с Кароль. Сегодня утром они должны решительно объясниться. Чаша его терпения переполнилась. Уже больше двух недель прошло с тех пор, как она играет с ним, то приближая к себе, то отстраняясь. Почему, уступив один раз его настояниям, она не дается ему теперь? Каждый вечер у нее занят. Раз уж ей так хорошо с этим Ксавье Болье, пусть переезжает к нему окончательно! «Я скажу ей. Потребую, чтобы она сделала выбор…» Филипп оделся, позвонил в контору, предупредил мадемуазель Бигаррос, что придет к одиннадцати, и спросил у Аньес, встала ли хозяйка.
— Не думаю, мсье, — ответила служанка. — Во всяком случае, она не звонила насчет завтрака.
На часах было уже без четверти десять. Что ж, если он разбудит ее — тем хуже! Внезапно решившись, Филипп постучал в дверь ее спальни. Ему не ответили. Он постучал еще раз, толкнул створку. Никого! Постель даже не была разобрана. Он прошел в туалетную и едва не ослеп от белоснежного сияния фаянса. Эта четкая, прозрачная пустота поразила его, заморозила сердце. Он вдохнул запах новой туалетной воды Кароль, и его тоска мгновенно превратилась в гнев. Ему хотелось кричать, бить, ломать все вокруг. Внезапно он увидел свое отражение в зеркале, висевшем над раковиной: рот приоткрыт, глаза выпучены — глупая безвольная маска взбунтовавшегося рогоносца. Легкий шум за спиной заставил его обернуться: вошедшая только что Кароль стояла позади него в шубке из оцелота, накинутой на плечи, с шарфиком в руке, свежая и улыбающаяся.
— Доброе утро, Филипп! Как дела? — спросила она.
Задыхаясь от ярости, он заставил себя успокоиться. Как она смеет подтрунивать над ним в подобной ситуации? Впрочем, это ее излюбленная манера. Отвечая вопросом на вопрос, он рявкнул:
— Откуда ты явилась?!
Она взглянула на него с холодной жалостью и прошептала:
— Ты действительно хочешь это знать, Филипп?
— Да, — пробурчал он, — это не может так дальше продолжаться!
— Я совершенно с тобой согласна!
— Мы… Нам необходимо объясниться!
— Я сама хотела это предложить…
— Немедленно, Кароль!
Она сняла манто, привычным жестом взбила перед зеркалом волосы, повернулась на каблуках и сказала:
— Ты не пригласишь меня пообедать в ресторан?
Он с удивлением смотрел на нее. Неужели она собралась превратить неприятный для нее разговор в развлечение? Нет, на сей раз он не даст себя поймать! И тут же проговорил невнятно:
— Если хочешь…
— В рыбный! Сама не знаю почему, но мне сейчас ужасно захотелось рыбы!
— Я заеду за тобой в час, — сухо предложил Филипп.
И вышел, не глядя на Кароль, с раздражением понимая, что упустил инициативу, даже не начав действовать.
В конторе его дурное настроение только усилилось. Первым это почувствовал на себе Блондо. Он застрял в разработке дела «Трубай — Пирене», а Филипп, прекрасно зная, что случай сложный, начал упрекать сотрудника в том, что тот не сумел найти решение, которое устроило бы обе стороны. Молодой адвокат подал ему свои записи, и Филипп взбесился:
— Я сыт по горло вашими бумажонками, коллега! Это пустая трата времени! Размазывание дела по тарелке! Вы здесь не для того, чтобы заниматься правом в чистом виде, вам следует помогать людям — живым людям из плоти и крови, эгоистичным, глупым, тщеславным, которые платят нам деньги, — жить разумно. Компромисс! Предложите моему вниманию разумный компромисс! Или передайте дело Виссо. У него нет дипломов, но он знает человеческую природу!
Произнося все это, Филипп смотрел на маленькое сухое личико Блондо, который стоически переносил «порку». Как же приятно — нехорошее чувство! — было сечь этого юнца в белоснежной рубашке! Отчитывая Блондо, Филипп словно ставил на место всех самодовольно-заносчивых молодых соперников. Когда бледный от обиды Блондо ушел, унося под мышкой свою папку, Филипп принялся считать минуты, оставшиеся до встречи с Кароль.
Без десяти час он уже стоял в гостиной, раздираемый тревожным ожиданием. Появилась Кароль — она снова выглядела так, будто приносила свое очарование ожидавшему ее мужчине.
— Ну, — произнесла она, — куда же мы отправимся?
Филипп предложил «Порфир» — новый ресторан неподалеку, на рю Мазарин, в котором несколько раз весьма удачно проводил деловые встречи. Они отправились пешком.
Зал в «Порфире» был маленьким и темным, в глубине располагался большой, подсвеченный снизу садок, в котором плавала форель. Серые рыбы, тупые и жадные, яростно теснились, били хвостами у трубки, подающей воздух. Хозяйка усадила пару за столиком, укрытым за колонной, облепленной ракушками, и подала меню.
— Боже, как я голодна! — радостно воскликнула Кароль.
Она долго со вкусом выбирала блюда и наконец остановилась на полудюжине плоских устриц и зубатке под фенхелем.
— Для меня — то же самое, — сказал Филипп.
Он и думать не мог о еде, и его удивило, что жену совершенно не занимает предстоящий тяжелый разговор. Хозяйка появилась снова, показывая им блюдо, где на водорослях лежали несколько рыбин в серебристой чешуе с белыми брюшками и раскрытыми ртами. Они выбрали одну среднего размера, и официант тут же подал им устриц.
— Они выглядят великолепно! — сказала Кароль.
Официант разлил по бокалам заказанный Филиппом «Сансер» и бесшумно удалился.
— Итак, — начала Кароль, — что же такого важного ты хотел мне сообщить?
— Я — ничего! — ответил он. — А вот у тебя, судя по всему, кое-что изменилось в жизни, раз ты даже перестала ночевать дома!
— Ты прав, — кивнула она, — многое сейчас меняется.
Она подцепила со льда устрицу, выжала на нее лимон, проглотила. Филипп рассеянно последовал ее примеру.
— Это связано с Ксавье Болье? — спросил Филипп.
— Нет, Ксавье — не более чем светский приятель.
— Значит, есть кто-то другой?
— Да, Филипп.
— Так скоро? — спросил Филипп с саркастической улыбкой.
— Ты не способен этого понять, — вздохнула в ответ Кароль. — Ты оцениваешь время с позиции мужской логики. А ведь порой две недели могут оказаться важнее года жизни. Я встретила удивительного человека, Филипп!
Филипп почувствовал, что задыхается, и сделал глоток вина. Кароль съела еще пару устриц.
— Ты влюблена? — Филипп пытался говорить спокойно-равнодушным тоном.
— Да.
Их разделило молчание. Кароль съела сухарик и продолжила, медленно и веско роняя слова:
— Между нами возникло какое-то очень сильное… сильное и настоящее чувство!
Она подняла на Филиппа прозрачно-честный взгляд. Лицо его исказилось, он оттолкнул тарелку.
— Возможно, я жестока, Филипп, — бросила Кароль. — Но я глубоко уважаю тебя, я так к тебе привязана, что просто не могу и не хочу ничего скрывать!
— Уважение? Привязанность? Да ты просто издеваешься надо мной!
— Да нет же! Когда я думаю о нашем прошлом, меня волнуют и трогают объединявшие нас чудесные воспоминания!
— Например, Жан-Марк! — воскликнул Филипп.
Кароль грустно покачала головой.
— Ах, Филипп! Почему ты упорствуешь и портишь все горькими словами? Мы оба знаем, в чем виноваты друг перед другом. Но ведь у нас было и другое. Ты не мог все забыть, Филипп.
На блюде оставалось четыре устрицы. Наконец официант решился их унести.
— Нет… — Спазм перехватил горло Филиппа. — Не забыл… Иначе меня бы здесь не было.
В его душе разрасталась ужасная печаль, он чувствовал, как горечь разливается по жилам с каждым ударом сердца. Рука Кароль легла поверх его ладони.
— Ничто не сможет разрушить нашу дружбу, правда, Филипп?
Готовый взорваться, Филипп замер и убрал свою руку. Интуиция, мощная, как инстинкт самосохранения, подсказывала, что в это самое мгновение он должен перейти в наступление, иначе она окончательно вышибет его из седла.
— Две недели назад, когда мы провели вместе ночь, это тоже была дружба? — спросил он.
Метрдотель продемонстрировал им зубатку, уложенную на решетке гриля, поджег веточки фенхеля. Вверх взметнулось и затрепетало светлое пламя. Люди за соседними столиками обернулись взглянуть на этот гастрономический пожар.
— Ты просто глуп! — возмутилась Кароль. — Две недели назад я была растеряна, любила тебя, любила его, не понимала, на каком я свете…
— Теперь — знаешь?
— Да, теперь… Теперь я знаю, что мы с ним не можем жить друг без друга.
Пламя погасло. Метрдотель ловко разрезал рыбу. Официант поставил перед Кароль и Филиппом тарелки с бледно-кремовым филе, щедро сдобренным травами Прованса. Оживленная хозяйка явилась за комплиментами, но, заметив, что клиентов больше волнуют собственные чувства, чем ее кулинарные изыски, ретировалась, уведя с собой персонал. Кароль попробовала рыбу, пригубила вина.
— Вот что я хотела тебе сказать, Филипп.
— И ты полагаешь, что я соглашусь на подобное существование? — проговорил Филипп сдавленно.
— А кто просит тебя соглашаться?
— Но… но ты сама, Кароль…
— Ты не понял, Филипп! Мы с Рихардом Раухом решили пожениться.
Контраст между мягкостью тона и жесткостью заявления был так ужасен, что Филиппу на мгновение показалось, будто он ослышался. Под воздействием потрясения ему на мгновение показалось, что голова его совершенно пуста. Он посмотрел на Кароль. Она улыбалась. Его охватил всепоглощающий ужас.
— Ты… ты не можешь говорить об этом всерьез! — пролепетал он.
— Конечно, могу, Филипп.
— Но ты едва знаешь этого человека!.. Нельзя быть такой неблагоразумной!.. Сколько ему лет?
— К чему этот вопрос?
— Я хочу знать!
— Нет, Филипп.
— Он моложе? Ровесник Жан-Марка?
— Он мой ровесник.
— Твой ровесник… — прошептал Филипп.
Он почувствовал, как у него сдавило грудь, и решил, что сию минуту умрет от горя. И здесь молодость гонит его и разоряет.
Кароль снова принялась за еду. Как она изящна… Филипп не мог проглотить ни куска.
— Чем занимается твой…
— Он генеральный директор немецкого предприятия по производству станков.
— Так, значит, он немец?
— Да.
— И ты собираешься выйти замуж за немца?
— Для меня не важна его национальность, — ответила Кароль. — Я люблю его.
У нее был одновременно проникновенный и какой-то подавленный вид, словно она признавалась в том, что больна и не способна бороться с болезнью. Кароль выступала сейчас перед мужем бессильной и угнетенной жертвой роковой любви, она почти что просила о снисходительности человека, которому разрывала душу. Теперь главное, думал Филипп, выдержать все до конца. Он закурил, пытаясь собраться с мыслями. Как трудно сохранять внешнее спокойствие с этой адской болью внутри, осознанием, что все потеряно, с готовыми пролиться слезами горечи на губах.
— Полагаю, ты хочешь получить развод как можно быстрее?
— Да, Филипп.
— Это не так просто! У нас есть совместные интересы.
— Какие именно?
— Ну… ты и сама все знаешь… Во всех моих делах ты, в некотором роде…
Кароль одарила его ангельски нежным взглядом.
— Нет, Филипп. Я выше этого. Мне нет никакого дела до адвокатской конторы Эглетьер.
— Так зачем ты прежде угрожала мне?..
— Я боялась: не хотела, чтобы ты меня бросил!
— А теперь не боишься?.. Потому что нашла мне замену!
— Не мучь меня, Филипп! — прошелестела Кароль с улыбкой страдалицы.
Филипп откинулся на спинку стула. Прямо напротив него, в садке, дрались глупые мерзкие прожорливые рыбины, их тела трепыхались в пузырьках воздуха. Он был похож на них. Он тоже бился о стекло.
— А если я откажусь? — внезапно спросил он.
— Откажешься от чего?
— Не захочу дать тебе развод.
Она нахмурилась.
— Это ничего не изменит. В любом случае, в следующую пятницу я уезжаю с Рихардом!
Как же ей нравится без конца произносить вслух имя любимого мужчины!
— Куда вы поедете? — спросил Филипп.
— В Мюнхен.
— А потом?
— Да не все ли равно? Что бы ни случилось, к тебе я не вернусь, Филипп!
Его передернуло: официант сунул ему под нос меню. Какая-то абракадабра из незнакомых названий… Филипп с почти физическим отвращением отложил меню в сторону, отвернулся. Кароль заказала мороженое с ананасами, он решил выпить кофе. Одна из рыбин, отделившись от стаи, медленно проплыла над ракушечным массивом и стремительным броском вернулась в угол, к воздуховоду, где теснились остальные.
— Почему ты хочешь мстить мне?
— О чем ты?
— Ну, раз ты собираешься отказать в разводе, следовательно, задумал что-то.
— А может, я просто не хочу тебя потерять?
Кароль задумалась, потом произнесла почти шепотом:
— Женщину нельзя удержать силой!
Филипп допил кофе, попросил счет и пробормотал:
— Успокойся, я ни в чем не стану вам мешать!
Кароль наклонила голову, глаза ее затуманились. Неужели она расплачется? Нет, справилась с чувствами. Внезапно Филипп подумал, что теперь ему придется подняться и выйти на беспощадный свет дня, встретиться с другими людьми. Все, что в этом полутемном, уютном ресторанчике еще могло показаться диким сном, на улице превратится в жестокую реальность.
— Итак, в пятницу? — спросил он охрипшим голосом.
— Да.
— То есть… через четыре дня?
— Да.
Официант принес на тарелочке сдачу.
Переступив порог, Филипп заморгал, ослепнув на ярком зимнем солнце. Кароль взяла его под руку, приноровилась к его шагам, дружелюбная и притихшая. Он не знал, что сказать. Затянувшееся молчание убивало мысли, иссушивало кровь. Ему даже не было больно. Когда они дошли до угла рю Жак-Калло, он спросил:
— Чем ты сейчас займешься?
— Вернусь домой и отдохну. Хочу быть в форме к приходу детей.
— Детей?
— Ты же знаешь, что они придут сегодня вечером на ужин!
Филипп напрочь забыл об этом. Его охватил гнев. Все против него, ни минуты покоя, никакой надежды на отдых. Принимать родственников в подобный день выше его сил!
— Я отменю ужин.
— О нет! — воскликнула Кароль. — Прошу тебя не делать этого!
— Почему?
— Да потому, что для них сегодняшний день — праздник! И мы не имеем права разочаровывать их!
— Намереваешься сообщить им за столом о нашем будущем разводе?
Кароль посмотрела на Филиппа с состраданием профессиональной сиделки.
— Нет, Филипп. Ты скажешь им сам, позже, когда сочтешь момент подходящим.
— А сегодня вечером мы, что же, станем ломать комедию?
— Я не называла бы это комедией, Филипп. Признаешь ты это или нет, но между нами и твоими детьми существует привязанность, и это очень важно для всех нас…
— Что ж, придется эти связи разорвать! И очень быстро!
— Ты хочешь сказать, что после развода мы не будем встречаться? Что я не смогу видеться с детьми? — спросила Кароль дрожащим голосом.
Вопрос изумил Филиппа. Она остановилась, подняла к нему трагически молящее лицо. Возможно, он не все понял… Неужели она просто попала под власть того человека?.. А что, если в самой глубине ее души действительно живет искренняя привязанность к тем, кого она собирается покинуть? Совершенно неожиданно Кароль превратилась в жертву обстоятельств!
Они снова медленно пошли по улице. До самого дома ни один из них не сказал другому ни слова.
В начале вечера Филипп пребывал в состоянии сомнамбулической раздвоенности. Он присутствовал за столом, слушал, подавал реплики, улыбался, а в душе росло отчаяние, которому не было противоядия. Как обычно, дети говорили без умолку: Даниэль — об учебе, Дани — о ребенке, Николя — о своей школе драматического искусства, Франсуаза — о муже, уехавшем в СССР, и о новой квартире, которую она обустраивала, и все это было бессмысленно и глупо до тошноты. Как Кароль может получать удовольствие от подобной болтовни?!
— Когда возвращается Александр? — спросила она.
— Думаю, через неделю, — ответила Франсуаза.
Кароль восторженно сжала руки над тарелкой.
— Как много увлекательнейших вещей он нам расскажет! Он ведь знает язык! Сможет общаться с людьми напрямую… Это так важно! Я заранее предвкушаю удовольствие…
«Чему она радуется? — думал Филипп. — Тому, что снова встретится с Александром? Но ведь через неделю ее уже не будет в Париже! И она это знает!..» Эта мысль была как удар наотмашь по лицу. Филиппу хотелось кричать: «Она лжет вам! Она меня бросает! Уезжает в пятницу в Мюнхен! Мы разводимся!» Он вцепился обеими руками в край стола, как в спасительный парапет.
— Да, у него там остались какие-то дальние родственники… Двоюродные братья, кажется… Очень интересный проект… Совместный франко-советский журнал… Никакой политики, только литература… — продолжала Франсуаза.
— Все равно все кончится пропагандой, — сказал Даниэль.
— Уверяю тебя, что нет!
— До чего же ты наивна, старушка!
— Но ты же знаешь Александра! Если бы существовал хоть малейший риск… Нет, говорю тебе…
Брат и сестра почти кричали. Кароль с улыбкой успокаивала страсти.
— Ну, а как дела с новой квартирой? — спросила она, чтобы перевести разговор на другую тему. — Я так хочу на нее взглянуть!..
«Она продолжает ломать комедию! — думал Филипп. — Зачем? Из любви к игре? По жестокости? Неосознанно?» Взглядом он умолял ее замолчать.
Наконец все вышли из-за стола. Филиппу казалось, что улыбка прилипла к его лицу, как картонная маска, что окружающие не могут не замечать, скольких усилий ему стоит быть любезным. Но нет, молодые, как всегда, заняты только собой, болтают, не закрывая рта, как четыре плохо закрученных крана, из которых противно капает вода.
— Что случилось, папа? Ты плохо себя чувствуешь? — спросила Франсуаза.
— Нет-нет! Устал немного, наверное…
— Я хотела бы показать тебе ответ домовладельца относительно обмена квартирами.
— Он у тебя с собой?
— Я не сообразила принести его! Так глупо!
— Не страшно, приходи в воскресенье к трем часам, и мы все обсудим.
— Вы не уезжаете в конце недели в Бромей?
— Нет, — ответила за мужа Кароль.
Филипп, не вмешиваясь, смотрел на нее с печальной задумчивостью. Разговор возобновился без его участия. Так прошел еще час, после чего дети наконец собрались уходить.
Филипп остался наедине с Кароль посреди слишком просторной гостиной, в абсолютной тишине. Он внезапно осознал, что весь этот день, начиная с обеда в «Порфире» и до этой минуты, был медленной подготовкой к одиночеству. Кароль была здесь, он мог смотреть на нее, мог коснуться рукой, но она словно перестала существовать для него.
— Какие они милые, — сказала она. — Такие простые и веселые! Признайся, было бы досадно отказаться от сегодняшней встречи!
— Тебе — возможно. Но мне этот ужин показался невыносимым. Я не умею притворяться, Кароль. Когда мне плохо, я должен быть один.
Она подошла ближе, встала перед ним, дерзко задрав подбородок, положила руки ему на плечи.
— Совсем один? — спросила она.
— Да, Кароль.
— Значит, мне нужно оставить тебя?
— Я не это имел в виду… — пролепетал он в ответ.
Кароль смотрела на него с насмешливой и нежной настойчивостью. Незаметно они сделали шаг навстречу друг другу. Губы Кароль приоткрылись. В мельчайших подробностях повторялась вечерняя сцена, произошедшая между ними некоторое время назад. Зачем ей отдаваться ему теперь, когда она объявила, что любит другого человека? Что это, компенсация? Акт милосердия? Прощальный подарок? Он почти прижимал ее к себе — теплую, похотливую, умелую. Их губы соприкоснулись. Филиппу показалось, что у него в мозгу лопнула какая-то жилка. Сделав над собой нечеловеческое усилие, он оттолкнул Кароль.
— Нет, — произнес он. — Только не это. Отныне никогда!..
Она улыбнулась жалостливо-сочувствующей улыбкой, безвольно уронив руки.
— Очень жаль, Филипп! Как же ты заблуждаешься!..
Мгновение спустя она исчезла в своей комнате.
У Филиппа задрожали ноги, и он упал в кресло. Эта победа над собой лишила его сил. Взять назад свои слова, постучать в дверь ее спальни, умолять открыть!.. Он чуть было не поддался искушению, но постепенно самообладание вернулось к нему. По мере того как плоть смирялась, разум освобождался. Отстранившись от сиюминутности, он представлял себе, что будет дальше. Будущее без Кароль! Пропасть, нонсенс, медленное удушение!
Он отправился в свой кабинет, сел за стол и захотел умереть. Все было так просто: прощальное письмо; маленькое черное круглое отверстие револьверного дула у виска; взрыв тысяч солнц; конец всех проблем… Тянулись минуты. Последние. Только от него зависит, когда нажать на курок — немедленно или чуть позже. Нет, он не станет себя убивать. Филипп пошел в бывшую комнату Жан-Марка, разделся и лег, ненавидя свое огромное рыхлое тело и расслабленный рассудок, выживающие в любых, самых ужасных обстоятельствах! Кароль так непостоянна! Возможно, через некоторое время она устанет от Рихарда Рауха и вернется к нему? Филипп закрыл глаза. В его голове зазвучало подобие молитвы.
XV
Вернувшись в квартиру, Франсуаза застала всю команду за работой: Даниэль красил валиком стену в бледно-желтый цвет, Жан-Марк обрабатывал котел отопления серебристо-серой краской, Дани и Лоран белили дверные рамы, а Николя, стоя на стремянке, шлифовал карнизы.
— Вы заметно продвинулись! — сказала Франсуаза.
Она надела старую кофту Александра, заляпанную краской, и взялась за кисть, чтобы помочь в работе.
— Итак, — спросил Даниэль, — ты видела папу?
— Да.
— Что он сказал?
— Письмо домовладельца как будто составлено по всей форме, так что можно не беспокоиться. Но есть и другое известие: он объявил, что они с Кароль собираются разводиться!
Все замерли.
— Вот это да! — присвистнул Даниэль.
— Ну и что? Тебя это удивляет? — спросил Николя.
Даниэль пожал плечами:
— По правде говоря — не слишком! Какое у него было лицо, когда он сообщал тебе эту великую новость?
— Очень спокойное и очень холодное, — ответила Франсуаза.
— То есть ему плевать!
— Возможно, он бы так реагировал год или два года назад. Но в последнее время он, по-моему, просто не мог без нее обходиться!
— Значит, развод попросила она?
— Конечно! — кивнула Франсуаза.
Обмакнув кисть в белую краску, она нагнулась, чтобы заняться плинтусами. Жан-Марк так ничего и не сказал. Франсуаза спрашивала себя, что должен чувствовать брат, узнав об этом разрыве. Облегчение? Досаду? Или ему все равно? Теперь, когда он влюбился в Валери и даже решил жениться, Кароль должна была утратить для него всякую привлекательность.
— И что ты ему сказала? — поинтересовался Даниэль, продолжая водить валиком по стене.
— А что я могла сказать? — буркнула Франсуаза. — Я была ошарашена! Кроме того, он, кажется, хотел только одного — чтобы я поскорее убралась…
— Да, не хотела бы я оказаться на твоем месте! — воскликнула Даниэла. — Ужасная ситуация! Я одного не понимаю — позавчера, за ужином, все у них было как будто в порядке! Думаешь, они уже тогда приняли решение?
— Ну конечно! — вмешался Даниэль. — Это обычная манера поведения в нашей семье, старушка моя! Когда она отваливает?
— Не знаю, — сказала Франсуаза.
— Как странно думать, что мы ее больше не увидим, — вздохнул Даниэль, — во всяком случае, в папином доме. Вообще-то, я ее любил, несмотря на все недостатки!
— Ты прав, — вступил в разговор Николя, слезая со стремянки. — Я редко встречал таких сексуальных особ!
Франсуаза, подумав о чувствах Жан-Марка, сухо перебила его:
— Не болтай глупостей!
— Вот еще! — заворчал Николя. — Мне что, запрещено считать твою мачеху привлекательной? А еще легкой, забавной, уживчивой… И вообще…
— Кароль — олицетворение лицемерия! — закричала Франсуаза. — Она всех нас терпеть не могла!
— Значит, ты считаешь этот развод благом? — поинтересовался Даниэль.
— Естественно!
— Но ты же сама признала, что папа будет страдать!
— Поначалу! Но постепенно он поймет — это лучшее, что могло с ним случиться!
Даниэль провел валиком сверху вниз по перегородке, прищелкнул языком, выражая удовлетворение, и сказал:
— Знаешь, Франсуаза, мы должны будем чаще видеться с отцом, чтобы он не чувствовал себя совсем одиноким!
Она улыбнулась: нужно было очень плохо знать Филиппа, чтобы вообразить, что он найдет утешение в детях после того, как рухнул его брак. Николя, покончив с карнизами, потащил лестницу в соседнюю комнату. Лоран пошел следом.
— Чем вы займетесь? — спросила Франсуаза.
— Подгонкой! — ответил Николя. Вскоре она услышала, как ребята на два голоса запели «Стансы к Софи».
— Это ужасно! — пискнула Дани. — Замолчите оба!
В ответ Николя и Лоран запели еще громче. Даниэль давился смехом, но на втором куплете не выдержал и присоединился к хору.
— Соседи! — закричала Франсуаза. — Хорошенькая же репутация будет у меня в доме!
Трио убавило громкость.
Франсуазу тронуло, что братья, Дани и Лоран пришли помочь ей перекрасить квартиру. Благодаря их усилиям все будет готово к возвращению Александра. За все время своего отсутствия он прислал ей из Москвы только одну открытку с видом собора Василия Блаженного и текстом, нацарапанным шариковой ручкой: «Поездка превосходна. Слишком мало времени, чтобы все посмотреть. Очень жаль! До скорого, целую, Александр». Лаконичность стиля повергала Франсуазу в уныние. Неужели ему больше нечего ей сказать? Если бы не переезд, настроение у нее было бы еще более подавленным. Занятая обустройством, она позволяла себе думать лишь о той минуте, когда Александр переступит порог их квартиры. В этой новой обстановке они будут очень счастливы. Александр никогда не знал, что это такое — «налаженный собственный быт», и стоит ему провести несколько минут в кабинете, он не захочет оттуда уходить! С долгими вечерами работы за столиком в бистро покончено! У Николя тоже будет свой угол для работы. А она сможет печатать на машинке, не мешая остальным, да и они не будут ей докучать. Нужно будет обязательно устроить новоселье. Франсуаза уже мысленно составляла список гостей.
Ну, во-первых, ее добровольные помощники… Надо же, на рю дю Бак она когда-то сама все привела в порядок! Конечно, та квартирка была крошечной… Франсуаза обвела взглядом свои владения, отделанные в темных тонах. Прихожая, большая комната и спальня — все оттенки желтого, кабинет — желто-зеленый. Выбирая цвета, Франсуаза вспомнила совет Маду: «Не нужно думать, что так называемые насыщенные тона сделают твой дом темным. Если правильно их выбрать и оттенить то тут, то там светлой линией, получишь яркий и очень оригинальный результат». Конечно, они не профессионалы, так что краска лежит неровно, а с потолка они всего лишь смели пыль, но все эти несовершенства заметны только с очень близкого расстояния.
Дани, в старых штанах и шерстяном свитере, объявила, помахав наполовину поредевшей кистью:
— Ура! Я закончила! Краски больше нет!
Подойдя к Франсуазе, она сказала со вздохом:
— У тебя будет очень красиво!
— Да, — поддержал ее Жан-Марк. — Ты здорово сделала, что выбрала темные тона! Белая окантовка подчеркнет красоту цветовой гаммы. Ты видела, во что я превратил твой котел отопления? Это уже не нагревательный прибор, а драгоценность, украшение интерьера!
На его лбу и руках поблескивали завитушки серебряной краски. Он смеялся. Франсуаза заключила для себя, что уход Кароль нисколько его не тронул, и вздохнула с облегчением. Ее же несказанно радовала решимость Филиппа. И дело тут не в злорадстве, она всего лишь хочет вновь обрести уважение к отцу. Франсуаза верила в счастливое будущее для него, да и для всей их семьи. Не исключено, что он снова женится. С любой женщиной он будет счастливее, чем с Кароль!
Вернулись Николя и Лоран, разрисованные краской, как индейцы, вышедшие на тропу войны.
— Я бы никогда не смог расписать потолок Сикстинской капеллы, — заявил Лоран. — Слишком грязная работа!
Было уже около семи, и все переместились на кухню, чтобы отмыться и утолить жажду. Они передавали из рук в руки флакон с жидким мылом и бутылку фруктового сока; Николя и Даниэль открыли литровую бутылку красного вина и опустошали ее, чокаясь при каждой очередной рюмке. В дверь позвонили.
— Это, наверное, Жильбер, — объяснил Жан-Марк. — Я сказал, что он может зайти за мной.
Николя побежал открывать и вернулся в сопровождении хрупкого светловолосого юноши с тонким лицом, в котором были пылкость и одновременно незащищенность. Представив его, Жан-Марк сказал:
— Приди ты минут на десять пораньше — застал бы нас по уши в краске!
— Если бы я знал — пришел бы вам помогать! — отвечал Жильбер. — Возможно, еще не поздно?
— Не поздно? — с комическим возмущением переспросил Николя. — Разве не заметно, что положен последний штрих?
Франсуаза повела Жильбера по квартире, и он очень мило всем восхищался. Когда они вернулись в кухню, он вопросительно взглянул на Жан-Марка.
— Да, нам пора, — сказал тот.
Франсуаза попыталась их удержать, но они очень торопились в киноклуб, смотреть какой-то потрясающий фильм 1925 года.
Чуть позже всполошились Даниэль и Дани. Им нужно было бежать домой, потому что родители обедали в городе и не на кого было оставить Кристину. Расслабленный Лоран великодушно согласился провести вечер дома с сестрой и шурином: можно посмотреть телевизор или, на крайний случай, поиграть в покер.
Франсуаза и Николя остались одни — в тишине, среди беспорядка. Она вымыла стаканы, убрала их в шкаф. По логике вещей, думала она, следовало бы перекрасить кухню и ванную, но для этого была необходима масляная краска, а это выходило за рамки отведенного на ремонт бюджета. Она и так потратила на материалы больше 600 франков.
— На кухне будет достаточно просто отмыть стены, — сказала она.
— Да ты с ума сошла! — воскликнул Николя. — Повсюду останутся разводы! И так хорошо, этакий старинный стиль! Потом, когда видишь кухню, по контрасту понимаешь, какая гигантская работа проделана!
— Скажи лучше, что тебя лень одолела!
— Ну, не без этого! — важно согласился он.
Франсуаза приготовила на ужин яичницу с ветчиной и картофельный салат. Они сидели друг против друга за кухонным столом, среди ящиков, стопок посуды и обрывков газет. Николя съел все с юношеским аппетитом, разгрыз на десерт мятную конфетку и закурил сигарету. Он курил, раскачиваясь на стуле взад и вперед, не обращая внимания на скрипевшее сиденье. Эта мужская привычка часто раздражала Франсуазу в братьях. Что за удовольствие они все находят в этом движении? Похоже, оно напоминает им далекие времена детства, когда они скакали на своих деревянных лошадках-качалках…
— Стул, Николя! — с упреком произнесла она.
— Что — стул? Сломается — починю!
— Как и предыдущий?
— Да ладно тебе!
Франсуаза убрала со стола и вернулась в большую комнату. Рабочие оставили мебель в полном беспорядке. Чтобы понять, куда что ставить, нужно хоть как-то ее раздвинуть. Она уперлась спиной в дверь и попыталась подвинуть комод.
— Подожди! — сказал Николя. — Одна ты не сумеешь.
Они вдвоем подняли комод и внесли его в комнату. Франсуаза смотрела вблизи на плохо выбритое лицо Николя, и ей хотелось смеяться. Краска в волосах. Заштопанная рубашка. На поясе вытянутых брюк — ремень с золотыми заклепками.
— Ну и видок у тебя! — бросила она.
— На себя посмотри! — парировал Николя.
Франсуаза бросила взгляд в старинное зеркало в тяжелой раме с золоченой резьбой: волосы в беспорядке, нос блестит, старый свитер Александра висит аж до коленей.
— И правда, какой ужас!
— Да ладно, не преувеличивай! — снисходительно сказал Николя.
Он вернулся к работе с удвоенной энергией. Часом позже все было расставлено по местам. Франсуаза убрала застилавшие пол газеты, и квартира открылась их глазам в своем окончательном виде — пустом и унылом. В единственной комнате на рю дю Бак мебель создавала уют, а здесь она казалась убогой, неуместной, странной. Русский пейзаж — синее небо и золотая нива — был явно мал для проема стены между белой дверью и серебряным котлом, который призван был украсить комнату; секретер тети Маду в стиле Людовика XVI с его тонкой инкрустацией изящной бронзой терялся в пустыне желтого цвета; торшер на витой ноге с бумажным абажуром, голова негра из черного дерева, широкий диван-кровать под зеленоватым пледом — все, что на прежней квартире не бросалось в глаза, здесь оскорбляло эстетический вкус. Внезапно обстановка, к которой Франсуаза привыкла и даже успела привязаться, показалась ей хламом.
— Тебе и правда здесь нравится? — спросила она, поворачиваясь к Николя.
— Нравится? Да здесь просто потрясающе!
— Тебе не кажется, что места слишком много?
— Так это-то и здорово! Иначе зачем было переезжать?
Он переходил из комнаты в комнату, а она следовала за ним по пятам, безвольно опустив руки.
— У нас так мало мебели! Нужно втрое больше!
— Я так не считаю! Мы бы тогда не смогли свободно передвигаться по квартире!
Франсуаза улыбнулась.
— Да ты посмотри, какая у меня комната! — продолжал восхищаться Николя. — Как я могу быть недоволен, если у меня теперь своя собственная комната?! — С потолка свисала голая лампочка без плафона, балка в углу пострадала от мышиных зубов, матрас был плоским, как блин, ночным столиком служил ящик, и все это показалось Франсуазе совсем уж нищенским… К тому же Николя выкрасил стены своей комнаты в бутылочно-зеленый цвет.
— Знаешь, — сказала Франсуаза, — тон не слишком веселый!
— Обожаю зеленые просторы! — смеясь, ответил Николя.
На окнах не было занавесок, впрочем, их не было во всех комнатах: старые оказались коротки, а когда появятся деньги на новые, неизвестно. Франсуаза решила закрыть ставни — они были железными, петли проржавели и скрипели, на руки сыпалась труха. Франсуаза потянула сильнее, уколола палец и вскрикнула.
— Оставь, я сам сделаю! — сказал Николя.
Франсуаза отправилась в кабинет Александра, где обстановка показалась ей такой же бедной и унылой. Как ужасно, что книги пришлось расставить на металлическом стеллаже, а письменным столом служит обычный стол светлого дерева, покрытый морилкой! Палец болел все сильнее. У нее ослабли ноги. Подошедший Николя увидел, как она, качая головой, бормочет:
— Ох, я в отчаянии!
— Почему? — спросил он.
— Не знаю…
— Из-за того, что Александр загулял? Он будет потрясен, когда увидит все это!
— Ты думаешь? — обрадованная Франсуаза одарила его сияющим взглядом.
Не отвечая, Николя потянулся, взмахнул руками влево, потом вправо, прищелкнул пальцами, начал раскачиваться, как будто подчиняясь звукам внутреннего тамтама.
— Одевайся! — скомандовал он. — Я поведу тебя в одно суперзаведение!
— Нет, — ответила Франсуаза.
— С чего это вдруг? Ты не хочешь идти именно со мной?
— Вовсе нет!
— Значит, ты не любишь танцевать?
— Пусть будет так!
— Это потому, что ты танцевала только с бездарями! А я танцую божественно!
— Я знаю.
Николя положил ей руку на плечо.
— Послушай, Франсуаза, оторвись ты от этой мебели и от стен! Не хочешь танцевать — ладно! Пойдем в кино! На Елисейских полях идет потрясающий вестерн! Я тебя приглашаю.
— На Елисейских полях? — переспросила она. — Это дорого!
— А я при деньгах! Смотри!
Он вытащил из кармана купюру в 50 франков, смял ее, пошуршал перед носом Франсуазы.
— Откуда это? — удивилась она.
— Заработал — в поте лица своего, продал вчера свою морду для рекламных фотографий. Торговцам виноградным соком. Красота, здоровье, процветание… И это только начало… На следующей неделе буду позировать для фоторомана. За это здорово платят! Они заметили меня у Клебера Бодри. Говорят, у меня тип юного романтического героя-любовника! Я буду на всех обложках «Нежного взгляда»!
— Ты не сделаешь этого, Николя! — встревоженно воскликнула Франсуаза.
— А почему нет?
Она посмотрела ему прямо в глаза.
— Это… это недостойно тебя.
Наступило молчание.
— Недостойно? — тихо переспросил Николя.
Лицо его стало серьезным. Глаза потемнели, взгляд устремился внутрь себя. Наконец он сказал:
— Ну так что, идем в кино?
Она согласилась. Они разбежались по комнатам, чтобы переодеться. Франсуаза успела первой.
— Что ты там копаешься? — крикнула она Николя через дверь.
— Сейчас! Сейчас! — ответил он протяжным голосом.
Дверь открылась, и на пороге возникла картинка из журнала мод: рубашка в тонюсенькую полоску, бархатные брюки и пиджак, сапожки с пряжками.
— Какой ты шикарный! — сказала она.
— Да брось, ты же видела этот костюм, — пробормотал Николя небрежным тоном. — Я купил его у приятеля.
Он придирчиво оглядел Франсуазу. Она покружилась, демонстрируя свое голубое платье с вертикальными мережками. Николя молчал, взгляд был критичным. Наконец он сказал:
— Почему ты не надела шотландскую юбку и свитер баклажанного цвета?
— Тебе не нравится?
— Нравится, успокойся, но в том наряде ты выглядишь просто шикарно!
— Хорошо, хорошо! Раз уж тебе так хочется.
Франсуаза вернулась в свою комнату, переоделась, и Николя шумно отреагировал:
— Вот это класс! Знаешь, если бы ты не была женой Александра, я бы за тобой приударил!
— Хорош бы ты был! — отвечала Франсуаза, смеясь. — Кстати, ты не в моем вкусе!
Закрывая за собой дверь квартиры, Франсуаза испытала странное чувство — она была сейчас собственницей, свободной и почтенной. Правда, ощущение это мгновенно рассеялось, как только Николя потащил ее за собой вниз по лестнице, вопя во все горло:
— Давай, погнали, а то все пропустим!
На улице они немедленно попали под ливень и бежали всю дорогу до станции метро «Буассьер». Поезд подошел в тот самый момент, когда они преодолели турникет. В вагоне задохнувшаяся Франсуаза без сил плюхнулась на сиденье. Николя стоял рядом, дыша полной грудью и улыбаясь.
Когда они вышли наверх на Елисейских полях, дождь все еще шел. К дверям кинотеатра тянулась очередь черных трепещущих зонтов. Последний сеанс должен был начаться через десять минут. Франсуаза и Николя терпеливо стояли в очереди; он придвинулся поближе к ней, снял плащ, поднял над их головами.
— Ты быстро бегаешь! — похвалил он. — Никогда бы не подумал!
— Почему?
— Ну… у тебя вид не такой… Эй, посмотри-ка! У тех, кто выходит, выражение на лицах странноватое! Может, фильм плохой? Спросим?
— Все равно уже поздно идти в другое место, — возразила Франсуаза.
Дождь пошел сильнее.
— Если я стану знаменитым артистом, нам больше не придется стоять в очереди, — заявил Николя.
Франсуаза хотела ответить шуткой, но напомнила себе, что в артистическом мире самые великие удачи — самые непредсказуемые, и промолчала. Николя на первой строчке афиши, Николя, добивающийся одной победы за другой, Николя, диктующий моду молодым почитателям… Почему бы и нет? Очередь двинулась. Люди шлепали по лужам, какой-то парень, стоявший чуть впереди, все время оглядывался на Франсуазу. Николя небрежно махнул ему рукой.
— Это Камюзо, — пояснил он, — приятель по курсам. Любопытный, как крыса. Он явно на тебя запал. Завтра наверняка спросит, давно ли мы вместе. Когда я скажу, что ты — моя мачеха, он ни за что не поверит! Стоит поспорить, честное слово!..
Бородатые ясноглазые первопроходцы спешивались на ночлег у подножия скалистого пика. Под котелком вспыхнуло пламя, тихонько забренчала гитара, и Николя повернул голову к Франсуазе, которая завороженно смотрела на экран. В рассеянном свете кинопроектора она показалась ему красивее и загадочнее, чем обычно. Николя прежде не замечал строгой чистоты ее профиля. Возможно, он впервые смотрит на нее глазами мужчины? Отсутствие Александра сблизило их, Николя казалось, что они теперь пара. Он вспомнил слова отца: «Чтобы по-настоящему оценить Франсуазу, нужно узнать ее очень близко… Самые благоразумные с виду женщины могут, как никто другой, удивить в интимной близости…» Накануне отъезда в Москву Александр сказал Николя еще одну вещь: «Доверяю тебе Франсуазу!» Но глаза говорили совсем иное: «Я отдаю ее тебе!» Николя был уверен, что не ошибся! Если бы это случилось, Александру было бы плевать. Казалось, такая позиция отца должна была придать Николя дерзости, но он чувствовал одну только неловкость. Он осторожно положил правую руку на спинку соседнего кресла, двинул ладонь к плечу Франсуазы. Захваченная зрелищем, она не шевельнулась. Совсем рядом с пальцами, висевшими в пустоте, он чувствовал тепло незнакомой плоти. Но не смел сделать следующий шаг. Он сказал себе, что, даже не будь она женой Александра, он вряд ли стал бы продолжать. Такую женщину, как Франсуаза, не затаскивают в постель, чтобы приятно провести время, — с такой, как она, строят жизнь. Возможно, это единственный человек в мире, чье уважение ему необходимо. При одной лишь мысли, что он может смутить ее, обидеть, Николя испытал отчаянный страх. Он способен на любую пакость, но только не на это! Франсуаза, не подозревая о внутренних муках своего спутника, смотрела на экран. Один из первопроходцев, с винтовкой за спиной, сторожил под луной сон своих товарищей. Ничто не предвещало приближения индейцев, которые, подобно земляным червям, карабкались в темноте по склону. Николя медленно убрал руку. Часовой упал с перерезанным горлом. Другие открыли огонь по нападавшим. Жестокая картина схватки избавила Николя от тоскливой тревоги. Для него опасность миновала. Он отодвинулся.
— Великолепно! — сказала Франсуаза. — Как это им удается?.. Смотри!..
Она с волнением сжала руку Николя. Он ответил на пожатие — но нежно, открыто, безо всякой задней мысли.
До самого конца сеанса Николя пребывал в счастливом ощущении их подлинной дружбы.
XVI
Вдохновленные хорошей погодой, гости, выйдя из дома, рассеялись по парку. Между деревьями, под тентами в белую и кремовую полоску, было устроено три буфета. Повсюду в каменных вазах стояли яркие букеты цветов, гармонировавшие с цветниками и клумбами. На густой зелени лужаек мелькали силуэты женщин в светлых туалетах, блестящих и свободных, похожих на паруса яхт на регате.
Франсуаза и Николя продвигались к самой большой группе приглашенных, откуда доносились громкие возгласы и взрывы смеха. Жан-Марк и Валери стояли в центре оживленной толпы, и Франсуаза, мгновенно угадав в лице брата фальшивую веселость и светскую любезность, расстроилась. А вот Валери выглядела совершенно довольной и спокойной — ничто в ее лице не выдавало юную девушку, взволнованную своим счастьем и гордую тем, что об этом сию минуту узнают окружающие. По всей видимости, Валери считала верхом утонченности вести себя с друзьями так, как если бы она собрала их вовсе не по поводу своей помолвки. «Как ей не хватает истинной, благородной простоты!» — думала Франсуаза, целуя ее. Она прошептала Валери на ухо:
— Поздравляю тебя! Я так рада за вас обоих!
Но Валери сделала вид, что не услышала теплых слов, — она наверняка находила эмоции Франсуазы неуместными. Она протянула руку Николя, и тот сказал, обводя круговым движением руки сад:
— Какая роскошь!
— Да, — кивнула Валери, — нам повезло: погода на нашей стороне!
Отводя взгляд от Николя, она вдруг воскликнула:
— О, Нэнси, darling[22]! Как мило, что ты пришла!..
На Валери было очень строгое серо-голубое платье с отложным воротником и букетиком черно-белых цветов на поясе. Этот полутраурный туалет, более чем странный, учитывая повод, по которому его надели, свидетельствовал о вечной жажде Валери удивлять. Франсуаза подошла к Жан-Марку. Он сжал ее в объятиях, отвел в сторону и спросил:
— Ты одна? Без Александра?
— Одна… — неохотно кивнула она.
— Но он вернулся из поездки?
— Пока нет.
— Мне казалось, ты ждала его обратно в понедельник вечером?
— Он написал, что, очевидно, задержится на некоторое время…
— И когда он приезжает?
— Скорее всего, дней через пять…
Франсуаза с трудом выдерживала этот допрос. Еще чуть-чуть — и она признается брату, что по-прежнему не имеет никаких известий от Александра и уже просто умирает от беспокойства. Он уехал больше трех недель назад! Она даже не знает, где он остановился в Москве. Если завтра письмо не придет, она отправится в издательство «Шевалье-Виньяр» и постарается хоть что-нибудь выяснить. Там должны знать, где Александр, чем он занимается, когда собирается вернуться в Париж… Она вдруг вспомнила, как в прошлом году Александр отказался прийти на свадьбу Даниэля, а потом внезапно, когда никто уже не ждал его, появился в гостиной Совло. Может быть, он и сегодня неожиданно возникнет в конце аллеи? Нелепая надежда заставила ее повернуть голову: месье де Шарнере, в окружении нескольких гостей, направлялся к будущему зятю.
Жан-Марк сделал три шага им навстречу. Франсуаза отстала. Она наблюдала, как ее брат беседует с этими почтенными во всех отношениях господами. Какое-то время Жан-Марк плыл по воле волн, а вот теперь обретает наконец твердую почву под ногами: семью, положение в обществе, связи… Чего еще желать? Нужно было обладать недюжинной силой характера, чтобы искать свою судьбу вдалеке от проторенных путей. Многие из тех, кто заявляет о своем презрении к материальным благам, возводят идеал бедности на пьедестал только потому, что ищут извинений собственной лени или несостоятельности! А она сама? Заявляя, что порвала со своей средой и привычками, действительно ли она рада, что повернулась ко всему этому спиной? Накануне Франсуаза говорила по телефону с Маду о помолвке Жан-Марка. Они дружно признали, что женитьба сулит Жан-Марку много выгод и преимуществ, что это более чем разумный шаг. Так почему же Франсуазе так грустно сегодня? Почему она чувствует глухое раздражение и досаду, глядя, как он, похожий на молодого босса, общается с этими людьми, изображая готовность прийти им на смену?
Обрывки фраз доносились до ее слуха:
— Чем вы намерены заниматься после защиты диплома?.. A-а! Вы совершенно правы, что не собираетесь работать в суде!.. Слишком сильная конкуренция… Это вопрос темперамента… Увлекательно…
Франсуаза ужасно жалела, что Маду застряла в Туке из-за ангины. Какой охрипший голос был у нее по телефону: «Ужасно глупо! Я приеду на будущей неделе… Поцелуй их за меня!» Как много могли бы они сказать друг другу, окажись Мадлен сейчас здесь! Правда, в этом случае пришлось бы признаться в тревоге за Александра… Маду не обманешь! Она мгновенно почувствовала бы душевное смятение племянницы, а Франсуаза хотела сохранить свой секрет. Из гордости, а еще потому, что была слишком хорошо воспитана и наделена целомудрием души.
— Выпьешь что-нибудь? — спросил Николя.
Он подвел ее к ближайшему буфету и заказал бокал шампанского для Франсуазы и виски для себя. Солнечные блики и тени играли на одежде гостей. То и дело люди узнавали друг друга в толпе, слышались возгласы, восклицания с полным ртом: «Добрый день! Как поживаете?» — и улыбка тонула в жевательных движениях. Гора сандвичей и пирожных на тарелках таяла со сказочной быстротой. У официантов был ошалевший вид, но они приободрились, заметив в саду мадам де Шарнере, которая с милой улыбкой на лице инспектировала свое царство. Месье де Шарнере присоединился к жене; они подошли к Франсуазе, обменялись несколькими светски-пустыми фразами:
— В Париже вышло бы совершенно иначе! — сказала хозяйка дома. — Но все висело на волоске! Если бы пошел дождь, все было бы кончено!
К ней подошли друзья, и она исчезла, оставляя за собой шлейф недоговоренных слов.
— Пойдем к другому буфету! — позвал Николя. — Здесь одни только старики!
Даниэль и Дани преградили им путь:
— Мы вас повсюду искали!
— А мы только что пришли, — объяснил Николя. — Здорово, да?
— Конечно, — согласился Даниэль, — вот только я в ярости из-за того, что папа не явился!
— Он не был и на твоей свадьбе, — напомнила Франсуаза, — неужели ты полагал, что он отступит от своих привычек ради помолвки Жан-Марка, которого даже отказывается пускать в дом?
— Ты права, конечно, права! Здесь мама с Ивом!..
— Где они?
— Там, возле дома…
— Пойдем?
— Куда торопиться? — спросил Николя. — Я зверски хочу выпить!
И он потянул их в сторону второго буфета, который осаждала еще более плотная толпа. В тот момент, когда они пробирались к столу, к ним присоединился Жан-Марк.
— Уф! — воскликнул он. — Я оставил Валери с шайкой зануд, у нее выдержки побольше. Что вы пьете? Замечу, что шампанское — первоклассное. Мой будущий тесть — личный друг производителя.
Все тут же решили выпить шампанского, кроме Николя, который желал «продолжить» с виски. Франсуаза подняла бокал, вгляделась в лицо брата. Он смущенно улыбнулся, словно просил прощения за собственную удачу. Ей показалось, что Жан-Марк незаметно отдаляется от нее, падает в легковесный мир богатых снобов, где она никогда его не достигнет.
— А как же я? Мне ты ничего не нальешь?
Никто не заметил, как она подошла. Валери стояла, высоко задрав подбородок, ее маленькая гордая головка выглядела сегодня еще более заносчивой на длинной стройной шее.
— Кстати, я звонила подрядчику сегодня утром, — сказала она. — Он поклялся, что квартира будет готова к концу июня.
— Тем лучше, тем лучше, — буркнул Жан-Марк.
— Где вы поселитесь? — спросила Франсуаза.
— На авеню Бюжо, — ответила Валери. — Папа нашел нам фантастическую квартиру на последнем этаже, с террасой. Кстати, это совсем недалеко от вас! Жан-Марк говорил, что ты прелестно все устроила после переезда!
Франсуаза растерянно посмотрела на брата, перевела взгляд на Валери и сказала:
— Да нет, мы всего лишь покрасили стены!
— У меня тоже все будет предельно просто, — кивнула Валери, — я склоняюсь к горизонтальному решению…
Дани слушала, приоткрыв от удивления рот. Даниэль с тревогой смотрел на жену, словно опасался, как бы она, поддавшись всеобщему безумию, не заболела манией величия.
— Я бы очень хотела взглянуть, что у тебя получилось, Франсуаза! — попросила Валери.
— Как только Александр вернется, мы соберем у себя близких друзей, — быстро ответила Франсуаза.
Она сделала глоток шампанского, и тысячи маленьких иголочек обожгли ей язык. Щеки у нее горели. Ей казалось, что все окружающие читают в ее сердце и жалеют ее. К счастью, Валери, издав радостный возглас, уже бежала навстречу новым гостям:
— Зизи! Мари-Элен!
Она пылко расцеловала — щека к щеке, чмок-чмок в сторону! — двух клоунесс с обесцвеченными волосами и черными, торчащими, как щетина сапожной щетки, ресницами. Школьные подружки или курортные приятельницы, утерянные и вот теперь счастливо обретенные! «Решено, мы больше не расстанемся!» Представляя Жан-Марка, Валери старательно удерживалась, чтобы не произнести: «Мой жених», чем снова вызвала у Франсуазы раздражение. Голоса звучали все выше, Зизи и Мари-Элен все видели — пьесы, фильмы, балеты, выставки картин, показы высокой моды — и числились в числе избранных зрителей. Даже Валери плелась в хвосте этих специалисток по парижскому искусству. А вот Николя, нисколько не смущенный, бодро подавал реплики. Франсуаза изумленно слушала, как он упоминает знаменитых актеров, запросто называя их по именам, как критикует пьесу, о которой всего лишь прочел рецензию в газете. Костюм королевского синего цвета он одолжил на один день у товарища по студии, туфли с пряжками давно требовали новых набоек, но Николя плевать хотел на все эти мелочи, он сиял, размахивая рукой с зажатым в ней стаканом виски.
— Не согласен… У Жозефа Бендена постановка убивает текст… Это немецкое влияние…
«Он плетет первое, что приходит в голову!» — подумала Франсуаза. Внезапно она заметила, что Жан-Марк ищет кого-то взглядом поверх голов присутствующих.
— Извините! — перебила Николя Зизи. — Возможно, в своих первых постановках Жозеф Бенден действительно… Но здесь… Вы видели последний спектакль?
— Конечно! — с вызовом ответил Николя.
— И остаетесь при своем мнении?
— О да!
— Ну, тогда я не понимаю…
— О, Жильбер, наконец-то, старина! — воскликнула Валери.
Жильбер с вежливой улыбкой на спокойном лице пожал всем руки, взял бокал шампанского. Тайком наблюдавшая за ним Франсуаза нашла его растерянным и несчастным.
— Ну, так что там с твоей машиной? — спросил Жан-Марк, подходя к Жильберу.
— Дело в шляпе! — ответил тот. — Получил сегодня утром!
— Ты на ней приехал?
Жильбер пожал плечами:
— Ты же прекрасно знаешь, что это невозможно, я провалил экзамен на права. Так что пришлось оставить ее в гараже.
— Хочется на нее взглянуть, хотя бы в гараже!
— Это легко осуществить.
— Красивая?
— Вполне ничего.
— Давай завтра, или нет — послезавтра. В общем, я тебе позвоню.
— Договорились.
— А какая марка? — вклинился в разговор Николя, бросая дамское общество ради мужского разговора о механике.
— «Моррис».
— Потрясающе, старик! Четыре скорости, три синхронизированы? Сто семьдесят пять километров в час?..
— В рекламном проспекте так и написано.
Разговор был прерван громоподобным смехом — к ним возвращался месье де Шарнере в компании пожилой пары, не знакомой Франсуазе. Последовали поцелуи, поздравления, комплименты — это были бабушка и дедушка Жильбера. Толпа вокруг Валери росла — прибывали все новые и новые гости. Утомленная мельканием приторно-любезных лиц, Франсуаза отошла от буфета. Жан-Марк и Жильбер тоже отделились от общей массы гостей и остановились в нескольких шагах от нее, рядом с большой каменной вазой, украшенной цветами.
— Ну вот, — начал разговор Жильбер, — я желаю тебе счастья. Пока, старик.
— Ты уже уходишь? — удивился Жан-Марк.
— А что мне здесь делать?
— Ну, не знаю… То же, что и всем остальным…
— Я — не остальные! — Жильбер непримиримо взглянул прямо в глаза Жан-Марку.
И он пошел прочь нервной походкой, избегая рассеявшихся по аллеям гостей. Жан-Марк долго следил за ним взглядом. Заметив, что Франсуаза стала свидетелем этой сценки, он подошел к ней и сказал:
— Он хандрит, потому что не сдал экзамен на права! Еще один бокал шампанского?
— Нет, спасибо.
— Ты ничего не пьешь, ничего не ешь…
Жан-Марк говорил лениво, как если бы хотел просто убить время. Франсуаза подумала о песке, осыпающемся в яму.
— Ты действительно счастлив, Жан-Марк? — спросила внезапно она.
Он засмеялся.
— А что, не похоже?
— Да не в том дело…
Наступила тишина. Через мгновение Жан-Марк сказал:
— Прости меня, Франсуаза, пришел месье Дюпуйи… Он компаньон моего будущего тестя…
И Жан-Марк — сама любезность! — пошел навстречу лысому толстяку с орденом Почетного легиона на лацкане пиджака. Почти все присутствовавшие на приеме пожилые мужчины носили в петлице ленточку или розетку. Франсуазе показалось, что она читает азбуку Морзе: точка, тире, точка, точка, тире… Что за телеграфное послание записано на отворотах их лацканов? Она улыбнулась. Над ее головой щебетали птицы, потом вдруг замолчали, напуганные гомоном человеческих голосов. Лаборатории фармацевтической продукции Шарнере-Дюпуйи: состояние, сделанное на каплях, порошках и свечах. Будь Александр здесь, уж он бы посмеялся!
— Привет, моя девочка!
Франсуаза вздрогнула, при виде матери у нее сжалось сердце: та, как всегда, была одета слишком легкомысленно для своего возраста и шла по аллее, виляя бедрами так, что юбка колыхалась из стороны в сторону, открывая коленки.
— Где Жан-Марк?
— Только что был здесь, — ответила Франсуаза.
— Мне почти не удалось с ним пообщаться… А что его малышка невеста?
«Малышка невеста» тоже исчезла. Взяв дочь под руку, Люси увлекла ее к скамейке.
— Послушай, — Люси начала разговор доверительным шепотом: — То, что происходит с твоим отцом, просто ужасно! И так глупо!
— О чем ты, мама?
— Говорят, он разводится!
— Да.
— Она уходит или?..
— Она.
— Бедный Филипп! — вздохнула Люси, и это прозвучало двусмысленно. — Ему так не везет! Он не пришел из-за того, что я здесь?
Франсуаза сочла за лучшее солгать:
— Конечно, нет, мама, он в деловой поездке.
— Опять! А как твои дела?
— Все хорошо.
— Мы нечасто видимся!
— Александр так занят! Как только он вернется из СССР…
Люси приблизила свое слишком сильно накрашенное лицо к лицу дочери, бросила на нее нежно-значительный взгляд сообщницы и просюсюкала:
— Ну, а кроме этого… ничего… у вас ничего нет в планах?
— Нет, мама.
— Александр не хочет или ты сомневаешься?..
— Мы… мы оба, — ответила Франсуаза, краснея.
— Так вот, вы не правы! — торжественно заключила Люси. — Ничто другое не способно внести настоящую гармонию в брак. Взгляни на нас с Ивом…
— Александр — не Ив!
— Все мужчины кое в чем похожи. Мало кто из них женится, мечтая стать отцом. Мы, женщины, должны привить им желание иметь ребенка…
Эта «кухонная» лекция о секретах семейного счастья выводила Франсуазу из равновесия. Ох уж эти рецепты кумушек о том, как облапошить самца и заарканить его! Она никогда не станет одной из тех женушек, которые мило жеманничают с мужьями и плетут козни у них за спиной! Почему у нее горит лицо, почему так трудно дышать? Никто не имеет права вмешиваться в ее личную жизнь — никто, даже мать! Франсуаза с трудом сдерживала гнев, ее трясло, к глазам подступили слезы.
— Я забочусь о твоих интересах, моя милая… Ненормально, что… Я знаю, ты еще очень молода… И тем не менее…
Франсуаза вспомнила, как несколько месяцев назад мать, рыдая у нее на плече, лепетала, что Ив вот-вот ее бросит и она останется одна со своей «малышкой». Правду говорят, что женщинам не страшны любовные потрясения! Какая сила кроется в их хрупких телесных оболочках! Та, что еще вчера приходила в отчаяние и умоляла всех дать ей совет, сегодня уже сама учит счастью молодых супругов.
Облака набежали на солнце. Ветер раскачивал листву деревьев. Полотно шатра в белую и зеленую полоску мягко колыхалось. Внезапно резко похолодало.
— Ничего не бойтесь! Дождя не будет! — успокаивала окружающих госпожа де Шарнере.
Но женщины уже торопились мелкими шажками к светлому дому под черепичной крышей. Люси встала, зябко передернув плечами.
— Нам будет уютнее внутри. Ты идешь?
— Сейчас, мама, — ответила Франсуаза.
Люси ушла, успев мимоходом осведомиться у Даниэля и Дани:
— А как там моя маленькая Кристина? У меня к ней слабость, вы ведь знаете!
Избавившись от матери, Франсуаза вздохнула полной грудью. К ней подошел официант с подносом. Франсуаза машинально взяла бокал. Внезапно она заметила в поредевшей толпе гостей знакомое лицо: Дидье Коплен. Он смотрел в ее сторону, как будто искал глазами спасательный буй. Она улыбнулась ему издалека, и он тут же подошел.
— Как приятно вас видеть! — сказал он. — Понимаете, я почти никого здесь не знаю!
— Да и я тоже! — ответила Франсуаза.
— Ну, все-таки вы…
— Нет, правда, на двоих друзей Жан-Марка здесь приходится человек тридцать знакомых Шарнере.
Дидье задумчиво посмотрел на Франсуазу через стекла своих очков.
— Вас это расстраивает?
— Вовсе нет! Я просто констатирую…
— И сожалеете!
— Да нет же!
— Ладно, а я признаюсь: мне слегка грустно.
— Почему?
— Женатый друг — потерянный друг.
— Но не Жан-Марк!
— Особенно Жан-Марк! Он замечательный, но такой уязвимый! Кстати, и вы тоже… С тех пор как вы вышли замуж, мы совершенно перестали встречаться!
— Потому что я уязвима?
— Или потому, что вы счастливы!
Дидье улыбался неуклюжей улыбкой, у него было круглое серьезное лицо, волосы в беспорядке падали на слишком высокий лоб. Франсуазе он показался неловким, симпатичным и слегка дерзким. На аллее появился Николя. Франсуаза помахала ему рукой.
— Что ты там делаешь в гордом одиночестве? Иди к нам!
— У всех этих людей тот еще видок! Смотрю на них и потешаюсь, как в театре!
На руку Франсуазе упала капля дождя. Серебряные всполохи метались по газону. Гравий шуршал и поскрипывал. Официанты закрывали скатертями буфеты. Франсуаза, Николя и Дидье побежали к круглому павильону, окруженному живой изгородью из бирючины. Со всех сторон бежали съежившиеся от дождя гости. Мокрые, задохнувшиеся, смеющиеся люди собирались в большой гостиной, где едва можно было повернуться. Шум голосов, поднимавшийся к украшенному золоченой лепниной потолку, становился оглушительным.
Дидье выскользнул из толпы. Франсуаза поискала его глазами, не нашла и повернулась к Николя, который поправлял узел галстука перед старинным зеркалом.
— Это всего лишь короткий весенний ливень! — объявила госпожа де Шарнере.
Несмотря на ее заверения, кое-кто из гостей собрался уходить.
— Поедем? — спросила Франсуаза.
— Да, — кивнул Николя. — У меня занятия в восемь вечера. Пойдешь со мной?
Франсуаза никогда не была на занятиях Клебера Бодри, но перспектива провести вечер в одиночестве в огромной квартире перед пишущей машинкой показалась внезапно ужасной.
— С удовольствием, — ответила она.
Николя искал среди записей в блокноте удобный поезд в Париж. Люси и Ив Мерсье покинули салон — они должны были ехать домой, потому что не хотели оставлять маленькую Анжелику одну вечером. Если кто-нибудь хочет поехать с ними на машине… Франсуаза и Николя согласились. Им понадобилось целых десять минут, чтобы найти чету Шарнере, Валери и Жан-Марка, чтобы поблагодарить и проститься.
— Это глупо! Потом будет ужин для самых близких! Останьтесь!
Франсуаза не уступила умоляющему взгляду брата.
В машине, по дороге в Париж, она пожалела, что не уехала раньше поездом. Ив Мерсье вел свой «рено» как спортивный болид на ралли, нахально сигналя даже более мощным машинам, чтобы ему уступили дорогу, и обгонял их дверца к дверце. На каждом повороте машину заносило. Сидевшая рядом с мужем Люси без умолку, на самых высоких нотах, высказывала свое мнение:
— Ты посмотри вон на того, не хочет уступать! Тянется, а занял ведь левый ряд! Он увеличивает скорость — увидел, что ты поехал быстрее! Вот где проявляется натура человека! Ты можешь его обогнать! Давай! Ну давай же!
Как только Мерсье обгонял очередного «соперника», Люси оборачивалась, чтобы наградить его презрительным взглядом. Сидя на заднем сиденье, Франсуаза страдала от стыда и страха. Ей казалось, что годы жизни с Ивом Мерсье сделали ее мать еще вульгарнее и глупее. Она украдкой взглянула на Николя: он смотрел на дорогу, безразличный к тому, что делается и говорится вокруг него. Дождь хлестал по стеклам. Дворники без устали разгоняли воду.
— Ну вот! — вздохнула Люси. — Последний мой ребенок женится!
— Ты забыла про Анжелику, мама! — сухо заметила Франсуаза.
И тут же пожалела, что не сдержала злости. К счастью, Люси не почувствовала укола.
— И правда! — согласилась она. — Со мной остается бедный мой котеночек! Правда, если жизнь будет идти такими темпами, она может в пятнадцать лет захотеть выйти замуж за четырнадцатилетнего ученика колледжа.
— Не беспокойся, — снисходительно бросил ей Ив Мерсье. — У меня такой номер не пройдет!
— Да уж, да уж! На словах ты герой! Но стоит ей улыбнуться тебе, и ты таешь! Не отвлекайся, дорогой, там какой-то сумасшедший намерен тебя обогнать!
Ив Мерсье вдавил в пол педаль газа, выехал на середину дороги и сказал:
— Он подождет! Как и все остальные!
Он смеялся, гордо отведя назад плечи и глядя прямо перед собой.
— В любом случае, я очень счастлива за моего Жан-Марка, — продолжила Люси. — Валери очаровательна, и Шарнере как будто очень к нему расположены. Какой красивый у них дом! Иметь что-то подобное в сорока километрах от Парижа — мечта каждой женщины!..
«В таком случае, должно быть, я не женщина!» — подумала Франсуаза, сжимая руки в кулаки. Дождь почти прекратился. Из тумана выплывали серые дома. Грязный, мокрый, извилистый Париж проглотил поток машин.
— Где вас высадить? — спросил Ив Мерсье.
Студия Клебера Бодри находилась недалеко от площади Перейры, но Франсуаза, чье терпение истощилось, попросила остановить машину у Ворот де ла Шапель. Она готова была продолжить путь на метро — только бы не слушать рассуждения матери. Стоя рядом с Николя на тротуаре, она смотрела вслед сорвавшейся с места машине.
— Я представлял себе твою мать иначе, — сказал Николя. — Ты на нее совершенно не похожа! — Помолчав, он добавил очень серьезно: — А вот машину твой отчим водит хуже некуда!
Сидя на стуле в глубине зала среди десятка зрителей, Франсуаза скучала. Юноши и девушки, игравшие перед разношерстной публикой, были банальны до невозможности. В их устах Мюссе, Мариво, Расин и Бомарше превращались в пресную кашу. Машинисточки, голодные студенты, праздные «папины» дочки, служащие из крупных магазинов… Неужели они всерьез надеются выйти однажды на подмостки сцены? Франсуазе казалось, что она на их месте давным-давно бросила бы занятия в студии. Но чем больше критиковал и высмеивал их Клебер Бодри, тем сильнее им хотелось преуспеть. Сидя на полу среди товарищей по студии, Николя ждал своей очереди. Франсуаза даже со спины угадывала его напряженное внимание и неуверенность. Его скудный репертуар ограничивался отрывком из «С любовью не шутят», который они с Алисией репетировали сотни раз. Франсуаза запаслась терпением, чтобы выслушать этот текст в сто первый раз, но внезапно Клебер Бодри распрямился во весь свой небольшой рост, откинул назад гриву желто-серебряных волос и объявил, что прослушивание классических отрывков на сегодня окончено и сейчас все займутся «психодрамой». При этих словах по аудитории прокатилась волна невольного облегчения и радости. Николя подошел к Франсуазе и объяснил ей, что, заставляя своих учеников импровизировать драматические диалоги на заданную тему, мэтр учит их «выворачивать кишки».
— Это упражнение называется «Истина», понимаешь? — спросил он. — Не думаю, что до меня дойдет очередь…
Он снова сел на свое место, подложив под себя ноги, рядом с Алисией, нервно расчесывавшей волосы.
По команде Клебера Бодри юноша и девушка вышли в центр круга и начали осыпать друг друга оскорблениями, изображая сцену супружеской ссоры. Они подыскивали слова, вздыхали, размахивали руками. Наконец они остановились, поскольку вдохновение иссякло. Сменившая их пара проявила не больше оригинальности, разыгрывая отъезд человека на опасную автомобильную гонку.
Франсуаза смотрела на этих незнакомцев, двигавшихся в круге света, и спрашивала себя, что она делает здесь, в этой бедной студии с голыми стенами и огромным окном. Лучше ей было пойти домой и поработать… Она должна каждый день печатать двойную норму, если хочет освободиться к приезду Александра. Она попыталась представить его себе в далекой незнакомой стране; в мозгу вперемешку мелькали виды со старых почтовых открыток и кадры из документальных фильмов: разрушенные дворцы, церкви с разноцветными куполами, бескрайние степи, многолюдные улицы, тройки на снегу, ораторы, зажигающие толпу, военные парады на Красной площади… И посреди всей этой круговерти — Александр… Вот он идет, с кем-то спорит, счастливый оттого, что вернулся к своим. Он ел все русское, пил по-русски, думал по-русски, у него были русские мечты и русские сны…
Неузнаваемо изменившийся голос Николя вывел ее из задумчивости: по заданию Клебера Бодри он должен был признаваться жене, что проиграл все деньги, которые они отложили на отпуск. Жену изображала Алисия — застывшая в воображаемом гневе, с пустым взглядом и прилипшими ко лбу волосами.
— Это ужасно! — лепетал Николя. — У нас нет ни су! По моей вине!
— Боже мой! — восклицала Алисия. — Но как же ты мог?
Николя, бессильно разведя руки, пробурчал:
— Как я мог! Как я мог!..
Маленький круглый прожектор освещал их сбоку. Всем было совершенно очевидно, что артисты не знают, как завершить «психодраму».
Лицо Николя было расстроенным. Катастрофа. Все кончено. У Франсуазы сжалось сердце. Клебер Бодри уже поднял руку, чтобы остановить этюд, но тут Николя, движимый внезапным озарением, снова заговорил:
— Когда тебя захватывает этот вихрь, сопротивляться невозможно! — воскликнул он. — Клянусь, когда я пришел в казино, то был холоднее льда и тверже мрамора! Я просчитал все риски, записал все комбинации!..
Увлеченный собственным рассказом, Николя выдумывал события и сразу же переживал их. Лицо его искажалось от боли и угрызений совести, в глазах блестели настоящие слезы. Напрасно Франсуаза говорила себе, что это обычное актерское упражнение, — то, как легко Николя изображал печаль, любовь и раскаяние, заставляло ее задаваться вопросом, бывает ли он искренен в обычной жизни. Франсуаза была удивлена, она чувствовала грусть, ей было почти стыдно за Николя. Он заикался, стоя на коленях перед Алисией:
— Прости меня! Я больше никогда не буду играть! Я негодяй! Последний из мерзавцев!..
— Стоп! — скомандовал Клебер Бодри.
Николя поднялся, отряхнул пыль с коленей и улыбнулся в ожидании приговора.
— Неплохо, — продолжил Клебер Бодри, кладя руку ему на плечо. — Если бы ты вдвое сбавил обороты, было бы просто прекрасно. Необходима более тонкая внутренняя игра. Та же страстность, но более сдержанная, отфильтрованная. Понимаешь?
Николя кивнул, сказал, что в следующий раз будет сдержаннее, и сел рядом с Франсуазой. На смену им с Алисией за «психодраму» взялись следующие двое студентов.
— Понравилось? — спросил он.
— Ну… да, — не слишком уверенно ответила Франсуаза.
— Тихо там, сзади! — крикнул Клебер Бодри.
Николя втянул голову в плечи, подмигнул Франсуазе и, перешагивая через сидящих на полу товарищей, вернулся на свое место. Чуть позже к Франсуазе подошла Алисия.
— Ты это видела? — прошептала она.
Она протянула ей иллюстрированную газету и отошла, тихая, как тень. Франсуаза раскрыла «Нежный взгляд» и на второй странице узнала на фотографии Николя. Смуглолицый и напомаженный, он объяснялся с пышнотелой волоокой блондинкой. Текст помещался в белых треугольниках над их головами. «Доверься мне, дорогая! Меньше чем через неделю ты будешь есть на золоте», — говорил Николя. «Как ты этого добьешься? — вопрошала его партнерша. — Ты молодой офицер, и у тебя есть только твое жалованье!» Он — в ответ, мерзко хихикая: «Я покидаю армию. Я буду очень много зарабатывать!» Фотороман назывался: «Чем больше ты меня обманываешь, тем сильнее я тебя люблю. Правдивая история». Франсуаза сложила газету со смутным чувством неловкости.
Было около полуночи, когда Клебер Бодри отпустил всех на волю. На улице Николя взял Франсуазу под руку, заметил свернутый в трубочку журнал.
— Алисия дала?
— Да.
— Вот дурочка! Я не хотел, чтобы ты это видела!
— Но почему? Ты там очень хорош!
— Смеешься надо мной? Я прекрасно знаю, как ты ко всему этому относишься!
Они сделали несколько шагов по мокрому тротуару, на котором отражались бледные огни фонарей. Через мгновение он продолжил:
— Сто франков за день позирования. Не мог же я отказаться!
— Нет, конечно же, нет…
— И потом, я же не буду заниматься этим всю жизнь!
— А чем будешь?
— «Я покидаю армию! Я буду очень хорошо зарабатывать!» — процитировал он, «надев» на лицо выражение своего героя из фоторомана.
Николя расхохотался, и Франсуаза последовала его примеру, внезапно расслабившись и развеселившись. Рядом с ним трудно было всерьез думать о будущем.
XVII
Обычно с пятичасовой почтой приходили только проспекты. Франсуаза взяла у консьержки два конверта, рассеянно взглянула на один из них и вздрогнула, как от удара: русские марки, почерк Александра. Она закрыла за собой дверь, вернулась в большую комнату, села перед пишущей машинкой и распечатала конверт. Сердце ее бешено колотилось.
«Моя дорогая Франсуаза!
Я давно должен был написать тебе, но это путешествие с самого начала было гонкой за временем: слишком много людей нужно было повидать, слишком много вещей понять… Я собирался остаться здесь ненадолго, но с каждым новым днем мысль об отъезде кажется мне все более невыносимой. Не то чтобы мне было слишком уж хорошо в СССР. Материально жизнь тут труднее, обыденнее и суровее, чем во Франции. Но если во Франции люди увязают в комфортности своего быта, то здесь ограничения и принуждения самого разного рода вырабатывают у каждого умение преодолевать трудности. И мне хочется драться, навязывать другим свои взгляды, созидать, рисковать… Виссарион Боголюбов, с которым я встретился, познакомил меня с группой писателей и артистов — очаровательных, благородных, теплых и простых людей. Открытость сердец и умов заставляет забывать о придирках власти. Никогда прежде я не испытывал подобного воодушевления. Уезжая, я понятия не имел о том, что ждет меня по другую сторону границы, и вот — любовь с первого взгляда! Как только я ступил на эту землю, вдохнул здешний воздух, услышал звучание русского языка — понял, что Франция для меня потеряна. Да, Франсуаза, я решил обосноваться здесь. Благодаря Виссариону Боголюбову я уверен, что получу увлекательнейшую работу, по сравнению с которой то, чем я занимался для Шевалье-Виньера, покажется сущей ерундой. Я буду жить у двоюродных братьев, которых разыскал в Москве, они — сама доброта. Не волнуйся, я вовсе не собираюсь просить тебя присоединиться ко мне. Полагаю, ты, как и я, воспользовалась нашей разлукой, чтобы осмыслить нашу семейную жизнь, подвести, так сказать, итог. Ее не назовешь провалом, но и удачной она не была. Господи, как подумаю, что ты хотела иметь от меня ребенка! А я так сильно этого боялся! Поверь, тут нам повезло! Конечно, я вернусь в Париж в один из ближайших дней, чтобы запросить иммиграционную визу. Простая формальность. Я не сомневаюсь, что получу ее. Мы увидимся до моего нового — и на этот раз окончательного! — отъезда в СССР. Ты так молода! Оставаясь со мной, ты бы погубила свою жизнь, расставшись же, начнешь ее с чистого листа. Есть одна вещь, которая очень важна для меня: я хочу, чтобы мы, даже расставшись, остались настоящими друзьями. Все так просто, моя маленькая Франсуаза! Встречай будущее с улыбкой. Нежно тебя обнимаю.
Александр».
Франсуаза оторвалась от чтения с ощущением тяжести во всем теле. Она не была удивлена. Тысячи неприметных знаков словно подготовили ее к этой новости. Широко раскрытыми глазами она смотрела прямо перед собой на светло-желтую стену, обитую поверху белыми рейками, и думала о бесполезности любовно задуманной и выполненной работы. Вспомнив, как она радовалась, устраивая рабочий кабинет Александра, Франсуаза не смогла удержаться от слез. Выставленная на посмешище, одураченная, отвергнутая, она переживала крах всего того, что было для нее важно в этой жизни. Рыдания сотрясли ее тело. Она ничего не видела. Она была как в тумане. Франсуаза добрела до ванной, умылась холодной водой. В зеркале, висевшем над раковиной, она встретилась взглядом с печальной и суровой женщиной, глаза которой были красными от слез. «Ну вот и кончено! Нет больше Александра!» Горло у нее сжалось, но на сей раз она сумела сдержаться. Франсуаза пыталась дышать ровно и думала о том времени — не таком уж далеком! — когда она хотела покончить с собой, потому что сомневалась в любви этого человека. Каким ребенком она была — упрямым, гордым, заблуждающимся! Причины, толкнувшие ее на попытку самоубийства, были до ужаса ребяческими, а вот сегодня, когда у нее есть все основания чувствовать отвращение к жизни и разочарование, ей и в голову не приходит свести счеты с жизнью. Полученный удар притупил все ее чувства. Она была сейчас сильной и спокойной, ничто и никто не были ей интересны. Даже собственная судьба. Франсуаза высморкалась, поправила челку и вернулась в комнату — ее оглушал шум собственных шагов. Квартира словно стала в два раза просторнее. Франсуаза села за машинку. Письмо валялось на полу. Она подняла его, тщательно сложила и оставила на краю стола. Пальцы коснулись клавиш. Чужие слова. Страница за страницей. К чему ей теперь утомлять себя работой? Расходов больше не предвидится. «Только бы ему понравился цвет стен!» Хлопнула входная дверь. Франсуаза вздрогнула, на мгновение у нее остановилось сердце, и она подняла глаза. Это был Николя.
С выражением загадочного ликования на лице он подошел к ней и бросил на стол несколько банкнот.
— Что это? — спросила она.
— Плата за стыд! Я только что из «Нежного взгляда». Пятьсот франков и похвалы от руководства! На будущей неделе приступаю к новому фотороману!
Франсуаза слабо улыбнулась. Николя взглянул на нее с большим вниманием, заметил письмо, кивнул и буркнул:
— Получила плохие новости от Александра!
— Да.
— Когда он возвращается?
— Никогда.
— Что?
— Прочти письмо.
Он взял письмо, медленно прочел, хмуря брови. Дойдя до последней строчки, он воскликнул:
— Ну ничего себе!
Франсуаза допечатала фразу и вынула страницу из машинки.
— Так поступать отвратительно! — воскликнул Николя.
— Почему? Он откровенен. Вместо того чтобы ломать комедию, говорит, что думает…
— Не говорит — пишет!
— Потому что он только там все наконец осознал.
— Значит, по-твоему, если бы он не уехал?..
— Это ничего бы не изменило. Просто он понял бы несколько позже, только и всего.
— Понял что?
— Что… что я не та жена, которая была ему нужна.
— Черт, да ты ведь его защищаешь!
Франсуаза вдруг поняла, какой странной должна казаться окружающим ее реакция. Но она ничего не могла с собой поделать: нелепая гордость не позволяла ей возложить вину на Александра. Ей казалось, что, обвиняя его, она отрекалась от себя, унижала. Франсуаза вставила чистый лист в машинку, установила поля.
— Ясно! — проворчал Николя. — Значит, ты сама во всем виновата!
— Я этого не говорила. Моя вина, его вина, разве это важно между мной и Александром?
Она кусала губы, чувствуя подступающие слезы. Нет, только не перед Николя!
— Я рад, что ты так все воспринимаешь, — сказал он. — Но ты не можешь запретить мне считать, что Александр повел себя, как мерзавец. Нельзя подобным образом бросать такую женщину, как ты, если только он не бездушная скотина. Но, вообще-то, я уверен, что тебе ужасно повезло! Ты ошиблась, выйдя за него замуж. Во-первых, он слишком старый!
Она улыбнулась.
— Александр старый?
— А что, не так?
— У него нет возраста!
— Вот-вот! Ни возраста, ни умения держать слово, ни дома, ни друзей, ни детей, ни жены…
— Думаешь, мне приятно это слушать?
— У меня другая цель — я хочу открыть тебе глаза!
Николя метался по комнате, и вид у него был одновременно взбешенный и дружелюбный. Франсуаза думала о том, как счастлив он был обрести отца, стать его другом. «А в письме Александра нет ни одного слова о сыне! Ему сейчас, должно быть, еще труднее, чем мне!» — сказала она себе.
— Что ты собираешься делать? — внезапно спросил Николя.
— Посмотрим… В любом случае, не хочу, чтобы кто-нибудь знал! Никому не говори!
— Не скажу, но рано или поздно тебе самой придется это сделать!
— Нет.
— А как ты будешь объяснять вечное отсутствие Александра?
Она опустила голову. Николя прав: она должна будет поставить семью в известность. Они станут ее жалеть — попытаются утешить, начнут советоваться у нее за спиной, как выйти из прискорбной ситуации. Она уже сейчас страдала из-за благих намерений.
— В любом случае я останусь здесь! — твердо сказала она.
— Мы выплывем, выберемся из этого кавардака вдвоем! — прошептал Николя.
Она с яростью обвела глазами комнату. Эти стены наводили на Франсуазу ужас, казались ей виновниками поражения. Чувствуя пульсирующую боль в затылке, она вздохнула:
— Боже! Я уже ничего не понимаю!
— Ладно, — сказал Николя с грубовато-веселым смехом. — Квартира — дело десятое! Не здесь, так в другом месте! Что бы ни случилось, тебе не о чем волноваться! Со мной тебе ничто не угрожает! Я не оставлю тебя, как Александр! Увидишь, мы славно заживем вдвоем!
Франсуаза боролась с горько-сладким чувством, нервы ее были так издерганы, что ее почти ранила чужая доброта, она воспринимала ее сейчас как утонченную форму жестокости. Она сказала, чтобы раз и навсегда покончить с горькими мыслями:
— Работу я так и не закончила, а ведь обещала отдать в половине седьмого!
— Тебе много осталось?
— Нет… Чуть меньше страницы. Но уже пять минут седьмого.
— Так давай, печатай поскорее свою ерунду! Возьмем такси. Раз уж я при деньгах!
Франсуаза пулеметными очередями допечатала страницу, запихнула бумаги в портфельчик и ринулась из квартиры. Николя бежал следом. В такси она вылила раздражение на беззаботного водителя и ужасные пробки. Уверенная, что они не успеют, Франсуаза ужасно удивилась, увидев, что дверь в помещение «Топ-Копи» все еще открыта.
Николя остался ждать ее на улице. Он ходил по тротуару, стараясь понять, почему чувствует себя таким счастливым, когда для Франсуазы, судя по всему, все складывается плохо.
XVIII
Вошла Аньес, чтобы поменять тарелки, и разговор прервался. Мадлен отказалась от сыра и взяла из корзинки яблоко. Путешествие утомило ее. Больше она никогда не поедет в Париж на машине! Филипп, сидевший напротив, тоже проигнорировал сыр. Как же давно они в последний раз вот так же обедали вдвоем! Откинувшись на спинку стула, Филипп нетерпеливо следил за служанкой, хлопотавшей вокруг стола. Наконец Аньес вышла, плотно прикрыв за собой дверь. Филипп посмотрел на Мадлен, и она прочла в его глазах грусть, раздражение и приглашение к разговору. Он явно ждал, что она проявит инициативу в разговоре.
— Прости, — прошептала Мадлен, — но я не могу жалеть тебя!
— А я тебя об этом и не прошу! — пробурчал он в ответ.
— Это было так предсказуемо!
— Неужели?
— Перестань, Филипп! Ты изменял ей, она изменяла тебе, у каждого из вас была своя жизнь…
— Только не в последнее время, Мадлен. Я очень переменился. И надеялся, что она тоже…
— Переменится? Кароль? Ты шутишь, Филипп! Поверь, ты еще дешево отделался. Сейчас тебе все еще больно, ты потрясен, но позже, вот увидишь…
Филипп усталым тоном перебил сестру:
— Ничего я не увижу.
Мадлен оставила недоеденную половину яблока на тарелке.
— Невкусное? — спросил Филипп.
— Мучнистое.
— Возьми другое.
— Не хочу, спасибо.
Они перешли в гостиную. Мебель стояла на привычных местах, освещение осталось прежним, и все же Мадлен казалось, что обстановка комнаты — всего лишь холодная копия прежней. Теперь здесь не хватало того едва уловимого оттенка беспорядка, который женщина со вкусом как будто намеренно оставляет повсюду, где появляется. После ухода Кароль все в доме словно застыло. Аньес, наверное, очень старалась сделать все, «как мадам», вот только рука у нее была не такая легкая. Подушки, стоявшие рядком на диване, напоминали детали детского конструктора; маленькие старинные коробочки на журнальном столике казались выставленными на продажу; складки гардин в подхватах падали вниз с почти военной жесткостью.
Аньес подала им кофе и снова удалилась.
— Не могу жить один в этой квартире! — проговорил Филипп.
Мадлен закурила сигарету и тяжело откинулась на диванные подушки. Нога сильно болела. Она так и не поправилась после того падения. Стоило ей слегка переутомиться, и боль возвращалась. Кроме того, ей ужасно хотелось спать. Она очень рано встала сегодня утром, чтобы все собрать к отъезду. Сейчас, наверное, около десяти. Мадлен сделала глоток кофе и сказала:
— Поверь моему опыту, Филипп, к одиночеству быстро привыкаешь!
— Возможно, ты и привыкла, — проворчал он в ответ, садясь. — Я — нет! Когда я возвращаюсь вечером в этот дом, мне кажется, будто я проваливаюсь в какую-то яму. Бессмысленность моей жизни вопиет. Это ужасно!
— Если бы ты чаще виделся с детьми! — воскликнула Мадлен.
Он скривил лицо.
— Дети… дети… У нас нет ничего общего.
— Ты этого и хотел!
— Что за чушь ты болтаешь?
— Брось, Филипп!.. Вспомни сам!..
Он пожал плечами.
— Ты всегда их защищала!
— Не всегда, — твердо произнесла Мадлен, глядя прямо в глаза Филиппу.
Она думала о Жан-Марке. Филипп понял и прикрыл глаза. Последовало долгое молчание. На площадке хлопнула дверь лифта, и Филипп мгновенно встрепенулся.
Наверное, он вздрагивает от каждого звонка в дверь, от любой телефонной трели. Он одержим Кароль. Мадлен он казался жалким, напоминал нищего попрошайку, и это было отвратительно.
— Ты должен увидеться с Жан-Марком, должен!
Мадлен ждала взрыва негодования, но Филипп лишь спросил бесстрастно:
— Для чего?
— Он нуждается в тебе.
— Уже нет! — В голосе Филиппа звучал сарказм. — Он нашел себе блестящую партию.
— Вот именно! Его женитьба беспокоит меня. Если бы ты снова сблизился с Жан-Марком, взял его в дело, он не чувствовал бы себя в будущем вечным должником семейства Шарнере.
— Они весьма достойные люди…
— Да-да, конечно, но дело же не в этом! Такой гордый, прямой и отважный мальчик, как Жан-Марк, осознав, что обязан всем — положением, будущим, укладом жизни — тестю, будет уязвлен, во-первых, в своем самолюбии, а в конечном итоге — в любви!
— Успокойся, — ответил сестре Филипп. — Жан-Марку требуется гораздо большее, чтобы почувствовать себя униженным!
Мадлен строго взглянула на него.
— Это абсурдно, Филипп! После ухода Кароль та несчастная интрижка должна быть навсегда забыта!
— Здесь Кароль или нет, роли не играет! Это ничего не меняет в том, как мой сын поступил со мной.
— Меняет! Теперь между вами нет и тени лжи. Из всех детей ты по-настоящему любишь только Жан-Марка. Но именно его ты прогнал от себя. Ты никогда не узнаешь, насколько мальчик несчастен! Мог бы, во всяком случае, сходить на прием по случаю помолвки!
— Насколько я знаю, тебя там тоже не было!
— Я лежала в постели с температурой! — возмутилась Мадлен.
— Но вы виделись с тех пор?
— Нет. Я приехала прямо сюда, но постараюсь встретиться с мальчиком завтра. И приведу его к тебе — по доброй воле или по принуждению!
Филипп отрицательно покачал головой.
— Не нужно, Мадлен. Уверяю тебя, это ни к чему… Думая, что творишь добро, ты только все испортишь!
Глаза у него ввалились, подбородок дрожал. Мадлен чувствовала, что брат непоколебим в своей гордыне. Но развязка близка. Пройдет еще несколько недель, и она сумеет его убедить. Мадлен поставила себе целью добиться присутствия Филиппа на свадьбе Жан-Марка. Торжество состоится не раньше начала июля, так что у нее есть два месяца. Конечно, ей придется курсировать между Туком и Парижем…
Филипп сумел справиться с нервами. Он курил, откинувшись затылком на спинку кресла и рассеянно глядя перед собой глазами, полными печали, разочарования, сомнения.
— Я рад, что ты приехала, — наконец произнес он.
Мадлен улыбнулась. Секунду спустя он добавил:
— Ты должна остаться.
— Я так и сделаю.
— Ты не поняла: я хочу, чтобы ты жила в Париже.
Мадлен удивленно взглянула на брата.
— Постоянно?
— Очень просто. Кто мешает тебе продать магазин в Туке и купить другой, в Париже?
— Не вижу в этом смысла!
— Ты жила бы здесь… Была рядом со всеми нами…
Филипп звал ее на помощь. Как тогда, после первого развода. Но в то время дети были совсем маленькими и она чувствовала, что без нее им не обойтись. А сегодня кому она нужна, кроме брата?
— Нет, — сказала она, — это невозможно.
— Почему?
— Каким бы странным тебе это ни показалось, Филипп, у меня тоже есть своя жизнь, и я вовсе не хочу ее менять… Почему ты полагаешь, что я по первому твоему слову все брошу и кинусь, очертя голову…
— Ты что, не слышишь, как я говорю это самое слово?
Мадлен смягчилась.
— Ты страшный эгоист. Ты несчастлив, ты одинок — значит, мир должен замереть в неподвижности.
— С чего ты взяла, что я несчастлив?
— Ты сам мне сказал.
— Я оскорблен и возмущен! А это совсем другое. — Привычное высокомерие брало верх над минутной слабостью. Филипп вел себя, как старый петух, пытающийся провести весь курятник, вытягивая облезлую шею и топорща поникший гребень.
— Уже поздно, — тихо произнесла Мадлен, поднимаясь.
— Собираешься ложиться?
Мадлен почувствовала, что Филипп готов был бы ночь напролет говорить с ней о себе самом, о Кароль, об их разрыве, о своей растерянности… Неужели она к нему несправедлива? Принимает близко к сердцу заботы молодых, но не слишком расстраивается из-за проблем стариков. Ей было скучно с братом.
— Да, — ответила она, — в Туке я в десять вечера уже лежу в постели!
Филипп пожелал сестре доброй ночи, и она ушла к себе. Аньес разобрала ей постель, распаковала чемодан, развесила одежду, трогательно, хоть и неловко, сунула три гвоздики в вазу. Мадлен машинальным движением поправила цветы, поискала глазами свою лисичку. Фенек как будто дремал у себя в корзине рядом с батареей, на самом деле украдкой наблюдая за хозяйкой и дуясь на нее за то, что так надолго оставила его в одиночестве. Как и всегда в подобных случаях, Мадлен умилила эта демонстрация капризного, злопамятного и ревнивого нрава. Засмеявшись, она с трудом присела на корточки, погладила зверька по спинке, шепча нежные слова утешения и примирения:
— Это недоразумение, Жюли! Не станешь же ты злиться на меня за такую ерунду!..
Лисичка, словно вняв словам убеждения, изогнулась перед хозяйкой в дугу, демонстрируя любовь и преданность, потом успокоилась, легла, прикрыв нос лапками, и уснула. Мадлен, еще несколько раз почесав ей лобик пальцем, занялась наконец собой.
Не успела она лечь, как поняла, что сон прошел, как не бывало. С ней это случалось все чаще: тело жаждало отдыха, а разум не позволял расслабиться. Каждый вечер она подводила итог дня. Мания старой нелюдимки. Мадлен спрашивала себя, не ошиблась ли она, приехав в Париж. Многие месяцы она упорствовала в желании жить уединенно в своем углу, для себя, с собой. С ее стороны было бы нелепо приезжать в Париж чаще: племянники не слишком в ней нуждались, забывая даже писать! Конечно, она не могла не приехать на помолвку Жан-Марка, ей хотелось увидеть и поздравить его, но потом — сразу в дорогу, назад, домой, в Тук, иначе она снова попадется в ловушку. Мадлен напоминала себе человека, бросившего курить, который долго воздерживался, а потом вдруг, ни с того, ни с сего, взял да и потянулся за пачкой сигарет. Три затяжки — и рабство вернулось. Она излечилась от семьи Эглетьер и должна из последних сил сопротивляться, чтобы ее снова не вовлекли в семейные дрязги. Понадобится сделать еще одно усилие, чтобы вернуть Жан-Марка отцу, но потом — все, конец, она сможет навечно похоронить себя в Туке. Мадлен достала сигарету из пачки «Галуаз», закурила и почувствовала, как голубоватый дымок успокаивает нервы, убаюкивает разум. Она хотела бы перевоплотиться в чистую идею, но существовали, черт бы их побрал, и толстый живот, и дряблые ляжки, и обвислая бесполезная грудь — все это несовершенное, неловкое тело, которое она не любила, хотя в глазах окружающих именно эта плоть и была ею, Мадлен. Завтра днем она постарается увидеться с Жан-Марком, Франсуазой и Даниэлем. А послезавтра, если хоть чуточку повезет, она уже будет в Туке, среди своей мебели и безделушек. Мадлен вспомнила свою кровать — уж она будет помягче, это точно, ничто не сравнится с доброй старой шерстью в матрасе! Интересно, как мадам Гурмон справляется в магазине? Неужели те американцы так и не решились взять буфет эпохи Людовика XIII? Он так ей мешает, что, возможно, следует уступить еще, лишь бы забрали. А эта история с участками! Если бы только папаша Уандр согласился обменять паршивый кусок сада за домом на ее маленький луг, что близ дороги на Онфлёр! Но этот идиот уперся… Кошмарная крестьянская недоверчивость! «Как будет хорошо, если я его все-таки уломаю! Тогда можно будет сломать изгородь, расширить сад и сделать крытую пристройку… Пить там чай, а летом даже обедать… Решено, сразу по возвращении она первым делом займется месье Уандром!» Мадлен открыла взятый в дорогу роман и начала читать. В дверь постучали.
— Войдите, — ответила она.
Это был Филипп, в халате и элегантных черных кожаных домашних туфлях.
— Я увидел свет под дверью, — объяснил он. — Ты не спишь?
Мадлен давно не видела брата раздетым, и ее неприятно удивили его худая морщинистая шея и бледные ноги с выступающими венами.
— У меня осталась одна сигарета, а выходить не хочется. Ты не можешь…
Мадлен протянула Филиппу пачку «Галуаз», он поморщился, но все-таки вытащил сигарету, достал из кармана зажигалку.
— Какая гадость! — констатировал он после первой затяжки. — Как ты можешь это курить? Говорят, правда, что это не так вредно для легких…
Филипп вздохнул, присел на край ее кровати и продолжил с горькой улыбкой:
— Хорошо? Плохо?.. Да какая разница? Надо же, есть люди, которые боятся умереть!..
Мадлен бросила на Филиппа ледяной взгляд. Он что, рассчитывает растрогать ее этими речами а-ля «романтический студент»? Да нет, пытается задеть, заставить ввязаться в спор.
— Где Кароль? — спросила она, движимая милосердием.
— В Мюнхене.
— Возможно, это очередное увлечение.
— Во всяком случае, она уже наняла поверенного и подала прошение о разводе. Нет! Раз я говорю, что это серьезно, значит, это так!
Мадлен зевнула, прикрывая рот ладонью, и ее глаза увлажнились.
— Ладно, — грустно сказал Филипп, — я тебя оставляю.
Мадлен проводила его взглядом, погасила лампу, устроилась поудобнее и подумала, что ей сильно повезло — она никому не жена.
У Николя был расстроенный вид.
— Как глупо, — сказал он. — Она еще не вернулась. Наверное, задержалась в «Топ-Копи». Но не беспокойтесь, она поручила мне развлекать вас до ее возвращения…
Николя был в рубашке с закатанными рукавами и расстегнутым воротником, черные ресницы и сверкающие белые зубы делали его похожим на цыгана. Мадлен, видевшая его всего один раз — на крестинах своей внучатой племянницы, удивилась, насколько запоминающимся оказалось его лицо.
— Пойдемте, — пригласил он ее, и Мадлен прошла следом за ним в большую уродливую комнату. Ей сразу бросилось в глаза чередование светлых реек со стенами цвета кофе с молоком. На диване, развалясь, сидели два парня и девушка. Они встали, вяло поздоровались.
— Жером, Бернар, Алисия, — представил Николя. — Они мои сокурсники…
— Вы все еще посещаете эту школу драматического искусства? — поинтересовалась Мадлен.
— Да.
— И вам нравится?
— Очень. Я чувствую, что-то начинает получаться…
Заметив, что она оглядывает комнату, Николя добавил:
— Мы все отделали заново! Давайте я все вам покажу…
— Подождем Франсуазу.
— Нет-нет, идемте.
И он пошел по коридору, открыл одну дверь, другую, третью, и все комнаты оказались пустыми и унылыми. Удрученная Мадлен спрашивала себя, почему племянница сменила маленькую, обветшавшую, но прелестную квартирку на рю дю Бак на этот буржуазный караван-сарай.
— Прекрасно, прекрасно, — бормотала она.
А что тут еще скажешь? Мадлен посмотрела в окно: двор, стена, другие окна.
— Брат сказал мне, что Александр был в СССР, — через силу продолжила она разговор.
— О, да! Это уж точно! — ответил Николя и недобро рассмеялся.
Мадлен была заинтригована, но спрашивать ничего не стала. Не в силах переносить ее молчание, Николя выждал несколько мгновений и буркнул:
— Он написал Франсуазе, что не вернется!
— Что? — воскликнула Мадлен.
И тут она сообразила, что Николя увел ее сюда с единственной целью — поговорить наедине.
— Вот именно, вы не ослышались! Она наговорит вам кучу всего, но…
Хлопнула входная дверь. Николя замолчал. Мадлен вернулась в гостиную и столкнулась с запыхавшейся Франсуазой. Они расцеловались.
— Мне так жаль, что я заставила тебя ждать! — сказала племянница.
Мадлен нашла ее изменившейся, другой, несмотря на все то же узкое лицо и глаза, лучащиеся грустным светом. Обменявшись несколькими словами с друзьями Николя, Франсуаза увела тетку к себе в комнату, усадила на кровать, а сама устроилась рядом на стуле. Долгую минуту они молчали, вглядываясь друг в друга. Потом Франсуаза воскликнула с жаром:
— Как же я счастлива тебя видеть, Маду!.. Сколько же мы не виделись!.. Как ты? Что твоя нога?.. А магазин?.. А… Жюли?.. Я не слишком баловала тебя письмами…
— Что правда, то правда!..
— Жизнь в Париже — сущая головоломка! Наступает вечер, а ты и сотой доли не сделал из того, что собирался…
Напряженный тон ее голоса, слишком быстрая и почти бессвязная речь неприятно поразили Мадлен.
— Как ты находишь? — спросила Франсуаза.
— Что именно?
— Квартиру.
У Мадлен не было сил лгать, и она сказала:
— Почему ты переехала?
— Так было нужно. Нам было слишком тесно на рю дю Бак. Все стало непросто для меня… для Николя… для Александра…
— А здесь Александру будет удобно?
Губы Франсуазы исказила судорога. Мадлен почувствовала такую горькую жалость, что едва удержалась, чтобы не обнять ее. Она мягко взяла ее за руку — как делала в былые времена, когда племянница поверяла ей свои тайны.
— Я знаю, Франсуаза, — тихонько сообщила она.
— Николя сказал?
— Да.
— И что же? — Франсуаза резко отняла у нее свою руку. — Ты потрясена? Возмущена?
У нее было воинственное выражение лица.
— Нет, — ответила Мадлен. — Мне грустно, вот и все. Что произошло между вами?
— Да… ничего…
— Но есть же какая-то причина!
— Их сотни тысяч, — пролепетала Франсуаза.
Она опустила голову. Мадлен чувствовала, что, несмотря на вспышку гнева, племяннице необходимо открыться, во всяком случае — рассказать кому-нибудь все, как на исповеди.
— Александр слишком умен, чтобы жить семейной жизнью, — наконец решилась она.
— А! И что это значит?
— Он выше условностей. Для него не существует ничего, раз и навсегда данного, ничего святого, непререкаемого… Он попытался найти причину для совместной жизни со мной. Но все мои усилия сделать его счастливым приводили к обратному результату! Ну вот, скажем, эта квартира! Очередная ошибка в ряду многих других! В глубине души Александр ничего не любит, ни к чему не привязывается и страдает от этого чувства лишенности корней. Потому-то ему и пришла в голову эта идея: родина его родителей. Там он надеется обрести равновесие. Он мистик, понимаешь? Он ищет свою веру, свою церковь. И не находит. Мы с ним похожи. Мы идем разными путями, но у меня та же цель.
— Какая цель?
— Счастье, ничем не обязанное ни общественным условностям, ни деньгам! Нематериальное счастье! Чистое счастье! Вот только он не верит в Бога. Он хотел бы верить в человека. Он сражается. И я могу только уважать его за это. Уважение — вот что действительно важно. Самоуважение, уважение другого в себе и себя в другом…
Мадлен заставила себя сосредоточиться. Ей казалось, что племянница тонет в словах. Возможно, она просто не способна воспринимать столь яростные и категоричные суждения? Восторженность всегда вызывала у нее недоверие.
— Хорошо, — сказала она, — это ваше дело. В конечном итоге, так лучше для вас обоих. Ты рассказала отцу?
— Нет.
— Так сделай это побыстрее, чтобы он занялся твоим разводом.
— Я не собираюсь разводиться, — спокойно сообщила Франсуаза.
Мадлен изумилась:
— Что… Что значит — не собираешься разводиться?
— А почему я должна это делать?
— Он… он будет жить в другом месте… а ты…
— Это его дело!
— Иными словами — что бы он ни делал, ты будешь по-прежнему считать себя его женой?
— Да.
Лицо Франсуазы было упрямым и холодным, выражающим почти тупую уверенность в собственной правоте.
— Это просто немыслимо! — произнесла Мадлен. — Как ты это себе представляешь через два года, через десять лет — быть соломенной вдовой? Знаю… ты скажешь: нельзя разъединить то, что соединил Бог… Но эту фразу придумали люди!
— Я так не думаю.
— Христос никогда не говорил…
— Мы не станем затевать теологических споров, Маду! Я не хочу разводиться — и точка!
Мадлен сочла благоразумным отступить. Рана Франсуазы еще слишком свежа. Нужно подождать, прежде чем возобновлять попытку. Тем не менее материальной стороной проблемы заняться все-таки нужно. Резкое охлаждение Александра поставило на повестку дня вопросы, для решения которых Франсуаза слишком неопытна. Стараясь быть максимально деликатной, Мадлен спросила:
— Но на что же ты будешь жить, дорогая?
— Я достаточно зарабатываю, — ответила Франсуаза. — И могу сама себя обеспечить. Кстати, бедный Александр не слишком мне помогал! Ему так мало платили во Франции!
— А Николя?
— Он большой молодец. В прошлом месяце заработал своими фотороманами больше меня.
— Фотороманы? Это еще что такое?
— Как, ты не знаешь? Я тебе покажу. У Николя есть несколько номеров…
— Но он в любом случае не может продолжать жить с тобой!
— Почему?
— Подумай сама, Франсуаза! Николя — почти твой ровесник! И вы будете жить здесь, вдвоем, как если бы вы… были семейной парой?!
Внезапно Мадлен подумала: а что, если между ее племянницей и этим юношей действительно что-то есть? Она тут же пожалела, что подобная мысль пришла ей в голову — Франсуаза наблюдала за теткой с тихой грустью:
— Как глупо все то, что ты говоришь, Маду!
— Пойми меня: я так не думаю, но другие обязательно подумают.
— Кто эти другие?
— Твое окружение, твои друзья… Даже в Париже, Франсуаза, нельзя быть изгоем. Необходимо соблюдать минимум правил, если не хочешь, чтобы тебя приняли за… за…
Она подыскивала слова. Роль, которую она сейчас играла, ей не нравилась. Самодеятельная охранительница чести и благопристойности! Мадлен сердилась на Франсуазу за то, что вынуждена заниматься морализаторством, это она-то, всегда гордившаяся широтой взглядов и свободным поведением.
— Ты не должна, Франсуаза, — сказала она. — Для вас обоих это будет нехорошо. Раз ты говоришь, что он хорошо зарабатывает, пусть снимет комнату, а ты откажешься от этой квартиры и поселишься в другом месте.
— Например, у папы!
— Я этого не говорила.
— Но подумала! Ты можешь представить себе нас с папой наедине? Два разбитых сердца! Он утешает меня, оставленную Александром, а я — его, брошенного Кароль! Прелестный дуэт! — Губы Франсуазы побелели, она ерничала, но глаза оставались сухими. Она снова заговорила, на сей раз серьезно: — Нет. Я никуда не перееду. И Николя останется здесь так долго, как только сам захочет. Именно я настояла на том, чтобы он жил вместе со своим отцом.
— Ты права! Но ведь его отец уехал!
— Это ничего не меняет. Я взяла на себя ответственность. И я сдержу слово.
В ее глазах снова засверкала сумасшедшая решимость одержимой, и это напугало и расстроило Мадлен. Франсуаза сидела на своем стуле, вытянувшись в струнку, напряженная, улыбающаяся, бросающая вызов дуракам. И этими дураками для нее были все — тетка, отец, братья, все — кроме Александра. Настаивать бессмысленно. Мадлен снова дала задний ход. Сначала отец, теперь дочь. Мадлен чувствовала себя совершенно разбитой. И все-таки она была уверена, что сумеет спасти обоих.
— Пойдем, — сказала Франсуаза, — Николя с друзьями, наверное, ждут нас, чтобы выпить.
Она явно хотела избежать продолжения трудного разговора. Потрясенная услышанным, Мадлен шла, словно в тумане. В гостиной друзья Николя весело болтали о незнакомых Мадлен людях. Ей налили стакан малинового сока, она отпила глоток. Слишком сладко. Нужно срочно закурить.
А Франсуаза разговаривала, улыбалась, общалась с этим юным обществом с таким безмятежным видом, как будто это не она во второй раз в жизни потеряла все, что было для нее ценным в жизни.
Даниэль шел так быстро, что Лоран, схватив его за руку, спросил:
— Куда ты так несешься?
— Я должен быть дома без четверти пять! Дани ждет меня, чтобы отправиться с матерью по магазинам! И Маду должна заявиться около шести! Не знаю, когда смогу поработать над рефератом по философии! Тебе-то плевать! Ты кайфуешь! Черт, клянусь тебе…
Он рывком высвободился и помчался вперед длинными скачками, держа тетради под мышкой. Лекция по философии показалась ему сегодня на редкость заурядной. Правда, он едва слушал, ошеломленный тем, что рассказал ему Лоран, прежде чем они вошли в аудиторию. Даже сейчас он с трудом мог поверить. А может, это шутка, глупый треп? Нет, Лоран демонстрировал непреклонную решимость. Он украдкой наблюдал за Даниэлем.
— Не понимаю, чего ты так завелся! — сказал он наконец.
— А потому, что чувствую — ты собираешься сделать черт знает какую глупость!
— А ты, когда женился на Дани, тоже сделал глупость?
— Не смей даже сравнивать!
— Вот еще! Беатрис замечательная девушка.
— Она на три года старше тебя!
— И что с того? Она выглядит очень молодо! Кроме того, у нее есть профессия!
— Машинистка — не профессия!
— Семь сотен в месяц, старик! А через год она получит прибавку!
— А ты что будешь делать?
— Продолжу учебу.
Даниэль пожал плечами. Как близкий родственник он обязан был удержать Лорана на самом краю пропасти. Но он не находил аргументов в споре с этим веселым упрямым безумцем. Даниэль ощущал себя рядом с ним таким зрелым мужчиной! Женитьба, отцовство, философия тяжелым грузом ложились на плечи. Они сошли с тротуара на перекрестке и в людском потоке перешли на другую сторону улицы. Солнце жарило вовсю. Через три недели — экзамены. Лорана они перестали интересовать, он был занят исключительно Беатрис Мурен. Эту девушку даже хорошенькой не назовешь. Даниэль, видевший Беатрис трижды, даже не запомнил ее лица, а Лоран воспринимает ее как сверхъестественное существо. По поводу неожиданной беременности Беатрис он раздувается от гордости, и его это вовсе не огорчило. Когда Даниэль предложил ему «адресок», он аж зашелся от негодования. Беременность Беатрис становилась самым что ни на есть веским доводом в пользу женитьбы. Лорана устраивало, что его поймали в «почетную» ловушку!
— Пойдем пешком? — спросил он.
— Нет, — проворчал Даниэль. — Я же сказал, что тороплюсь.
— Ну, конечно, кормление Кристины!
— Вот именно, старик. Тебе этого не миновать!
Они добрались до входа в метро на станции «Мабийон». На платформе в ожидании поезда Даниэль спросил:
— А где вы собираетесь жить? Ты хоть об этом подумал?
— Да у родителей, конечно!
— Ну, ты и наглец!
— Ты же живешь! Мы устроимся в моей комнате. Постараемся не слишком мешать друг другу… Родители не откажут мне в том, что сделали для Даниэлы!
Сраженный этими доводами, Даниэль смотрел на Лорана, испытывая смешанное чувство бессилия и вины. Поезд, грохоча, выехал из туннеля, со вздохом остановился. Они втиснулись в вагон, встали у дальней стенки, рядом с ручным тормозом, и Даниэль буркнул:
— Ты испортишь лучшие годы своей жизни!
— А если бы тебе снова пришлось решать, жениться на Даниэле или нет, ты что, не женился бы?
— Я — другое дело! Но скажу тебе честно, бывают моменты, когда я предпочел бы холостяцкую жизнь! Пока не взвалишь на себя ответственность, не поймешь, насколько тебе раньше везло!
Поезд, икнув, тронулся с места. Даниэль представлял себе лица тестя и тещи, огорошенных новостью, и жалел этих добрых и слабых людей.
— Подумай еще, старик, — сказал он, перекрикивая шум колес.
— Все уже решено. Я не подлец: исправлю, что напортил!
— Что будет с твоим отцом, когда он узнает!..
— Ну и что? Смирится, как было с Даниэлой!
За стеклом вагона мелькали пестрые, заклеенные плакатами и афишами стены станций, заполненных людьми.
— Вот увидишь, — продолжал Лоран, — мы премило заживем двумя гнездышками в одном большом, гостеприимном, сердечном родительском гнезде! Куча ребятишек! Я должен тебя нагнать! Ты вырвался вперед — тем более теперь, когда станешь дважды папой!
— Что ты там болтаешь? — пролепетал помертвевший от ужаса Даниэль.
— Даниэла тебе не сказала?
— Нет.
Едва не сойдя с ума от страха, Даниэль понял, что Лоран шутит, и недовольно буркнул:
— Не смешно, знаешь ли!
— Попался!
— Вовсе нет!
Они вышли на станции «Военная школа».
— Шевелись! — приказал Даниэль. — Я опаздываю!
И он кинулся бежать. Лоран рванул следом, догнал его, попытался обогнать. Но Даниэль увеличил темп, и они так и мчались бок о бок до двери и вместе ворвались внутрь, задыхаясь и хохоча во все горло.
Даниэлы и ее матери в квартире не оказалось. Даниэль на цыпочках вошел в комнату и склонился над кроваткой: Кристина спала, мирно посасывая пальчик, розовое личико было строго-сосредоточенным. Даниэль осторожно вынул палец дочки из маленького ротика, сумев не разбудить ее. К вышитой гладью отделке была приколота записка от Дани:
«Сейчас половина пятого. Мы с мамой решили отправиться пораньше, чтобы не опоздать к приходу твоей тети. Не буди Кристину до четверти шестого и не меняй ей пеленки — я все сделаю сама, когда вернусь. Ты должен будешь только покормить ее — молоко в бутылке-термосе, на кухонном столе. Держи бутылочку повыше, чтобы Кристина с молоком не заглатывала воздух. Когда поест, проследи, чтобы она обязательно срыгнула. Потом положи ее на бок, ну, ты сам все прекрасно знаешь! Пока, мой Даниэль, я тебя люблю!
Твоя Дани».
— Не стоило торопиться! — заявил Лоран, он читал, заглядывая Даниэлю через плечо. — Что они хотят купить?
— Не знаю. Скорее всего, какие-нибудь дамские штучки…
Кристина открыла глаза, несколько мгновений помолчала, как будто не зная, на что решиться, потом все-таки заплакала.
— Подержи ее, пока я принесу бутылочку! — сказал Даниэль.
Он передал дочь Лорану и кинулся на кухню. Лоран побежал следом, тряся девочку на руке, от чего та плакала все громче.
— Ее укачает! — заметил Даниэль. — Ладно, все готово, передай ее мне…
Он уселся на стул посреди кухни, не слишком умело пристроил дочь на сгибе руки, так, что девочка почти стояла, и дал ей бутылочку. Кристина была невесомой и теплой. Она пила, мерно посапывая, а Лоран, стоя перед ними, внимательно наблюдал. Теперь, уверенный в будущем отцовстве, он разглядывал племянницу по-новому.
Когда Даниэль уложил Кристину в колыбель, она отказалась засыпать, играя своей погремушкой. Лоран закурил и сказал:
— С родителями будет непросто… Может, мне стоит подождать до окончания экзаменов?.. Так мне будет спокойнее…
— Да, — ответил Даниэль, — возможно, ты прав. Ну, а родители Беатрис?
— А что — родители Беатрис? Она совершеннолетняя, сама зарабатывает на жизнь, им остается лишь благословить ее! Впрочем, они редко видятся! Родители Беатрис на пенсии, они живут где-то на севере…
Они помолчали. Лоран рассеянно выбрал один из дисков, валявшихся на полу, поставил его на проигрыватель, нажал на кнопку. Музыка грянула, как стихийное бедствие, потом плавно перетекла в мурлыканье по-английски. Лоран прищелкивал пальцами в такт. Кристина не плакала: она привыкла к музыке.
— Я все-таки должен закончить реферат, — сказал Даниэль. — Ты не будешь сегодня работать?
Погремушка упала на ковер. Лоран поднял ее, отдал Кристине, но девочка больше не хотела играть.
— Сделай потише! — попросил Даниэль.
Лоран послушался, буркнул: «Ладно, пойду, делать нечего», и вышел, зевая во весь рот. Музыка тихо играла. Даниэль сел за стол и занялся рефератом. «Человеческая боль случайна, а не субстанциальна; она является биологическим недоразумением». Ему нравилась эта формулировка, но продолжение он придумать не мог. Против своей воли, он скатывался к тексту лекции Коллере-Дюбруссара — профессор сформулировал все как нельзя лучше. Дожидаясь вдохновения, Даниэль скользил рассеянным взглядом по комнате. Какой беспорядок! Распашонки, книги, флакончики Дани, куколки Дани, журналы мод Дани… Пластинка доиграла и остановилась. В наступившей тишине стало слышно щебетанье Кристины. Она так и не уснула. Даниэль подкрался к колыбели — дочка улыбнулась ему нежной беззубой улыбкой. Он сделал ей козу и вернулся за стол. Вслед ему раздался разгневанный крик, но Даниэль выдержал характер, прикрикнул на Кристину, и она затихла. Покладистый характер дочери льстил Даниэлю, ему казалось, что он один умеет заставить ее слушаться. В будущем ему, без сомнения, удастся сформировать характер дочери по собственному разумению. К несчастью, Дани — слабый человек, а теща просто тает в присутствии внучки. Нянчить детей — ее страсть. Она чувствует просто физическую потребность теребить, нюхать, зацеловывать это упругое тельце. Ребенок это чувствует и капризничает изо всех сил. Кристина невероятно умная девочка. Какой будет ее жизнь в этом доме, если Лоран женится? Две молодые пары, разделенные тонкой перегородкой стены, ревность матерей, рев детишек, перекрикивающих друг друга, путаница с пеленками, споры из-за игрушек, трудная жизнь в конце каждого месяца, печальные глаза Шарля Совло…
Даниэль сделал над собой усилие, чтобы стряхнуть наваждение, и снова с головой погрузился в реферат. Следовало отметить, что, придавая человеческой боли биологический статус, человек оправдывает ее и тем самым поддается искушению и восхваляет ее, превращает в религию. «Не имея возможности бороться с болью медицинскими средствами, Средневековье присвоило ей сакральный смысл», — написал он. Это была великая идея Коллере-Дюбруссара. Но вот что такое горе Кристины, то есть боль ее души, когда она плачет? Прерванное состояние блаженства или отнятое удовольствие? Так, не отклоняться от темы. Написать несколько строчек заключения. Даниэль посмотрел на часы. Без пяти шесть. Сейчас придет Маду. А Дани все еще нет. «Борьба с болью есть долг современного человека. Любая деятельность является, по сути дела, борьбой против боли. Как точно сказал Аристотель: „Наслаждение сопровождает деятельность, как красота — молодость“». Даниэль положил ручку. Заключительная часть получилась банальной, но сегодня он на большее не способен. Лоран совершенно заморочил ему голову своей женитьбой.
В дверь позвонили. Впервые Даниэль не испытывал нетерпения перед встречей с Мадлен. Возможно, это связано с тем, что он не слишком гордится своей жизнью у родителей Дани. Даниэль открыл дверь: на пороге стояла Маду — кругленькая, приземистая, румяная, широко улыбающаяся, с ясным взглядом… У Даниэля появилось странное чувство — на мгновение ему показалось, что в гости пришло его детство.
— Ну, за Даниэля я не беспокоюсь! — сказала Мадлен, внимательно глядя на Жан-Марка. — Он как будто очень счастлив у тестя с тещей, усердно занимается и наверняка сдаст экзамены на степень бакалавра, к тому же он любит жену и у него очаровательный ребенок.
Расточая эти похвалы, она думала о мелочно-банальном счастье, которым довольствовался ее девятнадцатилетний племянник. За те два часа, что они провели вместе, он заслонялся от всех ее вопросов спокойной улыбкой. Неужели он в конце концов приохотился к положению нахлебника в добросердечной семье? Мадлен даже не могла поделиться своим разочарованием с Жан-Марком, ведь его, когда он женится на Валери, ждет такая же бесславная роль.
— А как ты нашла Франсуазу? — спросил Жан-Марк.
— Я совершенно удручена! — ответила Мадлен. — Мысль о том, что она отказывается разводиться, выбивает меня из колеи! Если она когда-нибудь решит поговорить с тобой об этом…
— Она уже со мной говорила, и с Николя тоже, и с Даниэлем! Я попытался переубедить ее, но она ответила мне, видимо, то же, что сказала сегодня тебе. Поразительнее всего спокойствие, с которым она относится к столь ложной ситуации: намерена оставаться женой человека, который ее больше не хочет! Это не в ее характере! Разве что ей кажется, что наивысшее проявление гордости — всегда быть выше мнения остальных, даже если они над тобой смеются!
Мадлен подумала, что, говоря это, Жан-Марк, возможно, имеет в виду себя и Валери. Размышляя о возможных последствиях будущего брака, он наверняка изыскивает любые доводы, способные успокоить его душу. Он демонстрировал сейчас позицию человека, который уже принял решение, и выглядел совершенно потухшим. Они обедали вдвоем в маленьком ресторанчике на рю Канетт, знаменитом итальянскими деликатесами.
— Нужно оставить ее в покое, — продолжил Жан-Марк, — и надеяться, что в конце концов она одумается!
— Да-да, — нехотя согласилась Мадлен. — Боюсь, однако, что она ждет его возвращения…
Она начала расспрашивать племянника о его учебе. Экзамены по праву начнутся через три недели. Он не надеется сдать их. Треволнения нынешней жизни помешали ему готовиться, он пропустил много семинарских занятий… Если провалится, сделает еще одну попытку в октябре. Мадлен поняла, что будущее перестало быть проблемой для Жан-Марка, и огорчилась. Официант принес им блюдо с дымящимся ароматным оссобуко[23]. Жан-Марк съел три ложки и закурил сигарету. Мадлен сочла момент подходящим, чтобы заговорить с племянником об отце. Он почти сразу прервал ее:
— Не думаю, чтобы он действительно захотел снова меня видеть!
— А я уверена в обратном! Но он не знает, как помириться. Боязнь быть смешным парализует его волю. Это так огорчительно! Я бы очень хотела, чтобы Филипп был на твоей свадьбе.
— Если бы ты смогла добиться от него этого!.. — прошептал Жан-Марк.
Его лицо внезапно смягчилось, на щеках играли желваки, на виске пульсировала жилка. Глаза были влажными и печальными.
— Положим, между тобой и отцом все уладится — на что я очень надеюсь, — сказала Мадлен, — почему бы тебе после свадьбы не начать работать у него в конторе?
— Конечно, это было бы замечательно! Но я отказываюсь даже думать об этом! Главное — ни в коем случае ничего не говори Валери! Она не способна понять, насколько важно для меня восстановить отношения с отцом… Она думает, меня эта ссора устраивает…
— Она настолько недогадлива?
— Нет! Просто я стараюсь не выдавать перед ней своих чувств!
— Почему?
— Не знаю. Так получилось. Она играет роль. Я играю роль. Мы играем комедию друг перед другом. Забавно! Пока, во всяком случае. Но играть всю жизнь — это уже совсем другой оборот дела! Не волнуйся, это не мешает нам любить друг друга!
Жан-Марк горько рассмеялся, поел мяса, снова закурил, сказал:
— Я много рассказывал о тебе родителям Валери. Они хотят пригласить тебя на обед. Ты свободна завтра?
Мадлен предпочла бы встретиться с Жан-Марком и Валери наедине, но любопытство возобладало.
— Конечно, Жан-Марк, договорились.
Он взглянул на часы, обернулся к двери.
— Ты торопишься? — спросила Мадлен.
— Нет, просто, я назначил здесь свидание Жильберу.
— Жильберу?
— Да, это кузен Валери, я даю ему уроки.
— Ты даешь уроки? Я не знала!
— Конечно, ведь ты свалилась, как снег на голову! Что за бредовая идея — жить в Туке! Ты увидишь, Жильбер очень симпатичный! Он придет к десяти, чтобы показать работу по математике, заданную ему на завтра. Ты не против?
— Да нет же, конечно, нет, — ответила Мадлен.
Жан-Марк снова обернулся к двери.
— Он уже должен был быть здесь! — нервно произнес он.
И тут его лицо осветилось улыбкой. Мадлен увидела, что в зал входит молодой стройный белокурый юноша с таким ясным взглядом, что ей и самой захотелось улыбнуться. Жан-Марк представил их друг другу, заказал три чашки кофе.
— Так что там с твоим заданием? — спросил он.
Жильбер протянул ему страницу, исписанную цифрами. Жан-Марк пробежал ее глазами и сказал:
— Кажется, все верно… Во всяком случае, обоснование… Расчеты нужно будет последовательно проверить…
— Не стоит, — возразил Жильбер. — Даже если в работе и есть несколько мелких ошибок, не страшно!.. Какое милое местечко! Я здесь раньше не бывал…
— Да, — Мадлен кивнула. — Раньше я сюда часто приходила. Их коронное блюдо — оссобуко.
— Оссобуко? — переспросил Жильбер. — А, знаю, это очень вкусно, но страшно сытно!
К удивлению Мадлен, Жан-Марк рассердился.
— Ты-то почти ничего не любишь из еды! Будь твоя воля, ел бы жареную вырезку да зеленый салат!
— Великолепный рацион! — одобрила Мадлен. — Если бы я села на такую диету, то вернула бы себе форму лучшей поры молодости. Но в Туке слишком много искушений: свежая рыба, ракушки, раки, креветки…
— Да, вы ведь живете в Туке, — подхватил Жильбер, — я хорошо знаю эту часть страны. Бабушка с дедушкой часто возили меня в Довиль во время каникул. Мне тогда было лет четырнадцать или пятнадцать. В Туке еще есть прелестная, хоть и не действующая церковь…
Растроганная Мадлен воскликнула:
— Я живу совсем рядом, в бывшем доме священника, знаете?
— Нет… не помню…
— Ну как же, на улице, которая уходит влево от Трувиля.
— Да, возможно… да, конечно…
— Замечательный дом! — вступил в разговор Жан-Марк. — Чудо вкуса, гармонии и удобства!
— Итак, приглашаю вас в гости в любой момент, — подвела итог Мадлен.
Жан-Марк одарил ее таким благодарным взглядом, что Мадлен растерялась. Что такого необычного она сделала? Жильбер тоже казался взволнованным.
— Благодарю вас, мадам, — сказал он. — Мы обязательно приедем. Особенно теперь, когда у меня есть машина!
— Но пока нет прав! — вмешался Жан-Марк.
— Я снова сдаю экзамен на следующей неделе. Если хоть чуть-чуть повезет… Странно, но мы теряем половину жизни, готовясь к экзаменам — на водительские права, на степень бакалавра, на лицензию! С мая вся молодежь во Франции пребывает в состоянии тревожного ожидания. Вокруг меня все заражены вирусом «экзаменосдачи»!
— Не стоит так себя жалеть! — сказала Мадлен, смеясь. — Я вот окружена людьми, которым больше не надо сдавать экзаменов, сообществом бывших, и это очень грустно!
— Дипломы полезны для возбуждения жизненных сил!
— И для залечивания ран, нанесенных нашему тщеславию! — подхватил Жан-Марк.
— «Ах! Бесконечный эгоизм отрочества, усердный оптимизм: как расцветал мир тем летом!..» — продекламировал Жильбер.
— Рембо, «Озарения», — определил Жан-Марк.
— Точно. А вот еще:
— Ронсар?
— Нет. Луиза Лабе[24]. Неплохо, верно?
Сидевшая напротив Мадлен переводила взгляд с одного юноши на другого, как во время теннисного матча. Какой Жильбер живой, забавный и симпатичный! В его присутствии лицо Жан-Марка словно осветилось изнутри радостью и возбуждением. Увлеченные звучанием собственных голосов, они говорили обо всем и ни о чем, критиковали какой-то фильм, превозносили до небес театральную постановку…
— Вы обязательно должны посмотреть «Канареек — возмутительниц спокойствия»! — сказал Жильбер. — Это уморительное зрелище!
— Валери не слишком понравилось, — заметил Жан-Марк.
— Ну да, конечно! Валери всегда будет мне противоречить! А восстановленный «Ричард Третий»!..
— Вот это мне было бы интересно посмотреть! — сказала Мадлен. — Я когда-то восхищалась игрой Даллила… Признаюсь вам, что питаю страсть к Шекспиру!
— Значит, ты полная противоположность Валери! — заметил Жан-Марк. — Она настолько его не любит, что даже отказалась пойти с нами!
Жильбер хотел было что-то добавить, но промолчал, хотя проглоченная шутка искорками смеха плескалась в его глазах. Он, наверное, не очень любил свою кузину… Мадлен внезапно почувствовала, как сильно она устала. Ноги отяжелели, в висках стучало. Она попросила счет.
— Чем вы теперь займетесь? — спросила она, вставая.
— Проводим тебя, а потом… не знаю… выпьем где-нибудь, — ответил Жан-Марк, кинув на Жильбера дружеский взгляд.
Жильбер кивнул, соглашаясь. Мадлен вышла, тяжело прихрамывая, в сопровождении своего юного эскорта.
Они расстались с ней у дверей дома. Мадлен представляла себе, как они идут вверх по рю Бонапарт, а потом исчезают на залитой светом огней площади Сен-Жермен-де-Пре. Бог знает, почему они казались ей похожими на тех двух дельфинов, которых она видела с палубы корабля, увозившего ее в круиз к берегам Норвегии: они выскакивали из воды, черно-серые, лоснящиеся, опьяненные собственной силой и радостью жизни. Встреча с Жильбером оставила у нее ощущение неловкости, хотя она не могла не восхищаться его изяществом и элегантностью. Она радовалась, что у Жан-Марка появился такой замечательный друг, хотя ее смутно беспокоила привязанность племянника к этому мальчику. Разве это не странно, что за несколько недель до свадьбы он ходит в театр без своей невесты? «В прежние времена влюбленный юноша никогда бы не…» Мысли Мадлен потерялись в туманной дымке прошлого. После войны все изменилось, особенно отношения между людьми. В ее мозгу снова застучали молоточки тревоги. Как все это неприятно!
Вернувшись домой, Мадлен нашла Филиппа в гостиной — он читал «Монд».
— Итак? — спросил он.
Мадлен со стоном упала в кресло.
— Черт! Что за день! Я увиделась со всеми!
Он отложил газету.
— Молодец! И какие у тебя впечатления?
О Даниэле и Жан-Марке она мало что могла рассказать брату, зато во всех деталях передала разговор с Франсуазой. Филипп слушал внимательно. Он сидел на диване, положив ногу на ногу и опираясь правой рукой на подушку, как на плечо живого человека. Когда Мадлен начала сетовать на то, что Франсуаза отказывается разводиться, он взял со столика тяжелую серебряную зажигалку, закурил, помолчал несколько долгих минут и наконец сказал:
— Я ее понимаю. Если она его действительно любит, то, естественно, готова до последнего надеяться на воссоединение. Почему ты думаешь, что он в конечном итоге не вернется?
— Когда мужчина вот так оставляет жену, он делает это не для того, чтобы несколько месяцев спустя вернуться, сгорая от стыда!
— Ты ничего в этом не понимаешь! Возможно, он поддался безумному увлечению, а когда оно пройдет, будет растроган, узнав, что, несмотря ни на что, она не утратила веры в него…
Мадлен охватил гнев.
— Это несерьезно, Филипп! — воскликнула она. — Этот брак — ужасная ошибка! Ты не сумел помешать ему, а теперь, когда нам предоставляется уникальная возможность увидеть Франсуазу свободной от этого человека, ты сомневаешься, взвешиваешь «за» и «против», спрашиваешь себя, не лучше ли будет для нее, чтобы он вернулся! Да это же будет катастрофа! Франсуаза снова окажется в его власти!
— Что ж, — улыбнулся Филипп, — лучше страдать от присутствия, чем от отсутствия.
Мадлен посмотрела на брата с ужасом. Большая лампа под шелковым абажуром бананового цвета ярко освещала его усталое, стареющее, задумчивое лицо с оплывшими чертами и грустным взглядом. Филипп находился за тысячу лье от Франсуазы. Он все примерял на себя, как делал это всегда и во всем. Забытая сигарета догорала между пальцами левой руки. Он все еще носил обручальное кольцо.
— Так что же, — резко спросила Мадлен, — ты даже не попытаешься ее вразумить?
Он покачал головой.
— Нет. В подобных историях разум всегда оказывается в проигрыше.
Мадлен поняла, что он ни за что не уступит, потому что таким образом защищает собственное безумство. Тем хуже, она будет бороться одна и заставит Франсуазу отказаться от засевшей у нее в голове бредовой идеи. Кстати, она сама никогда не нуждалась ни в советах, ни в помощи других людей. Но как быть с магазином? Невозможно до бесконечности оставлять его на попечении мадам Гурмон! Ничего, можно курсировать между Туком и Парижем, и она будет поступать так ровно столько, сколько понадобится. Мадлен решительно встала и сказала:
— Спокойной ночи, Филипп.
Он вскочил с живостью, которой она в нем не могла даже предположить.
— Ты уже уходишь?
— Ты знаешь, который час?
— Подожди минутку! Я не успел тебе сказать: у меня есть новости. Я наконец получил сведения, которые запрашивал о Рихарде Раухе!
— О Рихарде Раухе?
— Да, о любовнике Кароль!
— Ах, ну да… — с отвращением прошептала Мадлен.
Филипп ликовал:
— Ее провели, как ребенка! Раух не только был членом «гитлерюгенда», но и его финансовое положение весьма шатко. Он никогда не занимал пост генерального директора компании «Эрска», а был всего лишь спецпредставителем по Франции, причем его эксклюзивный контракт истекает тридцать первого декабря этого года. Если контракт не возобновят, Рауха будут держать в неизвестности касательно его положения в фирме. Я совершенно уверен, что с контрактом у Рауха ничего не выйдет, поскольку «Эрска» вот-вот договорится с Парижской сталелитейной компанией о производстве во Франции станков по ее заказу. Кароль этого знать не могла: сведения конфиденциальные! Этот человек блефовал с самого начала их знакомства! Чтобы уговорить меня не противиться разводу, она заявила, что отказывается от своей доли совместного имущества! Не сегодня-завтра она очнется в каком-нибудь маленьком немецком городке с мужем, получающим жалованье чиновника средней руки!
Чем сильнее возбуждался Филипп, тем более жалким он казался Мадлен с этой исступленной одержимостью Кароль. Вместо того чтобы забыть, он преследовал ее, питаясь жалкими крохами чувства, которые она из милости бросала ему через плечо. Он пожирал хорошее и плохое без разбору.
— Получилось, что она просчиталась во всем! — заключил Филипп. — Смешно!
— Это было бы смешно, если бы она его не любила! — жестко произнесла Мадлен. — Но я полагаю, что Кароль любит этого человека!
— Да-да, конечно! — вздохнул Филипп, насупившись.
Он направился к секретеру, взял бутылку виски, поставил ее на стол.
— Скотч? — предложил он.
— Нет, спасибо, — сказала Мадлен, — я иду спать.
Она оставила брата в гостиной возле лампы одного, с сигаретой, стаканом виски и воспоминаниями.
XIX
С самого начала завтрака Мадлен страдала от холодной атмосферы мраморной столовой семьи Шарнере. Два метрдотеля с застывшими лицами беззвучно передвигались по этому святилищу. Еда, слуги, разговор за столом, вина — все было отменного качества, а Мадлен казалось, что она жует бумагу и слушает жужжание мух. Она едва узнавала Жан-Марка в новой для него роли счастливого жениха. Подобную растерянность она когда-то испытала после объявления войны, когда впервые увидела мужа в военной форме. Жан-Марк так же мало подходил на роль члена семьи Шарнере, как ее бедный Юбер — для амплуа военного. Большинство мужчин не умеют выбирать себе судьбу. Но Юбера мобилизовали, а вот Жан-Марк… «Что на него нашло? Неужели он не понимает, что встал на ложный путь? Если бы я осталась в Париже, то, возможно, сумела бы отговорить его от этой затеи. В любом случае, посоветовала бы подождать. Молодой человек не должен жениться раньше двадцати семи — тридцати лет…» Мадлен с любезным выражением лица повернулась к Валери, приглашавшей ее отправиться сразу после обеда на авеню Бюжо посмотреть на квартиру, которую она обустраивала для них с Жан-Марком.
— Вы должны взглянуть и что-нибудь нам посоветовать — Жан-Марк говорил мне, что у вас бездна вкуса!
— Жан-Марк так добр ко мне! — Мадлен улыбнулась девушке. — Я уверена, вам не нужны ничьи советы!
— В квартире низкие потолки, и я выбрала «горизонтальный» стиль.
— Это разумно.
— Правильные линии, вытянутая в длину мебель…
— И восхитительные цвета! — воскликнула госпожа де Шарнере, сделав изящный жест сухой белой рукой. Бриллиант-солитер в ее кольце сверкнул в свете люстры, подобно огню маяка. — Серо-бежевый, желтоватый, табачный… И вдруг — ярко-желтое пятно, бутылочно-зеленое, как контрапункт… Представляете, что я имею в виду?..
— Мне больше всего нравится будущий кабинет Жан-Марка, — сказала Валери.
— Да, комната будет очень хороша! — признал Жан-Марк с вымученной улыбкой. — Вот только я никогда не соберу столько книг, чтобы заполнить все стеллажи!
— Дело наживное! Все придет! — произнес господин де Шарнере — уравновешенно-самодовольный, надежный, по-отечески заботливый. — Для начала, друг мой, я передам вам документацию по правовым проблемам фармацевтической промышленности — этого хватит на целую секцию вашей книжной стенки. Вам следует начать входить в курс того, чем вы будете заниматься в скором времени!
— Именно этого я и хочу! — отвечал ему Жан-Марк.
— Увидите, в этой области есть чрезвычайно увлекательные правовые аспекты! В наши дни карьеру можно сделать, только выбрав узкую специализацию…
И господин де Шарнере запел осанну французской фармацевтической промышленности, а дамы вернулись к обсуждению насущных проблем. Свадьба назначена на 2 июля, молодые сразу уедут в Шотландию. К сентябрю, когда они вернутся, их квартира будет полностью готова.
— А что с твоей службой в армии, Жан-Марк? — спросила Мадлен.
— Я все устроил, — заявил господин де Шарнере. — Он останется в Париже, это будет, так сказать, «домашний» вариант!..
— Об этом можно было бы только мечтать! — вздохнул Жан-Марк.
— Так все и будет, друг мой! Можете быть уверены!
Жан-Марк озабоченно взглянул на Мадлен, явно опасаясь ее суждения обо всем происходящем. Она опустила глаза в свою тарелку: порция шоколадного торта. Две ложки тающего во рту деликатеса. Мрамор стен и пола душил ее. Дрожь пробрала ее между лопатками. Госпожа де Шарнере поднялась с величавой медлительностью. Все в этой женщине было жилистым и угловатым.
Общество перебралось в гостиную. Гобелены с мифологическими персонажами, тяжелая старинная мебель — ничуть не веселее, чем в столовой. Через открытое окно в комнату вливался шум авеню Фош. Господин де Шарнере пил кофе стоя, глядя вдаль. Время от времени он произносил многозначительную фразу — то о политике, то о делах. Жан-Марк стоял рядом с ним и как почтительный наследник престола внимал мудрому гласу. Женщины поболтали еще несколько минут, потом Валери объявила, что ей пора на авеню Бюжо, потому что обойщик ждет ее к половине четвертого. Жан-Марк и Мадлен присоединились к ней.
Квартира была совсем рядом, в новом доме, сверкавшем застекленными дверями. Оказавшись в квартире, Жан-Марк ощутил внезапную слабость. Он смотрел на Мадлен и Валери, которые обсуждали с обойщиком цвет штор, и мечтал только об одном — чтобы никто не спросил его мнения. Он боялся даже вообразить, какими станут эти пустые комнаты с оштукатуренными стенами и замазанными краской окнами, когда все работы будут закончены. Мебель, ткани, лампы с абажурами приглушенных тонов, шкафы, заполненные постельным бельем, кровать, мягкий ковер под босыми ногами — ласковая западня, нежная паутина с Валери в центре. Внезапно, решив присоединиться к остальным, он сказал:
— Как глупо! Я только что вспомнил, что договорился встретиться с Копленом — у меня, в четыре!
— Отмени! — приказала Валери.
— Слишком поздно! Он наверняка уже в дороге. Ему обязательно нужны мои записи семинарских занятий!
— Тогда возьми машину, слетай на рю д’Ассас и сразу возвращайся. У вас есть еще несколько минут, мадам?
— Конечно, — ответила Мадлен.
Жан-Марк схватил ключи и техпаспорт, которые протянула ему Валери, и выбежал из квартиры. Его душа жаждала отдыха. «Остин-купер» был припаркован на пересечении рю Спонтини и авеню Бюжо. Он сел за руль, но поехал не в центр Парижа, а к Булонскому лесу. Ему пришла в голову неожиданная мысль навестить Жильбера — они не виделись два дня, и ученик ждал его на урок только завтра. Если Жильбера дома не окажется, он просто прокатится, чтобы успокоить нервы. Как он жаждал сейчас вдохнуть свежего воздуха полной грудью! На рю Дофин он опустил все стекла и жадно вдыхал запах первых свежих листочков. Ему понадобилось три минуты, чтобы попасть на бульвар Мориса Барреса, в этот тихий, тенистый богатый квартал. У двери квартиры он призвал на помощь всю жившую в душе надежду и позвонил. Открывший ему лакей ободрил его улыбкой. Да, месье Жильбер дома. Жан-Марк пошел следом за ним по длинной галерее, увешанной старинными картинами в темных тонах.
Увидев входящего Жан-Марка, Жильбер, работавший за своим столом, медленно, как загипнотизированный, поднялся. Долю секунды его лицо ничего не выражало. Потом глаза, лоб и губы осветила улыбка, все лицо засияло удивлением и радостью.
— Я заехал наудачу, — бросил небрежно Жан-Марк.
— А я — остался наудачу.
— Как это?
— Мы с бабушкой собирались в гости, но я в последний момент передумал. Предпочел закончить задания. Ну, и… вот!
— Невероятно!
— А меня это не удивляет! Ты из дома?
— Нет, я был рядом, на авеню Бюжо, с тетей и Валери. Чем ты занимаешься?
Жан-Марк склонился над столом, увидел страницу с расчетами, исчерканную почерком Жильбера.
— Оставь! — сказал Жильбер. — Это так скучно!
На стене, за его спиной, была приколота фоторепродукция из художественного альбома — Орест и Пилад, — этой скульптурной группой они с Жан-Марком так восхищались тогда в Лувре, ночью.
— Смотри-ка, — удивился Жан-Марк, — ты ее нашел?
— Да, вырезал из книги о древнегреческой скульптуре.
— Как прекрасно!..
Жильбер снял со стены фотографию и протянул Жан-Марку:
— Возьми.
— Нет, что ты!
— Я куплю еще одну книгу. Я так рад, что фотография будет у тебя. Повесишь ее у себя в кабинете?
— В кабинете?
— Да, после свадьбы?
У Жан-Марка перехватило от волнения горло, и он только кивнул.
Они посмотрели друг другу в глаза. Тишина окутала их обоих. У Жан-Марка стучало в висках, он чувствовал совершенное, абсолютное счастье, он был в ладу с самим собой. Но так ненадолго! Чуть вправо, чуть влево, сквознячок, крик, голос Валери — и все будет кончено.
— Итак, дата назначена? — спросил Жильбер. — Второго июля?..
— Да.
— Бабушка и дедушка сказали мне вчера. Второго июля! Почему так поздно?
— Я должен сдать экзамены, прийти в себя, подготовиться…
— Много же времени тебе нужно!
Жан-Марк покачал головой.
— Какой ты странный, Жильбер! К чему все время говорить об этой свадьбе? Неужели у нас мало тем для общения?
Жильбер мгновение помолчал, потом поднял на Жан-Марка глаза, залитые слезами. Он с трудом справлялся с волнением. Наконец радость и дружеское расположение взяли верх над обидой.
— Ты прав, — сказал он. — Я должен наплевать на твою женитьбу, на эту дичайшую, глупейшую формальность, придуманную лицемерами для обуздания легкомысленных мотыльков!
Их взгляды снова встретились. Жан-Марк ощутил невероятное счастье, как будто он получил в подарок чужую жизнь. Так прилив накрывает песок на пляже, и между водой и песком происходит обмен мельчайшими частицами.
— Если бы ты знал, как я счастлив провести с тобой несколько минут! — сказал он. — Я отдыхаю, я расслабляюсь, я дышу…
Произнося эти слова, он смотрел на подаренную Жильбером фотографию, как будто обращался к Оресту и Пиладу.
— Давай я положу ее в конверт! — сказал Жильбер.
Пока он шарил в ящике, Жан-Марк подошел к окну: внизу тянулись ряды каштанов с пушистыми зелеными шапками крон, украшенными белыми свечками цветов.
— Как ты сюда добрался? — спросил Жильбер, засовывая репродукцию в большой желтый конверт.
— Приехал на «остин-купере» Валери.
— Как глупо! Я мог бы отвезти тебя на своей машине! Через Булонский лес — там я ничем не рискую, даже без прав!
Внезапно он хлопнул себя ладонью по лбу.
— Ты не спешишь?
— Вообще-то, спешу, старик. А что?
— Ну хоть четверть часа у тебя есть?
— Да, конечно…
— Тогда давай проедемся на моем «моррисе». Потом я привезу тебя сюда, ты возьмешь «остин» Валери и вернешься на авеню Бюжо!
Как отказаться? Эти короткие поездки на машине по Булонскому лесу доставляли такую радость Жильберу! Он вел машину медленно, избегая шумных аллей и перекрестков с патрульными полицейскими. Жан-Марк сидел рядом и давал ему советы. Но как быть с Валери, с Мадлен, они ведь ждут его? Плевать, что-нибудь придумает!
— Ладно, вперед! — весело скомандовал он.
Они уселись в белый автомобильчик, и Жильбер мягко тронулся с места, с чем Жан-Марк его и поздравил. Вскоре они уже ехали по одной из пустынных тихих аллей.
— Давай прибавь скорости, — предложил Жан-Марк.
Жильбер послушался, хотя явно нервничал — он вообще был очень впечатлительным и не в меру пугливым. Жан-Марк считал, что должен научить его доверять рефлексам.
— Поверни направо… Теперь налево… Обгони этот «ситроен», он слишком медленно тащится…
Жан-Марку нравилось командовать человеком, который мгновенно подчинялся.
— Быстрее, быстрее!..
— Уже восемьдесят! — прошептал Жильбер.
— И что же?
— В лесу ограничена скорость…
— Забудь об этом. Давай!
Лицо Жильбера передернулось, он нажал на педаль газа. В глазах под вздрагивающими веками плескался страх. Жан-Марк ощутил жгучую радость. Он прикоснулся к правой руке Жильбера, вцепившегося в руль.
— Сбрось скорость!
Жильбер расслабился. Сглотнул слюну.
— Все хорошо, — похвалил его Жан-Марк.
Свет, отражаясь от листвы, проникал внутрь кабины, пахло травой и землей. Жильбер улыбался. Внезапно он спросил:
— Что ты делаешь сегодня вечером?
— Буду заниматься, — ответил Жан-Марк.
— С Дидье?
— Нет, один.
— Почему бы тебе не приехать заниматься ко мне? У меня тоже куча дел. Поужинаем вместе — бабушка и дедушка будут в восторге! — потом засядем в своем углу, с книгами и записями, мы не будем мешать друг другу, честное слово…
Идея была соблазнительная. Жан-Марк согласился без колебаний.
— Но сейчас я должен поехать к Валери, — сказал он.
Когда он вернулся в квартиру на авеню Бюжо, Мадлен уже ушла, а Валери давала указания электрику, который записывал их в блокнот.
— Мне так жаль! — выпалил Жан-Марк. — Меня задержал Коплен! Тетя Мадлен уже ушла?
— Да, — сухо ответила Валери. — Кстати, я тоже собиралась уходить. Нет, правда, Жан-Марк, это уже слишком!
У нее был оскорбленный вид, холодные глаза и визгливый тон — как в худшие дни. Костюм сливового цвета точно соответствовал ее настроению: жесткие складки, пуговицы, пылающие гневом. «Она всю жизнь будет иметь право упрекать меня! Это невозможно, невозможно!» — с тоской думал Жан-Марк.
— Тебе так скучно заниматься вместе со мной нашей будущей квартирой? — спросила Валери, сбавив тон.
— Да нет, что ты, — возразил Жан-Марк, подумав: «Когда она старается быть милой, получается еще хуже!»
— Пойдем, посмотришь, — позвала она, — надо решить, где делать розетки у тебя в кабинете. Куда бы ты хотел поставить большую лампу? Сюда? Или туда? Здесь — практичнее, там — красивее… На мой вкус, конечно… Заметь, что…
Жан-Марк слушал Валери и думал, что ему все это глубоко безразлично.
Жан-Марк разложил на диване конспекты семинарских занятий, начал во второй раз перечитывать главу о правовых конфликтах в частном международном праве, не запоминая при этом ни слова. Он то и дело поднимал глаза от текста, чтобы взглянуть на Жильбера, мучившегося над математикой, — тот сидел за столом, опираясь на широко расставленные локти. Внезапно Жильбер тоже поднял голову, и их взгляды встретились.
— Все в порядке? — спросил Жан-Марк.
— Нет, — пробормотал Жильбер. — Не могу сосредоточиться.
— Я тоже. Знаешь, вместе можно заниматься, только если работаешь над одной и той же темой!
— Хочешь, прервемся? — предложил Жильбер. — Послушаем пластинки…
— Никакой музыки, пока я не вдолблю себе в башку эту главу! Сейчас одиннадцать. Работаем до полуночи!
Жильбер тяжело вздохнул, вцепился пальцами в волосы и снова склонился над своей тетрадью. Минуты тянулись бесконечно. Жан-Марк перестал даже делать вид, что читает. Он сидел, положив ногу на ногу, и не сводил глаз с Жильбера. Внезапно он испытал желание прикоснуться к этому высокому гладкому лбу, красиво очерченному подбородку, длинной шее, так красиво переходившей в сильные, совершенных очертаний плечи. «Почему Жильбер не девушка?!» — спросил он себя. Эта неожиданная мысль потрясла его, как физический шок.
— У меня есть идея, — начал Жильбер, захлопывая тетрадь. — А что если в следующее воскресенье мы съездим за город на моей машине? Мне надо попрактиковаться на шоссе…
— Согласен, но не в следующее воскресенье: это будет накануне письменного экзамена по праву, я буду весь день заниматься.
— Тогда через две недели?
— Если будет хорошая погода!
— Будет, я уверен! — воскликнул Жильбер. — Кстати, мы можем отправиться туда, где у твоих родителей загородный дом!
— В Бромей?
— Да-да!
Жан-Марк помрачнел. Он не мог привезти Жильбера туда, где еще ощущалось присутствие Кароль.
— Нет, — отрезал он.
— Почему?
— Не знаю… Я слишком часто ездил в Бромей в детстве… Теперь там все не так… Воспоминания… ты понимаешь! Вокруг много других красивых мест! Сам увидишь!
— Полагаюсь на твой выбор! — ответил Жильбер с пылающим взором.
Он неожиданно вскочил. Жан-Марк тоже встал. Им овладело странное изнеможение. Внезапно женитьба показалась ему совершенно необходимой — и чем скорее, тем лучше. Он стремительно простился и ушел.
На улице он мысленно вернулся к своей тревоге и нашел ее абсурдной, смешной. Настоящая дружба, говорил он себе, всегда основывается на чем-то гораздо более таинственном, чем совпадение возрастов и характеров. Только поступок относит нас к определенной категории людей. А поступка он никогда не совершит — в этом Жан-Марк был уверен! Можно позволить мыслям заходить как угодно далеко, воображать, все себе позволять в мечтах — и все-таки не чувствовать себя другим, не таким, как все!
Дойдя до дома, Жан-Марк окончательно успокоился. И все же он долго размышлял, лежа в постели, о трагическом одиночестве тех, кто, презрев табу, налагаемые обществом, утоляет свою противоестественную страсть, и вспоминал имена знаменитых артистов, тонких, неординарных писателей. Погасив свет и лежа в темноте, Жан-Марк невероятно четко видел перед собой образ Жильбера и наконец уснул, чувствуя счастье и умиротворение.
XX
Франсуаза бежала вверх по лестнице, ища в сумке ключ, чтобы выиграть время. Найдя его, она подняла голову — на площадке второго этажа ее кто-то ждал.
— Александр! — прошептала она, и у нее перехватило дыхание.
— Ну да, конечно! — отвечал он, смеясь. — Это я!
Она заметила стоявший у стены чемодан.
— Я решил было уже уйти, оставив тебе записку, — продолжал он, — и вернуться вечером.
Он хотел поцеловать ее, но она уклонилась, открывая дверь. Александр вошел следом, держа в руке свой чемодан. Должна ли она воспротивиться? Стоило Франсуазе увидеть мужа, и она почувствовала, как рвутся связи, соединяющие ее с реальным миром. Она шла домой, приведя в порядок мысли, думая о каждодневных заботах, сделав мелкие покупки — копирку, ленту для машинки, два ломтя ветчины, банку шпината, марки… и вот внезапно земля уходит у нее из-под ног, она обо всем забыла и словно нырнула в грезу. «Какое счастье, что Николя нет дома! — сказала себе Франсуаза. — Это упростит дело». Какое именно «дело», Франсуаза и сама не знала.
Они вошли в большую комнату. Она осмелилась взглянуть Александру в лицо. Он похудел. На лице с заострившимися чертами глаза казались противоестественно огромными. Франсуаза спросила:
— Зачем ты вернулся?
— Я все объяснил тебе в письме, — ответил он, — мне нужно хлопотать об иммиграционной визе.
Надеялась ли она в глубине души, что муж вернулся из-за нее и больше не уедет? Франсуазой овладели досада и разочарование.
— Ну да, конечно, — пробормотала она. — И сколько времени тебе понадобится?
— Думаю, две-три недели… Там мне очень повезло: мои кузены — тоже Козловы! — заявили властям, что поселят меня у себя. Это необходимо, если хочешь жить в Москве!
Александр огляделся вокруг себя.
— Там в подобной квартире жили бы три семьи! Скажу тебе честно — узнав трудную, но веселую жизнь русских, с трудом переносишь западный комфорт. Я часто сожалел, что тебя нет рядом, там я сумел бы объяснить тебе все достоинства некоторых лишений…
Франсуаза удивилась, что он включал ее в свой советский опыт, уже решив с ней расстаться.
Александр рухнул в кресло и вытянул ноги. У него было лицо счастливого человека, вернувшегося в родной дом после долгого путешествия. Франсуаза наблюдала за мужем и не понимала его. Неужели он не видит, как жестоко терзает ее?
— Да, — продолжил он, — в СССР нужно ехать не туристом, избалованным удобствами, а человеком с гибким сознанием, готовым открыть для себя другой народ. Это вопрос не политики, а чувствительности. Если с чувствами у тебя все в порядке, ты выдерживаешь потрясение первой встречи и готов к следующим… Ты ведь меня знаешь: я не ценю удобства и уют — ни материальные, ни интеллектуальные. Как только проблема становится слишком простой, она перестает меня интересовать. — Он моргнул и добавил: — Боюсь, что вот-вот усну!
Франсуаза опустила голову. Вот все и выяснилось: в их прежней жизни, с ней, он засыпал от скуки! Помолчав несколько мгновений, Александр провел по лицу рукой и спросил:
— Ты собрала все бумаги для развода?
— Развода не будет, — ответила Франсуаза.
Брови Александра стремительно взлетели вверх.
— Вот как? И почему же?
— Потому что я этого не хочу!
Александр долго молча смотрел на нее, обуреваемый нежностью, смешанной с удивлением. Он наверняка принял этот отказ за еще одно доказательство ее любви. Но Франсуаза была так далека от этого чувства, что ни на мгновение не заподозрила, что ее решение может быть столь превратно истолковано.
— Дело твое! — бросил наконец Александр. — Меня это не волнует!
Он встал, протянул ей руку. Франсуаза колебалась.
— Чего ты боишься? — удивился он.
Она дала ему руку и вздрогнула от прикосновения горячих сухих пальцев. Не выпуская ее пальцев из своей ладони, Александр пристально вглядывался в лицо жены.
— Знаешь, я много думал о тебе в России, — продолжил он. — О тебе, о нас. То, что совместная жизнь изнашивает, обесцвечивает, разрушает, может быть воссоздано в изначальной прелести за несколько дней разлуки. А ведь существует еще и плоть. Это так важно, так значимо!
Он выглядел сейчас, как уличный попрошайка. Франсуаза испытала такой сильный прилив желания, что едва не бросилась ему на грудь, но, напуганная собственной слабостью, оттолкнула его обеими руками.
— Нет!
— Что это с тобой? — удивился Александр.
— Сначала ты пишешь, что я тебе больше не нужна, потом появляешься совершенно неожиданно…
— Не ты мне не нужна, а наша семейная жизнь. Ты мне по-прежнему нравишься. Я люблю тебя. И доказательство тому…
Александр во второй раз попытался обнять Франсуазу, но она снова отстранилась. Все ее чувства иссякли, душа высохла, ее внутренности словно кто-то набил опилками. Этот человек был ей отвратителен. Животное, озабоченное исключительно своими примитивными желаниями и инстинктами. Заняться любовью для него было так же легко, как выпить стакан вина. Как он сказал ей однажды: «Удовольствие не нуждается в оправдании»? Александр вздохнул:
— Не бойся, я не стану тебя принуждать! Куда мне положить вещи?
— Но ты же не собираешься остаться здесь? — растерянно пролепетала она.
— Именно что собираюсь!
— Это невозможно, Александр.
— Неужели? А почему?
Франсуаза не отвечала. Александр бросил на нее ироничный взгляд, скривил рот и продолжил:
— Чем я тебе не угодил? Украл сбережения? Убил одного из твоих родственников? Ты даже не можешь упрекнуть меня во лжи! Все между нами по-дружески, ясно, правильно…
— Правильно, — с горечью повторила она.
— Прекрасно! Ты же не собираешься и вправду превратить мое пребывание в этом доме в драму в буржуазном стиле? Три недели пройдут быстро. Кроме того, тебе следует определиться, чего ты в действительности хочешь! Ты отказываешься от развода, но не хочешь и принять меня в своем — нашем! — доме. Заявляешь, что считаешь себя замужней женщиной, — и запрещаешь мужу разделить с тобой кров! Это уж слишком, не находишь?
— Что действительно слишком, так это твоя манера оправдывать то, что ни оправдать, ни простить невозможно, — отрезала Франсуаза. — Что бы ты ни делал — ты всегда в своем праве! Всегда падаешь на все четыре лапы, как кошка! Ты отличный акробат, Александр!
Александр засмеялся, в углах глаз собрались морщинки, он оскалился хищной белозубой улыбкой.
— Ты же не хочешь, в самом деле, чтобы я отправился в гостиницу? — спросил он. — Да у меня и денег-то нет. А у тебя здесь так много места!
Обезоруженная и раздраженная, Франсуаза внезапно поняла, что уже несколько минут ждет повода капитулировать.
— Ладно, договорились! — сказала она. — Будешь спать в кабинете.
— В кабинете?
— Ты же знаешь, что у тебя в этом доме есть кабинет. Тебе там будет очень удобно!
Александр взял чемодан.
— Показывай дорогу. Я боюсь потеряться в этих княжеских покоях!
Франсуаза повела его по коридору, толкнула дверь. В маленькой комнатке пахло мастикой. Все в ней выглядело чистым и мертвым. Никто не жил здесь ни одного дня. Александр пробежал взглядом по книгам на полках, по бумагам, сложенным аккуратными стопками на столе.
— Кровати здесь нет, — констатировал он.
— Николя одолжит тебе матрас, а сам поспит на пружинной сетке.
— Как он, кстати, поживает?
— Очень хорошо.
Александр открыл чемодан. Франсуаза увидела рубашки и носовые платки, стиранные-перестиранные ею сотни раз! На ум пришли воспоминания о роли жены. Наверно, это-то и было счастьем!
— Вот, я кое-что привез тебе, — сказал Александр.
Он вытащил из-под белья русскую расписную матрешку и с улыбкой протянул ее Франсуазе.
— Голова открывается, а внутри несколько других симпатяг, одна другой меньше, — объяснил он. — Забавно, правда!
— Благодарю, — произнесла Франсуаза, беря игрушку из рук мужа.
Она вышла из кабинета и укрылась в гостиной — как будто хотела спрятаться от опасности. Она не знала, что теперь делать. Не садиться же за машинку! Франсуаза чувствовала себя беспомощной, скукоженной, опустошенной, она сидела, прислонившись к стене, смотрела на русский пейзаж, висевший напротив, и ждала, сама не зная чего. Она машинально вертела в руках матрешку. Сердце у нее колотилось.
В глубине квартиры раздался какой-то шум: включилась газовая колонка в ванной. Александр решил принять ванну. Франсуаза почувствовала одновременно раздражение и счастье. В ее жизни внезапно возникла серьезная проблема! Она не могла ни принять мужа, ни прогнать его. Александр, наверное, находил жизнь прекрасной, нежась в теплой воде! Интересно, у него хоть есть чистое полотенце? Пойти отнести ему… Ну нет!.. Минуты тянулись бесконечно. Скоро шесть. Как долго он не выходит!
Хлопнула входная дверь. Франсуаза поставила матрешку на угол стола. Появился Николя — подбородок гордо задран, уши от холода прикрыты шерстяной пушистой полоской, напоминающей кроличьи лапки!
— Александр вернулся, — сообщила она.
Он скорчил презрительную гримасу.
— Вот как! Передумал, значит!
— Нет, не передумал. Он вернулся, чтобы получить визу.
— Где он?
— Принимает ванну.
— Он что, будет жить здесь?
— А где же еще? Денег у него нет!
— Бедная моя Франсуаза! Ты все терпишь!
Франсуаза почувствовала стыд из-за печально-сочувственного тона Николя. Уж не думает ли мальчик, что она снова подчинилась Александру? Быстро, будто оправдываясь, она пояснила:
— Он будет спать в кабинете.
— Здорово, ничего не скажешь! — пробормотал Николя, и на его лице Франсуаза прочла скептическое недоверие.
В тот же момент в проеме двери появился Александр: брюки не до конца застегнуты, на ногах тапочки, волосы влажные после душа. Черный шерстяной свитер он надел на голое тело, рукава были закатаны, жилистая шея выступала в треугольном вырезе.
— Как хорошо! — сказал он. — Привет, Николя!
Николя отступил на шаг, прислонился к стене, застыл, сунув руки в карманы. Он смотрел на отца со спокойной ненавистью.
— Итак, — начал он, — ты решил столоваться здесь, пока ждешь бумаги? Вот только я — не Франсуаза! Раз она хочет, чтобы ты остался, занимай мою комнату! Я сматываюсь отсюда!
— Давай, — откликнулся Александр. — Проваливай!
Франсуаза не успела сказать ни слова, как Николя вихрем пронесся по комнате и вылетел прочь. Стук захлопнувшейся двери заставил ее вздрогнуть. Она подняла глаза на Александра, как будто ждала от него объяснений. Он распрямил плечи, упер руки в бока и промолвил:
— И что ты на все это скажешь, а? Ты, помешанная на родительском авторитете и сыновней привязанности? Ты отдаешь себе отчет в том, насколько я был прав, предостерегая тебя против поклонения великим семейным ценностям? Если у меня и были хоть малейшие угрызения совести из-за того, что я его бросаю, то теперь все кончено!
Франсуаза кинулась в кухню, закрыла за собой дверь и упала на стул, заливаясь слезами. Она боялась, что Александр придет следом, но он оставил ее в покое. Ему наверняка надоела суматоха вокруг такого обычного — по его мнению! — события, как возвращение домой. Франсуаза долго сидела, глядя на развешанные на стене «по ранжиру» кастрюли. На столе после завтрака остались хлебные крошки. «У меня почти ничего нет к ужину. А он, вероятно, голоден. Пойти купить еще ветчины…» Но внезапно она решила: «Не будет никакого ужина!»
Она встала, взяла висевшее в прихожей пальто и вышла. Ее окутал нежный сумрак вечера. Франсуаза надеялась найти Николя у Клебера Бодри. Она до ночи бродила по улицам, зашла в кафе, выпила фруктовый сок, погуляла еще немного: шум и движение на улицах не давали ей размышлять над своей горькой участью. Около половины девятого она толкнула дверь Школы драматического искусства.
Здесь репетировали Куртелина[25]. Девушка и парень пытались быть забавными, споря громкими голосами в свете рампы. Николя сидел по-турецки прямо на полу на уровне первого ряда. Он обернулся на шум открывающейся двери, встал и пошел к Франсуазе, перешагивая через других студийцев, которые отклонялись в разные стороны, давая ему пройти.
— Что случилось? — шепотом спросил он, подходя.
— Не знаю… Не хотела оставаться одна с Александром…
— Ну надо же!.. Я тебя совсем не понимаю… Пошли!
Он взял ее за руку и повел к двери.
— Ты можешь уйти? — спросила Франсуаза.
— Да-да, конечно…
— Эй, вы там, тише! — крикнул кто-то.
— Да ладно вам! — огрызнулся Николя.
Занятия в этот вечер вел не Клебер Бодри, а дежурный репетитор: дисциплина явно хромала.
Франсуаза и Николя зашли в бистро напротив, заказали по кофе. Лица под лампами дневного света казались голубоватыми. Из музыкального автомата неслась зажигательная мелодия.
— Почему ты сбежал? — спросила Франсуаза. — Это же просто идиотизм!
— Вовсе нет! Я не вернусь домой, пока он там!
— Где ты будешь жить?
— Да не знаю… Может, у Алисии, может, где-нибудь еще…
— А если я попрошу тебя вернуться — в качестве личного одолжения?
— Это будет медвежья услуга. Если я вернусь — молчать не стану, просто не смогу. Выскажу ему в лицо все, что думаю. Поверь, это будет тот еще скандал!
— Тебе не в чем его упрекнуть!
— Нет есть! Он причиняет тебе боль!
— Он мне ничего плохого не делает. Ты вообразил себе невесть что…
— Брось! Посмотри на себя: краше в гроб кладут! Чем подлее он себя ведет, тем сильнее ты перед ним стелешься. Вместо того чтобы послать к черту и потребовать развода, играешь в брошенную жену и в благородство. Кретинизм! Ты такая умная, как ты можешь?.. И это будет продолжаться целых три недели, а может, и больше! Три недели в роли служанки! Возможно, ты даже подкинешь ему деньжат на сигареты!.. Я еще понимаю, если бы он попросил взаймы на авиабилет! Кстати, ты хочешь, чтобы он уехал, или нет?
— Конечно, хочу…
— Ты сама не веришь в то, что говоришь!
Она подняла голову и взглянула ему прямо в глаза:
— Верю, Николя! Тебе нужны доказательства? Пожалуйста! Раз ты не хочешь возвращаться домой, я тоже туда не вернусь!
Николя взорвался:
— Это уж слишком! Он будет жить у нас, в пятикомнатной квартире, а мы в это время поселимся неизвестно где?
— Так чего же ты хочешь от меня? — простонала Франсуаза.
Ее глаза наполнились слезами, силы были на исходе. Николя понял, что перегнул палку, и сказал очень мягко:
— Ничего, ничего! Я пошутил! У всех в жизни бывают трудные моменты!
Он допил свой кофе, взял со стола пакетик чипсов, открыл небрежным жестом, протянул Франсуазе. Она захрустела сухим соленым кружочком. Николя горстями закидывал в рот картошку. Минуту спустя пакетик опустел, и он тут же принялся за второй.
— У меня идея! — воскликнул он. — Почему бы нам не отправиться к твоему отцу? Ты ему все объяснишь. И мы оба на время поселимся у него, пока…
— Нет! — прервала его Франсуаза. — Нет! Только не у отца!.. Тетя Маду там!.. Не хочу, чтобы она знала…
— Тогда — к Алисии!
— Думаешь, это возможно?
— Конечно! Да я сейчас спрошу у нее, она еще в студии! Подождешь пять минут?
Он набил рот чипсами, скомкал пустой пакет, кинул его на стол и убежал. Музыкальный автомат замолчал. В установившейся тишине Франсуаза услышала шуршание — это разворачивался сам собой прозрачный целлофан из-под чипсов.
Николя вернулся с Алисией. Она была согласна.
— Вот только у меня одна кровать! — объяснила она Франсуазе. — Это тебя не пугает?
— Да нет! — ответила Франсуаза.
Она улыбалась, хотя подобная перспектива не слишком ее вдохновляла. Продолжая разговор, Алисия теребила длинную прядь волос, свисавшую на щеку:
— Через неделю моя соседка Мари-Клод уезжает в отпуск. Сможешь устроиться в ее комнате, там тебе будет удобнее…
Они доехали на метро до станции «Одеон». Алисия жила на рю де л’Ансьен-Комеди, на седьмом этаже большого, старого, почерневшего от времени дома. На первом этаже обосновался торговец жареной картошкой и сосисками. Николя, по-царски щедрый, купил каждой из своих спутниц по два мягких теплых страсбургских пирога, упакованных в бумагу. Франсуазе показалось, что она никогда не ела ничего вкуснее. Мясной сок тек по пальцам. Они выпили в бистро по кружке пива, залив жажду и перец. Франсуаза нервничала, но не была растеряна — присутствие Николя успокаивало ее.
Алисия жила в мансарде с низким потолком. Комната была заклеена фотографиями артистов, повсюду валялись конверты от пластинок, обрывки афиш. На три лампы в качестве абажуров были наброшены кукольные платьица — розовое, красное и оранжевое. Свет тонул в пышных юбочках. Низкий диван, задрапированный пунцовым покрывалом с белыми помпонами, был таким широким, что вокруг практически не оставалось места. Наполовину сложенная бамбуковая ширма прикрывала умывальник, переносное биде и кухонный столик с плиткой.
— Ну вот, — сказала Алисия. — Не слишком шикарно, но проблему решает! Туалет в глубине коридора…
Николя первым делом поставил на проигрыватель пластинку, протянул девушкам пачку сигарет. Они покурили, стоя перед открытым окном и вслушиваясь в глухой шум улицы. Потом Алисия отправилась умываться:
— Предпочитаю приводить себя в порядок вечером — по утрам я никак не могу проснуться! На работу мне к девяти, они там не шутят, в «Перчатках Першинга»!
Звук льющейся воды приглушал ее голос. Наконец она произнесла:
— Путь свободен!
Франсуаза обернулась. Алисия надела прозрачную ночную рубашку, но трусики снимать не стала. Над лбом нависали две большие трубочки бигуди, придавая ей смешной рогатый вид. Она смыла косметику, и ее черные глаза казались маленькими и невыразительными. «Может, и мне начать красить глаза, — подумала Франсуаза. — Мне пойдет!» Это была совсем другая жизнь.
— Твоя очередь! — сказала ей Алисия.
— У меня с собой нет никаких вещей, — смущенно прошептала Франсуаза.
— Там есть все, что нужно. Завтра съездишь за вещами. Посмотри, вот это тебе подойдет?
Она протягивала Франсуазе белую нейлоновую рабочую блузу. Та поблагодарила, взяла одежду и отправилась за бамбуковую ширму. Если комната была кое-как убрана, то в туалетном закутке была настоящая свалка, Щетка, полная тусклых волос, расческа, в которой недоставало половины зубьев, рядом с биде — грязные тарелки, на полу — салфетки, испачканные помадой и остатками туши. Подавив отвращение, Франсуаза умылась, вытерла лицо несвежим полотенцем, надела голубую блузу.
Выйдя из-за ширмы, Франсуаза увидела, что Алисия уже лежит в постели, а Николя устроился слева от нее. Он был голый по пояс и лежал, закинув руки за голову. Франсуаза полагала, что он будет спать на матрасе рядом с кроватью или в кресле. Ею овладело смущение, но она заставила себя улыбнуться.
— Тебе повезло: позавчера я сменила белье! — сказала Алисия и похлопала рукой по подушке справа от себя.
Франсуаза скользнула под простыню. Она злилась на себя за то, что не может чувствовать себя естественно в столь комичной ситуации. Буржуазные принципы давали о себе знать всякий раз, когда она меньше всего этого ожидала. Она это ненавидела, но не могла от них избавиться. У людей без образования жизнь намного веселее!
Играла музыка, Николя курил, Алисия, прикрыв рот и высунув от усердия кончик языка, покрывала ногти лаком.
— Тебе нравится этот цвет?
— Да, — ответила Франсуаза.
— Ты пользуешься бесцветным?
— Да.
— Почему?
— Не знаю!
— Потому что Франсуаза из тех, кто отказывается демонстрировать окружающим свои достоинства! — вмешался Николя.
Франсуаза наклонилась, чтобы взглянуть на пасынка: он лежал, блаженно улыбаясь, с глуповатым видом.
— Болтаешь невесть что! — весело воскликнула она.
Николя благодарно взглянул на нее, обрадовавшись ее хорошему настроению.
— Какой ты милый! — сказала Алисия, обнимая Николя за шею.
Она прижалась к нему. Их ноги приподняли красное одеяло. Николя выключил проигрыватель, затушил сигарету о мраморную столешницу. Неужели они начнут целоваться? Франсуаза подспудно боялась этого, но Николя отпихнул Алисию и повернулся на бок. «Если бы меня здесь не было, они бы наверняка занялись любовью, — подумала Франсуаза. — Я им мешаю. Я всем мешаю…»
— О, черт! Эти мне сосиски! — простонала Алисия. — Никак не переварю!
— А я очень даже переварил, — откликнулся Николя.
— Да ты же у нас сделан из мрамора! Летом у тебя ноги прохладные, а зимой — теплые! Ты знаешь, что я сегодня не смогла пройти свою сцену! Когда Клебера нет, не стоит и ходить на занятия!
— Его присутствие мало что меняет! Нас слишком много. Он не может заниматься с каждым индивидуально.
— Значит, выхода нет?..
— Говорят, у Бертуина очень здорово!
— А, ну да, Бертуин…
Алисия упала на подушку, зевнула с такой силой, что из глаз потекли слезы, и объявила:
— Ладно, вы — как хотите, а я уже засыпаю!..
Секунду спустя она спала глубоким сном.
— Она ужасно забавная! — сказал Николя. — Дрыхнет, когда угодно, где угодно — как на заказ!
— Ты тоже, — улыбнулась Франсуаза.
— Ну, это нормально, я же мужчина.
Наступила тишина. Воздух был жарким и тяжелым. Николя взял сигарету.
— Ты опять! — упрекнула его Франсуаза.
— Ты права, — буркнул он. — Я слишком много курю.
Он убрал сигарету в пачку, погасил свет. В темноте ночной комнаты светился прозрачно-голубой прямоугольник окна.
В девять пятнадцать утра Алисия и Франсуаза вышли из дома, оставив спящего Николя, съежившегося на краю кровати. Он даже глаз не открыл, пока они приводили себя в порядок.
В бистро девушки заказали кофе и круассаны. Обе торопились: Алисии нужно было на работу к девяти, а Франсуаза собиралась на рю Сен-Дидье за вещами и материалом, отпечатанным для «Топ-Копи».
— Тебе было не очень неудобно? — спросила Алисия, глядя на Франсуазу густо подведенными глазами, обретшими не только размер, но и загадочность.
— Да нет, что ты, — ответила Франсуаза. — А тебе?
— Я даже не заметила, что нас в кровати было трое!
— Ты милая! Но я все-таки не могу с вами оставаться, с тобой и Николя!..
— Почему? Меня ты не стесняешь! К тому же, через неделю Мари-Клод уедет в отпуск. Она будет в восторге от возможности сдать тебе на три недели свою комнату — точно такую же, как моя. Только раковины нет. Но ты же не будешь целыми днями умываться!
Франсуаза никогда бы не подумала, что эта девушка, обычно такая молчаливая и томная, способна произнести столь длинный монолог. С ее стороны это наверняка было проявлением самой искренней дружбы. Алисия снова потянула себя за волосы, как будто хотела удлинить их, и добавила:
— Значит, так: ты идешь за шмотками, устраиваешься у меня, а когда Мари-Клод уедет, переселишься к ней.
— Ладно, — кивнула Франсуаза. — Так и сделаем…
В данный момент ее занимала не проблема комнаты, а предстоящая встреча с Александром. Он, наверное, еще спит. В этом случае она соберет чемоданы и уйдет на цыпочках, постаравшись не разбудить его. Нет, подобное бегство недостойно ее! Если будет нужно, она вытащит его из постели и скажет о своем решении. Франсуаза перебирала в уме все вещи, которые собиралась взять с собой: машинка, работа, туалетные принадлежности, несколько книг, две юбки, летние блузки, белье, плащ… Алисия обмакивала круассан в кофе с молоком, откусывала по кусочку, медленно жевала. Капли падали назад в чашку. Закончив, она промокнула губы салфеткой, проверила, посмотрев в маленькое зеркальце, пушистость ресниц, встала, расправила юбку и сказала:
— Мне пора. Вечером у меня, в восемь, идет? Ключ под ковриком…
Франсуаза расплатилась и вышла на улицу. Ей казалось, что она идет над пропастью по узкому качающемуся мостику. Мысль о шатком равновесии не оставляла ее все то время, что она добиралась до своей квартиры. Она открыла дверь и шагнула в тишину. Франсуаза тихонько прошла в прихожую — сердце ее билось так сильно, как будто она вломилась в чужой дом. Судя по всему, Александр еще не вставал. Тем лучше! Она вошла в комнату и направилась к шкафу, где висели ее платья. Внезапно ее взгляд упал на листок бумаги, приколотый к изголовью:
«Сейчас семь утра, а ты все еще не вернулась. Я не ждал такого странного отношения после месяца разлуки. Безрассудный гнев Николя и его стремительное бегство позволили мне многое понять — по правде говоря, я это давно подозревал. Что тут скажешь? Это было неизбежно: вы почти ровесники, с ним ты будешь счастливее, чем со мной. Не я ли повторял тебе бессчетное число раз, что долг каждого живого существа — поиск наслаждения, без каких-либо уступок или скидок? Сегодня, когда этот поиск отдалил тебя от меня, я не осуждаю, а одобряю. Верхом глупости с моей стороны стала бы попытка помешать кому-нибудь — во имя ли морали, воспоминаний, данного слова или чужого интереса — устроить жизнь по собственному усмотрению! Итак, я желаю вам обоим тех великих радостей и удовольствий, которых заслуживает ваша молодость…»
Как в дурном сне, Франсуаза ринулась в комнату Николя, где должен был провести ночь Александр. Пусто! А в кабинете? Тоже никого! С полок были сняты некоторые книги, со стола исчезли папки. Он собрал свои вещи и, не успев появиться, снова исчез. А она ничего не предугадала, не почувствовала, проводя время с Николя и Алисией. Какой идиотский вечер! И какой печальный исход дела! Это Николя виноват! Зачем он увел ее? Франсуаза почти возненавидела его в это мгновение. Николя не только дал ей дурной совет, но и стал виновником того ужасного недоразумения, которое испачкало ее, привело в отчаяние. Как мог Александр вообразить, что их с Николя связывает не нежная дружба, а нечто иное? Вот и Маду не раз говорила ей: «Вы с Николя похожи на пару…» Что за грязные мысли у всех этих зрелых, опытных людей… Они всегда инстинктивно ищут самое гнусное объяснение! Они заразили ее, отравили мозг каплей яда, замарав самые лучшие, самые благородные воспоминания. Все, что она сделала для Николя, становилось подозрительным, предумышленным, темным из-за одной только фразы. Неужели они принимают ее за подобие Кароль? Франсуаза слишком сильно презирала мачеху, чтобы не почувствовать всю оскорбительность подобного предположения. А теперь вот и Александр тоже думает о ней так. Он плюнул ей в лицо, прежде чем исчезнуть навсегда! Будь он на месте сына, его бы не удержали соображения морали! Но у Николя совсем другая натура! Франсуаза, жена отца, неприкосновенна в его глазах. Александр не способен понять чистоты их отношений. У него сухой, разрушительный, циничный ум. «Он сбежал, потому что подобный исход ему удобен. Да нет, я к нему несправедлива!» Надежды на новую встречу нет, все кончено! Но разве не этого она хотела? Вчера, когда Александр попросил приютить его, она впала в ярость, а сегодня впадает в отчаяние, потому что он ее покинул. Она сама не знает, чего хочет! Это второе письмо ранило ее еще сильнее, чем первое. Возможно, потому, что тогда она не была одинока в своем несчастье. Нежность Николя помогла ей перенести удар. Но в этом случае она не может на него рассчитывать, она никогда не осмелится показать ему письмо отца. Одна только мысль о его сочувствии была ей нестерпима. По сути, она одновременно потеряла и Александра, и Николя. Куда пойти? Кому довериться?
Франсуаза подумала о Жан-Марке, о Даниэле. Но у каждого из них свои проблемы. Даниэль по уши увяз в семейной жизни и в экзаменах на степень бакалавра, у Жан-Марка скоро свадьба и экзамен по праву. За несколько месяцев братья отдалились от нее. Особенно Жан-Марк: Валери никого к нему не подпускает. Он стал снобом, закрытым, разочаровавшимся в жизни. Франсуаза села на стул, огляделась вокруг. Ей показалось, что даже мебель отодвинулась от нее, стала холодно-равнодушной. Куда бы ни посмотрела Франсуаза — на стену, на лампу, на угол стола, — на всем лежал отпечаток ее поражения. Квартира была уродливой, враждебной, глупой, наполненной пылью и тишиной, здесь поселились призраки горьких воспоминаний… Что она делает посреди этого лишенного души мира? Светло-желтые стены вызывали у нее тошноту отвращения. Бежать отсюда! Неважно куда, но бежать!.. Она вертела в пальцах письмо Александра. Каждое слово отпечаталось у нее в голове. «Что ты хочешь? Это было неизбежно… Вы почти ровесники!.. Я тебя не осуждаю, но одобряю…» Спазм перехватил горло. Сдерживая рыдания, она бросилась бежать, захлопнув за собой дверь квартиры.
— Теперь, надеюсь, ты наконец все поняла, — сказала Мадлен, возвращая Франсуазе письмо.
— Он верен себе!
— Что ты хочешь сказать?
— Он с самого начала предупреждал, что меня ждет, если я стану его женой. Так что обвинять я могу только себя!
— А эти намеки на отношения с Николя?
— Просто идиотство! Но как это больно! Как больно, Маду! — простонала Франсуаза.
Сидя на краю кровати, она закинула голову назад, глядя в потолок. Сколько раз в детстве она укрывалась в этой комнате, выплескивая печаль, гнев и слезы на коленях у Маду! Вот и сегодня, стоило ей переступить порог, и она словно почувствовала на коже дуновение свежего ветерка, прилетевшего издалека и принесшего ей облегчение. Как морской ветер обдувает лицо человека, прогуливающегося вдоль кромки прибоя, так и детские воспоминания окутали Франсуазу. Мадлен ходила по комнате с сигаретой в мундштуке и загорелым лицом, похожая на взволнованную воспитательницу. Она олицетворяла собой разумное начало, традиции, лекарство, стену, семью. Как и прежде, стоило прислониться к ней, и ты оживал.
— Для начала, дорогая, ты переедешь сюда, — сказала она.
— Ты думаешь? — тихонько прошептала Франсуаза, признаваясь себе, что надеялась услышать от Мадлен именно такой приказ.
— Конечно, я совершенно в этом уверена!
— Но как же Николя? Я не имею права бросить его. Без меня с ним Бог знает что может произойти. С его задатками, обидно будет, если он пропадет!.. Я должна быть рядом, должна следить, советовать ненавязчиво…
— Так что же? Ты хочешь продолжать жить вместе с ним на рю Сен-Дидье? — спросила Мадлен. — Абсурд!
— Да, ты права, это теперь невозможно…
— Нужно сдать квартиру с мебелью — ты можешь получить приличные деньги. Я этим займусь. А Николя мы подыщем поблизости хорошую комнату, чтобы он оставался под твоим бдительным надзором. Увидишь, тебе здесь будет очень хорошо, дорогая…
— Наедине с папой? О нет!.. Нет, я не смогу, Маду!
— Ты не останешься с ним одна, я решила задержаться в Париже.
Франсуаза ощутила детскую радость. Как странно! Будучи замужем, она чувствовала себя ровесницей Александра, но, стоило ему уехать, снова превратилась в ребенка.
— Раз ты остаешься, это другое дело, — сказала она Мадлен.
Измученная долгим сопротивлением, Франсуаза наслаждалась теперь чувством физического расслабления. Нервы ее были расстроены, мысли разбегались, она спрашивала себя, почему так долго отказывалась переложить на тетку бремя принятия решений. Ничего больше не просчитывать — только подчиняться… Она вздохнула:
— Ах, Маду, если бы ты только знала!
— Я знаю, знаю, — отвечала Мадлен, гладя племянницу по волосам.
Наступила тишина. Франсуаза убрала письмо в сумочку и сказала, отважившись:
— Я все обдумала, Маду. Думаю, ты права: я должна попросить развод.
XXI
Шарль Совло растворил в воде два порошка аспирина, выпил, поставил стакан на ночной столик.
— Что ты там пьешь? — спросила вернувшаяся в комнату Марианна.
— Ничего… — ответил он. — Аспирин.
— Опять!
— У меня ужасно болит голова! Не хочу вторую ночь подряд мучиться бессонницей, думая обо всей этой истории! Я раздавлен, уничтожен, Марианна!
— Я тоже очень расстроена, Шарль. Но мы не можем сказать «нет», сам понимаешь!
Она сбросила пеньюар и легла. Как легко она смиряется с любыми неприятностями и горестями, исходящими от детей! Она в первую голову мать, ее снисходительность объясняется материнским инстинктом. Он же не способен, подобно жене, вечно одобрять их. Шарль закурил, сделал две затяжки, потушил сигарету в пепельнице и пробурчал:
— Но ты же видела эту малышку!.. Она — пустое место… Меньше, чем пустое место!..
— Для тебя — возможно. Но Лоран ее любит. Она ждет от него ребенка! Не это ли главное?
— Не в том случае, когда речь идет о восемнадцатилетнем мальчике!
— Он очень зрелый человек для своего возраста… К тому же, я не так строга к Беатрис, как ты. У нее интересное лицо, милая улыбка, она так просто держится…
Ну все, теперь ее не остановишь! Неужели ей действительно понравилась Беатрис Мурен или она просто притворяется, желая убедить его. Сам он промучился все то время, в течение которого длилось первое свидание с будущей невесткой. Лоран с глупым победным видом, фальшивая застенчивость девушки, то, как она все время передергивала плечами, как подхихикивала потихоньку, напоминая портниху-поденщицу… И вот теперь они будут иметь это «чудо» в своем доме! Став отцом семейства, Лоран наверняка с удовольствием бросит учебу, считая, что получил право забыть об учебниках. Впрочем, тут-то жалеть как раз не о чем. Если Даниэль, как правило, был доволен тем, как выполнил работу, то Лоран не ждал ничего хорошего от проверки и не надеялся заработать проходной балл. Послушать его, так не стоит даже ждать вызова на экзамен — пора искать другое занятие. Конечно, они найдут Лорану грошовое место, и его зарплата вкупе с заработком его будущей жены позволят им премиленько существовать в этой жизни — при условии, конечно, что родители поселят их у себя. Две молодые семьи на содержании. Выдержит ли он такую нагрузку? А ему даже не позволено пожаловаться! Жесткое лицо Марианны заранее не одобряло поведения мужа. Она внимательно взглянула на него и сказала:
— Ты стареешь, Шарль!
Пораженный, он пролепетал:
— С чего это ты так решила?
— А ты взгляни на себя — у тебя такое лицо, как будто случилась катастрофа! На этом свете есть всего две по-настоящему страшные вещи: неизлечимая болезнь и смерть. Это не наш случай, благодарение Господу! Ты осуждаешь своего сына, руководствуясь принципами времен твоих родителей. Абсурд! Нужно пытаться понять молодых, их идеи и устремления!
— Послушать тебя, так мы, родители, должны соглашаться с каждой их безумной затеей?
— Не передергивай, Шарль! Но, если им хочется пожениться в двадцать лет, ты не должен возмущаться только потому, что сам женился в тридцать три!
— У меня был жизненный опыт, профессия…
— A y них зато полно энтузиазма и иллюзий! Может, так даже лучше.
Шарль скользнул в постель, опустил голову на подушку.
— Забавно, — прошептал он минуту спустя, — ты однажды сказала, что все дети Эглетьеров вступали в неудачные браки по той причине, что разведенные родители плохо за ними присматривали. Но наши дети совершают те же самые ошибки, хотя мы с тобой преданы друг другу, уделяем им массу времени и сил, бесконечно добры с ними!
— Хочешь сказать, что правда на стороне родителей Даниэля?
— Нет, я всего лишь имею в виду, что, поступая иначе, мы пришли к тем же результатам. Выходит, неважно — нежен ты или холоден, деспотичен или великодушен в своей семье, потому что характеры, нравы, веяния времени — сильнее любых воспитательных систем, и мы ничего не можем сделать для наших сыновей и дочерей…
— Возможно… — отвечала мужу Марианна. — Мы живем в переходный период. Мир быстро меняется. Нужно приспособиться или умереть. Лично я умирать не собираюсь! Я вовсе не хочу выглядеть в глазах моих детей черствой, вечно их поучающей, придирающейся к мелочам! И тебе следует брать пример с меня, если хочешь, чтобы Дани и Лоран сохранили к тебе уважение и привязанность!
— Привязанность — возможно! Уважение — весьма сомнительно!
— Я великолепно обхожусь без их уважения! — сказала Марианна.
— Я тоже, я тоже… — вздохнул в ответ Шарль. И добавил: — А они?
— О чем ты? — удивилась Марианна.
— А ты не думала, что дети тоже хотели бы уважать нас? Но мы не дали им такой возможности. Мы сказали им: мы — ваши приятели, мы — ровня, мы — не больно-то важные особы, мы вместе с вами смеемся над своими недостатками! Чего же удивляться, что у них в жизни нет никаких ориентиров, никаких целей?
— То есть ты ставишь нам в вину то, что мы перестали ломать комедию?
— Дисциплины без того, что ты называешь «комедией», не бывает! Сними форму — и армия разбежится. Мы — сознательно или из слабости — отказались играть перед нашими детьми роль всеведущих, всемогущих родителей, почти равных Богу существ! И вот тебе результат!
— Сколько сложностей из-за двух молодых людей, которые любят друг друга и собираются пожениться раньше, чем тебе бы того хотелось! — съязвила Марианна. — Нет, Шарль, тебе, и правда, нравится терзать себя по пустякам! Прошу тебя, успокойся и засыпай!
Она погасила свет. Темнота и тишина побуждали к размышлениям. Шарль спрашивал себя, возникнут ли те же проблемы у Дани, Даниэля, Лорана и Беатрис лет этак через двадцать. Как эти четверо станут воспитывать потомство при нынешнем ритме жизни? Какими будут отношения между «отцами и детьми» после сознательного, систематического разрушения родительского авторитета? Будет ли существовать семья? «В тот день, когда Кристина вырастет…» Шарль попытался представить себе этого ребенка кокетливой девушкой, влюбленной, требовательной, отчаявшейся, и ощутил ужасную тяжесть на сердце. А он сам, каким он будет в те неблизкие времена? Ему исполнится шестьдесят пять, семьдесят лет. Много сотен часов, проведенных в конторе, обеды за семейным столом, отпуск на берегу моря, споры, болезни, расчеты, рождения, бессонные ночи, старость, смерть — жизнь не хуже и не лучше, чем у других! Шарль заворочался в темноте. Если бы земное существование было чуть более сладостным, человеку труднее было бы с ним расставаться. Величайшее милосердие Господа именно в том и заключается, чтобы не позволять людям быть счастливыми на Земле. Эта мысль растрогала Шарля и утешила его. А возможно, наконец подействовал аспирин и у него просто перестала болеть голова. «В конечном итоге, — думал он, — Марианна права! Пусть мальчик женится на этой Беатрис! А там будет видно!..» Шарль смежил веки. Но вскоре снова открыл глаза, потому что жена встала с постели. Она прошептала:
— По-моему, Кристина плачет. Пойду взгляну…
У Шарля не было сил отвечать, и он снова уснул.
Вернувшаяся Дани тихонько пояснила:
— Все в порядке, она уже успокоилась. Мама с ней…
— A-а, ну да, — ответил Даниэль.
— Думаю, я все-таки должна плотнее кормить ее на ночь.
— Врач считает иначе!
— Верно…
— Ну, вот и делай, что велено, и ничего сама не изобретай!
— Какой ты противный!
— Вовсе нет! — проворчал Даниэль, испытывая смутное чувство вины.
— А вот и да! Начинаешь злиться по пустякам. Это из-за Лорана?
— Плевать мне на Лорана! — взорвался Даниэль.
Ему казалось, что он вполне искренен. Главное для него не Лоран, не Кристина и даже не Дани, а степень бакалавра. На сей раз дело вроде бы в шляпе. Он уверен в работах по философии и естественным наукам. Особенно по философии, тут уж он продемонстрировал все свои знания. Тема была — просто конфетка: «В какой степени человеческий разум, чтобы познавать, действовать и творить, должен противопоставлять себя чувству?». Он свалил в одну кучу Канта, Платона, Бергсона и Аристотеля — чтобы доказать на десяти страницах, что наука требует подчинения чувства разуму, а искусству необходимо подчинение разума чувству. Коллере-Дюбруссар, которому он утром показал план, очень его одобрил. Даниэль спокойно ждал оглашения результатов — через две или три недели, хотя и не был совершенно уверен в похвальном отзыве.
У Лорана же, напротив, не было никаких шансов, хоть он об этом меньше всего беспокоился. Он сообщил родителям, что собирается жениться сразу после окончания экзаменов. Была дивная семейная сцена со вздохами матери, стенаниями отца и нежным согласием обоих в завершение. А вечером в дом явилась Беатрис Мурен… Дани протянула томным голосом:
— О, Даниэль, обними меня покрепче!
Она была такой теплой. Так чудесно пахла. Она ждала его ласк. Они предались любви. Потом Даниэль закурил сигарету.
— Дрянной мальчишка, зачем ты куришь в постели! — упрекнула его Дани, проваливаясь в сон.
— Ты же не станешь придираться из-за одной сигареты! — возмутился он в ответ.
Даниэль принял решение проявлять характер при любых обстоятельствах. Как он страдал сегодня вечером из-за бесхарактерности тестя! На месте Шарля Совло он бы отказался принимать в своем доме эту девушку, заставил бы сына порвать с ней — в крайнем случае даже урезав содержание… Через сорок восемь часов Лоран разобрался бы с ребенком и вернулся бы под крышу отчего дома — отрезвленный, чувствующий в душе облегчение и благодарность. А теперь вместо этого вся семья будет вынуждена приспосабливаться к трудному и нелепому совместному существованию. Пусть Лоран с женой садятся на шею родителям, если им так нравится! Но сам Даниэль больше не может выносить великодушия разочаровавшегося в жизни Шарля Совло. Он снимет комнату, и они поселятся там с Дани и Кристиной, он начнет работать… Дебюке, чья сестра работает в крупной фирме по строительству дешевого жилья, пообещала устроить его на замену на коммутатор — на три летних месяца. В следующий понедельник он должен явиться в управление по работе с кадрами. Если все получится, они сразу переедут. Даниэль пока ничего не говорил Дани о своем намерении, но он не позволит ей возражать! Слишком часто в последнее время он замечал пагубные последствия слабости, когда человек всегда уступает капризам избалованных детей. Он не превратится в еще одного Шарля Совло, ни за что! Не станет он и новым Филиппом Эглетьером!
Принимая одно из самых серьезных решений в своей жизни, Даниэль был спокоен, голова работала ясно, душа была на месте. Нежность и твердость, вот что им руководило сейчас. Семья должна быть едина, иначе ничего не получится. Жена — на носу корабля, муж — у штурвала. Дани именно та женщина, которая ему нужна в этой жизни.
Он загасил сигарету и обнял жену. Не для того, чтобы снова заняться любовью, а потому, что хотел подтвердить свое право собственника. Она приникла к нему, не открывая глаз. О чем мечтала его жена в те мгновения, когда он сжимал ее в объятиях? Ответить себе Даниэль не успел — Даниэла протянула ему губы.
XXII
Было ли это счастьем? Сидя напротив Филиппа — Даниэль и Дани по правую руку, Франсуаза и Николя по левую, — Мадлен ласкала взглядом этот маленький дорогой ее сердцу мирок, воссоединившийся, несмотря ни на что, под крышей отцовского дома. Недоставало лишь Жан-Марка. Ничего, через день или два он займет свое место за столом. Вместе с Валери. А потом и Франсуаза снова выйдет замуж. Мадлен была в этом совершенно уверена. Вот тогда она сможет отдохнуть. Она свяжет все разорванные нити, заделает все трещины, укрепит полуразрушенное семейное гнездо.
Новая служанка помогала Аньес по хозяйству. Даниэль говорил — естественно! — о своей степени. Филипп делал вид, что разговор его интересует. Он согласился, чтобы дети вернулись в его дом — сначала Франсуаза, а потом и Даниэль с Дани, хотя Даниэль не сразу принял это решение. Мадлен пришлось даже прикрикнуть на племянника, заявив, что глупо ютиться втроем в комнатушке для прислуги и артачиться в тот самый момент, когда отец гостеприимно распахивает перед ними двери родового гнезда. Переезд, состоявшийся накануне, превратился в увеселительное мероприятие. Под громкую музыку молодежь торжественно поместила Кристину в комнату, примыкавшую к бывшей спальне Даниэля. Во второй половине дня явилась Марианна Совло — взглянуть, как устроились на новом месте молодые супруги. Она горевала, что ее так стремительно разлучили с внучкой, понимая, конечно — она сама это признавала! — что предстоящая женитьба Лорана все равно заставила бы ее зятя задуматься о переезде. Даниэль каким-то невероятным образом заставил эту женщину смириться с новой ситуацией, хотя ее собственный муж за всю их совместную жизнь никогда не принимал единолично столь категоричных решений. Марианна — солидная, улыбающаяся — ушла, взяв с детей слово, что они с малышкой станут навещать ее не реже двух раз в неделю. Мадлен сказала себе, что ошибалась в характере племянника. Ее поражала его энергия. Она смотрела, как Даниэль разговаривает с Филиппом, и находила его одновременно волевым и очень наивным, мрачным и нежным, устремленным в будущее. Ах, если бы он научился наконец поступать так всегда, слушаясь веления своего сердца, выбирая прямой, пусть и трудный, путь в жизни… Сейчас он объяснял, почему находит профессию преподавателя философии восхитительной. Его нисколько не заботило, что за эту работу мало платят. Он жаждал продолжать жить в мире идей, разгрызать «фундаментальные проблемы», приобщая к своей страсти молодых интеллектуалов.
Филипп обратился к Николя:
— А как обстоят дела с вашей учебой?
Неужели он забыл, что мальчик вовсе не учится, а готовится стать артистом? Филипп никогда не держал в голове проблемы других людей. Николя, не указывая на досадную ошибку хозяина дома, начал с увлечением рассказывать о счастливом повороте в своей судьбе:
— О, у меня намечается грандиозный проект! Если повезет, меня возьмут в телесериал… Режиссер Мальпуань — знаете его, конечно? — заметил меня у Клебера Бодри…
Он просто сиял от счастья. Переводя взгляд с Николя на Даниэля, Мадлен восхищалась их устремленностью в будущее. Вера была одновременно их силой и слабостью. Все еще было возможно, все было впереди в их жизни, а вот для Мадлен с Филиппом все в прошлом. Напрасно она тешила себя иллюзиями, силилась быть на равных с молодыми, разделяя их заботы и радости: одно слово или случайно брошенный взгляд внезапно напоминали ей, что они еще только на старте, что, даже когда они бегут рядом, их дыхание не сбивается, а она делает последний круг по дорожке на ватных ногах, одним лишь усилием воли. Разговор зашел о будущей женитьбе Лорана, которую Даниэль назвал «глупейшей и невозможной», и тут вдруг Франсуаза упомянула Жан-Марка. Много месяцев никто за семейным столом не заговаривал о нем, так что подобный поступок граничил с вызовом. Мадлен с тревогой взглянула на Филиппа, но он, как ни странно, и глазом не моргнул. А Франсуаза невозмутимо продолжала: она была этим утром у брата, хотела узнать, как прошли экзамены. Жан-Марк не слишком доволен. Разве что за гражданское право не беспокоится…
— А ты вообще когда-нибудь видела Жан-Марка довольным? — спросил Даниэль. — Уверен, он преувеличивает. Но он хотя бы готовится к устной части?
— Не думаю, — ответила Франсуаза. — Говорит, у него нет никаких шансов…
— Что за идиотизм! Надо мне встряхнуть его!
— Ты прав, — вступил в их диалог Филипп. — Даже если надеяться особенно не на что, лучше потратить несколько дней на подготовку, чем потом сожалеть, если его все же допустят до устного экзамена!
Взгляды всех присутствующих обратились на Филиппа. Душу Мадлен переполняло счастье, но она постаралась не выдать своей радости, зная, как сильно ее брат ненавидит любые проявления чувств. Остальные, не сговариваясь, тоже сохраняли бесстрастность, хотя каждый из них — Мадлен была в этом совершенно уверена! — в душе ликовал, поздравляя себя с первыми признаками изменения ситуации. Некоторые люди выходят из себя, когда их хвалишь, — как если бы они находили нелепым поступать так, как ждут от них окружающие.
— Они совершенно переиначили все программы по праву! — продолжал разговор Филипп. — Раньше можно было за три года пройти все то, что они сейчас растянули на четыре! А вот ориентацию на чистое право и экономику я нахожу удачной, как, кстати, и требовательность на семинарах и на практике…
Выходя из-за стола, он отвел Мадлен в сторону и сказал ей:
— Сходи завтра утром к Жан-Марку и пригласи его пообедать или поужинать с нами… дома.
— Конечно, Филипп, — шепнула она.
— Надеюсь, он будет свободен.
— Не беспокойся: он в любом случае освободится!
— Завтра воскресенье, возможно, они условились с Валери… Я бы хотел, для начала, увидеться только с ним.
— Да-да, понимаю…
Филипп выглядел осунувшимся, бледным. Мадлен догадывалась, какое усилие пришлось ему сделать над собой, чтобы обратиться к ней с такой просьбой. Они вернулись к детям и больше до конца вечера о Жан-Марке не заговаривали.
Николя ушел около одиннадцати. Он жил теперь не у Алисии, а на рю Сен-Дидье, дожидаясь, пока Франсуаза сдаст квартиру. Они с Мадлен проводили его до двери, он выскочил на площадку и побежал вниз по лестнице, прыгая по ступенькам, как молодой козленок.
— Ты показала ему второе письмо Александра? — спросила Мадлен, заперев дверь.
— О Боже, конечно, нет! — воскликнула Франсуаза. — Он кинулся бы искать его по всему Парижу, чтобы объясниться! Нет, я только сказала, что Александр уехал, оставив записку в три строчки — ни объяснений, ни адреса.
Мадлен взглянула на племянницу с нежностью и сказала:
— Ты правильно поступила.
— Ну, а с Жан-Марком я была права?
— Тысячу раз права! Кстати, твой отец хочет, чтобы он пришел завтра обедать или ужинать — сюда, домой!
— О, Маду, это чудесно!
Мадлен обняла Франсуазу за плечи, и они вернулись в гостиную.
Разочарованная Мадлен медленно спускалась по лестнице с шестого этажа. Жан-Марка дома не оказалось, хотя она специально явилась рано утром. Возможно, он ушел за покупками? На всякий случай, она постучалась к консьержке и спросила, не видела ли та месье Эглетьера.
— Да-да, — подтвердила женщина, — за ним заехал на машине молодой человек. Они уехали всего десять минут назад.
— Он случайно не сказал, когда вернется?
— Увы, нет…
Мадлен достала из сумки блокнот, вырвала страничку, написала:
«Все устроилось, Жан-Марк! Твой отец ждет тебя сегодня к обеду или к ужину. Как только вернешься, позвони домой.
Маду».
— Не волнуйтесь, я обязательно передам ему записку! — пообещала консьержка, беря из рук Мадлен листок и два франка чаевых. — Месье Эглетьер всегда заходит спросить, есть ли для него сообщения, ведь телефон стоит в моей комнатушке!
Она сопроводила свои слова жестом в сторону аппарата, покивала головой. Успокоенная, Мадлен ушла. Жан-Марка предупредят. Если он занят сегодня, что ж, появится у них завтра. Филипп не передумает. Дорога к примирению открыта.
Стояла прекрасная погода. Маленькие белые пушистые облачка плыли по синему небу. Залюбовавшись зеленью деревьев, Мадлен спустилась вниз по рю д’Ассас и вошла в Люксембургский сад. На аллеях играли дети, студенты, сидя в тени ветвей, готовились к занятиям, какой-то старик грелся на солнышке, целовались парочки, мечтали в одиночестве девушки — и все это смешение возрастов и мыслей придавало окружающей обстановке торжественную серьезность и умиление. Сердце Мадлен сжималось от обуревавших ее чувств. Она села на железный стул на краю аллеи, закурила сигарету. Мимо нее прошла и исчезла вдали молодая очаровательная женщина. Ее образ растаял прежде, чем стих звук ее шагов. Время пролетит незаметно, эта прекрасная незнакомка состарится и будет вот так же, сидя в саду, смотреть сквозь запотевшие стекла очков на другую изящную молодую красавицу. И вся жизнь окажется у нее за плечами. Так же как и воспоминания о дорогом мужчине, разочаровавшем ее, потому что она ошиблась и вознесла его на пьедестал, а он не оправдал ее ожиданий, или покинул ее, или она ему изменила, или из-за отсутствия детей, или потому, что Бог послал им слишком много малышей, или потому, что он умер, а может, и вообще никогда не существовал. Она проживет ту же жизнь, что и Мадлен, и Франсуаза, и все женщины, которые надеялись, ждали и помнили. Мадлен удивилась своей меланхолии, этой тяжести на сердце, такой странной теперь, когда, казалось, будущее всех дорогих ей существ наконец прояснилось. Даже будущее Франсуазы! «Она излечится! Я так хочу! Я ее заставлю! Я уверена, она уже начала забывать Александра. Пройдет несколько месяцев, и она будет свободна…»
Солнце обжигало Мадлен лицо. Она отодвинула стул в тень дерева, вытянула ноги, закрыла глаза. Улыбаясь со смеженными веками, она видела себя снова двадцатилетней, рядом с Юбером, на набережной Сены.
Солнце слепило глаза, и Жан-Марк опустил защитный козырек, Жильбер, сидевший за рулем, последовал его примеру. Машина быстро и ровно катила по Южной автостраде. Встречный ветер, вливаясь через опущенные стекла, обдувал лица. Жильбер расстегнул воротник рубашки. Большие солнечные очки подпрыгивали на его тонкой переносице.
— Обгони этот грузовик, — сказал Жан-Марк.
Жильбер выполнил маневр, вернулся в правый ряд и заметил:
— Ты действительно хороший учитель. Благодаря тебе я почти разобрался с бакалореатом[26], а теперь — с твоей помощью — сдам на права!
— Вот-вот, — подхватил Жан-Марк, — другим помогаю, а сам…
— Да что ты можешь знать? Дождись результатов! Будем надеяться, что ты не нарвешься на слишком придирчивого экзаменатора…
— С тем, что я навалял в работах по гражданскому и торговому праву, самый снисходительный экзаменатор будет просто обязан завалить меня. Нет, все пропало, я это чувствую. Придется пересдавать в октябре, а до тех пор заниматься как проклятому!
— С Валери под боком? — съязвил Жильбер.
Жан-Марк не стал отвечать. Мерный шум мотора отдавался у него в голове. Он вдруг с удивлением осознал, что больше не радуется этой их вылазке, о которой так долго мечтал. Приближение некоей даты меняло все его планы, искажая реальность. Неважно, что они с Жильбером были едины в мнениях касательно многих важных в этой жизни вещей — женитьба-то грозила одному Жан-Марку! Еще три недели! Он тратил последние мгновения свободы с расчетливостью скупца, пребывающего в трагической уверенности скорого и неизбежного разорения. Он не только не чувствовал счастливого нетерпения жениха, но — напротив — воспринимал все происходящее с тоской и ужасом. Наверняка большинству мужчин знакома эта предсвадебная тревога. Он — такой же, как все. И как все, он привыкнет, смирится. Возможно, даже станет, в определенном смысле, испытывать удовлетворение от того, как устроилась его жизнь. А теперь ему предстоит заниматься списком гостей, приглашениями, визитами к портным…
Несколько машин обогнали их автомобиль.
— Все едут быстрее нас, — посетовал Жильбер.
— Вот и хорошо, — отвечал Жан-Марк, — мы ведь никуда не торопимся!
— Ну да! Некоторые люди не торопятся, потому что у них впереди вся жизнь, а нам осталось всего несколько часов.
— Что ты хочешь этим сказать?
— А ты не понимаешь?
Бисеринки пота блестели у корней его белокурых волос. Он снял очки, взглянул на Жан-Марка. Его глаза были мокрыми от слез. Внезапно он пролепетал:
— Умоляю тебя, Жан-Марк, не женись!
Музыка его голоса, блеск его глаз.
— Опомнись! — приказал Жан-Марк. — Смотри на дорогу!
Жильбер ответил, глядя прямо перед собой:
— Не женись! Ты не любишь Валери и не осмеливаешься в этом признаться даже самому себе. Кого ты пытаешься обмануть, ломая комедию? Ее? Себя? Я не дурак! Я знаю, что происходит у тебя в голове! Ты не имеешь права погубить свою жизнь из-за того, что однажды вечером, по слабости, по глупости, предложил этой девушке выйти за тебя замуж! Ты самый чувствительный, самый тонкий, самый глубокий человек из всех, кого я знаю, а она — всего лишь светская идиотка! А ее родители! А друзья! А окружение! Все это фальшиво до омерзения.
На мгновение Жан-Марк разозлился — Жильбер облек в слова его собственные мысли. Нет ничего хуже спора, в котором противники в душе согласны друг с другом! Поборов раздражение, Жан-Марк, не скрывая заливавшей его душу нежности, прошептал:
— Есть вещи, которые ты не способен понять, Жильбер!
— Я все понимаю! — закричал тот в ответ. — И прежде всего то, что ты боишься скандала! Ты слишком хорошо воспитан, чтобы разбить окно, даже если тебе грозит смерть от удушья! А ведь стоит тебе только захотеть, и все будет так просто устроить!
Они замолчали. Сотни машин ехали по этой дороге, и в каждой, возможно, разыгрывалась своя драма. Жильбер увеличил скорость, глядя вдаль, на линию горизонта. После развилки на Фонтенбло он проворчал:
— Посмей только сказать, что тебе нравится ее кожа!
— Заткнись, Жильбер!
— Я молчал много месяцев! Больше — не могу! Жан-Марк, давай сбежим! Другого решения не существует!
— И как ты это себе представляешь?
— У меня есть деньги! Уедем вдвоем в Египет… нет, в Грецию! Увидеть Грецию с тобой! Вообрази — мы увидим эту застывшую под солнцем красоту собственными глазами!
Его возбуждение передалось Жан-Марку.
На долю секунды он тоже поверил в возможность этого безрассудного счастья, чистого и незыблемого, как небо Греции. На память пришли фотографии, сделанные год назад отцом и Кароль во время круиза. Обломки колонн, драгоценные рельефы, Кароль, прислонившаяся к мраморной глыбе, улыбающаяся солнцу. Только она могла бы спасти его от Валери. А возможно, и от Жильбера! Потому что она была больше, чем женщина: в ней присутствовало нечто роковое, неизбежное, она походила на героинь древнегреческих трагедий — Клитемнестру, Электру, Гермиону, Федру… Имена из школьного учебника, оживающие на древней земле Эллады. Орест и Пилад прогуливались рука об руку по улицам Афин. Там все было возможно и прекрасно, потому что солнце освещало пыль веков. «Здесь — неумолимая цепь событий: помолвка, свадьба, прием, контора, деньги, постель… Там — бегство из своего времени. Уехать, уехать… Но ведь однажды придется вернуться…»
Перед глазами Жан-Марка разматывалась бесконечно-монотонная лента шоссе. Время от времени, несмотря на опущенный защитный козырек, в глаза ему попадал солнечный блик. Они остановились у пункта сбора дорожной пошлины. Под пристальным взглядом полицейского мотоциклиста в белом шлеме, стоявшего рядом с застекленной кабинкой, Жильбер заплатил два франка. Машина тронулась с места, мягко заурчав мотором. Жильбер плавно переключил скорость.
— Невозможно! — произнес Жан-Марк.
— Что — невозможно?
— Уехать вдвоем, нам с тобой!
— Но почему? Ответь! Почему? Мы будем так счастливы там!
— Там — возможно!.. Но после, здесь?..
— И здесь, и там, и в любом месте, — отвечал Жильбер.
Их окружал дикий, суровый пейзаж: валуны цвета пепла, врытые в коричневато-желтоватую землю, хрупкие тонкие березы, заросшие, теряющиеся в глубине леса тропинки. Они подъезжали к повороту на Юри.
— Направо? — спросил Жильбер.
— Нет, поедем в Немур. Пообедаем и вернемся в Париж.
— Ты торопишься?
— Хочу быть дома к восьми.
— У тебя встреча с Валери? Да? И ты не смеешь ее надуть?
Жан-Марк не назначал свидания, но внезапно ему стало неуютно от перспективы провести весь вечер с Жильбером. Этот подросток привлекал его так сильно, что он чувствовал головокружение, боялся упасть, как будто стоял на краю пропасти. До его слуха донесся голос Жильбера, приглушаемый свистом ветра и шумом мотора.
— Так ты все еще не понимаешь, Жан-Марк? Я люблю тебя! И ты тоже меня любишь, я знаю, я уверен в этом!
Эти слова потрясли Жан-Марка. Сумасшедшая радость смешивалась в его душе с ужасом. Жильбер словно бы преподнес ему щедрый дар, произнеся именно те слова, которые он больше всего боялся услышать.
— Как я буду жить без тебя, Жан-Марк? — мягко продолжил Жильбер.
— А как бы ты смог жить со мной? Об этом ты подумал? Мы что, похожи на тех жалких типчиков, которые разгуливают под ручку по Сен-Жермен-де-Пре?
— Ты и Ореста с Пиладом считаешь «жалкими типчиками»?
— Возможно, при жизни они такими и были!
— Тогда лучше умереть!
— Не говори глупости! Я просто не хочу, чтобы на нас показывали пальцем, только и всего!
— Зато ты хочешь заниматься каждую ночь любовью с женщиной, которую не любишь! — дерзко возразил Жильбер. — А ведь у тебя есть я! У нас есть мы! Этого я не вынесу, Жан-Марк!
Он нажал на газ: их автомобильчик догнал и перегнал большую американскую машину.
— Теперь прими вправо, — велел Жан-Марк, — и сбрось немного скорость.
Но Жильбер продолжал давить на педаль.
— Зачем ты это делаешь? — спросил Жан-Марк.
— А почему бы и нет? Ты боишься?
— Нет.
Жан-Марк обернулся — «американец» остался далеко позади.
— Сбавь скорость, — снова попросил он.
— Нет, я этого не сделаю! — закричал Жильбер, впадая в неистовство.
— Ты с ума сошел?
— Да, Жан-Марк, да — я обезумел! И в этом твоя вина! Говоришь, ты и я вместе — это невозможно? Но и я без тебя — тоже невозможно! Так что же нам остается? Ответь! Да отвечай же! Видишь, ты и сам не знаешь!
Он вдавил в пол акселератор, и машина рванулась вперед. Темный ужас овладел Жан-Марком. Он чувствовал под ложечкой тошнотворную пустоту, одновременно неосознанно призывая на их головы катастрофу. Существует ли иной выход из мучительного положения, в котором они оказались? Стрелка спидометра дрожала у отметки «140». Побелевшие от напряжения руки Жильбера намертво вцепились в руль. Его лицо было прекрасным и жестоким, отчаявшимся и нежным. Обезумевший ангел рассекал воздух, летя прямо на стену.
Жан-Марк услышал собственный задушенный стон:
— Жильбер! Жильбер! Нет!
Приближался поворот, отмеченный красивыми столбиками парапета. Сто шестьдесят.
— Я люблю тебя! — выкрикнул Жильбер. — Люблю!
В то же мгновение автомобиль занесло, раздался яростный скрип шин, бело-зеленые образы, вертясь, надвинулись на Жан-Марка. В последнюю секунду перед его глазами встала картина увиденной им когда-то аварии: два окровавленных тела на обочине дороги близ Пюизо, Кароль, закрывающая лицо руками: «Какой ужас, Жан-Марк! Не могу на это смотреть!» Потом все смешалось в его голове. Его оглушили скрежет железа и визг разлетающихся вдребезги стекол, теплая жидкость наполнила рот. «Как глупо! — подумал он. — Просто идиотизм! Это происходит не со мной!» И потерял сознание.
XXIII
Каждый раз, поднимая голову, Даниэль упирался взглядом в нелепый помост с серебряными галунами под черным креповым покрывалом. Только что служащие похоронного бюро передвинули гроб на катафалк, обложив его по бокам венками. Один венок они поместили на крышку.
Неужели Жан-Марк навсегда заперт в этом ящике? Его брат погиб мгновенно, на месте! Как это случилось? Машина вылетела с дороги безо всяких видимых причин. Наверняка, водитель отвлекся, что-то сделал неправильно. У Жильбера ведь даже не было прав. Жан-Марк, должно быть, рехнулся, раз пустил его за руль! Тела обоих погибших были перевезены в больницу в Немуре. Оттуда Жильбера увезли в Шантийи — убитые горем бабушка и дедушка решили похоронить его в фамильном склепе. Жан-Марка — в Париже.
В церкви Сен-Жермен-де-Пре — практически пустой — было прохладно, несмотря на летнюю жару. Солнечные лучи, проходя сквозь витражи, окрашивались во все цвета спектра. Внезапно присутствующие опустились на колени. Даниэль, сидевший вместе с остальными членами семьи в первом ряду, страдал из-за того, что его горе выставлено на всеобщее обозрение. Он взглянул на отца. Измученный, увядший, с мертвенно-бледным лицом и тусклыми глазами, Филипп как будто беседовал мысленно сам с собой. Франсуаза и Маду следили за ним с такой тревогой, как будто именно он был опаснее всего ранен этой трагедией. Даже Даниэль, в душе жестоко упрекавший отца, не мог не признаться самому себе, что бесконечно жалеет его. Печальные события свели вместе мать и отца. Она пришла в церковь в глубоком трауре — слабая, заплаканная, под руку ее бережно поддерживал второй муж. Валери тоже была здесь, одетая в темный костюм военного покроя: сухие глаза лихорадочно блестели, челюсти закаменели от напряжения. Молящиеся снова расселись по своим местам. Какой смысл в этой нелепой гимнастике — опуститься на колени, подняться, сесть?..
Церковные каноны не только не помогали Даниэлю смириться и усмотреть в жестокой гибели брата высший промысел, но и делали случившееся еще более необъяснимым и невыносимым. Почему именно его брат? В силу какого решения Всевышнего, по какому математическому расчету Жан-Марк оказался именно в том месте, где его ждала смерть? И что осталось от Жан-Марка теперь, после того как — по сухой констатации медиков — дыхание его остановилось? Что, душа — всего лишь проявление мозговой деятельности и погибает вместе со смертью мозга, как гаснет лампа, когда шнур выдергивают из розетки? Или же она переживает механическую поломку и продолжает иное существование — эфемерное, напевное, сладостное, законы которого нам недоступны? Перед лицом смерти дорогого сердцу существа Даниэль осознавал всю тщету метафизических теорий, которыми когда-то так восхищался. Перед его мысленным взором вставал Коллере-Дюбруссар, блистательно излагающий аргументы материалистов, спиритуалистов, экзистенциалистов, интуитивистов, а другим уголком сознания он все время видел окровавленный труп Жан-Марка. Если кто и знал наверняка, что есть материя и жизнь, то уж никак не профессор, погруженный в свои книги, а именно он, погибший на дороге. Любой человек по эту сторону бытия имел о душе чисто гипотетические предположения. Но существовала ли «та» сторона? Даниэль все время вспоминал бескровное лицо брата с закрытыми глазами и плотно сомкнутыми ресницами, каким он увидел его в морге больницы. Единственная серьезная вещь в мире — это черный ледяной туннель, замаскированный посмертной восковой маской. Торжественно-мрачная месса продолжалась, вот только Жан-Марк отсутствовал — и в этом тоже есть философия, да к тому же еще замечательная театральная постановка. Даниэлю вдруг захотелось узнать мнение Жан-Марка о церемонии, организованной в его честь. Парадокс… Навалилась такая тоска, что он с трудом сдержал рыдания. Идиотская фраза вертелась на языке: «Кончено, Жан-Марк, кончено, старина!..» Даниэль бросил взгляд налево: Франсуаза, Маду и Дани молились, склонив головы. Священник обошел катафалк, кадя ладаном на свечи и черную пелену. Глаза Даниэля туманились слезами, болела грудь. Из оцепенения его вывели скрип сдвигаемых стульев и шарканье ног по мраморному полу. Служба завершилась. Все члены семьи выстроились в ряд вдоль холодной стены. Даниэля снова испугало бледное окаменевшее от горя лицо отца: в эту минуту он был так похож на своего мертвого сына! Казалось, толкни его — и он рухнет на плиты пола.
Присутствующие задвигались, проявляя одновременно любопытство и соответствующее случаю печальное участие. Время от времени Даниэль различал в толпе знакомые лица — родители Дани, Дидье Коплен, Николя, Лоран… Валери присоединилась к семье, встав по левую руку от Даниэлы. Распорядитель похорон командовал церемонией. Одно лицо сменяло другое. Поцелуи, шепот, рукопожатия, печаль в глазах. Даниэль хотел бы сбежать из церкви, скрыться от толпы, остаться наедине с родными! Увы, это было невозможно. Те же абсурдные правила приличия заставляли чужих, незнакомых ему людей вереницей проходить мимо убитых горем родственников, а его — Даниэля — выдерживать пытку соболезнованиями. К счастью, толпа мучителей редела. Оставалось еще человек тридцать… Внезапно, взглянув поверх голов, Даниэль заметил у колонны женский силуэт: Кароль! В ее появлении было что-то трагичное. Хрупкая, вытянувшаяся в струнку, она с серьезным лицом издалека наблюдала за последним актом трагедии. Осторожно оглядевшись вокруг, Даниэль уверился, что ни отец, ни Франсуаза, ни Маду не видели Кароль. Филипп продолжал бесстрастно пожимать руки, повторял машинально: «Спасибо, благодарю, что пришли!..» Кароль отделилась от колонны. Неужели она подойдет к ним? Даниэль испугался. Нет! Медленно пошла к выходу. Ушла, не обернувшись… Служащие уже шли к катафалку, чтобы нести гроб в машину, ожидавшую у паперти. Начал звонить колокол. Сам не зная как, Даниэль оказался в большом наемном автомобиле — черном с серыми сиденьями — вместе с отцом, сестрой, тетей Маду, Дани и Валери.
— Можно ехать? — спросил шофер.
— Да, — ответил Филипп.
Машина тронулась следом за похоронным лимузином, украшенным привядшими цветами. Прохожие на тротуарах оборачивались вслед — юноши и девушки со счастливыми лицами, обычные обитатели квартала. Они наверняка думали: «Ну вот еще одного старика везут на кладбище…» «Смерть для молодых, — подумал Даниэль, — в мирное время всегда связана исключительно со старостью. Сколько раз Жан-Марк проходил этим маршрутом, останавливался перед витринами магазинчиков!» Катафалк спустился по рю Бонапарт к Сене, проехал мимо дома, где жила семья Эглетьер. В машине все молчали. Даниэль не осмеливался посмотреть на отца. На въезде на набережную Малаке кортеж притормозил на красный свет светофора.
Филипп стоял под холодными острыми струйками душа, испытывая мимолетное чувство блаженства и отдохновения, однако стоило ему закрутить кран и вытереться, и печаль вернулась, сопровождаемая ощущением нечистоты собственного тела. Тягостный, трагический день словно прилип к его коже; казалось, что кладбищенский запах, проникший сквозь поры, останется теперь с ним навечно. Филипп неторопливо надел пижаму, прошел в спальню, сел на край кровати, положив локти на колени, и, разглядывая голые ступни ног, принялся размышлять об абсурдности последних событий, перевернувших всю его жизнь. Мысль о том, что Жан-Марк перед смертью даже не успел узнать о том, что отец простил его, усиливала отчаяние Филиппа. Он усматривал в таком стечении обстоятельств коварство несправедливой судьбы. Теперь у него не только не было сына — собственное нереализованное великодушие оборачивалось против него, душило. Именно Жан-Марк, которого он так долго отказывался видеть, был ему сейчас жизненно необходим. При жизни сына Филипп его ни в грош не ставил, а после смерти мальчика он не может без него обойтись. К чему теперь работать, зарабатывать, обеспечивать будущее? Да, конечно, у него остались Даниэль и Франсуаза. Бледные копии блистательного усопшего. Филипп устыдился своего недоброжелательства. Много раз в течение мучительно-тяжелых часов сегодняшнего дня они выказывали ему любовь и заботу. Они, и малышка Даниэла, и другие… Все прошло очень достойно — и в больнице, и в церкви, и на кладбище. Невыносимо думать, что благопристойность похоронной церемонии способна утешить родных, позволить им пережить в горе своего рода светский успех.
Филипп подумал, что его наверняка ждет бессонная ночь, и принял снотворное. Мягкодействующее лекарство всегда успокаивало нервы, позволяло расслабиться. Но сейчас оно вряд ли поможет. Час ночи. Он вытянулся на спине, безвольно скрестил на груди руки. В голову пришло ужасное сравнение: вот так же лежал на столе в больничном морге Жан-Марк, прикрытый белыми простынями. Филипп никогда не сумеет забыть застывшую маску его мертвого лица. Он взял газеты с ночного столика. Войны, катастрофы, самоубийства, убийства, заседания кабинета министров, угроза забастовок, неудавшиеся государственные перевороты… Ничто не трогало его душу, потому что ничто не имело отношения к Жан-Марку. Он пробегал глазами крупные заголовки, не вдумываясь в их смысл и только мысленно прислушиваясь к течению времени. В памяти то и дело всплывали яркими пятнами света картины прошлого. Вот Жан-Марку семь лет, двенадцать, пятнадцать, он на пляже, в парке Бромей — и везде он с закрытыми глазами… У Филиппа перехватило горло. Он вдавил голову в подушку, сжал зубы. Нет, только не это!.. Рыдание отступило. Он глубоко вздохнул. Приступ прошел, но тоска не уходила. Тишина пустой розовой, такой по-женски кокетливой комнаты была невыносима. От мебели, занавесок, ковра исходило что-то тревожно-зловещее. Словно пытаясь стряхнуть наваждение, Филипп простонал:
— О Боже… Боже мой!..
Он не хотел говорить сам с собой, только вздыхал, чувствуя некоторое облегчение. Внезапно тишину прорезал телефонный звонок. Кто это может быть в такой час? Должно быть, ошиблись номером. Он снял трубку.
Из темной глубины прозвучал голос:
— Это ты, Филипп?
— Кароль!.. — прошептал он в ответ.
Мгновенно им овладели страх и надежда, как если бы этот ночной звонок, раздавшийся именно в тот момент, когда он больше всего нуждался в помощи, был проявлением сверхъестественного.
— Откуда ты звонишь? — спросил он, взяв себя в руки.
— Из Парижа, конечно… Это ужасно!.. До сих пор не могу поверить!.. Сегодня утром я была в церкви…
— Я тебя не видел…
— А я тебя видела… И я понимаю, что ты чувствуешь! Мне кажется, я схожу с ума! Не нахожу себе места!.. Боже мой, Филипп!..
Филиппу показалось, что телефонные провода донесли до него дыхание Кароль, и слезы, которые он так долго сдерживал, наконец пролились. Наступило напряженное молчание, и Филиппу снова почудилось, что Кароль рядом, здесь, в доме. Наконец он сказал:
— Я уничтожен, Кароль!
— Бедный! Мы должны увидеться, если ты в состоянии!
— Но зачем?
— Это необходимо нам обоим.
— Когда?
Поколебавшись мгновение, она прошептала:
— Немедленно.
Филипп испытал ощущение счастья и тут же устыдился этого чувства.
— Немедленно? Сейчас? — запинаясь, пробормотал он. — Но… где же?
— Дома. Я звоню из бистро напротив.
В голове Филиппа с быстротой молнии пронеслась мысль о том, что все спят, и он ничем не рискует, и никому не должен давать отчета в своих действиях, черт побери!
— Приходи, — позвал он. — Я жду тебя.
Повесив трубку, он вернулся в ванную, лихорадочно быстро оделся, отпер входную дверь, чтобы Кароль не пришлось звонить, и перешел в гостиную, снедаемый нежной тревогой. Приглушенный свет лампы освещал тесно придвинутые друг к другу диван и кресла. Внезапно Филипп услышал в прихожей шорох и встрепенулся. Перед ним стояла чудесным образом не изменившаяся Кароль — только в глубине ее глаз Филипп угадывал напряжение и какую-то новую мягкость.
Он долго молча смотрел на нее, словно опасаясь, что принял за явь то, что было всего лишь призрачным порождением его усталости и боли. Кароль тоже не говорила ни слова. Наконец Филипп взял ее за руку и повел в гостиную. Войдя, она обвела комнату рассеянным взором монархини, свергнутой с престола непокорными подданными. Она все еще была здесь хозяйкой, и Филипп почувствовал это с обжигающей остротой. Внезапно она опустила голову ему на плечо. Он обнял ее, задыхаясь от счастья и грусти. Нежность Кароль терзала Филиппа хуже смертной муки. Он не мог забыть, что именно в этой женщине была первопричина случившейся катастрофы, не в силах был и оттолкнуть ее. Неожиданно Филипп начал задыхаться, как будто кто-то изо всей силы ударил его кулаком поддых — раз, другой, третий… Он плакал, кривя рот в гримасе горя. Упав в кресло, простонал:
— Как это нелепо!.. Не обращай внимания!.. Я так несчастен, Кароль!.. Возможно… возможно, если бы я не был так суров с ним, ничего бы не случилось… Если бы он остался жить здесь, со мной, с нами… Если бы чувствовал, что его любят, помогают советом… О Господи! Я не знаю…
Он сгорбился в рыдании, спрятав лицо в ладонях.
— Успокойся! — приказала она. — Не нужно…
Филипп почувствовал ее нежную руку на своем лбу, и эта ласка успокоила его. Темное чувство трусливой благодарности переполняло его, и он почти упрекал себя за то, что чувствует себя счастливым среди развалин прежней жизни. Вместе с Кароль к нему возвращалась жизнь — бурлящая, требовательная, эгоистичная. Он хотел бы заточить себя в смерти сына, но внешний мир оглушал его теплом и шумом, принуждая думать о будущем.
— А что, если я вернусь? — шепотом спросила Кароль.
Он вздрогнул. Что она хочет этим сказать?
— Что, если мы снова будем жить вместе, Филипп? — продолжила Кароль, подчеркивая каждое слово.
Усилием воли подавив волнение, Филипп спросил:
— Почему ты хочешь вернуться? Из жалости?
— Брось, Филипп, ты прекрасно знаешь, что это не так!
— Тогда отчего же? Ты несчастлива с этим человеком?
Она покачала головой.
— Нет, Филипп! Теперь… теперь я не смогу!.. Но не будем об этом… Позже, потом я объясню тебе…
Внезапно Филипп подумал, что Кароль узнала, насколько плачевно финансовое положение Рихарда Рауха, и потому решила дать задний ход. Мысль о том, что она отступилась от любовника из сугубо меркантильных соображений, должна была бы уязвить Филиппа, но он слишком долго жаждал ее возвращения, чтобы теперь, когда его мечта исполнилась, становиться в позу оскорбленной невинности. Главное — она здесь, пусть даже в основе всего лежит обман. Какое странное стечение обстоятельств: он потерял сына, но обрел жену! Ужасный размен фигур! Филипп трепетал от радости на краю небытия.
— Ты не ответил мне, Филипп! — Голос Кароль вернул его к реальности.
Он молчал, все еще пребывая во власти сомнений. Мысль его работала стремительно. А вдруг Кароль вполне искренна? Неужели она все еще любит его? К чему искать мерзости жизни за прекрасным фасадом ее лица?
— Ты хорошо все обдумала? — наконец заговорил он. — Я не хочу, чтобы ты принимала решение вот так легко, из-за того, что вы поссорились или в чем-то не сошлись. Если ты вернешься — это должно быть навсегда.
— Именно так, Филипп.
— Нам придется кое-что уладить, Кароль.
— Что именно?
— Я должен предупредить Мадлен, детей… Они теперь снова живут здесь…
Кароль взглянула на мужа с удивлением.
— Конечно, ты не знала… Франсуаза разошлась с мужем, Даниэль перестал ладить с родителями жены… Я всех их взял к себе. Мадлен тоже задержится на некоторое время в Париже.
Кароль задумчиво покачала головой.
— Это несколько меняет дело, Филипп…
— Но почему? Дети будут в восторге!
— Сомневаюсь. Они и раньше не слишком-то меня жаловали, а мой уход, должно быть, стал последней каплей. Они хотят владеть тобой полностью, и это так понятно. Если я снова появлюсь, они станут относиться ко мне, как к чужой, к захватчице…
Филипп впал в отчаяние.
— Но ты же не передумаешь из-за… из-за всего этого?
— Конечно, нет! — попыталась успокоить его Кароль. — Но теперь еще слишком рано для нас возвращаться к прежней жизни… особенно когда рядом с тобой твои дети… Мне будет неловко за нас… и с ними… Пойми меня, прошу! Подождем месяц-другой… Пусть затянутся раны, успокоятся души… Мадлен ведь в конце концов уедет к себе, в Тук… И тогда все будет проще…
Несмотря на разочарование, Филипп не мог не признать, что она права: сейчас не время склеивать разрушенный брак. Необходима отсрочка. Но ждать два месяца!..
— И что же теперь? — спросил он.
— Увидим… мы сможем встречаться вне дома… Если ты захочешь, конечно… Завтра я улечу в Мюнхен — мне нужно уладить кое-какие дела, а через две недели вернусь в Париж.
— Одна?
— Конечно!
— Сейчас ты тоже одна?
Кароль посмотрела Филиппу прямо в глаза и ответила:
— Нет.
Ее откровенность восхитила его. Раз уж она искренне отвечает на такой вопрос, значит, не лукавит и в остальном. Он встал, взял руки жены в ладони, поцеловал. Нежный, едва уловимый аромат пробудил в душе бурю красноречивых воспоминаний. Подняв глаза, Филипп увидел перед собой лицо Кароль с тонким носом, красиво очерченным подбородком и огромными светло-серыми глазами с неподвижными точками черных зрачков. Как она хороша! И он крадет ее у другого мужчины, одерживая победу над более молодым соперником!
— Мне пора, — сказала Кароль, направляясь к двери.
На пороге, задержав ее на мгновение, Филипп сказал со значением:
— Не больше двух недель!
— Не больше, — подтвердила она.
Дверь за Кароль захлопнулась. Филипп вернулся в спальню. За несколько минут он стал другим человеком. Неужели довольно одного взгляда женщины, чтобы мир снова пришел в движение? Лежа в темноте, Филипп предавался размышлениям, в которых печаль смешивалась с оптимизмом. Всякий раз, когда воображение уносило его слишком далеко в будущее, он испытывал желание попросить прощения у Жан-Марка. Филипп закрыл глаза, уснул и увидел ужасный сон о смерти Кароль.
XXIV
Взгляды всех присутствующих обратились на Филиппа, когда он вошел в столовую. Семья села завтракать, не дожидаясь его появления. Он поцеловал Даниэля, Франсуазу, Мадлен, тяжело опустился на стул, протянул чашку, чтобы ему налили чаю, подвинул к себе тарелку с сухариками и варенье. Как только Кароль вернется, они, как прежде, будут завтракать в спальне, вдвоем. При этой мысли сердце его сжалось от радости. Он не мог целиком отдаться предвкушению будущего воссоединения и оставался сдержанным в выражении чувств. Лицо Филиппа было хмурым, он медленно сделал глоток чая, съел сухарик, намазанный маслом. Лица людей, сидевших вокруг него, напоминали часы, остановившиеся в одно и то же мгновение под воздействием ужасного удара. Они чувствовали странное единение — каждый из них думал об одном и том же, но никто не осмеливался заговорить, боясь разбередить рану. Прошла неделя со дня похорон Жан-Марка, но он все еще не мог отойти от них, и эта невозможность забыть о случившемся холодила душу, не допуская забвения. Решив прервать молчание, Филипп принялся расспрашивать Даниэля о том, когда тот окончательно определится с экзаменом на степень бакалавра. Есть ли возможность узнать результат до официального объявления? Нет, это исключено.
— Но ты можешь не беспокоиться, папа, — сказал Даниэль. — Меня примут. Главное, чтобы отзыв был похвальным!
Вошла Даниэла с ребенком на руках. Поздоровавшись, она села, устроила Кристину на коленях, дала ей бутылочку. Филипп отметил, что лица всех присутствующих просветлели и оживились. Один он не умилялся при виде этого маленького, пухленького и прожорливого существа. Глядя, как девочка жадно сосет, он по неведомой причине испытывал страдание из-за ее животного аппетита, жажды жизни, неосознанного отрицания смерти. Мадлен, Даниэль, Дани и Франсуаза, словно обрадовавшись возможности развеять печаль, начали говорить о Кристине. Только о ней. О ней одной. Когда бутылочка опустела, Дани поставила дочку на ножки в ожидании традиционного срыгивания. Филипп отвернулся. Через широко распахнутые окна комнату заливало солнце. В саду, в густой листве деревьев, перекрикивались, задирая друг друга, птицы. Над пробудившимся городом поднимался глухой гул.
— Нужно бы опустить шторы, — сказал Филипп.
Даниэль тут же вскочил со своего места. Секунду спустя комната погрузилась в золотой сумрак.
— Скоро будет совсем жарко, — заметила Мадлен.
Она закурила, и Филипп машинально последовал ее примеру, мысленно спрашивая себя, что он здесь делает — ведь у него нет ничего общего ни с сестрой, ни с детьми. А ведь это из-за них Кароль до сих пор не вернулась в дом! Став жертвой собственной снисходительности, Филипп вынужден был жертвовать счастьем во имя покоя и удобства остальных. Он перестал быть хозяином в своем доме. Абсурд! Будет удачей, если Кароль не передумает! Ее наверняка не радовала перспектива воссоединения с шумным семейным выводком, а теперь еще с невесткой и малышкой. Может, она надеется, что через неделю, с отъездом Мадлен, атмосфера разрядится? Или же, осознав ожидающие ее трудности, Кароль решила не подавать признаков жизни? Она уехала в Мюнхен шесть дней назад и с тех пор ни звонка, ни письма — ни разу. Плохое предзнаменование. Филипп потушил сигарету. Если его опасения подтвердятся, он обвинит Мадлен и детей в этом повторном крахе своей жизни. Поднявшись, он сказал:
— Я вас оставляю!
— Ты идешь в контору? — спросила Мадлен.
— Да. Я даже решил прогуляться пешком, погода прекрасная!
Филипп пошел к двери, и тут в спину ему прозвучал голос Даниэля:
— Я тебя провожу, папа!
Филипп взглянул на сына с раздраженным недоумением. Он бы предпочел пройтись по улицам в одиночестве, отдавшись своим мыслям. Но как откажешь Даниэлю?..
— Что ж, тогда пошли, — буркнул он.
Улица приняла их в шумные, залитые солнцем объятия. Они выбрали тенистую сторону. Мимо них, в жарком облаке выхлопных газов, тянулся плотный поток машин. На набережной движение ускорялось. Они перешли на противоположную сторону и пошли вдоль парапета, нависавшего над Сеной. У воды прохожие мгновенно превращались в праздных гуляк. Юноши в рубашках с расстегнутым воротом, девушки в светлых нарядах — какими же радостно-дерзкими выглядели эти существа в легкой летней одежде! Филиппа поражала их молодость и беззаботность. Чудовищное безразличие всех к несчастью каждого отдельно взятого человека, думал он, вот необходимое условие выживания в этом мире. Впрочем, сам он как раз предпочитал подобную природную бесчувственность фальшивому состраданию некоторых своих знакомых. Придя на работу на следующий день после похорон, он отказался принимать посетителей, чтобы избежать выражения соболезнований, и сидел в кабинете один, изучая дела и делая пометки. Только работа способна излечить его от изнуряющего душу отчаяния. А еще, может быть, Кароль.
Как всегда, вспомнив о жене, Филипп ощутил мгновенную легкость. Если бы только она дала о себе знать! Ну почему он не попросил ее мюнхенский адрес! А ведь знал, как она необязательна, как не любит писать… Ему всегда приходилось брать на себя инициативу, тормошить ее… Да, в ее молчании есть что-то ненормальное. Рихард Раух наверняка пытается удержать ее в Германии. Обхаживает вовсю, расточает обещания, используя ситуацию и то, как падка Кароль на комплименты и внимание. А он, Филипп, заперт в Париже и не может противостоять соблазнителю — ни словом, ни хотя бы букетом цветов! Нет, невозможно! Кароль — разумная женщина. Не он ее позвал, она сама пришла к нему! Он должен верить, завтра, конечно же, придет письмо!
Филипп непроизвольно распрямил плечи, выпятил грудь. Город — светлый, радостный, продуваемый легким свежим ветерком, сметавшим пыль, шелестевшим в листве, — укреплял его в решении жить дальше. Он зашагал быстрее, плечом к плечу с сыном. Ну почему рядом с ним сейчас Даниэль, а не Жан-Марк? Он хотел бы любить их одинаково сильно, но это было невозможно. Особенно теперь! Все в Даниэле раздражало Филиппа — симпатичное, славное лицо, прямодушие, благородная наивность. За десять минут они не нашли, что сказать друг другу. С Жан-Марком все было бы иначе. Какими долгими бывали когда-то их беседы! Все было интересно Жан-Марку — искусство, литература, политика, юриспруденция… Он был особенным, его мальчик, ему была уготована исключительная судьба. «Я не сумел его понять, — с горечью думал Филипп. — Выходил из себя по пустякам. Даже эта история с Кароль!.. Какой банальной она кажется сейчас, перед страшным холодом утраты! Ничто, кроме смерти, не должно было развести отца с сыном. А я прогнал Жан-Марка, отрекся от него из гордыни. Он был жив, а я обращался с ним, как с мертвым. Похоронил его прежде времени. Единственное утешение теперь — говорить о нем. Но с кем? С самим собой!.. Как ничтожна жалкая круговерть жизни!»
Они остановились перед мостом у площади Согласия. Машины тормозили на красный сигнал светофора. Филипп и Даниэль перешли проезжую часть. Поодаль, на мосту Александра III, статуи сверкали сквозь листву деревьев, как золотые самородки.
— Хочу сказать тебе кое-что, папа, — тихо проговорил Даниэль.
— Да?.. — рассеянно отвечал Филипп.
— О том, что буду делать в будущем… Я много думал… И решил бросить философию…
— И чем же ты займешься?
— Буду сдавать на юриста.
Филипп с удрученным видом покачал головой.
— Меняешь планы, как сорочки! Я думал, ты обожаешь философию!
— Это так и есть.
— Полагаешь, придется слишком долго учиться?
— Нет, дело не в этом…
— Тогда в чем же?
— Ну, как тебе объяснить? Философия — игра ума. Она совершенно оторвана от реальной жизни. И потом, Жан-Марк учился на юридическом… Ты собирался взять его в дело… Теперь это невозможно, и вот я подумал, что должен… ну, что так будет правильнее… — Его голос срывался. Он замолчал, нахмурился.
Филипп заговорил, преодолевая неожиданное волнение:
— Прекрасно, — вздохнул он. — Как ты понимаешь, я возражать не стану!
Он думал про себя: «Какой он безвольный! И слишком чувствительный! Чтобы угодить мне, отказывается от того, что любит, рискуя испортить свое будущее. На его месте, даже если бы отец умолял меня выбрать другую профессию, я бы не уступил!»
Они пошли дальше в молчании. Филипп говорил себе, что должен поблагодарить сына, показать, как он тронут его вниманием, но не мог. В его глазах подобная доброта граничила с глупостью. Дойдя до площади Франциска I и остановившись перед дверями конторы, он проговорил наконец:
— Я рад твоему решению, Даниэль. Ты скоро поймешь, что юриспруденция — живое, захватывающее дело… И в ней полно философии!
Он дружески похлопал сына по плечу. Сияющий Даниэль схватил руку отца, с силой пожал, глядя ему прямо в глаза, — словно приносил присягу.
Расставшись с Филиппом, он с гордостью прочел на медной табличке справа от входа название «Юридическая контора Эглетьера» и с чувством выполненного долга зашагал прочь. Принесенная жертва доставляла радость. Мечтая стать преподавателем философии, он думал лишь о том, чтобы продлить наслаждение туманными умствованиями, не заботясь о процветании близких. Манкировал обязанностями мужа, главы семьи, забывал о каждодневной жизни. С этим покончено! Отныне на него можно полностью положиться! Даниэль ощущал себя чистым, надежным и полезным существом. Отец, конечно, все еще слишком потрясен гибелью Жан-Марка, чтобы до конца оценить обязательство, взятое на себя его младшим сыном. Позже он поблагодарит Даниэля за то, как сдержанно и вовремя он пришел на смену старшему брату.
Легкое облачко закрыло солнце, но настроение Даниэля осталось радужным. В раненой насмерть семье он один был в состоянии перебороть наваждение несчастья. Он вернет им всем вкус к жизни. И прежде всего — отцу. Внезапно Даниэль вспомнил о Кароль, о том, как она стояла в церкви, за колонной. Он никому ничего не сказал тогда. Возможно, то был добрый знак? Раз Кароль захотела прийти на службу, значит, она все еще ощущает себя членом семьи. И сожалеет об уходе из дома. При создавшемся положении лучше будет, если она вернется. Как бы там ни было, они счастливо жили в пору ее «царствования». Даниэль был совершенно убежден, что отец страдает из-за этого разрыва. Некоторые люди предпочитают плохие отношения полному отсутствию таковых. Освободившись от цепей зависимости, они падают в пустоту. Размышляя таким образом о важной роли женщины, дающей мужчине полноту ощущения жизни, Даниэль оказался перед собственным домом, не заметив, что прошагал пол-Парижа пешком. Между тем в голову ему пришла захватывающая мысль: он отправится к Кароль — с Франсуазой или с Маду, опишет ей, в каком ужасном состоянии находится отец, и приведет ее обратно на рю Бонапарт. Это будет высокая дипломатия.
До крайности воодушевленный своим планом, Даниэль, как на крыльях, влетел в свою комнату. Даниэлы с Кристиной не было. Он постучал в дверь Мадлен — никого. Его внимание привлек стук пишущей машинки в гостиной. Франсуаза работала за журнальным столиком, сидя лицом к открытому окну.
— Куда все подевались? — спросил Даниэль.
— Дани отправилась на прогулку с Кристиной. Мадлен ушла вместе с Аньес.
— С Аньес? Зачем это?
— За покупками, наверно.
Он рухнул в кресло, расстегнул ворот рубашки и ринулся в бой:
— Знаешь, кого я видел в церкви, тогда, на службе? Кароль!
Франсуаза резко обернулась к брату. Лицо ее закаменело.
— Что ты сказал? И она посмела?!
— А почему бы и нет? Кароль выглядела такой потерянной! Смерть Жан-Марка наверняка стала для нее ужасным ударом!
— Ну еще бы!
— Не думаю, что папа ее видел. Ему было бы приятно узнать, что она приходила. В душе он все еще ее любит. Да и она его тоже… Иначе не явилась бы на похороны. По-моему, она легко даст уговорить себя вернуться!
— Да о чем ты говоришь? — пролепетала Франсуаза. — Ты хочешь, чтобы она вернулась сюда, чтобы жила с нами?
— Ну… да… а что такого?
— Ты просто рехнулся.
Возмущение сестры внезапно взбесило Даниэля. Она всегда терпеть не могла Кароль. Давняя, ни на миг не угасающая женская ревность, когда из-за каждой промашки и мелочи вспыхивает опустошительное пламя!
— Ну, ты-то, конечно, против! — ехидно заметил он. — Не выносишь ее! Почему, кстати? Так вот, на сей раз я обойдусь и без твоего одобрения! Пойду к ней один!
— К ней? Ты? — закричала Франсуаза. — Нет, Даниэль, ты не имеешь права! Это будет… недостойно!.. После того, что она сделала!..
— Нас не касается, что она сделала! Раз папа с ней счастлив…
— Речь не о папе, а о Жан-Марке!
— Да знаю я, знаю, ты мне говорила, что у Кароль и Жан-Марка был легкий флирт. И что теперь? Ничего страшного!
Франсуаза одним прыжком подскочила к брату, застывшему в кресле.
— Жан-Марк погиб по вине Кароль.
— Это уж слишком, Франсуаза! — запротестовал Даниэль.
— Нет, нисколько! Она принесла в нашу жизнь грязь, порок и ложь! Она развлечения ради разрушала все, к чему прикасалась! Она была любовницей Жан-Марка!
— Неправда! — в ужасе прошептал Даниэль.
— Правда, мой дорогой, правда!
— Но почему ты мне ничего не говорила раньше?
— Я не имела права. И потом, ты был так молод!
— Молод?! Слишком молод?! Да что за чушь? Неужели Жан-Марк мог… как он?.. Какая низость!
— Не обвиняй его, Даниэль. Он был так похож на отца… Так слаб… Кароль завладела им, сбила с толку, вскружила голову!.. Он ведь так и не оправился от этой истории… Его женитьба на Валери была бы всего лишь бессмысленным, диким вызовом!.. Он ее не любил!.. — Франсуаза замолчала, сотрясаясь от рыданий. Потом, взяв себя в руки, спросила: — А ты собирался просить Кароль вернуться?
Даниэль хлопнул себя ладонью по лбу.
— Хорош бы я был, идиот чертов! Невероятно! Мы сидели по уши в дерьме, а я ни о чем не подозревал!
Он встал и начал вышагивать по комнате, сжав кулаки, кидая вокруг себя мстительные взгляды, как будто выискивая затаившегося врага.
— Если бы я только знал, прижал бы ее к стенке, эту мерзавку, и тряс бы до тех пор, пока она не запросила бы пощады! Я бы все объяснил отцу, заставил бы его выставить гадину за дверь!.. Она бы убралась отсюда, а не Жан-Марк, клянусь тебе!..
Наступила тишина. За окном, перебивая друг друга, щебетали птицы. Даниэль снова повалился в кресло.
— Прошу тебя, не рассказывай ничего Даниэле, — прошептала Франсуаза. — Так будет лучше для нее. И папе ничего не говори. Он уже настрадался! К чему теперь ворошить эту грязь? Все кончено…
У Даниэля перехватило горло, и он молча кивнул.
Аньес тяжко вздохнула, передавая Мадлен костюм из серой фланели.
— Какой он был красивый в этом костюме! Помните, мадам?
Не отвечая, Мадлен сложила одежду и убрала ее в чемодан. Так, теперь рубашки. Аньес передавала ей их по одной, будто желая продлить пытку, смотрела, как побитая собака, и под этим взглядом Мадлен слабела от тоски и нетерпения. Она схватила в охапку все так хорошо знакомые ей пестрые галстуки и кинула их на белье, как клубок змей. Решив освободить комнату Жан-Марка, она не сомневалась, что ее ждет тяжкое испытание. И все-таки дело придется довести до конца. Никто в их растерявшейся от боли утраты семье не способен ее заменить. Мадлен приняла решение одна, ни с кем не советуясь. Здесь поселится Николя, а квартиру на рю Сен-Дидье сдадут, она стала ненужной. Мадлен все решала за детей сама, ни с кем не советуясь, понимая, что сейчас они нуждаются в ней, как никогда прежде! Только это обстоятельство извиняло ее, давало силы действовать.
— В шкафу ничего не осталось? — спросила она.
— Нет, мадам! — воскликнула Аньес. — Только… только бумаги…
Мадлен попыталась закрыть чемодан, но он был слишком набит. Присев на корточки, она нажала на крышку коленом. Ощущение загнанности, печать смерти сдавили ей сердце. Как будто приходилось снова хоронить Жан-Марка… Наконец ей удалось защелкнуть замки. Наружу из щели торчал край полосатой пижамы, но у Мадлен не хватило мужества снова открывать чемодан.
— Мне начать уборку, мадам? — спросила Аньес.
Мадлен почувствовала, что не вынесет вздохов служанки за спиной, когда начнет разбирать бумаги и книги Жан-Марка.
— Нет, благодарю вас, Аньес. Вы мне больше не нужны. Возьмите чемодан и отправляйтесь. Убрать здесь сможете и завтра, во второй половине дня.
— Знаете, мадам, я не осмелюсь прийти сюда одна! — с опаской пробормотала старая женщина.
— Что ж, милая, я приду с вами…
Как только Аньес ушла, Мадлен почудилось, что она сейчас очутится лицом к лицу наедине с Жан-Марком. В этом месте, где он страдал, любил и мечтал, прежде чем исчезнуть навсегда, еще присутствовала, бесспорно, какая-то его частичка. На стене над кроватью была приколота фотография античной скульптуры: двое подростков — Орест и Пилад. В ней не было ничего особенного. Почему же Жан-Марк отвел ей столь почетное место? Кровать оставалась неубранной. Смятые простыни еще помнили о теле, лежавшем здесь в последнюю ночь своей жизни. На стуле стоял стакан с водой: Жан-Марк, вероятно, хотел пить ночью. На столе — книги по юриспруденции, конспекты с пометками красным карандашом на полях — скорее всего, на том месте, где Жан-Марк остановился, собираясь вскоре вернуться к чтению.
В коридоре раздались шаги. Мадлен повернула голову на звук. Открылась, а потом со стуком захлопнулась дверь соседней комнаты.
Тишина, пустота и отсутствие создавали ощущение клетки. Нервы Мадлен были на пределе. Сев за стол, она начала опустошать содержимое ящиков в матерчатую сумку, захваченную из дома. Среди бумаг она нашла свое собственное письмо, которое написала Жан-Марку четыре года назад: ничего примечательного — просто описание ее жизни в Туке и вопросы о его учебе… Почему он сохранил его? А еще Мадлен увидела в ящике свою давнюю фотографию — молодая, худенькая, в вышедшем из моды костюме; снимок Франсуазы и Даниэля на берегу моря, сделанный во время каникул, и еще одну — гораздо большего размера. На ней был изображен мальчик с грустной улыбкой — Мадлен его не сразу узнала. Внезапно она вспомнила — ну конечно, это Жильбер! На обороте карандашом была написана строчка из Бодлера, из «Цветов зла»: «О, освежающие сумерки!» И дата — «17 апреля». В этой юношеской дружбе Мадлен почудилась какая-то тайна, и она продолжила поиски. Ни одной фотографии Валери, ни письма, ни записки, ни хоть самого крошечного подарка на память любимому. Словно невеста ничего не значила для Жан-Марка — даже накануне свадьбы… Это обстоятельство делало еще более странной поездку двух молодых людей в воскресенье по шоссе на юг. Почему они оказались вдвоем в машине Жильбера в тот момент, когда Жан-Марку по всем правилам полагалось находиться рядом с невестой? Мадлен вспомнила тот вечер, когда она ужинала вдвоем со своим племянником в ресторане и там появился Жильбер — элегантный и непосредственный. У Жан-Марка был такой странный вид — требовательный взгляд собственника, причем встревоженного собственника! Несколько слов, которыми молодые люди обменялись при Мадлен, свидетельствовали об удивительной общности вкусов. Внезапно она почувствовала, что оказалась на краю бездны, и отшатнулась, словно сам Жан-Марк запретил ей идти дальше.
Он и Жильбер тогда смеялись, говорили громко и быстро, были молоды, читали стихи, принимали самих себя всерьез. Она пригласила их в Тук. Они с восторгом согласились. А сегодня и тот и другой были мертвы. Погибли в одно и то же мгновение. У Жан-Марка — перелом основания черепа. У Жильбера — раздавлена грудная клетка. Врач-патологоанатом решительно заявил: они не страдали. Смерть не идет молодым. Как одежда, украденная у старика. Но что сталось бы с Жан-Марком, не погибни он в той нелепой аварии? Женился бы на Валери и потом сожалел об этом, угнетенный светскими обязанностями, оторванный от истинных своих устремлений, а возможно, и от подлинной любви?.. «Кто знает, возможно, на весах истинных человеческих ценностей несколько минут безрассудного счастья значат больше, чем годы так называемого преуспеяния…» Мадлен испугалась направления, в котором потекли ее мысли. Она была словно околдована. Как стена, нагревшаяся за день на солнце, отдает тепло после наступления ночи, так и комната, в которой жил Жан-Марк, источала его мысли из потустороннего мира.
Мадлен встала, отколола от стены фотографию скульптуры Ореста и Пилада. Пока не окончена уборка, нужно запретить себе думать. Она уничтожала следы — как пылесос, как ластик. Поспешно убрала в сумку фотографии, дневники, тетради, отдельные листки бумаги, письма. Возможно, разгадка причин случившейся драмы находится в этих бумагах? Мадлен не хотела ее знать.
Когда она все закончила, комната больше никому не принадлежала, как будто Жан-Марк никогда здесь не жил. Николя может переезжать. Мадлен открыла окно. Шум города оглушил ее. Почему она здесь, она — пятидесятилетняя женщина со своим домом в Туке, со своими безделушками, лисичкой, со своими больными ногами, одышкой, жалким счетом в банке и бесконечным одиночеством, — в то время как Жан-Марк?.. У Мадлен сбилось дыхание — как в тот день в Трувиле, когда она плавала и огромная волна ударила ее в грудь.
Когда потрясение прошло, Мадлен почувствовала себя лучше. Она закрыла окно и вынесла набитую сумку на лестничную площадку. Поворот ключа в замке. Что теперь происходит за закрытой дверью? Сумка была ужасно тяжелой. Она с трудом снесла ее вниз и взяла такси, чтобы вернуться на рю Бонапарт.
После обеда семья собралась в гостиной. Даниэла разливала кофе. Франсуаза смотрела на брата, на Маду и уговаривала себя быть мужественной. Филипп взял два куска сахара. Он стоял у камина, держа чашку в руке. Ложечка звякнула о блюдце. Этот звук стал для Франсуазы сигналом. Подняв голову, она взглянула отцу в глаза и прошептала:
— Я забыла тебе сказать, папа: сегодня утром, после твоего ухода, звонила Кароль. Я посоветовала ей позвонить тебе в контору…
— Да-да, — ответил Филипп, — мы разговаривали. Спасибо…
Он бросил на присутствующих властный взгляд. Все лица казались ему враждебными. А ведь еще сегодня утром Франсуаза была так нежна с ним, Даниэль с жаром сообщал о своем намерении изучать право, чтобы подставить отцу плечо! Что случилось за эти несколько часов? Неважно! Плевать он хотел на их настроение. Голос Кароль звал его издалека, очаровывал, соблазнял, укрепляя в намерении поступить по-своему. В тот момент, когда он готов был поддаться отчаянию, она подтвердила ему — так деликатно, так нежно! — что намерения ее не изменились. Она скучает в Мюнхене, хочет вернуться раньше, чем предполагала. Они разговаривали так минут двадцать. А может, и дольше! Как в самом начале их романа!..
— У меня как раз важная новость для вас, — сказал он. — Мы с Кароль приняли решение снова жить вместе.
Ни Мадлен, ни дети не сказали в ответ ни слова. Ждали они этого решения или не понимали его истинного значения? Филипп допил кофе, поставил чашку на каминную полку и продолжил:
— Вот почему я полагаю, что нам не стоит оставаться всем вместе под одной крышей. У каждого поколения собственное восприятие жизни, свои привычки…
Именно эти слова сказала ему совсем недавно Кароль, когда они обсуждали по телефону условия ее возвращения. Филипп сделал паузу, закурил и сказал, выдохнув дым:
— Разумеется, будет правильнее и приятнее для всех, если вы, молодые, оставите нас и поселитесь на рю Сен-Дидье, в твоей квартире, Франсуаза. При таком варианте тебе не придется сдавать ее в аренду. Я буду платить за коммунальные услуги и назначу каждому из вас небольшое ежемесячное пособие…
Филипп видел, как бледнеет и вытягивается лицо Франсуазы, как жестко смотрит на него Даниэль. Мадлен казалась оглушенной от изумления. Даниэла подошла к мужу, как будто хотела спросить у него совета. Наступило долгое молчание.
— Это все, что ты хотел сказать нам, папа? — бесцветным голосом произнес Даниэль.
— Да, — ответил Филипп.
Даниэль пошел к двери.
— Куда ты? — спросил Филипп.
— В свою комнату! У меня дела. Ты со мной, Дани?
И они вышли — Даниэль, а за ним Дани, перепуганная, с опущенными глазами.
— Когда мы должны освободить квартиру для Кароль? — спросила Франсуаза.
Дочь в этот момент показалась Филиппу категоричной, чем напомнила свою мать в моменты их споров. Но он был слишком счастлив звонком Кароль, чтобы позволить кому-то разрушить его радость.
— Твой вопрос не особенно деликатен, Франсуаза, — сдержанно ответил он. — Кароль вовсе не собирается переезжать сюда завтра. Мы с ней просто хотим составить планы на будущее. Кстати, она будет совершенно счастлива принимать вас в этом доме, когда вернется, через месяц или два. Организуйте свой переезд не торопясь. Ты не находишь, что это удачное решение?
— Конечно, папа. Другого просто не существует! — Глаза Франсуазы горели холодным огнем. — Единственный пункт, в котором я с тобой не согласна, — продолжила она, — касается даты нашего отъезда. По-моему, чем раньше это произойдет, тем будет лучше для всех. Не беспокойся, мы недолго будем тебе надоедать!
Высказавшись, Франсуаза развернулась на каблуках и исчезла. Ее резкая тирада прозвучала, как пощечина. Филипп воскликнул:
— Да что это с ней? Она просто рехнулась!
— Нет, Филипп, — покачала головой Мадлен. — Ты только что причинил своим детям неимоверную боль!
— Невероятно! Какой эгоизм! Я лезу из кожи вон, чтобы обеспечить им достойное будущее, а они ни во что меня не ставят!
— Жизнь — не одно только комфортное существование. В дни ужасного горя они обрели то, что не имеет цены, — дом, семью…
— Да, но в этой семье кое-кого не хватало — Кароль!
— Ее не хватало тебе, Филипп, — но не им!
— Отчего же? Кароль их любит, можно сказать, что она их воспитала…
— К превеликому несчастью, Кароль занималась не только воспитанием!
— Что ты хочешь этим сказать?
— Твои дети знают все.
Филипп смотрел на сестру с недоверием, постепенно перераставшим в ярость.
— Все? Я не понимаю!
— Напротив, Филипп. Очень хорошо понимаешь! Детям все известно, и у них, в отличие от тебя, нет причин прощать Кароль…
Филипп сжал зубы. Гнев овладел им так стремительно, что он с трудом сдерживал дрожь.
— Вот и прекрасно! — проорал он. — Пусть убираются ко всем чертям! Скатертью дорога! И побыстрее! Никто не смеет судить меня в собственном доме!
Он вышел из квартиры, хлопнув дверью, оставив потрясенную Мадлен в одиночестве.
Он долго шел по улице безо всякой цели, пытаясь приглушить бешеное биение сердца, успокоить беспорядочно метавшиеся в голове мысли. И в конце концов решил отправиться в контору. На улице Франциска I он зашел в цветочный магазин и заказал двадцать пять красных роз для мадам Эглетьер, поручив доставить их в гостиницу «Vier Yahreszeiten» в Мюнхене.
XXV
— Ты неважно себя чувствуешь? — спросил Филипп, садясь возле кровати.
— Я просто немного устала! — ответила Кароль. — Думаю, что сегодня не буду ужинать. Аньес подаст мне чай. Но ты…
— Я тоже выпью чаю, — перебил жену Филипп. — Значит, в театр мы не пойдем?
Она послала ему один из своих знаменитых отточено ласковых взглядов, вздохнула:
— Трудно со мной, да?
Уходя с работы, Филипп взял с собой билеты и вернулся домой раньше обычного, чтобы переодеться. И все-таки отказ Кароль вызвал у него чувство неожиданного облегчения.
— Нет-нет, — пробурчал он. — Все хорошо. Я тоже не слишком расположен идти.
Вошедшая Аньес поставила на колени Кароль поднос с чаем.
— Поставьте чашку и для меня, — приказал Филипп.
— Месье не будет ужинать?
— Нет, Аньес.
— Стоило стараться, готовить для вас! — проворчала Аньес.
Она молча вышла, пылая праведным гневом и осуждением. Аньес дулась с момента возвращения в дом Кароль. Через несколько минут она вернулась со второй чашкой. Когда за ней закрылась дверь, Кароль прошептала:
— Несчастная становится невыносимой! В ближайшие дни я ее рассчитаю.
Филипп почувствовал смутную досаду, но не возразил жене. Кароль взяла дом в свои руки, и это было совершенно естественно. Он смотрел, как жена пьет чай, намазывает сухарик маслом… Насколько отточены и изящны ее движения! Белая ночная кофточка с розовыми лентами, прозрачная ночная рубашка, губы, едва тронутые помадой… Этот образ в точности соответствовал тому воображаемому, созданному им в фантазиях, когда он страстно желал воссоединиться с женой, но теперь, когда Кароль вернулась, он чувствовал в ее присутствии разве что легкое волнение. Они ни разу не говорили о Жан-Марке. Филипп испытывал неловкость при одной только мысли о том, чтобы вспоминать вместе с Кароль погибшего сына. Но она — из осторожности или заботясь о благопристойности — избегала любых разговоров, которые могли бы ранить их обоих. Это установившееся, по негласному уговору, умолчание отягощало их отношения. Но они не обсуждали и дела Даниэля и Франсуазы. Кароль полагала, что рано или поздно дети осознают свою ошибку и покаются. Родители ни в коем случае, ни под каким видом, говорила она, не должны первыми делать шаги к примирению — чтобы не потерять лицо. Она была, конечно, права! Но Филипп страдал из-за этого раздора с детьми. Прожив большую часть жизнь в сутолоке большой семьи, теперь он оказался один на один с женой на необитаемом острове. Словно жертва кораблекрушения с карманами, набитыми золотом. Пустота и тишина, царившие вокруг, делали его богатство бессмысленным. Обремененный тем, чего так страстно желал, Филипп уже едва ли не сожалел о том времени, когда жил надеждой и ожиданием.
Он выпил чай, показавшийся ему безвкусным. Когда он ставил чашку на стол, их руки соприкоснулись, взгляды встретились. Филиппу показался невыносимым блеск этих серо-голубых, с крошечным черным зрачком глаз. Через открытое окно в комнату вливалась дневная жара. Кароль сжала ему руку, но он, не в силах выносить этот телесный контакт, легонько отстранился. Догадывалась ли она, что он чувствует? На губах Кароль появилась грустная улыбка.
— Париж и правда невозможен в июле, — проговорила она.
— Ждать осталось недолго!
— Ты полагаешь? До четвертого августа! Еще почти три недели. А потом еще и Югославия! Не слишком отрадная перспектива!..
— Ничего не могу поделать, Кароль. Я обязательно должен быть по делам в Загребе…
— А что, если мы для начала отправимся на юг? Провести две недели в Канне было бы замечательно! Уверена, ты смог бы все уладить, повесив дела на Блондо…
— Блондо, Блондо! — буркнул с раздражением Филипп. — Текущие дела он еще потянет… Но в остальном…
Сказав это, Филипп взглянул на жену, и внезапно в предложении Кароль, отвергнутом им по причине абсурдности, ему почудилось спасение. Солнце и море рассеют тьму в его душе. Не в Париже, населенном воспоминаниями, а там, на ярком свету лета, он обретет равновесие. Один тот факт, что его заинтересовал этот план, был признаком выздоровления. Филипп уже думал о выборе гостиницы, о билетах на самолет, о покупках, которые необходимо сделать…
— Если бы не дело «Мейсак — Буле»! — сказал он. — Ладно, я пройдусь по нему с Блондо. Возможно, если я оставлю точные инструкции…
— Вот увидишь, как хорошо нам будет в Канне! — пообещала Кароль.
Наверняка она тоже думала об этой поездке как о лечении. Они были больны одной болезнью, хоть и не осмеливались в том друг другу признаться.
Филипп мягко взял руку жены, поднес к губам, поцеловал. Рука была теплой и гладкой, но в ней не было тайны. «Скоро все это изменится, — сказал он себе. — Скоро я стану прежним».
Мягкий размеренный рокот волн и вечная синева неба расслабляли мозг, подобно повторенной бессчетное число раз молитве. Филипп лежал на пляже — голова под зонтиком, торс и ноги выставлены под палящее солнце. Он пребывал в состоянии животного оцепенения, медленно, но верно перетекавшего в отвращение. В двух шагах от него лежала Кароль — почти целиком обнаженная, намазанная кремом для загара, она замерла в неподвижности на узком матрасе, прикрытом белым махровым полотенцем. К счастью, на этом роскошном гостиничном пляже все посетители принадлежали к высшему обществу и умели хранить тайны. За неделю, проведенную в Канне, Филипп отлично изучил привычки и телосложение каждого. По сути своей, эта роскошная жизнь была однообразна и скучна. Пляж, купание в море, солнечные ванны, овощные и фруктовые салаты на обед, розовое вино, послеобеденная сиеста, концерты в «Палм-Бич»; аперитив время от времени на яхте в открытом море или вблизи какого-нибудь острова; дорогие рестораны на манер «провансальской харчевни», зубатка под фенхелем, уха по-домашнему, омар по-американски, чересчур сдобренный вином, и бесконечные жаркие ночи. Филипп мог спать, только приняв снотворное, причем приходилось все время менять препараты. Утром у него постоянно была тяжелая голова и отвратительный вкус во рту. А вот Кароль, судя по всему, наслаждалась отдыхом. Она очень похорошела. Загар подчеркивал тонкость ее черт, гладкость кожи. Филипп же краснел от солнца и толстел от ресторанной еды. Ему было плевать на жалкую благопристойность…
На небе ни облачка. Идеальное утро. За спиной отдыхающих по бульвару де ля Круазетт бесконечным потоком ехали машины. На общественных пляжах, должно быть, полно детишек. Даже здесь, в относительном покое, чувствуется близость толпы. «Канн в июле непереносим! — решил он. — Никогда больше не поеду сюда!» Кароль приподнялась на локте, спустила бретельки лифчика, вытащила вкопанный в песок флакон масла, натерла лицо, шею и руки коричневатой жидкостью, улыбнулась Филиппу и спросила:
— Ты хорошо себя чувствуешь?
— Конечно…
— Пить не хочешь?
— Нет. А ты?
— Постараюсь удержаться до обеда.
— Понятно…
Кароль снова улеглась, закрыла глаза и превратилась в манекен, отдающий глупостью и довольством. Моргая и щурясь на солнечном свету, отражавшемся от волн, Филипп смотрел на тело жены, надеясь, что в душе проснется хоть какое-нибудь чувство. Он видел едва прикрытую тканью купальника грудь, пухлые подбритые подмышки, выступающие кости таза и детский пупок в самом центре мягкого женского живота. Ничто не пробуждало в нем желания. Вчера, в номере гостиницы, сжав Кароль в объятиях, он почувствовал могильный холод. Занятия любовью превратились для него в отчаянную, жестокую борьбу со страхом смерти. Достанет ли у него сил начать все сначала?.. Впрочем, Кароль его ни о чем не попросит! Она не хочет его так же, как он не хочет ее. Возвращаясь к семейному очагу, она не подчинялась велению сердца, но искала безопасного существования. В сложившейся ситуации ей выгоднее было носить фамилию Эглетьер, а не Раух. Все остальное оставалось не более чем представлением, вернее — проявлением вежливости. Врожденное кокетство побуждало ее соблазнять мужа. Это было одним из негласных условий их союза. Завтра, или послезавтра, или через неделю она снова начнет его обманывать. Возможно, тогда он снова возжелает ее? Да нет, его это больше не волнует. Рихард Раух мог возвращаться — Филипп не станет оспаривать у него жену.
Охлаждение было столь очевидным, что Филипп внезапно спросил себя, почему он не заводит интрижку с другой женщиной. Даже на этом пляже был богатейший выбор. Красивые, здоровые, доступные, свободные от обязательств молодые женщины… Кароль не станет возражать против его легкого романчика. А может, даже подтолкнет к связи на стороне — просто так, забавы ради, или чтобы тоже чувствовать себя свободной. Филипп оглядел соседок по пляжу и с грустью вынужден был признать, что эта демонстрация молодой упругой плоти больше не возбуждает его. Что-то в нем сломалось. У смысла его жизни не могло быть женского лица. Он почувствовал, что вот-вот поймет нечто крайне важное, но не знал, с какого конца подобраться. Свечение неба ослепляло его. Он так любил солнце — и вот теперь почти ненавидит его. Желтый отвесный свет размывал краски окружающего мира и растапливал мозг. Тело горело, бронзовело, истекало потом, горизонт разлетался на тысячи и тысячи слюдяных чешуек, и даже находившиеся поблизости предметы расплывались, сливались воедино: стекла очков, страницы иллюстрированной газеты, бутылки содовой воды… Как Кароль может выносить пляж?
Рядом с понтоном несколько молодых ребят садились в моторку. Они отъехали, с шумом и грохотом, таща за собой на канате воднолыжника, исполнявшего изящные пируэты и виражи. Несколько голов приподнялись с ленцой, чтобы взглянуть на спортсмена. Белые паруса вдали. Торговец газетами с ногами, утопающими в песке, и с кучей дурных новостей — никто у него ничего не купил. «Главное — не знать, что происходит во внешнем мире, — думал Филипп. — Пустяк способен погубить главное».
Сегодня вечером снова придется одеваться к ужину. Они присоединятся к чете Ашезонов в том замечательном ресторане в горах над Ниццей, где нет электрического освещения и клиенты едят при свечах мясо, поджаренное на костре из сухой виноградной лозы, и картошку, испеченную в золе. Вернувшись в номер, он примет висмут и снотворное, упадет на кровать и будет со злой завистью и бессилием смотреть, как Кароль прогуливается в прозрачном пеньюаре перед открытым окном, выходящим на набережную Круазетт. От тоски у него перехватило горло. Филипп надеялся обрести в Канне успокоение, но еще нигде он не чувствовал такой растерянности, как в этом многолюдном, знойном и праздном городе. В Париже у него хотя бы была его работа, а самодисциплина помогала ему держаться. Здесь же он день и ночь находился во власти изматывающих душу воспоминаний. Кароль и Жан-Марк поочередно возникали в его мыслях. Его больше не интересовало то, что он вновь обрел, а то, что утратил, казалось невосполнимым. Классический парадокс. Но он не попадется. Противоядие где-то существует, он это точно знает! Но не на этом пляже, не под этим безжалостным солнцем, не на берегу этого незыблемо-синего моря.
— Пойдешь купаться?
Кароль встала. Филипп посмотрел на нее снизу вверх, не двигаясь, и нашел, что ее ноги, пожалуй, немного слишком худы. Прежде он не замечал этого недостатка. Даже когда она стояла, между бедрами оставался зазор. Теперь Филипп видел только его, эту смешную дыру, слабое место тела, которое он всегда считал совершенным. «Да что мне до этого?» — сказал он себе. Кароль легко побежала к воде. Мужчины провожали ее глазами. Филипп позавидовал их аппетиту и встал.
Соприкосновение с холодной водой было неприятным; он проплыл несколько метров брассом, вернулся на берег и растянулся на матрасе — мокрый, со следами соли на коже. Капельки воды блестели на его волосатых ногах. С неба обрушивалась адская жара, так что секунду спустя он уже обсох. Кароль все еще плавала — крошечная фигурка качалась на ласковых волнах. А что, если она не вернется?.. Но вот Кароль доплыла до небольшого плотика на четырех красных бочонках, влезла на него и улеглась, подставив лицо солнцу. Мимо пронеслась моторная лодка с воднолыжником. Интересно, это тот же, что недавно отправился на прогулку с пирса?
«Надо обязательно позвонить в Париж!» — подумал вдруг Филипп. У него не было никаких причин делать это — они с Блондо условились, что тот свяжется с шефом при первом же затруднении, — но внезапно Филипп осознал, что никому больше не доверяет. Ему необходимо было убедить себя, что хотя бы там без него не смогут обойтись…
Воспользовавшись отсутствием Кароль, Филипп отправился в бар на пляже и попросил вызвать для него Париж. В дощатой телефонной кабине пахло корабельным лаком и маслом для загара. Стоя в плавках в тесной будке, Филипп представил себе собеседника — в ботинках, костюме и галстуке — и на мгновение ему стало смешно.
— Все идет хорошо, — заверил его Блондо. — Я составил проект компромиссного соглашения, следуя вашим указаниям. Послезавтра они придут, чтобы все подписать…
— Почему так быстро?
— Господин Мейсак в начале следующего месяца уезжает в Соединенные Штаты. Он попросил меня ускорить дело…
Филипп прищелкнул языком от досады. Дело было из числа архисложных, и он не мог допустить, чтобы документы были подписаны в его отсутствие. Этот столь кстати обнаружившийся факт подарил ему прилив энергии. Обманывая самого себя, он делал вид, что раздражен помехой, но в душе бурлила радость. В щель между досками проникал солнечный луч. Рядом с кабиной звучали восклицания и смех игроков в пинг-понг.
— Слушайте, Блондо, — наконец сказал он. — Это слишком важно… Я приеду… Да, да… Прыгну в самолет… Предпочитаю…
Филипп вышел из кабины, чувствуя облегчение и удовлетворение, он дышал полной грудью, как человек, получивший отпущение грехов. Кароль уже вернулась с плота и лежала на своем матрасе. Сняв темные очки, она посмотрела на Филиппа и спросила:
— Где ты был?
С озабоченным видом он стал объяснять, что вынужден завтра лететь в Париж:
— Я пробуду там два-три дня, не больше, только доведу дело до конца. Досадно, но что ты хочешь? Дело есть дело…
Она не стала возражать, снова надела очки и молча упала в объятия солнца.
XXVI
От директора «Топ-Копи» Франсуаза вышла в глубокой задумчивости. На что решиться — работать полный день в бюро, как предлагает ей этот человек, или же удовлетвориться меньшим, работая дома, но не подчиняясь жесткому распорядку дня? Второй вариант нравился ей намного больше, но трезвый голос рассудка подсказывал, что принять следует первый. Она должна была дать ответ до конца недели. Нужно обсудить проблему сегодня вечером, за ужином.
За тот месяц, что она прожила на рю Сен-Дидье, Франсуаза полюбила эти беседы. Каждый из них рассказывал остальным о своих делах и проблемах. Вначале Франсуазу смущало присутствие Алисии, которая переехала к Николя, когда еще он жил один. Теперь ее невозможно было выставить. Впрочем, она была милой, услужливой, сдержанной и вносила свой пай в общую казну. Даниэль, получивший временную работу на коммутаторе в крупном агентстве недвижимости, зарабатывал 550 франков в месяц. Николя за свои фотороманы получал деньги нерегулярно, зато помногу, и с нетерпением ждал возможности, когда наконец на телевидении запустят «большой проект» — настоящий сериал. А небольшая ежемесячная субсидия, которую Филипп пообещал своим детям, могла бы окончательно сформировать бюджет их сообщества. Франсуаза отвечала за финансы, Даниэла занималась покупками и готовила на всех. Время от времени супруги Совло навещали дочь и зятя и всегда приносили в подарок какие-нибудь продукты.
Филипп так ни разу и не появился на рю Сен-Дидье после их переезда, а Даниэль и Франсуаза не показывались на рю Бонапарт. Перед отъездом в Тук Мадлен пыталась внушить племянникам, что они должны видеться с отцом. Они пообещали — без всякого, впрочем, энтузиазма, но когда Франсуаза неделю назад позвонила на рю Бонапарт, Аньес сообщила, что месье и мадам уже пять дней как в Канне. Франсуаза почувствовала одновременно облегчение и печаль. Теперь, после возвращения мачехи, ей все меньше хотелось общаться с отцом. Ее семьей были Даниэль, Дани, Николя и даже в каком-то смысле Алисия!
Из-за шума метро закладывало уши. Перед глазами плясала световая реклама аперитива. Сидя в полупустом вагоне, Франсуаза думала о необъяснимом отношении к ним отца и, не находя ему никаких извинений, ощущала душевную боль. Горевал ли он о гибели сына? Ну да, конечно — в первые дни после несчастья. Но эгоизм очень быстро взял верх над остальными чувствами. Отец был слишком жесток с Жан-Марком при его жизни — и не изменил своего отношения к нему и после его смерти, причем страшнее всего было равнодушие. Остальные дети тоже мало интересовали Филиппа. Воссоединение с Кароль принесло ему вторую молодость, он желал избавиться от любых помех своему счастью, отказывался быть отцом. Да и был ли он им когда-нибудь?! С досадой и отвращением Франсуаза представляла себе триумф Кароль, вернувшейся к своему мужу и к своей мебели. Наверное, Филипп стал теперь еще покорнее, чем прежде. «А разве я сама вела себя с Александром по-другому? — внезапно подумала Франсуаза. — Наверное, у нас это семейная черта…» На ее счастье, она очнулась от злых чар, а вот отец, судя по всему, упивается своим унизительным положением.
Александр теперь стал для Франсуазы едва различимым прошлым. Где он сейчас? В Париже? Вернулся в СССР? Да какое ей дело! Александр больше не угрожал ей, он ничего для нее не значил, но ностальгические воспоминания об этом человеке были ей необходимы в скучной повседневной жизни. Они свидетельствовали о том, что и у нее, как у других, были и страсть, и разочарование, так что ей нечего больше требовать от жизни и не на что надеяться, а если удел каждого человеческого существа заключается в поисках счастья, то ей следует искать свое не в любви. Достаточно оглянуться вокруг, чтобы убедиться: у большинства женщин — та же судьба.
В этом шумном, блестящем, мчащемся сквозь ночь вагоне подземки на всех лицах лежала печать усталости. И это влюбленные женщины? Нет, конечно, они — домохозяйки, матери семейств. Если бы кто-нибудь вскрыл их черепные коробки, там обнаружились бы только стопки половых тряпок и продуктовые кошелки. Даже самые молодые выглядят упрямыми, расчетливыми, приземленными. Интересно, многие ли, желая утешиться, читают «Нежный взгляд»? Да, если Николя хочет добиться успеха, он должен прекратить позировать для фотороманов! Она ему сто раз об этом говорила! Это пустая трата времени и сил! Ну что за осел! Франсуаза отвернулась от соседки — женщина вязала, с пустым взглядом и приоткрытым ртом, — и увидела свое отражение в стекле. Она была уродливой. Она была черной. В ее жизни не было мужчины. По лицу в стекле пробежали отблески света. В нем отражались плакаты и афиши. Станция «Виктор Гюго». Франсуаза вышла из метро быстрым шагом, так контрастировавшим с тяжестью мучивших ее мыслей.
Даниэла купала малышку Кристину, Алисия присутствовала при этом, с умилением наблюдая за торжественной процедурой.
— Лично я, — заявила она, — завела бы ребенка от стоящего мужика, но при одном условии — чтобы не надо было выходить за него замуж!
Франсуаза бросила на нее встревоженный взгляд. Алисия прыснула.
— Не бери в голову! Я не о Николя!
— А о ком же?
— Да ни о ком… Это просто мысли вслух!.. А ты разве не хотела бы, чтобы у тебя был малыш, но не было мужа?
— О нет!
— А я уж тем более! — поддержала Франсуазу Даниэла.
— Какие же вы обе смешные! — воскликнула Алисия. — Ребенок без мужа — вот секрет семейного счастья!
— Для матери — возможно, — отвечала Франсуаза. — Но для ребенка?.. Не знаю… Ребенку нужен кто-то сильный рядом — для защиты, опоры… Разве не так?
Она снова вернулась мыслями к отчужденности отца, к разъединению семьи, и сердце ее сжалось от огорчения. Неужели Алисия права? «Если бы у меня был ребенок от Александра…»
— Послушай, я совсем забыла тебе сказать: послезавтра к ужину придут Лоран и Беатрис! — объявила Даниэла. — Они принесут все, кроме вина и фруктов.
— Прекрасно, — ответила Франсуаза.
Ей тут же пришла в голову мысль пригласить Дидье Коплена. Он выглядел таким потрясенным на похоронах! Если Дидье придет, то с ними незримо будет Жан-Марк.
— По-моему, Беатрис — бестолочь! — безапелляционно заявила Алисия.
Дани возразила с возмущением. Франсуаза промолчала. Ей не нравилась девушка, на которой Лоран женился две недели назад: беременность ее была еще практически незаметна, но она уже носила широкие платья и выпячивала живот. Рядом с ней Лоран казался еще моложе. Нелепая пара… А бывают ли удачные? Все, кого она знала — ее отец и Кароль, мать и Ив, Даниэль и Дани, она сама и Александр, — передвигались по жизни смешной хромающей походкой. Неужели единственное, что объединяет мужчину и женщину, — это постель?
Даниэла закончила купать Кристину, вытерла ее, припудрила тальком и принялась одевать быстро и ловко, привычными, отработанными движениями.
В этот момент с шумом вошли Николя и Даниэль. Их дружба радовала Франсуазу.
Они заявили, что хотят пить, и Алисия кинулась на кухню. Она позировала для рекламы кухонных приборов и получила в качестве приза электрический миксер со множеством насадок. Теперь она поила всю семью морковным соком пополам с водой, так что отказаться, не обидев ее, было невозможно.
Все они собрались в кухне; стояли кружком, со стаканами в руках.
— У меня новости на работе, — начал Даниэль. — Кажется, мне с октября предложат работу на приеме.
— То есть не на замене? — уточнила Франсуаза.
— Нет. В штате.
— А как же занятия?
— Я ходил к начальнику — он согласен составить мне такой график, чтобы я мог присутствовать на семинарах и успевал готовиться к экзаменам. Как только я получу диплом лиценциата, у меня сразу появится шанс продвинуться по службе.
— Но ты же не собираешься делать карьеру в своем агентстве недвижимости? — удивилась Франсуаза.
— Почему бы и нет?
— Тебе было бы гораздо интереснее работать с отцом.
— Неужели ты воображаешь, что он возьмет меня к себе после того, что случилось?
— Не знаю… Но думаю, что да.
Даниэль покачал головой.
— Брось, старушка. Пока Кароль с ним, он и пальцем для меня не пошевелит! Гибели Жан-Марка оказалось недостаточно, чтобы он прозрел! Так что наши маленькие проблемы вряд ли его заинтересуют!
— Я вот чего не понимаю, — вмешался в разговор Николя: — ты поменял философию на право только для того, чтобы угодить отцу. Теперь тебе нет никакого резона продолжать… Если только ты сам не понял, что юриспруденция…
— Вот именно что понял! — откликнулся Даниэль. — Философия хороша для мечтателей! А я должен жить и содержать семью!
Франсуаза сказала, что поддерживает брата и что сама со следующей недели будет работать в «Топ-Копи» полный день. Она бы и сама не сумела сказать, когда приняла такое решение.
— Значит, я почти все время буду дома одна! — вздохнула Даниэла. — Весело, ничего не скажешь!
Она посадила Кристину на колени, дала ей бутылочку. Николя потребовал еще соку — неразбавленного на сей раз! — и Алисия одарила его томным взглядом.
— От морковки бывает чудный цвет лица! — заявил он. — Мне нужно, чтобы кожа была светлой: на следующей неделе начинаю сниматься для нового фоторомана! Костюмная штучка — «Герцог нас не разлучит!».
— Опять! — вскричала Франсуаза.
Николя с насмешливым вызовом выпятил подбородок.
— Да. Я подписал договор сегодня после обеда.
— Мог бы, между прочим, спросить совета!
— Я достаточно взрослый, сам знаю, что надо делать!
— Не похоже!
— Ты ворчишь, а ведь ничего не знаешь! Это будет работа на три месяца. И заплатят мне…
Франсуаза перебила его:
— Плевать я хотела на твой гонорар!
— А между тем это существенно!
— Для тебя — возможно! Именно за это я тебя и упрекаю! Ты — мелкий карьерист. Рискуешь испортить будущую кинокарьеру, лишь бы заработать несколько сотен франков. Ни один режиссер тебя не пригласит — твои фотографии целый год мозолят всем глаза в этих дешевках! Ты дискредитируешь себя…
Николя взорвался.
— Ты ничего не понимаешь! Рассуждаешь, как маленькая мещаночка! Как буржуазка!
— Я не более буржуазна, чем ты сам! Думаешь, ты так уж хорош, когда изображаешь хлыща, позируя для этих дешевых фотографий?
— А ты — когда печатаешь для «Топ-Копи»?
Николя втянул голову в плечи, скорчил идиотскую рожу, постучал в воздухе пальцами по воображаемой клавиатуре. Ярость ослепила Франсуазу.
— Жалкий кретин! — прошипела она сквозь зубы.
— Эй! Эй, вы, там! — вмешался в их спор Даниэль. — Уймитесь! Хватит!
— Да, ты прав, старик! — проворчал Николя. — Я ухожу!
И вышел, хлопнув дверью.
— Разве я не права? — взвинченным голосом спросила Франсуаза, поворачиваясь к остальным.
— По-моему — нет! — высказалась Алисия, сидевшая, развалясь, на табуретке. — Эта работа не так уж и плоха для Николя. Он зарабатывает известность. Если бы мне предложили…
— Во всяком случае, — перебил ее Даниэль, — ты его только разозлила!
— Я никогда не миндальничала с Николя! — огрызнулась Франсуаза. — И не понимаю, почему что-то должно измениться!
— Он наговорил тебе гадостей, — заметила Дани.
Франсуаза только пожала плечами.
— На это мне наплевать!
— Куда он пошел? — встревожилась Алисия, высунула язык и вылизала дочиста свой стакан.
Все еще во власти гнева и досады, Франсуаза ушла к себе в комнату, мысленно продолжая спор с Николя и находя все новые аргументы в свою пользу. «Маленькая мещаночка», «буржуазка» — она! Да если бы это было так, она не вышла бы за Александра, не приняла бы в их дом Николя, не жила бы сейчас вместе с Даниэлем, Дани, Алисией и им самим в этой квартире, напоминавшей цыганский табор! Что же, по его мнению, нужно сделать, чтобы перестать быть маленькой буржуазкой? Николя и сам этого наверняка не знал. Он вздорен и неуживчив.
Франсуаза бросила документы «Топ-Копи» рядом с машинкой. Успокоившись, причесалась перед зеркалом. На мраморной каминной полке между двумя небольшими флаконами из резного хрусталя — подарок Маду — стояла матрешка, привезенная Александром из России… Внезапно Франсуазе пришло в голову, что она сама похожа на эту деревянную куклу. Размышляя о своей жизни в последнее время, она видела перед собой пятерых или даже шестерых разных Франсуаз. Одна была доверчива и наивна, другая — влюблена в Патрика, третья — мечтательница — сгорала от страсти к Александру, четвертая впала в отчаяние и попыталась покончить с собой, пятая — замужняя — позабыла и веру, и гордость, раболепно потакая желаниям мужа, шестая чувствовала себя покинутой и униженной. Еще одна, сегодняшняя — возрождающаяся к жизни, стойкая, спокойная — нравилась Франсуазе меньше всего. Она погладила куклу по круглому личику, обрисованному красным платочком. Несмотря на пережитые метаморфозы, Франсуаза не чувствовала утраты своей цельности. Может быть, верность себе в разных ипостасях и есть доказательство Божественного присутствия в каждом из нас? Она так давно отвернулась от Бога, перестала ходить в церковь… Но Всевышний не покинул ее. Время от времени она осознавала Его присутствие — в озарении, пришедшем на ум, в блеске солнечного луча. Словно какая-то могучая волна поднимала и несла ее. А потом жизнь брала свое, и она начинала думать о чем-то другом.
В дверь постучали.
— Кто там?
Вошел, смущенно ухмыляясь, Николя, приблизился, подставил щеку. Франсуаза не шелохнулась, пристально глядя на него.
— Не поцелуешь меня? — спросил он.
— Нет.
— Дуешься?
Франсуаза не отвечала, охваченная радостью реванша и примирения.
— Да ладно, брось… — продолжал Николя. — Мы оба правы — каждый по-своему… Есть-то нам надо… Вот я и подумал: этот фотороман будет последним, обещаю тебе… Но если после этого не запущу сериал на телевидении, что со мной будет?
— Запустишь! — уверенно заявила Франсуаза. — Или найдешь что-нибудь еще… — И она звонко чмокнула его в щеку.
Они вернулись в кухню, где их с тревогой ждало все «племя». Поняв, что мир заключен, никто не стал задавать вопросов.
— Что сегодня на ужин? — поинтересовался Даниэль.
— Спагетти, — ответила Дани.
— А потом?
— Ну, как обычно… Сливочные сырки…
— И все? — поразился Николя.
— Ну вы и нахалы! — возмутилась Даниэла. — Я должна кормить всю ораву на мизерные деньги! Только и делаю, что ломаю голову по поводу меню! А вы еще недовольны!..
— Стойте! — воскликнул Николя. — Сегодня я приготовлю спагетти по-болонски в моей редакции. Мне нужен сосисочный фарш, тертый грюйер и томатная паста…
— Да у меня ничего этого нет! — простонала Дани.
— Схожу куплю! — объявил Николя, похлопав себя по карману в знак того, что деньги на пир у него есть.
Даниэль вышел вместе с ним.
Они очень скоро вернулись и выгрузили пакетики на кухонный стол. Заинтригованные девушки с недоверчивым видом ходили вокруг них. Кристина, лежавшая в своей кроватке в соседней комнате, тихо гулила. Закатав рукава и подвязавшись полотенцем, Николя священнодействовал.
— Передай мне перец, Дани.
— Ты и так уже много насыпал! — запротестовала Франсуаза.
— Никакой критики до снятия пробы! Или я всех попрошу отсюда!
И Николя решительным шагом крутанул мельничку над судком, в котором готовил соус.
— На твоем месте я бы добавил лаврового листа! — посоветовал Даниэль.
— Чудная идея! А еще чеснока!
— Нет, никакого чеснока! — взмолилась Дани.
Николя обмакнул в соус палец, облизал его, подмигнул и сказал:
— Класс! Но остро!
— Вот видишь, слишком много пряностей! — упрекнула его Даниэла.
— Да нет, все в порядке!
— Предупреждаю, у нас всего полбутылки вина! — напомнила всем Франсуаза, накрывавшая на стол.
— Вино — мужчинам! — закричал Даниэль.
— Не перевари макароны, Николя, умоляю! — заклинала Алисия.
Восклицания кружили вокруг Франсуазы. Вот кто-то рассмеялся. Аромат еды. Пять тарелок блестят под светом выщербленного плафона. Пар из кастрюли струйкой убегает в открытое окно. Алисия прислонилась к плечу Николя, ласкает ему ухо пальчиком. Он обернулся, поцеловал ее в губы. Заплакала Кристина. Дани побежала к дочери. Даниэль плюхнулся на стул, закурил и сказал:
— Как же я хочу есть!
Вернулась Дани.
— Все в порядке! Просто капризы!
— А что, если я добавлю в соус сырки? — На Николя снизошло кулинарное озарение.
— Ты рехнулся! — воскликнула Франсуаза. — Тогда уже будет не болонский соус!
— Ну да. Но, может, получится даже вкуснее!
Она засмеялась:
— Ладно… В конце концов — кто не рискует…
— За стол! — позвала Алисия.
Все расселись. Когда вошел Николя, неся огромное блюдо с грудой спагетти, раздались аплодисменты.
Филипп открыл дверь квартиры, вошел в темную гостиную, зажег лампу и налил себе виски. Встреча в кабинете во второй половине дня прошла до смешного просто. Компромисс, выработанный Блондо, был так точен и выверен в деталях, что Филипп и сам не сумел бы предложить что-то лучшее. В любом случае, он мог не дергаться… И все-таки Филипп решил задержаться в Париже еще на пару дней. Это позволит ему просмотреть несколько старых дел, о которых он совсем забыл…
В доме было неуютно. Ставни закрыты, ковры скатаны, мебель сдвинута и укрыта чехлами… Комната выглядела заброшенной, враждебной. По примеру Кароль, Аньес, прежде чем уехать в отпуск, закрыла квартиру. Накануне она отправилась к одной из своих сестер в Бретань. Впрочем, Филипп был даже рад, что ему не придется оставаться с ней наедине. С некоторых пор она выводила его из равновесия своим пристальным молчаливым взглядом. Ему никто не нужен, он и сам себя обслужит.
Виски было теплым. Не забыть включить холодильник… Сегодня вечером он поужинает в ресторане. Где? Он пока не решил. В любом случае, он будет один. Филипп сейчас не мог вынести ничье присутствие. Блондо бесконечно раздражал его своей молодостью, высокомерием и снобизмом. Он напоминал острый грифель, только что побывавший в точилке. А эта его бледная кожа, эти очки… Большинство парижан, которых Филипп встречал на улицах, казались ему больными в сравнении с теми, другими, что расслаблялись на пляжах. Он представил себе Кароль, как она возвращается в гостиницу, опьяненная солнцем и свежим воздухом… Вот она принимает душ, одевается к ужину с друзьями… С Ашезонами, конечно. Или с Лапаружами. Позвонить ей? Зачем? Ее так же мало заботило, что он делает в Париже, как его — ее времяпрепровождение в Канне. Внезапно Филипп почувствовал, что в квартире пахнет затхлостью.
Он допил виски, закурил, сделав три затяжки, оставивших на языке вкус горечи, перешел в кабинет, взглянул на ряды книг на стеллажах и внезапно ощутил тоску — слишком много томов, слишком безукоризненный порядок… Все это знание бессмысленно. Существует ли хоть одно произведение, способное устоять перед ликом смерти? Борясь с ощущением удушья, Филипп открыл окно, потом распахнул ставни — ржавые петли с трудом поддались. Теплый голубой сумрак дохнул ему в лицо. Город звал, распахивал ему навстречу объятия.
Филипп вышел на улицу и зашагал в глубь квартала. Площадь Сен-Жермен-де-Пре напоминала театральную декорацию, внутри которой, на границе света и тьмы, бурлила толпа — движения людей были похожи на колыхание звездчатых кораллов. На подходах к кафе лица подступали, отворачивались, снова находили друг друга, понимающе улыбались или застывали от скуки за чтением газеты… В этом безликом рыскании было что-то от охоты и сельской ярмарки одновременно. Много туристов, они разглядывают достопримечательности — одни с любопытством, другие — с недоверием. Медленно проезжают машины с откинутым верхом. На рю Сен-Бенуа рестораны переполнены, на тротуар выставлены дополнительные столики.
Эта сутолока, прежде развлекавшая Филиппа, сегодня оставляла его равнодушным. И все-таки он вздрогнул, проводив глазами силуэт удалявшегося вверх по улице парня. Смотрит прямо перед собой, идет, развернув плечи… Как похож на его сына! Нигде в другом месте присутствие Жан-Марка не чудилось ему так сильно. Он часто бывал здесь в тот час, когда на город опускаются сумерки и глаз не различает больше ни белого, ни черного цвета. Филиппу казалось, что Жан-Марк может вдруг материализоваться здесь из тысяч и тысяч мельчайших частиц, рассеявшихся в атмосфере. Эта мысль неприятно поразила Филиппа. Он ненавидел темную игру воображения, балансирующую на краю пропасти. Он никогда не попадался на всякие потусторонние штучки. У мучившей его жажды была вполне земная причина и более чем земной способ ее утолить. Главное — решить, где и когда он напьется. Какая звенящая пустота внутри, какое трагичное желание глотнуть свежего воздуха, а вокруг — пустота и тишина! В Париже слишком много людей, но этот город — пустыня. Полно народу — и никого.
Филипп шел наугад, его толкали, он толкался в ответ. Решение пришло внезапно: на стоянке он взял такси и назвал адрес Франсуазы. Именно рядом с детьми он найдет то успокоение, в котором отказывает ему остальной мир. Сидя в машине, то и дело застревавшей в пробках, Филипп похвалил себя за то, что сумел победить гордыню. Что за абсурдные правила придумала Кароль? «Родители не должны делать первый шаг!» В семье часто бывает намного приятней уступить, следуя велению нежности, чем победить, потакая собственной гордыне. Вот только нежность ли это? Нет, его подталкивает в спину нечто тайное и неистовое, похожее на инстинкт самосохранения. Что ж, пусть так… Он всегда презирал благородные слабости отцовства, но сейчас воображал, как представит дело Даниэлю и Франсуазе: «Что это такое? Почему я должен самолично заявляться к вам, чтобы узнать, как ваши дела?! Вам не кажется смешным и странным, что мы не общаемся? Ты могла бы позвонить мне, Франсуаза!» В остальном можно положиться на вдохновение. Как они оба будут счастливы, увидев его! Их, как и его самого, наверняка мучат мысли о Жан-Марке. Мысль о том, что он нужен детям так же сильно, как они ему, наполняла душу Филиппа смутной благодарностью к существующему порядку мироздания. Как было глупо с его стороны ждать целый месяц, прежде чем попытаться собрать воедино обломки разрушенной семьи! Решено — он поведет их ужинать в ресторан сегодня вечером.
Наконец-то рю Сен-Дидье. Филипп взглянул на счетчик, заранее приготовил деньги, чтобы не терять зря времени. Машина остановилась перед домом, во втором ряду. Он расплатился, взбежал вверх по лестнице, окрыляемый надеждой, остановился перед дверью и уже собирался позвонить, как услышал шум и взрывы смеха в квартире. Филипп решил, что ошибся этажом. Но нет, это у Даниэля с Франсуазой так веселятся. Решительно, молодость быстро забывает о смерти. Хорош бы он был со своим смятением на этом празднике, где его никто не ждет! А за дверью снова раздался смех. Потом аплодисменты. Крутанувшись на каблуках, Филипп скатился вниз по лестнице и выбежал на улицу, чтобы скрыться от тех, кто так беззаботно пировал и праздновал, будто ничего не случилось.
Такси. Филипп остановил машину, велел ехать на рю Бонапарт. Квартира подействовала на него еще более угнетающе, чем утром. Он прошел в кабинет, вернулся в спальню, сел в кресло, безвольно опустив плечи, поставив локти на колени, — потерянный, удрученный. Неужели вот эта огромная глупая кровать в алькове так долго была центром его существования? Прошлой ночью он спал на ней один, так же будет и сегодня. А что потом? Вернуться в Канн? К пляжу, к солнцу, к ужинам, к Кароль — с маслом для загара на теле, бронзовой от солнца, элегантной, улыбающейся, торжествующей Кароль с ее худыми ляжками?.. У него не хватало на это мужества. Прозрев и осознав абсолютное одиночество, стоит ли упорствовать и продолжать игру? Каждый человек имеет право отодвинуть тарелку, почувствовав, что еда ему не нравится. На грани сытости начинается небытие. Филипп разделся, лег на смятые простыни, начал было читать детектив, но вспомнил вдруг, что так и не поужинал, и взглянул на часы: пять минут одиннадцатого. Не слишком рано, не слишком поздно: самый глупый момент вечера. Он не был голоден. Если бы только заснуть!
Филипп встал, вернулся в ванную, достал из несессера флакон со снотворным. Две таблетки гарантируют крепкий сон. А еще несколько?.. Когда-то Франсуаза попыталась покончить с собой именно так. Но ей не хватило смелости пойти до конца. Девушки осторожны в своем безумии. Странно, она хотела убить себя от отчаяния, а он если и сделает это, то по трезвом размышлении. Филипп сейчас мыслил как никогда ясно. Если вдуматься, у него не было никакой причины продолжать… Бог, есть он или нет? Ладно, у него будет время подумать об этом после… В любом случае, чтобы узнать, следует толкнуть дверь. Он запил водой две таблетки. Вода отдавала хлоркой. Он поморщился. Его лицо в зеркале над раковиной было одиноким, сосредоточенным и оплывшим. Крылья носа покраснели от солнца.
Он наклонил флакон и вытряхнул в ладонь все таблетки.
XXVII
Устав стоять, Мадлен подвинула к себе складной стул и села, продолжая надзирать за каменщиком. Фенек, бегавший по саду, испугался воя сорвавшегося с места мотоцикла и в три прыжка вернулся к хозяйке, ища укрытия у ее ног. Она взяла зверька на руки. Голову Мадлен защищала от солнца соломенная шляпа, ноги были обуты в туфли на веревочной подошве. Она рассеянно гладила лисичку по хрупкой нервной спинке, невольно моргая, когда в глаза попадал яркий свет, отразившийся от заново отштукатуренной стены. Теперь она должна была принять важное решение касательно высоты навеса. Два с половиной или все-таки два метра?
— Если хотите знать мое мнение, мадам, я — за два метра! — заявил месье Коломбо.
— Нет. Два с половиной, — решилась Мадлен. — Здесь будут сидеть пятеро или шестеро.
— Тогда придется ставить столбы!
— Конечно, месье Коломбо.
Пузатый, жилистый каменщик с маленьким личиком в жирных складках сделал знак подмастерью — тощему смуглому португальцу, державшемуся за ручки тележки, доверху наполненной камнями.
Тот покатил свой груз по доске, положенной поверх газона, и с жутким грохотом вывалил содержимое у ног патрона. Присев на корточки, месье Коломбо принялся сортировать камни, разбивая их на части ударами молотка и укладывая в основание по указаниям Мадлен.
— Сделайте стыки как можно заметнее, умоляю вас! — произнесла она. — Я хочу, чтобы все выглядело так, будто это построил давным-давно какой-то неумеха.
— Будет некрасиво!
— Напротив, месье Коломбо, уверяю вас!
Каменщик нахмурился, но ему не было резона раздражать клиентку. Разложив камни, он начал скреплять их раствором, тут же выскребая — с тяжелым сердцем — лишний цемент из швов. Работа продвигалась небыстро. Столяр предупредил Мадлен, что освободится только через неделю. При таких условиях навес ни за что не будет готов к 31 июля. Конечно, эта дата более чем условна, но Даниэль и Франсуаза решили взять отпуск в августе, значит, ожидать их следует в начале следующего месяца. Какая удача, что папаша Уандр уступил-таки ей наконец этот кусок сада в обмен на клочок земли, что у дороги на Онфлёр! Сколько же потребовалось долгих уговоров, уверток, какая была волокита с документами! Зато теперь, когда стенка между их участками снесена, перед домом вдвое больше пространства. Навес в глубине сада придаст ему сельский уют благодаря старинным деревянным столбам и черепице местной работы — Мадлен уже купила все необходимое у подрядчика, занимающегося разбором старых домов.
Вся жизнь в доме переменится… Только бы погода не подвела, в последние годы климат стал таким неустойчивым! Вдруг будет дождливо?! Нет, нет… До пляжа в Довиле рукой подать. Море совсем близко, а это так важно для молодых! Большую часть дня проводя у воды, они будут возвращаться с волчьим аппетитом. Мадлен уже воображала обеды на свежем воздухе в веселой компании под крышей мягкого терракотового цвета, поросшей мхом. Нет, она, конечно, не думала, что детей удерживает от поездок в Тук отсутствие навеса, но все-таки была абсолютно убеждена: теперь они будут приезжать охотнее! Им обоим необходимо отключиться от грустных мыслей, погрузиться в тепло семейного очага!
Драма произошла всего год назад, и они с трудом выкарабкивались из-под обломков горя. Мадлен раз двадцать за это время летала в Париж — утешала, советовала… В своем последнем письме Даниэль написал, что она за них может не тревожиться, что они обрели наконец «второе дыхание». Здоровый оптимизм племянника вселял надежду. Размышляя о событиях минувшего года, Мадлен никак не могла смириться с тем фактом, что Кароль больше всех остальных выиграла от чудовищного распада семьи. Эта женщина — само олицетворение расчета и холодности. Она сразу же после смерти Филиппа потребовала раздела имущества. По ее настоянию было продано все — практика, квартира, дом в Бромее, мебель, — а вырученные деньги разделили в равных долях между вдовой и детьми. Настоящая катастрофа! Мадлен не могла поверить, что на долю каждого, после уплаты налога на наследство, придется столь смехотворная сумма. Она и сегодня полагала, что имел место обман, подлог, что Кароль и ее поверенный подделали бумаги. Вдова Филиппа купила квартиру в Монте-Карло и поселилась там, покинув Париж. Временно, конечно. Подобные женщины так просто со сцены не сходят. Даниэль немедленно купил машину — спортивный кабриолет, чудовищно дорогой. «Мальчишка! — говорила себе Мадлен. — Они с Дани могли бы переехать и жить отдельно. Я бы так и сделала! Что ж, раз ему нравится жить на рю Сен-Дидье вместе с Франсуазой!.. Хорошо хоть не бросил работу и продолжает учиться на юриста. Даниэла снова беременна, и ее мужу следует вести себя более разумно. Двое детей-погодков… Чистое безумие! А Даниэль в восторге. Странный мальчик… Странное поколение! Что это — доказательство безответственности или слепая вера в разумное устройство общества? Кстати, надо обязательно позвонить мэтру Хьюгу и справиться о судьбе ипотечного займа…»
Мадлен радовалась, что Даниэль и Франсуаза доверили нотариусу управлять теми небольшими деньгами, что достались им от отца. Хорошо, что дети прислушались к ее мнению, хоть тут все будет в порядке! Бедная Франсуаза! Она витает в облаках, мечтает о чем-то несбыточном, таится от всех, отягощенная грузом прошлого. Как это важно, что она наконец развелась, что Александр утратил всю власть над ней. Неужели у нее кто-то появился? Может статься, что, приехав, она откроет Мадлен свои тайны. Как бы там ни было, вопросов задавать не следует — племянница мгновенно замкнется в себе, такой уж у нее характер! «Как она благодарила, услышав, что я — разумеется! — приглашаю в Тук и Николя!» — думала Мадлен. Когда-то привязанность Франсуазы к этому юноше беспокоила ее, теперь же она находила чувства племянницы трогательными и благородными. Жаль, что он не может приехать. Первый снятый Николя телесериал имел успех, и он уже запустил следующий фильм — в Италии. Газеты вовсю публиковали и дикие сплетни о нем. Николя расстался с Алисией и жил под Парижем с очень красивой семнадцатилетней актрисой, успешно дебютировавшей на телеэкране. Даниэль предсказывал обоим блестящее кинематографическое будущее. Впрочем, он ничего в этом не понимал. Мадлен улыбалась, размышляя о племяннике: она так и не научилась воспринимать его всерьез, а ведь он вот-вот станет отцом, причем во второй раз! И ждет, конечно, только сына! Иначе, по его словам, род Эглетьеров на нем и закончится. Хорошенькое дело! Что за радость — принадлежать к столь неразумной семье? Пережив сумятицу последних лет, все они словно впали в своего рода оцепенение. Франсуаза, как и Даниэль, хотела теперь одного — обычного, простого счастья. Мадлен было грустно, но она понимала и одобряла племянников. Из всех спасшихся после бури она одна хранила память о случившемся.
Мадлен чесала лисичку за ушами, рассеянно наблюдала за строительством и с легкой печалью вспоминала о переживаниях Жан-Марка, о цинизме Александра, о двойственности натуры Кароль, об эгоизме Филиппа… Почему же все-таки он умер? Врач заявил о самоубийстве, но Мадлен теперь сомневалась в этом. Такой человек, как Филипп — сугубый материалист, любитель жизни, твердый, как скала, — не мог покончить с собой в приступе депрессии. Он слишком любил самого себя… Возможно ли, что ее брат, сам того не желая, превысил дозу? Это был несчастный случай. Недоразумение… Каждый раз, вспоминая о несчастье, Мадлен чувствовала себя так, словно ей на грудь обрушилась стальная балка. Останься она в Париже, Филипп не совершил бы подобной глупости. Внезапно Мадлен, всю жизнь осуждавшая брата, поняла, что жалеет его. Неужели он был несчастнее всех в их сметенной с лица земли семье?! У одиночества — множество лиц!
— Вы ничего не имеете против вон того камня, в центре? Он желтее остальных? — прервал ее размышления месье Коломбо.
— Конечно, нет, напротив! — отвечала Мадлен.
Он ловко орудовал мастерком, а португалец — медно-загорелое лицо, голубая рабочая куртка — замешивал раствор. Зазвонил телефон. Мадлен поднялась, спустила с коленей зверька и поспешила в дом, прихрамывая и задыхаясь. Голос Франсуазы в трубке звучал бодро и радостно:
— Алло! Маду! Как у тебя дела?
— Все хорошо, дорогая, а как ты?
— Прекрасно! У меня грандиозная новость!
Мадлен тяжело опустилась на стул, прислонилась плечом к стене и прошептала:
— Какая… новость?
— Ты ведь знакома с Дидье… с Дидье Копленом…
— Да, — ответила Мадлен.
Она слушала племянницу, чувствуя одновременно радость и грусть.
— Что ж, милая, я тебя поздравляю! — произнесла она наконец. — Признаюсь, я этого ждала. Мы все обсудим с тобой летом, когда…
— Именно об этом я и хочу поговорить, Маду… Прости, но этим летом я… не смогу приехать в Тук… Родители Дидье пригласили меня… Это у самой испанской границы… Очаровательное место…
— Да-да, конечно, я прекрасно понимаю, — ответила Мадлен. — Но ты ведь пока официально не помолвлена…
— Это ничего, Маду!
— Так, значит, Даниэль и Дани приедут без тебя?
— А разве они тебе не звонили?
— Нет.
— Позавчера они уехали с Кристиной в Аркашон… Совло сняли там дом… На июль и август, кажется…
— Вот как!.. Даниэль мог бы предупредить меня!
— Он так замотался с работой, с экзаменами! Ничего, напишет тебе из Аркашона! Так ты одобряешь моей выбор?
— Ну конечно! — воскликнула Мадлен, приходя в себя. — Дидье — замечательный человек, прямой, простой, настоящий!.. К тому же, он был лучшим другом Жан-Марка!..
Она говорила, изображая воодушевление, даже восторг, продолжая наблюдать в окно за трудившимся в поте лица Коломбо. Снова этот человек кладет слишком много цемента в швы между камнями… Мадлен постучала по стеклу, привлекая внимание каменщика, и сделала ему знак, напоминая о своем требовании: что бы там ни было, ее навес не должен выглядеть «слишком новым».
ОБ АВТОРЕ
Анри Труайя — псевдоним Льва Тарасова. Он родился в Москве в армянской семье в 1911 году, с 1917-го живет во Франции.
А. Труайя очень популярен, его творчество отмечено рядом почетных литературных премий, а роман «Паук» (1938) высшей во Франции наградой — Гонкуровской премией. В 1959 году писатель был избран в члены Французской академии и вошел в число «сорока бессмертных».
Творчество А. Труайя разнообразно и многопланово. Писателя интересуют и его родина (он пишет исторические романы о России, беллетризованные биографии классиков русской литературы), и жизнь современной Франции (романы «Обманчивый свет», 1935; «Сети», 1935; «Снег в трауре», 1950; «Голова на плечах», 1951; пятитомный цикл «Сев и жатва», 1953–1958; трилогия «Семья Эглетьер», 1965–1967; «Анна Предайль», 1973; сборники рассказов).
Предлагаемую вниманию читателя трилогию «Семья Эглетьер» критики назвали «одним из наиболее читаемых произведений французской литературы».