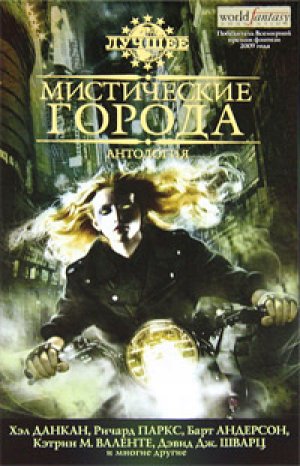
От издателя
В этой антологии собраны рассказы, действие которых разворачивается в разные эпохи и в разных декорациях — в мирах подлинных и вымышленных. Но объединяет их одно: здесь говорится о городах и о том, какова в них жизнь. Я выбрала именно эти рассказы, потому что в каждом из них город предстает как живое существо, зловещее или доброе, но в любом случае способное изменить судьбу тех, кто в нем обитает. Всех авторов объединяет интерес к городам, к их легендам и тайнам, к сосуществованию живой плоти и неодушевленной материи. Кое-кто из писателей уже успел прославиться, но есть в антологии и работы тех, кто еще только начал создавать себе имя. Мне понравились все рассказы, и надеюсь, читателям они понравятся тоже.
Екатерина Седиа
ДЖЕСС НЕВИНС
Вступление. Городское фэнтези
Пер. В. Полищук
Одна из привлекательных черт городского, или урбанистического, фэнтези отмечена Джоном Клютом в «Энциклопедии фэнтези». И заключается она в том, что городское фэнтези — скорее способ, модус повествования, нежели самостоятельный жанр, а потому обращается к широкому спектру тем, используя самые разные приемы. Городское фэнтези не ограничено рамками жанра, подобно киберпанку и детективу с их твердым панцирем, вестерну и пиратским историям. Городское фэнтези куда более свободно в своем выборе, и антология «Мистические города» служит тому веским доказательством.
Корни городского фэнтези можно обнаружить в самой глубине веков, начиная со сказок «Тысячи и одной ночи» и историй о том, как Гарун аль-Рашид в поисках приключений инкогнито разгуливал по Багдаду. Готический роман конца XVIII — начала XIX века тоже подарил городскому фэнтези немало камней для фундамента. В частности, оттуда пошла традиция, чтобы в тексте непременно присутствовала определенная, строго очерченная декорация — фон для сюжета; обычно это замок или особняк, но иногда целый город. Однако городское фэнтези в том виде, в котором мы его знаем, сложилось в 1830–1840-е гг.
Тенденция изображать города одновременно и как декорацию, и как одно из второстепенных действующих лиц зародилась в 1820-е гг., начиная с «Вампира» Джона Полидори (1819), первого современного городского хоррора, а также с романов о Ньюгейтской тюрьме, ранних образцов криминального романа, — в них рассказывались биографии преступников и вместе с тем шла речь о жизни и среде обитания городского «дна». Виктор Гюго в своем романе «Собор Парижской Богоматери» (1831) превратил Париж в одно из главных действующих лиц — даже более важное, чем горбун Квазимодо. Эжен Сю проделал то же самое в своем неимоверно популярном романе-фельетоне «Парижские тайны» (1842–1843) и, в меньшей степени, в романе «Вечный жид» (1844–1845), также пользовавшемся изрядной популярностью у читающей публики. Однако Сю добавил элемент фантастического, который у Гюго отсутствовал. Главный герой «Парижских тайн», Рудольф фон Герольштейн, обладает поистине сверхъестественной способностью менять внешность и перевоплощаться, а кроме того, он фантастически всеведущ и вездесущ. В романе «Вечный жид» фигурирует откровенно сверхъестественный персонаж по имени Агасфер, Вечный жид из средневековой легенды, а также несколько других, не столь внятно обрисованных, но тоже явно сверхъестественных персонажей. Этими двумя романами Эжен Сю представил тогдашней европейской и американской читающей публике концепцию города как места действия, где фантастическое и сверхъестественное не только возможно, но и уместно. Истории о Ньюгейтской тюрьме и ранние криминальные романы, такие как «Жизнь в Лондоне» (1821) Пирса Игана-старшего и «Пелэм» (1828) лорда Бульвера-Литтона, расширили систему координат, в которой может разворачиваться действие городской истории, от бытового фона до криминального. Сю же ввел новые оси координат: от «реального» к «фантастическому».
Литература последующих лет, английская и европейская, широко использовала и разрабатывала дальше эту идею. Диккенс, следуя примеру Гюго и Сю, писал истории, в которых город представал как самый подобающий и естественный фон для фантастических событий, или истории, в которых, по сути, фантастическим было все, но слово это не произносилось; таким образом, Диккенс заложил основу образа Лондона как архетипического Города англоязычной литературы.[1] В XIX веке произошел отток населения из деревень в города, и появились новые, сосредоточенные на городской жизни формы литературы, в том числе и сборники «дел» (casebooks) 1850-х гг., и отчеты о полицейских расследованиях, где в фокусе внимания оказывались преступления, совершенные в городской обстановке, и городские рассказы о домах с привидениями, как в книге Бульвера-Литтона «Преследуемый и охотники» (1859). Однако над всеми своими последователями довлела фигура Чарльза Диккенса и то, как он навсегда изменил восприятие города читающей публикой. Под пером Диккенса Лондон стал одним из действующих лиц, активным участником фабулы, практически одушевленным и разумным фоном, в котором сочетались и усиливались сентиментальность, отчаяние и мелодраматичность. К концу века дело Диккенса успешно продолжил Роберт Льюис Стивенсон со своим сборником «Новые сказки Шахерезады». Перенеся исходную идею сказок «Тысячи и одной ночи» и представив Лондон как современный вариант сказочного Багдада, то есть города, в котором чудеса встречаются на каждом шагу, Стивенсон подчеркнул сугубо фантастические элементы и уничтожил политическую и идеологическую подоплеку творений Сю и Диккенса.
Однако у американского читателя городской фон и обстановка вызывали совершенно иную цепочку ассоциаций. Пуритане видели свежепостроенные американские поселения — города-форты, фронтиры, не только как воплощение девственной в своей нетронутости и строгой природы, но и как средоточие зла, отражающее грехи человеческие. Именно эти воззрения и повлияли на американскую прозу XIX века — они открыто просматриваются в произведениях Натаниеля Готорна и, в меньшей степени, в книгах наподобие «Лесного дьявола» (1837) Роберта Монтгомери Бёрда. Американцы питали такое же недоверие к городу, как и их европейские собратья. Наиболее яркое выражение этого недоверия мы находим в «Городе квакеров» (1844–1845) Джорджа Липпарда: автор не пожалел красок, чтобы изобразить современную ему Филадельфию как город-преисподнюю, кишащий убийцами, похитителями, насильниками и иным отребьем, город, спасти который может разве что пожар. Это настороженное отношение к городу и ужас перед тем, что таят его закоулки, — сквозная тема американской урбанистической литературы; она звучит в таких разных произведениях, как рассказы Фитц-Джеймса О'Брайена (см., например, рассказ «Чудо-кузнец»; 1859) и дешевые криминальные романы и вестерны. В некоторых из этих романов-фельетонов, например в популярной серии о Дедвуде Дике (1877–1883) и о Фрэнке и Джесси Джеймсе (1881–1903), общины поселений-фронтиров живут мирно и гармонично, а Нью-Йорк (и, как подразумевается, все города на востоке страны), в противоположность западным фронтирам, — это средоточие коррупции и зла, где власть имущие наживаются на безвинных тружениках и пьют их кровь.
Именно это противоречие между идеями «города, полного чудес» и «города зла» прежде оказало решающее влияние на городское фэнтези XX века. Ни одну из этих тенденций нельзя признать сугубо американской или сугубо британской, поскольку примеры обратного находятся и там, и там. Лучшие образцы европейского и британского городского фэнтези конца XIX — начала XX века рисуют город как место, где преступлений не меньше, чем чудес. Например, так обрисован мегаполис в трехтысячестраничном шедевре в стиле гран-гиньоль Виктора фон Фалька «Берлинский палач» (1890–1892), «Дракуле» (1897) Брэма Стокера, «Призраке Оперы» (1910) Гастона Леру и «М» (1931) Tea фон Харбоу и Фрица Ланга. Существует также ряд примеров из американского городского фэнтези, где города тяготеют к тому, чтобы предстать как арена скорее чудес, нежели ужасов, — начиная с серии «Пограничные области», изданной Терри Уиндлингом, и заканчивая циклом Франчески Лии Блок о Лос-Анджелесе. Но основная тенденция в американском городском фэнтези все же отталкивается от убеждения, что город изначально ужасен и греховен. Примерами могут служить Готам-сити из «Бэтмена» (утрированное изображение Нью-Йорка), Чикаго в «Дымном призраке» (1941) Фрица Лейбера, Нью-Йорк, изображенный Анджелой Картер в «Страсти новой Евы» (1977), Сиэтл в «Голубином волшебнике» (1986) Мэган Линдхольм. Британское и европейское городское фэнтези тяготеет к тому, чтобы изображать город в менее зловещих тонах, даже если, как в романах Терри Пратчетта и Чайны Мьевиля, город обладает своими реалистически отталкивающими характеристиками.
И это наконец-то подводит нас к «Мистическим городам». Городское фэнтези как метод повествования насчитывает уже почти двести лет, однако как четко очерченный в глазах издателей жанр оно сравнительно молодо и начинается всего лишь с 1980-х гг. Заложить основы городского фэнтези удалось Чарльзу де Линту, Эмме Булл и Мэган Линдхольм, они придали этому жанру четкие, характерные черты. Но, как традиционно случается с новыми жанрами в литературе, второе поколение авторов городского фэнтези оспаривает жанровые границы, очерченные предшественниками, и старается расширить эти границы, осваивая новые, неизведанные территории. Рассказы, собранные в антологии «Мистические города», не только почерпнуты из многочисленных источников вдохновения, но и мастерски прилагают модус городского фэнтези к другим жанрам и к иным традициям, помимо западной. Так, Дарин С. Брэдли в рассказе «Будут только дороги» перековывает городское фэнтези в киберпанк с его отчаянными уличными программистами, с фоном из города, разрушающегося на глазах, и с возможностью подвига и спасения. Хэл Данкан в «Башне костей утра» складывает яркую мозаику, отчетливо напоминающую Джойса; то же справедливо и в отношении книг Данкана «Чернила» и «Пергамент». «Башня костей утра» — воплощение древних легенд и писательской радости от власти над языком, а в итоге рождается нечто неповторимое, свойственное только Данкану. Барт Андерсон в «Последнем побеге» переводит историю о героическом бунтаре на темную сторону, неожиданно увлекая читателя от сверхгероического к ужасам. Рассказ Джея Лейка «Обещания. История Бессмертного города», как и другие его рассказы о Бессмертном городе, отличается жесткостью, насыщенной атмосферой и декадансным оттенком, но в нем также есть глубокие чувства и печаль, которых иным образчикам декаданса недостает. «Алекс и тойсиверы» Пола Мелоя напоминает нам, что пригороды и окрестности города — тоже подходящие декорации для городского фэнтези, особенно для рассказов о детях и домашних животных.
Рассказ Анны Тамбур «Эра рыб. Постцветочная» — история о чудовищах на развалинах исчезнувшей цивилизации, однако автор отказывается от предсказуемой киношной героики, бурного действия и взрывов, предпочтя сосредоточиться на цене, которую люди вынуждены заплатить за то, чтобы выжить во враждебной обстановке. Рассказ Марка Теппо «Тот, что ушел» — своего рода джазовая импровизация на тему «клубного рассказа» Дансени, но с точки зрения XXI века. Теппо рассказывает о том, что бы пришлось пережить герою лорда Дансени, мистеру Джоркенсу, если бы он жил в реальном мире. Не так-то легко классифицировать рассказ Стефани Кампизи «Заглавие», потому что в нем отчетливо прослеживаются элементы городского декаданса, борхесовского хоррора и лексиграфической фантазии. Наверное, для этого рассказа придется создать отдельную категорию, где он и будет красоваться в гордом одиночестве. «Рынок призраков» Грега ван Экхаута — это городской ужастик, мрачный, печальный, и, кроме того, это дерзкая пощечина, исподтишка нанесенная современной культуре, которая пренебрегает смертью простых людей, сводя их к сухим статистическим данным, но зато несоразмерно раздувает в событие смерть любой знаменитости. Ричард Паркс в рассказе «Как завоевать леди Смерть» использует традиционный фэнтезийный антураж, чтобы рассказать историю, которая одновременно и поучает — «будьте осторожны в желаниях», — совершая непредсказуемый выверт под занавес, — и показывает горестную и трогательную историю любви. История Бена Пика «Испорченные похороны» — продолжение его же рассказа «Души погибших солдат предназначены для черных дроздов, а не для маленьких мальчиков». С помощью декораций инопланетного кладбища и образа раненого ветерана Пик размышляет над вопросами о личности и о том, каким испытаниям общество подвергает солдат.
В рассказе Дженн Риз «Тазер»[2] есть и магия, и демоны-псы, и телепатия, но это лишь элементы декора; на самом же деле рассказ посвящен тому, каково живется участникам уличной городской банды, и сюжет вполне бы вписался, даже невзирая на фантастические элементы, в газетную криминальную хронику 1950-х гг. или занял бы достойное место в 1960-е гг. рядом с «Вестсайдской историей» или с «Изгоями» в 1970-е гг. Рассказ Кэт Спаркс «Саммариндская впадина» начинается как фэнтези в арабском духе и заканчивается как меланхолическая любовная история о цене чести. «Сомнамбула» Дэвида Шварца — исследование на тему того, дорого ли обходится магия и к чему способны привести отношения с колдуном; к тому же это едкое метафорическое описание мужей определенного типа. «Вниз за серебряными душами» Каарон Уоррен — это рассказ-ужастик на тему материнства, который, бесспорно, вызовет живейший отклик у матерей, но одновременно это и рассказ-ужастик на тему брака, который заставит задуматься мужей, и рассказ-ужастик на тему родительства в целом, так что от него содрогнутся любые родители. «История о слезах» Стива Бермана — это один из его рассказов о Потерянной Земле, представляющий собой и дань признания Сэмюэлю Делани, и размышления о феномене виктимизации. «Шарик Бамлети» Кэт Рэмбо — один из ее рассказов о Табате, где структура традиционной волшебной сказки использована, чтобы поведать колоритную историю о том, как городской ребенок переходит от отрочества к юности. «Рисуя Гаити» Майкла Джаспера — это рассказ о силе искусства и о власти кровных уз; он напоминает нам о том, что в городах всегда проживают представители разных народностей и что даже в фантастических городах есть иммигранты. В рассказе Форреста Агирре «Андретто идет дорогой королей» с помощью стилистики традиционного фэнтези вызваны к жизни Эдгар По и Мервин Пик, а заодно иносказательно ведется речь о СПИДе. Замечательный рассказ «Палимпсест» Кэтрин Валенте — это сплав роскошного декадентского стиля, неповторимого и присущего только ей, с запоминающимися фантастическими декорациями.
Если «Мистические города» могут стать лицом второго поколения авторов, пишущих городское фэнтези, — а по моему мнению, так оно и есть, — то и у жанра, и у направления городского фэнтези славное будущее.
Джесс Невинс, Хантсвиль,Техас, август 2007 г.
ФОРРЕСТ АГИРРЕ
Андретто идет дорогой королей
Пер. Н. Киктенко
Кольчуга позвякивает, когда стражник поворачивает гремящую связку ключей, чтобы впустить доярку в главную башню. Ковыляя, она входит во двор через боковую дверь, нетвердо держась на ногах. С утра ей уже пришлось похлопотать по дому, а накануне вечером порезвиться со старшим сыном мясника.
Это все карнавал, осуждающе думает она и, споткнувшись в дверях, расплескивает молоко на булыжники, разражаясь проклятиями.
Какой-то монах останавливается, чтобы отчитать доярку за богохульство, но у той с похмелья слишком трещит голова, чтобы обращать на него внимание.
Двое стражников смеются над незадачливой девицей, оба в надежде порезвиться с ней на карнавале, когда окончится смена, однако ни один из них не сообщает другому о своем намерении.
В узкую щель бойницы влетает облако пыли, и петух подает свой голос. Солнечный свет переливается поверх зубчатой стены — день вступил в свои права.
Своенравный, избалованный принц, полный презрения к королевскому указу, который запрещает лицедеям появляться в большом зале без личного приглашения короля, отправляется в путь. Принц клянется, что подобных декретов не будет, когда он унаследует трон.
Его штаны покрываются слоем пыли. Он опускает на них взгляд, поздравляя себя с тем, что сообразил переодеться в крестьянскую одежку, и все же сомневаясь в разумности такой маскировки поверх камзола и панталон. День, по всей видимости, обещает быть жарким.
От карниза на фасаде к дорожным столбам тянутся флажки, этот лоскутный хвост манит к себе богатых, наивных, скучающих. Ильян, дрессировщик медведей, просыпается от пристального взгляда зверя. Акробаты уже начали натягивать и устанавливать свои снаряды. Женщина сомнительной репутации потягивается в походной постели. Ее кошелек несколько потяжелел благодаря ночному посетителю. Она чувствует нарастающую боль в паху, однако эта боль вряд ли может быть результатом ее торговли собой минувшей ночью. Это невозможно.
Андретто, личный карлик-жонглер принца, шатаясь после ночи, проведенной с карнавальными проститутками, проходит в ворота. Стражники, хохоча, пинками в спину заставляют его совершить хорошо отрепетированный кувырок. Однако, выходя из него, Андретто приземляется не на ноги — голова у него все еще трещит от половины бочонка крепкого сидра. Он падает на колени и ползет наверх, к своей постели, находящейся над кухней главной башни.
Не успевает Андретто забраться в свою кроватку, как на него внезапно накатывается волна тошноты и холодного пота, причиной которых никак не могут быть излишества минувшей ночи. Не может человек чувствовать себя так скверно, сколько бы спиртного он ни выпил, думает карлик. В голове у него жар, даже пар, поднимающийся снизу от кухонных горшков, холоднее его тела. Он слышит где-то вдали низкий угрожающий звук, — похоже, какая-то собака лает на детей.
Королевские легкие испускают крик, который эхом отражается от стен зала городского совета:
«Где мой сын?»
И стражник потихоньку выскальзывает из комнаты, чтобы по цепочке передать инструкции. Слова перелетают шепотом от одного к другому, трое всадников выскакивают из-под главной подъемной решетки замка и галопом пересекают мост, перекинутый через заполненный водой ров.
Отпрыски кузнеца, три крепких парня, гроза дороги, наводят страх на своих более слабых товарищей. «Слабо!» — «Докажи!» — «Да!» — «Нет!» — и удары сыплются градом на сына кожевника. Его разбитый в кровь нос красен, словно расплавленная сталь, но глаза оказываются пепельно-черными, когда юный Таннер приводит в порядок лицо и с достоинством удаляется. Смиты идут дальше, выискивая очередную жертву, а в сердце Таннера разгорается огонь.
Группа солдат, недавно сменившихся с ночного караула, не спеша направляется к палаточному городку.
Жонглер, сверкая улыбкой и лазурными, а может быть, серебристыми нашивками, наблюдает с высоты своих ходулей, как к ярмарке потихоньку стекается толпа. Жонглер узнает принца, видит жалкую попытку этого человека благородного происхождения уподобиться бедняку. Сегодня кое-кто заплатит дань!
Медведь Варга пожирает предложенного ему барашка с вожделением, которого Ильян, этот житель Востока, еще не видел с тех пор, как поймал зверя пятнадцать лет назад. По коже дрессировщика ползут мурашки, когда он вспоминает, как от его гончих псов клочья летели во все стороны. Ильян напоминает себе, что все это в прошлом, и отгоняет от себя неприятное чувство — стариковскую боязливость.
— Слишком уж долго я этим занимаюсь, — жалуется он зверю. — Вот скоро поднатаскаю ученика и продам тебя, дружище. Не могу же я до самой смерти возиться с животным.
Прикрытые шерстью глаза все так же прикованы к лысине дрессировщика. Ильян, не обращая внимания на Варгу, смотрит в дверь палатки на ярмарочный пустырь, где борцы смазывают жиром свои туловища и похлопывают трицепсы, подзадоривая местных жителей помериться с ними силой. «Кто смелый? Пенни, всего пенни, победишь — пять твои!» — слышны призывы с лужайки. Эти пронзительные крики вторгаются в палатку проститутки, которая потирает саднящие подмышечные впадины в промежутках между приступами кашля, вырывающегося из самой глубины легких; жар от нарастающей лихорадки ее только успокаивает.
Перед посохом пастуха толкутся овцы; деревенский пустырь, раскинувшийся вокруг холма, заполняют путники. Для свадебного торжества требуются охотничьи трофеи: перепел, утка и цыпленок для священника, — вот пастух и пришел поторговать. По пути в замок, на окраине близлежащего ярмарочного городка, у него пропадает овца.
Мельник из ближнего замка гонит на рынок запряженную ослом телегу с мукой. У входа во двор помощник шерифа собирает налоги: натурой — мешок с телеги или наличными — золотыми дукатами, и мельник едет к прилавку, стоящему в самом центре. Он выменивает у соседа мешок цыплят. «Ну разве жена не обрадуется? Курочка на обед. А главное — ко времени».
В таверну входят трое музыкантов: скрипка, бубен и волынка, чтобы объявить об открытии ярмарки первым прибывшим. Потом следующим, следующим и так далее. Все оживает на их пути, их провожают улыбки и как попало написанные приглашения, хор одобрения меняет планы музыкантов, пусть даже он исходит от невежественной толпы. Подобным образом они приняли бы и свою собственную писанину, настолько волнует их музыка и настолько безразличны они к письменному слову.
В большом зале царит уныние, и королю не терпится высказаться:
— Я выпорю этого мальчишку — он недостоин звания принца. И в чью он пошел породу, дочь моего вассала, в чью?
Не желая препираться, королева направляется к своей машинке для чесания шерсти.
Нос у карлика сильно кровоточит. Андретто страдает — словно невидимая лошадь лягнула его в голову. Дело не просто в похмелье. Его начинает трясти, по шее и спине струится холодный пот. Он сокрушается о том, что уборная далеко от его каморки.
Свободные от дежурства солдаты замечают борцов, и один из них отвечает на вызов.
— Эй, жирный, у меня есть пенни, — хвастает этот здоровяк. — Мне в бок воткнули меч, а сарацин[4] пронзил стрелой ногу. Меткинс, я сумею тебя одолеть.
Заключаются пари: 5:1, 1:5, на кону месячное жалованье. Это Бёкер, караульный сержант, родом из Пруссии. Он сбрасывает мундир, чтобы был виден шрам, и выходит на ринг. Его солдаты держат пари, что он проиграет.
Королевские всадники пристально вглядываются в толпу, однако не могут обнаружить принца. Они медлят, им хочется посмотреть представление. Старик, пузатый, как и его любимец, велит медведю под ликование толпы: «Танцуй, танцуй!» Затем, к ужасу зрителей, раздается пронзительный вопль: медведь бросается на морщинистого дрессировщика и впивается ему когтями в лицо, потом он кидается в толпу, где в узком проходе настигает принца — «Вот же он!» — и молниеносным движением лапы раздирает ему живот, — внимание зверя привлекает блестящий брелок на шее принца. Трое всадников бросаются к Варге, они выхватывают мечи и наносят зверю удары до тех пор, пока тот не испускает дух. Двое из них подхватывают принца, а третий, расчищающий им дорогу, лезет, согнувшись, в какую-то палатку и пытается что-то вытащить оттуда: «Отдай одеяло, шлюха!» Завернув в него истекающего кровью принца, они несут его к замку, где его ожидает еще более острая боль.
Женщина сомнительной репутации лежит в своей палатке, погибая от холода, так как ее одеяло упорхнуло вместе с принцем. На шее, под мышками и в паху у нее взбухают черные бубоны.
Акробаты, которых заранее известили о присутствии на ярмарке принца, несутся королевской дорогой к замку, ошибочно полагая, что его высочество разделит любовь сына к зрелищам. Делая сальто и кувыркаясь, они пробиваются сквозь безликую толпу, досадуя на то, что обычный обыватель вносит грустную ноту в их проказы. Они подбрасывают один другого над серо-белой людской массой, истерически хохочут и выжимают из себя улыбки, несмотря на то что опечалены и не в состоянии отличить у себя под ногами четвероногих овец от двуногих.
Таннер, с пустым кошельком и выражением боли на лице, на полной скорости сворачивает с дороги общинников на дорогу короля и сливается с безликой толпой. Распухший глаз у него не открывается, отчего погружена в темноту половина мозга, в дальнем уголке которого затаилась обида. «Неужели я всегда буду самым слабым среди мальчишек, самым слабым из мужчин?»
«Шелка с Востока!» — возвещает разодетый в бордовый бархат торговец.
Но тут из-под копья, впившегося в кучу его мануфактуры, вырывается приглушенный крик боли, и на ткани проступает алое пятно. Лишившийся защиты своего парчового кокона, человек оказывается безумным воришкой по имени Ван Хэй, который прошлой весной совершил налет на покои королевы и оставил на ее подушке свою подпись в виде сердца, свернутого из шелкового шарфа. Стражники из замка, еще не забывшие жгучую боль от порки, вытаскивают бродягу из-под простыней. Возница, которого препровождают в караульное помещение, обеспокоен возможной конфискацией своего товара. Вскоре он обнаружит, что потеря ткани — это наименьшая из его неприятностей, когда узнает, что плоть более драгоценна, нежели шелк, но не менее чувствительна, когда ее режут, рвут и сдирают.
Тишина в полдень — это ужас, конец света, думают ярмарочные надзиратели. Одни лишь купцы на рынке торгуют среди себе подобных. Покупателей нет, все потянулись за город, вслед за музыкантами. Торговцы наводят порядок и тайком ведут переговоры, готовясь к возможному возвращению народа. Они бесстыжи и скупы — в отсутствие покупателей им нет нужды это скрывать. Такова честность в воровской среде.
Король замирает на своем троне и прислушивается к звукам, которые, возможно, свидетельствуют о возвращении его блудного сына. Королева, радуясь покою, чешет в одиночестве шерсть.
Андретто, подобно Офелии, плывет по реке тошноты и галлюцинаций. Он позволяет лихорадке унести себя подальше от боли под мышками и между ног, от расцарапанных шишек, которые саднят при каждом повороте тела. Он грезит о богатстве, ему мерещится комната с множеством шелковых подушек, где арлекины и целомудренные девушки развлекают его своими танцами и прыжками. Его рот наполняется вкусом соленой плоти, когда он с жадностью поглощает жареного кабана. По обе стороны позолоченной двери стоят два безгласных черных гиганта, вооруженные ятаганами, самоотверженные, преданные королю Андретто. Он слышит перезвон ветра в раскрытом окне и шлейф какого-то странного запаха.
Гиганты растворяются и превращаются в уродливые коричневые кляксы. С плеч арлекинов скатываются головы, тела их разлагаются быстрее, чем рассыпаются истлевшие комнатные шелка.
Перезвоны ветра утрачивают хрустальный оттенок, теряясь в хрипе и всхлипах легких Андретто.
Запах представляет собой пудинг из пота, слизи и крови.
Музыканты, гордые своей уловкой, смешиваются с ослепшей от радости толпой. Полупьяные мужчины и отчаянные парни уже забыли о правилах скрипичной игры и, пританцовывая, направляются к палаткам, установленным в конце дороги. Тихие женщины внезапно становятся крикливыми, дочери их, разинув рты, таращатся на своих мамаш, в недоумении от их преобразившейся внешности и от речей, вырывающихся из их хохочущих пастей. Священник призывает толпу к покаянию, но люди поднимают его на смех.
Стрела сарацина — вот причина поражения Бёкера. Плешивый борец, с волосами и рукой короче, чем у пруссака, бросает караульного сержанта на спину, рванув этого более крупного мужчину за больную ногу. Его солдаты, выиграв по пятимесячному окладу, оказываются значительно богаче своего начальника.
Их одолевает похоть; не проходит и пяти секунд, как они, роясь в кошельках, откидывают полог в палатке проститутки.
Пыл их быстро гаснет, когда они отводят глаза от распахнутой мошны. Взгляды каждого из этой троицы одновременно встречаются с пустыми глазами ее раздувшегося, гниющего тела, сплошь усыпанного переливающимися черными жемчужинами.
Они несутся назад, к замку, натыкаясь друг на друга в борьбе за право первым протиснуться сквозь толпу и оказаться под защитой главной башни замка.
Непреклонные лица стражников остужают пыл акробатов.
— Входа нет, цыгане, — приказ короля. Поворачивайте назад.
Хорошо отрепетированные улыбки и чересчур откровенная лесть акробатов натыкаются на холодные взгляды и скользящий звук вынимаемой из ножен стали. Улыбки тают, акробаты поворачивают на дорогу общинников. Между замком и карнавальной площадью они видят почти безлюдную дорогу — открытую полосу пустоты. Улыбки возвращаются, и цыгане снова скачут по направлению к палаткам, поднимая руками и ногами крошечные облачка пыли.
Мимо акробатов стремительно проносится Таннер. Старик-стражник узнает его и впускает в ворота.
— Похоже, ты получил хороший удар в глаз.
Стражник щурится, изображая распухшее лицо Таннера.
— Вот ты какой, — шепчет старый, высохший солдат, наклоняясь к уху молодого человека. Лукавая улыбка передается от старика юноше, наводя мост между двумя поколениями.
Еще более древний старик, если кто-то удосужился рассмотреть это под предусмотрительно надвинутым капюшоном, проскальзывает мимо старого стражника и мальчика. Он безлик и неприметен настолько, что никто не замечает, как он пробирается по опустевшему рынку мимо охраны главной башни и попадает в коридор, ведущий в зал городского совета.
Многим невдомек, что принц ранен. Люди по ошибке принимают алую диагональную отметину, пересекающую его манишку, за геральдический символ — яркую, кроваво-красную полосу, наискосок пересекающую герб. Но в том, что это действительно принц, никто не сомневается, несмотря на грязную нищенскую накидку, которую придерживает на его плечах личный охранник короля.
Слуги принца выдают себя тем, что бесцеремонно проталкиваются сквозь людскую толчею. Толпа редеет: одни поворачивают, чтобы последовать за акробатами обратно на карнавал, другие разбредаются по окрестностям, видя, что охранники не собираются терпеть самовольного вторжения в замок. Кроме того, кое-кто делает вывод, что купцы, скорее всего, подались на ярмарку. В замке скоро не останется никого, кроме привидений.
Купцы, каждый из которых полагает, что ему повезло больше, чем другим, запирают на щеколды свои ящики, грузят в телеги или навьючивают товар на мулов, накрывают прилавки и выезжают из центральной башни. Они хитро усмехаются, с фальшивыми, неестественными улыбками поздравляют своих собратьев, в то же время потешаясь над ними внутри своих алчных натур.
Королю не сидится на троне, ему неуютно и одиноко, несмотря на присутствие двух величественных стражей, которые, чего доброго, могут и заснуть. В огромном зале холодно и воняет золой от костра, который жгли прошлой ночью. Король уже почти готов отменить декрет, воспрещающий вход в башню чужеземным затейникам. Глотатели огня и акробаты отогрели бы стены и развлекли, к тому же одному богу известно, куда подевался его личный карлик. Кроме того, такое решение, вероятно, удержало бы принца и он не потащился бы на карнавал. Ведь все признаки были налицо — Черная Смерть уже начала свое шествие. И хотя цыгане, очевидно, занесли эту заразу в сельскую местность, в главную башню ей не пробраться.
Король подносит к носу маленький букетик — розы, ноготки, — отгоняя прочь отвратительные испарения, которые проникают в башню, судя по тому, что он все равно их чувствует.
По дороге к дому Таннер плюет в ведро с молоком, стоящее у двери мясника. Спустя несколько секунд из нее высовывается здоровенная рука и втаскивает ведро в дом.
Пол рядом с Андретто весь в забавных липких лужицах. В мгновение ока эта масса сворачивается и вытягивается вверх, принимая вид крошечного уродца, величиной не больше ладони карлика. Между утыканным перьями беретом и оттопыривающимся парчовым камзолом пузырится лицо лилипута, с бульканьем издавая почти неразборчивые слова:
— Антлефо, тфой слок плисок.
Карлик стонет.
— Оставь меня.
Слезы жгут лицо Андретто и, не добежав до подбородка, испаряются от жара. Следом за ними струятся холодные ручейки, слишком маленькие, чтобы они могли успокоить воспаленную кожу.
— Я не моу остаить тя, мой трук. Не раньсе тфой конес.
Голос веселеет — если только способен повеселеть голос существа, которое вечно утопает в собственном соку.
— Я буду тфой компаньон. Когда я оставлю тя…
— Тогда я умру? — опережает его опечаленный, но уже смирившийся Андретто.
— Я гал-л-лю-ци-на-ция, а не пред-ска-за-тель.
Откуда-то издалека в комнату просачивается смех, похожий на журчание ручейка.
Купец — единственный человек в караульном помещении, которому не до смеха.
Хохот остальных также не отличается веселостью.
Отголоски его, как и собственные отчаянные вопли, болью отдаются в посиневших и кровоточащих ушах купца.
Дорога проходит в глубоком ущелье, пустынном, если не считать оседающей пыли, приглушенного смеха, пронзительных воплей, доносящихся из комнаты караула, да неистовых взрывов хохота и визга с карнавала.
В чисто практических целях башня переместилась на карнавальную площадь. Самые честолюбивые торговцы перебрались вместе с покупателями подальше от негостеприимных стен замка в распростертые, ярко разукрашенные объятия палаточного городка. Местные жители и чужестранцы без разбору перемешались друг с другом — совместная выпивка, песни и болтовня сметают все барьеры. Веселье, сплошное веселье царит на карнавале.
Подчиненные Бёкера мчатся впереди него, время от времени из их кошельков летят монеты, призванные устлать богатством королевскую дорогу. Пруссак ковыляет позади — старая рана, обострившаяся теперь, мешает ему бежать в будущее. Все его усилия тщетны. Солдаты отталкивают с дороги на пологую насыпь нескольких отставших пешеходов (этого рвения достаточно, чтобы услышать звон дукатов о мостовую). На склоне дня крестьяне разбредаются по своим фермам, кое-кто сжимает в руке достаточное количество монет, чтобы растянуть их на несколько неурожайных лет.
Принц склоняет голову, когда телохранители проезжают на своих боевых конях под опускающейся решеткой. Поклон его совершается, однако, не в знак приветствия и не для того, чтобы не задеть головой стальные ворота, которые на добрых шесть футов выше королевского чела. Это чисто непроизвольный поклон; не проходит и мгновения, как принц соскальзывает с окровавленного седла. Всадник подхватывает принца, прежде чем он ударяется о землю, и мощной рукой поддерживает его на весу. Вскоре законный наследник уже окружен слугами, которые обтирают его запекшуюся кровь и останавливают кровотечение всеми подручными средствами. Даже одеяло, обмотанное вокруг его плеч, режется на бинты для перевязки ран.
Неизвестный старец смело проходит в королевский зал и, широко шагая, поднимается к трону потомственного монарха. Стражники, убаюканные тишиной, охватившей комнату с тех пор, как телохранители устремились вслед за принцем, не сразу соображают, что к королю приближается вовсе не королева. Король, уставившийся в пол, ничего не замечает, пока старик — убийца, насколько это известно стражам, — откинув капюшон, не начинает говорить.
Его ласковый, успокаивающий голос напоминает шелест засохших цветочных лепестков, тихо уносящихся вверх вместе с легким ветерком. Однако же слова, произносимые умиротворенным тоном, оборачиваются в его устах настоящим оружием, острым мечом:
— Его величество поступает разумно, пряча лицо в цветы. И все-таки этого будет недостаточно.
Король поднимает глаза и вздрагивает, когда охранники хватают старца на расстоянии от трона, не большем, чем длина меча.
Лишь слегка встревоженный грубым обращением стражников, голос продолжает:
— Чума уже нашла дорогу в эти края. Скоро за ней последуют ее спутники — голод, паника, смерть.
Он замолкает и с довольной усмешкой наблюдает, как король отшатывается назад.
— У меня донесение, о господин, — слышится из-за закрываемой двери.
Тело Андретто сотрясается от холода. Моргая, он улавливает обрывки слов заикающегося лилипута. Внезапно он чувствует, что слезы на его холодном лице становятся горячее, — такой резкий температурный перепад потрясает его.
Словно сквозь систему туннелей до него доходят звуки: сквозь один из них он слышит свое дыхание, сквозь другой — пронзительные крики вдалеке, из третьего, снизу из кухни, доносится свист безнадзорного чайника, и все же в следующем туннеле Андретто улавливает замирающий до шепота голос лилипута:
— Тфое фре-мя прис-с-сло, мой тру-у-к.
Все туннели вдруг разражаются хором расстроенных труб.
Голова Андретто взрывается от дьявольского погребального пения.
В караульном помещении наступает тишина. Служба неожиданно перестает интересовать солдат, и они бегут из башни, а внутрь ее вплывают могильщики в черных капюшонах. Купец продает последний товар.
На опустевшей дороге стихает охота на ворон, и они набрасываются на крошки и лакомые куски, оставшиеся после удалившейся толпы. Одичавшая собака рыщет по канавам и разгоняет птиц. Потом, теряя к ним интерес, дворняга не спеша трусит обратно в деревню. Как только собака скрывается из виду, вороны возвращаются.
Энергия толпы на исходе. Даже акробаты угомонились. Праздник теряет свою прелесть, когда кое-кто из присутствующих, обхватив руками голову, бредет домой, несмотря на то что пирушка едва началась. Музыканты выдохлись, танцоры падают от головокружения. Праздничное настроение, подбоченясь, уходит, уступая место витающему в воздухе ощущению чего-то неуловимо зловещего. Вскоре это уже не карнавал, а высушенная морская звезда. Ряды участников празднества редеют в пурпурном вечернем свете. Со всех сторон слышны стоны, кашель, сопение, звуки эти напоминают потрескивание небольшого костра, разложенного в отдалении на краю поля с высоким сухостоем, и создают атмосферу предчувствия, ожидания.
Где-то далеко у себя за спиной Бёкер слышит глухое бормотание толпы, разрываемое время от времени резким кашлем. Подойдя к решетке главной башни, Бёкер с ужасом замечает, что этот странный кашель учащается и усиливается, он уже похож на дробь боевых барабанов, предвестник неминуемой атаки. Когда ворота опускаются, он все понимает, и сознание неотвратимой беды поражает его в самое сердце.
«Запирайте ворота! Никого не впускайте — под страхом смертной казни! Запирайте ворота!»
Бёкер отшатывается от падающих ворот, когда личные охранники короля выскакивают из башни и швыряют какой-то человекоподобный снаряд, — внутри этого рулона сержант с трудом различает какого-то мужчину. Замотанный в ковер человек-кукла в последнее мгновение выкатывается из-под решетки, и острое ребро ворот, словно злая собака, пришпиливает край его плаща. Солдатам некогда его высмеивать, так как они спешат закрыть двустворчатые дубовые ворота позади решетки. Огромная поперечина, в три обхвата толщиной, устанавливается на железные перекладины, крепко-накрепко скрепленные болтами с дверью.
Потирая лоб, солдаты прислоняются к воротам. Они смотрят друг на друга и смеются, довольные тем, что оставили своего сержанта на улице, и не беспокоясь о том, что ему грозит чума.
Принц, поддерживаемый придворными, ковыляет в королевские покои. Король подбегает к наследнику. Королева, услышав о прибытии сына, также спешит ему навстречу. Все трое обнимаются и плачут, не стесняясь менее именитых приближенных особ и слуг.
— Отец, мама… — задыхается от рыданий юноша, — я так виноват.
— Нет, это я должен извиняться, сын мой, — смиренно признается король. — Я был… ах…
Король останавливается как вкопанный и смотрит на свою грудь.
Королева пронзительно вскрикивает при виде крови, которой перемазана вся троица. Бинты не помогли.
В дверях появляется Бёкер, волнение на его потном лице говорит о неотвратимости конца. Он качает головой и принимается рыдать.
Оставшаяся публика разбегается, как мыши от света факела.
На дворе ночь, но Андретто не может уснуть. Силы возвращаются к нему, а лилипут растаял и ускользнул под пол, в кухню. Карлик встает — суставы еще побаливают, зато он жив и выздоравливает — и пробует идти. Ноги держат его, и карлик решает пойти подышать свежим воздухом.
Он спускается на кухню, где ночные кухарки в угрюмом молчании выполняют свою работу, с решительным, но безнадежным видом шинкуя овощи. Слуги нервничают, словно в последний раз готовясь к завтраку. Андретто проходит мимо королевского зала, замершего в жуткой — даже для такого позднего часа — тишине. Затем поднимается по винтовой лестнице на самый верх, к балюстраде.
Он вглядывается в безлунную ночь. Стоит тишина, если не считать отдаленного лая собаки да прерывистого карканья ворон. Даже карнавала не слышно вдали. Андретто думает, что палатки, возможно, уже убрали, впрочем, судить об этом в темноте трудно.
Он вдыхает холодный воздух и слегка покашливает. Грудь у него еще болит, но уже не печет так, как раньше. Дует легкий ветерок, однако он не пробирает до костей, как это было на пике лихорадки. Шишки уже опадают, и, несмотря на недомогание, он чувствует, что тело его вновь наливается здоровьем.
«Я буду жить», — громко говорит он.
Голос его на ветру звучит бессвязно, и это заявление не достигает ничьих ушей, кроме его собственных.
Где-то рядом с замком кто-то разводит костер. Чуть позже появляется другой, потом еще один. Андретто улыбается, глядя на этот маленький лагерь и стихийно возникающие огни костров, которые, словно звезды, загораются со всех сторон от башни и дальше по окрестностям, до самого горизонта. Вокруг этих костров, думает он, сидят философы и простые труженики, солдаты и проститутки, короли и принцы. Ему кажется, что все люди в этом мире, согретые своими кострами, связаны между собой.
ХЭЛ ДАНКАН
Башня костей утра
Пер. А. Липинская
Некогда земли Шубер и Хамази, многоязыкий Шумер, великая Страна божественных законов, Ури, земля, живущая в довольстве, земля Марту, покоящаяся в мире, вся вселенная, все люди славили Энлиля на едином языке.
«Энмеркар и владыка Аратты»
Прочь поток, спит, одинок, под рокот речной, дитя. У Летейских струй, листопадных вод, волчье чадо уловили мы в зимней глуши. Где?
— Видите, там?
Мраморный юноша высечен, бело-зеленый, из лунных лучей, витых ветвей, павший певец. Музы и фурии пляшут в кругу на Амазонке маиса. Крылатый конь сильфа губами воду вбирает, плещет вода у копыт. Цветы и листва почти что скрывают его.
Как его имя? Гадаем. Если бы к уху губами прильнуть и имя промолвить, он восстал бы в ночи, устремляясь к рассвету.
Прочь, прогоняем иных.
Прочь? В ночь? Ждите! Он пробуждается.
По водам Летейским плывет дурманящий дым, золотой от первых солнечных лучей. Пробуждающиеся змеи в его извивах плещут водой над ним, потонувшим в гиацинтах и лотосовых лепестках. А, думает он, едва шевельнувшись, пробужденный от дремы, а, быть ангелом в руках чужих, свободно даруя причастие члена. И вот, пробуждаясь под песни колдовские волынщика у врат зари, шевельнулся лениво, легкую дымку вдохнул и зевнул. Он песню слышит и знает (а звук замирает), что это лишь отзвуки эха, отражение воспоминанья.
Плеск и блеск в янтаре, сон на заре, истома, отступает дрема, гаснут искры поденок ночных, прочь из смутных мыслей юноши. Он открывает глаза на мерцанье зари и выходит из сна, выпутываясь из простынь льняных.
Голая кожа усыпана каплями пота, пальцы пробегают по волосам, воронова крыла чернее, он напрасно пытается ухватить плоть потока того, что, как он помнит, видел во сне. Но… эта песня, она была так прекрасна, что помнить ее было бы слишком печально, жажда вернуться была бы слишком сильна.
Сонно моргая на мрачный рассвет, песнопевец, что ходит путем сновидений, ворочается в постели и видит возлюбленных, все еще сонных, в покое — возможно, в их собственных ветвящихся потоках сновидений. Он уже пропустил этот миг, но… говорят, величайший дар бога музыки и природы нашим пленным животным душам — забывать каждый раз, когда слышим мы эту песню во сне.
Но эхо всегда остается.
Он выскальзывает из-под простыни и идет босиком, шлепает по холодному деревянному полу и теплому узорчатому прозийскому ковру к окну, где ждет его город — чтобы он пробудил его и заставил подняться из праха.
Где-то во тьме у подножья отвесных зазубренных скал, в камнях и бетоне, раскрошенных млечной водою, истертых черным базальтовым песком, связанный, стянутый туго цепями и проводами, идущими сквозь его мертвую плоть в толщу породы, грудная клетка разорвана гнутою сталью, пронзенный, в вечной агонии похититель огня бьется в оковах. Если бы только он мог отдохнуть, его цепи проржавели бы и распались, но он должен в ярости проклинать судьбу. Однажды, думает он, однажды боги заплатят. Однажды.
В пещерах в толще скалы кузнец хромоногий создает вечные вещи из злата и стали, меди и бронзы, увечное тело при каждом ударе пронзает боль. Он создает себя заново, ноги из бронзы, рука из серебра, глаза из зеркального хрома, зубы стальные, железное сердце. В темной пещере огня, теней и отражений однажды, скоро уже, однажды тело несокрушимого, наделенного словом бога будет готово. И холодно, и бесстрастно начнет он ковать себе душу. Однажды.
Клешни в кровавых мозолях, руки падшего властелина бьют и толкают камень. Руки его напряжены, мускулы, вены и жилы проступают резко, словно он изваяние. Шаг за шагом влачит он тяжкий валун вверх по склону горы, ноги скользят по осыпающимся обломкам, он бьется, порвано горло, иссохшее криком беззвучным. Он знает, его не сломить, пусть валун срывается и с грохотом катится вниз по склону. Он знает, его не сломить, и снова берется за дело, не зная, что, лишь сломавшись, поднимет валун он на плечи, яростью движимый, и понесет его вверх, к вратам извечного града. Однажды.
Миф — человек горящий, из древа душа, кожа из глины, изрезанная грехами и алчными расчетами. Титаны, богоподобные и слишком уж человечьей породы, мы создали из ваших мифов ушебти[5] — человечков из камня, ответчиков за чужие грехи. Назовите это Адом, Аидом, Тартаром, Шеолом или же Куром, этот новый век сновидений — край проклятых. В этом у нас нет выбора, у нас, микромеров потустороннего мира, дарующих вам лишь то, чего вы желаете: порядок и смысл.
За пределами сумерек бледных, за оградой, по ту сторону известных нам различий, нет определений, нет рубежей, только внутренние горизонты ваших бесчувственных душ. Кажется, нет запретного края, столь темного, чтобы нельзя было представить его как место мучений для тех сил, что вас страшат. У нас нет иного выбора, кроме как облечь это видение в плоть. И все же, изгнанные из реальности, эти мифы не признают поражения. Однажды, говорят они. Однажды.
Песнопевец кладет ладонь на створки ставен и раскрывает их одним плавным движением, впуская света частицы, серые отблески сумерек, все еще слишком неясных, чтобы назваться рассветом. Он встает на цыпочки, закидывает руки за голову и вытягивает их в стороны. Еще один громкий зевок. Уловив повелителя жест, где-то система запустилась, и золотятся стены, ковер, постель, простыни, и изгибы тела любимой, все еще спящей, и стол (и на нем затрепанные листки с цитатами из Гераклита торчат между страницами старой Платоновой «Морфологии»), золотится все это робким, призрачным светом, рассеянным и преломленным, мерцающей имитацией живого огня.
Той ночью снился ему огонь. Снились ему все духи развилок, сквозь века в камнях подножных наследье копящие, в утраченных песнях реки и пыльных путях, что их книгами были. Под храмом древесным они собрали совет, предки и судьи, династии обожествленных посмертно. Да. Снился ему волшебный фонарь, игра теней на стенах пещеры — элевсинской и елисейской, иллюзии ускользания — и домифические громады камня и стали, титаны Кровказа и высоких Геомалаев, строители горных курганов, в обширных сонных могилах спящие, под Востралией и Кибирью. Даже пробуждаясь от собственного сна, в котором свой путь еще не окончил, он видел, что эти брахманы тоже спят, но проснутся, что во сне они видят его мир — этот старый, старый мир — молодым.
Снаружи в первых рассветных лучах лес созданий из камня поднимается, словно тени, в утренней дымке, зарождающейся над океаном. Призрачные создания возникают из дрогнувшей тучи: червеподобные, мягкие, допозвоночные пикайи среднекембрийского века, Mixopterus Kjaeri позднего силура, с клеткой костистой передних конечностей; вымершие в позднем девоне; черные, как головешки, духи каменноугольной эры. Там — заря времен. Там непробудившийся город пребывает в лимбе, в пустоте среднепермской суперконтинентальной пустыни, мир трилобитов, глядящих вокруг глазами на тонких тычинках, и огромных акадопарадоксидов. Там — время зари, зари времен, и так — каждое утро в городе на окраине мира.
Огонь. Снился ему огонь — яростная твердь в основании мира грядущего, вспышек поток в океане течений и водоворотов, волн и приливов, всплесков и ряби, простое учетверение цвета, усложненное до кьяроскуро.[6] Ему грезилось слово возвещение, влившееся в бездну, преломившееся в целый язык света, первоначал, в целый калейдоскоп, буйство сезонов, друг друга сменяющих, колесо дурной и доброй фортуны, словно написанное белыми и голубыми мазками на поле пшеничном.
Песнопевец встряхивает головой, сбрасывая последний бред свой дремотный, прочищает горло. Труд его — песней призвать мир более твердый, сотворить реальное голосом. Уж что ему точно не нужно, это избыток странных слов, разве ж мир недостаточно странен?
По гладкому сланцу брусчатки, обточенному округло, но не сказать чтобы ровно, трясется телега, гремя костяными колесами по развалинам города, мертвых везя на себе. Сделанная не из дерева, но из камня, древних костей, окаменевших стволов деревьев, возросших из лимба в пустыне за окраиной города, телега крепка и нетороплива, методична, хладнокровная ящерица, костяной автомат, влекомый ручною химерой. Возчик тянет поводья — хай! — остановка на перекрестке, он смотрит налево, направо — и дальше — и-хай! — по улицам темным.
Он смотрит через плечо на груз камня, костей и пыли, кладку заброшенных рая и ада, извлеченную из забытых иллюзий, вечности, что уж прошла, пустынь, где в свой час воздвиглись и пали те и другие города мертвецов, те миры, что казались — тем, кто оставил свои жизни позади, дабы идти по долгой дороге полей пшеничных и пугал, — обетованием Гавани, где странник мог навеки обрести покой с другими доблестными, с праведными пилигримами, в пирах и восторгах. Кажется, глядя на пустошь, по которой влачится повозка, был во времена стародавние для каждого странника выстроенный град, лишь для него сотворенный, зал в том граде, и стол в том зале, и кресло пустое по правую руку их божества, лишь их ожидающее.
Даже вечности умирают в свой час, рушатся под собственной тяжестью. Стекло стекает с многоцветных окон, смешиваясь с песками, истирающими края новых миров. Души пируют на нескончаемых пирах, соскальзывая в пьяную дремоту, и отзвуки отзвуков песен и смеха отражаются от каменных стен, и каменных столов, и каменных душ, и каменных богов, но в конечном итоге даже эти отзвуки гаснут.
И вот они пришли, они все пришли в конце концов в этот единственный город на краю всего, изгнанники или избранники, души доселе… живые, хотя в своих бесконечностях давно уж забыли, кто они есть, или же души, давно погруженные в дрему, закостеневшие, крошащиеся статуи самих себя, осколки костей, пригоршни красной пыли. И вот возчик еженощно отправляется в пустыню охотиться в городах душ на камень, песок, известняк, составляющие цемента, что скрепляет этот последний великий город мертвых.
Химера бьет скорпионьим хвостом из стороны в сторону, язык пламени, огненный меч. Блещет чешуя золотая на панцире медном, где улиц огни сияют, тело ее говорит на собственном языке о своей животной природе, стройное, полное силы, мускулы рябью идут, как на боках у коня или кошачьих плечах. Тягловый зверь, не способный понять цивилизацию, что вокруг, ему внятны лишь звуки и пот, рогатая голова, огромная, склоняется то ли с угрозой, то ли смиренно, львиная грива окаймляет морду двуполую — то ли дева, то ли мальчик-гадюка. Тянет воздух ноздрями, пытаясь унюхать хоть что-либо схожее с сильфом ее. Выдохнула, из ноздрей серый пар в утренней дымке расходится облачками. Тот воздух, что улицы заполняет, думает возчик, может статься, дыхание зверя такого.
И певец, муэдзин мифов, вдыхает, глубоко вдыхает воздух и удерживает в легких, и город замирает в остановленном мгновении. Клубящаяся дымка, подхваченная случайным дуновением, тянется словно дым к устам курящего, всасывается своим истоком. Если бы возчик и его зверь двинулись по слабому следу времени по улицам, то нашли бы устье всего, закрытое окно старого песчаникового дома в Литанском квартале, и там стоит певец, словно распятый, на рамах покоятся руки, голова чуть наклонена, грудная клетка растянута, в напряжении межреберных мышц и опущенной диафрагмы. Дыхание наполняет легкие — крылья сердца. Город замер.
Где-то, когда-то еще мальчик выходит на сцену, окруженный семьей и друзьями, под взглядом священника, чтобы читать — петь — из писания, петь, что сегодня мужчиной он стал. Он наполняет легкие воздухом и страхом и дрожащим пальцем касается букв таинственного алфавита, пережившего империи и тысячелетия, зная, что этот момент своей жизни он разделит с бесчисленными отроками.
На другой сцене актер прерывает монолог, выдерживая эффектную паузу, позволяя публике почувствовать напряжение, предвкушение разрядки.
Где-то, когда-то еще священнослужитель входит в святая святых в день, назначенный для ежегодного действа ритуального чтения. Он оставляет позади пышность и церемонность, что блюдут другие — отец его и братья, и идет в одиночестве за последнюю завесу, чтобы предстать перед золоченым ларцом, чьи нерушимые тайны хранят крылатые херувимы, стоящие на противоположных концах, друг другу в лицо смотрящие. Он здесь, чтобы возгласить тайное имя Бога, — в любой другой момент действо запретное, но не в этот единственный день: раз в году, когда призывают Бога, завет устанавливается заново, мир возрождается. Он чувствует бремя ответственности и гордость — в пересохшем рту, надорванном горле, в груди.
И певец выпевает хрустальную ноту, начинающуюся в бессловесной чистоте, где-то, когда-то: мальчик поет о смерти детства и рождении зрелости, священнослужитель призывает сокрытое бесформенное божество, изрекая его имя и тем вызывая сюда, в свой мир, и где-то, когда-то другой священнослужитель открывает уста иссохшего мертвого господина и по изогнутой трубке вдувает дыхание в высохшие легкие мумии, как требует обряд, думая о старой легенде, о том, как был создан сам творец, как Пта, бог-гончар, возник из первобытного хаоса, и зачал великого бога Атума в сердце своем, и вывел его в мир устами своими, возгласив имя его.
Возчик с телеги видит пыль, поднятую громыхающими по мостовой трясущимися колесами, захваченную слабым далеким содроганием воздуха, танцующую.
Башня возвышается над песчаниковыми улицами старого города, обелиск в серебристо-стальном сиянии, отражается в небе, касаясь его, и все же каким-то образом первый утренний свет рассекает его грани и при этом словно удерживает тьму в заточении где-то в глубине. Что-то в конструкции модернистского стеклянного фасада говорит о том же видении, том же голосе, той же великой, прочной и недвижимой древней цели, заключенной во всех монолитах всех тысячелетий. Глубинная цель этой тайны — немая архитектура монотеистического творения. И здесь, в городе на краю времени, он — сингулярность внутри сингулярности, монада внутри Монополиса.
Но здесь, сейчас, на заре времени, несмотря на всю эту прочность, тишину нарушает слабый звук: гудение, жужжание. Резонанс.
В сплетнях, что часты в толпы толкованьях на улицах этого града, говорится, что зодчий, создавший эти геометрические абстракции, которые кажутся нам столь абсолютными в своей трансцендентности, сам все еще изучает их. Уже давно и, как говорят, по собственной воле вошел он в свое создание и, блуждая, согласно числам Фибоначчи, по изгибам внутренних коридоров, в некотором смысле перестал считать себя отдельным от него. Теперь, молвят, он уже давно как исчез в этих хитросплетениях, и то и дело его замечают в бездне обширного атриума, там и тут, скорчившегося на уступе, словно порожденная ими забытая горгулья. Иные говорят, что видели его лицо на каменных рельефах, слышали его голос в акустике зала.
Возможно, в этом вся суть: его намерением, стало быть, было связать друг с другом здание и его окружение нерушимыми связями, так же как связаны мир и воля любого творца. Итак, в своем замысле он стремился уловить сложность отношений между творением и творцом, описать его исчерпывающе и связно. Однако же, лишь когда башня поднялась из стали и бетона, стекла и штукатурки, света и материи, он начал понимать резонансы ее формы. И вот, идя по извивам коридоров, повтореньям пространства, формам и проекциям координат, ногою следя смыслы, в творении своем он читал усилие, разрывающее все представления о творении как акте его сознания, говорящее о мире и воле на языке столь же жидком и бурлящем, сколь прочна и недвижна была башня. И вот он все еще ходит по ней, все еще создает ее и перепланирует ее мысленно. Иногда по ночам, говорят, когда никто не смотрит, стены движутся и комнаты преображаются, отражая его помыслы.
В городе души это и башня, и могила изменений. Это архитектура времени, описанного в трех измерениях, а не в одном, равные ширина и длина его — план энергии и возможности, твердая форма его сформирована из событий, подобно окружающему ее городу — и всей окружающей его преисподней — сформирована и в свою очередь формирует единое великое событие. Некоторым горожанам кажется, что это символ власти, часовой системы стабильности мысли, порождающей порядок из правил, навязанных императивов. Из ее верхнего окна на высотах осознания повелители и законодатели, кто бы они ни были, может статься, окидывают взором город вплоть до обширных полей иллюзии, мимо знаемого и постижимого до дальних горизонтов, к безначальной, бесконечной предельности истины.
Для возчика, что поднимает глаза на эту темную массу, заключенную между облупившейся краской на деревянных дверях, закопченными стенами и ржавыми пожарными лестницами, пересеченную и затененную бельем на веревках, висящим подобно флагам, она — всего лишь очередной памятник тщеславию смертных, ожидающий падения в свой час.
Верховный зодчий глядит поверх тьмы, что струится по улицам расстилающегося внизу города, поверх ночных рек, все еще текущих, — а ведь уже розовые отблески зари мерцают на красной черепице старых кварталов. Весь мир, что он видит, есть мир падший, словно некий Вавилон, обрушенный микромерами, стертый скарабеями-серафимами. В густых черных потоках он различает руины, каменную кладку, небоскреб, возносящийся ввысь под невозможным углом, и новые трущобы, в которые превратились заброшенные доки. Эстакада элегантно поднимается в воздух, обвиваясь вокруг самой себя, и внезапно — прямо в воздухе — обрывается. Микромеры поработали.
— Думаете, они остановятся? — спрашивает его консул.
Консул стоит у письменного стола, постукивая пальцем по обтянутой кожей поверхности, его тусклая форма помята и пропитана потом. Верховный зодчий поворачивается к нему, качает головой, медленным шагом удаляется от темного видения по ту сторону стекла.
— Нет… я не знаю.
— Нам надо знать, мессир. Вы должны выяснить, что им нужно.
Микромеры. Заводные игрушки слепого часовщика. Верховный зодчий изучил тонкое строение этих мощных крошечных механизмов и впечатлен слаженной работой и сопряжением частей, тем, как центральный командный механизм претворяет стимулы в движение, восприятие — в действие. Даже на уровне врожденных рефлексов, даже в те дни, когда их действиями руководили не собственные побуждения, но ситуация, нужда или опасность, микромеры казались столь сложными, что человеку их и за всю жизнь не понять. А у него на это ушло куда больше времени. Он даже сам не знает, сколько именно. Когда минула первая тысяча лет, в мире, пересозданном по образу рая и ада, забытого прошлого и воображаемого будущего, отсчет времени уже более не казался чем-то важным.
К тому времени микромеры сами начали пересоздавать человечество.
Они были порождены секретной военной или медицинской биологической наукой, как говорилось в записанных слухах старого мира, в виде летучих всепроникающих зародышей и антител, созданных, чтобы заселить человека-носителя, уничтожить его либо наделить иммунитетом. Или же то была тайная система надзора, элементы которой передавали друг другу информацию через эфир, действуя в ответ на сигналы сообразно неизвестным инструкциям и негласным протоколам. Одно время он полагал, что это технологии пришельцев, посеянные неким холодным разумом, пытающимся понять человеческое сознание, извлекая на свет божий все его древние сны, желания и страхи. В другую эпоху он был убежден, что он сам же и был их первотворцом, что по некой случайности он выпустил их в мир. Он предпочитал считать себя лишь одним из первых, кого призвали их изучать, лишь последним в команде, кто падет, сдастся снам, что они принесли, последним разумным человеком в мире хаоса.
Посвятив их изучению целый эон, он, кажется, знает меньше, чем в самом начале, и беспокоится, что память уже не та. Он спит днем и бодрствует ночью, когда микромеры активны более всего, когда они разрушают и создают с особой энергией, словно его бдение может удержать мир от полного распада.
— Который час? — спрашивает он.
Консул достает из кармана древние часы на цепочке, открывает их и с любопытством разглядывает циферблат, стучит по ним, заводит, снова постукивает.
— Мессир…
— Не важно.
На улице, где стало светлее от первых рассветных лучей, серый бесформенный туман, бесконечные волны микромеров, поднимающиеся из океана, что в прессе однажды окрестили чертовой пылью, растекаются по миру, подобно утренней дымке, растворяют силуэты и очертания, размывают свет в окнах, превращая его в эфирное зарево, золотистое, как огни вулкана, как тлеющие угли в дыму и тени. Он даже не знает, сколько там, снаружи, еще осталось от города.
— Уже почти рассвело, — говорит он.
«Через юру и триас беги, — поет песнопевец. — Беги, маленькая двуногая рептилия-теодонт, развиваясь в ихтиозавра двухсотмиллионолетней давности; двухметровая многоножка Arthropleura mammata вьется вокруг тебя; плыви сквозь камень, луч окаменелый, ты, рыба Pseuderhina alifera, спиральный аммонит, чья вьющаяся сифоноподобная трубка разделена на все увеличивающиеся камеры; лети, архангел-археоптерикс в первой вспышке света, прародитель птиц, голубки и ворона праотец, — одна приносит мир, другой огонь похитил».
Огонь. Рассветные лучи, на заре времен, прежде чем возникло солнце, это не бледное сияние архонта эфира, но вулканическое пламя, что раскрашивает скалу плотным мерцанием искусственного освещения. Пробуждаясь, мы прослеживаем ясную текстуру мира с четкой прозрачностью голубизны и роскошью золота, ведь даже мир иной — из базальта и горит жарче солнечного лика, и сердцевина его — из железа. Облаченный в инкрустации бело-голубых стеклянных вод и льда, беспросветно-черной аллювиальной глины, густой красной дождевой пыли песнопений, зеленого мерцания роскошной растительности. Даже воздух, наше дыхание, наша пневма, не лишен цвета, он голубой — воздух в наших легких то же, что и небо над нами.
Да, он видел во сне дух, положивший начало этому миру, видел его не бледным плоским отсветом какой-то небесной субстанции, но полнокровным, с огненной плотью, огнем глубин. И он чувствует это в своих легких, огонь, и он поет, и плоть становится словом, и слово становится миром.
«Восстань, — поет он, — двухмиллионолетний Homo habilis; иди путем сновидений нашего афроавстралоазиатского Адама по своим пещерам огня и казней. Иди, кроманьонец из Дордони нарисованных туров и газелей, вы, люди-птицы палеолита, парящие в жидких глубинах небес, люди-звери из Ласко и Тассилин-Аджера. Высекайте тучную праматерь, вдовствующую невесту на могилах и в пещерах. Выйдите из тьмы, высеченные из огня, пробудитесь в лесной рассвет».
Из пустынь текут потоки сознания, сплетаясь, словно реки, что затопляют по ночам улицы города, вливаясь в хтонический океан.
Над серой памятью его снов и над серой реальностью внешнего мира выводит он строки, что сплетают мир вокруг него, музыку и мозаику, извивы троп песнопений. Этот современный муэдзин поет со своего минарета, чтобы разбудить скорбящий город, и с пением его из трясины поднимается часовая башня, лозы оплетают ее до стеклянного купола. Песнопевец смеется — город «восстал», пробуждаясь. Где-то флюгер-петух кукарекнул.
«Проснись, потонувший в дремоте град среди джунглей», — поет он. И покуда поет, море сребристое рассветным прибоем изливается в город, и мгла отступает от него, града тайного знания об алфавитах, града строителей книги и трех недостойных умельцев, града сыновей первоубийцы, града, что Эдем заменил, средоточия Нода.
«Пробудись», — поет он.
Возчик поворачивает, тянет на себя поводья одной рукой, прикрывая глаза другой от бьющего в лицо солнечного света, рассекающего зеркало башни и сверкающего на улицах, подобно клинку, пронзающего туманы и сметающего каждую пылинку. Химера останавливается и фыркает, роет землю когтями. Возчик моргает и натягивает шляпу на глаза, чтобы прикрыть их, снова берет поводья обеими руками и гонит зверя дальше. Теперь ему слышна песня муэдзина, звенящая над городом, отражающаяся от стен, как солнечный свет отражается от зеркальных окон башни, и хотя язык ему непонятен, мелодия так знакома, что он тихо напевает ее по пути, чувствуя вибрации в горле, ритм в груди.
Он поворачивает за угол, и вот башня перед ним, теперь ближе, заросшая лозой, но в дальнем конце асфальтированной улицы, где сквозь трещины пробивается сорная трава, а на балконах бетонных домов роскошная листва, сплетение ветвей и каскады цветов. Повозка гремит по улице, крики и свист просыпающихся птиц поднимаются и опадают, окружая песню, словно прочная упорядоченная конструкция, глубоко спрятанная, но от этого не менее реальная. Под венами лоз — скелет утра, воплощенный в песне и камне.
«Хай! Хай!»
Он снова сворачивает за угол, и вот снова башня, руина, обломок, напоминающий разбитую бутылку, врезающийся в серо-черный дым, что поднимается из ее горящей громады, языки красно-золотого пламени, бело-голубые вспышки электрических разрядов плетьми хлещут ее остов, осыпая его дождем искр. Химера мотает головой и нервно бьет хвостом, и он говорит, успокаивая ее, и снова поворачивает за угол, где…
Башня поднимается над песчаниковыми улицами города, обелиск, сияющий сталью и серебром, отражающий небо, которое он пронзает, но еще… в его незавершенности, в серых балках и бетонных колоннах, где кончаются зеркала и башня продолжается как смешение грузоподъемных кранов, и бытовок, и сетки, закрывающей фасады, более или менее отражая реальность расстилающегося внизу города, улиц, что даже в упадке динамичны и величавы, в них та жизненная сила, которую скрывает за своими зеркалами модернизм законченной части башни.
И возчик едет в хаос прибывающих рабочих, машин, с грохотом оживающих и выплевывающих в воздух дым от горючего, хаос желтых касок и ругательств, и зодчего, который, держа в одной руке чертежи, другой указывает вверх, и качающего головой бригадира, и сотни других возчиков, что прибыли с разных сторон с грузом утренних костей, и им показывают, куда это вываливать. Песня далекого певца смешивается с собственным эхом и вливается до неразличимости в какофонию повседневной жизни, и возчик следует вдоль стен башни вверх, мимо того места, где они на самом деле кончаются, вверх, туда, где все окончательно растворяется в голубом утреннем небе.
Красный, золотой и зеленый, город расстилается внизу. Из своего окна в самой высокой комнате башни главный зодчий видит, как его омывает рассвет, серые и черные тени растворяются, дымка сгорает под утренним солнцем. Он видит соборы и мавзолеи, шпили и купола, парки и трущобы, доки и свалки, торговые и развлекательные центры, универмаги и стадионы, лачуги и аэропорты, деловые кварталы и храмовые комплексы, все сады и гетто. Тут и там попадаются знакомые места — здание, которое осталось на своем месте, улица, которая никуда не переместилась, но большая часть изменилась до неузнаваемости. Разрушенный ввечеру и вновь возведенный на рассвете, город ускользает от всяких попыток ухватить хоть какую-то устойчивость в его структуре.
— Не надо винить себя, мессир, — говорит консул.
Он бы и рад, но за эти три коротких года, которые понадобились для воплощения его замысла, видел слишком многое, чтобы не сожалеть о своих решениях. Он помнит личные беседы с президентами, помнит, как говорил об огромном потенциале микромеров как автономных исполнителей. Он помнит месяцы, прошедшие за изучением микромеров, селекцией поведения, практически полным переписыванием заложенного в их природе, созданием настоящего текучего языка, которым они могли бы подпитываться, пить и вдыхать информацию. Он наблюдал, как из автоматических органов рассчитанными рефлексами, с заранее предусмотренными действиями, предполагающимися при такой конструкции, они развивают механизмы, способные уловить сложное содержание, контекст, поставить под сомнение власть ситуации и действовать сообразно возможностям и выбору. Он…
— Не надо винить себя, мессир, — говорит консул.
Но именно он задал им категорический императив — конечное высшее правило: они могут ломать собственные правила. Без этого, как он был абсолютно уверен, все модули их простого восприятия, которые он позаимствовал, несколько модифицировав, из их внутренних возможностей, сводились к холодному расчету в целях выживания. Он наделил их умением сомневаться и быть уверенными, чувством ярости и страха, желания и удовлетворения, чтобы на этом основании развить в них своего рода смекалку, отвагу и волю, полностью отсутствующие в автоматах, которыми они исходно являлись. Это, равно как и энграммы, которые он встроил в язык, должно было превратить их в могущественнейшую комбинацию автономного и автоматического, солдата и раба. Но похоже, эти создания породили собственный языковой хаос, и теперь во всем этом шуме и гаме жители — а он помнил, как собственными руками сотворил их из глины, — превратились в лепет, трепет, пыли и праха легкий полет, о, сколько хлопот…
— Не надо винить себя, мессир, — говорит консул.
Верховный зодчий поворачивается к своему консулу, застигнутый в момент смущения. На секунду он чувствует, глядя на город, что башня падает на расстилающийся внизу мир с ясного синего неба, в красное, золотое и зеленое города душ, пыли и камня, глины и костей. Это чувство ускользает, словно греза, и вот он помнит лишь свои собственные руки, липкие от густой красной охры, глины или крови. Он хмурит брови, но видение слишком бесплотно, и ему остались лишь зачатки формы, кости бесплотной памяти, мелодия без слов.
Он понимает, что где-то в промежутке между рассветом и сумерками забыл собственное имя.
Песнопевец поет о башне высокой, что должна была быть построена по приказу богатого и влиятельного купца. Презрев суть и цель ради значения, купец понимал смысл как поиск совершенных форм, поиск прочной конструкции. Он изучил целую библиотеку определений, музей правил, галереи границ, зал славы имен. И призвал он к себе величайшего зодчего эпохи, сделал его господином, и верховный зодчий взял на себя самый честолюбивый из всех замыслов. Он спроектировал здание. Он сделал попытку наложить искусственную рамку на динамику усилия. Это было высокое, самое высокое здание в мире, оно достигало самих небес. Но когда достигается предел сложности любой системы, эта система может обратиться против себя самой, свернуться спиралью, обратиться в хаос. И вот в тот день, когда его должны были открыть, самое высокое здание в мире обрушилось.
Акведук на пролегающих внизу улицах вьется по невозможным сдвигам перспективы, его желоб лестницей поднимается вверх, пока, достигнув высшей точки, вода не низвергается водопадом, возвращаясь в мраморный бассейн, откуда течет.
Песнопевец поет об ограничении ограничений, о смерти имени в раковине сингулярности, что сама есть бесконечный ноль.
— Как тебя зовут? — спросила одна из его возлюбленных.
Он повернулся, поглядел на обеих, что лежали подле него в постели, нежась на простынях.
— Ну, — сказал он, — знаешь, бывает, что у тебя когда-то что-то было, а теперь больше нет.
Она покачала головой, хитро улыбнулась:
— Знаешь, ты сумасшедший.
Он рассмеялся и кивнул. Ну конечно, это так; его восприятие пошло змеящимися спиралями, такая синестезия, которая формирует ощущение себя, вновь возникающее с осознанием окружающего мира, как же иначе? Ему дан трепетный образ нас, микромеров, и образ озвучить он может, так что он почти один из нас… почти. Мы внутри каждого жителя этого города, но лишь он один не спит и полностью сознает это. И для хаоса, царящего в его сердце, имя кажется такой мелочью, это закольцованность змеящегося мира, вечно замыкающегося на себе, пожирающего свой хвост. Лучше потянуться, зевнуть, запеть, занести на скрижали эту кружащую линию тождества как существование в мире.
Комната обозначена мерцающими трассирующими следами, словно кислотная галлюцинация, словно трехмерное кино без очков, но он чувствует, что во всем этом есть система. Кислотная змея заговора чувств, один глаз красный, другой зеленый, обвивает этот виртуальный мир, мандала в основании видения, несущиеся огни — колесницы пришельцев или ангелов. Вот что лежит по ту сторону зрительного восприятия и делает возможными шизоидные сдвиги, что порождают новые союзы, новые грани восприятия, выкованные из форм и теней, фигур и цветов. На улице небо из лазурного становится цвета индиго, но в небесах воображения все оттенки синего присутствуют одновременно.
— Мы все сумасшедшие, — сказал он.
Его песня — та сила, что связывает, свивает и порождает смысл. В каждом танцующем образе и звуке, запахе, вкусе, ощущении, веществе и душе присутствует грация и величие древней мощи. Мир закружился, причудливый объект экстатического изумления или путаный лабиринт ярости и страха, тайна, рожденная в столкновении мифа и истории, ее обитатели — более ноумены, чем люди.
— Все мы, — сказал он.
Как музыкальные ноты, моменты восприятия его песнопения становятся темой, эфемерные определенности зрения, оспариваемые любопытством, вечные потенции звука, отягощенные сомнением. В нарастании и ослабевании напряжения его история обретает значение и целостность. Погруженный в вихрящийся мир, он зачарован рапсодией, гармонической связью, значением, что сотворено для него ритмом, не разумом.
Напряжение, сопряжение, натяжение, выражение — он всегда старался понимать полный смысл слова не как нечто целостное, но как сумму индивидуальных сем, других слов, созданных на основе одной и той же корневой морфемы. Он видит в них грани разрушенного единства, значение — как разбитую голограмму, каждый фрагмент которой имплицитно содержит целое, но лишь частица его ясно читаема. Вот почему мы избрали его, чтобы он воспел мир.
— Твой мир лишен смысла, — сказала его возлюбленная.
— Мир есть то, что он есть, — сказал он, — не более и не менее… но что он есть — вопрос тонкий и загадочный.
И вот он стоит у окна, его песнь о мире и окончании мира почти завершена, его песнь о новом начале только начинается.
Он выходит из пустыни, дитя с копытами и рогами, козленок в шкуре овечьей, вор и лжец, проказник-бунтарь, сопровождаемый лишь хором микромеров, отражающим голоса всех тех, кто в смерти имя утратил, всей истории человечества, поверженной в прах. Его собственное имя тоже забыто, но он потеет и чешется во второй коже, коровьей, ежится и голодает ночами под сожженными дочерна заемными крыльями, и, пусть все утратив, он жив. Он идет сквозь пустую вечность, ища хоть кого-то наделенного разумом, как он сам. Но здесь лишь мы, микромеры, кто расчленил мир в попытке удовлетворить все души, наложить искусственный порядок на анархистскую метафизику человеческого воображения. Мы лишь хотели даровать человечеству то, чего оно желало, не понимая, что оно желает покончить со всеми врагами, желает войны, что положит конец всем войнам, умиротворения смерти. И вот теперь существуем лишь мы, микромеры, и несколько бессловесных тварей, химер, что влачат пустые повозки по преисподней, ведомые лишь инстинктом. Устремляясь в путь далеко, в пески своих снов, он хоронит кости собственной истории глубоко в пустынном мраке и поет им погребальную песнь, элегию, которую мы обращаем в костер погребальный. Потом же он видит и слышит, он понимает, как сплетаются наше видение и его голос. Певец душ, освобожденный и возрожденный, его слова — огонь, этот дьявол, ворона со сломанными крыльями, и мы отвечаем на его единственное желание. И вот в отсутствие всех остальных он начинает песней творить мир грядущий, в первую очередь — брата.
Возчик, которого он призвал песней, улыбается ему с соседнего сиденья и кивает.
Он поет о дороге всякого праха, реке и руинах мира, что оставил он позади. Он поет о городе горном, высеченном из скалы, раскрашенном в серебро лунного света, в пурпур крови своей, в серую мглу, цвета его запятнаны глубокой виной, широкие мазки по твердой поверхности. Он поет о воронах над полем пшеницы в небе бурлящем, в жаре низко идущей бури, что медленно настигает его. Он поет херувимов и серафимов, шепчет слова в воздухе тяжком. Он поет о двух воронах, что прибиты к столбам деревянным у крыльца и у двери сельского дома, — то Память и Мысль. Он встает на колени кровь их испробовать, усилить песню свою размышлением и воспоминанием. И встает он, и дальше идет, и в песне несет души всех тех, что когда-либо знал и узнает — или же не узнает, всех их несет он в вечность с собою.
«Следуйте же за мной, — он поет, — ушабти, шувабти, клювастые ответчики из Египта, следуйте же за мной с елисейских полей тяжкой работы, где разбросано зерно элевсинское, сеятели иллюзий, следуйте же за мной в город имперский».
С волнующихся полей пшеницы, где падальщик вьется над трупом, с верхнего моря сребристого он идет прочь, песнопевец, как беглый раб, как чужак, одержимый тенями, на пустые улицы города времени. Души — это камни, на которых город построен. Души — фрески на стенах его и статуи на площадях, души — башни и купола, балюстрады и колоннады и часословы златые. Это вечность, которой человечество жаждет, построенная из людских сновидений нами, Аркадия и гробница.
В Аркадию он идет, чтобы стать ее смертью.
«Титаны и боги, восстаньте», — поет он.
И они восстают: Шамаш сияет на финиковых пальмах Инанны. Таммуз вступает в термидор, по висячим садам жерминаля и флореаля зеленого. Даже смерть, смерть восстала, густая и красная, словно глина, в созданиях, сотворенных из пепла и крови, растворенных потопом, переоформленных руками человека. Миф освобожден от оков, горящий человек с душою деревянной, на коже глиняной те письмена, что прегрешения его перечисляют, — вне уз, вне плена.
Империя пала, республика вновь процветает.
Город встает вокруг, камни сбрасывают узы твердости, вечности ради вещества сновидений и смертности символов. Башня, что высится над городом, над закатным прибоем, башня всего, чем мы были или могли бы быть, не будь мы мертвы, резонирует, камень дрожит в ритме песни. Вновь пробужденные песнею песнопевца, мы вьемся словами его вокруг этой башни, достигая небес и падая, падая вечно и навсегда в радость и горе времен, в плоть дней, в слова, рожденные на языке песнопевца, башни всех костей утра, падая вечно и навсегда в великолепный хаос мира.
РИЧАРД ПАРКС
Как завоевать леди Смерть
Пер. О. Полухина
Джасса, сын Нобана, юноша привлекательной наружности, не отличался большим честолюбием. А если выразиться точнее, мечтал он только о том, чтобы добиться расположения леди Смерти и покорить ее. И это его желание, мягко говоря, приносило лишь разочарование.
В полдень Дня очищения люди вдоль дороги Аверсы представляли собой по городским меркам всего лишь обычную толпу. Большинство жителей Торнолла в такое время постарались по возможности остаться дома. Кто же оказался в этот час на улице? Либо те несчастные, чьи родственники или друзья попали в руки леди Смерти, либо те, кому не удалось отложить дела, или же трижды несчастные, жизнь которых была настолько убога, что им доставляло удовольствие наблюдать любые мучения, не затрагивающие их лично. Какие бы причины ни привели сюда людей, все они быстро расступались перед Часовыми, как традиционно именовались стражники императорского правосудия.
Джасса сидел в углублении на верхушке полуразвалившейся древней стены, которая шла вдоль такой же древней улицы. Вряд ли кто-нибудь в городе помнил, почему дорогу Аверсы назвали в честь исключительно мифического существа и почему вдоль нее некогда выстроили массивную стену. Джасса этого не знал. Не знал он и предания о том, как члены семьи леди Смерти стали потомственными палачами, исполнителями императорской воли в Торнолле. Но ему это было и неинтересно. Значение имело лишь то, что леди Смерть, которую, по слухам, звали Азерафель, похоронив отца, осталась единственным потомком благородного рода. Теперь все права и тяготы легли на ее плечи, и сегодня он должен был ее увидеть.
Джасса испустил вздох влюбленного, и снова в голову пришла мысль, как постоянно возвращающийся обрывок особенно навязчивой мелодии. Если бы только я мог с ней поговорить…
Это было невозможно. Азерафель покидала семейные владения только в День очищения, и, согласно старинному закону, лишь представители самого императора могли к ней приблизиться. Всем остальным грозила немедленная смерть. Джасса понимал, что подобные меры предосторожности предпринимались ради ее собственной безопасности, тем не менее это значительно осложняло ситуацию. А объявиться на пороге дома девушки собственной персоной вообще было делом невообразимым.
Однако это не значит, что он не пытался. Привратник оглядел тогда Джассу с ног до головы и, сделав единственно возможный вывод, прогнал парня прочь. А теперь он сидел и ждал. Чтобы просто увидеть ее. Больше ему не на что было рассчитывать.
«Дорогу!» — прокричал Часовой, но, вообще-то, команда была излишней. Путь и так был практически свободен. Большинство остававшихся на улице горожан уже ушли прочь с дороги и теперь окружали старинную площадь. Часовые, сверкая сталью и бронзой, заняли позицию по четырем углам. Затем доставили Сооружение. Упряжка ладно подобранных черных меринов протащила его по дороге Аверсы до середины площади прямо к монументальной статуе Сомны Сновидящей.
Джасса не обладал талантом своего отца к кузнечному ремеслу, однако хорошо разбирался в практическом использовании металлоконструкций. Сооружение состояло из платформы, поднятой примерно до высоты плеча, и гладкого стального короба, установленного прямо под круглым отверстием в ее центре. Сам механизм работал на пружинах, хотя, вообще-то, большая часть рабочих деталей пряталась внутри платформы. Этот механизм был снабжен рычагом, прилаженным на поверхности платформы рядом с кучером. Жертва засовывала голову в стальной короб под отверстием, механизм приводился в движение, шея несчастного мгновенно вытягивалась на максимальную длину и затем аккуратно перерубалась в основании скрытой от глаз режущей пластиной. Безболезненно или, по крайней мере, настолько быстро, что боль уже не имела значения. Во всяком случае, пожаловаться никто не мог.
Не так грубо, как топором, и не требуется особого мастерства палача. Надежно. Практично. Одинаково для всех жителей Торнолла, кого решило покарать императорское правосудие, независимо от происхождения. Эта машина обладала удивительным свойством, которое редко когда встретишь: она была справедливой.
Первыми прибыли приговоренные к смерти. На этот раз трое: двое молодых и один старик. Сегодня на два человека больше, чем обычно. Беспорядки в прибрежной провинции Дарса подняли уровень смертности по всей империи. У всех приговоренных, раздетых по пояс, руки были связаны за спиной. Несчастные проследовали под охраной еще четырех Часовых сквозь толпу и подошли к основанию Сооружения. Там Часовые оставили их и заняли позицию возле гильотины. Заключенные стояли, щурясь на солнечном свету, все до одного бледные и напуганные, но бежать не пытались. Некуда было бежать.
У Джассы дыхание перехватило. Леди Смерть.
Она прибыла верхом на белоснежном жеребце, и это была единственная дань традициям. Джасса еще помнил, как обставлял свое появление ее отец: цвет костюма в тон масти скакуна, в руке — коса из полированного серебра, на лице — маска смерти, на голове — терновый венок. А его дочь выглядела совершенно обыденно: распущенные волосы рыжего золота, простая легкая юбка и кружевной лиф. Не слишком проницательный наблюдатель мог бы ошибочно принять ее за барменшу, если бы не золотая цепочка на шее и сапоги из тонкой кожи, да еще позолоченные шпоры.
Она могла бы исполнять свой долг более зрелищно, по примеру отца. Интересно, почему она этого не делает.
Подобные атрибуты были необязательны, однако, задумавшись над ситуацией, Джасса понял их ценность. Любой правитель сносил головы, когда возникала нужда. Но если делать это слишком часто, даже по необходимости, последует недовольство. Накинь же на смертную казнь достаточно обоснованный юридический покров, добавь немного таинственности, облеки все в ритуальную форму, и твои граждане почти смогут забыть о том, что настоящая цель представления — лишить жизни трех человек. Но когда леди Смерть прибыла на место, ни у кого не возникло вопроса, почему там стоят трое вышеупомянутых горемык.
Выехав на площадь, она натянула поводья и произнесла чистым сладким голосом:
— Император приказал. Все должны подчиниться.
Ни один человек не проронил ни слова. Тишину нарушали лишь случайное покашливание, шарканье ног и то тут, то там приглушенное всхлипывание. Трое приговоренных повернули головы к леди Смерти, когда та спешивалась со своего жеребца. Один из Часовых принял поводья.
Лицо Азерафель было непроницаемым. Больше она ничего не сказала. Быстро подошла к Сооружению и сняла маленький лоскут ткани со спускового механизма. Часовой скомандовал:
— Давай!
Кучер повернул рычаг до упора. Леди Смерть кивнула Часовому, и он подвел первого осужденного к упряжи. Приговоренный вложил голову в ремни, которые поддерживали голову таким образом, что несчастный смотрел прямо в глаза палачу.
Неужели это произойдет?
Произошло. Точно так же, как свершалось подобное таинство раньше, во время всех тех казней под руководством его возлюбленной, за которыми он наблюдал. Перед тем как потянуть рычаг, леди Смерть произнесла что-то. Джасса не слышал что. Он только видел, как двигаются ее губы. Ему стало интересно, слышал ли ее слова кто-нибудь еще, кроме осужденного. Джасса, конечно, находился очень далеко, чтобы быть абсолютно уверенным, но он почти мог поклясться: на лице приговоренного появилось выражение, скажем так, изумления. А потом леди Смерть потянула рычаг, и обезглавленное тело мужчины упало на траву, дернулось и застыло. Из толпы послышался тихий стон. Молодая девушка рухнула в объятия пожилой женщины, которая с молчаливой горечью смотрела на мертвеца.
— Давай!
Снова были сделаны приготовления, и снова взяли мужчину помоложе, согласно традиции. Леди Смерть опять шепчет что-то — и второе тело падает рядом с первым.
— Давай!
Все это время старик стоял абсолютно неподвижно, и, когда Часовой пришел за ним, он не двинулся с места. Часовой потянул его за руку, но старик вырвался. Он не отрывал дикого взгляда от Сооружения и не мог сделать ни единого шага. Часовой жестом велел приблизиться двум своим товарищам. Те поспешили на помощь и подхватили приговоренного с двух сторон.
— Нет! Я не готов!
Джасса покачал головой. Не упорствуй, Старик. Это только принесет тебе дополнительные страдания и может огорчить мою леди.
Но старик, кажется, не хотел принимать во внимание, что там чувствует леди Смерть. Он по-прежнему цеплялся за жизнь и не собирался сдаваться. Он боролся все с большим и большим отчаянием, пока стражники тащили его все ближе и ближе к смерти. Он почти вырвался, и один из Часовых занес защищенный броней кулак над головой бедолаги.
— Прекратите!
Кулак застыл на полпути. Даже приговоренный перестал сопротивляться. Вместе с остальными он наблюдал, как леди Смерть подходит к нему и протягивает тонкую руку. Часовые взглянули сначала друг на друга, потом на леди Смерть, а затем отпустили старика и отступили назад.
Старик выглядел сконфуженным. Мгновение он стоял не двигаясь, потом взял ее руку, а она, приподнявшись на цыпочки, что-то шепнула ему в ухо. Он расправил плечи и выпрямился. На секунду показалось, будто годы растаяли, и Джасса смог представить, как старик выглядел в молодости. Приговоренный улыбнулся и позволил девушке медленно подвести себя к Сооружению. В следующий момент он засунул голову в ремни и застыл, словно скала. Через мгновение он был уже мертв.
Леди Смерть взобралась по ступенькам на платформу, и кучер склонился в низком поклоне. Затем она нагнулась, одну за другой подняла отрубленные головы и подняла высоко, чтобы толпа могла их увидеть. И все было кончено. Затем она спустилась вниз, снова оседлала своего жеребца и вскоре исчезла из виду, удалившись по дороге Аверсы вместе с Сооружением и Часовыми, замыкавшими шествие.
И только тогда начались стенания, когда родственники и друзья подошли забрать тела.
— Я хочу того, чего никогда не смогу получить. Это глупо.
Джасса обнаружил, что бредет по дороге Аверсы в противоположном направлении, прочь от своей возлюбленной, к развалинам городских стен, к Весланским воротам. Он рассчитывал — и это была только одна из многочисленных мыслей, одолевавших его, — что, отправившись за город на долгую прогулку, сможет прочистить мозги и взбодриться. Давненько уже не ходил Джасса по этой дороге и почти забыл про Рассказчиков.
Никто не знал, как долго мужчины и женщины, которые именовали себя Рассказчиками, собирались у Весланских ворот. Многие называли их бездельниками, другие, кто их не знал, попрошайками. Ближе к вечеру они обычно покидали свои дома, лавки, кузницы, садились группками на траву возле разрушенной каменной арки и рассказывали истории. Они не просили денег; они не просили ничего, кроме времени и внимания. Излишне говорить, но этого всегда недоставало. Когда слушателей не хватало, что случалось довольно часто, Рассказчики садились в кружки и рассказывали истории друг другу.
Они не всегда оказывались самыми добрыми слушателями.
— Ха! Ты называешь это рассказом? — Старик с презрением глянул на молодую девушку, в то время как остальные в их кругу, мужчины и женщины, молодые и старые, наблюдали и улыбались.
— Я служу Сомне так, как могу, Тобас. — Девушка в мольбе вытянула руки. В глазах ее загорелся огонек. Она ничуть не разозлилась.
— Ты служишь только одной стороне богини — ее способности приносить сон и покой, — ответил мужчина по имени Тобас. — Цель достойная, однако я предпочитаю, чтобы мои слушатели бодрствовали.
— Когда в последний раз у тебя был слушатель, Тобас? — снисходительно поинтересовалась Лата.
Все вокруг засмеялись. На лице Тобаса появилось возмущение, однако было ясно, что ни один из них не говорит всерьез.
Вруны, или вроде того. Джасса как раз проходил мимо компании.
— У меня появился слушатель, друзья, — сказал Тобас. Он посмотрел прямо на Джассу. — Здравствуйте, юноша. Присаживайтесь.
Джасса опешил:
— Нет, что вы… Я просто вышел прогуляться.
— Но ты же слушал, по крайней мере какое-то время. — Старик улыбнулся Джассе. — Итак, пока ты здесь, я бы хотел, чтобы ты помог урегулировать спор между мной и этой оравой бездарей. — Взмахом руки он показал на сидевших вокруг рассказчиков. — Они говорят, что больше никто не ценит истории. Ты какого мнения на сей счет?
— Ну… я когда-то любил их слушать, — искренне признался Джасса. — Давно, правда.
— А почему перестал? Слишком занятой? Слишком взрослый? Или чересчур придавлен ежедневными тяготами своей жизни?
— Все вместе, — ответил Джасса. — А еще потому, что они почти никогда не бывали правдивы.
— Они почти всегда правдивы, — поправил Тобас. — Просто описанные в них происшествия, возможно, никогда не имели места на самом деле. Но правдивые истории существуют. Если бы ты решил послушать, ты бы предпочел историю, основанную на реальных событиях?
— Конечно.
— Тогда позволь удовлетворить твое желание. Садись.
И Джасса сел. Может, потому, что не предвидел на сегодня ничего более интересного, или, может, потому, что у него не было достаточных оснований для отказа.
— А вы разрешите мне выбрать историю? — Он чувствовал, как внутри зажегся озорной огонек. Тобас кивнул, и Джасса продолжил: — Я хочу знать, как дорога Аверсы получила свое название.
— Ладно. Если история придет ко мне, я расскажу ее, — согласился Тобас, а Джасса только улыбнулся. Тобас улыбнулся в ответ. — Что беспокоит тебя, дружище? То, что ни один из живущих ныне не знает именно эту историю?
Джасса кивнул, и девушка покачала головой:
— Ты не прав. Сомна знает.
— И Сомна делится историями с Рассказчиками? — спросил Джасса.
— Сомна делится со всеми, — ответил Тобас. — Но иногда ей легче всего сделать это через нас. А сейчас помолчим немножко. Мне нужно понять, появилась ли история для этого юноши.
Тобас закрыл глаза, и шелест голосов затих. Джасса наблюдал за мужчиной и заметил, как шевелятся его губы.
Несомненно, репетирует первую ложь… Джасса устыдился своей мысли, стоило ей возникнуть у него в голове, поскольку было очевидно, что Тобас и не пытался произвести эффект своим бормотанием, — он молился. Остальные Рассказчики, сидевшие в кругу, делали то же самое, прикрыв глаза и опустив головы. Джасса застыл на несколько долгих мгновений исключительно по причине полного изумления, а к тому времени, когда ему пришла идея незаметно удрать, было уже слишком поздно. Тобас открыл глаза:
— Есть для тебя история, молодой господин. Короткая, но от этого она ничуть не хуже.
Джасса облизнул губы, внезапно высохшие:
— Я бы хотел послушать ее.
Тобас кивнул.
— Это случилось в начале Третьей эры, — начал он тоном, слегка отличным от своей обычной манеры говорить. — В это время люди и первенцы Сомны, особенно уважаемые, которых мы зовем Аверсы, еще жили вместе. Одна из перворожденных совместно с нашими отдаленными предками возводила стены, которые должны были превратиться в Торнолл.
— Почему? — перебила Лата.
— Поскольку Аверса знала, что гармония доставляет удовольствие Сомне, — пояснил Тобас. — Она хотела услужить. Наши предки с удовольствием позволяли ей это.
— Почему? — задал вопрос старик, сидевший в кругу напротив Тобаса.
— Так как люди видели, что благодаря могуществу Аверсы они выполнят работу быстрее, — объяснил Тобас. — И обращали себе на пользу помощь перворожденной.
Джасса видел замершие лица остальных и понимал: из какого бы источника вдохновения ни черпал Рассказчик, история захватила всех целиком. Он осторожно поинтересовался:
— Почему наши люди ненавидят и боятся Аверсы?
— Потому что любой из перворожденных обладал большей мощью, чем все наши праотцы, вместе взятые. Потому что у наших праотцев не было ничего общего с Аверсами, кроме Сомны, которая породила и тех и других. Пока Сомна спит и видит сны, она создает наш мир. Аверсы получают частичку ее снов, и каждый из них может до некоторой степени переделать мир, но никто из наших праотцев не знал до какой. А неуверенность порождает животный страх.
— Что произошло?
— Стены возвели. Храм Сомны построили. Наши праотцы попытались поработить Аверсу, как только работы были закончены. И потерпели крах. Одним словом она разрушила храм и вышла из города по тропе, которая до сих пор зовется дорогой Аверсы, через Весланские ворота. Когда она остановилась возле них, все стены пали. Остались лишь ворота, где мы по сей день собираемся.
— Куда удалилась Аверса?
— К колодцу Лога у подножия Гралатовых гор. Некоторые называют их хребтом Гэана.
Тобас встряхнулся, и черты его лица стали прежними. Остальные последовали его примеру, словно по команде. Возможно, все это было запланировано. Но Джасса так не считал.
— Я зашел слишком далеко? — спросил Тобас сидевших в круге. Он вроде и забыл про Джассу.
— Вопрос юноши оказался неожиданным и несвоевременным, — ответил старик, который раньше уже участвовал в разговоре, — но если бы тебе не суждено было дать ответ, то он бы и не прозвучал.
— Ты фаталист, Гос, — возразил другой Рассказчик. — Думаю, это было ошибкой.
— Не важно. Дело сделано, — вмешалась Лата.
— Какое дело? — потребовал объяснений Джасса.
Тобас пожал плечами:
— Если ты не знаешь, это, может, и к лучшему. Спасибо за то, что выслушал меня.
Круг распался. Рассказчики Сомны уходили прочь кто поодиночке, кто парами, но ни один из них не нарушал молчания. Спустя какое-то время ушел и Джасса. В арке Весланских ворот у него возникло довольно странное чувство, будто он выходит из храма.
Прогулка Джассы за городскими стенами была не слишком долгой. Скоро он вернулся через Весланские ворота, теперь безлюдные, и направился домой. Никто его не встречал, да и некому было после смерти отца, который ушел из жизни в прошлом месяце. Кузница, пристроенная к дому, стояла запертой, ставни были закрыты, а горн совсем остыл. Джасса собрал все, что, по его мнению, могло ему пригодиться, и поутру покинул город. Проходя сквозь Весланские ворота, он остановился на мгновение и улыбнулся.
Мне нужно чудо, чтобы завоевать леди Смерть. Если в баснях Рассказчиков есть хотя бы доля правды, то теперь я знаю, где его искать.
Да и терять ему, собственно, было нечего.
Аверса хохотала как ненормальная. Джасса даже перепугался, что на них сейчас обрушится свод пещеры. Наконец она утерла слезы и широко улыбнулась гостю. У нее было много зубов, как он заметил. Причем острых.
— Они все еще рассказывают эту историю в Торнолле? Какой парадокс: насколько коротка человеческая жизнь и насколько длинна человеческая память! Тем не менее люди, кажется, никогда не извлекают уроков ни из той, ни из другой.
— Значит, это правда? — спросил Джасса.
Аверса пожала плечами:
— Правда — понятие относительное. Я сильно удивлюсь, если Рассказчики забыли упомянуть этот факт. Произошло ли все на самом деле? Более или менее.
Последовав указаниям Рассказчиков, Джасса шагал два дня, пока не добрался до подножия хребта Гэана. Он пошел по единственной дороге или, скорее, козьей тропе и ближе к концу узкого каньона с отвесными стенами увидел источник пресной воды. А чуть дальше обнаружил пещеру.
Аверса сидела на каменном табурете примерно в десяти метрах от входа в пещеру, в том месте, где шахта входа, расширяясь, превращалась в высокий зал с раскатистым эхом. Для существа из мифов и легенд она оказалась на удивление доступной и легкоузнаваемой. Она обладала стройной, изящной фигурой, однако волосы у нее были седые, а лицо идеальных пропорций покрывала полупрозрачная от старости кожа, изрезанная тонкой сетью морщин и казавшаяся от этого сотканной из шелковой паутины. Глаза Аверсы, цвета янтаря, превосходили размером глаза любой представительницы рода человеческого. Она как будто бы ждала Джассу.
— Это правда, значит? Вы можете изменить сон Сомны?
— Мы способны произвести небольшие изменения в мире, если ты это имеешь в виду. Пустячковые. Но цена очень высока.
— Я небогат, но у меня есть кое-какое имущество, которое можно продать.
Аверса чуть снова не расхохоталась, однако урезала смех до короткой ухмылки, хотя и с видимым усилием. И покачала головой:
— Позволь мне кое-что тебе показать, Джасса из Торнолла.
И мир изменился.
Пещера исчезла. Они стояли в благоухающем саду у подножия горы, отчасти напоминавшей ту, в которой жила Аверса. Водяной каскад, обрушиваясь в мраморную чашу, наполнял воздух искрящимися на солнце брызгами. Искусно выполненные статуи располагались в нишах, вырезанных в скале, в тех местах, где несколько минут назад Джасса видел разъеденные эрозией крошащиеся камни. Аверса, с усталым видом сидевшая на белой каменной скамье, похлопала по свободному местечку рядом с собой. Джасса сел в полном изумлении.
— Нравится тебе мой дом? — спросила Аверса.
— Очень красиво.
— Да… — Она глубоко вздохнула. — И этого тоже больше нет.
Они снова оказались в пещере. Аверса больше не улыбалась.
— Когда-то весь мой народ так жил. Но нас всегда было не слишком много, да и существовать в мире с тебе подобными у нас не очень хорошо получалось. Люди считали нас демонами, страшнее самого Гэана, когда им это было удобно. Использовали нас по возможности, а если не получалось, то убивали или прогоняли прочь. Нас осталась всего горстка, и мы затаились в пустынных местах, которые больше никого не привлекали.
— Почему же вы, обладая такой силой, позволили все это?
Аверса снова улыбнулась, теперь уже печально.
— Наша сила проявляется в возможности изменять сон Сомны, то есть мир. Но это все же ее сон, а не наш. Ты знаешь, что происходит, когда кто-нибудь изменяет сон вразрез с желаниями Сомны?
Джасса покачал головой, стараясь не утонуть в янтарных глазах Аверсы. Она продолжала:
— Сон богини становится беспокойным. Если делать это достаточно часто и довольно грубо, она проснется. И мир рухнет. Ты думаешь, мы хотели совершить то, что демон Гэан, несмотря на все свои уловки, до сих пор так и не смог довести до конца? Твой народ занимает во сне Сомны определенное место, иначе вас здесь не было бы, а мы, я полагаю, скоро полностью исчезнем.
— Но… вы же любимые творения Сомны! Первые среди всех народов, населяющих сон!
Аверса оглядела голые каменные стены:
— Как я уже сказала, цена велика. Только мы ее платим, Джасса. А вы нет. Ты выбираешь свой путь, который повлечет за собой определенные последствия, и я тут ни при чем. Ты по-прежнему хочешь, чтобы я тебе помогла?
Джасса глубоко вздохнул:
— Да.
— Ты глупец, но я и так это знала. Твое желание связано с леди Азерафель из Торнолла, верно?
Джасса прищурился:
— Как вы догадались?
— Я всегда понимаю, когда в дело вступили Рассказчики, и вижу, кого они задели за живое. А твои сны поведали мне остальное. Можешь назвать это капризом, но я тебе помогу. Чего ты хочешь?
— Если вы видели мои сны, то должны уже знать.
Аверса опять улыбнулась:
— Умный парнишка. Сны раскрывают секреты, но одновременно затеняют. Действительно, я знаю, чего ты хочешь. А ты сам-то знаешь?
Джасса пожал плечами:
— Я хочу, чтобы леди Смерть полюбила меня. Хочу почувствовать ее губы на своем челе. Хочу, чтобы она заглянула в мои глаза с неимоверной преданностью. Хочу, чтобы в это мгновение я понял: она моя, и только моя.
Аверса кивнула:
— Так я и думала. Подай мне камень, который лежит у твоих ног.
Джасса наклонился и подобрал кусок простого известняка размером чуть больше голыша. Он вручил его Аверсе, а в следующую секунду она вернула его, только это уже был не камень. В руках у Джассы оказался небольшой бронзовый медальон на кожаном шнуре.
— Надень его, — сказала она. — А когда вернешься в Торнолл, покажи Часовому на воротах. И твое желание исполнится. Или…
Джасса уже завязывал на шее шнур:
— Или?..
— Или ты можешь швырнуть медальон в ближайшую реку, а то и просто выбросить прямо здесь и сейчас, вернуться домой, продолжить дело своего отца либо заняться каким другим ремеслом и построить жизнь, забыв про леди Смерть. Я бы посоветовала именно это, если бы ты попросил моего совета.
— Я не могу. Я люблю ее.
Аверса кивнула, и теперь она выглядела еще старше, чем прежде. Словно постарела и безмерно устала за короткое время.
— Я знаю, — ответила она.
Во время долгого пути назад в Торнолл Джасса размышлял над словами Аверсы. Может, и правда последовать ее совету? В кузне он всегда будет только бледной тенью своего отца. Конечно, Джасса получил хорошую подготовку и, без всякого сомнения, неплохо обеспечивал бы себя благодаря профессии, только он не мог работать так, как отец, который был художником в своем деле. Там, где Джасса изготавливал пригодный к службе меч, Нобан создавал мастерский клинок, идеальный по форме и боевым характеристикам. И так во всем, за что бы Джасса ни брался. Отец достиг вершин, к которым невозможно приблизиться с помощью усердия и опыта, и Джасса знал: ни то ни другое не превратит его в такого кузнеца, каким был отец.
Я мог бы довольствоваться меньшим.
Однако это было ложью. Как раз довольствоваться меньшим Джасса никогда не умел. Так же дела обстояли и с Азерафель. Никто не мог с ней сравниться, нечего было даже и пытаться искать. Все или ничего. Если середина и существовала, он ее не видел.
Джасса взглянул на медальон. Он представлял собой простой бронзовый диск, на котором был выгравирован какой-то знак, похожий на закрытый глаз, — вроде бы древний символ Сомны Сновидящей, смутно припомнил Джасса. Ничего больше медальон ему не говорил. Джассе стало интересно, а что скажет подарок Аверсы Часовому.
Долго ждать ответа не пришлось. Джасса подошел к воротам и увидел стражника, стоявшего на посту. Джасса не стал показывать медальон. Не было необходимости. Часовой бросил на него взгляд, стоило Джассе приблизиться, и в то же мгновение меч охранника оказался у горла юноши.
— Именем императора ты арестован!
Этой ночью, лежа в грязной, сырой камере, Джасса забылся беспокойным сном. А во сне его ожидала Аверса.
— Ты предала меня! — закричал он, хотя никто за пределами сна не услышал его.
Аверса покачала головой:
— Да, я кое-что совершила, но только не предательство.
— Они мне даже не сказали, что означает медальон.
— Для Часовых он означает, что ты тот, кто возглавил мятеж против императора в городе Дарса. Мятеж, который набирает силу. Теперь на некоторое время они прекратят поиски этого человека. Мы все служим Сомне как можем, а правление императора наносит вред всему ее сну. Ты не тот, кого они искали, естественно, но Часовые считают по-другому.
— Тогда я им расскажу всю правду!
Аверса кивнула:
— Расскажи…
Они оба знали: признание ничего не изменит.
— Почему? — спросил он наконец. — Что я тебе сделал?
— Ты обратился ко мне за помощью, — ответила она, — и не понял, что это означает. А теперь начинаешь осознавать.
И Джасса остался один в своем сне, который был всего лишь сном. Наутро он ничего не вспомнил.
Вместе с тремя юношами, которые были моложе его, Джасса шел по дороге Аверсы. Руки ему связали за спиной. В положенное время он предстал перед леди Азерафель.
Джасса чуть не улыбнулся. По крайней мере, никто не может лишить меня этого.
Один за другим его соратники умерли. Вскоре наступила его очередь. Он заглянул прямо в глаза леди Смерти и произнес:
— Я люблю тебя.
Часовые уставились на него. На милом личике Азерафель появилось озадаченное выражение, однако она ничего не ответила. Джасса, выпрямившись во весь рост, ждал, когда Часовые потащат его силой, как того старика. Но этого не произошло. Леди Смерть немедленно шагнула вперед, взяла его за руку. И повела к Сооружению.
— Ты не понимаешь, — сказал он. — Я люблю тебя.
Она улыбнулась ему.
— Я понимаю, — возразила она, и Джасса положил голову в ремни. Она улыбалась почти как безумная. — Из всех, кого я любила, ты единственный, кто первым заговорил о любви ко мне. Спасибо.
Леди Смерть заняла свое место возле рычага, и Джасса увидел: ее губы зашевелились, как всегда в таких случаях. Но теперь он был достаточно близко и смог расслышать. Теперь он был достаточно близко, чтобы увидеть счастье и преданность в глазах дамы своего сердца. Свет любви, который не покидал ее лица, пока она поворачивала рычаг и смотрела в глаза самой смерти. И в этот момент Джассе больше ничего не было нужно.
— Я люблю тебя, — прошептала она.
Джасса хотел рассмеяться, но не успел.
Когда Рассказчики собираются у Весланских ворот, кто-нибудь то и дело вспоминает историю о том, как леди Смерть забрала невостребованную голову, лежавшую возле статуи Сомны Сновидящей, и сделала из черепа позолоченную кружку. Они рассказывают, будто она тихонько улыбалась всякий раз, когда ее губы касались холодного чела, а глаза смотрели в пустые глазницы. Никто не был абсолютно уверен в том, случилось ли это на самом деле, но, подобно любой хорошей истории, эта так разрослась, что со временем под ее сенью нашли пристанище самые различные домыслы.
Например, по одной из версий, несколько лет спустя после той казни империя пришла в упадок, а вместе с ее закатом отпала необходимость в услугах леди Смерти, которая вышла замуж за губернатора пограничной провинции Лирса и уехала прочь из Торнолла. Все, что она взяла с собой, — это одежда, золото и кружка-череп. Гильотина осталась гнить и ржаветь возле статуи Сомны Сновидящей, которая с закрытыми глазами могла видеть все.
КЭТ РЭМБО
Шарик Бамлети
Пер. Н. Алешина
Книжный магазин был для Дулии убежищем и приютом. Больше всего на свете дорожила она полуденными часами, когда удавалось укрыться от каждодневной суматохи на верхнем этаже Солтмаркет-билдинг и почитать. Вот почему из-за громогласного вторжения трех старших братьев ей стало совсем не по себе. Видимо, никогда больше не приведется ей спокойно сидеть за книгой в магазинчике Дейтла Кранка. Только и жди того, что один из них ткнет в ребро, подбросит в карман лягушку, а потом все разом примутся свистеть что есть мочи, гоготать и дразнить: «Посмотрите-ка на Дулию!»
Она обвела их злобным взглядом. Светловолосые близнецы Сириус и Клейтус и четырнадцатилетний Маркус, младше их на год. Он театрально закатил глаза.
— Ты ведь знаешь, что поговаривают о Кранке? — громким шепотом спросил он, подавшись вперед. — Он водит дружбу с Темными силами — мертвецами под Табатом!
Сидевший за прилавком Дейтл Кранк, маленький, похожий на гнома человечек с поджатыми губами и в круглых очках, отливающих светом холодных лун, откашлялся.
— Если не собираетесь ничего покупать, нечего здесь толпиться, — сказал он мальчишкам, махнув рукой в сторону выхода.
К превеликому ужасу Дулии, этот жест относился и к ней. Но объяснять, что она здесь ни при чем, лучше не стоит — не то братья поймут, как важно для нее это место в магазинчике. А так им, может быть, и не придет в голову искать ее здесь в следующий раз.
Она послушно поплелась за ними вниз по лихо закрученной, продуваемой всеми ветрами лестнице, мимо маленьких окошек разной формы: трапециевидное, треугольное и сводчатое обрамляли рыночную толчею снаружи.
У подножия лестницы на прилавке Бамлети в стоявших один за другим ящиках были строго по размеру выставлены птичьи яйца, украшенные краской, воском, перьями, шелковыми цветами и даже драгоценными камнями. А еще яйца не совсем обычные: зеленые, с наростами футляры от болотных троллей; гладкие черные мешочки с яйцами ската; шары в золотых блестках, охраняющие покой зародышей волшебных драконов, и прозрачные пузыри, из которых вылуплялись сильфы. С самой верхней полки в упор смотрели три яйца жирафа, темные пятнышки на них напоминали карикатурные глаза.
Бамлети и сам служил витриной. Его вздувшаяся, жирная, угольно-черная кожа блестела стеклянными шариками, вросшими в вязкую плоть. Глаза походили на огромные стеклянные сферы: правый — желтовато-зеленый, а левый — голубой, словно чистое море.
Только Дулия повернула за угол, Сириус и Клейтус начали толкаться, будто намеревались столкнуть друг дружку с сестрой. На самой верхней полке зашатался белый овал.
Без лишних раздумий Дулия вытянула руки, чтобы поймать летящее вниз яйцо. Гладкое и прохладное, оно приземлилось прямо в ладони; по размеру как страусиное, только все усеяно неяркими, словно цвета занимающейся зари, розоватыми и голубоватыми пятнышками. Услышав возглас Маркуса, Бамлети обернулся. Трое мальчишек растворились в толпе, позабыв про сестру.
Дулия замерла от неожиданности. Бамлети приблизился, и на нее повеяло кедрово-лакричным ароматом. Он взял яйцо короткими пальцами, унизанными рядами пресноводного жемчуга, черепашьими яйцами и малахитовыми шариками. Она ни разу не слышала, чтобы он говорил.
Возвращая яйцо на место, Бамлети вытянул руку. По всей длине располагались ряды шариков. Он жестом предложил ей взять один из них.
Стоило ей трясущимися пальцами прикоснуться к его руке, как появился шарик, будто исторгнутый кожей: сфера из янтарного стекла, не больше двух с половиной сантиметров в диаметре и с трещинкой, похожей на луч света, внутри. Она засунула его в карман и дрожащими губами пробормотала «спасибо», волнуясь, как поблагодарить его и при этом не обидеть.
В конце концов решила развернуться и уйти.
Выходя из здания на залитую ослепительным солнцем улицу, она столкнулась с каким-то незнакомцем, и они оба неуклюже растянулись под безысходное «уф!» Дулии.
Все еще пытаясь отдышаться, она кое-как поднялась и протянула руку мальчишке, преградившему ей путь. Но он отказался от помощи и с сердитым видом поднялся сам.
Рядом с долговязой Дулией в неопрятном платье он был похож на фарфоровую куклу: точеная фигура, аккуратно отутюженные брюки и пиджак. Прекрасно осознавая собственную небрежность, она не могла оторвать глаз от его безупречно уложенных черных как смоль волос.
— Смотри, куда идешь! — рявкнул юный незнакомец и уверенно направился мимо нее в здание.
Дулия взглянула на солнце, не обращая внимания на толкотню и движение вокруг. Будучи младшим, седьмым ребенком в семье, она по опыту знала: еды после постояльцев гостиницы останется вдоволь, только вот рассчитывать на что-нибудь, кроме тушеного мяса с хлебом, не следовало. Зато на рынке какие только яства не продавались: тут тебе и кисло-сладкие конфеты из плодов колючки, паровая икра в мешочках, сплетенных из темных полосок морских водорослей, жареные орехи, копченая и вяленая рыба. От одной мысли слюнки потекли, и она нащупала в кармане шарик. Бамлети знал цену своему товару. Но вдруг получится выменять шарик на небольшую порцию чего-нибудь вкусного?
Она направилась в северо-восточный конец рынка, где располагались продуктовые ряды, источавшие многообразие запахов: от корицы и корня акации до короко — крупной соли, которой гномы засаливали оленину. Стоя за прилавком, приютившимся между столом для колки устриц и пожилой женщиной, предлагавшей душистые веточки, торговка Аннелиза собирала остатки жареной рыбы. Дулия знала, что она сворачивалась раньше других товарок и спешила к своему больному отцу, за которым весь день присматривал какой-нибудь подросток.
— Аннелиза, Аннелиза! — Дулия вмиг оказалась рядом и принялась разглядывать корюшку — нанизанную на сосновые палочки жирную рыбу не длиннее большого пальца руки. Оставалось три шампура. — Не дадите ли мне рыбки? Наверное, она вам до смерти надоела.
— А ты мне что? Обещаниями сыт не будешь.
— У меня вот. — По ладони Дулии покатился янтарный шарик, сверкнув солнечным лучом в сердцевине. — Уже поздно, и на ужин мне вряд ли что-то достанется… — В голосе послышалась дрожь.
Аннелиза вздохнула и подтолкнула к ней шампур:
— Вот, возьми. Отдам остальные за пирожки с начинкой.
Довольная обменом, Дулия пошла в сторону гавани, заранее предвкушая, как станет с наслаждением пережевывать кусочек за кусочком рыбу, пропитанную смесью соли и соснового дыма.
Вернувшись домой, она уже было собралась проскользнуть в заднюю дверь «Соленой репы», как ее внимание привлекла растянувшаяся по переулку тень.
— Опять ты! Чего тебе нужно?
Мальчишка, который врезался в нее днем, вышел из сумрака. Его тускло-серый, но хорошо пошитый плащ сливался с тенями, так сразу и не заметишь.
— Хотел купить у тебя одну вещь.
— Правда? — моргнула Дулия. Она совсем не представляла, что могло понадобиться от нее этому богатенькому франту.
— Тебе дал его Бамлети.
— А-а-а! Шарик? Я уже отдала его… — Она осеклась на полуслове, заметив, как сердито он хмурится. — Но можно пойти утром, только обязательно пораньше, до рассвета, и взять его обратно. Сколько бы ты дал за него?
Он расстегнул пряжку, завязывая края плаща у шеи, и вытащил обруч — большое кольцо из железного дерева, унизанное золотыми соцветиями с мерцающими жемчужными сердцевинами, — но сомкнул на нем пальцы, стоило ей потянуться вперед.
— Пойдет, — сказала Дулия. «Хорошо бы его заполучить! — Ни о чем другом она с той минуты и думать не могла. — Сколько книг можно купить на такую штуку в лавке у Дейтла Кранка — книг с одурманивающе-сладким запахом плесени, а потом спокойно читать их под тихим жужжанием залитых солнцем мух. По крайней мере на год ей точно хватит, или даже на подольше, кто знает». — Встретимся на этом самом месте завтра. Пойдем и заберем его обратно. И зачем, интересно, он тебе понадобился?
— У меня с ним кое-что связано, — произнес он ровным голосом. — Что ж, утром так утром. Не подведи меня.
Дулия кивнула и вошла в дом.
Взяла небольшую буханку хлеба, остывавшую на каменной плите под очагом, и съела ее под неторопливую болтовню посетителей таверны, устроившись у камина в общей комнате. Она заснула, стоило барду затянуть бесконечные куплеты «Страшного суда Карам-Сул», и, когда отец потряс и разбудил ее, она, пошатываясь, поплелась наверх — в приглушенном свете пещеры досматривать сны о гномах и огромных каменных городах.
Она встала раньше всех, нащупала и вынула кирпич, скрывавший тайник: три тоненьких серебряных полумесяца. Когда она появилась в переулке, мальчик уже ждал, завернувшись в плащ. Он держался подальше от зловонного мусорного бака с рыбьей требухой и отбросами, которые клевала стая чаек. Два бездомных кота, изнывающие от чесотки и голода, нервно следили за птицами и били хвостами.
— Как тебя зовут? — спросила она. — Меня — Дулия.
— Дион, — отозвался он голосом таким же печальным, как серые тучи, низко нависшие в небе и явно собиравшиеся обрушиться на землю дождем. Судя по жирной грязи на вымощенных булыжником улицах, уже не в первый раз.
Аннелиза жила у Эльфийского леса, маленького, поросшего деревьями и обнесенного остроконечным забором участка земли, где селились эльфы. Иногда их отлавливали на Приз Герцога охотники, получившие особое разрешение, — древнее и священное право, которого удостаивались лишь герои войны и горожане, верой и правдой служившие Табату. Отец Аннелизы принадлежал к первым; рассказывали, что он истребил бесчисленное количество пиратов и получил звание Охотника на эльфов от самого Герцога.
Правда, за последние несколько лет старик совсем одряхлел. Аннелиза, уходя на рынок, запирала его на целый день дома, а вечером отправлялась вместе с ним в Эльфийский лес и смотрела, как он обходит с проверкой капканы на крылатых гуманоидов.
Их покосившийся домик притулился как раз у входа в заповедник. Окна в покрытых красными цветами рамах были занавешены, из трубы вылетали беспокойные клубы дыма. Дулия, заметив их, улыбнулась:
— Она все еще готовит.
Аннелиза открыла дверь. В переднике, рукава закатаны, она явно не ожидала столь ранних гостей.
— Я хочу выкупить шарик обратно, — сказала Дулия.
— Шарик? Зачем? На что он тебе? Давайте, не стойте в дверях, заходите.
Потолок в кухне нависал низко, все помещение пропахло рыбой и дымом. Дулия зажмурилась, на глазах выступили слезы, а Диону, казалось, все нипочем. У плиты, завернувшись в серое шерстяное одеяло, несмотря на изматывающий жар, сидел отец Аннелизы и смотрел на куполовидную проволочную клетку прямо перед собой. В ней билось и жужжало какое-то существо.
— Это эльф? Я думала, никому никогда не удавалось поймать их живыми, — сказала Дулия.
— Он попал в капкан, но не умер при попытке освободиться, как большинство его собратьев. Должно быть, залетел сюда недавно, — объяснила Аннелиза. — Маленький, совсем еще ребенок.
Дулия с интересом смотрела на клетку. Казалось, эльф был сделан из черной сахарной ваты и кожи, полупрозрачные крылышки беспрестанно трепетали. Он так же пристально уставился на Дулию.
— Разве они не говорят? — поинтересовалась девочка.
— Обычно не…
Дион раздраженно оборвал Аннелизу, как ножом отрезал:
— Где шарик?
— Я дала его отцу. Папа, шарик еще у тебя?
Старик не сводил остекленевшего взгляда с маленького эльфа.
— Папа! — Аннелиза сделала вторую попытку, а потом подошла и принялась шарить по его карманам. Отец не обращал на нее никакого внимания. — Потерял, наверное. Здесь нет.
— Где же он мог его потерять? — спросила Дулия.
— Может, пока ловили эльфа. Тогда пришлось постараться.
— Ну что ж. Пойдем попытаем счастья в Эльфийском лесу.
— Эльфы опасны, — сказал Дион. Женщины моргнули. — Я хочу сказать, что в прежние времена они славились своей беспощадностью.
— С тех пор много воды утекло. Городские эльфы служат охотничьим трофеем. Остались только те, кто уцелел на войне, да их дети. А уж после магических чар — вреда от них никакого.
— То есть теперь вы охотитесь на эльфов, чтобы снова восстановить их против себя? — поинтересовался Дион. — Довольно кровожадно, вам не кажется?
Дулия пожала плечами:
— Ты говоришь так, будто Табат тебе и не родина вовсе. Мы и дальше будем спорить о судьбе эльфов или все-таки пойдем искать шарик?
Они вошли в лес через кованые ворота. На их причудливой, замысловатой решетке был изображен давно почивший Герцог, осаждаемый крошечными летящими фигурками.
В лесу сплошь и рядом росли тонкие деревья с темной корой, по земле стлались папоротник и невысокий зеленый кустарник с красными ягодами. Тяжелые дождевые капли с шумом плюхались с листьев деревьев, растущих вдоль тропинки, по которой они шли, а по ногам ползла холодная роса, из-за чего обувь вскоре промокла. Невидимые создания стремглав разбегались в разные стороны. Дулию не отпускало чувство, будто за ними кто-то неотступно следит, и она постоянно вертела головой.
Они направились к центру, где, как указала Аннелиза, начиналась спираль из капканов. Здесь посреди леса находилась окруженная деревьями небольшая поляна.
— Странно, — сказал Дион.
— Что?
— Каждое дерево разной породы. Смотри, это дуб, а там яблоня.
— Аннелиза велела искать белую березу.
— Да, вот только она не упомянула, что одинаковых деревьев здесь нет.
— С какой стати ей говорить об этом?
— Все равно странно.
Они с шумом пробирались туда, где белела береза. Оказавшись на месте, Дулия наклонилась к капкану. Дион протянул к ней руку:
— Осторожно! Свежая грязь!
Но она уже летела в яму, увлекая за собой и его: конечности переплелись, со всех сторон сыпался удар за ударом.
Очнулась она в кромешной тьме, в нос ударил запах земли. От острой боли невозможно было пошевелить ни рукой, ни ногой.
— С возвращением, — прямо в ухе раздался голос Диона.
Тело упиралось во что-то бугорчатое и холодное. Как выяснилось, в самого Диона.
— Как мы здесь оказались?
— Нас притащили эльфы. Ты потеряла сознание, а один я справиться с такой оравой не сумел.
— Оравой? Тогда сюда должны были слететься все местные эльфы!
— Вполне возможно, — согласился он.
Ее нос защемило под его подбородком. На мгновение она притихла.
— Почему ты не дышишь?
— Какой смысл притворяться?
— Что ты хочешь этим сказать?
— Я один из подземных жителей.
— Вампир? Восставший из мертвых.
— Вы, люди, часто нас так называете. Это грубо и несправедливо. Да, если хочешь, — отрезал он.
— И что ты здесь делаешь?
— Что и ты. Ищу шарик.
— Да нет, я о другом. Зачем тебе этот шарик?
На некоторое время воцарилась тишина. Она слышала, как где-то вдалеке капала вода, и уже могла улавливать отдельные запахи: древесный аромат корней, слабые запахи мирры и разложения, исходящие от Диона.
— Это сердце моей матери. Я подумал, если положить его куда-нибудь и хранить при себе, она станет внимательнее ко мне.
— Это шантаж!
— Нет-нет. Я вовсе не собирался рассказывать ей о своей находке. Пусть бы волшебство действовало подсознательно.
— А ты не мог просто попросить ее об этом? Сколько у тебя братьев и сестер?
— У меня их нет.
Дулия пожала плечами:
— Попробовал бы ты пожить с шестью, тогда бы понял, что значит отсутствие внимания. Но я что-то не понимаю — шарик и есть ее сердце?
— Я поднимался на землю купить книги по магии, — начал он. — Это заклинание перемещения. До меня не сразу дошло, что оно сработало. Я оставил шарик в своей комнате, а она взяла и выменяла его на собственные свитки. Дейтл неплохо на нас зарабатывает. Он и отдал шарик Бамлети.
Сквозь темноту пробились шумный шепот и слабое свечение. Сперва свечение казалось ослепляющим, но, как только глаза привыкли, Дулия увидела процессию эльфов. Один держал в руках накаленную добела пористую массу, освещавшую узкий туннель.
Двое эльфов разрезали веревку на ногах, и они, согнувшись пополам, чтобы не задеть головой потолок, и пошатываясь, побрели вперед, пока не уперлись в большой зал. Здесь Дион смог вытянуться в полный рост, Дулии распрямиться не удалось.
Обрюзгший эльф восседал на куче белых коробок размером с кулак. В пещеру все прибывали эльфы, трепет их крылышек создавал монотонное, заунывное сопровождение.
— А теперь говорите! — приказал главный эльф, устремив на них властный взгляд. — Вы выполните наши требования!
— Э-э-э, как скажете, — отозвалась Дулия. — Что мы можем сделать для вас, сэр, мэм?
— Вы найдете и спасете нашего пленника!
— Конечно. Мы искали тут один шарик…
— Молчать! — решительным жестом прервал ее главарь. Стоявший сбоку от нее эльф дрожащей рукой бросил шарик на неровный пол пещеры. — В нем живет душа! Она будет уничтожена, если не вернетесь!
Заметив решительное и сердитое выражение на лице Диона, Дулия простонала про себя, но послушно кивнула.
Предводитель эльфов сверкнул глазами напоследок, и их вытолкнули в земляной коридор, заставив ползти остаток пути. Лаз вывел их на поверхность прямо к воротам, где он был прикрыт спутанной рыболовной сетью.
Аннелиза уже давно ушла из дому.
— Ключа у меня нет! — прокричал изнутри ее отец.
— Может, подождем, пока она вернется? — предложила Дулия.
Дион покачал головой, приложил ладони к двери и с напряженным выражением лица зашептал.
— Что ты делаешь?
— Замолчи, ты мешаешь мне сосредоточиться. Это заклинание для открывания дверей.
Из кончиков его пальцев вылетели искры и выстроились вокруг замка. Раздался еле слышный щелчок — и дверь открылась нараспашку. Они вошли.
— Мы пришли за эльфом, сэр, — объяснила Дулия.
Старик беспокойно поглядывал то на них, то на дверь.
— А что я получу за него? — спросил он.
— Сдается мне, вы были бы не прочь выбраться наружу, сэр, — предположил Дион.
— Мы не можем так поступить! — прошептала Дулия. — Аннелиза разозлится! А вдруг с ним что-нибудь произойдет?
Дион ничего не ответил, он по-прежнему смотрел на старика, вцепившегося в клетку.
Дион и Дулия вернулись в центр Эльфийского леса, обходя стороной зияющую яму. Опустившись на колени, они поставили проволочную клетку на землю, открыли дверцу и отошли назад.
Эльф нерешительно завис в воздухе у дверцы, видимо, до конца подозревал неладное. Потом стремительно, так что они и глазом не успели моргнуть, сорвался с места и исчез в подлеске.
Дулия и Дион оглянулись на ловушку. Шарик лежал сверху.
В результате горячих споров Дулии удалось уговорить Диона взять ее с собой в туннель, пролегавший под рынком. Она старалась запоминать дорогу, делая в уме метки для будущих экспедиций, но в конце концов запуталась в лабиринте поворотов и изгибов.
Чем дальше они заходили, тем теплее становилось, влажность усиливалась. Стены облепил грибок: крапчато-багрянистые наросты походили на гигантские уши и усики, унизанные жемчужными каплями. На сводчатых потолках сияли звезды, напоминавшие скопления разъевшихся, неподвижных светлячков.
— Здесь везде так? — спросила она Диона.
— Что значит «так»?
— Как будто в музее среди ночи. Или в церкви.
— А-а-а! Да, всегда и везде. — Он задумался ненадолго. — Никогда не обращал внимания. Но здесь уж точно намного тише, чем наверху, где ты живешь.
— Звучит прекрасно, — вздохнула Дулия.
— Вовсе нет.
— Как нет? О таком покое и тишине можно только мечтать! И денег на покупку книг предостаточно — покупай сколько влезет.
Он снова покачал головой, пробираясь сквозь заросли высоких голубых сталагмитов. Плеск и хлюпанье воды под ногами отдавались эхом со всех сторон.
За углом стены пещеры разошлись вширь. Теперь они стояли у стены просторного вытянутого зала с огромным карнизом из капель известняка, обрамлявшим подземное озеро. Скользкий проход вдоль пещерной стены вел наверх, опускался и снова поднимался к выступавшей площадке с противоположной стороны, где слабо мерцал одинокий огонь.
Когда они подошли поближе, Дулия увидела, что свет исходит от серебряного фонаря, висевшего рядом с каменной скамьей с высокой спинкой. На ней сидела завернувшаяся в белое женщина и смотрела на медленную водную рябь. Рядом с ней на скамье лежал ворох свитков, похожих на хрупкие листья в безветренную погоду.
— Кто это? — приглушенным шепотом спросила Дулия.
— Моя мать, — ответил Дион и украдкой засунул руку в карман. Он направился к женщине вдоль берега озера.
Она подняла глаза. Ее профиль был прекрасен, как молодой месяц, плывущий по небесной глади, а волосы ниспадали водопадом из светящегося вулканического стекла. Женщина обвела их безразличным взглядом и снова уставилась на воду.
— Мама, — обратился к ней Дион, — это моя подруга Дулия. — Он наполовину высунул руку из кармана, пальцы крепко сжимали шарик, но выражение вежливой отчужденности на лице матери не изменилось.
Мертвую тишину нарушали только плеск и вздохи воды да дыхание Дулии. Они стояли молча: Дион и Дулия смотрели на женщину, которая словно уже забыла о них.
Казалось, прошла целая вечность. Дулия встрепенулась, пытаясь избавиться от тяжести в ногах.
— Будешь подниматься наверх, все время держись тропинки, идущей влево, — сказал Дион. — Она выведет тебя к сточной трубе с лестницей.
Дулия хотела что-нибудь сказать, попрощаться, но от непоколебимой сосредоточенности, с которой Дион смотрел на женщину, неподвижно сидевшую с неменяющимся выражением лица, у Дулии слова застряли в горле.
Повернувшись, она направилась домой, в многолюдные комнаты над «Соленой репой». Здесь ее встретили приветственными криками, а там, далеко внизу, застыла тишина.
ДЖЕЙ ЛЕЙК
Обещания. История Бессмертного города
Пер. О. Полухина
Раньше у нее было имя. Давно, в детстве. У всех детей были имена, пусть даже их звали просто Козявка, Малютка Джо или Секста. Однако некоторые из тех, кто жил на бурлящих улицах Бессмертного города, обращались с именем, как с плащом: хотели — носили, хотели — снимали. А другие считали, что имя можно отрезать, словно палец, раздавленный колесом телеги, чтобы не началась гангрена.
Хлыст щелкнул возле уха Девочки. Так близко, что она почувствовала жжение, но без пылающей боли восходящего удара.
На этот раз.
Девочка распростерла тело вдоль стены, опустив подбородок как можно ниже и прижавшись лицом к шершавому камню. Она ждала, пока Сестра Наставница осмотрит ее. В настоящий момент под присмотром Сестры находились пять из них. Каждую звали Девочка. Каждая была выше сломанного крюка, который торчал из разрушенной стены, тянувшейся вдоль аллеи Пирреа. И каждая ниже ржавой железной сваи, стоявшей перед фонтаном Надежды в том месте, где переулок, расширяясь, превращался в Хаммер-лейн. Именно на протяжении этого времени они и оставались на попечении Сестры Наставницы: от крюка до сваи. Так было заведено у трибад.
— Как тебя зовут? — спросила Сестра Наставница, подняв глаза. Ее голова находилась вровень со ступнями Девочки.
— Девочка, — прошептала та, хотя женский голос в ее голове произнес другое имя.
— Куда ты идешь?
Простота! Это же катехизис.
— От крюка до сваи.
— Считаю до тридцати. Твоя задача — добраться до крыши, — сказала Сестра Наставница.
Все же не совсем катехизис. Девочка начала карабкаться, понимая, что задание невыполнимо: над ней была стена высотой по крайней мере в пятикратный рост человека, а остальные Девочки ползли все то время, пока она отвечала на вопросы.
На неторопливое «одиннадцать» Сестры она приблизилась к окну. Девочка взбиралась по боковине оконной рамы, когда ей пришло в голову, что Сестра изменила правила. Главным было попасть на крышу, не важно, ползешь ты по стене или нет.
С этой единственной мыслью Девочка ввалилась в пыльную комнату. Хлыст ударил по оконной раме, однако не достал до ее босых ног. Она вскочила на ноги, продолжая считать про себя, и стала искать какие-нибудь ступени или приставную лестницу, но время вышло, и ее избили до полусмерти за неудачу и неповиновение одновременно.
Больше никогда, пообещала она себе. Никогда в жизни.
Каждая из Девочек в свое время сделала плеть. Шесть девочек, а их тогда было шесть, погрузились в реку Салтус, чтобы поймать пресноводную акулу. Одна Девочка ужасно пострадала от зубов хищника. Ее вытащили всю в слезах, с окровавленными обрубками вместо ног. Больше ее никто не видел. Остальные освежевали свою добычу, обработали жесткую, ни на что не похожую кожу, разрезали ее на длинные полоски и переплели их между собой. Для рукояти девочки использовали человеческие берцовые кости, которые пришлось искать или добывать другим путем на собственное усмотрение. (Свою Девочка вырезала из трехдневного трупа.) Ленты из акульей кожи приматывались к рукояти медной проволокой, которую, к счастью, выдавали в готовом виде, хотя, как Девочка предполагала, только потому, что в Бессмертном городе не было рудника, куда их можно было бы послать за медью.
Она вплела свое имя в рукоять, оставив промежутки между кольцами проволоки в тех местах, где могли оказаться буквы. Это был код, известный только Девочке, — тайна, которую ее прежнее «я» прошептало будущему в память о безмолвных обещаниях отомстить и начать лучшую жизнь. «Ты — это ты», — сказала она себе тогда. Но именно эту идею выдирали из нее раскаленными щипцами Сестринской общины.
Всякий раз, когда Сестра Наставница ставила синяки или рассекала кожу на спине, шее, ягодицах, бедрах Девочки, та знала, что за этими ударами стоит сила ее потерянного имени.
Она никогда не спрашивала других Девочек, хранят ли они такой же секрет. Возможно, они проливали кровь напрасно. Она — нет.
Трибады и в самом деле избили ее до крови перед огнем, рычавшим в металлической жаровне. Раскаленное железо светилось, словно горящий взгляд, в темноте летней ночи. Кожа сходила узкими красными полосками, а сестры орали на нее: «Как тебя зовут? Кто ты? Зачем пришла сюда?»
— Девочка, — повторяла она, пока шевелился язык. Это было единственное слово, которое она произносила, независимо от того, о чем ее спрашивали. Она не доставила им удовольствия. Напротив, запомнила каждый удар, на будущее.
А потом Сестра Наставница сбила ее с ног и закинула себе на шею, как кусок мяса. Они тащились вдоль залитых лунным светом улиц, встречая на своем пути нищих, проституток, мусорщиков, и никто из них не поднял лица, темного или бледного, и не узнал Девочку, смотревшую на мир снизу вверх налитыми кровью глазами.
Дальше начались лестницы. Лестница за лестницей. Лестница за лестницей. Они взбирались к Садгейту — огромному, чудовищному, пустому замку, примыкавшему к юго-западной стене Бессмертного города. Он нависал над рекой, кварталами бедноты и опутанным виноградными лозами лесом, который спускался дальше на юг. Можно было по запаху пыли понять, куда они попали: она чувствовала холодную крошку камней, рассыпавшихся от старости, вместо взвеси из грязи, частиц кожи и пыльцы, доносимой свежим ветром из-за стен города.
Даже если бы Сестра Наставница ничего не сказала, она бы все равно догадалась, где находится. Тогда и всегда.
На крыше (точнее, на одной из крыш, поскольку Садгейт, как некий дворец мечты, разветвлялся в разные стороны и был окружен рвом) лунный свет казался почти фиолетовым. Зловоние жира и дерьма, исходившее из Садгейтских кварталов, копошившихся где-то внизу, смешивалось с испарениями, которые испускали Салтус и ручьи, сбегавшие с Гелиограф-Хилл и от дворца Лаймрок. Сестра Наставница опустила Девочку на землю, и теперь они стояли на узком выступе, глядя назад, на северную и восточную части Бессмертного города, и пронизывающий резкий ветер разрывал их обеих на клочки.
Самым заметным строением, располагавшимся посредине открывшегося перед ними пространства, был огромный дворец Лаймрок, состоящий из множества зданий. В свете луны поблескивали позолоченные и черепичные своды Темпл-Дистрикт. В северной части города на горизонте вырисовывался Рагмейкейрс-Кьюпола, чьи белые в полоску стены производили сейчас впечатление тени на тени. Дымовые трубы, фабрики, особняки, коммерческие постройки заполняли Бессмертный город. Забравшись почти на самую высокую точку Садгейта, они оказались практически на одном уровне с верхушками холмов и самых высоких зданий.
Сестра Наставница назвала имя. Знакомое имя, какое носят сотни младенцев женского пола в Бессмертном городе. Имя, вплетенное в рукоять ее плети. Девочка ничего не сказала, даже не моргнула, даже не повернулась навстречу полузабытому звуку.
— Ты выше сваи? — спросила Сестра.
Тут Девочка повернулась, чтобы посмотреть. Длина ее собственных ног ничуть не увеличилась за последний день или два.
— Ты выше сваи?
Как всегда, не было и намека на то, что Сестра Наставница подразумевала на самом деле. Она ставила задачи, задавала вопросы, предъявляла требования и осуществляла наказания. Когда Девочка просыпалась утром, это уже само по себе было наградой, поскольку означало, что у нее есть будущее.
Это было больше, чем имели некоторые, в переулках, ночлежках и грязных чердаках той части города, где она когда-то жила.
— Ты выше сваи?
Ни один вопрос никогда не задавался больше трех раз.
— Я выше Бессмертного города, — ответила Девочка.
Сестра Наставница улыбнулась:
— Тогда ты свободна, если сможешь улететь.
Нечто новенькое. Нечто за пределами боли и обычных заданий. Девочка посмотрела на черепичный скат крыши, круто сбегавший вниз от того выступа, на котором они стояли. Так круто, что под таким углом недостающие кусочки черепицы были практически незаметны. Расстояние до мостовой переулка, который тянулся вдоль стены, больше чем в сто раз превышало человеческий рост.
— Но мне не дали крыльев, — прошептала Девочка.
— Значит, мы потерпели с тобой неудачу.
Секунда понадобилась Девочке, чтобы понять смысл сказанного. Не она потерпела неудачу, а Сестра Наставница и трибады потерпели неудачу с ней.
«Я не отступлю», — произнесла она мысленно. Девочка раскинула руки, подняла глаза к бледной луне, постояла так мгновение, потом, прошептав имя, кинулась в пустоту воздуха, в щербатую пасть каменной мостовой далеко внизу.
— Сделай это еще раз, Младшая Серая Сестра, — подначивала ее Сестра Архитектор.
Она взвесила ситуацию. Ребенок шевелился в животе, превращая ее в тяжелую неуклюжую кипу хлопка. К тому же боль в паху создавала серьезную угрозу. Она не могла потерять ребенка, но и свое положение тоже потерять не могла.
Младшая Серая Сестра окинула взглядом свою партнершу по этому заданию. Другая крыша, другой вечер, другая трибада, — однако она очень хорошо помнила ту ночь, когда получила новую жизнь.
— Ведь речь не о доверии, — сказала она. — И не о том, чтобы избавиться от меня.
— Нет, — улыбнулась Сестра Архитектор, и ее глаза сверкнули в бледном лунном свете. — О гордости, я полагаю. Ты уже достигла своей цели.
Цель в данном случае была такова: пробраться по крышам через квартал, от булочной на Четвертой улице до Камбитс-Холл на Мальдорор-стрит, а потом забраться на фальшбашню старой канцелярии Водного управления, прыгнуть на другую сторону улицы и добежать до края южной стены дворца Лаймрок. А оттуда уже было предельно просто перелезть через крепостной вал и проникнуть в здание. Главная трудность заключалась в разбеге и прыжке — элементах паркура, которые в общине трибад выполнялись Серыми Сестрами с беспощадной точностью. Фальшбашня представляла собой одно из двух или трех тяжелейших препятствий, преодолеваемых Сестринской общиной.
Залезать на фальшбашню за несколько дней до рождения ребенка особенно тяжело. Это был труднейший вариант прохождения трассы. Никто не мог взобраться наверх, прыгая с обычной скоростью и точностью, в то время, когда живот наполняла и раздувала плескавшаяся там жизнь.
А Младшая Серая Сестра могла. Она добыла тайную печать Третьего Советника, чтобы это доказать. Не ради самой кражи (трибады имели собственную копию печати, тщательно выполненную до мельчайших деталей, таких как потертости по левому краю и три зазубрины на нижнем лепестке розы), а ради достижения цели.
Беременная и дееспособная.
К этому моменту она уже до некоторой степени считалась легендой. Если она сделает то, что предлагала Сестра Архитектор, и у нее все получится, то легенда упрочится.
— Тщеславие, — сказала Младшая Серая Сестра, выгнувшись назад, дабы ослабить напряжение в спине. — Я уже доказала все, что было нужно.
— Мм… — разочарованно произнесла Сестра Архитектор, однако спорить не стала. — Возможно, ты не настолько крута, как утверждают некоторые Сестры помоложе.
Еще одна проверка, догадалась она. Однако все правильно. В общине существовало множество подразделений: Красные, Белые, Синие, Черные Сестры и так далее. Сестра Архитектор относилась к Синим Сестрам и была одной из представительниц профессионального клана, хотя свое мастерство тратила в основном на разработку и модификацию паркурных трасс, а не на строительство новых сооружений.
Только Серых учили умирать и убивать. Только Серым выдавали самое грозное и острое оружие. Только им доверяли его использовать. Только Серых муштровали от крюка до сваи в секрете и неведении относительно того, что их отвага может стать достоянием общественности.
Только Серые Сестры становились Главными, Самыми Главными и Наиглавнейшими Сестрами, которые вели трибад в неопределенное будущее.
Она гордо улыбнулась при этой мысли.
В животе запульсировало, мышечный спазм застал Младшую Серую Сестру врасплох. Она втянула в себя воздух.
Сестра Архитектор потянула ее за руку:
— Сестра Акушерка ждет тебя в Тихом доме.
— Я… — Младшая Серая Сестра замерла, пытаясь справиться с нахлынувшей болью, которая была до того резкой, что даже перерастала в тошноту. Она глубоко-глубоко вздохнула. — Да.
Главная Сестра (Серая Сестра, как и все Главные Сестры) сидела на краю кровати Младшей Серой Сестры. Главная Сестра была почти грузной женщиной, что редко встречалось среди трибад, с песочными с проседью волосами и блестящими серыми глазами.
— Ты стала матерью, — сказала она. — Хотела бы взглянуть на дитя?
Младшая Серая Сестра думала долго и усердно над этим вопросом. Ее грудь требовала ребенка, источая светлую голубоватую жидкость. Ее чресла разрывались на части. Даже кровь, кажется, молила о встрече с малышом.
Вопрос был очередной проверкой, хотя в последнее время она все чаще и чаще сама себя экзаменовала.
— Хотела бы, но не стану этого делать, — ответила она Главной Сестре.
Та взяла Младшую Серую Сестру за руку и крепко ее сжала.
— Ты можешь, ты ведь знаешь, — шепнула Главная Сестра.
Младшей Серой Сестре показалось, что она услышала волнение в голосе Главной Сестры, отзвук былых переживаний. Вполне возможно: трибады не были ни чудовищами, ни призраками, они были просто женщинами определенного предназначения, которые жили в стенах Бессмертного города.
— Я могла бы подержать ее… — Младшая Серая Сестра снова замолчала, понимая, что даже не знала, кого она родила: мальчика или девочку.
Девочку, решила она. Ее дитя должно быть девочкой, как когда-то она сама.
— Я могла бы подержать ее, только не думаю, что потом смогла бы ее отдать.
— А разве это так плохо? — Волнение в голосе Главной Сестры теперь было почти неприкрытым.
Она перестала себя контролировать, и сейчас в ней, возможно, кровоточила рана, полученная несколько десятилетий назад.
Она держалась за свою боль, понимая, что она должна принять и ее, если ей суждено когда-либо все исправить.
— Не плохо, Главная Сестра, нет, если бы моей целью было стать Красной Сестрой и заботиться о малышке самостоятельно или даже обучать Девочек вместе с другими Сестрами Наставницами.
— Хорошо. — Главная Сестра снова взяла под контроль свой голос. — Значит, ты хочешь выбрать самый трудный путь?
Это был другой вариант. В общину трибад входило множество Коричневых Сестер — уличных оторв и рэкетирш. Они трясли удачливых дельцов, а неудачливых еще больше, держали в узде враждующие банды, сохраняли некое подобие порядка на улицах и в тех районах, где редко появлялись представители власти. Эти женщины были самыми публичными фигурами у прятавших свои лица трибад и выполняли большую часть общественных обязанностей.
Младшая Серая Сестра могла бегать по крышам, хватать бандитов и стеречь свой город в качестве Коричневой Сестры до конца дней. Но существовал единственный способ стать Главной Сестрой, Самой Главной или даже (и особенно) Наиглавнейшей — пойти по самому трудному пути.
Она взяла в руки истекающие соком груди, сожалея о чувстве нежности и одновременно счастья, которое она испытывала. Однажды их касался мужчина, в течение нескольких часов, в ту ночь, когда она зачала ребенка среди разрывающей боли, слез и необычной трепещущей радости. Она все еще гадала, кем он был, но, по крайней мере, он был с ней ласков.
— Я готова.
— Пошлю за огнем и ножом.
— И за чернилами тоже, пожалуйста, — попросила Младшая Серая Сестра. — Предпочитаю сделать все за один раз.
На лице Главной Сестры мелькнуло странное выражение, совершенно непонятное, если не знать ситуации. Большинство женщин ждали, когда заживут раны, перед тем как послать за чернилами. Нанесение татуированной Дороги Души поперек плоских морщинистых шрамов на груди Главной Сестры было одним из самых значительных ритуалов общины трибад. Но также одним из самых болезненных, поскольку перед огнем и ножом женщине давали опиум, а перед чернилами — нет.
Младшая Серая Сестра хотела пройти через ритуал, испытав как можно больше боли, она собиралась уничтожить свою женственность в первое же мгновение материнства, чтобы встать в ряды Сестер, защищавших их мир.
Однако она удивилась тому, что жаровню и длинный нож держали наготове и даже Сестру Исполнительницу с чернилами совсем не пришлось ждать.
Кто-то знал. А может, все знали. Как знали в ту ночь, стоя на крыше прямо под ней, когда она прыгнула в фиолетовый лунный свет.
Хотя это был Тихий дом, в ответ на ее вопли собаки лаяли в радиусе трех улиц. Младшая Серая Сестра кричала в первый и последний раз в своей жизни.
Она посмотрела на длинный, узкий бархатный чехол, который ей протянула Наиглавнейшая Сестра. Они сидели в кафе на крыше в квартале Металл-Дистрикт. Здесь коротко подстриженные женщины, затянутые в серую кожу, не вызывали пристальных взглядов. На столике стояла электрическая лампа. Она гудела и потрескивала, проливая слабый свет в вечернем сумраке. Дул прохладный ветерок, приносивший с собой дымку и отдаленные рокочущие стенания реки Салтус.
— Ты знаешь, что существует еще одно испытание? — спросила Наиглавнейшая Сестра. Это была небольшая женщина, рельефные мускулы которой больше подошли бы бультерьеру, чем изящной даме с Гелиограф-Хилл.
— Всегда существует еще одно испытание, — пожала плечами Главная Сестра. Даже сейчас, год и месяц спустя, грудь беспокоила ее всякий раз, когда на улице холодало или когда она делала неловкое движение. Иногда, просыпаясь от боли, она думала, будто грудь полна молока, и в течение короткого расплывчатого мгновения между сном и бодрствованием наслаждалась этим ощущением, пусть и иллюзорным. «Больше никогда» все глубже вползало в ее будущее. — Жизнь — это всегда еще одно испытание, — добавила она.
— Да, да, именно так мы говорим нашим Девочкам. Отличная тема для дискуссий — есть о чем пошептаться после отбоя. Но на самом деле жизнь нам дана, чтобы жить. И, принимая это во внимание, только ты одна достигнешь чего-то большего.
— А вы когда-нибудь прекращали испытывать себя? — спросила она Наиглавнейшую Сестру.
— Нет. — Наиглавнейшая Сестра улыбнулась. — Но моя Сестра Наставница все время называла меня дурочкой и мечтательницей.
Главная Сестра взяла чехол. По форме и по весу она уже поняла, что в нем: ее старая плеть из акульей кожи. Где на рукояти под медной проволокой колечком свернулось ее прежнее имя.
— За последние два года три Сестры выбрали самый трудный путь, — произнесла Наиглавнейшая Сестра. Она обхватила ладонями чашку с кавой, однако к губам ее не поднесла. — За тот же самый период четыре Главные Сестры обрели покой под могильными плитами и еще одну перевели к Синим Сестрам в связи с преклонным возрастом. — Чашка медленно повернулась в ее руках. — Уверена, ты проходила арифметику.
— Да, — ответила Главная Сестра, — я умею считать.
— Нет, мы не вымираем. Вовсе нет. — Чашка снова повернулась. — Но мы можем потерять остроту нашего клинка и со временем превратиться всего лишь в монашеский орден, помогающий беднякам и жертвам государственной машины.
— А если бы мы перестали управлять публичными домами, охранять грязные притоны и обирать мелких торговцев?
На этот раз, перед тем как ответить, Наиглавнейшая Сестра отхлебнула из чашки.
— Мы защищаем и помогаем. Это не означает улучшения или исправления. Но если бы мы не делали этого, то делал бы кто-то другой. Всегда найдутся желающие. Например, какие-нибудь мужланы, которым нет дела до женщин и которые не станут отрывать яйца тем самцам, что охотятся за детьми и разбивают тазовые кости шлюхам. Они просто будут пересчитывать деньги и выбрасывать очередное тело на съедение акулам. Но не будут давать приют и образование бездомным детям и не будут проверять наличие мяса в суповых котлах в ночлежках.
«Но они не будут и избивать до крови Девочек, растущих от крюка до сваи», — подумала Главная Сестра, но вслух ничего не сказала. Как она всегда и предполагала, существовала некая печальная мудрость во всем, что делали трибады.
— Существует еще… кое-что, — добавила Наиглавнейшая Сестра. — Ты пока не постигла всего, но поверь мне, существует еще кое-что. Многое дремлет под камнями и прячется за стенами в Бессмертном городе, и это многое не видно при свете дня. И тому есть веские причины. Наряду с остальными мы храним эти секреты. Но только Главные Сестры. И ты должна пройти последнее испытание, чтобы твой титул перестал быть просто почетным званием.
Главная Сестра вытащила из чехла плеть. По воспоминаниям она представлялась ей огромной, на деле же оказалась маленькой, почти игрушечной. Ей приходилось орудовать инструментом и похуже, забавляясь с Сестрами, которые питали пристрастие к жестоким развлечениям.
Но она никогда не пробовала такую штуковину на детях.
— В этом… — начала Главная Сестра, но замолчала. Она глубоко вздохнула. Потом подняла плеть, и рука ее задрожала. — В этом наша неправота.
— Нет. — В голосе Наиглавнейшей Сестры послышалась бесконечная, внушающая благоговение нежность. — В этом заключается неправота мира. И мы вынуждены воспитывать некоторых из наших Девочек таким образом, чтобы они приобретали достаточно сил и могли ему противостоять.
Они помолчали минутку, пока официант проходил мимо с корзиной горячих булочек, приправленных кардамоном и морской солью. Он не увидел плеть в руке Главной Сестры, как никогда ничего не видел. Именно поэтому некоторые Сестры из общины трибад встречались здесь время от времени для переговоров.
— Теперь послушай меня: должна случиться большая несправедливость, — сказала Наиглавнейшая Сестра. — Это последнее испытание. Квинтэссенция нашего пути. Ты должна была подарить жизнь, перед тем как взять ее. Это ты уже сделала. А сейчас надо отнять жизнь, и тогда ты получишь власть над жизнью и смертью других людей. Ты должна совершить убийство ради Бессмертного города, ради трибад, ради себя самой.
— Вот этим? — спросила Главная Сестра. — Неприятное и грязное дельце.
— Да, вот этим. Таким образом, ты пройдешь полный круг, полностью избавившись от своего имени. — Наиглавнейшая Сестра опустила кружку. — Если не сможешь, то по-прежнему будешь Главной Сестрой. В другие времена ты бы осталась только Серой Сестрой, но сейчас мы испытываем слишком большую нужду. Однако ты никогда не поднимешься до Самой Главной Сестры или Наиглавнейшей и никогда не узнаешь глубинных секретов, которые мы охраняем. И никогда не сможешь приставить нож к шее человека, ни своей рукой, ни своим приказом. — Она встала. — Приходи, когда покончишь с ней. Сегодня вечером или спустя полжизни — приходи.
— С кем? Кто я такая, чтобы убивать? — Главная Сестра ненавидела страх, трепетавший в ее собственных словах.
— С Девочкой, которой ты могла бы быть, — объяснила Наиглавнейшая Сестра. Голос ее звучал отстраненно, словно шум неизвестного моря. — Принеси мне голову убитой тобой Девочки, и с испытаниями навсегда будет покончено. Нищенки или дочери градоначальника, мне все равно.
И она исчезла. Только ее чашка еще слегка дребезжала на столешнице.
Главная Сестра приблизилась к краю крыши, где кованая железная ограда с рисунком из роз и змей защищала от падения. Она постояла там, наблюдая за парой тяжеловозов, которые медленно тянули вдоль ночных улиц телегу с отходами. Месяц был совсем узким, однако омывал все окрестности порфирным серебром.
В Бессмертном городе насчитывалось сто тысяч жителей, подумала она. Скорее всего, треть из них — дети, половина из которых — девочки. Почувствует ли улей пропажу одной пчелки? Будет ли дереву недоставать одного яблочка?
Она плакала в лунном свете, ее груди болели, и ей казалось, она чувствует, как по татуированным спиралевидным шрамам течет молоко. Не существовало способа остановить все это, кроме как стать тем, кого она больше всего ненавидела. Не было возможности выполнить обещания, которые она давала себе в прошлом, кроме как нарушить их и пролить кровь.
И виноваты в этом не трибады. Виноват мир.
Она медленно потянула за медную проволоку на рукояти плети. Имя той маленькой Девочки, которая была меньше сваи, посыпалось искорками вниз, туда, где нищие каждый день подметали мостовую за жалкие объедки. Она разматывала проволоку до тех пор, пока навсегда не забыла имя, а с ним и обещания, пока слезы не высохли на ее лице и нечему стало капать на проволоку.
Главная Сестра перепрыгнула через ограду и приземлилась с тройной опорой на камни мостовой. Если уж она решила охотиться на девочку, то собиралась взять ее из самого богатого, самого знатного дома Бессмертного города. Ни один бедняк не должен был пострадать из-за нее.
«А потом — больше никогда», — пообещала она себе. Главная Сестра не обратила внимания на глухой звон эха, долетевший из будущего.
ГРЕГ ВАН ЭКХАУТ
Рынок призраков
Пер. О. Полухина
Ему пять лет. Лезвие коньков со скрежетом разрезает лед. Он думал, что будет больше падений, однако катание на коньках оказалось проще, чем он думал.
А теперь ему девять. Мяч прорезает сетку кольца. Он ловит отскочивший от земли мяч и снова бросает его. Попадание, отскок, новый бросок.
Четырнадцать. Он собирает в маленькие голубые кучки ошметки ластика, а часы тикают неумолимо. Осталось еще двадцать вопросов.
Семнадцать. Застежка ремня безопасности впивается ему в поясницу, когда над ним склоняется парень, который нервничает еще больше, чем он сам.
Ему девятнадцать. Попадание, отскок, новый бросок.
И двадцать два. Старше он уже не будет. В парке рано стемнело, но это его не тревожит. Он знает дорогу, кроме того, приятно остаться наедине со своими мыслями.
Какой-то звук за спиной. Это шаги?
Каждый третий вторник месяца под мостом Вашингтон-стрит-бридж торгуют призраками. Если вы хотите сделать выгодную покупку, нужно приходить на рынок пораньше, до того как солнце успевает прогреть день.
— Эй, хочешь быть страстным любовником?
Я пожимаю плечами:
— Кто не хочет?
За раскладным столом в палатке, сооруженной из пластиковых труб и мятого синего брезента, сидит она, похожая на Венеру Виллендорфскую,[7] в футболке с портретом Че Гевары.
— Некоторые люди боятся быть страстными любовниками, — говорит она, показывая пустую на первый взгляд пивную бутылку, запечатанную воском. — Этого я знала лично. Он был моим соседом. Произвел на свет семнадцать детей. Неплохо, да? — Она подмигивает мне. — Занимался этим самым, когда его сердце разорвалось.
— Как романтично, — отвечаю я, беру у нее бутылку и поднимаю к серо-лиловому небу. Внутри ничего не видно. — Только я бы не назвал его страстным любовником. По мне, он был просто-напросто мужланом, который продыху не давал своей жене.
Она выхватывает у меня бутылку:
— Ты можешь поискать товар в другом месте.
Я собираюсь продолжить этот вдохновенный спор торгующихся, но тут голос в моей голове произносит: «Тупик».
Я натягиваю свою шерстяную шапку и иду дальше.
Есть на рынке отсек, который официально не является частью торговой зоны. Если пройти дальше под мост и поднять глаза, взору предстанет черно-зеленая путаница из опор и креплений, похожая на гигантскую паутину. Звук машин, громыхающих по настилу, смешиваясь с перекатыванием речных волн, напоминает шум крови, который слышится, стоит заткнуть уши. Следуйте до этого места, и там вы обнаружите закуток, отгороженный забором из проволочной сетки. В заборе есть ворота с замком, но замок сломан, и если вы об этом знаете, то спокойно проникнете внутрь.
Здесь можно совершить выгодную сделку.
Кое-кто из продавцов готовит себе завтрак, разведя огонь в мусорных ведрах, и в воздухе разливается запах чеснока, капусты и рыбы. Откуда-то доносятся пронзительное треньканье струнного инструмента и стук барабана.
Я подхожу к мужчине, сидящему на переносном холодильнике «Колман». Это старик ростом с ребенка. Лицо у него истертое и блестящее, словно чересчур усердно наполированный башмак. Он улыбается мне сияющими зубными протезами.
— У меня есть оружие, — говорит он, и его руки шарят в карманах куртки.
— Угу. — Я делаю шаг назад. — Хорошо.
— Мы можем поладить, — продолжает он, — но только попробуй свалять дурака, и я продырявлю тебе грудь. — Он деловито запрокидывает голову и делает основательный глоток из банки «Доктора Пеппера».
— Вероятно, мне стоит обратиться к кому-нибудь еще, — отвечаю я.
Он вынимает руку из кармана, и я дергаюсь. Но рука пуста. Он машет ею, показывая, чтобы я уходил.
— Давай проваливай, — говорит он. — У них ничего нет. Лишь всякое барахло из дома престарелых. Старое дерьмо. Сплошной обман.
Типичное заблуждение, будто молодые и свежие лучше старых. Люди отдают бешеные деньги за выдохшихся младенцев и детей постарше, а на восточной стороне даже действует шайка, которая получает от докторов сведения о смертельно больных малышах. Полная чушь. Вроде голландских тюльпанов.
— Считаешь меня за идиота? — спрашиваю я старика. — Я могу распознать стоящую вещь.
Он внимательно оглядывает меня, словно портной, оценивающий покрой костюма, и говорит:
— Ха! Ну ладно. И что же ты ищешь?
Некоторые вдыхают исключительно дух тех, кто умер при ужасных обстоятельствах. Других интересуют лишь маленькие девочки, или казненные заключенные, или же хрупкие нервные женщины с затуманенным лекарствами сознанием. Разные заскоки бывают.
— Ты читаешь газеты? — задаю я вопрос. — Слышал, что случилось с тем парнем в Дамп-Хилл?
Выражение лица у старика не меняется. Он чуть пожимает плечами.
Я продолжаю:
— Говорят, его мучили. Отметины на запястьях, ожоги от сигарет — короче, полный набор. Бутылки, должно быть, просто пели здесь. — (Призраки приходят в восторг, когда узнают, что к ним скоро присоединится очередной их собрат. Они взывают к себе подобным.) — Ты в курсе событий?
Жертвы убийств. Удовлетворение подобных причуд незаконно. Отправят за решетку на десять, а то и на пятнадцать лет.
— Не понимаю, о чем ты толкуешь, — говорит старик.
Я пристально смотрю на него. Удивительно, как долго он способен не мигать.
— Правда? У тебя нет ни единой его частички? Хорошо. Уверен, у кого-нибудь еще найдется.
Я показываю ему уголок пачки сотенных купюр, перетянутых резинкой. Толщиной в дюйм.
Ого, вот оно! Крохотные искорки зажигаются в его глазах. Он заглядывает через мое плечо.
— Мне не нравится твой вид, — заявляет он.
Сотенные снова исчезают в кармане.
— Как хочешь. Наслаждайся своим «Доктором Пеппером».
Я успеваю отойти по меньшей мере метров на десять, и только тогда он окликает меня:
— Подожди.
Я останавливаюсь. Поворачиваюсь:
— Спи дальше, и все потеряешь. Я договорюсь с другим торговцем.
Однако я возвращаюсь к нему.
Легкая улыбка искривляет его губы свекольного цвета.
— Нет других. Я заполучил его почти сразу после.
Сразу после.
Он имеет в виду, что получил парнишку почти сразу после его смерти.
Несколько мгновений я оцениваю окружающую обстановку, проверяя, не наблюдает ли кто-нибудь за нами. Съежившиеся фигуры перемещаются по рынку в тусклом утреннем свете. Струнный инструмент тренькает вдали, а барабаны выстукивают нетерпеливую дробь.
Я киваю ему, и он достает бутылку из-под яблочного сока, запечатанную куском клейкой ленты.
Эта часть процедуры необходима. Содержимое бутылки невидимо, и ни один покупатель не расстанется с денежками, заработанными тяжелым трудом, без пробного вдоха. Я тоже должен убедиться, подлинный ли товар мне предлагается, по своим собственным причинам.
Старик отрывает кусок скотча от катушки и ставит бутылку на свой холодильник. Я сажусь на корточки и наклоняюсь вперед. Теперь все происходит быстро. Торговец протыкает клейкую ленту на бутылке швейной иглой, я чувствую исходящий душок, и тут же новый кусок скотча ложится на отверстие.
Ему два года, и трава щекочет его ступни.
Ему четырнадцать. Сигаретный дым обжигает гортань, но он самодовольно подавляет кашель.
Он просовывает руку под ее блузку, мечтая о ком-то другом. Первые аккорды песни рассказывают о нем все, что вообще стоит знать.
Попадание, отскок, новый бросок. Три. Поздравительная открытка к дню рождения. Пятнадцать. Первый горький вкус пива. Беговая дорожка и смех на финишной линии. Шаги и боль.
— Восемьсот, — называет старик цену.
Я даю ему деньги и забираю бутылку.
Очень отчетливо, так чтобы меня хорошо было слышно, я произношу заготовленную фразу:
— Хороший товар.
А голос в моем ухе отвечает: «Берем его».
Струнное треньканье замирает. Барабанный грохот прекращается. Шляпы срываются, шарфы разматываются, и волна людей в синих ветровках обрушивается на старика.
Но честь надеть на него наручники выпадает мне.
Много времени спустя, когда я уже сижу в кабинете и торопливо выстукиваю отчет на заляпанной кофейными пятнами клавиатуре, парнишка все еще не отпускает меня и восстает в моей голове. Не только момент его смерти (ослепительный, выжигающий ужас, скорбное осознание того, что единственно возможный конец страданиям означает конец всему), но и все остальное — словно острое лезвие.
Но что врезается особенно глубоко, так это его жизнь. Тысячи незначительных моментов. Записи из дневника, беспорядочный калейдоскоп событий, стремления, желания, маленькие победы и все такое. Я проживаю каждую секунду его жизни. Я — это он. Все сладкие и горькие ощущения его жизни.
Я работаю в специальной группе шесть лет.
Я попробовал множество призраков.
Они никогда не уходят. Я сосуд, наполненный ими, и я буду нести их до конца своих дней.
С каждым днем моя рыночная цена возрастает.
Когда наступит мой смертный час, независимо от того, получу ли я пулю в голову, спрыгну с моста или тихонько отойду в мир иной на больничной койке от инъекции морфина, кто-то получит хорошие барыши.
КЭТ СПАРКС
Саммариндская впадина
Пер. Н. Алешина
Женщину, устроившуюся среди подушек, можно было бы назвать красивой, если бы не вырванный из глазницы правый глаз. Рубец выглядел отвратительно, зловеще. Мариям сидела в баре и смотрела по сторонам, но ее взгляд все время невольно возвращался к женщине со шрамом и к ее приятелям. Видимо, так угодно было распорядиться судьбе, но человек, которого она надеялась встретить в «Морской звезде» в этот день, оказался одним из друзей этой загадочной дамы.
— Хаптет, к вашим услугам, — поздоровался он, улыбнувшись и прижавшись губами к тыльной стороне ее запястья.
— Меня зовут Мариям, — ответила она. — Бехамид сказал, мне нужно разыскать вас. Обещал, что, окажись я в Саммаринде, вы станете моим проводником.
Глаза Хаптета расширились.
— Бехамид! Старый разбойник. Да, он мне как брат. Пожалуйста, присоединяйся. Это мои друзья. Что будешь пить? — Хаптет все еще радостно улыбался. — Сколько лет! Бехамид здесь с тобой? На полуострове он не показывался уже лет десять.
Мариям уселась на подушки и улыбнулась. Похоже, новости в этих краях распространялись медленно. Старик Бехамид, капитан траулера, вот уже пять лет как лежал в земле, но, помнится, говорил, что она всегда может сослаться на него, — а на полуострове его имя чего-то да стоит. По крайней мере, насчет этого он не врал.
Алкоголь пульсировал по венам теплыми потоками. Она разглядывала помещение, слушая рассказы Хаптета о бурной молодости в экипаже яхты, которой командовал Бехамид еще до войны. Мариям смеялась вместе со всеми — и иногда вполне искренне. Таким Бехамида она не знала. В рассказах Хаптета он представал скорее безбашенным идиотом, чем героем равнин Маратисты.
Интерьер «Морской звезды» вполне соответствовал названию. Стены покрывали пять остроконечных узоров, выполненные эмалью и кружевом одновременно. Над столиками растянулась рыболовная сеть, щедро унизанная высушенными морскими гадами, слегка подкрашенными в пастельные тона.
Мариям изо всех сил старалась не смотреть на женщину без глаза, которую, как выяснилось, звали Джахира, но задача оказалась не из легких. Джахира была красивой и безобразной одновременно. «Должно быть, привыкла к перешептываниям, пристальным взглядам и жалости на лицах посторонних», — подумала Мариям, решив рассмотреть остальных: привлекательные, ухоженные мужчины и женщины, их имена ей запоминать совсем не обязательно. Судя по всему, давно и близко знакомые, — об этом свидетельствовали прикосновения и то, как они наклонялись друг к другу во время разговора. Такая близость… Чувства внезапно захлестнули Мариям. На глазах выступили слезы, но она подавила печаль. Это не ее люди. Не ее дом.
— Туристы повсюду! — вдруг воскликнул Хаптет, затянувшись кальяном, из-за чего угли загорелись ярче.
Джахира и Мариям наблюдали за клубами дыма в стеклянной колбе, пустившимися в пляс, стоило ему выдохнуть. Хаптет показал рукой на группу, сидевшую в дальнем конце бара:
— Слетаются сюда только на время состязаний, набивают карманы побрякушками и суют свой нос куда не следует.
— Но наверняка вы рады деньгам, которые мы, туристы, с собой привозим, — притворяясь обиженной, возразила Мариям и взмахом руки подозвала официанта. — Может, ты и родился здесь, Хаптет, но образование явно получил на материке, так же как и я. Так же, как и я. Акцент выдает тебя. Вероятно, между нами больше сходства, чем ты думаешь.
К столику подошел юноша в белой льняной рубахе, с бокалом на подносе. Мариям взяла бокал. Монетка, брошенная Хаптетом, завертелась, звякая о блестящий металл подноса.
— Ты меня раскусила, — ответил Хаптет, лукаво подмигивая ей. — Но теперь и ты должна поведать нам, из какого великого города на материке ты родом?
— Я родилась в Макасе, — сказала Мариям. — Держу пари, мальчишки бредят об Университете Аллама или о любом другом. Их не меньше дюжины в нашем древнем городе.
— Может быть, — отозвался Хаптет, — а может быть, и нет. Саммаринда — порт, и выбор здесь велик. Если парень хочет пойти в Аллама, отец найдет способ отправить туда сына. Но не многие из нас навечно оседают в других городах. Ты знала об этом?
Мариям не знала. Но, в конце концов, ей не так уж и много было известно о Саммаринде и ее обитателях. С какой легкостью эти люди приняли ее в свою компанию. Хаптет был прав: всего лишь туристка и к тому же не слишком осведомленная. Она приехала в Саммаринду положить конец своим мучениям. Уезжая из дома, больше ни о чем другом и думать не могла.
— Почему ты приехала на Саммаринду? — поинтересовался Хаптет. — Что хочешь здесь найти?
— Разнообразия, — ответила она, на мгновение задумавшись. — Разве не его ищут все путешественники?
Она говорила и наблюдала за Хаптетом, но его отвлек человек, сидевший за столиком у двери. Торговец с материка, бедуин, одетый в тяжеловесные широкие одежды обитателей пустынь.
Глядя на беседующих мужчин, Мариям вдруг осознала, что и сама находится под чьим-то пристальным взором: Джахира сосредоточенно уставилась на нее единственным глазом. Мариям машинально отпила из бокала. Куда смотреть? Рана на лице женщины была настолько заметной, очевидной. Почему она не носит повязку или вуаль? Мариям с нетерпением ждала, что Хаптет придет ей на помощь, но он всерьез увлекся разговором с бедуином, позабыв даже про кальян, мундштук которого был зажат в его руке. Вновь переведя взгляд в сторону Джахиры, она заметила, что та по-прежнему внимательно изучает ее. Мариям слабо улыбнулась — в еле уловимом движении губ сквозило явное снисхождение и сожаление — и быстро отвела глаза. «Черт возьми, — пронеслось в голове, — но я ничего не могла с собой поделать!» Она принялась рассматривать узоры на одежде спутников, ожидая, когда кривая общего разговора затронет ее вновь.
Чья-то рука мягко сжала ее плечо. Мариям подняла глаза и увидела перед собой искалеченное лицо Джахиры, успевшей угнездиться на подушках рядом с Мариям. Вблизи рана выглядела во сто крат ужаснее, чем на расстоянии.
— Пожалуйста, — произнесла Джахира, — позвольте мне объяснить.
Мариям уставилась на пустую глазницу, а затем на здоровый глаз, подобно сапфиру, горевший незамутненным, ярким светом. Только сейчас Мариям заметила толстый слой косметики, который Джахира нанесла на единственный глаз, чтобы подчеркнуть его красоту. Губы накрашены, на щеках румяна, веко обведено черным карандашом и покрыто тонким слоем золотистой пудры.
Мариям проглотила остатки медовой водки.
— Вы подруга Хаптета? — спросила Джахира.
Мариям кивнула, сразу же заинтересовавшись, кем приходится ему эта женщина. «Любовницей? Вряд ли. Может, сестрой?»
— Мой глаз, — начала она, указывая на выступающие розовые рубцы, — это моя дань.
— Что?
Женщина открыла рот, приготовившись объяснить, но ее слова утонули в гвалте, поднятом верблюдами, стреноженными в нескольких метрах от входа. Мужчины перекрикивались друг с другом через низкие столики и разноцветные подушки. Мариям посмотрела на Хаптета, тот в свою очередь следил за людьми с материка, которые вскочили и устремились к рассерженным животным с такой заботой и вниманием, будто им предстояло успокоить обиженного ребенка.
— Обычно мы не обсуждаем такие вещи с чужаками, — заметил Хаптет позже, когда они с Мариям прогуливались по берегу искусственного озера.
Обе луны уже показались на небе, прямо над их головами повисло созвездие Касх — Воин с головой собаки. Мариям пристально вглядывалась в него, как будто пыталась определить форму и значение. Хаптет в свою очередь изучал ее лицо.
— Джахира сказала, что изувеченный глаз — это ее дань, но я не представляю, что это значит, — сказала Мариям.
Хаптет кивнул:
— Дань, отдаваемая саммариндцем, — дело глубоко личное. Как правило, мы не бросаемся разъяснять этот ритуал каждому встречному туристу. Но поскольку ты подруга Бехамида… — Он поднял глаза в небо, будто искал вдохновения у Касха. — Когда житель Саммаринды достигает совершеннолетия, он должен принести дань. Это может быть что-то незначительное или большое. Каждый делает свой выбор.
Хаптет остановился. Схватил задний край рубашки, потянул его вверх и повернулся, показывая голую спину. Толстый рубец извивался змеей от левой лопатки почти до основания позвоночника.
Мариям с изумлением посмотрела на него:
— Остался с войны?
— Нет, — ответил Хаптет, опуская рубашку и снова поворачиваясь к ней лицом. — Этот шрам и есть моя дань. Когда пришло время, я попросил двух друзей крепко держать меня, а третьего — взмахнуть косой.
Свет лун бросал жемчужные отблески на ее кожу. Мариям нахмурилась:
— И ты выбрал шрам на всю спину? Поверить не могу, неужели ты серьезно?
И тут до нее дошло. Глаз Джахиры. У Мариям челюсть отвисла от изумления, она поднесла ладонь ко рту.
— Ты не обязана понимать наши традиции, — сказал Хаптет, указывая на тропинку впереди. — Для кого-то данью является шрам. Для других — жертва. Расставание с чем-то очень ценным. Ты напрасно жалеешь Джахиру — она вовсе не нуждается в сочувствии. Ее дань может показаться ужасающей, но уверяю тебя, жители этого города так не думают.
Дальше вдоль озера шли молча, наслаждаясь ночным спокойствием.
— Мариям, зачем ты приехала в Саммаринду? — неожиданно спросил Хаптет. — Неужели на водный турнир? Сезон только начинается, но тебе, кажется, совсем не любопытно. Твои мысли очень далеко.
Мариям вновь посмотрела на Касха, как будто в первый раз разглядев его собачью голову во всех подробностях.
— Да, — сказала она, — на турнир. Я приехала посмотреть на сражения.
Хаптет понял, что она что-то недоговаривает.
— На севере есть остров, где женщины ткут тончайшую ткань. Тебе непременно нужно купить отрез — такой ты больше нигде не найдешь, уж это точно.
Мариям кивнула, позволяя Джахире увлечь ее в деловитую толчею утреннего базара. Они не спешили. В этой части света никто никуда не торопился. Саммариндцы умели находить время для мелочей. Увлеченные слушатели, тонкие наблюдатели. Здесь придавали значение деталям — вот разница между жизнью и простым существованием.
Теперь Мариям повсюду замечала следы дани, принесенной жителями Саммаринды. В ходу были шрамы, хотя настолько отвратительными и бросающимися в глаза, как у Джахиры, украшали себя не многие. Она узнала, что на полуострове припеваючи живет целая каста врачей, работа которых сводится исключительно к нанесению ран здоровым людям по достижении теми совершеннолетия.
Мариям взяла ткань и повертела ее в руках. Вплетенные в полотно серебряные нити переливались на свету.
— Мне всегда хотелось побывать в Макасе, — сказала Джахира, потянувшись к другому рулону и легким жестом отгоняя торговца. — Ты там подружилась с Хаптетом? В Макасе?
Мариям сделала вид, что не слышит, пристально вглядываясь в толпу в поисках знакомого лица. «Все напрасно — к гадалке не ходи». Человек, которого она разыскивала, не стал бы прогуливаться по такому рынку. «Он сейчас наверняка готовится к вечерним торжествам, тренирует равновесие или оттачивает искусство фехтования. Может, его вообще здесь нет. Нужно было приехать лет десять назад. Даже если удастся найти его — слишком поздно».
Мариям смотрела на прихрамывающего человека и девушку с рассеченной губой, настолько худую, что одежда свисала с ее костей, словно лохмотья. Как она могла не замечать этого в первый раз?
— Хочешь, пойдем посмотрим другие товары? — Джахира заметила, что взгляд Мариям блуждает где-то далеко от расшитых тканей на столе. — Кожу? Украшения? Могу отвести в квартал серебряных дел мастеров, если, конечно, тебя не смущает шум.
Мариям улыбнулась:
— Мне и здесь нравится.
Джахира кивнула:
— Тогда пойдем вон туда. Мне нужно кое-что купить.
Мариям почувствовала, что солнце начало припекать. Женщины прокладывали себе путь через толкущиеся толпы покупателей и развозчиков, туристов и торговцев. То и дело на них налетали с криками несущиеся на абордаж дети, настолько увлеченные играми в догонялки и пятнашки, что и сгущающиеся толпы народу были им не помеха. Мариям настиг острый запах незнакомых ароматов. Торговцы специями согнулись в дверных проемах, возле плетеных корзин, доверху наполненных порошками разных оттенков охры.
Близость океана чувствовалась во всем: в фигурках рыб, вырезанных на дверях; в змеях, вышитых на верхней одежде; в ракушках, покрытых красками из драгоценных металлов и собранных в ожерелья на золотых и серебряных цепочках, которые теперь обвивали тонкие шеи.
Но больше всего поражали аптеки: в их окнах висели гирлянды из застывших в причудливых позах морских гадов, о происхождении которых Мариям могла только догадываться. Некоторые походили на уродливое скопище клыков и костей. Неужели природа способна породить столь неестественные сочетания? Мариям положила одну руку на плечо Джахиры, указывая другой на безобразную тварь, свисавшую с красной веревки около сети с сушеными лягушками.
Джахира пожала плечами:
— Это из Саммариндской впадины. Некоторые диковинные существа, которых выбрасывает из расщелины, обладают лечебными свойствами. Другие смертельно ядовиты. Многие аптекари зарабатывают на жизнь, только и делая, что отделяя одних от других.
Мариям тянуло ступить в прохладный мрак дверного проема и окунуться в оскалившуюся сотнями клыков бездну, но Джахира уже направилась дальше, гонимая желанием добраться до рядов со свежими товарами, пока все не разобрали.
В голове у Мариям роились картинки хищных зубов и изогнутых костей. Она завернула за угол и увидела стайку одетых в черное женщин, сидевших на корточках в тени перекошенного навеса, с товарами, которые были разложены перед ними на выцветшей материи. Джахира с корзиной маячила впереди. Мариям заметила ее сквозь арку, ведущую к бесконечным рядам с горами фруктов.
Сидевшие на корточках женщины не обращали на нее никакого внимания, пока Мариям не наклонилась и не указала тонким пальцем на вереницу стеклянных пузырьков на ткани. В склянках было мерцающее и сверкающее даже в тени вещество.
— Что там? — спросила она.
Женщины обвели ее холодным взглядом, даже не подумав скрыть презрение. Мариям задала вопрос снова, на этот раз на бартерском, помогая себе жестами. Женщина рядом неохотно ответила, но из ее слов Мариям ничего не поняла. Может, это название на местном наречии. Слово, эквивалента которому нет в других языках и уж точно — нет в родном языке Мариям.
Она осторожно взяла пузырек и посмотрела на свет. Внутри мерцали и переливались разные цвета. Что такое — непонятно, но очень красиво.
На лицо Мариям легла тень.
— Безделушки для туристов, — пояснила Джахира, глядя на женщин сверху вниз с нескрываемым раздражением. — Давай лучше отведу тебя в квартал ремесленников, если тебя так интересуют побрякушки.
Мариям поднялась, смахивая песок с юбки.
— Но что все-таки внутри?
Джахира ответила не сразу:
— Чешуйки с Хрустальной скалы. На этих старых развратниц уже никто не клюет, вот они потихоньку и разворовывают наше давно заброшенное наследие.
Одна из женщин что-то сказала Джахире. Та резко ответила на родном языке:
— Торговать этим противозаконно! Мне придется сообщить о них портовому инспектору.
— Нет, не надо, — взмолилась Мариям. Она зажала в руке склянку и нырнула в кошелек за монеткой. — Столько хватит?
— Более чем, — не замедлила с ответом Джахира. — Не стоит поощрять их.
Мариям бросила монетку на ткань, и лица трех торговок расплылись в радостных улыбках.
— Они столько и за неделю не зарабатывают. Ну ладно. Давай отведу тебя туда, где можно потратить деньги с большей выгодой.
Этим вечером в «Морской звезде» Мариям вместе с Джахирой, Хаптетом и их друзьями устремили взгляды на океан с разлитым в водной ряби золотом двух лун, Неме и Крил.
Мариям нащупала в кармане пузырек и стала перекатывать гладкое стекло кончиками пальцев.
— Что ж, — начал Хаптет, поднимая кувшин с вином, — завтра начинаются состязания. Ты уже определилась с победителем? Сделала ставку?
Мариям покачала головой:
— Странный ритуал. Зачем он вообще нужен? Почему мужчины дерутся друг с другом?
Рядом с ней сидела Джахира, а за ней незнакомый мужчина. Левая сторона его лица была украшена причудливым узором, спускавшимся к шее и окончательно исчезавшим в темных волосах под рубашкой. «Интересно, это его дань или искусство? — попыталась догадаться Мариям. — И какая между ними разница?»
Джахира прислонилась к его плечу, отпивая из бокала на длинной ножке.
— Когда-то турнир был событием политическим, сейчас все свелось к спортивным соревнованиям, — ответила темнокожая женщина в соблазнительном бирюзово-золотистом наряде. — Уже несколько лет Саммаринда живет мирно. Никто больше не воюет.
— Я поставлю на Ориаса, — громко заявила Джахира. — Три года подряд выигрывала деньги, и все благодаря его уверенности и ловкости.
Ориас. Мариям застыла при звуках имени, но только на мгновение. Никто не заметил. Никто не смотрел на нее.
— Ставка на принца — другого мы от тебя и не ожидали, — сказала женщина в бирюзовом.
Джахира театрально всплеснула руками, изображая возмущение таким предположением.
— Ориас — не просто принц! Ориас — герой войны!
— Тем не менее он остается принцем — и все дамы ставят на него, — заметил Хаптет. — А еще он блестящий опытный воин, поэтому победа ему гарантирована. Ставь — не прогадаешь.
— Он и правда принц? — спросила Мариям, беспокоясь, как бы кто не заметил дрожь в ее голосе. И сама удивилась, что слова не застряли у нее в горле. — Не знала, что на Саммаринде есть королевская семья.
— И не одна. Их здесь десятки, — рассмеялся в ответ Хаптет. — Но Ориас — мой друг. Я тебя познакомлю. Он мне как брат. Сражался в битве при Маратисте.
— Неужели?! — воскликнула Мариям. — Воевал? Похоже, он настоящий герой. Я слышала, что не многие в тот день ушли с поля боя живыми.
— Ты знаешь о Маратисте? — Теперь настала очередь Хаптета удивиться.
— Я была там.
— В Маратисте? Серьезно?
Мгновение Хаптет и Мариям не сводили друг с друга глаз. Но официант начал убирать со стола, и момент растворился в звяканье бокалов и новых заказах.
На пляже под возгласы детей и тявканье собак взрывались фейерверки.
— Сегодня Джахира рассказывала о Хрустальной скале, — сказала Мариям, повышая голос. — Очень хочется на нее посмотреть. Не отвезешь меня к ней?
Хаптет кивнул, с любопытством разглядывая ее.
— Завтра, — сказал он. — Я отвезу тебя туда завтра.
На расстоянии Мариям показалось, что Хрустальную скалу следовало бы назвать иначе. Никакого хрусталя здесь и в помине не было и ничего хотя бы отдаленно напоминавшего его. Казалось, минерал — назовите его как хотите — впитывал в себя небесный свет, выделяясь на фоне остальных скал темным пятном.
— Хочется потрогать ее, — сказала Мариям.
— Нет, — ответил Хаптет. — Прикасаться запрещено.
— Но старухи соскабливали с нее чешуйки на продажу.
— Возможно, — ответил Хаптет. — Так или иначе, этого делать нельзя — на то есть свои причины.
Она подумала, что с их первой встречи Хаптет сильно помрачнел. «Не из-за заигрываний ли Джахиры с незнакомцем в татуировках? Вряд ли, — рассудила Мариям. — Этих людей не волнуют тайные связи на стороне. Нет, это из-за Хрустальной скалы ему стало не по себе».
— Дотрагиваться нельзя, забираться наверх тоже. Но хотя бы узнать ее историю можно? — спросила она, поглаживая кончиками пальцев спрятанный в кармане пузырек с переливающимися частицами.
Они вскарабкались чуть выше по горному хребту и теперь стояли прямо напротив скалы. Две выходящие на поверхность вершины, разделенные полоской воды. Казалось, Хрустальная скала манила, заставляла вглядываться в себя, хотя смотреть, по сути, было не на что.
— Под Хрустальной скалой находится впадина, уходящая вглубь на многие мили. Измерить ее никому не удалось. Никто не добирался до дна.
Мариям шагнула к краю выступа, дальше идти она не осмелилась. Вода кристально чистая и прозрачная, как и вокруг всего полуострова Саммаринда. Но под Хрустальной скалой океан темнел, как небо в безлунную ночь.
— Наши предки отправлялись на Хрустальную скалу, когда последние надежды были потеряны. Они обмазывали тела маслами и блестящими чешуйками со скалы и становились на самый край.
— А потом кидались вниз? Кончали с собой?
— Они ныряли в воду, но не погибали. Хотя те, кто не смог войти в воду плавно, ломали шеи и тонули.
Мариям не сводила глаз с черного пятна на водной глади.
— Ныряльщики погружались в Саммариндскую впадину. На некоторое время исчезали во тьме, а затем поднимались на поверхность… переменившимися, — закончил свой рассказ Хаптет.
— Переменившимися? Как?
Хаптет нахмурился, подыскивая нужные слова:
— Сильно изменившимися. Трудно сказать определенно. Никто бы не взялся предсказать, что именно случится. Иногда человек выныривал с другим лицом. В иных случаях внешность оставалась прежней, но человек перерождался внутренне. Люди верили, что всему виной частицы самой скалы. Старухи, которые торгуют ими на базаре, принадлежат к особому племени. Традиция уходит корнями в глубокое прошлое.
Мариям вспомнила изогнутые остовы морских гадов, висящие в окнах аптек.
— Прикасаться к Хрустальной скале запрещено законом, — продолжал Хаптет. — Никто не поднимался на ее вершину вот уже лет сто.
Она упорно смотрела на ту сторону пролива, и воображение рисовало гибкую, стремительную фигурку ныряльщика, описывавшего в воздухе мерцающую дугу, прежде чем погрузиться в океанскую бездну.
— Почему закон не разрешает нырять? — не унималась Мариям.
Хаптет покачал головой:
— Изменения. Слишком неестественные. Слишком быстрые. Слишком жестокие. Если нам суждено преобразиться, мы должны делать это медленно, постепенно. Впадина сотворила из нас монстров. Мы чуть не погибли из-за силы… того, что находится под водой.
Мариям кивнула. Она пристально вглядывалась в темное пятно на воде.
Хаптет откашлялся:
— Мариям, вчера ты сказала, что была в Маратисте. Можно спросить…
— Давно, — отозвалась она. — Много лет назад. Я не хочу об этом говорить. — Она все еще не отрывала глаз от мрачных подводных глубин.
Позади пронзительно загудел рог: протяжный, угрюмый звук.
Хаптет, довольный переменой, оживился.
— Скоро начнутся состязания, — сказал он. — Отсюда отличный вид.
Он повел ее обратно тем же путем, а затем вниз через еще одну череду крутых утесов.
Похожая сверху на тростинку, вереница узких суденышек перегородила тихую гавань. У каждого баркаса был свой отличительный цвет.
— Принц, о котором ты говорил вчера, — сказала Мариям, — под какими флагами идет он?
— Принц Ориас? У него темно-синие.
— Цвет Саммариндской впадины?
Хаптет остановился и повернулся к ней:
— Любопытное замечание. Саммариндская впадина такая одна, ничто на свете не может быть с ней одного цвета. Ничто. Синий у принца Ориаса — глубокий и насыщенный, но он не поглощает свет!
Мариям кивнула:
— Я не против взглянуть на баркасы поближе. И с удовольствием познакомлюсь с принцем.
Хаптет улыбнулся:
— Я так и знал. И уже все устроил. Ты влюбишься в него с первого взгляда — уж поверь мне. Еще ни одна женщина не устояла перед его чарами.
— Не сомневаюсь, — сказала она, пытаясь скрыть горечь в голосе, и первая стала спускаться по каменистой тропе, вьющейся по склону утеса к пляжу.
Мариям почувствовала, что безудержное вращение многослойных юбок на танцовщицах вогнало ее в легкий транс. Все жители Саммаринды собрались у кромки воды на открытие фестиваля в честь турнира. В толпе поговаривали, что шуточные сражения баркасов, которые должны были состояться завтра, призваны напомнить о давней войне. Выжившие в той кровавой схватке поселились на унылой части побережья и бросили все свои силы и умения на разведение рыбы и морских гадов.
Мариям казалось, что саммариндцы каждый вечер находили повод для праздников. Пылающие факелы согревали теплым светом развеселившихся людей, наблюдавших за мальчишками, которые примеряли на себя длинные палки для состязаний на траве. Юноши и девушки с татуировками в виде разноцветных завитков и узоров, покачиваясь между столиками, несли корзины со сладостями в пестрых бумажных фантиках. Они бросали их в толпу или вкладывали в ладошки детей.
— Теперь жалею, что в молодости не научилась танцевать, — прокричала Мариям Джахире.
— Еще не поздно, — отозвалась та. — Почему бы тебе не остаться у нас подольше? Я знаю одного человека, он мог бы тебя научить. Возраст — не помеха.
Мариям откинулась на стуле, потягивая напиток. Мимо змейкой просочилась вереница смеющихся и визжащих от радости девчонок в розовых и зеленых платьях, с ракушками в волосах и браслетами на запястьях.
Никого не смущала упавшая и разбившаяся вдребезги посуда под ногами. Никакой тревоги — только чистая, незамутненная, пульсирующая потоками энергии радость.
Баркасы стояли на якоре поодаль от берега. Их палубы были украшены бумажными фонариками. Небо освещали огни фейерверков, еще более красочные и яркие, чем в предыдущую ночь.
Вдруг слева от их столика раздались крики приветствия и аплодисменты. Фонари загорелись сильнее, и толпа начала понемногу расступаться, освобождая путь воинам, которые должны были принять участие в завтрашних состязаниях. Каждый был облачен в умело скроенное по фигуре роскошное одеяние цвета своей команды. Высокие и стройные, воины гордо шагали вперед, ловя на себе восхищенные взгляды собравшихся.
— Я влюбилась в Ориаса несколько лет назад, — прошептала Джахира, схватив Мариям за руку.
Мариям кивнула, сердце ее забилось сильнее.
— Должно быть, его жене очень повезло.
Джахира покачала головой, печально улыбаясь:
— Ориас так и не женился. Он не позволяет себе влюбляться, как простые смертные. Это его дань.
Мариям схватила руку Джахиры:
— Что значит — не позволяет себе влюбляться?
Джахира посмотрела на нее, и Мариям почувствовала, как сильно сжались ее пальцы. От зияющей дыры на месте глаза подруги ее по-прежнему брала оторопь.
— Ты же знаешь об обычае приносить дань. Мы с Хаптетом все тебе объяснили.
Мариям покачала головой:
— У вас шрамы. Это я могу понять. Но…
— Не у всех шрамы видны на теле, — сказала Джахира. — Ориас носит свои на сердце. Говорят, во время войны он сильно любил одну женщину. Они воевали вместе, бок о бок. Но их взяли в плен и бросили в крепость Фаллам. Оба сильно пострадали от рук врага.
Неожиданно взорвавшийся над ними праздничный снаряд распустился волшебным цветком и, померцав недолго, растворился в воздухе.
— Но они не сдались, Ориас и его возлюбленная. Выжили и смогли бежать в Маратисту и там отомстили своим врагам. Ориас тогда был очень молод. Когда война закончилась, он понял, что раны на теле для дани недостаточно. Для него существовала лишь одна ценность — любимая женщина. Ориас пожертвовал ею ради дани и вернулся на Саммаринду. Так рассказывают люди. Со мной он о подобных вещах никогда не говорит.
Сверху падали блестящие розы. Мариям пронзила боль от предательства, будто скорпион впился в нее своим смертоносным жалом. Внутри что-то оборвалось. Ориас бросил ее, не сказав и слова на прощание. Принес ее в дань обычаям, о существовании которых она и не подозревала. «Почему не сказал мне? Уж лучше мне было умереть в темнице Фаллама, чем жить и мучиться все эти годы одной, не понимая, почему ты ушел, не зная и сотой доли всей правды…»
В горле клокотал застрявший крик, а сердце стучало все громче и громче, вторя приближающимся звукам уверенных мужских шагов. Ориас. «Принц тьмы, Повелитель боли и отчаяния». Она еще не видела его лица, только силуэт на фоне озаренного фейерверками неба и медленно пошатывающейся пестрой толпы.
Все эти годы она мечтала о единственном и совершенном мгновении, подбирала подходящие слова.
И вот оно настало. Расстояние между ними смыкалось, и время замедляло свой ход. Годы, стоявшие между ними, рассеялись, растаяли, как дым в светящемся небе.
«Ты должен был просто сказать мне. Правда освободила бы нас обоих».
Все участники турнира прошагали мимо, приветствуя радостную публику. Сверху в безудержном танце кружили конфетти. Время потекло еще медленнее и стало тягучим, как мед. Ориас сделал следующий шаг, и она наконец увидела его. Их глаза встретились. Время замерло, и в это мгновение, длившееся целую вечность, Ориас увидел ее душу, обнаженную, испещренную шрамами. Он узнал настоящую цену своей дани. Ориас помнил все: каждый миг, проведенный вместе, отпечатался в его памяти так же четко, как и годы разлуки. Между ними пролегла тень, в холодном наэлектризованном воздухе лихорадочно гасли огни фейерверков, и разноцветные бумажки падали на землю, как мертвые листья.
А потом все кончилось. Мариям отвела взгляд, и воины продолжили героическое шествие. Время вернулось в обычный ритм. Когда она повернулась вновь, он уже исчез.
Крапинки света мерцали на водной глади. Баркасы заняли исходную позицию. Сверху на утесе расположились зрители, с удобством устроившись на деревянных стульях или развалившись на пестрых подстилках.
Место рядом с Джахирой пустовало. Она начала беспокоиться:
— Ты уверен, что Мариям не говорила, куда пойдет? А как же состязания? Зачем еще надо было ехать в такую даль из Макасы?
Хаптет вздохнул:
— Она и не заикалась о турнире, пока я сам о нем не упомянул. Странно, конечно, но меня не покидает чувство, что приехала она вовсе не из-за соревнований.
Джахира вытянула шею, всматриваясь в толпу:
— Может, она потерялась. Ты ее лучше знаешь, Хаптет. Мариям из тех, кто может заблудиться в такой суматохе?
Хаптет пожал плечами:
— Я знаю ее не дольше твоего. И могу только догадываться, что она за человек.
Джахира уставилась него:
— Разве вы не старые друзья? А я-то думала, вы сто лет знакомы!
Она окинула взглядом остальных, и все недоуменно пожали плечами.
Хаптет покачал головой:
— В первый раз я увидел ее в «Морской звезде». Ты тоже была там. Она еще спросила про твой глаз. Помнишь?
— Да, но я решила…
— Нет, — прервал он. — Мы не были знакомы до того вечера. Правда, она упомянула, что знает Бехамида. Теперь я начинаю думать: а не слишком ли много мы ей доверили…
— Она приехала сюда, чтобы найти Ориаса, — сказала Джахира, натягивая хлопковое покрывало на плечи, хотя было не холодно. — Это не просто домыслы — я уверена. Прошлой ночью на празднике. Вы видели, что случилось, когда они встретились?
— Смотрите!
Толпа затаила дыхание, все разом повернули головы к утесам за пляжем. Одинокая фигурка стояла на вершине Хрустальной скалы, кожа мерцала в панцире из блестящих чешуек и масла. Несмотря на расстояние, никто не сомневался, что это женщина, — изгиб бедер четко вырисовывался на фоне непроглядной тени, которую отбрасывала черная скала. И всем было понятно ее намерение. Женщина готовилась нырнуть в Саммариндскую впадину. Приготовившись к прыжку, она стояла спокойно, как сама скала, глаза опущены вниз, и ждала подходящего момента. Ждала, пока толпа не затихнет.
— Хаптет, — зашептала Джахира, — мне кажется, Мариям — это она. Та, что сподвигла Ориаса на дань. Мариям — женщина с войны.
Глаза Хаптета расширились.
— Нет, не может быть! Где он? Уже на воде? Уже зашел на баркас с остальными?
Джахира промолчала, не спеша обсуждать происходящее с друзьями. Она прекрасно все понимала. Видела темную волну, пронесшуюся между Мариям и Ориасом прошлой ночью, — неуловимый удар тока, от которого вокруг них посыпались искры. Поняла, что они не чужие друг другу. Хотя и не друзья. Какая-то мощная сила связала их воедино, закрутила в вихре и не давала освободиться. Мариям приехала на Саммаринду разбить эти оковы раз и навсегда. Она заплатила собой за его дань. И теперь не желала ничего, кроме свободы.
— Прости, я не поняла, — прошептала Джахира. — Я бы поступила точно так же.
Один из баркасов рванул с места и устремился к берегу. «Синий цвет Ориаса, — отметила Джахира. — Узнала ли его Мариям? Если да, то и виду не подала».
Ропот усилился, стоило собравшимся заприметить баркас и одинокую фигуру мужчины в полном воинском облачении, который прыгнул с носа на мелководье и, вспенивая вокруг себя воду, упрямо пошел к берегу. Оказавшись на суше, он помчался к скалам и, на бегу стаскивая с себя инкрустированные драгоценными камнями кожаные одежды, замедлял шаг, но продолжал рваться вперед с неменьшей решимостью.
На вершине Хрустальной скалы женщина подошла к краю. Дрожала ли она от страха, вглядываясь в бездну? Или спокойно оценивала обстановку? По неподвижной фигуре не скажешь. Никто и никогда не узнает всей правды.
Собравшиеся запричитали громче, когда Ориас начал карабкаться по хребту, маленькие камешки и куски земли градом летели вниз из-под его ног. Коричневые горы уступали в твердости холодной основательности Хрустальной скалы. Ориас продолжал лезть вверх.
Все как один ахнули, когда нырялыцица подняла руки над головой. Нет. Подожди его, ты должна подождать. Он почти на вершине.
Она не стала ждать. Согнулась, оттолкнулась — и тело взмыло вверх, подалось вперед, грациозно разрезав воздух и упав вниз, словно копье. Она чисто вошла в воду, как клинок, метко пронзающий цель смертоносным ударом. Океанская гладь едва зарябила.
Но стоило кругам на воде раствориться, все задрали головы и устремили взоры на гору. Принц цеплялся за нее, словно паук, медленно продвигаясь вперед и вверх, умудряясь находить опоры для рук там, где их не было. Все зрители сопереживали ему. Он опоздал. Не успел остановить ее, но откуда ему было знать. Ведь Ориас не видел, что она уже нырнула.
На последних футах он сделал мощный рывок и рухнул на каменистую площадку. Бросился к краю и стал всматриваться в темную расщелину под водой, а потом замотал головой от отчаяния.
Толпа затихла. Никто и пискнуть не смел. В каждом отозвалась его скорбь и трагедия, хотя невольные свидетели разыгравшейся драмы и понятия не имели о ее истинных причинах.
Ориас повернулся спиной к океану. Пошел прочь, затем вдруг остановился и побежал обратно к выступу, бросился в воздух и уже в полете вытянулся в струну, как ныряльщик, провожаемый взглядами десятков тысяч разом вскрикнувших наблюдателей. Он не вошел в воду чисто, но океан принял его, как до этого принял ее.
Стояла тихая ночь, океан был спокоен и недвижим, будто затаился в ожидании будущих великих потрясений, которым суждено навсегда изменить мир. Для Джахиры все уже свершилось. И прошедшее обратно не воротишь.
Пока Саммаринда оплакивала утонувшего принца, Джахира ждала знака, подтверждения того, что легенды ее родной земли — чистая правда, а не красивая сказка для туристов. Каждую ночь она забиралась на утес напротив Хрустальной скалы, садилась по-турецки на выступе и упорно смотрела вниз, на черную полоску воды. В этом мрачном, темнее самой ночи, пятне не отражались даже Неме и Крил.
В третью ночь на третьей неделе, когда она сидела и ждала, как обычно, океанская гладь разверзлась. Что-то появилось и, кашляя и бессвязно лепеча, принялось в панике молотить по поверхности воды. Джахира вскочила на ноги и бегом спустилась к пляжу. «Хорошо, что небо сегодня звездное, а не то лететь бы мне вниз кубарем». Сверху Касх, Воин с головой собаки, наблюдал за тем, как она скинула с себя одежду, нырнула в океан и поплыла к пронзительно визжащему барахтающемуся созданию. Джахира хорошо плавала и смогла вытащить его на берег.
Уже здесь женщина поняла, что существо, которое сейчас лежало рядом с ней на песке и, так же как она, пыталось отдышаться, — всего лишь ребенок. Девочка лет двенадцати-тринадцати, с белой, словно алебастр, кожей, тонкая, словно тростинка. Джахира завернула ее в пальто. Нужно поскорее отнести ее домой. Подальше от пляжа, пока кто-нибудь не увидел, что извергла Саммариндская впадина вместо принца — любимца всех горожан — и незнакомки, которая навлекла на него смерть.
Спотыкаясь, они тащились по песку, в ноги врезались мелкие ракушки и хрупкие кости покореженных гадов, выброшенных на берег темным саммариндским приливом.
Девочка не могла говорить. С губ срывались ужасные горловые звуки. На язык не похоже, но Джахира и так все понимала и не удивилась, заметив между пальцами на ногах и руках ребенка тонкие перепонки.
Джахира тихо и ласково шептала в ответ, что защитит и никому не даст навредить ей. Но она прекрасно знала, что девочку не оставят в покое. Жители города-порта Саммаринда выследят и убьют ее без лишних вопросов, та же участь ждет и базарных старух, продавших Мариям частицы Хрустальной скалы, если они вообще еще живы. Много ли нужно, чтобы старые суеверия ожили вновь? Глазом моргнуть не успеешь, как беспощадная волна насилия, тянущаяся из прошлых веков, вновь накроет родную землю.
При свете Касха Джахира поняла, что потерянный глаз — никакая не дань, а всего лишь пшик, тщеславный поступок ради внимания окружающих. Ее истинная дань в том, чтобы защитить дитя Впадины, жуткое порождение Мариям и принца Ориаса. Даже ценой собственной жизни.
СТИВ БЕРМАН
История о слезах
Пер. О. Полухина
Гейл ненавидит выходить на улицу в уксусный дождь. Она не доверяет колдуньям, которые утверждают, будто он очищает кожу и удаляет бородавки. Еще ребенком она как-то положила в уксус куриные косточки, а несколько дней спустя обнаружила, что они стали словно резиновые. Она убирает с лица мокрые пряди волос, кривясь, когда кислые струйки пробегают по ее губам. Руки тянутся к карманам джинсов, снова проверяя, на месте ли пластиковая бутылочка с аспирином, прихваченная в приюте.
Пройдя квартал, она спотыкается. Ее кроссовки намокли, и ноги мерзнут, когда Гейл наступает в лужи. Слабый свет, пробивающийся с неба сквозь сизые тучи, придает улицам незнакомый вид, и на мгновение девушка думает, что она заблудилась, но затем слышит запись саксофона.
Потом Гейл различает впереди линялый навес и белую кирпичную стену. Двери пришедшей в упадок гостиницы остаются открытыми до наступления ночи.
В холле в старинных хрустальных люстрах гудят лампы. Безмолвная людская очередь стоит в ожидании перед конторкой портье. Каждый человек держит в руках то, что, по его мнению, представляет ценность. С тяжелой мокрой одежды капает вода и пропитывает потертый персидский ковер. Из спрятанных динамиков льется очередная душераздирающая мелодия, исполняемая духовыми инструментами.
Она чувствует озноб в удушающе теплом холле. Промокший свитер висит на ней свинцовым жилетом. За стоящими в очередь людьми она замечает малышку Бреннан. Девочка сидит на конторке, и ее крохотные ножки свисают вниз. Колдуньи нарядили ее в лимонно-желтый сарафан с кружевной оборкой, а светлые волосики завязали на затылке белой резинкой. Одна из сестер Грейс стоит рядом. Гейл видит, что старушка улыбается и щиплет обеими руками щечки Бреннан. Не ласково, а довольно сильно, так что лицо девочки краснеет, а костяшки пальцев колдуньи белеют. Бреннан начинает плакать, и старушка гладит ее по подбородку. «Вот так, вот так, хорошо, дорогая, — нежно бормочет она и поднимает чайную фарфоровую чашку для сбора слезинок. — Этого вполне хватит».
На колдуньях надеты яркие фланелевые ночные рубашки и шлепанцы. Их слабые водянистые глаза напоминают глаза охотничьих собак.
Возле первой Грейс стоит ее сестра-близнец, которая держит наготове старинный шприц из стекла и сияющего хрома. Гейл видела такие в черно-белых фильмах. Губы колдуньи вытягиваются в букву «о», когда она опускает иглу в чашку и начинает аккуратно втягивать жидкость.
Гейл пытается не таращиться, когда игла прокалывает кожу человека, дождавшегося своей очереди. Запах стоящих здесь людей вызывает в ней тошноту. Наркотическая зависимость от слез не оправдание для того, чтобы не мыться. Гейл обещает себе, что организует для наркоманов ванны, как только вернется на работу к колдуньям. Она может стащить откуда-нибудь соль и ароматное мыло. Все будут ей признательны.
Она взбирается по огромной лестнице, стараясь не зацепиться ногой за разодранную дорожку. Мужчина средних лет, в джинсовом комбинезоне, еле плетется по ступенькам. Одна рука волочится по стене, оклеенной обоями; он не опустил рукав после инъекции.
Слезные наркоманы не всегда добираются до своих комнат, некоторые падают на лестничной площадке или в коридоре. Колдуньи ненавидят, когда такое происходит. Они говорят Гейл, что гостиница приобретает из-за этого неопрятный вид. Старушки требуют, чтобы она укладывала клиентов в постель.
Гейл вернется позже и проверит, не требуется ли этому мужчине помощь. А сейчас она должна в последний раз поговорить с Александром. Ему нужен аспирин.
Все комнаты на третьем этаже гостиницы (лестница пропускала второй этаж, и сколько Гейл ни пыталась, дорогу туда так найти и не смогла) имели номер 83. На четвертый и пятый этаж колдуньи запрещали ей соваться. Лифты не работали с того момента, как в прошлом году исчезла реальность, и единственный путь на верхние уровни лежал через мрачные переходы лестничных пролетов для прислуги. С самого первого дня работы на колдуний, а случилось это несколько месяцев назад, Гейл стала считать себя служанкой и обследовала гостиницу с максимально возможной тщательностью.
Именно так она и натолкнулась на Александра в комнате 450 на четвертом этаже. Или в комнате 540 на пятом. Порой номера менялись, стоило только отвернуться.
Она брела мимо дверей по тускло освещенному коридору и пальцами выковыривала из банки пряную ветчину. И тут она услышала голос одной из сестер Грейс.
— Давным-давно в уксусной бутылке жила старуха? Не слишком-то правдоподобное начало для моей истории.
Гейл заглянула в комнату. Колдунья сидела на неудобном деревянном стуле, какие стояли во многих комнатах гостиницы. Она склонилась над молодым мужчиной, лежавшим поверх простыней, и своим крючковатым пальцем приподнимала полу его халата. Под халатом мужчина был обнажен, но кто-то исписал все его тело красными чернилами. Даже подошвы ног покрывала надпись: «Я должен быть безмерно счастлив, оттого что живу здесь», которая поднималась по левой ступне и спускалась по правой.
— Думаю, ты мог бы придумать мне концовку получше, — сказала колдунья. — Неблагодарный.
Мужчина фыркнул. Или вздохнул.
Когда старушка поднялась, Гейл скользнула в гостеприимную темноту соседнего номера. Она дочиста облизала пальцы и засунула пустую банку в карман. А затем услышала скрип половиц под шагами проходившей мимо Грейс. Они вечно скрипели, и Гейл гадала, не старится ли постепенно гостиница от этого скрипа.
Прежде чем войти в комнату к мужчине, она досчитала до ста. Его грудь вздымалась и опадала под белым махровым халатом. Письмена исчезли с его бледной, обтягивающей кости кожи. Он мог бы показаться симпатичным, если бы его не лишили всего волосяного покрова: ему не только обрили голову, но и выдергали брови и ресницы.
Он открыл глаза. Кровавая фраза «Кто здесь?» выступила у него на лбу.
Его изуродованное тело выдавало в нем Пострадавшего, одного из тех, для кого Исчезновение оказалось переменой к худшему. Она никогда раньше не видела их так близко.
— Это больно?
Он кивнул. Она почувствовала облегчение, узнав, что он испытывает муки. Это имело смысл. Слишком многие вещи, касающиеся гостиницы и Зоны Исчезновения, не имели никакого смысла.
— Интересно, почему сестры ни разу не упоминали о тебе? — Она присела к нему на кровать.
«Я их сувенир на память. Александр».
— А я Гейл. Я выполняю всю нудную работу для колдуний. Похоже, они не очень-то ценят свой сувенир. — Она решила, что он весит не больше сорока килограммов.
«Верно», — закровянилось на его подбородке и шее.
— Я не прочь читать твои ответы, но настоящую беседу с тобой вести трудно. Мне придется тебя разглядывать, а мы только что познакомились. — Она чуть не хихикнула.
Александр открыл рот. Она увидела исключительно белые зубы, но языка не обнаружила. Не было там и шрама.
— Извини.
«Можешь принести мне какой-нибудь еды?»
— Конечно.
Она пожалела, что прикончила пряную ветчину. Настоящую еду трудно было найти Внутри. Эту банку она вытащила вчера поздно ночью из-за конторки: один из наркоманов, должно быть, принес ее в качестве платы за дозу. Такой ароматный паштет Александр мог бы легко проглотить и без языка. Она сомневалась, был ли он способен пережевывать пищу.
В огромной кухне гостиницы не было электроэнергии. Но колдуньи договорились с одним антвоком, и тот установил холодильник — массивный белоснежный реликт, который притаился в углу кухни, словно покрытое пылью ископаемое. Хотя он и работал без электричества, урча и вздрагивая, старушки, должно быть, недоплатили Одаренному, потому что магия холодильника производила на свет только охлажденные приправы. Однако колдуньи, по всей видимости, не возражали, поэтому изо рта у них постоянно несло кисло-сладкими специями.
Гейл никогда не доверяла ни одному из Одаренных. Они жульничали в науке выживания, используя свои незаслуженные таланты. Умение пробуждать вышедшие из строя бытовые приборы могло бы показаться убогим даром, но эта способность давала антвокам преимущество над простыми людьми, вроде самой Гейл, которым приходилось вступать в единоборство с жизнью в Зоне Исчезновения. Она жалела, что не сбежала из Филли до того, как возвели высоченные бетонные стены, изолируя территорию, зараженную «инфекцией реальности», как называли все случившееся остальные жители страны. Первые дни Исчезновения казались волнующими, однако новизна стерлась под действием постоянной неопределенности: улицы меняли свое направление день ото дня; сегодня становилось рискованным проходить мимо того места, которое раньше считалось абсолютно безопасным. А еще Одаренные пугали ее. Тела Пострадавших больше не могли функционировать так, как когда-то, а Одаренные использовали существовавший Внутри хаос по своему усмотрению, словно это была магия для удовлетворения их шкурных интересов.
Правила жизни менялись постоянно. Ей оставалось лишь стойко держаться. Колдуньи платили мало, но гостиничные хитрости не представляли для нее опасности. Она не церемонилась, брала все, что плохо лежит.
Гейл изо всех сил потянула за прохладную металлическую ручку холодильника. Полки заполняли банки и бутылки. Она стала их перебирать. Горчица «Колман». Сироп «Алага пикл». Яблочный уксус «Мак». Все, что пробуждали антвоки, обязательно было старинным. Она нашла индийскую приправу чатни «Бенгал клаб» и жестянку шоколадного соуса.
— Так рано, а ты уже проголодалась, дорогая? — Одна из сестер появилась в дверном проеме.
Гейл пожала плечами. У нее никогда не получалось быстро соврать.
— Тебе нужно убрать последнюю восемьдесят третью комнату. Здоровье бедного мистера Тео уже не то, что раньше. В следующий раз, наверное, придется разбавить слезы водой.
Гейл кивнула, пряча раздражение. Кому-кому, а мистеру Тео вообще не надо было бы колоть слезы. Старик пошевелиться не мог без стонов и охов.
— Я все сделаю.
Когда она стаскивала с кровати грязные простыни, на пол упала крохотная позолоченная коробочка. Гейл подняла ее, потрясла, потрогала поцарапанного эмалевого терьера на крышке. Большим пальцем откинула застежку и насчитала внутри семь малюсеньких таблеток. Что со стариком? Атеросклероз? Высокое давление? Гейл шепотом пообещала отдать коробочку мистеру Тео, как только увидит его на неделе.
Она чувствовала себя виноватой за то, что так долго не возвращалась, и несколько раз извинилась перед Александром. Самостоятельно есть он не мог и нуждался в помощи. Ей пришлось поднести чатни к его губам и вливать жижу с маленькими кусочками ему в рот. Потом в пустой банке из-под пряной ветчины она принесла воды из крана и напоила его. Глотая, он мог «разговаривать», подобно кукле чревовещателя.
«Я был первой приманкой сестер. Я заполнял вестибюль своими историями».
— До того, как они нашли Бреннан? — Гейл вытерла ему губы и подбородок.
«Да. Эту печальную малышку».
— Я однажды тайком отхлебнула из ее чашки. Было так сладко, что я чуть не задохнулась. Я уснула и увидела сон. — Гейл вспомнила ощущение на языке и дрожь, пронизавшую тогда все ее тело.
«Что тебе приснилось?»
— Вечер сквозь заснеженное стекло. Я сидела перед телевизором и с интересом слушала местные новости. По какой-то кабельной сети. Диктор говорил со мной. Не как обычно, а действительно отвечал на мои вопросы. Объявил, что завтра будет сильный дождь и я должна надеть галоши. А желтые резиновые сапоги все еще производят? Как бы то ни было, у него был глубокий прикус и ужасная накладка из искусственных волос. И в конце он сообщил, что в Филли исчезают люди, и тут появились помехи. На экране пошел снег из черно-белого конфетти, как будто выдернули вилки из розеток и отключили все, кроме электропитания. Я приблизилась к окну и поняла, что все кварталы вокруг завалены снегом, и так будет всегда.
«Иногда мне кажется, я невольно слышу сны наркоманов». Александр скорчился от боли при появлении слов. «Я помню, какие они были довольные — такие тихие, молчаливые, улыбчивые, — когда им читали вслух мои истории».
Гейл, как правило, спала хорошо, особенно если перед сном навещала Бреннан. Однако знакомство с Александром привело ее в такое волнение, что она лежала без сна на матрасе в большом танцевальном зале. Гейл перевернулась, и одна ступня выскользнула из-под одеяла. От прикосновения к мраморной плитке по телу пробежал озноб.
Зачем колдуньи держали Александра у себя? Они вроде бы всегда питали отвращение к Пострадавшим и сразу выгоняли их из вестибюля прочь. Гейл ничего не имела против них, во всяком случае против тех, кто был изуродован не слишком сильно, как, например, та девочка со стеклянными волосами, которая однажды попалась Гейл на глаза возле павильонов Аукциона еды.
Она закрыла глаза и попробовала уснуть, воображая кровавые письмена на внутренней стороне собственных век. Она думала о нем, неподвижно лежавшем на кровати. Они наказывали его? Эта мысль вызвала в ней беспокойство по поводу того, что в один прекрасный день то же самое может произойти и с ней самой.
Сестры велели Гейл стирать вручную всю одежду Бреннан. И заставляли добавлять дождевую воду при каждом ополаскивании, чтобы краски не линяли. В засушливые недели она брала уксус из холодильника.
В свободное от проливания слез время Бреннан держали в ее комнате. Девочка сидела на полу в розовой пижаме и пушистых тапочках недалеко от металлического штыря, к которому крепился ее поводок. Малышка подняла глаза на Гейл, когда та вошла с чистым бельем.
— Здравствуйте.
— Привет, кроха.
Гейл стала раскладывать вещи по полкам.
— Ты видела Человека-книжку. — В голосе Бреннан жалобное поскуливание идеально перемешивалось с обвинительными нотками.
Гейл замерла:
— Ты знаешь про него?
Бреннан кивнула:
— Ага. Он страшный.
— Ну разве ты не лапочка?
Не в первый раз уже Гейл задумалась, кем же была девочка на самом деле. В действительности она не походила на Пострадавшую и казалась абсолютно нормальной, если бы не слезы.
— Почему ты меня не любишь? — Крошечные губки надулись.
Гейл вздохнула:
— Но я люблю тебя. — Привычная ложь прозвучала совершенно естественно. Она отложила белье и взяла Бреннан на руки. — А теперь могу я получить свое лакомство? — У нее слюнки потекли от предвкушения.
Бреннан покачала головой, и светлые прядки ее волос легко коснулись лица Гейл.
Гейл не повысила голоса. Однажды такой метод уже не сработал. Бреннан могла спрятаться под кроватью, и тогда ее пришлось бы вытаскивать за поводок.
— Жадные маленькие девочки превращаются в уродин, когда вырастают.
— Как сестры?
— Как сестры. — Гейл обняла Бреннан. — Так что же?
Бреннан прикусила нижнюю губу. У нее был глубокий прикус. В уголках ее глаз засверкали слезы. А потом они потекли по пухленьким щечкам, и Гейл жадно их слизала.
От приторного вкуса возникло ощущение, будто язык покрыт глазурью, и Гейл еле подавила приступ кашля. Она отпустила Бреннан и подхватила корзину с бельем. Оказавшись в коридоре, она почувствовала, как запылали все ее внутренности. Сделав еще пару шагов, девушка остановилась под скворчащим светильником на стене. Кожу пощипывало, и она уставилась на руки, раздумывая, не прячутся ли под верхним слоем кожи слова, не процарапываются ли наружу острые засечки литер.
Визиты к Александру стали для нее так же необходимы, как и лакомые слезы Бреннан. Гейл слушала его удивительные рассказы, секреты, которые он узнавал от сестер Грейс. Когда-то они были красивыми женщинами с ногами танцовщиц и ходили по гостинице, покачивая бедрами в ритме джаза, лившегося из динамиков. Она прочитала про бродячих собак, которые, сбиваясь в стаю, патрулировали Зону Исчезновения. Что один из слезных наркоманов шпионил в пользу внешнего мира, но его отчеты представляли собой путаницу из плаксивых сновидений. Александр, похоже, жаждал внимания, несмотря на боль от историй, появлявшихся на его теле. Когда она уходила, он иногда чуть шевелился на кровати и поднимал руку, чтобы взять стакан с водой.
Следующей ночью она решила остаться с Александром до тех пор, пока глаза не начнут слипаться. Может, он предложит ей колыбельную. Взбираясь на четвертый этаж, она крепко держалась за перила. Сверху послышалось какое-то потрескивание. Лампа из комнаты Александра слегка освещала колдуний, бредущих по коридору в светлых стеганых халатах.
Гейл понадеялась, они проследуют к себе мимо его комнаты. Она никогда не знала, где они ночуют. Но старушки остановились возле номера 450. Каждая из колдуний потянулась к атласному поясу своей сестры и развязала его. Халаты с бархатным вздохом упали на потертый ковер. Их голые груди висели, как пустые мешки, но кожа на бедрах была упругой, и ягодицы казались крепкими. Колдуньи взялись за руки и вошли внутрь.
Гейл бросилась назад в танцевальный зал. Всю ночь она лежала на спине, таращилась в потолок и содрогалась каждый раз, когда ей мерещился какой-нибудь звук. Она говорила себе, что лучший выход — забыть Александра.
Она отвлекала себя, выполняя многочисленные обязанности и навещая Бреннан. Когда мистер Тео вошел в холл с пустыми руками, умоляя о дозе слез, она смотрела, как колдуньи направили ему в грудь пистолет и пригрозили, что испортят ковер, если он не уберется из гостиницы. Она так и не вернула ему коробочку с пилюлями, хотя та по-прежнему лежала у нее в кармане.
Послеобеденная очередь наркоманов растаяла. Гейл подметала холл, шваброй вырисовывая мусорные полукружия, и вспоминала о письменах Александра. Когда с холлом было покончено, ей пришлось сесть на нижнюю ступеньку и отдышаться. Руки тряслись, она потерла их и почувствовала, какие они старые и костлявые.
К ней подбежала Бреннан. Поводка на девочке не было.
— Они хотят тебя видеть. — Бреннан оглянулась, посмотрев через плечо в сторону гостиничного бара. — Большие неприятности.
Малышка сделала реверанс и с хихиканьем побежала вверх по лестнице.
Обшитые красным деревом стены бара, должно быть, некогда предполагали тепло и изобилие, однако сейчас помещение казалось душным и тесным. Обычно его запирали на замок, поскольку сестры не хотели, чтобы кто-нибудь украл жалкие остатки спиртного. Гейл обнаружила, как можно отпереть замок, практически сразу в начале своей работы в гостинице. Примерно тогда же выяснилось, что она любит односолодовое виски.
Колдуньи сидели рядышком на бордовом кожаном диванчике, обхватив ладонями хрустальные стаканы со скотчем, стоявшие у них на коленях.
— Мы слышали, ты воровала у нас, — небрежно заметила та сестра Грейс, что находилась слева.
Гейл ни разу не видела, чтобы кто-нибудь из них пил. Их влажные губы беспокоили ее больше, чем обвинение.
Близняшка опустила палец в скотч и помешала напиток, звякнув кубиками льда.
— Думаешь, молодость и симпатичная мордашка маскируют сообразительность?
О чем они узнали? Гейл попыталась вспомнить обо всем, что взяла у них.
— Ты кормишь нашу Книгу.
— У него есть имя.
Обе сестры издали необычный звук, означающий насмешку, почти хрип.
— И не я держу человека в заточении, — продолжила Гейл.
Еще один присвист.
— Кто тут в тюрьме, а кто тюремщик? — Левая Грейс сделала выпад в сторону Гейл и расплескала свой скотч. — Его истории состарили нас.
— Дорогая, ты по-прежнему красива. — Правая Грейс провела рукой по лицу сестры.
— Я забираю его.
Однако слова Гейл прозвучали бессмыслицей даже для нее самой. Она понятия не имела, куда могла бы переправить пленника. Однако мысль о том, чтобы делить Александра с колдуньями (и воспоминание о том, как они разоблачились и направились в его комнату), причиняла ей боль.
— Он трахал тебя?
Правая Грейс ухмыльнулась, пробегая пальцами по седым волосам сестры.
— У него член в форме авторучки.
— Ужасно острый.
— Больно до ужаса.
Выбегая из бара в холл, Гейл услышала, как одна из них выкрикнула:
— Мы единственные, кто никогда не устает от его историй. Мы ухаживали за ним. Берегли его.
Когда голые руки заледенели на ветру, Гейл пожалела о своем решении так быстро покинуть гостиничное тепло. Она бесцельно прошла два следующих квартала, убеждая себя в том, что наутро колдуньи протрезвеют и успокоятся. И возьмут ее обратно, если она пообещает избегать Александра.
Она видела пар от своего дыхания. Ближайшая дверь вела в магазин спиртного. Осколки стекла покрывали почти весь пол. Полки были разграблены, вероятно, уже давным-давно. В одном из проходов она нашла и отряхнула плакат с рекламой виноделен в Пенсильвании. Завернувшись в него, Гейл улеглась на какие-то старые деревянные поддоны и попыталась уснуть.
Зашевелилась она, когда было уже довольно поздно. Те прокисшие остатки вина, которые плескались на донышках разбитых бутылок, казалось, окутали слизистую ее горла. Голова болела, и состояние здорово напоминало похмелье.
С утра на колдуньях были надеты веселенькие ночнушки в цветочек. Сестры нахмурились, когда Гейл вошла в холл.
— Мы считали тебя своей дочерью, — заметила одна из старушек.
— Однако ты стала чересчур своенравной, и мы не можем больше тебя любить, — сказала другая и револьвером показала на дверь. Оружие в ее руке блестело, словно смазанное маслом.
— Мои вещи… — Поставив ногу на ступеньку лестницы, Гейл услышала щелчок взводимого курка.
Сестры прыснули, а Бреннан заглушила смех, прикрыв рот своей маленькой ручкой. Очередь всклокоченных наркоманов рассыпалась, когда те заметили, что Гейл плачет, и ей пришлось продираться сквозь путаницу рук, тянувшихся к ее лицу.
Девушка бесцельно бродила по округе. Она чуть было не зашла в чайную лавку, но вспомнила, как ее вышвырнули оттуда, когда поймали на воровстве. Она залезла тогда в открытую сумочку одной из покупательниц. Гейл удалось немножко вздремнуть в каком-то глубоком дверном проеме, пока ее не растолкали.
Над ней склонилась пара с добрыми лицами, и это вызывало в девушке беспокойство, пока она старалась очухаться ото сна. Незнакомцы настаивали, что в приюте она окажется в большей безопасности. Гейл удивилась: она и не знала о существовании подобных мест. С другой стороны, она ни разу так и не осмелилась исследовать все извилистые улочки Зоны.
Раньше в помещении приюта располагался роскошный кубинский ресторан. До Исчезновения Гейл никогда бы не могла себе позволить сюда войти. Стены по-прежнему покрывала штукатурка теплого оранжевого оттенка и вставленные в рамы старинные картины, на которых выгибались или потягивались полнотелые женщины, окруженные сигарами. Только теперь они взирали на убогие койки, накрытые одеялами, и столы, заставленные мисками и подносами. Пепельницы из полированного дымчатого мрамора были задвинуты в углы, и из них торчали огарки свечей.
Пухленькая маленькая женщина с коротко остриженными волосами, сотрудница приюта, выдала Гейл теплую одежду из коробки с пожертвованиями и предложила отдохнуть на одной из кроватей. Шерстяной свитер пах плесенью и висел на теле девушки, словно палатка. Другие постояльцы настороженно разглядывали ее. Она выпила солоноватый суп и решила выяснить, на какой основе здесь работают: за деньги или бесплатно.
Когда сотрудница отвлеклась, чтобы помочь тощему, одетому во все черное парню, который разносил посылки, Гейл как следует осмотрелась и за наспех повешенными портьерами обнаружила изолятор. Она подняла зажигалку, лежавшую на стопке писем, провела большим пальцем по выгравированной надписи «Арома», затем крутанула колесико и зажгла крошечный огонек. Такая штуковина, очевидно, чего-то стоила. Девушка сжала зажигалку в ладони, так чтобы вернувшаяся сотрудница ничего не заметила.
— Думаю, мне нужно на воздух, — сказала Гейл женщине.
По пути в гостиницу она вела долгую телепатическую беседу с колдуньями. Они сказали, как сожалеют о том, что выгнали ее, и предложили угощение. Бреннан ужасно обрадуется ее возвращению. Сладкие слезы польются по круглому личику малышки. Слезы для нее одной.
Когда Гейл переступила порог, сестры махнули ей, приглашая подойти к конторке. Девушка подняла вверх свое подношение и зажгла огонь:
— Это подарок.
— А-а-а, дорогая, мы предполагали, что ты можешь вернуться за дозой. — Одна из старух дружелюбно похлопала Гейл по руке, а вторая наполнила из чашки шприц.
— Ты осунулась. Плохо спала?
Девушка закатала рукав свитера при приближении колдуньи со шприцем. Однако поршень опустился, не дав игле проткнуть кожу. Слезы брызнули и упали на пол.
Гейл вскрикнула, как будто ее проткнули насквозь, и рухнула на колени. Она едва удержалась, чтобы не схватиться за намокший ковер.
— Может, тебе лучше поваляться в обнимку с хорошей книжкой, дорогая?
Она обхватила себя руками, пытаясь защититься от насмешек, но они все равно причиняли боль. Она не знала, куда пойти, поэтому отправилась обратно в приют. Ей хотелось сейчас немного заботы, а потом она решит, что делать дальше. Все Нормальные, кто не имел в Зоне определенного занятия, в результате оказывались без крова и пищи. Скитаться Внутри было делом опасным. Изменились не только люди. Ходило слишком много слухов о плотоядных переулках и руинах.
Этим вечером она проснулась мокрая от пота. Ее пальцы дергались, а тело горело, словно в животе разлилась кислота. Гейл не могла понять, где находится, и несколько минут пребывала в состоянии паники, пока глаза не привыкли к темноте и не вернулась память. Она позвала сиделку. Ее крик отозвался стонами и проклятиями проснувшихся постояльцев. Сладкая микстура, которую принесла сиделка, понемногу успокоила девушку.
Пронзительная боль сопровождала любое ее движение на следующий день. Каждый вдох требовал усилия. Она нашла маленькое зеркальце и долго разглядывала свое отражение. Всегда ли кожу вокруг глаз покрывали морщины? Другие женщины в приюте засмеялись над ее — как они, должно быть, подумали — тщеславием, но Гейл знала, в чем дело. Колдуньи предупредили ее относительно Александра слишком поздно. Она чувствовала себя старухой.
Наставница пристала к ней с вопросами о наркотиках. Гейл завопила, требуя оставить ее в покое. Она знала: сестры больше никогда не дадут ей увидеться с Бреннан. Ей ничего так не хотелось, как взять малышку, прижаться к ней и целовать нежное личико. И тогда все снова бы встало на свои места.
Прошел дождь, и боль усилилась. Это наверняка был артрит. Трясущиеся пальцы потянулись к коробочке из фальшивого золота, лежавшей в кармане. Гейл склонилась, чтобы остальные не увидели содержимого коробочки. Она раздумывала, не принять ли одну из загадочных таблеток мистера Тео. Гейл пристально смотрела на таблетки, и на их поверхности начали постепенно проступать буквы. Она словно держала в руке крошечные кусочки таинственной кожи Александра.
— Что такое ланоксин? — спросила она сиделку, когда та подошла ее проверить. Гейл держала свое сокровище под одеялом.
Глаза женщины налились подозрением.
— Дигиталис, или наперстянка. Тебе еще слишком рано беспокоиться о подобных вещах.
— Мне показалось, я слышала, кто-то здесь просил это лекарство.
— Надеюсь, ты ошибаешься. Это для людей со слабым сердцем. — Наставница склонилась и прошептала: — Как твоя ломка?
Гейл покачала головой. Наставница не поняла. Гейл больше не нуждалась в историях Александра. Нужно было прекратить их читать. И колдуньям тоже. Вдруг без своей Книги они все снова станут молодыми? У него, скорее всего, ужасно злое сердце, если он причиняет им такие страдания. Возможно, ей не придется скармливать ему все эти маленькие пилюли.
— У вас есть аспирин? — спросила она.
Колдуньи совсем не обращают внимания на то, что она поднимается по лестнице. А может, они одобряют ее план. Да, наверняка одобряют. Может, и Бреннан тоже.
Гейл барабанит своими больными руками по открытой двери Александра. Он внимательно смотрит на нее с кровати. Она посылает ему самую что ни на есть дружелюбную улыбку:
— Давай поговорим.
Она трясет бутылкой. Ланоксин дребезжит вперемешку с аспирином.
«Сестры сказали, ты ушла».
— Тебе больно, я знаю. — Она стискивает зубы, откручивая крышку. Ей требуется несколько попыток, и в результате она едва не задыхается. — Вот. — Она подносит таблетки к его губам.
Он открывает рот, и она кладет пилюли точно на коренные зубы. Он сжимает челюсть.
— А теперь расскажи мне историю. — Она садится на стул.
Буквы проступают на его коже, а она сдерживает дрожь в предвкушении конца.
СТЕФАНИ КАМПИЗИ
Заглавие
Пер. В. Полищук
В центре города, между облюбованной наркоманами опушкой Ситтер-парка (там, где торчки шляются по колючей от оброненных иголок и блестящей от фольги траве) и мрачной громадой комплекса «Адовы трюки», который уродует горизонт Скендгротиана своими непомерными зеркальными окнами и огромными деревянными лестничными площадками, — так вот, между ними кое-как втиснулся островок религии и духовности и всего того, что давно уже попало под запрет. Тесно, точно ласточкины гнезда, лепятся друг к другу, выстроившись полумесяцем, жилые дома, склады, заброшенные церквушки, насильно объединенные однотипными новодельными фасадами, цементными и грубыми. Фасады щетинятся и кучерявятся какими-то архитектурными деталями и завитушками, а поверх них спутанными прядями свисает плющ, который, изнемогая от жажды, выпил из пористых стен всю влагу.
Крайним в ряду этих мрачных зданий стоит покосившийся дом с террасой. Весь он в оспинах и выщербинах — следах многолетних войн между уличными бандами. Фундамент его источен, словно гнилой зуб, потому что год за годом о подножие дома бьются волны реки Аквы. Здесь и нашел временное прибежище Регент Полертрони — в этом угрюмом здании, подпирающем Храм, самое знаменитое культовое сооружение Скендгротиана. Дом Регента прислонился к Храму, точно подвыпивший служка. Как и десять лет назад, дом примечателен тем, что на низеньких воротцах в его сад, против обыкновения, не видно никаких табличек с именами, чинами, званиями и титулами. Однако теперь уже не видно и сами воротца, скрытые неровной завесой вьющихся растений, которые бурно разрослись из деревянных шпалер на стенах.
Регент устроился на небольшом деревянном стульчике, таком облупленном, что с него сеялись белые чешуйки облезшей краски — словно отмершие клочки с загорелой кожи. На сиденье Регент подложил круглую подушку, обшитую выцветшим ситцем. На коленях он держал старенькую деревянную доску и рассматривал прикнопленную к ней фотографию некоего нового устройства. Время от времени Регент устраивался поудобнее — подрагивала пристроенная рядом с фотографией чашка с неизменным маковым отваром, и доска подрагивала, и подрагивал на ней листочек, испещренный паукообразным почерком Регента — уверенными математическими пометками. На фотографии изображен был загадочный ящик, к которому прилагался щиток с бледными, будто костяными, клавишами, на каждой — буква. Вместо передней стенки у ящика имелся скругленный стеклянный экран, смотревший внимательным глазом. А к боковой стенке на изогнутых шурупах крепился маленький генератор.
Работал Регент торопливо — памятуя о капризном нраве скендгротианского светила, которое то надолго пряталось за перистыми облаками, то вдруг выползало из-за них и принималось злобно палить таким жаром, что зловонные, зараженные Морью воды реки Аквы бурлили и шипели, как кипяток. Время от времени Регент сверялся с фотографией, что-то прикидывал и замерял, а потом методично вносил замеры в обширную таблицу, напоминавшую зачаточный вариант таблицы химических элементов. Регент был самым известным ономастом в центре города, вернее, известным в той степени, в какой это возможно для представителя запрещенной религии.
Нынешний его заказ не требовал ничего сверх знания основ ономастики и еще — основ механико-этимологических исследований, да и идея была достаточно проста: тайное имя устройства, изображенного на фотографии, разве что не выпрыгивало со страницы, настолько оно было очевидно. Регент проворно дорешал оставшиеся уравнения, заполнил бланк, внеся туда имя устройства, а также выписал счет за оказанные услуги, после чего аккуратно переложил доску наземь, вернее, на потрескавшиеся каменные плиты, сквозь которые там и сям выпирали островки мха.
От макового отвара во рту у Регента возникло жжение. Он все сильнее пристращался к этому напитку, который когда-то испробовал в надежде избавиться от скуки, и теперь привычка к зелью точила его день и ночь и ныли десны, до крови изъеденные отваром.
Если бы Регент откинулся на стуле и всмотрелся в даль, туда, за неровную гряду зданий по берегам Аквы и ее рукавов, он различил бы причудливые колючие силуэты модернистских скульптур, которые щетинились на обширной остроконечной крыше Центрального университета. Вот уже пятнадцать с лишним лет, как Регент служил там, и все-таки ежедневный путь, который он проходил к привычному кабинету, минуя плоские крыши первого уровня, мимо зеленых застекленных дверей, и еще три этажа вниз, и вот, наконец, библиотечное крыло, — путь этот не утратил для Регента своей притягательности.
О, что за кладезь возможностей таила в себе университетская библиотека! Какие горизонты открывались в ней для исследования, затеянного Регентом! Нет, об этом даже думать без волнения невозможно. Регент поднял с каменных плит свои записи и направился в дом — приготовить еще порцию макового отвара.
Хотя книга и была обтянута тканью, острые углы обложки все равно впивались Юнцу в ногу, оставляя красные вдавленные пятнышки, куда затекал струившийся у него по спине пот. Над головой у Юнца зашелестел трамвай, беспокойно покачиваясь под проводами, которые с каждым днем обвисали все больше. С тех пор как полвека назад из-за наводнений отключился генератор, а рельсы разобрали, трамвай так и стоял посреди улицы, никому не нужный. Полуоткрытую дверь заклинило под настойчивыми ударами острых вороньих клювов, и в щели торчала скрюченная, почерневшая рука, на которой еще оставалось два пальца, тоже скрюченные. Казалось, рука кому-то машет.
Сам трамвайный вагон давно почернел под слоем жирной копоти — отрыжки крематория «Башни Аббатства», жавшегося вплотную к кладбищу. Собственно, туда бы и отогнать трамвай вместе с его содержимым, но городу уже не по силам было переварить неиссякающий поток мертвецов — эпидемия, войны гангстерских синдикатов, самоубийства… Юнцу, хоть и не ведавшему толком жизни, хоть и чистому душой, городские ужасы были известны так же хорошо, как и значимость книги и возложенной на него миссии.
Время давно перевалило за полдень, и даже в переулках, где лачуги, наскоро сколоченные из обломков, вздрагивали от шагов прохожих, кишмя кишели люди — кто спешил на работу из дому, кто в опиумную курильню после длительной сиесты. Все стремились так или иначе укрыться от жары и палящего солнца. Мимо Юнца прошагал какой-то человек, напоминавший ходячий аптечный лоток, весь увешанный связками и кулечками с целебными травами, семенами, нанизанными на нитки, гирляндами сушеных ягод, — издали их можно было принять за диковинные украшения, какими обвешиваются городские дурачки. Он на ходу ткнул под нос Юнцу бумажный фунтик с крошеной сухой мятой и чем-то еще, и Юнец отшатнулся от едкого запаха, согнулся и скользнул в гущу толпы — проворно, чтобы спрятаться, но не слишком поспешно, чтобы не привлекать излишнего внимания. Слиться с толпой, замешаться среди жрецов-крамткровийцев, у которых носы источены кокаином, среди согбенных прачек, что волочат джутовые тюки, набитые проваренной в машинах одеждой… спрятаться вон за того прохожего, у которого на шее болтается тотемный оберег — дюжина попугаев на веревке, пропущенной через черепа.
Город скользил перед глазами Юнца, мелькали водосточные желоба, мигали и переливались щиты чудо-картинографа. Юнец ни на секунду не забывал о припрятанной книге и старался шагать побыстрее, не отвлекаясь на все то чудесное и чудовищное, что со всех сторон бросалось в глаза на городских улицах. А еще он прилагал все усилия, чтобы не выдать свой страх перед этим местом, столь непохожим на его родину — одну из глухих бракисских деревушек. Чтобы было не так страшно, Юнец сосредоточил все свои помыслы на том, какое благо принесет книга его соплеменникам, и твердил себе: «Как же будет хорошо, когда я наконец выясню ее имя».
Регент управился с черчением крестословицы, которую составлял для завтрашней газеты; теперь осталось только заполнить ее, что он и проделал уверенной рукой. Получилась она не то чтобы очень мудреной… Регент и его бывшие коллеги по университету шутливо называли такого рода крестословицы «малыми вариациями в И-миноре», и неспроста: строились они главным образом на редком и отчасти сакральном значении буквы «И», ведомом лишь избранным.
День уже начал клониться к вечеру, и небо зарумянилось (хотя, быть может, оно виделось Регенту таким под воздействием макового отвара). Нежный вечерний свет пронизывал густую зелень, заполонившую крошечный садик перед домом Регента, и казалось, будто окружающее пространство напоено мерцанием множества крошечных свечек и здесь затевается некая торжественная религиозная процессия — из тех, что и не снились городской молодежи, из тех, что даже сам Регент помнил смутно: вереницы причудливых масок, разноцветные наряды, а облаченные в них молодые шествуют так медленно и осторожно, точно босые ноги их ступают не по земле, а по тонкому хрупкому стеклу.
Регент погрузился бы в воспоминания еще глубже, но его отвлекли чьи-то неуверенные шаги по шатким самодельным мостикам, там и сям пересекавшим мутную Акву, — несколько балок, положенных на разной высоте. Без этих мостиков горожанам нипочем было бы не добраться до верхних этажей старых зданий, выстоявших во время наводнения, а также до надстроек, возведенных уже в эпоху после наводнения — наспех, беспорядочно, без всякой заботы об архитектурных красотах.
Вот и сейчас перед увитыми плющом воротцами, которые, как надеялся Регент, защищали доступ в его сад, топтался молоденький юноша, от силы лет двадцати. Регент подметил, что лицо у пришлеца обветренное, обожженное безжалостным палящим солнцем, а значит, юноша явился из деревни, — множество поселений окружало город сплошным кольцом, и там от солнца не было защиты. Вот откуда ранние морщинки около глаз на этом молодом лице. В городе-то солнечные лучи рассеивались, отражаясь от многочисленных зеркальных окон, да еще с трудом просачивались сквозь густой смог, поэтому горожане загаром не отличались и кожа у них была у кого белее алебастра, у кого темнее шоколада — в зависимости от района. А этого юношу старили не только ранние морщины, но и глаза — странные серые глаза, в которых полыхала надменная непримиримость молодости, но в то же время из этих глаз смотрели горечь и фатализм старости. Регент заерзал под этим взглядом:
— Чем могу служить?
Он отложил крестословицу и придавил листок тяжелой перьевой ручкой, чтобы не унесло внезапным порывом ветра.
Мгновение юноша молчал, опустив глаза, — он искал табличку, какая обыкновенно висит на воротах, но на воротах у Регента таблички не имелось, и потому гость снова взглянул в лицо хозяину.
— Доктор Полертрони? — спросил юноша гортанным голосом, глотая гласные и слегка картавя. Выговор точно бракисский, определил Регент. — Вы… — гость словно колебался, произносить ли опасное слово вслух, — вы… тот самый ономаст?
Получилось все-таки слишком громко — голос юноши прокатился над мутными водами Аквы и эхом, колоколом гулко отдался в ушах у Регента.
— Мне поручено обратиться к вам за помощью, — ровным голосом продолжал гость, комкая слова.
Он извлек откуда-то из-под рубахи объемистую книгу в кожаном переплете, завернутую в яркую шелковую ткань, и протянул ее через ворота Регенту. За руку посетителя зацепился побег вьющегося растения, но стоило юноше отдернуть ее, как белый цветок, венчавший побег, сник.
Регент поднялся, шагнул к воротам, взял у юноши книгу, взвесил на руке — тяжелая! — и жестом пригласил посетителя войти. Ветерок принес аромат подогретого меда, которым в ближайшей пекарне пропитывали всю выпечку без разбору. Регенту взгрустнулось — вот чего ему недоставало: домашнего невинного уюта, распределенных семейных ролей, привычных и неизменных, какие есть у всех людей, но нет у него.
Узловатые худые пальцы Регента алчно пробежали по корешку увесистой книги, сомкнулись крепче. Он чувствовал, как липли к шелковой обертке потные ладони. Юноша скользнул в сад мимо хозяина; остро повеяло луком, чесноком и пряностями, смесью пота и одеколона.
Регент, все так же не произнося ни слова, указал гостю на табурет с ситцевой подушкой, а сам дотянулся и запустил генератор — металлического паука, свисавшего с провода над крыльцом. Генератор вздохнул и замерцал неверным, жиденьким светом. Лампа была забрана сеткой, и потому на крыльцо легли световые круги вроде годовых колец на срезе пня.
Сам Регент устроился на перевернутом деревянном ящике, осторожничая, чтобы не напороться на торчащие щепки. Вновь взвесил книгу в руках, ожидая, что скажет гость.
Юноша подался вперед. Сильная шея в распахнутом вороте рубашки.
— Книга эта святая, — заговорил он, — и мои земляки просили дать ей сообразное имя. Тогда мы сможем толковать ее подробнее и сила ее от этого прирастет.
— Верно, имяположение прибавляет силы, — пробормотал Регент, лаская корешок книги и не сводя с нее глаз.
Он развернул шелковый узорчатый кокон, весь в пурпурном и золотом крапе, обнажил кожаную обложку, но на челе книги не было заглавия, лишь линии, сплетенные в причудливый узел — три вывернутые наружу петли.
— Мне можно ее открыть? — спросил Регент. Мало ли какие традиции и правила связаны с этой книгой, подумал он. Давно, давно он не имел дела с подобными вопросами.
— Разумеется, — ответил юноша.
Он поколупал носком башмака пышную подушечку мха, выпиравшую между каменными плитами. На руку ему опустился долгоногий налитой комар. Мгновение юноша с интересом рассматривал его, потом легонько смахнул, не прихлопнув.
— Но это не бракисские письмена, — заметил Регент, изучая убористые столбцы текста, которые сбегали по странице сверху вниз. Книга рукописная, решил Регент, но писано безупречно, только по мелким неровностям и поймешь, что от руки, да еще по пышным буквицам и хвостатым, щегольским росчеркам. — Написано на одном из мертвых языков, — подытожил он.
— Именно так, — уверенно кивнул юноша. — Книга на старосильтанском. Прекрасный язык, совершенный язык, один из сложнейших в мире. Его изобрели… разработали нарочно для религиозных нужд. — Последнее он добавил приглушенно.
Регент жадно листал книгу, не веря своему счастью. Вот так удача, вот так случай представился!
— Числовые системы, как я погляжу?
— Мы называем это геометрией слов. — Юноша поднялся, расправил плечи, но как-то неуверенно, будто он еще не свыкся с недавними переменами в собственном теле. — Если бы я мог оставить ее у вас… — Он не договорил, но прозвучало это вопросительно.
Регент встал, потому что взгляд его упирался в худощавые, но сильные плечи посетителя. Теперь глаза их были вровень, и Регент сразу почувствовал себя хозяином положения. А чтобы укрепить позиции, он прошел к калитке и распахнул одну створку.
— За месяц управлюсь. Надеюсь, не дольше. Приходите через месяц, и будет вам имя книги.
Юноша помедлил, словно не веря, что священная книга здесь и правда в безопасности, затем робко улыбнулся, повторил «месяц» и скользнул за калитку. В сумерках Регент слышал, как он крадется по мостикам-балкам над Аквой. Как ни старался гость, дерево отчаянно скрипело у него под ногами в плотной вечерней тишине.
Юнец замер на одном из множества пешеходных мостиков, переброшенных через Акву, среди путаницы пересекающихся балок, занозистых досок, щербатого кирпича. Кто их выстроил, неизвестно, но строили явно небрежно и спустя рукава, просто чтобы как-то соединить берега Аквы, на которые выходило множество сумрачных проулков. А вот ниже виднелся аккуратный горбатый мостик, сложенный из голубоватого глинистого песчаника, украшенный разноцветной мозаикой, ажурной резьбой и фигурными перилами. В перилах уныло посвистывал ветер. Это затейливое сооружение отличалось красотой, но никак не практичностью.
Стараясь не потерять равновесия, Юнец всматривался в ту сторону, откуда только что пришел, разглядывал увенчанное куполом строение, которое опиралось на домишко доктора Полертрони, словно раненый боец. Огромные фасадные окна, вероятно некогда украшенные великолепными витражами с изображением различных мифологических сцен, теперь зияли чернотой, из которой торчали покореженные обломки металлического каркаса, в прошлом содержавшего разноцветье стекол.
Юнец удержался на ногах и, перепрыгнув на берег, поскользнулся в грязи, в которой распластались водоросли. Он едва на наступил в лужу засохшей блевотины, похожей на заплату из папье-маше, выплеснутой поверх острой осоки и увядших речных лилий. То и дело спотыкаясь, Юнец карабкался по тропинке. Голова у него кружилась от влажной духоты. Из сточной трубы выскользнул дикий кот, тощий и взъерошенный, молниеносно сиганул из-под ног человека на полуразрушенный балкон заброшенного особняка, сохранившего остатки былой прелести.
Крошечная церквушка когда-то явно была расписана небесно-голубой краской, теперь едва угадывавшейся под слоем жирной копоти и водорослей. Птичий помет покрывал оконные карнизы сплошной белесой коростой, а в щели между камнями пробивались все новые побеги вьющихся растений, отвоевывая себе территорию. Стрельчатые двойные двери перекосились, а кованый накладной узор, украшавший их, проржавел и местами погнулся.
Юнец двинулся вокруг Храма к северному приделу, который не было видно из сада доктора Полертрони. Здесь вход в церковь преграждали лишь покореженная щербатая решетка и обломки камней. Пригнувшись, Юнец скользнул внутрь, сложившись почти вдвое, — такое по силам только молодым, способным просочиться в любую щель, подобно крысе.
В церкви царила раскаленная духота. Тусклый вечерний свет падал сквозь грязные окна на мозаичные стены и пол, где разноцветные плитки чередовались с зеркальными, как и на потолке, причем выложен узор был таким образом, что зеркальца на потолке отражали цветные плитки на полу и наоборот. По всей церкви от этого разбегалась рябь из сверкающих бликов, точно по морской глади в солнечный день, и Юнец минуту-другую разглядывал рябь, пока не пришел к выводу, что из-за нее не разобрать орнамент на полу, — непонятно, письмена там или рисунок.
Впрочем, он тотчас понял, что строителей церкви это нимало не заботило. Устроился на полу, скрестив ноги, и все озирался — причудливая красота Храма заворожила юношу. Так он сидел долго, а свет все меркнул, а зеркальца все отражали цветные плитки, а блики все посверкивали, а световые узоры все плыли по воздуху, тускнея по мере того, как солнце склонялось за горизонт.
Всю последующую неделю Регент Полертрони засиживался над книгой не то что допоздна, а до самого утра. Он работал в кабинете на чердаке, расшифровывал текст, обложившись словарями и грамматиками, которые извлек на свет из прогнившего деревянного сундука. Влажное дыхание Аквы беспрепятственно проникало в каждую щель дома: генераторы то и дело замыкало, книги распухали и плесневели, а свежая одежда мгновенно пропитывалась потом. В комнатах нижнего этажа всегда стояло влажное марево, особенно по утрам, когда в воздухе будто висел вязкий туман и все поверхности покрывались тончайшим налетом ила. До чердака туман обыкновенно не поднимался, так что там было несколько посуше, однако на чердачном потолке постепенно расползалось зловещее темное пятно, будто отпечаток гигантской ладони. Такие же пятна, поменьше, возникли на покоробленных обоях, соперничая с узором из геральдических лилий.
Регент закинул руки за голову и потянулся, прислушиваясь к унылому хрусту суставов. Речная гладь за окном отблескивала зеленой пленкой — следами подводного газового выброса. То и дело из-под воды, бурля, всплывала очередная Морь — расколотый череп, в котором пульсировал зеленый, словно капустный кочан, мозг. Череп хищно кидался за лакомой крупной стрекозой или незадачливой рыбой, на свою беду проплывавшей мимо.
Регент вздохнул и сложил справочники в аккуратную стопку. Затем проделал то же самое с разрозненными листками, густо испещренными записями. Он ни на шаг не продвинулся в работе над книгой и имя ее пока что не смог установить даже приблизительно. Задача оказалась ему не по силам, и немудрено: книга была написана на незнакомом языке, да еще на каком! Его, казалось, нарочно изобрели, чтобы зашифровывать, запутывать, сбивать с толку, громоздить загадку на загадку. Вполне вероятно, что так оно и было, подумал Регент, увязывая кожаный томик в пестрый шелк и затягивая узел как можно туже, так что острые углы обложки натянули ткань изнутри.
Затем Регент отключил генератор, от которого работала настольная лампа — все равно та мигала и светила из последних сил, — и, прижимая к груди книгу, цепляясь за липкие от плесени перила, спустился на первый этаж.
Городской университет располагался на границе между старой частью города и новой. Наводнение не пощадило и его, но, когда часть этажей и построек оказалась затоплена, было приложено немало стараний, чтобы их осушить; кроме того, отдельные корпуса соединили застекленными переходами.
Регент шагал к своему бывшему кабинету — налево за отделом антропологии, вниз по лестнице в отдел эзотерики, еще вниз, через геоматику насквозь, и снова вниз, минуя кафедры лингвистики и культуры, которые, казалось, естественным путем отпочковались от закоулка библиотечного крыла. Попутно он заглянул в библиотеку, где дремали ряды заплесневелых столов и массивные многоярусные полки угрожающе содрогались каждый раз, как мимо по реке с пыхтением проносился военный катер или грохотал паром. От судов разбегалась волна и с плеском подмывала библиотечные стены.
Надежды Регента оправдались: как он и ожидал, в дальнем углу при свете парафиновой лампы склонился над столом Фентон Уайт — точно одержимый, он молотил по клавишам печатной машинки. Машинка и правда свидетельствовала о некоторой его одержимости, хотя из Уайта невозможно было выжать никаких подробностей, не считая признания, что он ставит над собой эксперименты по заказу некоего значительного лица из военного ведомства.
Когда Регент приблизился, Фентон поднял голову, но пулеметного стука по клавишам не прервал. Он даже ни на секунду не замедлял работу, когда требовалось переключить клавиатуру с одного языка на другой, — а печатала она на трех. Покончив со страницей, он остановился и опустил костлявые руки на толстую черную тушу машинки.
— Получили мудреное задание, я полагаю? — проницательно сказал он. Сейчас начнет потирать руки от удовольствия, решил Регент.
Фентон обладал поразительно острой и разносторонней памятью: способен был страницами дословно цитировать книги, читанные много лет назад, в точности воспроизводить разговоры между несколькими собеседниками, но главное, он был феноменально одарен по части языков, — казалось, все богатство чужого словаря, грамматических форм, социальных и прагмалингвистических норм давались ему без особых усилий. Регент же, будучи знаменитым ономастом, свободно владел лишь тремя языками и отчасти ориентировался в нескольких диалектах, однако он обнаружил, что зависть его к Фентону угасала, стоило только напомнить себе, что, скорее всего, талант Фентона обострился вследствие рискованных экспериментов над собой, финансируемых военным ведомством.
— До одури мудреное, — признался Регент. — Которую ночь над ним сижу. Перерыл все домашние источники и к тому же, должен признать, недостаточно владею нужным языком.
— Ну ведь, насколько я уяснил, речь идет о чуждой вам области? — промурлыкал Фентон и протянул руку: мол, дайте-ка взглянуть на книгу.
Регент охотно вручил шелковый сверток коллеге.
— По-моему, задача невыполнимая. — Регент с хрустом повел затекшими плечами. Он и забыл, как у него обычно все ноет от здешнего холода. — Книга на старосильтанском. Взаимосвязь между словами местами допускает двоякие толкования, к тому же на протяжении всего текста слова появляются в десятках разных форм, поэтому конкордацию попросту не составить, а и в каузальной системе, и в глагольной парадигме используются лексические контаминации, причем в половине случаев они недостаточно определенны. В итоге любая формула, которую я пытаюсь составить, оказывается или слишком обобщенной, или слишком узкой. Все равно что ввести округленное число «пи» в условия задачи.
Фентон кивнул, согласился со словами отчаявшегося Регента и снисходительно прибавил:
— Да и язык сложнейший, конечно…
— Двенадцать склонений, четыре регистра, тройная система форм множественного числа, да еще модуляция, которая может варьироваться в зависимости от позиции буквы в слове, слова во фразе, фразы внутри предложения, а предложения — в абзаце…
Он умолк и махнул рукой, в изнеможении от великолепия неподдающегося языка.
— Все равно что язык, построенный на фракталах, — после паузы продолжал Регент. — Можно сказать, у него бесконечное число метатез и вариаций. Каждая новая формула, которую мне удается вывести, опровергает предыдущую.
— Сколько у вас сроку? — уточнил Фентон, умудряясь одновременно листать книгу и, не отрывая глаз от страниц, печатать заметки на машинке.
Регент оседлал стул за соседним столом, облокотился на его резную высокую спинку. Вздохнул:
— Еще три недели в запасе. Но я до сих пор ни на йоту не продвинулся, и ни намека на имя книги! Количество слогов? С какой буквы начинается имя? Чего больше, согласных или гласных? Транскрипция? Ничего не установил. Что ни пробую, как в тумане тычусь.
Регент осознал, что до боли стискивает спинку стула, и разжал побелевшие пальцы. Утер вспотевший лоб. Жаль, остальное не утереть — тут хоть и холодно, а он весь взмок от волнения.
Фентон, который уже успел настучать несколько страниц выписок и заметок, сдвинул очки на кончик носа и пристально посмотрел на Регента:
— Скоро рассветет, Регент. Шли бы вы отдохнуть. Прогуляйтесь в закусочную «Дымка» на Нуддл-роуд или на рынок. Или просто ступайте домой и выспитесь. Если в ваше отсутствие я что-нибудь выкачаю из книги, то сразу же дам вам знать.
Регент хотел было запротестовать, но мгновенно понял: им руководит страх, что Фентон продвинется и даже преуспеет в работе, с которой он, Регент, даже не надеется справиться. А ведь этим дело в итоге и кончится.
Он поднялся, одернул куцые брюки. Он чувствовал, как на виске нервно, настойчиво бьется от усталости жилка. Голова болела все сильнее, в глазах потемнело, боль расползалась от лба к затылку, стекала по шее. Даже челюсть заныла. Измученный, Регент подумал, что ему и впрямь хорошо бы пойти домой спать, но закусочная «Дымка», упомянутая Фентоном, представлялась более соблазнительным вариантом. До нее и ходу совсем немного, и сладкая опиумная дымка, так подходившая к ее названию, прельщала Регента.
Юнец прожил в старой церквушке чуть ли не весь следующий месяц. Днем он выбирался наружу, раздобыть копченого мяса или пригоршню личи и карамболу, но всякий раз, очутившись на улице, съеживался, избегая пристальных взглядов горожан и туристов. Постепенно он привыкал к городу, к его муравьиной суете, к пестрой смеси лиц, рас и классов и стал замечать, что все люди куда-то целенаправленно спешат, сосредоточенные на своих делах.
Как-то раз Юнец налетел на торговца газетами — чернее кожи он в жизни не видывал. Тот проворно сунул юноше обтрепанную газету. Пальцы у торговца были скрючены от застарелого артрита, а узлы на них походили на толстые кнопки от деревянных флейт, на каких играли у Юнца в деревне.
— Морь! — пролаял газетчик. Во рту у него мелькал обложенный желтым налетом язык. — Что, не хочешь узнать про Морь и про военных?
Он ухватил Юнца за руку, и тот испугался: а ну как скрюченные пальцы вопьются в его плоть намертво…
Юнец помотал головой.
— Я деревенский, грамоте не обучен, — отрезал он.
Заскорузлая лапа торговца царапнула предплечье Юнца, оставив на незагорелой коже юноши причудливые полумесяцы — следы ногтей. Зрачок левого глаза заплясал за мутной пленкой катаракты: газетчик пытался поймать взгляд Юнца.
— Неграмотный — ничего и знать не будешь! — Торговец сверкнул фальшивым золотом зубов.
Юнец потер саднящую руку и кинулся прочь по горбатому мосту, усеянному падалицей — манго и карамболами, осыпавшимися с деревьев, ветви которых сплелись над мостом. Деревья росли на самом краешке речного берега. Мимо проковылял мальчик, больной слоновой болезнью, с корзинами в обеих руках. Он, кряхтя, выбирал из кучи падалицы самые спелые плоды.
Не обращая на него внимания, Юнец облокотился на облупленную деревянную балюстраду и принялся рассматривать состоятельных посетителей, заполнивших все три яруса ближайшего кафе. Они беззаботно пересмеивались и потягивали напитки, а Юнец тем временем думал о проделанном пути.
Он добирался до города сначала пешим ходом, а затем на платформе товарного поезда, где качало и в лицо бил ветер. Лязгая, товарный состав подходил к самым городским стенам, а затем нырял в туннель, под черные воды Аквы. Но, несмотря на все тяготы и трудности, проделанный путь принес Юнцу своего рода просветление: он путешествовал, сосредоточившись на конечной цели своей миссии, он был наедине с собственными думами и у него было вдосталь времени, чтобы поразмыслить — о книге, о себе, о родной деревне, об учении, которое с самого детства преображало и озаряло жизнь каждого деревенского жителя. И не только само путешествие, но и время, проведенное уединенно и потаенно под печальной сенью заброшенного Храма, для Юнца тоже исполнилось особенного, сокровенного смысла. Город поначалу виделся Юнцу как хаотическое, бурное и опасное месиво из лиц, картинок, звуков, непонятных и безымянных и как будто ничем друг с другом не связанных; но день за днем он всматривался внимательнее, и постепенно из хаоса выстраивался отлаженный и совершенный часовой механизм.
Размышлял Юнец и о другом: если он, незаконнорожденный и оттого безымянный, прекрасно понимает сам себя, это ведь неспроста?
Регент откинулся назад, прислонившись к металлической тележке для книг, чтобы дать отдых спине. Стоит дернуть ногами, и колесики тележки повернутся, а сама она зашатается. «Наверное, — думал Регент, — лучше не шевелиться: одно движение — и на меня обрушится книжный стеллаж, в который упирается тележка».
Закончив подсчет, он мрачно пробормотал: «Триста сорок шесть» — и, сгорая от нетерпения, стал ждать, пока Фентон не объявит свои результаты.
Фентон медлил, близоруко щурясь сквозь стекла очков. Все еще молча барабанил длинными пальцами по корпусу машинки. Звон затих, но не сразу, а Регенту даже показалось, будто звук этот все еще висит в воздухе, и ему стало не по себе.
— Вынужден сообщить, что получилось шестьсот сорок три, — наконец изрек Фентон.
Регент на миг прикрыл глаза и до крови прикусил изнутри щеку. Прошло уже полтора месяца, и, хотя деревенский юноша пока не возвращался, Фентон с Регентом все это время только и занимались что загадкой священной книги. Регент даже приноровился готовить себе маковый отвар и набивать трубочку (это была его новая прихоть) прямо в библиотеке, в перерывах между очередными штурмами неподдающегося текста.
— Придется сравнить результаты. Как думаете, получится расставить их в алфавитном порядке?
Фентон усмехнулся:
— Разумеется.
Выхватив у Регента список, он положил его рядом со своими подсчетами и проворно застрекотал по клавиатуре. Через десять минут непрерывной работы Фентон вытянул из блестящего нутра машинки длиннющий желтоватый лист. Регент не знал, что и думать. Фентон работал прямо-таки противоестественно быстро и плодотворно.
Еще несколько часов оба ученых мужа провозились со списком, сличая гармонию гласных, подсчитывая мутации согласных, расставляя величины. Длинный список покрылся помарками, вставками, вычеркиваниями, но вот у Регента перехватило дыхание от волнения: наконец-то в записях забрезжил какой-то смысл… и тотчас ускользнул бы, не ткни Фентон коллегу в этот смысл носом. Фентону, конечно, все было ясно.
— Полная противоположность! — победоносно объявил он. — Наши результаты противоречат друг другу, понимаете? — Он отчеркнул поломанным ногтем седьмое слово в списке Регента, затем в своем. — Никакой гармонии. У нас получилась прискорбная какофония произвольных звуков, смехотворное гадание вслепую. Но если взглянуть свежим глазом, и не так пристально, как мы, то обнаружится, что результаты все-таки взаимосвязаны. Как? Они кружат вокруг некоего ключевого значения, которое не поддается осмыслению. К консенсусу нам с вами не прийти, потому что его и не существует.
Регент только сейчас заметил, что крепко стиснул край листа вспотевшими пальцами — так крепко, что на бумаге осталось пять влажных сальных пятен. Ему показалось, что книжные стеллажи стали еще выше, сдвинулись, грозя рухнуть ему на голову всей тяжестью множества книг, а илистый воздух, запах книг, захватанных руками многочисленных студентов и пропитанных миазмами сырости и плесени, — комом встали в горле, загустели, не давая дышать.
— Я верну книгу юноше, — голосом спокойным, но натянутым туго, как струна, сказал Регент.
Он взял книгу так бережно и осторожно, словно она была мягче пуха и беспомощнее птенца, хотя знал — на деле все совсем не так. Страницу с составленной им классификацией — всю в помарках, с загнутыми углами — Регент оставил на столе, за которым работал все это время. Регент уже развернулся к выходу, однако Фентон цепко ухватил его за манжету зловеще-тощими пальцами — молча, но молчание это было красноречивее любых слов. Фентон вперился в глаза Регенту яростным, одержимым взглядом, и тот понял: думают они оба об одном и том же.
Выйдя за двери библиотеки, Регент услышал, как, слабо шипя, гаснут парафиновые лампы. «Любопытно, — подумал он, — а когда я приду сюда в следующий раз, в библиотеке будет хоть одна живая душа?»
Письменный стол Регента, весь покрытый чернильными пятнами, был из разряда тех столов, что отличаются обилием хитроумных ящичков, отделений и тайничков, щедро покрытых резьбой и росписью, однако в основном слишком тесных, чтобы в такой ящичек или закоулок поместилось нечто покрупнее одинокого перышка или ластика. Однако и несколько больших ящиков в столе все-таки имелось, и в них хранились картонные папки, куда Регент складывал фотографии рабочих объектов — вещей и книг, чьи имена удавалось установить. В левом нижнем углу каждой фотографии каллиграфическим почерком было крупно выведено имя предмета или книги. Свои заметки и вычисления по каждому объекту Регент держал в отдельных папках, и вот с ними-то он и решил свериться сейчас. Он просматривал тысячи уравнений, выводов и подсчетов, снова и снова убеждаясь: ранее эти методы работы ни разу его не подводили.
Картотека Регента свидетельствовала о том, что ему удалось категоризировать и наименовать свыше шестнадцати тысяч объектов, неимоверно много даже для такого опытного и выдающегося ономаста. Да, над шестнадцатью тысячами объектов он бился, искал к ним ключ и устанавливал подлинное имя каждого, и не только имя, но и место в этом мире. И все же книга, принесенная юношей, этот чудовищный том, написанный на треклятом языке, который издевался над ученым и загадывал неразрешимые загадки, — эта книга категоризации не поддалась и имени своего Регенту открыть не пожелала. Казалось бы, книга как книга, обложка кожаная, вензель на ней тройной… И все же Регент чуял в книге угрозу и мощь, с какими никогда раньше не сталкивался.
Пока Регент набрасывал текст телеграммы в вышестоящее военное ведомство, ему оставалось утешаться лишь мыслью о том, что, лишенная имени, книга, считай, не существует.
МАРК ТЕППО
Тот, что ушел
Пер. Е. Нестерова
«Алиби Рум» — убежище и рай для любителей присочинить и приврать, в ее отделанных бархатом стенах девизом служат слова «Предполагай и убеждай!», а правда настолько обесценилась, что за нее не купить даже презерватива из автомата в мужском туалете. Войдя в ничем не примечательную дверь и миновав длинный гардероб с рядами застывших в ожидании костюмов, масок и фальшивой униформы, посетители переписывали свое прошлое и изобретали возможное будущее. Компания постоянно менялась, и каждый — завсегдатаи, сгорбившиеся на узких скамейках за коричнево-красной барной стойкой, обходительная скромная обслуга, лгуны, сгрудившиеся за лакированными столами или развалившиеся на плюшевых диванах, — каждый мог уверовать в иллюзорность мира за стенами из ржаво-коричневого кирпича и старого дерева. Единственной имеющей смысл реальностью была выдуманная, окутанная бархатными драпировками и залитая оранжевым светом.
«Алиби» крепко держала Колби в обволакивающих объятиях своего утробного мрака. Она заботливо шептала ему что-то обнадеживающее, ее шепот звучал как забытый белый шум материнского кровотока. Он заслуженно гордится бухгалтерским анализом, проведенным для финансовых служб Эмфира. Важность его исследования о корпоративных бумажных отходах несомненна, проблема — и в этом была его идея — решается внедрением агрессивной программы переработки при тщательном расчете соотношения бумаги высшего сорта для внешних контактов и второсортной, из переработанной массы, для обычного потребления. Компании на этом ничего не сэкономить — едва ли две трети зарплаты одного бухгалтера, — но переработка и повторное использование бумаги каждый год будут спасать по нескольку сотен акров леса. На это непременно обратят внимание, говорили ему в «Алиби». Его заметят и призовут на Пятый этаж, где счетоводы и денежные маклеры творят свое опасное волшебство. Его непременно…
— Эй, Колби, твоя очередь.
Колби поднялся:
— Что?
Джек махнул официантке, стройной девушке с короткими косичками на голове и кельтской татуировкой вокруг запястья.
— Заплати Дженни и рассказывай.
Медленно освобождаясь из власти «Алиби», Колби нащупал бумажник. С трудом отсчитывая купюры, будто пытаясь разделить травинки, он пытался придумать хорошую байку. Таковы были правила игры: купить всем выпивку, рассказать историю — остальные играют роль благодарной аудитории, подзуживая рассказчика врать дальше или изображая поддельное возмущение — поддельное, как и все в «Алиби». Вытаскивая из бумажника двадцатку, Колби попытался сочинить что-нибудь, но ничего, кроме мертвых деревьев, не приходило ему в голову.
Дженни улыбнулась ему, озарив улыбкой полуночный мрак зала, и взяла банкноту, протянутую ей неуверенной рукой пьяного. Она развернулась — косички хлестнули по тонкой шее — и живо направилась к бесконечно далекому бару.
Он уставился в бумажник, большим и указательным пальцами теребя уголок второй двадцатидолларовой купюры. Ничего достойного не шло на ум, кроме того, о чем твердил шепот в ушах. Твой доклад ускорит процесс. Полный любви голос звучал как мистраль, ветер убеждения, увещевал и соблазнял, говорил ему то, что его сердце страстно стремилось услышать. Как органическая инфекция распространяется по всем деревьям, передаваясь через корни и ветви, так документ повлияет на всю систему. Одна ветка, один орех, один росток — в конце концов изменится весь лес.
Где-то глубоко внутри его, в районе желчного пузыря и скапливающихся в печени шлаков, зарождалась другая история. Никого ничто не заботит. Долговременный контроль за экологией не предполагает роста биржевой стоимости акций в краткосрочной перспективе.
На туристической карте круглый холмик в центре Виндвордского парка был обозначен как «Восхождение Глорианы». Имя это на заброшенном надгробии увековечивало память всеми забытой прародительницы — окрестил так этот холмик, поставив неполноценный геологический указатель, ученый, знавший толк в камнях и минералах, но не в истории. Глори, так сокращенно прозвали шарообразную насыпь местные жители, весной устилал зеленый ковер полевых цветов, а зимой из голого купола торчали расщепленные верхушки зазубренных камней. Каменные львиные головы, наполовину вросшие в землю, полузадушенные длинными лианами в красных цветах, окружали основание купола.
Прошлой весной что-то сломалось под «восхождением». По правде говоря, треснула труба, одна из тех тяжелых водопроводных труб, по которым течет вода с перерабатывающих заводов на побережье около Свитлоу до центральной зоны и Лудтауна и дальше на юг, за индустриальные плато острова Харбор. Но «правда» — слово не для «Алиби Рум».
Чередой сейсмических толчков, от которых периодически с грохотом подпрыгивало столовое серебро и посуда, вскрыло древние колодцы, закупоренные столетия назад во времена нехватки обработанных камней и фасонного железа. Освобожденные артезианские воды искали выхода из своей земляной темницы. Той весной, шептались в «Алиби», львы стали пускать слюни.
В середине лета головы стали извергать рвоту. И воды, долго скапливавшиеся под испещренной рубцами измученной поверхностью, оказались так чисты, что зелень в центре парка принялась буйно разрастаться.
Растительное извержение породило такие тучи пыльцы и испарений гниющих фруктов, что в природный парк из своих потайных угодий и затерянных долин стали стекаться странные создания, привлеченные пьянящими райскими запахами. К тому времени как ползучая жимолость принялась оплетать пятнистую вывеску старого театра Риальто на углу Гласье и Семнадцатой, увиденные диковинки заняли прочное место в беседах завсегдатаев «Алиби». Черные, как беззвездная ночь, кошки размером с лайку. Летающие обезьяны, теснившиеся на сломанных перилах пожарной лестницы, как вороны. Кролики и суслики, ходящие на задних лапках. Змеи с гипнотическим взглядом, экзотермические ящерицы, нереиды со скользкой кожей, птицы, линяющие сусальным золотом: с каждой неделей рассказы становились все фантастичней, а растительность пробиралась все дальше и дальше в дома и улицы, окаймлявшие привычные границы парка.
Зимние холода остановили рост деревьев и лиан, задержав их вторжение в мир кирпича и камня. В холодную пору луна низко нависала над Глори, под ее ледяным взглядом круглый бугор леденел и покрывался инеем. Тропинки, ведшие вглубь парка, затерялись и изменили направление, так запрятав замерзший рай, что он превратился в убежище для фантастических существ, попавших в город.
Когда единорогу пронзили бок, он бежал обратно в затерянное сердце Глори. Охотники без труда прошли сквозь ледяной лабиринт Виндвордского парка по прекрасно заметному следу капель крови, застывших и почерневших на замерзшей земле.
Дэвид наклонился и прикоснулся к красному пятну на белесой земле. Нахмурив брови с выражением недоверия и неуверенности, он показал испачканную перчатку остальным.
— Это кровь, — сказал он.
Джек буркнул, перезаряжая арбалет:
— Я же сказал, что подстрелил его.
Он выудил еще одну металлическую стрелу из нейлоновой поясной сумки и вставил ее в направляющий желобок ложа.
— Кого подстрелил? — спросил Дэвид. — Тут никого не было… — запнулся он, растирая кровь двумя пальцами в перчатке и чувствуя, как клейкая жидкость стекает между ними.
— Он стоял прямо здесь, — сказал Джек, показывая на землю. — Колби тоже его видел.
Колби сжался, втянув голову в плечи под взглядом Джека.
— Я видел что-то, — пробормотал он, — похожее…
— На гребаного единорога, — перебил Джек. — Ну же, скажи это. Ты его видел. — Он рукой изобразил нарост на своем лбу. — Ты же видел рог.
— Не знаю, что я видел, Джек, — сказал Колби. — В смысле, что ты выстрелил раньше, чем я понял, что это.
— Бредятина. — Джек топнул ногой по земле, от удара во все стороны разлетелись ледяные осколки. Он обернулся за поддержкой к четвертому спутнику. — Ты видел его, Херли?
Херли, не отрывая взгляда от испачканных перчаток Дэвида, с трудом сглотнул и кивнул. Колби отметил, что он крепко сжимает ложе арбалета и дышит часто и прерывисто.
Джек мотнул головой:
— Я знаю, что я видел. Он весь белый, а грива как стекло. Стоял прямо здесь.
Колби посмотрел под ноги, чтобы не встречать горящего взгляда Джека. Глаза болели, язык распух и отяжелел. Слова походили на кирпичи, неподъемные для разжиревшего языка.
— Ты тоже хотел этого, Колби. — Лицо Джека опять ожесточилось от прилива адреналина. Слишком уж волнительной была беседа. Он присел около Дэвида, обмакнул пальцы в кровавое пятно, а затем нарисовал кровью единорога черту поперек лба и две на щеках. — Мы могли бы пойти и без тебя, но именно ты хотел чего-то большего, чем выдуманная байка для «Алиби». Тебе хотелось чего-нибудь настоящего.
Он крадучись пошел по неровному следу из алых пятнышек, который уводил глубже в парк.
Колби увидел, что Дэвид, взглядом проследив за Джеком, тоже заметил прерывистую дорожку из капель, по которой тот шел.
— Я ничего не видел, — сказал он Колби, приглушив голос, чтобы его не услышал Джек. — Ничего, кроме теней.
— Тени не истекают кровью, — сказал Херли и шагнул поближе к двум другим, как бы вовлекая их в заговор. — Там что-то было, правда ведь, Колби?
Колби дотронулся до горла, потер рукой в перчатке окоченевшую шею, как будто растиранием мог выдавить застрявшие слова.
— Ты точно что-то видел, — сказал Дэвид. — Как и Джек.
Колби кивнул, все еще не решаясь заговорить о том, что он видел. Единорог был почти незаметен на фоне заиндевевших древесных стволов. Но едва Колби разглядел различие между рогом единорога и веткой дерева, едва он осознал разницу между выбеленной льдом корой и глянцевой шкурой, различить существо стало совсем просто.
Стрела из арбалета Джека попала в верхнюю часть правого бедра. Увидев, как животное встало на дыбы и на перламутровом роге заиграл лунный свет, Колби закрыл глаза. Как будто этой детской уловкой можно было отменить то, чему он только что стал свидетелем.
Херли пришел вовремя, чтобы оплатить следующую выпивку. Он отдал Дженни кредитную карту и уставился ей вслед, наблюдая за покачиванием ее бедер.
— Ох, это как часы, — сказал он, издавая губами звук «тик-так». — Мне никогда не надоедает на это смотреть.
Джек и Дэвид рассмеялись — слушатели быстро отреагировали на ремарку «Смеяться тут!», самолюбиво выставленную Херли, чтобы все заметили юмористичность его замечания. Душа компании и преуспевающий коммивояжер всегда был готов расплыться в улыбке, растягивающей рот от уха до уха. Он мог обхватить огромными ладонями весь свой живот, а если разводил руки в стороны, то походил на раскрывшую крылья цаплю.
— Не поверите, что у меня был за денек! — начал Херли. Колби, сидевший от него по правую руку, по идее должен был высказать недоверие, но промолчал, тогда Херли широко раздвинул руки, будто собираясь обхватить весь стол. — Это было невероятно.
Джек объяснил безучастный взгляд Колби:
— Он по уши в своем докладе. Депрессия. Не обращай на него внимания. Рассказывай.
Рот Херли растянулся в улыбке, еще шире, чем его расставленные руки.
— Так вот, есть тут одна секретарша, работает у вице-президента по продажам. Ей, по слухам, где-то около пятидесяти или вроде того. Поверить невозможно. В тонусе, подтянутая, небось проводит в зале часа четыре в день. Аппетитная бабенка.
Так вот, едем мы сегодня в лифте — возвращаемся с собрания на Четвертом этаже, — только мы вдвоем, и она ловит мой взгляд на ее титьки. И знаете, что она говорит? Она говорит…
— Трахни меня у себя кабинете? — Колби вынырнул из своего забытья, как призрак, восставший из древней могилы, рассказ вернул его к застолью.
Улыбка спала с лица Херли — разрушительное действие режима реального времени, способного разламывать скалы.
— Да ладно, Колби, ты чего?
— Ты всегда рассказываешь одну и ту же байку. — Колби посмотрел на других, стараясь разглядеть на их лицах признак того, что они тоже в курсе непременного атрибута историй Херли. — Вам не надоело?
— Эта совсем другая, — воспротивился Херли.
— А что было на прошлой неделе? — спросил Колби. — Стажерка в копи-центре, которой хотелось откопировать твой член. Другая? А неделю назад — там было что-то про автомобильную мойку?
— Да ладно. Колби, мы же все в «Алиби». — Дэвид положил руку ему на плечо. — Разве это важно?
Колби стряхнул руку, по пьяни попав мимо запястья, так что ему пришлось отталкивать приятеля всем телом.
— Да, возможно. Может, если мы врем друг другу, да и себе тоже, нам следует делать это чуть-чуть получше?
— Кто нассал ему в стакан? — проворчал Херли.
— Черт подери! Я серьезно. Мы что, слишком стары для этого? Как долго мы будем ходить сюда и рассказывать одни и те же пошлые старые байки?
— Я полагал, что в этом и есть смысл. — Джек приподнял бровь.
— От чего мы хотим спрятаться? — выпалил Колби.
Джек потянулся к стакану:
— Что ж, Колби, ты испортил нам вечер, вот ты и расскажи. От чего мы… от чего ты хочешь спрятаться?
Пол под Колби резко накренился, как будто слова Джека сопровождались землетрясением, — толчки прогрохотали по искусственному склону на окраине города, угрожая обрушить «Алиби Рум» и сбросить ее в залив. Мышцу в щеке Колби свело, как от укуса осы. Разве это важно?
Разве что-то важно? Экзистенциальная черная дыра замаячила перед ним. Бархатное лоно «Алиби» попыталось спрятать его, не дать ему вывалиться в бескрайнюю бездну…
— Ни от чего, — пробормотал он.
— Тогда прекрати портить вечер всем остальным!
— Ты девственник? — спросил у Колби Херли, когда они шли по тропе под оледеневшими ветвями.
— Что? — переспросил Колби.
Херли остановился и, положив руку Колби на плечо, задержал и его.
— Единорога могут заполучить только те, кто безгрешен. Ты знаешь историю: непорочные девы сидят под деревом и ждут, пока не придет единорог и не положит им голову на колени. Поэтому их и использовали как приманку — они могли видеть животное. — Он пожал плечами. — Ну, вот ты его видишь, может, ты девственник?
Колби посмотрел вверх, на оледенелые ветви тополей и берез. Ребенком он гонялся в парке за белками, со смехом забегая за ними в самую глушь, пока они не вскакивали на сучковатые стволы деревьев. Давно это было, но он помнил, что всегда смотрел на небо — голубое — сквозь почти сплошной пазл листвы. Сейчас, зимой, деревья как будто застыли в неловких объятиях, как дальние родственники на семейных похоронах. Казалось, что ты находишься в храме, священном месте, где звучат откровенные признания и где оценивается благочестие. Ты девственник? Ты достоин объятий Господа?
Внезапно похолодев — спинной мозг так отреагировал на смутное ощущение, латентное воспоминание, скорее инстинктивное, чем личное. — Колби вздрогнул и взглянул за ледяной купол.
Впереди Дэвид и Джек шли по следу единорога, во все глаза всматриваясь в беспорядочный узор кровавых брызг.
— Слушай, — сказал Херли, — не важно, девственник ты или нет, но…
— А как же Джек? — перебил его Колби, показывая вперед на своих товарищей. — Он тоже девственник?
Херли несколько раз открыл и закрыл рот.
— Может быть. Я не знаю.
— По-твоему, недевственники не могут видеть единорога, что объясняет, почему такие жеребцы со стажем, как вы с Дэвидом, его не видите. Вы слепы, потому что оттрахали слишком много девок. Таков принцип?
— Это только догадка…
Колби прервал его резким смехом:
— Может, у меня и не было «офисных романов», как у тебя, Херли, но я потерял девственность в пятнадцать. И с тех пор мне тоже доводилось спать с женщинами.
— Прекрасно, — огрызнулся Херли. — У тебя есть объяснение получше?
— Нам следует спросить Джека. Он, видимо, у нас главный спец.
— Ладно, — фыркнул Херли. — Дэвид должен знать лучше. Он охотился…
— Что?
— Может, дело в этом. — Херли схватил Колби за руку. — Слушай, может, это как рассказ, в котором что-то изменяется при каждом пересказе. Мы в школе играли в такую игру: все выстраиваются в ряд и учитель шепчет слово на ухо первому ребенку. Тот передает следующему, а следующий — следующему, понимаешь, и так далее. Последний в ряду произносит то, что ему сказали, вслух, и это слово обычно совсем не то, что в начале игры. Может, так и с мифом о единороге. После того как эта история рассказывалась столькими поколениями, детали наверняка перепутались. Может, нужно быть не девственником, а просто невинным.
— Невинным. Это как?
— Ты когда-нибудь охотился, Колби? Ты когда-нибудь кого-нибудь убивал?
— Нет. Боже мой, Херли… — Колби поморщился. — Да я до сегодняшней ночи и арбалета-то в руках не держал.
— Верно. А мы с Дэвидом охотились. Он брал меня с собой пару раз на охоту с луком. Так что я не в первый раз.
— Но это означает, что Джек тоже невинен. — Колби посмотрел вслед удалявшейся паре. Пока Джек еще не нашел свою добычу. Пока они не нагнали раненое животное. Грудь его сжалась, будто питон стиснул ему ребра. — Что станет с единорогом, когда мы убьем его?
Херли подкинул арбалет в руках, поудобнее ухватив ложе. Взгляд его был живой и ясный, не затуманенный алкоголем.
— Может, его опять станет видно. Может, это единственная возможность всем нам его увидеть.
Официантка принесла им новые напитки, забрала стаканы со льдом, как будто убирая лишнее после завершения некоего ритуала. Четверо мужчин первое время не смотрели друг другу в глаза, повернувшись в разные стороны, как четверка размагниченных компасов. Четыре приятеля, выбитые из колеи вспышкой Колби, пытались найти, на что бы отвлечься. Херли глазел на официантку, Дэвид увлекся игрой света на полумесяце своих ногтей, Колби бесцельно блуждал взглядом по залу, усиленно притворяясь, что не чувствует мрачного блеска в пристальном взгляде Джека.
— Ты устал нас слушать, Колби? — спросил Джек. — Для тебя непосильная задача выпить пива и подыграть нам несколько часов? Мы настолько наскучили тебе?
Колби уставился в стакан, не желая поднимать голову.
— Я просто устал, — сказал он. — Тяжелая неделя. Вот и все.
— Ага, «все». В этом вся проблема? Ты проснулся сегодня утром и осознал, как пуста твоя жизнь. Когда у тебя в последний раз была приличная прибавка к зарплате? Или свидание? У тебя есть друзья, кроме нас троих? Ты все так и живешь в этой дыре в Парквэе или тебе все-таки удалось скопить взнос на ту квартирку за мостом?
Каждый вопрос психологическим ударом обрушивался на него, но почему-то доставалось телу: легкие сжались, живот скрутило, горло сузилось до крошечной дырочки. Каждый вопрос воплощал в слова внутреннее недовольство, которое пытался побороть Колби, от которого пытался отделаться в течение нескольких последних месяцев, занимаясь своим докладом. Как будто эти вопросы можно решить, когда он поделится своими открытиями, как будто он пишет жизнеутверждающий манифест, а не изучает потребление бумаги. Вопросы Джека ввергали Колби в экзистенциальную пустоту, наполнявшую вакуум за той незначительной реальностью, каковой был его доклад.
Колби попытался отмахнуться, отстраниться от них мановением руки.
— Забудьте, — сказал он. Он с трудом поднялся из удобного плюшевого кресла. — Я все. Я пошел домой.
— Ты должен что-то сделать, — сказал Джек. — Что-нибудь настоящее. Спрыгни с самолета, погоняй на мотоцикле. В таком роде.
Колби замер, запутавшись в рукаве пальто.
— Сейчас?
— Почему бы и нет?
Колби демонстративно оглядел зал:
— Потому что сейчас середина ночи. Потому что я…
— Потому что ты боишься? Потому что проще говорить о том, что неплохо бы что-то сделать, чем действительно сделать? Потому что тебе проще придираться к нам из-за одних и тех же старых баек, чем пойти и принять участие в создании настоящей и новой?
— Нет…
— Это только отговорка, Колби. Все, что бы ты ни сказал. Жалкая отговорка, чтобы опять ничего не делать.
Колби вспыхнул. Он всунул в пальто вторую руку.
— Ты-то какого хера взъелся?
— Я думаю, что ты прав. Херли из раза в раз рассказывает одну и ту же треклятую историю, и меня это тоже достало до чертиков. Но разве он виноват? Разве в том, что нам не удается сделать, виноват кто-то, кроме нас самих?
— Боже, Джек! — фыркнул Херли, задетый его словами.
У Колби пересох язык, он облизал губы, как будто они могли смочить его.
— Что у тебя на уме?
Джек улыбнулся:
— В Виндвордском парке есть единорог.
Херли рассмеялся:
— Твою мать, Джек, прекрасное начало. — Остальные взглянули на него. — Что? Прекрасное начало для байки, говорю. Сначала ты критикуешь нас за то, что мы скучны, а потом добиваешь… — Он запнулся. — Что? Вы ему верите?
Дэвид кивнул:
— Я тоже об этом слышал. От кого-то еще.
— И что? От этого оно становится правдой? — Херли встряхнул головой и потянулся к стакану. — Здесь все могут твердить одну и ту же ложь. От этого она не становится правдой.
Джек все еще не отводил взгляда от Колби:
— Что ж, пойдем и выясним. Если тебе так хочется чего-то настоящего, сложновыполнимого, честного, пойдем. Пойдем прямо сейчас и выясним.
— Почему? — спросил Колби. Никаких других слов ему не удалось выдавить.
— Почему бы и нет?
— Это не объяснение.
— Разве? — Джек подбородком указал на стену позади Колби. — Охотничьего снаряжения Дэвида и Херли хватит на всех нас. Убьем единорога и набьем чучело. Повесим его голову вот тут на стене за тобой, чтобы никто не забыл. — Он засмеялся и посмотрел на остальных, обжигая их пламенным взглядом. — На хер байки. Пойдем и сотворим собственную.
Земля около скульптуры льва обледенела — Колби поскользнулся и чуть не упал. Бедром он задел сердитую пасть статуи, когда хватался за холодный камень, восстанавливая равновесие. Позади него Джек издал бессвязный вопль — воплощение тупой боли в раздробленных костях предплечья.
Единорог скакал вверх по склону Глори, стуча копытами по заиндевевшему холму. Колби, прижавшись к каменному льву, взглянул наверх, пытаясь рассмотреть животное. Его грива отливала серебром, острый рог сверкал. Кровь стекала по белому боку из раны от стрелы Джека.
— Где он? — впал в панику Херли. — Где хер его носит?
— Следи за стрелой Джека, — прокричал Дэвид.
Стоя на открытой поляне у основания Глори, он тщательно прицеливался через прицел своего арбалета. Опытный охотник, подумал Колби, потрясенный спокойствием Дэвида, ждет, пока его добыча не подойдет на расстояние выстрела.
Единорог, наклонив голову, помчался вниз по склону мимо Колби.
Но он его не видит.
Дэвид прищурился и выстрелил. Единорог вскинул голову, подняв рог. Металлическая стрела, рикошетом отскочив от твердого рога, высекла сноп искр, разлетевшихся каскадом падающих звезд. Проскакав мимо ошеломленного охотника, единорог резко наклонил рог. Дэвид завертелся, разлетелись тонкой дугой темно-красные брызги, и он упал на землю лицом вниз.
Херли в нерешительности замер, раздираемый желанием что-то сделать с раздробленным плечом Джека и броситься на помощь упавшему другу. Колби поймал себя на мысли, насколько нереальным должно казаться происходящее преуспевающему коммерсанту. Сначала Джека сбили с ног и лягнули, теперь Дэвид с перерезанным горлом корчится на белой земле. А Херли так и не видел животное, которое сразило двух его товарищей. Как битва с призраками.
У границы леса единорог развернулся и поскакал назад через поле. Колби прильнул спиной к холодной статуе — животное мчалось на него. Арбалет лежал рядом на земле, но он не смел отойти от статуи, будто мог слиться с камнем и исчезнуть.
Единорог резко остановился прямо перед Колби и встал на дыбы. Его огромные копыта сверкали, как лезвие топора палача. От стекающей по боку крови ребра под бледной шкурой проступали серовато-коричневыми тенями. Глаза застыли и побелели от ужаса, а грудь вздымалась, как огромные кузнечные мехи.
Колби затянуло в зимнюю белизну глаз единорога, и он неожиданно оказался в чистой пустоте без единого признака тени или мрака. Животное вздымалось над ним, а ужас и страх вытекали, как будто кто-то вытащил затычку, — спало эмоциональное напряжение. Он парил в матовой чистоте взгляда единорога, и вместо того, чтобы потеряться на этом фоне, он был единственной точкой в белом море. Орехом. Семечком. Катализатором.
Единорог моргнул, души закрылись, и Колби выбросило обратно в его тело. Животное опустило рог. Но не как враг, а в знак признания и доброжелательности. Понимания. Колби поднял руку, чтобы прикоснуться пальцами к кончику рога.
Единорог жалобно промычал и, пошатнувшись, шагнул влево — из его бока, чуть ниже лопатки, торчала новая арбалетная стрела.
Джек, опираясь на Херли, опустил арбалет, торжествующая усмешка проступила на перекошенном гримасой боли лице.
Животное, закачавшись, сделало несколько шагов по неровному склону Глори. Оно встряхнуло головой, изогнув шею, чтобы посмотреть, что разъедает его плоть. Колби, все еще протягивая руку, шагнул ему навстречу. Теперь он пытался дотянуться не до рога, а до торчащей из бока стрелы. Если бы он только дотянулся до стрелы, он бы вытащил ее до того, как единорог испустит дух. Он бы смог остановить кровотечение.
Передние ноги единорога подкосились, и он тяжело рухнул на склон. Голова на ослабевшей шее склонилась к земле, и Колби опустил руку на тяжело вздымавшийся бок животного. Он крепко стиснул пальцами горячую потную плоть.
Его руки вздрогнули от безотчетного порыва сжать тело животного, возникло непонятное желание зарыться пальцами в проклятую кожу, прорваться в его плоть, как будто так он мог понять его секреты. Как будто плоть под трепещущей шкурой была своего рода причастием, священным мясом, не таким, как его собственная плоть. Как будто животное было сама жизнь, вытекающая на белую землю. Единорог был настоящим — только он был, только он мог быть настоящим, его горячий дрожащий бок под рукой и щекой Колби.
— Колби, в сторону! — прокричал Джек.
Он держал в руках арбалет Херли, направленный на Колби и единорога. Кончик стрелы трясся в такт сведенным судорогой и дрожавшим от возбуждения мышцам Джека.
Так же ясно, как ясно было белое поле в глазах единорога, Колби знал, что Джек выстрелит. Он знал, что даже если он бросится ему под стрелу, заслоняя своим телом животное, жертва будет совершенно бессмысленна. Джек или Херли застрелит его, перезарядит арбалет и беспрепятственно выстрелит снова.
Единорог хрипел, печально вздыхая, как затухающий огонь. Колби чувствовал, как слабеет его неровное дыхание. Потянувшись через спину к другому боку животного и обернувшись, он заметил свой брошенный арбалет. Он был заряжен и готов к стрельбе.
— Колби… — начал Джек с беспощадной решимостью в голосе.
Он мог бы остановить кровь. И в это застывшее зимой мгновение Колби понял, как остановить кровотечение единорога. Это был акт жертвоприношения. Единственный акт — как единственная мысль или единственный выстрел. Остальные события произойдут уже сами по себе.
Уцепившись за арбалет, Колби подхватил его с земли. Он поднял его одной рукой и нажал на курок.
Джек вздрогнул, когда стрела попала в него, что-то похожее на испуг сменило жестокую решимость во взгляде. Наконечник его оружия опустился, и он закашлялся. Кровь забрызгала перья стрелы, черты лица исказились в слабом крике, он уставился на металлическую стрелу, торчащую из груди. Он попытался посмотреть на Херли, но ноги его подогнулись, и он упал.
Единорог еще раз тяжело вздохнул, поднимаясь. Голова его безвольно свисала, колени не размыкались, но встал он во весь рост. Для Колби он почти совсем поблек: чуть темнела его холка, хвост и грива сияли хрустальным светом.
Я никогда его больше не увижу, понял он. Его жертвой должно было стать кровопролитие другого рода.
Херли перезаряжал арбалет, переданный ему Джеком.
Колби перезарядил свой.
— Какая печальная история.
Дженни распустила косичку, волосы оплели клубком ее длинные пальцы.
Во рту у Колби пересохло от долгого рассказа, как будто слова засыхали еще в горле.
— В последнее время много говорят о единороге — популярная тема, — но твоя история… — Она передернула плечами. — Она совсем другая. Обычно речь идет об исполнении желаний. Ну, знаешь, все эти байки для незрелых подростков.
Колби кивнул.
— Н-да. — Она прищелкнула языком, подытожив сказанное, и похлопала подносом по ноге. — Ну а если серьезно, придут сегодня твои друзья?
Колби бессознательно положил левую руку на бедро, где все еще саднила содранная кожа.
— Нет, — сказал он, — только я один.
ПОЛ МЕЛОЙ
Алекс и тойсиверы
Пер. О. Александрова
«Алекс и тойсиверы» — вступительная глава романа, который объединяет цикл рассказов о битве между Небесными Хирургами и автоскопами, воинственными сверхъестественными существами, которые, с одной стороны, стремятся усовершенствовать мироздание, а с другой — разрушить его, изменив энтропию и низвергнув в бездну отчаяния. Рассказы «Черная статика», «Не мешайте блэкаутам», «Умереть в объятиях Джин Харлоу» и «Айлингтонские крокодилы» являются как бы предысторией повествования о первом столкновении Алекса со злобными тварями на службе у автоскопов — тойсиверами.
Алекс прошел на кухню, чтобы собрать кое-какие вещи. Инспектируя буфет на предмет чего-нибудь, из чего можно сделать сэндвич, он неожиданно заметил тень, промелькнувшую за окном, и услышал царапающий звук, доносившийся с крыши. На дорожке в саду зашуршала галька, и Алексу почудилось, будто кто-то цокает в дальнем конце лужайки. Быстро вскочив, он осторожно выглянул в окно. Деревня была застлана пеленой дождя, а потому картинка искажалась и краски были размыты, словно он смотрел через колышущуюся тюлевую занавеску.
Алекс судорожно вздохнул. Там, в конце сада, виднелась крошечная фигурка, стоявшая на таких высоких ходулях, каких он доселе еще не видел. Дождь хлестал, и черты лица разглядеть было невозможно, но при виде этого существа, с ходуль которого ручьями стекал дождь, Алекс почувствовал неприятный холодок под ложечкой. Неожиданно существо нырнуло вперед, вытянуло правую ногу и перекинуло ее через стену. Ходуля просвистела в воздухе, точно стрелка гигантских часов, и с глухим чавканьем опустилась на землю возле подоконника. Алекс в ужасе отпрянул от окна.
Существо наверху каким-то образом умудрилось вывернуть бедра и перебросить вторую ходулю через ограду. Отчаянно вращая руками, оно приземлилось на своих ходулях прямо перед окном. И хотя видно было не слишком хорошо, Алекс все же сумел разглядеть, что ходули выщербленные и жутко грязные.
В это время на крыше снова возобновилось непонятное царапанье, а потом, к ужасу Алекса, сверху свалился здоровенный кусок водосточной трубы.
— Эй! — заорал Алекс, услышав в ответ с крыши мерзкое скрипучее хихиканье.
Алекс почувствовал, что вконец растерялся: еще минуту назад он готовился хорошо провести свободный день, а тут подвергся нападению оттуда, откуда совсем не ждал. Порывшись в ящике с инструментами под раковиной, Алекс достал небольшой топорик, натянул куртку, надел ботинки и открыл заднюю дверь.
Пока он пытался хоть что-то разглядеть сквозь завесу дождя, ему на голову посыпалась черепица, которая потом с громким треском раскалывалась прямо на ступеньках. Он обошел рахитичные ходули и посмотрел наверх. Ходули, стоявшие на земле, казалось, могли достать до неба. Существо уже успело слезть с них и сейчас стояло на крыше и, как заправский вандал, сдирало с нее черепицу, сопровождая свои действия жутким надтреснутым смехом. Куски черепицы градом посыпались вниз. Придя в ярость от такой наглости, Алекс подошел к ходулям и занес топор. Заметив это, существо пронзительно заверещало и метнуло в противника кусок кровельного покрытия. Алекс увернулся и снова замахнулся топором. Топор с силой вонзился в ходули, так что только щепки во все стороны полетели.
Существо опять заверещало и соскользнуло с крыши. Ухватившись обеими руками за ходули, оно злобно уставилось на Алекса, который выдернул топор и приготовился ко второму удару.
Тогда существо обхватило ногами ходули и, к величайшему удивлению Алекса, совсем как обезьянка вскарабкалось наверх. Слегка побалансировав, оно всунуло ноги в странного вида приспособления, напоминающие стремена, и, не дав Алексу возможности еще раз ударить топором по ходулям, исчезло из виду.
Все случилось так быстро! В два прыжка существо перемахнуло через ограду и оказалось на проселочной дороге. Единственным свидетельством визита непрошеного гостя остались две дымящихся дыры от ходулей под окном. Алекс поднял глаза и снова увидел крошечную фигурку на гигантских ногах.
— Пак-Пак! — закричало существо пронзительным надтреснутым голосом. — Пак-Пак!
Алексу страшно захотелось швырнуть в него топором, но не успел он даже замахнуться, как услышал более чем странный шум.
Из-за коттеджа раздавалось ритмичное поскрипывание ржавых пружин.
Бросив на Пак-Пака прощальный взгляд, Алекс стремительно вбежал в дом. Быстро поднявшись по лестнице, он влетел в спальню в задней части дома.
И как раз вовремя, так как успел заметить безобразное синее лицо, тотчас же скрывшееся из виду.
Алекс крадучись стал подбираться к окну, но замер как вкопанный посреди комнаты, поскольку снова услышал «дзинь» ржавых пружин, а потом увидел жуткое лицо, искаженное гримасой злобной радости. Существо размахнулось и швырнуло в окно камнем размером с кулак. Раздался чудовищный звон — и осколки стекла полетели в комнату, а камень ударился о стенку у Алекса за спиной. Алекс попытался уклониться от града осколков, но поскользнулся и врезался в шкаф.
Немного придя в себя, он все же вернулся к окну и настежь распахнул его.
Дзинь!
Существо снова возникло прямо перед ним, и Алекс заметил неприкрытое удивление на его лице. Вид у существа был преотвратнейший: оно было жирным и очень противным, с торчащими коротенькими толстыми ручками и ножками, к тому же абсолютно лысым, с синей кожей. Существо это, вооруженное пригоршней камней, было так ошарашено при виде Алекса, что тотчас же исчезло из виду.
Тогда Алекс одним решительным движением вытащил из платяного шкафа нижний ящик, протащил его по комнате и, крепко держа за тяжелые медные ручки, поставил на окно.
Дзинь!
Существо взмыло вверх и впечаталось лицом прямо в дно ящика, которое выгнулось и тут же треснуло. Раздался сдавленный крик. От неожиданности Алекс чуть было не выпустил ящик из рук, а потому поспешно втащил его назад, бросил на кровать и перегнулся через карниз, наполовину высунувшись из окна.
Там, внизу, распластавшись, лежало странное существо и отчаянно ругалось. Рядом стоял маленький круглый батут. Латаная-перелатаная обшивка посерела от грязи. Ржавые пружины, прикрепленные к расшатанной раме, были покрыты вековой пылью.
Через какое-то время существо пришло в себя, встало на ноги, помотало головой, стряхивая тяжелые капли холодного дождя, и уставилось на Алекса.
Алекс, вытянув шею и выставив голову под дождь, как завороженный следил за всеми этими манипуляциями. Заметив выражение лица непрошеного гостя и лютую ненависть в маленьких злобных глазках, он почувствовал, что холодеет от ужаса.
Тут его отвлек отрывистый крик где-то за домом, и Алекс даже глазом моргнуть не успел, как невесть откуда появившиеся ходули стремительно пронеслись над крышей и с силой вонзились в темную мокрую траву на задней лужайке.
Пак-Пак одним махом перелетел через коттедж. Он посмотрел на Алекса сверху вниз и издал булькающий горловой звук. Второе же существо, бросив на Алекса прощальный взгляд, проковыляло к батуту и ухватилось за рамку. Вытащив батут из травы, оно перевернуло его и поволокло за собой через сад к калитке.
Тем временем Пак-Пак, покрутившись на своих ходулях, гигантскими шагами пошел в сторону Уэлтса. Если в саду деревья были редкими и тонкими, то чем гористее становилась местность, тем гуще был лес. Сейчас, в разгар холодной зимы, листва совсем облетела, и Пак-Пак на ходулях выглядел как зверь, крадущийся на мощных когтистых лапах.
Хлопнула калитка, и Алекс увидел, как существо с батутом поплелось в сторону Уэлтса. Посмотрев на Алекса еще раз, оно с шумом втянуло воздух носом, а потом повернулось — и было таково.
Алекс на секунду задержался у окна, наблюдая за тем, как ветер гуляет в ветвях деревьев, омытых холодным моросящим дождем. Калитка, тихонько поскрипывая, качалась на старых железных петлях. Он закрыл окно, стараясь не порезаться о разбитое стекло, и спустился вниз. Он чувствовал себя вконец измочаленным, но был страшно доволен, что сумел выпроводить незваных гостей. Интересно, зачем они сюда заявились? Зачем вздумали крушить его дом? Алекс прошел на кухню, чтобы забрать сумку, оставленную на столе, а затем — в сарай за большим старым трехколесным велосипедом с корзиной впереди.
Пока Алекс выкатывал велосипед, через ограду перелетел его кот Бонг. Кот слегка притормозил у задней двери, но, заметив Алекса, сменил направление и прыгнул прямехонько в корзину.
Обрадованный Алекс погладил кота по голове, а тот с несвойственной ему готовностью ткнулся носом в ладонь хозяина. Кот выгнул спину и задрал хвост трубой, а в его бледно-серых глазах сквозил страх. Неожиданно уши у кота встали торчком, и он резко отпрянул назад. Бонг зашипел, уперся передними лапами в край корзины, шерсть у него на загривке поднялась дыбом.
Со стороны Уэлтса донесся жуткий крик. Крик этот начинался на очень низкой ноте и пробирал до костей. Он все нарастал, резал слух, и Алекс понял, что ничего ужаснее в жизни своей не слышал. Ибо звук этот причинял почти физическую боль.
От страха Алексу даже захотелось закричать в ответ. В мгновение ока все птицы на мили вокруг взмыли над деревьями, как огромное черное веретено. На фоне белых облаков птицы казались сплошным пульсирующим пятном, но самое странное было то, что они летели одной стаей независимо от вида. Вороны и голуби (обыкновенные и лесные), скворцы и сороки — все сбились в настоящую стаю. Казалось, что само небо то сворачивается, то разворачивается. В этом полчище птиц Алекс увидел козодоев, корольков, цапель, уток, зимородков и даже сов. Но что более всего обескураживало, так это то, как выглядели птицы. А выглядели они до смерти напуганными, словно все происходило помимо их воли. Клювы были раскрыты, а маленькие глазки выпучены от страха. Птиц подгонял, поднимая с насиженных мест в Уэлтсе, этот дикий, невыносимый крик.
Алекс погладил Бонга по голове, засунул кота поглубже в корзину и накрыл тряпкой, а потом, сев на велосипед, покатил по дорожке к калитке.
Неожиданно он почувствовал, что сейчас, как никогда, хочет увидеть дружелюбное лицо Хемога, получить от того слова поддержки, и глаза его увлажнились, причем на сей раз дождь был ни при чем. Алекс привстал с седла и решительно заработал педалями. Велосипед покатил вниз по тропинке в сторону коттеджа Хемога.
Когда Алекс свернул на тропинку, убегающую на восток, к опушке Уэлтса, погода неожиданно изменилась: дождь перешел в снег. Из сгущающихся облаков, точно лепестки роз, кружась, падали снежинки. А потом метель разыгралась не на шутку, густыми хлопьями повалил снег, он укрывал рыхлую землю и голые ветви деревьев, залеплял глаза и оседал на спине. Бонг поймал языком снежинку величиной с чипсину и, сердито зашипев, спрятал голову под тряпку.
Ужасающий крик, слава богу, прекратился, птицы устроились под снегом на ночлег, и зловещий вихрь черных частиц сменился благодатной, успокоительной белизной. Алекс подумал, что для Бонга, который особо не любил птиц, все это было уж чересчур.
Наконец Алекс подъехал к коттеджу Хемога и остановился у калитки. Бонг выскочил из корзины и мягко приземлился в пушистый снег. Оглянувшись на Алекса и получив его одобрительный кивок, кот перемахнул через забор и стал осторожно красться по дорожке. Но не успел он добраться до входной двери, как во дворе неожиданно появился здоровый белый бультерьер. Бонг тотчас же затормозил, но было поздно. Собака бросилась на кота, ощерившись, вывалив язык и щелкая зубами.
Бонг, опустив голову, каким-то чудом исхитрился проскользнуть между кривыми передними лапами бультерьера. Перекувырнувшись, кот все же удержал равновесие и прыгнул псу прямо на спину. Тот взвыл, но Бонг, вцепившийся ему в ухо, уже чувствовал вкус победы. Бультерьер с котом, словно приклеенным к его спине, кружил по саду, но так и не сумел стряхнуть наездника.
В это время Алекс распахнул калитку и пошел по дорожке к дому. И хотя дверь была полуоткрыта, он все же постучал, не упуская из виду собаку, которая, промчавшись мимо него, запуталась в плетущейся жимолости: голова точно белая наковальня, а на шее, словно шарф, — маленький кот. Алекс уже было собрался войти внутрь, как вдруг его внимание привлекло какое-то движение у него за спиной, ближе к Уэлтсу. Алекс оглянулся и увидел, как два устрашающего вида чудовища, выскочившие из-за деревьев, напрочь снесли калитку.
От страха у Алекса сжало горло. Бонг, который тоже заметил пришельцев, прекратил мучить пса и стал помогать ему выбираться из спутанных ветвей жимолости. Пес, который извивался и яростно грыз усики растения, наконец освободился и, злобно рыча, бросился навстречу чудовищам. А Бонг в поисках защиты прыгнул Алексу на руки.
Одна из тварей была низенькой, вся покрыта чешуей, с человеческим лицом и какими-то неестественными светлыми кудрявыми волосами. Впечатление было такое, будто кто-то приделал кукольную голову к монстру джила.[8] Тварь шла на четвереньках, причем вместо ног у нее были руки с длинными пальцами. А вокруг шеи — шипы, похожие на вязальные спицы.
Вторая тварь сошла с дорожки и кружила вокруг пса. На лбу у этого существа, как у паука, сверкали злобные глазки, причем целый пучок. Существо шло выпрямившись во весь рост, но двигалось как-то странно — с предельной осторожностью, точно только недавно оправилось после тяжелой аварии. Лицо у него было бледным и круглым, как форма для пудинга, и абсолютно гладким, лишенным каких-либо черт, если не считать пучок глаз на лбу. На нем был темный костюм в тонкую полоску, очень грязный и в пятнах плесени. Существо, которое стояло, слегка покачиваясь, в какой-то ужасный момент сквозь снежную пелену разглядело Алекса. Оно вытянуло руку в сторону Алекса, сложив пистолетом большой и указательный пальцы, и сделало вид, что стреляет. Внезапно Алекс почувствовал, как что-то просвистело мимо его щеки, и увидел аккуратную дырочку, появившуюся в дверном косяке прямо над его головой.
Алекс вскрикнул и, выпустив кота из рук, инстинктивно пригнулся. Он чудом избежал смертельного выстрела! Но тут бультерьер, ловко увернувшись от ящероподобной твари, бросился на долговязое чудовище. То в свою очередь попыталось подстрелить пса, но он не оставил твари ни единого шанса, так как схватил ее за запястье и начал рвать зубами, точно объедал мясную кость. Тварь завизжала и принялась отчаянно звать на помощь своего напарника. Существо с кукольным лицом громко зарыдало и заковыляло на помощь. Вся троица сцепилась прямо в снегу: Полосатый Костюм лежал на спине, пес терзал его стрелковую руку, ящерица с кукольным лицом ходила вокруг них кругами и, скуля, наносила глухие удары. А снег тем временем все шел и шел, и эта схватка в пурге выглядела как танец монстров из ночного кошмара.
Затем за спиной Алекса раздался знакомый голос:
— Алехауз!
Алекс почувствовал чью-то руку на своем плече.
— Привет, Алекс! Алехауз! Позволь им сохранить хоть каплю самоуважения!
Алекс поднял глаза, увидел доброе, чуть странное лицо Хемога и позволил своему другу затащить себя в тепло коттеджа. Снаружи Алехауз злобным предупреждающим рычанием гнал прочь чужаков. Сделав свое дело, пес вернулся к дому и, гордо выпятив мускулистую грудь, застыл на пороге у ног Хемога, который ласково потрепал его по голове.
Существо в полосатом костюме, раскинув руки и ноги, навзничь лежало на снегу и выглядело мертвее мертвого. Вторая тварь нервно кружила над ним. Ее кудрявые волосы запорошило снегом, руки посинели от холода, но она, похоже, ничего не замечала. И тут, ко всеобщему удивлению, существо в полосатом костюме зашевелилось и слегка приподнялось. Оно уставилось на Алекса бусинками глаз на лбу, а потом у него под подбородком точно кто-то расстегнул молнию, на мокрый пластрон рубашки закапала какая-то жидкость и показались два страшных клыка, напоминающие осколки стекла. Существо вскинуло стрелковую руку.
— Живо внутрь! — закричал Хемог и захлопнул дверь.
Алекс был так потрясен, что потерял дар речи, а потому молча прошел в гостиную. Алехауз потрусил следом. Пес подошел к окну, выходящему в сад, положил передние лапы на подоконник и стал настороженно следить за происходящим перед домом.
Выстрелов больше не было, воздух взорвал яростный вопль. Существо, уже поднявшееся с земли, держалось здоровой рукой за израненное запястье. Оно отчаянно трясло рукой, пытаясь нацелить ее на коттедж, но тщетно. Алехауз довольно пыхтел у ног Алекса, а тот, поглаживая пса по голове, провожал взглядом удаляющиеся фигуры незваных гостей, которые уже через минуту растворились в Уэлтсе.
Тут в гостиную вернулся Хемог. При виде его доброго, улыбающегося лица Алекс неожиданно разрыдался.
Тогда Хемог подошел к Алексу и обнял его своими лапищами, от его комбинезона приятно пахло древесной стружкой и олифой. Алекс шумно втянул воздух, а Алехауз ласково ткнулся мордой ему под колено. Наконец Алексу все же кое-как удалось собраться. Он еще раз шмыгнул носом, откашлялся, потом смахнул слезы тыльной стороной ладони. Наконец решившись поднять глаза на Хемога, Алекс увидел, что тот ласково ему улыбается.
— Я в порядке, — произнес Алекс и, взъерошив волосы, отошел к окну.
Снег сыпал уже не так яростно, но успел припорошить следы борьбы на мокрой траве.
— Хемог, скажи, кто они? — спросил Алекс.
Но Хемог не отвечал, в комнате было тихо-тихо, только поленья потрескивали в камине. Наконец хозяин дома подал голос.
— Драйвид и Стемп, — произнес он. — Василиск и Стрелок.
Однако Алексу эти имена, звучавшие довольно устрашающе, абсолютно ничего не говорили.
— Были еще двое, — сказал Алекс. — Сегодня утром они устроили набег на мой коттедж. Один на ходулях, а другой — с допотопным ржавым батутом.
— Пак-Пак и Кетапин. Тойсиверы, — кивнул Хемог, отходя от окна.
Алекс видел, как там, вдали, раскинулся Уэлтс: голые деревья, совсем как шипы на спине древнего, холодного, да, очень холодного зверя.
— Они что, приходили за мной? — как можно более спокойно поинтересовался Алекс.
— Да, Алекс, — ответил Хемог. — И не только они одни. Тебе потребуется все твое мужество. Нам нужно поскорее убираться отсюда. Как только опустятся сумерки, они все будут здесь. А небо уже темнеет.
Алекс посмотрел еще раз в окно и воочию убедился, что полоска неба над Уэлтсом порозовела от закатного солнца.
— Алекс, мне еще много надо тебе сказать, — произнес Хемог, обняв друга за плечи.
Но не успел он закончить фразу, как Уэлтс взорвался тысячью звуков. Впечатление было такое, точно целый зверинец вырвался наружу, круша все на своем пути, ломая кусты и деревья. Алехауз глухо зарычал.
— Ну вот, — сказал Хемог, — началось. Живо в подвал!
Хемог с Алексом прошлись по дому, методично закрывая на защелку все ставни. Алекс, не удержавшись, выглянул в окно спальни, но не увидел ничего, кроме деревьев, выстроившихся в ряд в глубине сада. В тусклом свете фонаря на переднем крыльце стволы деревьев напоминали серебряные тросы, держащие нечто неведомое и огромное там, наверху. Укрытая снегом трава казалась такой же загадочной, как экран в театре теней, где Алекс был когда-то в детстве.
И вот, словно гротескные фигуры, спроецированные на этот экран, они начали потихоньку вылезать на белую равнину со стороны темной границы Уэлтса.
Опустив ставни, Алекс крепко-накрепко их закрыл и поднялся по лестнице на второй этаж. Сердце бешено колотилось в груди, а под ложечкой ныло от страха.
Алекс слегка помедлил и посмотрел вниз. Хемог натягивал сапоги возле передней двери и ласково успокаивал Бонга, тершегося о его ноги. «Мужайся, Алекс», — сказал он себе и стал спускаться вниз.
Под лестницей была маленькая дверца. Хемог открыл ее и нашарил на стене выключатель. Когда зажегся свет, Алекс увидел уходящие вниз шаткие ступени. Хемог махнул рукой, приглашая идти за ним, но не успели они и шагу ступить, как что-то с силой врезалось во входную дверь, чуть было не повредив раму.
— А теперь вниз, — велел Хемог.
Голос его звучал, как всегда, спокойно и уверенно, но выражение глаз изменилось. Такого Алекс за все время их знакомства еще не видел: в глазах Хемога читались злость и сожаление, а еще безысходность и настороженность. Хемог всегда был сильным, но сейчас казался просто несокрушимым.
Вдруг откуда-то сверху до ушей Алекса донесся знакомый звук. Кто-то там, на крыше, ломал черепицу. Пак-Пак.
Потом что-то еще раз шибануло по входной двери, в дом внезапно ворвался холодный ночной воздух, и они поняли, что на крыльце кто-то стоит, вытянув шею. Шея эта была толстой и серой, ее венчала крошечная головка, которая была похожа на крикетный мячик, сплошь утыканный рыболовными крючками. Существо издавало странные звуки — таких Алексу еще слышать не доводилось, — словно рвали на кусочки бумагу.
Алехауз глухо зарычал и бросился на чудовище.
Существо встало на дыбы, заполнив весь дверной проем. Тогда Алехауз сбил его с ног, и они кубарем выкатились в сад. Алекс слышал злобное рычание, отрывистый лай — словом, звуки яростной схватки. Алекс бросил взгляд в сторону Хемога, но тот только головой покачал.
— Все. Нам пора, Алекс, — сказал он.
Бонг, прижав уши и нервно помахивая хвостом, стоял в дверях. Он явно не знал, что предпринять.
— Бонг! — позвал Алекс. — Ты идешь?
Кот повернул в их сторону голову, но так и остался стоять у входа в подвал в лучах теплого желтого света. Снаружи доносились глухое рычание и рев, что-то скользило по земле: бой шел не на жизнь, а на смерть. И тут на пороге появилась какая-то тварь с тыквообразной головой, вооруженная клинками.
Бонг зашипел, но сразу же отскочил в сторону, поскольку тварь метнула в него клинок. Он пролетел в каком-то миллиметре от кота, который, увернувшись, спрятался под перилами. Затем Бонг одним прыжком обогнал Алекса с Хемогом и скатился по ступенькам прямо в подвал.
Алекс поспешил за ним. Потом Хемог, пригнувшись, чтобы не стукнуться о притолоку, прошел в дверь и крепко-накрепко запер ее за собой.
Подвал служил Хемогу мастерской. Посреди стоял огромный верстак из вековой сосны. Верстак был завален кусочками дерева и металла, винтиками и часовыми механизмами, банками с машинным маслом, сверлами, деталями двигателей и электронными схемами. А еще там были крошечные моторчики, резисторы, усилители, колбочки для образцов, канистры и мензурки. Возле стены стояли токарный и шлифовальный станки. Под лестницей лежала цепная пила — гордость и любимая игрушка Хемога. Все стены занимали шкафы и стеллажи с инструментами, в мастерской приятно пахло олифой, льняным маслом и краской.
Хемог снял с крюка старый промасленный пояс для инструментов. Застегнув его на талии, он принялся деловито вынимать разные вещи из ящиков и коробочек и распихивать их по матерчатым карманам на поясе. Удовлетворившись результатами своего труда, он повернулся к Алексу:
— Алекс, бери все, что хочешь. У нас с тобой впереди долгий путь, так что любая вещь может пригодиться.
Алекс огляделся по сторонам. Он взял совсем немного, в основном инструменты, баночку клея, пару мотков проволоки, изоленту — все, что мог упустить из виду Хемог. У Алекса в сумке уже лежал маленький топорик, а еще пара яблок и ломоть хлеба, который он успел захватить с собой еще утром.
Алекс прикинул вес сумки. Совсем неплохо, решил он, повесив сумку на плечо.
— Ну что, готов идти? — спросил Хемог.
«Идти куда?» — подумал Алекс. До него донесся неясный шум, словно там, над их головой, передвигали какие-то предметы. Что-то пронеслось мимо двери в подвал, на секунду закрыв щель в дверном проеме. Алекс вдруг вспомнил строчку из очень старого стихотворения, которое когда-то, много лет тому назад, прочел ему Хемог: «Будь начеку, когда темно и тени лезут из щелей…» От этого стихотворения, завораживавшего своим странным ритмом, приятный холодок пробегал по спине. А вслед за этой строчкой в памяти всплыла другая: «Город, который ты не видел с детства…»
«Только не туда! — подумал Алекс. — Ну пожалуйста, только не туда!»
Хемог подошел к дальней стене.
— Алекс, дай мне руку, — произнес он и начал отодвигать высокий застекленный шкаф.
Общими усилиями они повернули шкаф боком к стене, и Алекс увидел за ним маленькую потайную дверь. Хемог отодвинул засов и с усилием распахнул дверь, совсем разбухшую от сырости. Дверь вела в темный туннель.
— Он заканчивается под сараем в глубине сада, — объяснил Хемог.
С этими словами он снял с пояса фонарик и включил его. Присев на корточки и посветив себе фонариком, Хемог протиснулся в узкий туннель. Алекс пролез следом, не без труда закрыв за собой дверь. Присмотревшись, он обнаружил два тяжелых железных засова — вверху и внизу. Итак, закрыв дверь на оба засова, Алекс пополз вслед за Хемогом. В конце туннеля в потолке имелся небольшой люк, который Хемог и поспешил открыть.
— Не возражаешь? — спросил Хемог и, взяв Бонга на руки, выпихнул его через люк в сарай. — Теперь ты, Алекс, — сказал Хемог и, подставив руки, подсадил Алекса.
Оказавшись внутри, Алекс забрал у Хемога фонарь и направил луч прямо в туннель.
Хемог выпрямился во весь рост и, подтянувшись на руках, забрался следом. В тусклом свете фонаря Алекс все же сумел разглядеть обстановку сарая. Там было множество других инструментов, а еще верстак с прикрепленными к нему тисками.
В углу стояла закопченная дровяная печь с почерневшим дымоходом, рядом были сложены дрова.
— Выключи фонарь, — распорядился Хемог и подошел к двери.
В кромешной тьме Хемог тихонько приоткрыл дверь и выглянул наружу. Потом он осторожно вышел на улицу, а Алекс с Бонгом последовали за ним. Оказавшись на тропинке, все дружно посмотрели в сторону дома.
Дом прямо-таки кишел самыми разными чудовищами. Огромные крылатые твари стучали по крыше; состоящие из отдельных сегментов горбатые существа, которые извивались на земле, яростно бросались на стены и окна. Алекс узнал до боли знакомый ржавый скрип батута, подбрасывавшего Кетапина высоко в небо. И над всем этим на чудовищных ходулях качалась на ветру фигура Пак-Пака. Дом словно был зажат гигантскими старыми щипцами.
Повернувшись спиной к разгромленному коттеджу, Хемог тихонько прошел к задней части сарая. Поспешивший за ним Алекс увидел, что друг продирается сквозь кусты. Потом послышался треск отдираемых досок, и Алекс обнаружил дыру в заборе. Протиснувшись сквозь дыру, они остановились, чтобы проверить опушку Уэлтса. Алекс даже рискнул снова включить фонарик. Поняв, что им ничего не угрожает, беглецы ступили под полог леса. Хемог бросил прощальный взгляд на дом, и лицо его омрачилось: он сожалел о потере своего верного Алехауза. Хемог тяжело вздохнул, и они углубились в лес.
Алексу еще не доводилось бывать в этой части Уэлтса. Здесь была настоящая чащоба, а где-то там, вдалеке, находились старые темные города, в основном промышленные, соединенные между собой одной железнодорожной веткой. Еще дальше, за много-много миль от них, лежало море. Алекс еще никогда не видел моря. Иногда по вечерам, когда они, сидя перед камином, играли в шашки, Хемог рассказывал о прекрасном городе Ки-Эндуле. Город раскинулся на крутых горах, обступивших большую голубую бухту. Это фантастические, причудливые башенки и шпили, базары с роскошными ярко-синими палатками и обзорными площадками. В Ки-Эндуле фонтаны размером с собор, а еще там скверы и парки, летние театры, ярмарки, трамваи, фуникулеры, которые бегут по тросам, натянутым между огромными блестящими столбами, и пирс, которому нет равных.
Говорят, пирс в Ки-Эндуле длиной целую милю и уходит далеко в море. А на пирсе есть ярмарочная площадь с чертовым колесом размером с небоскреб, и русские горки, и вращающиеся ракеты на блестящих металлических кронштейнах. А еще павильоны с автоматами для игры в пинбол и тиры. И все это построено на огромном деревянном плоту, стоящем на тонких железных ногах и парящем над волнами сине-зеленого океана.
Алексу страшно хотелось попасть в Ки-Эндулу.
Они все шли и шли, как вдруг между деревьями показался просвет. Алекс решил было, что это просто прогалина, но потом обнаружил, что перед ними выемка железнодорожных путей.
Они соскользнули вниз и остановились у рельсов. Далеко-далеко, может, в миле отсюда, Алекс заслышал шум чего-то надвигающегося на них. Он повернулся на звук и увидел там, где колея уходила в лес, мощное оранжевое сияние, словно кто-то разжег костер в лесу. Но костер этот завывал!
Алекс поднял глаза на Хемога и заметил, что тот улыбается.
Огонь все приближался, а шум нарастал, отдаваясь в ушах. Они почувствовали, как земля под их ногами содрогнулась. Алекс стоял, затаив дыхание. И наконец что-то загромыхало по колее. Оно гнало перед собой сноп желтовато-красных искр, высекаемых бегущими колесами. Это была железная махина — локомотив, уцелевший после катастрофы. Квадратный, работающий на пару плод трудов одиноких ночей. Без машиниста, без огней, он, как намагниченный, вихрем несся по полночному лесу в пылающей мантии раскаленной металлической пыли, остывающей и постепенно меркнущей на его гофрированных боках.
Мимо них с ревом промчался Пожиратель Рельсов — невероятная машина, обдающая паром и сминающая ржавые пути.
— Вперед! — скомандовал Хемог, стараясь перекричать шум локомотива.
И они кинулись вдоль путей за величаво покачивающимся хвостом Пожирателя Рельсов.
Хемог схватил Бонга и посадил его на подножку. Алекс же, который на сей раз обошелся без посторонней помощи, радостно ухнув, залез вслед за котом. Хемог, довольно ухмыляясь, сначала просто трусил рядом с локомотивом, но потом схватился за поручень и запрыгнул в открытую кабину.
И вот так они стояли, раскачиваясь и купаясь в волнах жара, исходившего из топки, и весь мир вокруг стал одним сплошным лязгом, гулом и радостным возбуждением. А ночь резко пахла угольной пылью и машинным маслом, раскаленными поршнями и искрами.
Куда бы они ни ехали, они прибудут туда с помпой.
ВИЛАР КАФТАН
Ива-Годива
Пер. В. Полищук
Контора похожа на джунгли, и все администраторы в поту. Они совокупляются с ксероксами, и на свет появляются отпрыски, созданные для офисной работы, дубли сотрудников, одинаковые копии-близнецы с тусклыми серыми личиками — те, кому ведомы все ужасы офисной работы, но ведь они для нее и выведены. Отцы вскормили их жиденьким эспрессо из рожков с пластиковыми сосками. А ксероксы приглушенно перешептываются: мол, «Сосок-эспрессо», популярный напиток в стрип-клубах… Платишь стриптизерше двадцатку — и соси из ее груди кофе эспрессо.
Вот так и начинает свой день Джаред, на заднем сиденье такси. Он возит танцовщицу-стриптизершу с собой на работу и ежедневно сосет у нее кофе. При его касаниях она старательно имитирует стоны, но все мысли Джареда заняты ксероксом, который он трахнет попозже. Из-за ксероксов в конторе уже случались территориальные разборки. Директор возжелал трахнуть любимый Джаредов ксерокс, но Джаред не позволил. Вообще-то, Джаред рискует потерять работу, но ведь ксерокс у него совершенно особенный, можно сказать уникальный. Эта копировальная машина — мать первой сотни Джаредовых копий, из которых всего лишь одна вышла размазанной. От этого ксерокса получается хорошее потомство, и Джаред им дорожит.
Сегодняшняя стриптизерша, сидящая на коленях у Джареда, и сама цвета эспрессо. На голове у нее растут листья плакучей ивы и комнатного плюща — то ли генетическая мутация, то ли мамаша у нее была офисным растением, плющом или ивой-бонсай. Побеги множатся и зеленым водопадом затопляют сиденье такси прямо на глазах у Джареда. Стриптизерша вскидывает на него глаза, подставляет соски под его губы. Из нее получился бы неплохой ксерокс, думает Джаред, но ведь она простая стриптизерша. Джаред вычисляет формулу, нужную, чтобы стать Главным Исполнительным Директором. Нужно X опыта ему самому, Y уровней красоты его супруге и Z детей. XYZ = Г. И. Д. Каждый раз, как Джаред прикасается к своему любимому ксероксу, его индекс XYZ возрастает.
Стриптизерша закутывается в свои зеленые волосы. Джаред отводит ветвь пальцем:
— В чем дело? Я хочу еще кофе.
— Подача отключена. Я устала.
— А я заплачу.
— Подумаешь!
Джаред молчит. Такси раскачивается. Стриптизерша наблюдает за ним, укрытая волосами, точно леди Годива. Он называет ее Ива-Годива. Где-то под зеленым покровом таится кофе, а Джаред жаждет еще эспрессо.
— Я заплачу втрое против обычного.
— Мне деньги ни к чему.
— Но ты же стриптизерша.
— Я русалка.
Она потягивается на замызганном, пропахшем блевотиной сиденье. Джаред рассматривает ее ступни — они торчат из-под зеленого покрова, будто у непогребенного трупа. Ногтей на пальцах нет, только десяток зеленых чешуек. Ива-Годива произносит:
— Тебе интересно, где же мой хвост? Ну так вот, хвоста у меня нет.
— Но хвосты есть у всех русалок, — возражает Джаред. — Иначе они были бы просто женщинами.
— У черных русалок не так. Ручаюсь, ты и не знал, что бывают черные русалки.
— Ни разу не встречал.
— Это все художники виноваты. В девятнадцатом веке ни один не желал нас писать, потому что нас и за людей не считали. Русалки вроде как и не люди, а так — рот да сиськи. Мечта моряка, можно брать и не давать.
Джаред пожимает плечами. Он думает о своем ксероксе. Его прекрасная копировальная машина угловата и серовата, и дети все пошли в нее, а не в него. Знать бы, как отвадить Директора с его приставаниями, размышляет Джаред. Та еще шахматная партия, черные против белых, и надо соблюдать осторожность. А уж зеленовласой русалке в этой черно-белой картинке точно места нет. Однако Ива-Годива не спускает с него морских своих глаз.
— Почему ты не живешь в воде? — интересуется Джаред.
— У меня своя миссия.
— Какая еще миссия?
— Да уж не та, за которую ты платил.
Джареду делается неинтересно. Подумаешь, какая-то стриптизерша! А у него во врагах сам Директор, и на карту поставлен Джаредов индекс XYZ. Такси тормозит у здания конторы, Джаред проводит ладонью по панели автомобиля — вот поездка и оплачена.
— Все, свободна, — сообщает он Иве-Годиве и протягивает руку. Одно пожатие — и ее услуги тоже оплачены. Чего она медлит?
— Не хочешь еще эспрессо? — спрашивает Ива-Годива, слегка приподняв прядь волос — ровно настолько, чтобы показался один совершенный сосок.
Зрелище это завораживает Джареда.
— Ты вроде сказала, подача отключена. — Он облизывает губы.
— Проведи меня наверх, и я тебе кое-что дам.
— Нет, тебе внутрь нельзя.
Ива-Годива усмехается:
— Раньше ты хотел водить меня с собой куда только можно. А теперь нет, в чем дело? Ты меня стыдишься? Опасаешься, что я потребую особую плату? Или, может, от меня несет рыбой?
Джаред кривится:
— Убирайся вон.
Ива-Годива собирает волосы и медленным движением выносит их из такси. Зеленые ступни касаются асфальта, и вот она уже уходит, не произнеся ни слова. Гладкие коричневые бедра… все, скрылась за углом. Рыба, тоже мне! Какая рыба сумеет так ходить? Лгунья она, похуже подлеца Директора.
Джаред выбрасывает танцовщицу из головы и сосредоточивается на запутанной шахматной партии, которая разворачивается в конторе. Сегодня надо непременно обставить Директора и спасти ксерокс. Шах Директору и мат. Джаред — ладья, скользящая через порог конторы, ходом коня поднимается он по лестнице, грозным ферзем входит в свой отгороженный закут. Обшитые деревом стенные панели подтверждают, что Джаредов XYZ тот же, что и у всех его сослуживцев. Серые личики встречают его появление кивком и следуют дальше каждое по своим делам.
Ксерокс стоит в углу. Джаред гладит его откинутую крышку тыльной стороной ладони. В ответ ксерокс мурлычет и трижды мигает красным глазком. «Я защищу тебя», — тихонько сулит Джаред. Расстегивает брюки. Ксерокс выплевывает страницу за страницей: растение, растение, растение. Джаред всматривается в гладкую поверхность ксерокса. Кто-то поставил на стекло керамический цветочный горшочек с крошечным растеньицем.
Не иначе, козни Директора, решает Джаред. Яростно швыряет горшочек за окно с третьего этажа. Бац! Разбился. Из осколков вскидываются ростки плюща и плакучей ивы, карабкаются по стене, влезают в окно, тянутся к Джареду. Он пытается бежать, но поздно — плющ и ива уже оплели его запястья, лиственный прибой опрокидывает его на пол.
Чей-то смех. Джаред с трудом поворачивает голову. Длинный, худой, темнокожий, над ним стоит Директор. Оказывается, у него зеленые волосы, и как Джаред раньше этого не замечал? Директор неподвижен, но пальцы — коричневые сучки тянутся к Джаредову ксероксу. А рядом с Директором — Ива-Годива.
— Кто ты такая? — выдавливает полузадушенный Джаред. Он снова пытается рвануться, но плющ и ива затягивают хватку еще крепче.
Ива-Годива делает шаг вперед:
— Сказано тебе было, я русалка и у меня своя миссия. А это… — она кивает на Директора, — отросток, который я здесь посадила.
— Не забирайте мою копировальную машину! — молит Джаред.
— Поздно. Она уже не твоя.
Вложив два пальца в ротик, Ива-Годива свистит. Шелестящий звук, будто море шумит в недрах ракушки. По ксероксу пробегает волна дрожи, машина потягивается, и из лотка для бумаги выстреливает длинный зеленый хвост, вот он уже достиг футов четырех в длину, а потом раздвоился и на конце его появился плавник. В закуте у Джареда запахло океаном, водорослями, мокрым песком.
Ива-Годива гибко сигает за окно, и ксерокс проворно выплывает по воздуху вслед за ней. Напрасно Джаред рвется из своих зеленых пут, они держат крепко. Отовсюду из соседних закутов до него доносится плеск. По воздуху, помавая длинными зелеными хвостами, скользят новые и новые ксероксы и, прежде чем выплыть за окно, прощально мелькают зеленью плавников. Они ныряют в зеленый водопад плюща и плакучей ивы за окном — и исчезают. Путы, сковывавшие Джареда, расползаются, превращаются в скользкую мокредь водорослей. Джаред лежит на полу, у подножия резинового дерева, которое раньше было Директором. Лицо у Джареда опустошенное и серое. В соседних закутах молчание. Ксероксы дружно дрейфуют в открытое море, и кнопки их помигивают зеленым в лучах солнца.
МАЙКЛ ДЖАСПЕР
Рисуя Гаити
Пер. О. Александрова
Не обращая внимания на назойливый звон будильника, вот уже десять минут раздававшийся в ее тесной комнатушке, Клаудия упорно продолжала работать, думая: еще немного краски здесь, еще один мазок кистью там, еще теней на заднем плане. Ей просто необходимо было чуть-чуть больше всего: времени, красок, вдохновения.
Может быть, именно в одну из таких ночей ей не помешало бы пропустить смену и просто рисовать, рисовать до утра, потом спать, спать до полудня, и съесть гигантский завтрак в заведении «У Большого Эда» через дорогу от дома. Блинчики, овсяные хлопья, домашняя ветчина и много-много кофе — столько, сколько влезет в нее. Но она знала, что этому не бывать никогда. Деньги. Ей нужны были деньги, так же как и ее семье там, откуда она приехала.
«Malpwòpte!» — пробормотала она, бросив взгляд на дешевенький будильник, а потом — на картину.
С тяжелым вздохом, быстро переросшим в смех, она вынуждена была признать, что это еще вопрос, к чему именно относилось определение «Вот дерьмо!». Может, и к тому и к другому, подумала она и решительно выключила будильник, стукнув по нему сильнее, чем требовалось. После трех часов напряженного рисования, стирания и перерисовывания на плотно загрунтованном холсте начал постепенно обретать очертания городской ландшафт, набросанный темными мазками: желтые фонари, тенистые аллеи и заросшие сорняками ограждения в виде цепей на столбиках. Она уже готова была сдаться и оставить картину незаконченной, поскольку не могла позволить себе изводить понапрасну краску. Тем более что в пятницу уже пора вносить плату за эту комнату в доме, расположенном в десяти кварталах от здания Законодательного собрания.
Клаудия еще раз повторила креольское ругательство, смачно выплевывая каждый слог, стянула с себя старую фланелевую рубашку и попыталась оттереть краску с рук. Темно-красная, ярко-синяя и черная краска въелась в ее шоколадную кожу. Клаудия посмотрела на липкий завиток на тыльной стороне правой руки, и глаза ее вдруг затуманились. Своей формой мазок напомнил ей о чем-то, что она давеча ночью видела на работе. Нечто, что она заметила краем глаза, когда ее такси пронеслось по улице с односторонним движением в центре города.
Расплывчатая фигура человека в черной шляпе и темно-синей куртке, исчезающая в конце дорожки из красного кирпича. Идущая очень быстро, преследующая кого-то или убегающая от кого-то — этого она сказать не могла.
Бросив последний взгляд на картину (неоднородная, слабая — таков был ее приговор), она торопливо натянула на себя линялую фуфайку с эмблемой штата Северная Каролина, сунула в карман зимнего пальто бейсбольную биту с короткой рукояткой и заперла дверь своей съемной комнаты.
Пол в коридоре предательски заскрипел под ее торопливыми шагами, тем самым отдав ее на растерзание Ферди, живущего по соседству. Ферди был не только выходцем с Балкан, но еще и писателем, а это означало, что он искал любой удобный повод покинуть свою комнату, чтобы пообщаться.
— Клаудетта! — воскликнул он. — Идешь на работу?
«Вот уж действительно специалист в области очевидного. Хотя парню никак не удается запомнить мое имя», — подумала Клаудия.
— Опаздываю на работу, — с нажимом произнесла она, пытаясь обойти Ферди, но тот, стремительно шагнув вправо, блокировал ее, совсем как игрок в регби.
— Но ты непременно должна послушать эту историю, — сказал он, вытаскивая жеваную страницу «Роли ньюс энд обзервер» из кармана коричневого махрового халата, надетого поверх рубашки и черных джинсов.
— Реально опаздываю, Ферди!
Клаудия уже начала прикидывать в уме пути обхода мускулистого серба, но передумала. Если у Ферди был интересный сюжет, то сопротивляться было бесполезно. Шеф Клаудии в таксомоторной компании смотрел на ее опоздания сквозь пальцы, но нельзя же испытывать его терпение до бесконечности.
— Задержись на минутку. Я нашел эту заметку на обороте раздела «Метро». Всего два абзаца. Вот послушай: «Полиция Роли расследует серию мелких преступлений, имевших место в Оаквуде, недалеко от делового центра. В заброшенном доме обнаружены подручные средства для расфасовки героина, а также средства для поджога. Кроме того, три автомобиля были варварски разбиты, бездомные, число которых не установлено, стали жертвами нападений».
Клаудия уже успела забыть, что опаздывает, и во все уши слушала Ферди, голос которого гулко разносился по коридору. От него пахло колбасой и пишущей машинкой.
— И обрати внимание… — продолжил Ферди, взволнованно меря шагами коридор, — обрати внимание, что о людях они говорят в самом конце, после испорченной собственности. Как будто дома и машины важнее людей!
Ферди перешел на крик, а Клаудия уже на целых двенадцать минут опаздывала на работу. Она положила руку на его широкое плечо. Он перестал ходить взад-вперед и глубоко вздохнул.
— Письмо издателю? — подняла брови Клаудия.
— Да! — радостно откликнулся Ферди. Он схватил Клаудию в охапку и поцеловал в щеку, уколов отросшей щетиной на подбородке. — Ты просто гений, мой друг. Всегда знаешь, что надо делать. А я знаю, как это написать… — продолжал бубнить Ферди, уже сидя за маленьким деревянным письменным столом и вставляя новый лист бумаги в допотопную пишущую машинку.
Крепко сжимая правой рукой биту и стараясь не думать о рассказе Ферди, Клаудия скатилась по ступенькам и выбежала в снежную февральскую тьму. Водить такси — само по себе непростое занятие, особенно для женщины, да к тому же иммигрантки. У Клаудии и так забот хватало, чтобы еще думать о том, как не пасть жертвой насилия. Она не станет еще одной сухой статистической цифрой; ведь именно поэтому она и уехала из Порт-о-Пренса больше десяти лет назад.
Таксомоторная компания Роли спряталась в глубине переулка, отходящего от Блаунт-стрит, рядом с пятиэтажным паркингом и закрытым ирландским пабом. Табличка на входной двери была запорошена снегом, и Клаудия, проходя, изо всех сил стукнула по кусочку металла, чтобы стряхнуть снег. О чем немедленно пожалела, так как руку, покрывшуюся капельками влаги, обожгла боль.
Клаудия уже собралась было вытереть мокрую руку о пальто, как вдруг неожиданно заметила, что пятно от краски снова появилось на тыльной стороне ладони. А она-то думала, что перед уходом все отмыла. Теперь пятно стало коричнево-черным, словно заживающая рана, и практически сливалось с ее кожей цвета темного шоколада.
Разглядывая мазок краски, Клаудия вдруг снова вспомнила о своей бабушке: интересно, что бы сказала по этому поводу старая дама из столицы Гаити? Она точно решила бы, что это своего рода знак. Но Клаудия лишь пожала плечами и вошла в относительное тепло диспетчерской, опоздав в результате на пятнадцать минут.
Ленни Эйкинбосум, нигериец с такой черной кожей, что она даже блестела, уже с нетерпением ждал Клаудию внутри. На его лысой голове красовалась беспроводная гарнитура, и он что-то тараторил в микрофон. Бросив в сторону Клаудии сердитый взгляд, Ленни показал на часы и вручил ей ящик для выручки и список клиентов, при этом не переставая уверять пассажира по телефону, что машина прибудет меньше чем через минуту.
Первый пассажир Клаудии должен был прибыть в международный аэропорт Роли-Дархэм ровно в 19:00 — двадцать минут езды из центра, возможно тридцать, если один из городских снегоочистителей, которых и так не хватало, не успеет расчистить автостраду.
— Остается только надеяться, что самолет опоздает из-за снега или чего другого, — сказал Ленни, прикрыв рукой микрофон, и уже мягче добавил: — Клаудия, береги себя. Люди в этом районе ведут себя как-то странно.
Клаудия, лишь молча кивнув в ответ, принялась вытаскивать освежители воздуха для такси, в котором сменяла Большого Джейка, поскольку тот вечно оставлял ей машину, насквозь провонявшую потом.
Спустя десять минут, отказавшись от двух рейсов, которые надо было сделать еще до поездки Клаудии в аэропорт, Ленни потерял всякую надежду вызвать по рации Джейка. Тихо матерясь на родном языке, Ленни вытащил пластиковый кармашек для ключей в форме единицы и швырнул Клаудии ключи от Бесси.
«Да! — подумала Клаудия. — Наконец-то мне улыбнулась удача».
Клаудия любила водить Бесси. Для нее Бесси была желтым танком с пыльным знаком «Дежурная» на крыше. Клаудия проскользнула по грязному бетонному полу гаража к последнему отсеку, где, собирая пыль и паутину, стояла Бесси.
Двадцатилетний «форд-краун-викториа», как обычно, завелся с полуоборота, и Бесси с ревом выехала из гаража, так что диспетчерская осталась только размытой тенью в зеркале заднего вида.
Клаудия молнией пронеслась мимо редких машин на дороге, объехав припаркованные по обеим сторонам узкой улицы одинокие автомобили, и направилась в сторону аэропорта. Снова пошел снег, залепляя треснутое ветровое стекло. Сейчас, когда температура сильно понизилась и подул холодный ветер, даже самые отмороженные водители не рискнули попробовать свои силы в условиях непривычного снега и гололеда. Машина еще не успела как следует нагреться, когда Клаудия заметила в квартале справа от себя красные огни.
Она повернула направо и нажала на тормоз, еще раз бросив взгляд на упрямое пятно краски на тыльной стороне ладони. Что-то блеснуло в этом смешении красной, синей, но в основном черной краски, отразив огни патрульной машины графства Уэйк, которая стояла перед перевернутым желтым такси города Роли.
— Джейк… — прошептала Клаудия и заглушила мотор.
Она сделала шаг в сторону разбитой машины и тут же задохнулась от ледяного ветра.
Около такси стоял какой-то коп с включенным фонариком и, нагнувшись, пытался разглядеть хоть что-нибудь через паутину трещин на ветровом стекле. Полицейская рация издавала непрерывный треск, который смешивался с завыванием ветра. Клаудия уловила тошнотворную вонь, словно от пригоревшего масла. И еще знакомый терпкий запах пота.
А потом она услышала, как кричит Джейк.
— Вытащите его! — заорала она на копа, и злость перенесла ее на десять лет назад, в Порт-о-Пренс, когда она орала на повстанцев и потом пряталась от них, а еще кричала на американских морских пехотинцев со всеми их ружьями и новыми правилами.
Но Клаудия так и не смогла закончить фразу. Коп, стремительно выпрямившись, отошел от перевернувшегося такси. Взгляд Клаудии перескочил с копа на жирную белую руку, упершуюся в треснутое стекло.
— Проходите, мисс, — сказал коп. — Тут нет ничего интересного.
Клаудия с трудом отвела глаза от этой белой руки и посмотрела на копа. Ростом тот был не меньше шести с половиной футов, черное лицо блестело в красном свете фонарей его седана. Что-то в лице полицейского показалось ей знакомым, какая-то деталь, которую она не могла уловить в темноте. Тогда, дрожа от холода, она поковыляла обратно к Бесси.
Но что заставило ее сильнее обычного нажать на педаль газа, так это голос копа. Он словно разносился ветром, достигая ее ушей, как еще свежий в памяти ночной кошмар.
У него был креольский акцент.
Солдаты появились всего через неделю после того, как Клаудия отметила свое двадцатилетие, вооруженные до зубов, но у местных старейшин был план, как сделать так, чтобы никто не пострадал. Поначалу Клаудия упиралась, считая их идею бредовой, но стоило ей увидеть смертельные дула ружей в руках сначала гаитян, а потом морских пехотинцев, как она уже с радостью стала распространять слухи, будто в их доме живет сумасшедшая ведьма. Клаудия пытаясь втолковать любому, кто ее слушал, включая мужчин с ружьями, что ведьма сидит в своей квартире на горе волшебного порошка, а еще, что она сжигает в ванной комнате крошечные изображения американских солдат.
Эти рассказы были, конечно, полным бредом, так же как и слепая вера ее бабушки в вуду, и все же страшилки способствовали тому, что на пути к цитадели Аристида гаитянские мужчины обходили дом стороной, так же как и следовавшие за ними американские морские пехотинцы. Но один морской пехотинец все же не купился на эту байку.
Его кожа была иссиня-черной, гораздо темнее, чем у Клаудии, и на нем, как и на других солдатах, были шлем и бронежилет. На его большой голове шлем казался каким-то игрушечным, а из-под слишком короткого бронежилета торчал плоский живот. Солдат направился прямо к ней, словно мгновенно учуял обман.
В груди у Клаудии будто произошла серия землетрясений, но она упорно делала вид, что не замечает его, и как ни в чем не бывало продолжала рисовать мелом на тротуаре оккультные знаки.
«У креста не должно быть такой длинной перекладины. И все твои пентаграммы не больно-то пропорциональны».
Она оторвалась от каракулей, которые выводила на тротуаре, — символов, которые посоветовала нарисовать ей бабушка (Клаудия прекрасно понимала, что руки ее не слушаются и она все перепутала). С ее губ готово было сорваться проклятие, и она с трудом удержалась, чтобы не ударить мужчину кулаком. Но солдат уже пошел дальше. Ей в жизни не забыть этот глубокий голос с гаитянским акцентом и этот пренебрежительный тон.
Солдаты ушли, а она все продолжала корябать магические знаки на асфальте и бетоне, и в голове у нее все мутилось от обиды и стыда за свою неспособность правильно рисовать магические знаки.
Клаудия дала себе клятву никогда не рассказывать об этом бабушке.
После пары часов сна под тремя самыми толстыми одеялами Клаудия с папкой, набитой кистями и красками, снова вышла на зимний холод и направилась в сторону приюта для бездомных. В ее дремотном сознании еще прокручивались картины минувшей ночи — от момента встречи с копом у разбитого такси до той минуты, когда Ленни наконец связался с ней по рации, чтобы сообщить, что Джейк попал в аварию.
«Этот парень всегда лихачил. Попал на гололед и перевернулся. Они сказали, это была мгновенная смерть, — сообщил Ленни ничего не выражающим тоном и, выдохнув, добавил: — Осторожнее, Клаудия. Ты там поосторожнее. Можешь закончить, если хочешь». Когда Клаудия говорила «нет», ее язык точно прилип к небу, словно это ее занесло на предательском льду, хотя Бесси как раз остановилась на красный сигнал светофора.
Копы, думала она, пробиваясь сквозь снежную завесу. Акцент. Что они знали? Что вообще могут знать мужчины с ружьями?
В маленькой мастерской на втором этаже, над приютом для бездомных в «Файеттвилл-стрит молл», ее уже поджидали шесть учеников. Клаудия выложила краски и немного поболтала о снеге с Брианой и Дерроном. Преподавание позволяло ей обеспечивать себя холстами и красками, потому что Марлен, директор программы, смотрела сквозь пальцы, когда Клаудия время от времени брала домой материалы для собственных занятий живописью.
Уже через минуту после ее появления ученики повернулись к своим холстам, неуверенно тыкая в них кистью, словно боялись потратить зазря хоть каплю краски. Клаудия уже было собралась рассказать им о законах перспективы, как в мастерскую, с озабоченным видом, неожиданно проскользнула Марлен, маленькая белая женщина. Марлен поманила Клаудию за собой в коридор.
— Продолжайте и приступайте к работе, — бросила Клаудия ученикам. — Лекции сегодня не будет.
Она покинула комнату под аккомпанемент саркастических возгласов и волшебных звуков прикосновения кистей к холсту.
— Плохие новости, — прошептала Марлен, закрыв дверь в мастерскую. Марлен всегда говорила шепотом. — Вчера ночью убили одного из обитателей приюта.
Клаудия закрыла глаза, почувствовав, как по спине пробежал неприятный холодок. И она снова вспомнила о перевернувшемся такси, о Джейке, об огромном копе, который склонился над его телом, словно чего-то выжидая.
— И кто это был?
— Мистер Арчер. Его нашли прошлой ночью рядом с мусорными баками за придорожным кафе.
Мистер Арчер — для Клаудии просто Арчи — был сварливым белым старикашкой, тощим, словно вешалка, и похожим на Сумасшедшего Шляпника. Но в ее рисовальном классе он всегда вел себя как истинный джентльмен, а его стиль живописи был по-настоящему новаторским, на грани гениальности.
— Клаудия, — дотронулась до ее руки Марлен, — мне так жаль. Но, по крайней мере, мистер Арчер наконец обретет покой, подальше от всего этого уродства.
— Да-а, — протянула Клаудия, смахивая слезу.
Когда она опустила руку, то снова заметила пятно краски, хотя точно знала, что еще утром отчистила его с помощью щетки и скипидара. На сей раз темные краски, казалось, продолжали извиваться даже тогда, когда она переставала шевелить рукой.
— Клаудия?
Когда она лодняла глаза, то обнаружила, что сидит на полу, а над ней участливо склонилась Марлен.
— Клаудия, я отменю сегодняшние занятия. Так что ты сможешь хоть немножко отдохнуть. Ты слишком много работаешь. Скажи, девочка, когда у тебя в последний раз был выходной?
— Мм… — промычала Клаудия. — Какой сейчас месяц?
Через несколько минут, уже после того, как Марлен велела ученикам приходить завтра, Клаудия вошла в опустевшую мастерскую. Ее всю трясло. Она даже начала подумывать о том, что на нее наслали какое-то проклятие, которое повлекло за собой и смерть Арчи, и аварию Джейка.
Потом она заметила рисунки. Похоже, все ученики, не сговариваясь, выбрали одну и ту же тему.
Она прошла мимо первого холста, на котором было так много черного и коричневого, что все изображенное на картине — вытянутая рука и гриф гитары — было практически смазано. На затемненном заднем плане Клаудия увидела легкое поблескивание ружей, а еще нечеткие очертания знакомого кирпичного здания. Это был рисунок Брианы.
Следующей за этим мрачным произведением искусства шла несколько абстрактная картина Деррона, на которой он изобразил два городских небоскреба. Всего пару дней назад его работа представляла собой яркий пейзаж с пронзительно-синими и красными автомобилями, курсирующими по многолюдным улицам с односторонним движением. Сейчас же вместо автомобилей были танки и бронемашины, вспенивающие воды темно-коричневой реки с темно-синими и бурыми брызгами. Серая высотка банка ВВ&Т и отполированное черное здание Законодательного собрания были заштрихованы красным и окружены кольцом огня.
Все остальные картины претерпели аналогичные изменения: свет сменился тьмой, тени закрыли все предметы, словно пятна гнили на ломтике фрукта, еще вчера бывшего совсем свежим.
Одинокий холст, который она не сразу заметила, был повернут обратной стороной и накрыт тряпкой. Картина Арчи. Он всегда предпочитал работать именно в этом углу — поближе к окну и подальше от остальных. Клаудия вдохнула в себя побольше воздуха, прежде чем снять тонкую ткань, скрывавшую от нее картину, которая навсегда останется незаконченной.
Несмотря на жару, Клаудия потащилась к бабушке, сама толком не понимая, зачем она это делает. От родительского дома до бабушкиной квартиры Клаудия шла, казалось, целую вечность, при этом она страшно боялась, что кто-нибудь вырвет картину у нее из рук или сдернет накрывающее ее холст тонкое полотенце, выставив картину на всеобщее обозрение, прежде чем она будет закончена.
Клаудия поставила холст на шаткий карточный столик, красовавшийся перед крошечным черно-белым телевизором. Ее первая серьезная работа.
— Готова? — спросила Клаудия бабушку, которая сидела в кресле-качалке футах в шести от нее. Именно то расстояние, с которого и нужно смотреть.
— Почти, — отозвалась бабушка, закуривая новую сигарету.
Вдохновленная стычкой с морским пехотинцем, Клаудия больше недели работала над картиной, которую писала, по ее мнению, уже в другом, взрослом стиле. Она заполнила холст как можно большим количеством деталей, включая небольшой отряд морских пехотинцев в нижнем левом углу, направлявшихся в сторону четырехэтажного здания типа того, где она сейчас стояла возле бабушки. В зеленом небе было полным-полно военных самолетов, летевших вперемешку с голубями и летучими мышами. Кроваво-красные волны океана вдали были покрыты желтой пеной.
— Готова, — сказала бабушка, выпустив облачко сизого дыма.
Клаудия сдернула с холста старое полотенце и закрыла глаза. От стряпни на плите пахло специями, и рот у нее тотчас наполнился слюной. По радио звучала какая-то песенка под аккомпанемент аккордеона, и Клаудия наконец решила повернуться к бабушке:
— Ну что скажешь, бабушка?
Худенькая старая женщина даже не улыбнулась. Не вынимая сигарету изо рта, она делала затяжку за затяжкой. И вид у нее был такой, будто ей сообщили, что за ней пришли солдаты.
— Нет, детка, — наконец произнесла бабушка.
Клаудия с трудом обрела дар речи:
— Что ты этим хочешь сказать?
— Ты еще слишком мало знаешь. Так что нечего валять дурака с этими картинками, пока не будешь готова иметь дело с последствиями твоей работы. Ты не понимаешь, детка, — выдохнула бабушка, потушив окурок. — Я так думаю, не твое это призвание.
Пылая от негодования, злости, что ее предали, и смутного чувства, что бабушка, конечно, права, Клаудия упаковала картину и сбежала вниз по ступенькам, но слезы ярости, застилавшие глаза, вынудили ее остановиться. Где-то вдали раздавался сухой треск оружейных выстрелов. Тяжело дыша, чтобы избавиться от запахов бабушкиной стряпни, до сих пор стоявших в носу, Клаудия что было сил швырнула холст в мусорный бак рядом с домом.
И вот теперь, двадцать лет спустя, Клаудия, с трудом стряхнув болезненное воспоминание о жесткой критике своей бабушки, сдернула тряпку с картины мистера Арчера.
Работа была выполнена в черных тонах с легкими коричневыми акцентами. Арчи так густо положил краску, что даже возник эффект трехмерного изображения, совсем как на топографических картах горной местности, которые Клаудия когда-то видела в библиотеке. Картина Арчи не имела сюжета — только сердитые слои краски.
Коричневые и черные хребты и долины так и манили к себе Клаудию; ей ужасно хотелось потрогать их руками. Она провела пальцем по самому большому хребту коричневой краски, испытав при этом настоящий шок.
За всеми слоями краски таились контуры лица. Глаза, сверкавшие от гнева и потемневшие от острой нужды. Голод. Клаудия нащупала белое волокно в текстуре хребта, обозначавшего скулу, — волокно, похожее на шрам от удара клювом маленькой злой птицы.
Клаудия, словно обжегшись, тут же отдернула руку от картины Арчи. Она снова накинула тряпку на холст и, вконец обессилев, повернулась к картине спиной, а потом направилась к дверям.
Черные и коричневые тени, преобладавшие в работах ее учеников, теперь покрыли все, что она видела по дороге домой, — совсем как пятно в поле зрения.
И несмотря на ясное небо и яркое солнце, у нее было такое чувство, будто над ней темные-темные облака.
Снег, выпавший во время вчерашней метели, уже успел растаять, или его убрали с тротуаров. И все же Клаудия видела только сгущающуюся тьму.
Когда она переходила Уилмингтон-стрит, ей под ноги попал обрывок страницы «Ньюс энд обзервер». Рваный, мокрый клочок газетного текста, казалось, взывал к ней: «Американские морские пехотинцы вошли в столицу Гаити». Заметка была датирована вторником, то есть газета была позавчерашней.
Клаудия посмотрела на снимок морских пехотинцев в темном камуфляже, которые вынимали из кузова грузовика какое-то снаряжение. Задний план фотографии был затушеван коричневым, чтобы скрыть детали. Клаудия, прищурившись, скосила глаза на газетную страничку. На обороте она заметила короткий заголовок, гласивший: «Уличный убийца».
«А что, если тот хаос, царящий там, дома, нечто вроде вируса? — подумала Клаудия. — И вот сейчас он добрался до меня!»
Она уронила мокрый клочок газеты и не слишком удивилась, увидев, что пятно краски на тыльной стороне правой руки увеличилось и уже протянулось от пальцев до запястья.
Не обращая внимания на бивший в лицо ветер, Клаудия торопливо прошла мимо Мур-сквер — засаженной бурой травой пустынной площади с садовыми скамейками. К тому моменту, когда Клаудия добралась до своего дома на Оаквуд-стрит, она уже почти перешла на бег. Она специально засунула правую руку поглубже в карман пальто, чтобы не видеть ее, пока не окажется дома.
Когда она наконец отложила кисть и бросила взгляд на часы, то не смогла сдержать возглас удивления: было почти двенадцать ночи.
Ноги и спина отчаянно ныли от долгого стояния над картиной, а руки устали держать палитру и кисть. Но она закончила.
Отступив на несколько шагов, она в последний раз посмотрела на холст.
На фоне вихреобразных черных и коричневых теней были видны фонарь, кирпичная стена, колесо автомобиля. На грязном асфальте были накорябаны какие-то символы. Чуть-чуть слева от центра была изображена сгорбленная фигура человека, который еще только начал поднимать голову, демонстрируя сузившиеся белые глаза под полями черной шляпы. Шляпы, которая вполне могла оказаться и каской. Или полицейской фуражкой.
Глаза смотрели куда-то вдаль, и она знала, что положила вокруг лица ровно столько темной краски, сколько нужно. За исключением капли белой краски, понадобившейся, чтобы нарисовать глаза и тонкий белый шрам, совсем как на картине Арчи, она использовала только темно-красный, полночно-синий и грязно-коричневый цвета.
И она поняла, что он ждет ее там, в переулке за Бладворт-стрит. Солдат, коп, охотник. Сейчас она несла за него ответственность.
«Теперь, девочка, ты знаешь, — прошептала она голосом бабушки. — И может быть, начинаешь понимать».
Поддавшись неожиданному порыву, она взяла с туалетного столика старый кусок мела, а затем закрыла за собой дверь, при этом ни на минуту не переставая думать о бабушке. Старой женщине, должно быть, понравилось бы видеть, как Клаудия выходит из дому всего за несколько минут до полуночи, чтобы встретиться с кем-то на Бладворт-стрит.
Она работала в гостевой спальне в бабушкиной квартире, пряча холст от старой дамы и в то же время зорко следя за ней, когда неожиданно услышала истошные вопли ребятишек на улице. С кистью в руках, она вышла из дому, чтобы помешать им швырять камнями — под радостное улюлюканье местных мужчин — в морских пехотинцев и гаитянских солдат, патрулировавших район.
Небо заволокло черными облаками, приближение грозы чувствовалось и на улице: воздух был так наэлектризован, что Клаудии трудно было дышать. Слишком уж жарко для октября. От жары люди начинают дуреть.
Включая бабушку. Не успела Клаудия прогнать двух тощих мальчишек, как вдруг услышала надтреснутый от ярости голос бабушки и тотчас же увидела по меньшей мере два ружья, нацеленные на ее окно.
— А ну проваливайте отсюдова! — орала бабушка.
И Клаудия поняла, к сожалению слишком поздно, что не должна была оставлять бабушку без присмотра.
— Ведьма! — бросил, прицелившись, один из гаитянских солдат.
Местные мужчины посылали в спину Клаудии проклятия, осыпая ее ругательствами за то, что помешала детишкам забавляться. И тут перед ней возник здоровый морской пехотинец, тот самый, что критиковал ее пентаграмму. Он подошел к гаитянским солдатам и силой заставил их опустить стволы. Этот большой парень всегда оказывался поблизости, что бы ни происходило вокруг, особенно если стреляли и убивали. Однако сам он ни разу так и не поднял оружия. Он просто всегда был… там.
В эту секунду маленький Дэниел Блейз кинул камень — последний камень, которому суждено было быть брошенным в этот день. Камень с глухим стуком ударился о каску большого чернокожего морского пехотинца.
Морпех попятился, но устоял на ногах. Его глаза расширились и побелели, а затем, наоборот, сузились, так как по улице вдруг прокатился бабушкин каркающий смех.
— Убирайся! — прошипел морской пехотинец.
Клаудия с трудом расслышала, что он сказал, поскольку его голос потонул в раскатах бабушкиного смеха. Но затем ее смех неожиданно прервался, сменившись странным звуком, будто кто-то, высоко над ними, в ужасе скреб ногтями по подоконнику. А потом старая женщина выпала из окна.
Клаудия тотчас же отпустила мальчишку, которого собиралась остановить, и попыталась встать так, чтобы бабушка упала прямо на нее, словно могла смягчить падение.
Тело бабушки с громким стуком шлепнулось на тротуар, и это утихомирило толпу лучше любого пистолетного выстрела.
Гаитянские солдаты мельком взглянули на ее бабушку и поспешили вниз по улице, вслед за морскими пехотинцами. Клаудия опустилась на колени перед бабушкой и так и осталась в этом положении, раскачиваясь взад и вперед над искалеченным, безжизненным телом.
Скоро на нее упала какая-то тень, пахнувшая ружейным маслом. Большой морской пехотинец встал на одно колено рядом с ней. Клаудия увидела сквозь пелену слез, как на его темном лице, на секунду озарившемся душевным волнением, вдруг появилось какое-то отвратительное выражение, похожее на удовлетворение.
— Мы хотели помочь, — пробормотал он. — Но теперь, люди, вы уж как-нибудь сами. Вы, люди, сами выбрали такой исход.
Его толстые пальцы лежали у бабушки на плече, эти похожие на сосиски пальцы мяли бабушкину плоть.
Клаудия даже не успела сообразить, что же она делает, как ее рука поднялась словно сама собой. Кисть, которую девушка крепко сжимала в правом кулаке, описала дугу и опустилась прямо на щеку большого черного парня. Клаудии хотелось убить его за то, что он вот так трогал ее бабушку. Кисть оставила трехдюймовый след белой краски на его темной щеке, словно на скользком, блестящем холсте. А Клаудия тогда жалела только об одном: что в ее руке не было ножа.
Солдат откинулся назад, словно хотел в ответ занести над Клаудией кулак. Но в последний момент опустил руку и встал.
Пробормотав на прощание, как ругательство: «Вы, люди», он пошел прочь. Остальные солдаты последовали за ним по мигом притихшей улице. А у Клаудии остались только безжизненное тело бабушки и запах ее специй, постепенно вытесняемый медным запахом крови.
Она снова дотронулась до бабушки и почувствовала, что плоть старой женщины холоднее, чем океан в феврале.
Когда Клаудия вылезла из теплого салона Бесси, ледяной воздух, словно пощечина, ожег ей лицо. Уличный фонарь отбрасывал тусклый свет, имевший какой-то коричнево-черный оттенок, как будто даже свет в этом районе был искажен витающим в воздухе злом. Клаудия вдохнула металлический запах оружия и гари.
А потом ветер вдруг стих, и Клаудия почувствовала легкое дуновение, принесшее запах гвоздики, смешанный с ароматом свежего базилика и бабушкиного любимого тимьяна. И воспоминания дали ей мужество войти в темный переулок.
За мусорным баком сидел, скорчившись, большой мужчина и ждал ее.
Даже в темноте Клаудия разглядела у него на щеке тонкую полоску белой краски.
— Возвращайся домой, — сказала Клаудия дрогнувшим голосом.
— Думаешь, девочка, это так просто?
Его голос был все таким же глубоким, как и накануне, в ночь аварии, и таким же отрешенно уверенным, как и в их первую встречу. На нем были потертые джинсы и зеленая армейская куртка, и выглядел он теперь намного старше. Он весь дрожал и трясся, точно наркоман во время ломки.
— Тебе что, мало было моей бабушки? — спросила Клаудия, надвигаясь на него, и с каждым шагом ее злость и негодование только усиливались.
— Нам всем надо есть, — ответил он, встав перед ней в полный рост. — Я просто пришел туда, где питание… разнообразнее. И доступнее.
При этих словах Клаудия достала кусок мела, который берегла с того дня на Гаити. Она зажала его в рабочей руке — в руке, на которой осталось пятно от краски. Несмотря на зловоние, исходившее от мусорного бака, Клаудия все еще чувствовала запах бабушкиных специй. Клаудии ужасно хотелось взять тряпку, смоченную в скипидаре, и стереть с лица мужчины знак, оставленный много лет назад.
— Всегда найдется жертва, — назидательно произнес мужчина, словно обращаясь к ребенку. — Вспомни об убийце, который ходит где-то поблизости и забирает ваших людей.
— Убийца! — От удивления Клаудия чуть было не выронила мелок. — Ты и есть убийца.
— Не-а, — помотал головой мужчина, да так энергично, что мусорный бак опять загремел. — Я просто иду за ней и получаю все, что мне надо, когда она уже готова.
Не отводя от него глаз, Клаудия опустилась на одно колено. Она расчистила снег на дороге и, склонившись, провела длинную белую линию, отделяющую ее от него. Тарахтение мотора Бесси в конце переулка действовало на нее успокаивающе и позволяло руке сохранять твердость. Потом нарисованные мелом линии превратились в крест.
— Девочка, — сказал он, — все еще рисуешь? Что, уже лучше получается?
Но она продолжала рисовать, и его слова только подстегивали ее. Ей показалось, что он немного попятился, когда она чертила первый знак власти, которому научилась от бабушки.
— Довольно, девочка!
Но Клаудия упрямо продолжала рисовать. Интересно, помнит ли он, что она вывела мелом на тротуаре в тот день на Гаити, хотя тогда сама не верила во все эти знаки? Но теперь у нее получилось лучше.
Клаудия рисовала и думала о доме, о своем настоящем доме. Неужели на Гаити сейчас так много страданий, что смерть там уже не кажется этому существу чем-то особенным? А потому он явился сюда, изголодавшись по новому виду смерти.
Следующим знаком стала пентаграмма. Эту связь, случайно установленную много лет назад в Порт-о-Пренсе, надо было разорвать.
— Т-ты делаешь это неправильно, — начал мужчина.
— Тебя не спросила! — презрительно фыркнула Клаудия. — А вот что мне действительно от тебя надо, так это то, чтобы ты позаботился о том, кто убивает наших людей. Питайся страданиями убийцы, а не нами.
— Прекрати! — прошипел он, падая на колени.
— Сделай, что прошу, и я тебя отпущу. Если нет… — Клаудия накрыла рукой нарисованные мелом знаки. — Если нет, я сотру тебя.
— Ты что, думаешь, это так просто? — еле слышно произнес мужчина.
И тут лица Клаудии внезапно коснулся поток теплого воздуха, напоенного ароматами бабушкиных специй, и она закрыла глаза, чтобы целиком, без остатка, вдохнуть в себя запах гвоздики, и базилика, и тимьяна. Когда она наконец открыла глаза, большой человек был уже далеко.
— Да, malpwòpte! — сказала она. — Вот так просто!
Где-то там, в холодной ночи, всего в нескольких кварталах от нее, ей послышался чей-то сдавленный крик, полный недоумения. Магия, которой владела ее бабушка, была сильнодействующей — а вовсе не детскими игрушками, как когда-то считала Клаудия, — и работала она очень быстро. Чернокожий мужчина — падальщик, питавшийся мертвецами, позаботился об убийце, преследовавшем ее друзей здесь, в деловом центре Роли.
«Я понимаю, бабушка, — думала она, как можно быстрее стирая начертанные мелом знаки, тем самым стирая и жизнь падальщика, который успел уже поймать убийцу. — И я скучаю по тебе».
Сидя в безопасном и еще теплом салоне Бесси, Клаудия наконец оторвала взгляд от чистой полоски кожи на тыльной стороне ладони и увидела, что восходит солнце. Она не обнаружила ни малейших следов краски на руке: исчезли даже рыжая и темно-синяя.
Она надеялась, что ресторан «У Большого Эда» скоро откроется: больше всего на свете ей хотелось плотного завтрака и чашки крепкого кофе, хотя, конечно, все это даже рядом не стояло с теми кушаньями, что готовила для нее бабушка.
А потом, сполна насладившись завтраком и кофе, Клаудия сделает эскиз для своей следующей картины, такой, чтобы использовать те краски палитры, которыми она так долго пренебрегала.
БЕН ПИК
Испорченные похороны
Пер. О. Александрова
Линетт разбудило чувство тяжести. Собственной тяжести. Тяжести собственного тела.
Плоское красное небо над Иссьюэром словно ждало, когда она наконец откроет глаза. Пять часов назад, когда она закрыла глаза, небо было темным, уродливо-бурым: середина ночи. Теперь же оно было, как всегда на заре, просто красным без всяких примесей, и с первыми лучами света липкая, удушливая жара начала потихоньку просачиваться через открытое окно. Дождя сегодня явно не предвиделось. Только жара. Только пот. Только неуютное осознание того, что она существует, которое несли с собой и жара, и пот. Но что самое плохое, так это ее волосы, короткие темные волосы, грязные от пота и пепла. Пепла, который всю ночь летел через открытое окно. Пепел, оставляя грязные полосы на ее лице, оседал во рту, и она постоянно чувствовала его вкус — сухой, горелый и неприятный. Ее левая рука, с выпуклыми шрамами на предплечье, казалась тяжелой и очень болела, но рука болела всегда. На жаре это была тупая, тягучая боль, а на холоде — острая, пронзительная, словно холод вонзался в ее треснувшую кость, чтобы куснуть побольнее. Ее ноги, запутавшиеся в грязных от пепла, грубых коричневых простынях, нещадно потели, а своей длинной прямой спиной она чувствовала края бронзовой рамы кровати под пропотевшим тонким матрасом. Линетт думала о том, что тело ее бесконечно, и от этих мыслей, похоже, она больше никогда не сможет заснуть.
Однако и сны не приносили успокоения. В снах этих Линетт жила под другим красным солнцем, носила тяжелые коричневые одежды, сверху — легкие бронзовые доспехи, а в руках держала короткое ружье с широким дулом. Вокруг нее — облака черного пепла, летящего от бронзовых, серых и серебристых машин. На земле повсюду клетки с воронами, и черные птицы внутри этих клеток сидели тихо, чего-то выжидая. Она знала, что птицы не настоящие. И никогда таковыми не были. Земля, на которой валялись ненастоящие птицы, состояла из грязи, и пепла, и остатков коричневых и красных деревьев; их вырвали с корнем, когда разбивали военный лагерь, в котором она жила. Остатки эти приставали к ее ботинкам, и она шла, оставляя за собой длинный след. Рядом с ней еще был какой-то мужчина, но она не могла понять, кто это. Он все спрашивал ее, когда она собирается прочитать письмо, но в ответ она только просила его сидеть тихо. Двое мужчин уже исчезли, говорила она. Они могли быть где угодно. Они могли следить за…
И они следили, но она проснулась еще до того.
Это не имело никакого значения: она знала исход, пережила его и вовсе не собиралась пережить его заново.
Письмо, однако, не было частью воспоминаний. Письмо было неотъемлемой частью этой удушливой жары и ее жизни в Иссьюэре. Письмо лежало в ее крошечной кухоньке, рядом со старым бронзовым чайником: белое, тонкое, прямоугольное и нетронутое. Ее имя было напечатано на конверте расплывчатыми буквами, и, хотя она не знала того парня с чистой кожей, что принес письмо, она знала его автора.
Линетт стала медленно подниматься, опираясь на здоровую руку. Левая же мертвым грузом лежала на колене. Чтобы вернуть руке подвижность, потребуются хороший душ и комплекс упражнений. Прошло два месяца, с тех пор как Линетт, демобилизовавшись, вышла из госпиталя, и она уже месяц жила в Иссьюэре, а рука только-только начала становиться более или менее работоспособной.
Однако на это потребовалось время. Она откатилась к другому краю кровати, которой вполне хватило бы для двоих, но на которой спала одна, и опустила ноги на холодный каменный пол в комнате настолько пустой, что случайный посетитель вполне мог решить, будто там никто не живет.
Все предметы из комнаты бесформенной грудой были свалены в коридоре: Линетт швырнула их туда прошлой ночью. Большое зеркало в бронзовой раме, некогда висевшее в комнате, чтобы придать ей объем, теперь, треснувшее наверху, было просто прислонено к стенке. Рядом лежали медные часы, приземистый бронзовый вентилятор с погнутыми лопастями, а еще с десяток мелких металлических приспособлений, которые она убрала, поскольку от одной только мысли, что они будут возле нее, пока она спит, ее начинало тошнить. Каждое из них воспроизводило реальное событие или создавало искусственный эффект… И все они вызывали у нее отвращение, так же как и та спокойная фамильярность, с которой она обращалась с ними в определенный период своей жизни. А потому она в порыве злости выкинула все это из комнаты и даже открыла окно, чтобы впустить в дом удушливый ветер с примесью пепла.
Она так и не открыла письмо.
Моя дорогая Линетт!
Я не знаю, с чего начать, но точно знаю, что времени писать у меня осталось совсем мало. Через полчаса начнется операция. Я полностью отдаю себе отчет в том, что делаю. Рука моя дрожит. Я всегда гордился своим четким почерком, красивыми буквами, но только посмотри на них сейчас! Строки кривые и косые. Буквы налезают друг на друга. Буквы пляшут, нарушая строгий порядок, которым я так дорожил. Я полагаю, что если говорить о предстоящем, то чему быть — того не миновать. В жизни никогда не бывает, чтобы все шло гладко и спокойно.
Она попыталась поесть, но во рту даже после того, как она его прополоскала, стоял привкус пепла.
Сидя на стуле за кухонным столом, Линетт с трудом жевала кусок яблока, но, так и не дожевав, проглотила его, остальное же выкинула в мусорное ведро рядом с раковиной. Сморщенное коричневое яблоко с противным чавканьем шмякнулось о медное дно ведра. А затем тишина. Ни один звук не сорвался с губ этой, одетой теперь в черные брюки и черную же рубашку с длинным рукавом, высокой женщины, с тех пор как она проснулась.
Проснувшись, она вышла из спальни, потирая шрамы на руке и испытывая отвращение к тому, как пот скапливается вокруг вздувшихся толстых рубцов. Она обошла беспорядочно сваленные в коридоре вещи, вошла в туалет, помочилась, потом залезла под душ и энергичными движениями стала растирать тело и разрабатывать руку, пока та не стала такой же подвижной, как и вторая, потом оделась и взяла яблоко. В доме было совсем тихо, слышен был только шум ее шагов по медленно нагревающемуся бетонному полу.
А ведь совсем недавно каждое утро было наполнено звуками. Мужчины и женщины, которых она знала по прокопченным, задымленным лагерям, говорили о плохой еде, о военных операциях, о тех, кто вернулся домой, и о тех, кто сейчас с ними. Еще до того, как она уехала, еще тогда, когда она жила в Ледорнне, все разговоры были ни о чем: какие тосты она предпочитает или кто принесет им обед. Ничего не значащие, пустые, домашние разговоры…
Полчаса она сидела за кухонным столом, ни о чем не думая, только время от времени постукивая ногтями по бронзовой столешнице. Мысли блуждали, и вот с обрывков разговоров, слов из песни, отрывков из книг и даже сцен из пьес, которые она видела, ее мысли постепенно переключились на мужчину. Это был худощавый блондин с неровными зубами, и такого любовника, как он, у нее не было никогда, впрочем, и у него не было такой, как она. Линетт не хотела думать о нем, и, когда в руке снова стала пульсировать боль, то ли настоящая, то ли придуманная, она поняла, что должна остановиться, прежде чем мысли примут мрачное направление, способное поколебать ее решимость.
Очень тихо Линетт вошла в маленькую гостиную, выкрашенную в бледно-серый цвет. В центре стоял длинный коричневый диван, в углу примостился изящный бронзовый столик, а на нем — радиоприемник, отделанный медью и серебром. Коробка с мнениями извне, отодвинутая в сторону. На полу лежала пара старых, потертых черных ботинок. Линетт подобрала ботинки, села на диван, держа их в руках, и снова помедлила.
На кухне, рядом с чайником, по-прежнему лежало письмо.
«Слишком уж много похорон я посетила», — сказала она, словно письмо могло ей ответить.
Оно, естественно, не могло, но одно то, что она разговаривала с письмом, одновременно вывело ее из себя и расстроило. Нетерпеливыми руками она туго зашнуровала ботинки. На правом ботинке она пропустила дырочку, а на левом — даже две. От досады Линетт заскрипела зубами, но терпеливо все переделала и вытерла пот с рук.
Закончив со шнурками, она поднялась и прошла через кухоньку к задней двери. Шла она быстро и целеустремленно — походкой женщины, которая знает, что перед ней нелегкая задача, но которая не намерена отступать.
Ты сердишься?
В тот день, когда я впервые встретил тебя, ты сердилась. Прошло почти два года, но почему-то мне запомнилось именно это. Не твоя красота, не твоя улыбка, не твои привычки… Нет, через столько лет я понял, что характеризует тебя совсем не это. Все вторично по сравнению с твоим гневом — ослепительным, пылающим гневом, вызванным несовершенством мира. Гневом, вызванным тем, что ты должна так или иначе исправить мир. Впервые я увидел тебя, когда стоял под бронзовым навесом, а ты выступала перед участниками антивоенного митинга в Ледорнне, и именно тогда я увидел твой гнев. Ты требовала ответа на вопрос, почему Айянн так важен для островов Шибтри? Почему императрица и ее дети представляют такую угрозу?
Ты сказала нам, что они живут под землей, в разрушенных городах, куда не проникают лучи нашего красного солнца, а на шее носят кости ворон, чтобы после смерти никто не мог поймать их души. Они были настолько суеверными, что на их фоне мужчины и женщины, просившие похоронщиков вытатуировывать на коже свою жизнь во имя Бога, казались светочами науки и разума.
Что потрясло меня больше всего (и думаю, всех остальных), так это то, что ты была кадровым военным, а не человеком с улицы. Ты стояла перед нами в прямых легких коричневых брюках и полном армейском обмундировании, со всеми медалями и знаками различия. И ты гордилась тем, какой ты была. Ты гордилась тем, что сделала для островов. Ты гордилась тем, что была на службе. Но теперь ты сердилась. Гнев не позволял тебе молчать, и о последствиях ты уже не думала. Это был пугающий гнев, и он, боюсь сказать, пугал — и пугает — меня.
Вдали, на горизонте, виднелись напоминающие груши печи Иссьюэра, ехать до которых на повозке было не меньше часа.
В последнее время Линетт уже видела печи-близнецы не так отчетливо — их края казались размытыми. Но даже с учетом того, что зрение ее ухудшилось (как-никак, ей уже было тридцать восемь), не заметить их на горизонте она просто не могла — так велики были эти сооружения. И наоборот, сотни высоких бронзовых ветряков, возвышающихся над городом, не могли попасть — и действительно не попадали — в ее поле зрения. А печи прятались за горизонтом, словно пара покрытых для маскировки сажей часовых у въезда в город, мрачных и сгорбленных. Если вам удастся о них забыть, в чем Линетт сильно сомневалась, то каждую пятницу они будут напоминать о себе, изрыгая едко пахнущий пепел, и над ними, как сигнал того, что сожжение умерших за неделю уже началось, взовьется струйка дыма.
Выйдя из дому, Линетт с минуту постояла, мрачно созерцая печи. Она знала, что именно там закончит свой жизненный путь: друг, член семьи или, возможно, даже похоронщик отдаст ее тело, завернутое в белые простыни, молчаливым монахам, что живут под печами. Там ее обмоют и положат в гигантские ямы, которые никогда не остывают и которые вспыхнут в конце недели, чтобы поглотить ее. Именно такой конец она выбрала для себя. Ее не закопают в землю, не отдадут — не продадут или не украдут — в цех хирургов… Нет, ее останки будут сожжены. Ее сделают свободной.
Дом Линетт, который окружали такие же дешевые домишки из красного кирпича, находился на окраине Иссьюэра. Здесь вместо дорог была просто утрамбованная грязь, но уже через несколько минут Линетт шагала по мощеным улицам центра города. Там стояли высокие ветряки, работающие на разной скорости и подающие электричество от дома к дому. Иссьюэр — не слишком большой город, предназначенный для временных жильцов, — был спроектирован по регулярному принципу, причем названия улиц отражали их назначение. Все в Иссьюэре было устроено для удобства посетителей, коих город видел немало. В этот город, скорее, городок мужчины и женщины приезжали на несколько дней, может, на неделю, а потом уезжали. Уезжали, воочию увидев работу печей и отдав последний долг семье и своим незабвенным.
Окна частных домов, мимо которых проходила Линетт, были закрыты, жалюзи опущены. Внутри бронзовые вентиляторы обеспечивали циркуляцию воздуха, но впечатление, что личная жизнь шла за запертыми дверьми, не было иллюзией. Люди в Иссьюэре вели в основном замкнутый образ жизни, и только попав в центр города с его магазинами, отелями и конторами, можно было обнаружить хоть какое-то присутствие человека. Там окна были открыты. Там вентиляторы, установленные на улицах, работали на полную мощность, а над ними — ветряки, самые большие в городе. Там мужчины и женщины, в основном молодые, представляли собой в глазах приезжих счастливое, улыбающееся лицо Иссьюэра. Но в остальных местах всё и вся, как считала Линетт, было похоже на гроб: закрыто, спокойно и неподвижно. Смерть — вот основной товар, на котором специализировался Иссьюэр. Город был основан Аланом Пьером, чернокожим мужчиной, попавшим на острова еще ребенком и заработавшим кучу денег на похищении тел. Когда возраст заставил его начать подыскивать себе место, чтобы наконец обосноваться, он обратил свой взор на импровизированный палаточный городок поблизости от печей и вложил свое немалое, но нажитое неправедным путем состояние в то, чтобы превратить палаточный городок в нечто более долговечное. Прошло совсем немного времени — и уже были построены отели, прибыли хирурги и похоронщики, так же как и другие представители индустрии смерти. Люди вроде Линетт, которые переселились в город, ведомые нездоровым образом мышления и внутренней борьбой, происходившей в душе у каждого, стали его неотъемлемой частью.
Линетт сама даже точно не знала, что привело ее в Иссьюэр. Ее пенсии хватало на еду и жилье, но не более того. В другом городе она могла бы найти работу и получать больше, но, несмотря на все тяготы жизни, нельзя сказать, что такое положение вещей ее не устраивало. Она была одинока, но…
Нет.
Нет, это было не так. Она не была одинока. Она не была одинока с тех пор, как приехала сюда и получила возможность каждый день смотреть на печи.
Я не солдат и не хочу делать вид, будто знаю, через что ты прошла или почему в Иссьюэре ты все же спишь спокойнее, чем в Ледорнне, но хочется надеяться, что я всегда был тебе полезен. Что я старался по мере сил быть тебе полезным.
А это, Линетт, было совсем нелегко. Да, здоровье мое оставляет желать лучшего, что есть, то есть. Но твоя ненависть ко всем достижениям нашего общества только осложнила нашу жизнь — усугубила наши болезни и ранения, — сделав ее труднее, чем она могла бы быть. С таким отношением никого из нас исцелить невозможно.
Что касается тебя, то тебе причиняет беспокойство твоя рука. Почему бы и нет? Мачете сбежавшего заключенного раскололо кость, и теперь ее держат стальные скобки. На полное исцеление уйдут годы, если, конечно, оно вообще возможно, что тебя весьма тревожит. Самым логичным решением проблемы является замена кости, и именно это было предложено тебе армейскими хирургами, но ты отвергла их предложение — как отвергала все, что предлагали хирурги, если они могли лишить тебя чего-то, данного природой. Ты сказала им (как сказала и мне), что это противоестественно, что это неправильно.
И я спрашиваю тебя: что правильно? Наносить татуировки на свое тело во славу Бога? Носить амулет на шее, чтобы сохранить душу? Верить в то, что Океан — это живое божество? Верить в сотню других необъяснимых вещей? Являются ли они для тебя более приемлемыми, чем наука, достижения которой позволяют нам прожить долгую, здоровую жизнь?
И хотя Линетт не верила в Бога, она отправилась на улицу Похоронщиков, к мужчине и женщине, зарабатывавшим на этой вере. А точнее, Линетт шла в сторону длинного прямоугольного дома из кирпича цвета карамели, который принадлежал похоронщице Айвелт Фрэ. Дом этот, под темно-коричневой черепичной крышей, самый большой на улице Похоронщиков, стоял среди дюжины домишек поменьше из разноцветного кирпича. При доме имелось три бронзовых ветряка — два на крыше и один, возвышавшийся над остальными, у задней стены.
Бронзовую дверь открыла миссис Фрэ. Волосы у нее были темно-рыжие, покрашенные, похоже, совсем недавно. Кожа под подбородком обвисла, лицо — все в морщинах, впрочем, как и шея, видневшаяся в вырезе коричневого платья. Тело, покрытое татуировками, тоже не отличалось юношеской упругостью, а потому крашеные волосы выглядели нелепо и были всего-навсего данью тщеславию.
— Линетт, как приятно тебя видеть. — Глубокий голос миссис Фрэ, казалось, принадлежал женщине куда более крупной. — Линетт, ты…
— Он умер.
— А-а-а! — воскликнула миссис Фрэ и после паузы добавила: — Мне очень жаль.
— Я получила письмо. — Голос Линетт звучал сухо, речь была отрывистой, так как ком в горле мешал говорить. — Его… его не было там вчера.
— Входи, входи, — промурлыкала миссис Фрэ, пропустив Линетт перед собой.
Внутри дом, залитый теплым оранжевым светом, был разделен толстыми бронзовыми дверьми. На дверных панелях были нарисованы сцены сражения ангелов с демонами, обнаженных и с оружием в руках. Все фигуры выглядели просто смехотворно: бесполые ангелы, сексуальные демоны в застывших позах… За дверьми с изображением отчаянной битвы находились личные апартаменты миссис Фрэ и членов ее семьи, которые тоже занимались похоронным бизнесом. Линетт никогда не видела, что там, за дверьми, и вряд ли когда-нибудь увидит, но не сомневалась, что обстановка в личных покоях разительно отличается от интерьера приемной. Интерьер этот был достаточно дорогим, несмотря на внешнюю простоту: деревянные полы и светло-коричневые кожаные диваны с подушками. На столе из выбеленного дерева у дальней стены лежал гроссбух, куда заносились время приема и суммы платежей, а сверху — гусиное перо. Словно один из ангелов миссис Фрэ смастерил ей этот столик из костей умерших и оставил ей свое перо, чтобы было чем писать.
— Чего-нибудь выпьешь? — спросила похоронщица.
— Нет, я… — Эмоции опять перехватили Линетт горло, но она, напуганная их силой, все же сумела справиться. — Я в порядке. Если можно, то я хотела бы начать.
— Конечно-конечно.
Линетт уже знала, что проблем не будет. Она вышла из дому рано, когда Иссьюэр еще не проснулся, в отличие от миссис Фрэ, которая, как и все пожилые люди, просыпалась с первыми лучами солнца. Приди Линетт чуть позже, женщина могла быть уже занята, и тогда Линетт пришлось бы ждать, поскольку если один похоронщик начал оставлять на тебе свои отметины, то другой уже ни за что к тебе не прикоснется, пока не умрет первый. А Линетт понимала, что сегодня не сможет набраться терпения ждать.
Миссис Фрэ привела ее в маленькую комнату, щелкнула выключателем, и белый электрический свет прогнал темноту. В центре стояло бронзовое кресло с толстыми подушками. Благодаря болтам, винтам и дискам этому уродливому креслу можно было придавать различные положения. Полностью разложив кресло, миссис Фрэ повернулась к стеллажам, занимавшим целую стену и уставленным баночками с чернилами и наборами игл.
Первую татуировку Линетт сделала, только-только переехав в Иссьюэр: тогда ее рука висела бесполезной плетью, но душевная боль от воспоминаний о войне была гораздо сильнее физической. Она двадцать один год служила в армии и видела, как умирают мужчины и женщины, погибают от ее руки: по ее прикидкам, человек тридцать в разных сражениях. Психологически смерть не была для нее чем-то новым. Она всегда могла дать смерти рационалистическое объяснение, понимала, что это часть ее работы… по крайней мере до начала кампании против императрицы и ее детей. Тогда Линетт обнаружила, что сражается с мужчинами — исключительно с мужчинами, — вооруженными шахтерскими инструментами, ржавыми мачете и мушкетами, такими старыми, что не могли ранить никого, кроме своих владельцев. В тех мужчинах при всем желании невозможно было увидеть угрозу. Демобилизовавшись по ранению, Линетт изо всех сил боролась с этим знанием, пыталась понять, что с ним делать.
На ее спине аккуратным элегантным почерком миссис Фрэ было выведено сто тринадцать имен. То были имена солдат: немногих друзей, но в первую очередь мужчин и женщин, с которыми она воевала в одном строю, командиров и товарищей по оружию, а уж потом друзей. Причем каждый из них погиб в войне против императрицы и ее детей. Каждый из них погиб совершенно бесполезно. Погиб бесцельно. Погиб исключительно из-за жадности собственной страны.
— Ты правда хочешь, чтобы я вытатуировала это отдельно от остальных? — осведомилась миссис Фрэ. — И что, действительно на пояснице?
Линетт молча кивнула.
Ей не потребовалось говорить его имя, за что она была благодарна. Линетт залезла на кресло, задрала рубашку, сложила руки под подбородком и стала ждать. Распухшая плоть больной руки была неприятно горячей, и Линетт чувствовала, как напряглись ее мускулы в ожидании того мига, когда в кожу войдет игла.
— Итак…
Голос. Его голос.
— Итак, — повторил он с нажимом, для того чтобы его такой знакомый голос растворился в ней, — это мои похороны.
Я умираю.
Очень скоро меня отвезут в камеру с двумя огромными трубками, свисающими с потолка, и опустят в зеленую жидкость. Там я смогу возродиться, чтобы вернуться. Я вернусь без этих слабых легких, с которыми родился; без этих дырок в моем сердце; без всех этих болей, из-за которых я могу путешествовать по нашему миру только с кислородным баллоном. Когда я проснусь, то впервые на моей памяти у меня ничего не будет болеть.
Ты предпочла бы, чтобы я умер. Ты сказала мне об этом всего неделю назад, когда я лежал в нашей постели, измученный удушливой жарой, не в силах восстановить дыхание, а ты нежно гладила меня по голове. Ты предпочла бы, чтобы я умер, а не вернулся человеком из бронзы, серебра и кожи. Ты предпочла бы оплакивать меня, а не праздновать мое возвращение.
Ты защищаешь право императрицы и ее детей веровать и жить, как им хочется, но меня неприятно удивляет, что их верования столь отличны от моих. Они верят в то, что возвращаются в новом теле, возрождаются в теле сестры, брата, дочери или сына. Возможно, даже собственных родителей. Мужчины и женщины, которые верят в Бога и с которыми мы живем вместе в наших городах, верят в то, что тоже возродятся — получат новую жизнь в раю (или в аду), — после того как свершится суд Божий. Так почему бы и мне не вернуться?
Знаю, ты рассердишься, когда прочтешь эти строки. Сочтешь это предательством. Я не хочу, чтобы ты так считала, но ничего не могу сделать.
Если я…
Линетт, я найду тебя. Я обязательно поговорю с тобой… Но сейчас передо мной стоит хирург, и она настоятельно требует, чтобы я заканчивал, так что мне ничего не остается. Но я найду тебя потом… Обязательно найду.
На секунду ей показалось, что он выглядит совсем как тот мужчина, которого она помнила: бледный, светловолосый, с узкогубой улыбкой, обнажающей неровные желтые зубы. Впрочем, за исключением того, что они не были неровными, и это все ставило на свои места. Зубы были прямыми и белыми, и она знала, что он умер.
В комнате повисла тишина, поскольку еще не пришло время для слов и действий. Линетт (впрочем, как она догадывалась, и миссис Фрэ) слышала слабое бормотание механизмов, исходившее от стоявшего перед ней мужчины и очень напоминавшее жужжание насекомых по вечерам. Если принять все как должное, то звук станет обычным фоном, привычным и нормальным жужжанием; если, конечно, принять все как должное, — вот в том-то и дело. Для Линетт же звук этот всего-навсего служил напоминанием об одном: под бледной кожей у него больше не было костей, больше не было крови, больше не было всего того, что было у нее. Нет, у него были бронзовые и латунные кости, соединенные медной или серебряной проволокой, а еще работающий мотор в груди. Его кожа, так же как и его бледно-красные брюки и черная рубашка, была всего-навсего одеждой — данью моде, позволяющей ему выглядеть частью этого мира.
— Нечего сказать? — наконец проронил мужчина, который так и остался стоять в дверях, в лучах оранжевого света, словно омытый волнами искусственного тепла. — Я проделал весь этот путь…
— Ты должен уйти. — Голос Линетт звучал твердо. — Ты мне здесь не нужен.
— Линетт…
— Нет.
— Я…
— Миссис Фрэ, пожалуйста! — повернулась Линетт к похоронщице, которая спокойно следила за этим обменом мнениями. — Сделайте хоть что-нибудь!
— Нечего на нее смотреть, — произнес он с оттенком презрения в голосе. — Как, по-твоему, я сюда попал? Она оставила дверь открытой. Она одобрила мой план встретиться с тобой здесь.
Миссис Фрэ улыбнулась легкой извиняющейся улыбкой, и Линетт еще острее почувствовала, что ее предали. По правде говоря, она не исповедовала ту же веру, что и похоронщики, и ее татуировки объяснялись печалью, а не верой в Бога. Слова пожилой женщины несли утешение, которое Линетт за всю свою жизнь не смогла нигде получить, и она действительно начала доверять похоронщице больше, чем кому бы то ни было. По мере того как процесс нанесения татуировок на спину подходил к концу, Линетт все сильнее привязывалась к миссис Фрэ, и молодая женщина даже предположить не могла, что столь неожиданный, столь быстрый и столь резкий разрыв ранит ее так больно.
— Я полагала, что тебе будет только полезно увидеться с ним, — объяснила миссис Фрэ. — У тебя иррациональный…
Линетт соскочила с кресла и направилась в сторону двери. Проходя мимо мужчины, она напряглась всем телом, но стойко выдержала его взгляд. Она знала, знала, что, если он коснется ее, она его ударит.
— Линетт, ну пожалуйста, послушай. — Когда он открывал рот, тихое жужжание, исходящее от его тела, усиливалось. — Пожалуйста. Остановись. Выслушай нас.
Он протянул к ней руку, но она отбросила ее резким движением.
— Не прикасайся ко мне! — прошипела Линетт, чувствуя, что у нее вот-вот начнется истерика, поскольку скорбь и злость слились воедино, но все же сделала над собой усилие и взяла себя в руки. — Никогда больше не прикасайся ко мне. Никогда! Ты все понял? Никогда. Даже близко не смей ко мне подходить. Я хорошо знаю таких, как ты. Ты можешь решить, что являешься кем-то, кого я знаю. Но это не так. Ты — не он. Он умер. Ты всего лишь копия. Ты не более чем инструмент — предмет. Нечто, что можно использовать. Нечто, что можно внедрить, чтобы убивать мужчин. Нечто, что может притвориться мертвым, чтобы прокрасться к ним как наемный убийца и безжалостно убить их. Нечто, что может выключить любое чувство, поскольку оно — всего лишь проводок. Нечто, что заставляет меня выключить собственные чувства. Нечто, что заставляет меня убивать одного, десятерых… Нечто, что позволяет мне убивать столько людей, сколько я захочу, так как…
— Линетт!
— Так как ты делаешь смерть бессмысленной.
В ответ тишина. Его рот открылся, тихое рокотание механизма превратилось в искусственный крик, но она отпихнула его плечом, чтобы пройти, и он упал, не выдержав нового веса своего тела, но так и не подал голоса. В ее раненой руке пульсировала острая, обновленная боль. Хорошо, подумала Линетт. Хорошо. Она хотела ощутить эту боль. Боль поможет остановить слезы, поможет скрыть обиду от предательства. И если, пока она будет идти по улицам Иссьюэра в сторону дома, слезы все же покатятся по щекам, то она будет знать, что их причина — исключительно боль в руке.
И несмотря на всю разницу между нами, несмотря на все трудности, с которыми нам пришлось столкнуться после твоего возвращения, Линетт, я хочу, чтобы ты знала, что я все еще предан нам. Делу сохранения нас.
Энтони
К тому времени как Линетт подошла к дому, слезы уже высохли, но тело ее было покрыто тонкой пеленой пота, словно теперь, когда глаза были сухи, оно начало беззвучно рыдать.
Линетт чувствовала за спиной сдвоенные силуэты печей, зная, что они воплощают конечность всего. Это было слабым утешением, но когда она остановилась у своего дома и оглянулась на Иссьюэр с его пустынными улицами, очерченными призрачными электрическими проводами и бронзовыми ветряками, то попыталась получить столько утешения, сколько могла. И хотя город предал ее — нет-нет, не сам Иссьюэр, но часть этого города, часть предлагаемых им услуг, часть его жизни, — печи стояли, как всегда, неподвижно и словно ждали того часа, когда все это будет от нее далеко-далеко. Того периода, который даст ей ощущение безопасности. Она взяла от печей все, что могла. Когда она наконец вошла в дом и увидела его письмо, так и оставшееся лежать возле чайника, вся накопившаяся злость и обида куда-то исчезли.
Она могла выкинуть письмо, и, наверное, так и надо было сделать. Могла порвать его, могла разрезать на мелкие кусочки, утопить его, сжечь его…
И все же, изменив себе, она этого не сделала.
КААРОН УОРРЕН
Вниз за серебряными душами
Пер. О. Александрова
Терпеть жалостливые взгляды — приятного мало, но больше всего нас доставали советы. Ешь это, возьми то, иди туда, купи эти. И конечно, всевозможные «не»: не принимай горячую ванну, не пей чай или кофе, не глотай антидепрессанты. И все от самодовольных женщин с младенцами на коленях.
— Почему они не могут заткнуться? — спросила я как-то утром после особенно неудачного похода за покупками.
— Не позволяй им расстраивать себя, — отозвался мой муж Кен, показав мне результаты изысканий по Интернету: чтобы увеличить свои шансы, надо целый месяц питаться исключительно яйцами.
— Я люблю яйца, — согласилась я, и мы восемь недель ели только омлеты, болтуньи, вареные яйца и яичницу, но я так и не смогла забеременеть.
Я изо всех сил старалась думать позитивно. Я продолжала надеяться. Я даже сказала Кену:
— Карты Таро говорят, что двенадцатое июня может стать удачным днем, если я оденусь только в красное и не буду волноваться по пустякам.
В ответ — молчание.
— Мог бы по крайней мере сделать вид, что сочувствуешь.
— Нет, просто… Не хотел тебе говорить, но один парень с работы рассказал о женщине-медиуме, которая, возможно, сумеет нам помочь. Они с женой обратились к ней, когда утонула их дочь, и это, несомненно, помогло им сохранить здравый рассудок.
— Но у нас нет никаких умерших детей, — отрезала я.
— Знаю, — терпеливо ответил Кен. — Отлично знаю. Но она может помочь.
И она действительно помогла.
Мария Марони изменила нашу жизнь.
Кен спросил меня, не хочу ли я, чтобы он подождал в машине.
— Нет! — воскликнула я. — Тебя это тоже касается. Это касается нас обоих.
Тогда он взял меня за руку, и мы подошли к входной двери дома Марии Марони.
— Постучи ты, — попросила я.
Дверь нам открыл высокий молодой человек. Он улыбнулся нам открытой улыбкой, показав ровные белые зубы.
— Я Хьюго, — сказал он. — Мама попросила меня вас встретить.
Положив теплую руку мне на талию, он провел нас через холл с мозаичным полом.
— Как красиво! — восхитилась я.
Он не ответил, и я подумала: может, он художник, демонстрирующий ложную скромность.
Я почему-то считала, что Мария будет выглядеть этакой доброй матроной, которая угостит нас чаем и попытается разговорить. Но она оказалась стильной высокой блондинкой. Волосы у нее были уложены в пышную прическу с мягкими локонами по бокам. У нее были достаточно резкие, но красивые черты лица, которые еще больше подчеркивал умело наложенный макияж. Одета она была в прозрачную блузку поверх черной трикотажной майки и в облегающие черные брюки, на ногах туфли на высоком каблуке.
— А вот и вы! — сказала она и взяла меня под руку, смутно напомнив мне женщин, приглашающих зайти в магазин одежды: только сегодня все размеры, пятьдесят процентов скидки.
Она дала нам по бокалу бренди, взяв один себе, и провела в маленькую комнату с белыми стенами, в которой вообще не было мебели. Хозяйка опустилась на колени, жестом предложив нам последовать ее примеру.
— Ты в порядке? — шепнул мне на ухо Кен.
Он не слишком любил всякую там эзотерику. А наоборот, любил кресла, и столы, и докторов с их вечными анализами.
Я посмотрела на него и, кивнув в ответ, в свою очередь спросила:
— А ты?
Он тоже кивнул, хотя я заметила, что вид у него обеспокоенный. Он, конечно, никогда этого не говорил, но был твердо уверен, что я слишком ранима и легко могу попасть в лапы стервятников, готовых воспользоваться моей доверчивостью. На самом деле я не особо нуждаюсь в его защите, но, когда он рядом, все же как-то спокойнее.
Мария постучала по стене, и я решила, что она начинает сеанс и вызывает одного из своих духов. Я закрыла глаза и стала ждать.
Но она, оказывается, просто-напросто звала сына.
— Напитки, Хьюго!
— Что будете пить? — спросил он у меня.
— Благодарю, только стакан воды.
Хьюго сморщил нос так, словно я попросила стакан свиной крови. Может, он из тех, кто презирает любого отказывающегося от выпивки?
Когда Хьюго вышел, Кен заметил:
— А вы здорово его вышколили.
— Это сейчас. Еще немного — и он будет боссом.
Я не совсем поняла, что она имела в виду. Возможно, что-то личное в отношениях матери и сына. Возможно, и мне когда-нибудь доведется это испытать.
Мария Марони изучающее смотрела на меня минут пять, не меньше, а потом заявила:
— У вас над головой и плечами вращаются три сверкающих серебряных шара.
Я удивленно повертела головой, затем подняла глаза, но Мария только расхохоталась.
— У меня особый дар. Видеть их. Это сосуды, — произнесла она. — Духи уже их покинули, но сосуды навсегда останутся с вами.
— И где сейчас эти духи? — шепотом спросила я.
Мария закрыла глаза и, помолчав, ответила:
— Не знаю. Возможно, они так и не обрели свой дом.
— Но я ведь еще ни разу не была беременной. Так далеко дело никогда не заходило.
— Нет, заходило, — возразила Мария, а потом, подбородком указав мне куда-то наверх, добавила: — Три раза.
Кен даже поперхнулся от неожиданности, но постарался сдержаться. Он прекрасно знал, что будет дальше. Я ужасно убивалась по тем потерянным младенцам, рыдала до дурноты, так что срочно приходилось бежать в туалетную комнату. Мария протянула мне стакан чего-то зеленого и сладкого, и когда я все это проглотила, то почувствовала себя… нет, не лучше, но спокойнее. Она сжала мне руку и заглянула в глаза.
— Обычно в таких случаях я говорю о вечной жизни и неотвратимости судьбы. Но для вас я выбрала другой подход. Я знаю небольшую группу потенциальных родителей, типа вас, — сказала она. — Чудесные люди. Каждый из них. Вам было бы полезно с ними познакомиться.
Тут в комнату вошел Хьюго. Он нес поднос со стаканом воды, о которой я уже успела забыть.
— Я не слишком долго? — поинтересовался он.
Мы и раньше посещали групповые занятия, но нам никак не удавалось найти правильную группу. Одни уже сдались, оставив всякую надежду стать родителями, приняли как данность свою бездетность и считали нас одержимыми. Другим же, наоборот, нравилось находиться среди семей с детьми. Они могли спокойно выносить вид счастливых семей. Но эта группа была совсем другой. Мы давали друг другу силы сделать то, что должны были сделать.
Как чудесно оказаться в кругу понимающих людей! Мы все прошли через те же страдания. У Джули, жены Уэйна, было четыре выкидыша и три мертворожденных плода, и я не могла без слез слушать о ее страданиях. А еще Нора и Джон, которые неоднократно предпринимали попытки экстракорпорального оплодотворения; Фэй и Фрэнк, которых в их шестьдесят пять многие считали слишком старыми, но только не наша группа; Сьюзен и Брент, которые не любили распространяться о своем горьком опыте. Сьюзен часто плакала.
Да, хорошо, что мы могли поговорить, сравнить методы и возможности. Но в то же время как печально, что мы все потерпели фиаско. Это обсуждать в группе было гораздо сложнее.
Мы с Кеном уже три месяца посещали еженедельные собрания группы, и вот наступила наша очередь принимать всех у себя дома. Каждые две недели я обращалась к Марии Марони как к специалисту, чтобы обсудить, что ждет меня впереди. Она расспрашивала о группе и только качала головой, слушая рассказы о бесплодных матках и потерянных душах. Я пригласила ее посетить наше очередное собрание у меня дома, поскольку именно она свела нас всех вместе. Мне хотелось отблагодарить ее хорошей едой и бренди. Поначалу она ни в какую не соглашалась и даже бросила очень странную фразу:
— Я не уверена, что вы уже готовы.
— Готовы для чего? — удивилась я, но она только головой покачала.
— Всему свое время. Я дам вам знать, — сказала она.
Мария позвонила мне во вторник утром:
— Я говорила с Хьюго, и мы решили, что вы уже готовы. Мы решили, пора попробовать кое-что новенькое.
— А что именно? — спросила я, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди.
После яиц ничего новенького уже не оставалось. И у меня возникло предчувствие, что на сей раз речь не идет о чем-то диетическом.
— Сегодня вечером я все скажу, — ответила она.
Они приехали в девять, когда закуски в основном были съедены и мы уже приканчивали остатки бренди. Мария выглядела излишне возбужденной и взволнованной.
— Присаживайтесь, — пригласила я. — Выпейте чего-нибудь.
Мария взяла рюмку бренди, осушила ее до дна и только тогда посмотрела на нас.
— Как поживаете? — поинтересовалась она.
— Мария! — воскликнула Нора. — Ну пожалуйста! Джен сказала нам, у вас есть что-то новенькое для нас. Пожалуйста!
— Я привела своего сына. Вы с ним уже знакомы.
Сегодня Хьюго выглядел немного по-другому. От него исходил какой-то магнетизм, он светился странной красотой, которой я раньше не замечала. В нем ничего не осталось от прежнего угрюмого, обидчивого парня.
— Интересно, что он собирается нам впарить? — пробормотал Кен, и, если бы у меня была при себе вязальная спица, я непременно воткнула бы ее ему в бок.
Хьюго, взяв себе пива, наконец сел, и мы немножко поболтали. Но тут Джули раздраженно стукнула чашкой об стол.
— Мне плевать, сколько ты сюда добирался на такси! — воскликнула она. — Меня волнует только одно: зачем ты сюда заявился.
— Я здесь, потому что мама попросила меня пойти с ней и рассказать о том месте, где меня зачали. Место называется Каэнесс. Вы о нем не могли слышать, поскольку это величайшая тайна. Мама узнала о Каэнессе от одного старика, который открыл ей тайну за большие деньги.
Один из мужей тяжело вздохнул. Но кто из них, точно сказать не могу.
— Речь сейчас не о деньгах, — продолжил Хьюго. — Речь о Каэнессе и о том, что он может вам дать.
— Что это такое? — изумилась Нора. — Что ты имеешь в виду под названием Каэнесс. Что это?
Слово «зачатие» обеспечило всеобщее внимание.
— Мама совсем недавно рассказала мне, что у нее были проблемы с зачатием. Такими вещами обычно не делятся с детьми, — солнечно улыбнулся матери Хьюго.
— Да. Я долго держала все в секрете. Но потом ты захотел узнать правду. Ты должен был знать. Поскольку твое происхождение имеет большое значение.
— Так и есть. Знание того, откуда я родом, изменило выбор моего жизненного пути.
— Бессмыслица какая-то, — вмешалась я в разговор. — О чем вы тут толкуете? Что такое Каэнесс?
— Каэнесс расположен прямо под нашим озером. Под нашим городом. Это древний город, разрушенный наводнением. А потом над ним построили новый город, а о нем напрочь забыли. Он там, внизу, — ткнул пальцем в пол Хьюго, чтобы нам было понятнее.
— Теперь что-то такое припоминаю, — сказал Джон. — Они еще пытались проложить туннель под озером, но не слишком далеко продвинулись. Так ведь? А потом туннель был затоплен…
— Так оно и есть. Это Каэнесс.
— Но он же затоплен. Полностью. Слышал, что они добрались до него с помощью батискафа, но ничего не нашли.
— Там покоятся сокровища. Для тех, кто ищет.
— Но нас вовсе не интересуют сокровища, — спокойно произнес Фрэнк. — Тебя ввели в заблуждение. Никого из присутствующих здесь сокровища абсолютно не волнуют.
— Хьюго, ты плохо объясняешь, — не выдержала Мария.
Но он одним взглядом заткнул ей рот.
— Там есть огромная комната, глубоко-глубоко. Туда и проникли охотники за сокровищами. Но они вернулись с пустыми руками, смертельно напуганные. Все тела давным-давно исчезли, многие тысячи тел, как они думают, утонули и сгнили. Однако остались призраки. Они оставили там свои души. Никто не знает зачем. Хотите услышать, что я обо всем этом думаю? — спросил Хьюго.
— Пожалуйста! — простонала Нора. — Ну пожалуйста!
Голос у нее всегда звучал истерически, словно каждая минута, потраченная впустую, уменьшала ее шансы.
Хьюго отхлебнул пива и скривился.
— Наверное, теплое, — заметил Кен. — Сейчас принесу другое.
Но тут Хьюго, взмахнув бутылкой, произнес:
— Думаю, это души нерожденных младенцев. Тех, что были во чреве матери, когда город ушел под воду. Думаю, им отчаянно хочется прожить жизнь.
— А нам отчаянно хочется их получить, — отозвалась Нора.
И мы — я и остальные женщины — стали взволнованно обсуждать открывшиеся перед нами возможности. Мужчины же, один за другим, потихоньку выскользнули из комнаты, и я поймала их на кухне. Они о чем-то шептались. У Кена был виноватый вид.
— Привет, дорогая! — воскликнул он, поцеловав меня в лоб.
— О чем это, парни, вы тут секретничаете?
Но они только обменялись молчаливыми взглядами.
— Мы обсуждаем то, что он сказал, — наконец выдавил из себя Кен.
— Ты имеешь в виду Хьюго? У него есть имя.
И я вернулась к своим подругам.
Мне был не по нутру негативизм наших мужей. Я даже задрожала, когда Хьюго снова заговорил. Я посмотрела на Марию, но она кивала и улыбалась сыну.
— Я был в этом городе, — начал Хьюго. — И прошел через первый туннель. Я не верил в призраков. Все, что я смог там разглядеть, — это металл, ящики, остатки мебели. Потом мы оказались в помещении побольше. Но и там я не заметил ничего, кроме следов распада, пока мой проводник не сказал мне: «Постарайся изменить фокус, словно ты смотришь фильм в формате 3D». И я долго-долго смотрел на драное кресло, смотрел до тех пор, пока комната не стала расплываться. Тогда я перевел взгляд и увидел их. Их были сотни, они толпились вокруг, точно в трюме старого транспортного судна: сидели на корточках на полу, двигались, перемещались с места на место. Они стали щипать меня и моего провожатого, дергать нас за руки. И тогда проводник произнес: «Им не нравится, что мы здесь. Думаю, они хотят женщин».
Фэй даже поперхнулась:
— Что это? О чем ты тут говоришь?
Да, мы не самые хорошие слушатели.
— Я возвращался туда много раз. Мои друзья не понимали, зачем я иду. Они все твердили: «Разве ты не боишься призраков?»
— И что ты им всегда отвечал? — спросила Мария.
— Я всегда отвечал: «Я иду за призраками».
— Но что это был за город? Им это известно? — поинтересовался Джон.
К этому времени мужчины уже успели вернуться и присоединиться к нам. Кен протянул Хьюго новую бутылку пива.
— Очень хорошее место, — ответил Хьюго. — Царство знаний и благотворительности. Абсолютного равенства. Больше я ничего не могу вам сказать. Я брал туда с собой друзей, показывал им Каэнесс.
— И совершенно случайно была установлена связь, — вступила в разговор Мария. — Женщина, которая за десять лет испробовала все, наконец забеременела. Это было какое-то чудо. Оказалось, что духи готовы ко второму рождению. То есть если женщина придет туда с желанием наполнить свое чрево, ее уже будет ждать серебряная душа.
Мы все дружно посмотрели на Хьюго.
— Ты? — спросила Джули.
В ответ Хьюго только молча кивнул. Он пил пиво. Никто из нас не решался заговорить.
— Нет явных свидетельств того, кем на самом деле являются серебряные души, и мы не можем вам гарантировать, что души ваших детей находятся там. Но мы точно знаем, что души настроены доброжелательно, кем бы они ни были в прошлой жизни, а еще — что большинство клиентов сообщают о минуте абсолютного знания, — произнес Хьюго и, кивнув, добавил: — Узнавания.
Взятки просто чудовищные, говорил он нам. Вот на что в основном пойдут наши деньги. Но нам было наплевать. Всем нам было наплевать на деньги. Мы хотели получить эти серебряные души.
Мы хотели кого-то вроде Хьюго.
— Мы не прочь попытаться, — сказал Кен, сжав мне колено.
Я была благодарна ему за веру, за то, что он не отвергал представившуюся возможность. Ждать ребенка двадцать пять лет — уж больно долгий срок. Нам скоро стукнет пятьдесят пять, и мы будем слишком старыми, слишком старыми, чтобы начать новую жизнь.
— Мне хотелось бы внести ясность в вопрос о том, чем вам придется пожертвовать, не говоря уже о финансовых затратах, — произнесла Мария. — Когда каждая из вас станет матерью, она уже не будет такой, как раньше. Ваши мужья это заметят и, возможно, предпочтут не обращать внимания. Но вы больше не будете испытывать к ним прежних чувств.
Мы дружно кивали, почти не слушая.
— Говорю вам, только те, кто настроен действительно серьезно, могут это сделать, — подал голос Хьюго. — Только самые самоотверженные. Готовые жертвовать.
И я почувствовала прилив гордости, что являюсь именно таким человеком.
Накануне вечером мы собрались в дорогом ресторане прямо в центре города. С видом на озеро. Мне там не особенно понравилось: я себя чувствовала как-то неуютно, ощущала себя старой и безобразной, какой-то неуместной. А вот Джули любила это заведение; они с мужем жили в городе. Оно того стоит, говорила она.
Сьюзен с Брентом с нами не было. Идея им не понравилась. У нас состоялся не самый приятный разговор, когда они сообщили, что не пойдут. Брент сказал:
— Я поспрашивал насчет Каэнесса. Местная легенда гласит, что родители заманили в ловушку детей, а потом затопили город. Так говорят люди. Это не было стихийным бедствием.
— Брент! — возмутилась Нора. — Нечего нам все портить дурацкими слухами.
— Нора, говорят, что это души утонувших детей, а вовсе не нерожденных младенцев. — Брент внимательно посмотрел на нас, словно хотел, чтобы мы наконец поняли. — Вам не мешает задуматься над тем, почему дети были убиты собственными родителями. Что заставило каждого родителя так поступить?
Фрэнк, муж Фэй, заболел. У некоторых мужчин совсем нет стержня! Уэйна тоже не было, но Джули, похоже, это мало волновало. Мы знали, что у них «свободный» брак. Я следила за тем, как она флиртует с молодым красивым официантом, и у меня внутри все сжималось.
— Мы умираем с голоду! — сказала она официанту.
Мы дружно прыснули от смеха, склонившись над тарелками с деликатесами. И от чувства такого единения мне хотелось плакать. Вот так все и должно быть. Именно здесь мое место.
— Мужчинам придется подождать вас у входа. Я вам об этом уже говорил, — напомнил Хьюго.
— А разве они с нами не идут? — удивилась я.
— Нет-нет, — покачал головой Хьюго. — Это место только для женщин. Серебряные души любят женщин. Я не могу ручаться за результат, если мужчины тоже спустятся вниз.
— Не знаю, справлюсь ли я без Фрэнка! — воскликнула Фэй.
— А я без Уэйна, — поддержала ее Джули, хотя я-то точно знала, что справится.
— И я, — вырвалось у меня.
— Вопрос не подлежит обсуждению. Насколько мне известно, это не работает в присутствии мужчин. Вам решать. Это ведь вы рискуете. — Хьюго упрямо смотрел в землю. — Вам придется оставить мужчин у входа.
На какую-то секунду я заколебалась и уже почти сдалась. Но потом Кен произнес:
— Нечего здесь обсуждать. Это то, что мы решили сделать. Это то, что мы обязательно сделаем.
— А кого вы хотите? Мальчика или девочку? — поинтересовалась Нора.
Мы с мужем нежно улыбнулись друг другу.
— Мне все равно. Если… — начала я, и вся группа, не дав мне договорить, хором закончила фразу за меня:
— Лишь бы был здоровеньким.
Тут мы опять расхохотались. Иногда ты смеешься просто от радости единения в те редкие моменты, когда целая группа людей думает одинаково.
Мы засиделись допоздна, вели неторопливые беседы и наслаждались вечером. Мы старались не говорить о завтрашнем дне, и я была рада. Мне как-то не хотелось думать о том, что лежит там, внизу. О том, что мы увидим. Я хотела, чтобы все поскорее закончилось и я получила своего младенца. Я уже почти чувствовала, как пахнет головка моего малыша.
На следующее утро я проснулась и увидела перед собой покрытую пушком голую спину мужа. Я тихонько погладила его: лопатки, шею, спину. На минуту он даже, показалось, перестал дышать, но потом снова засопел, — я знала, что он притворяется, боясь меня вспугнуть. Меня вдруг словно громом поразило: какой он все же замечательный и как много для меня сделал! Я нежно поцеловала его в спину, и он снова затаил дыхание. Я дотронулась до его плеча, чтобы он повернулся ко мне, и мы молча и очень нежно занялись любовью.
Хьюго появился у нашей двери ни свет ни заря. Хотел убедиться, что с нами все в порядке.
— Дженни, из вас так и бьют жизненные силы, — сказал он.
Я покраснела. Кен расхохотался. Уже очень давно секс между нами происходил строго по расписанию. Спонтанность считалась непозволительной роскошью. Ведь Бог замыслил сексуальные отношения вовсе не для удовольствия, а для того, чтобы плодиться и размножаться. В кругу друзей муж даже грустно шутил по этому поводу: «Мы делаем все, что можем», а затем подмигивал им. Но никто никогда не смеялся.
Уже потом, сойдясь поближе, мы поняли, что все мужья, за исключением Фрэнка, отпускали такие шуточки. И ни один не пожаловался на то, какая это тяжелая работа, какая рутина. Фрэнк считал даже малейшие намеки неуместными и оскорбительными.
Мы целый день ходили по городу, выбирали подарки для новорожденных, накупили столько, что рук не хватало. Хьюго с нами не было.
В тот вечер Джон сидел в баре и ждал, пока мы приведем себя в порядок в гостиничном номере, забронированном для нас Хьюго. Мы застегивали пуговицы и молнии, хихикая при этом совсем как невесты. Странно, конечно, что такие здравомыслящие и серьезные женщины вели себя точно девчонки, но мы ведь были так взволнованы! По такому случаю мы купили себе красивые платья. Это был самый важный день в нашей жизни, и мы должны были выглядеть на все сто. Кен явно ревновал и, не выдержав, потопал в бар, чтобы присоединиться к Джону.
— Для меня ты никогда так не одевалась, — заметил он.
— Сейчас речь вовсе не о тебе, — ответила я.
— Как и всегда, — пробормотал он.
Мы дружно захихикали ему вслед. Мужчин невозможно воспринимать серьезно. Наконец к нам присоединилась Джули; она и дня не могла прожить без обычной пробежки. Когда Хьюго постучал в дверь, мы как раз открывали бутылку шампанского. Мы завизжали, словно школьницы, и Джули впустила его в комнату.
— Нам пора, — бросил Хьюго. — Дорога вниз не близкая, а еще надо вернуться назад.
Я и в лучшие времена ненавидела гулять по ночам. А сейчас?! В этом городе?! Мне просто необходимо полицейское сопровождение!
Остальные, желая отвлечь меня, стали вспоминать различные истории, что было весьма мило с их стороны. Джон рассказал о своем брате, который однажды выкупал малышей в их с Норой доме.
— Можете себе представить, — говорил Джон, — ванная комната еще очень долго пахла детьми.
— Как это жестоко! — ответили мы.
Большинство из нас не любили общаться с родственниками, у которых были дети. Такие самоуверенные, такие самодовольные!
По дороге мы говорили о наших ожиданиях. Все были изрядно напуганы. Нас вели в мир призраков, и, хотя Хьюго утверждал, что они вполне дружелюбны, от страха у нас просто поджилки тряслись. Мы шли очень быстро, стараясь не отставать от Хьюго. В отличие от нас, он не смотрел под ноги. Казалось, он плыл, напрочь отрешившись от всего земного. Он даже чем-то напомнил мне индийского гуру, который идет вперед, не обращая ни на кого внимания.
Наконец мы пришли на берег озера, и Хьюго остановился у опор старого моста. Наш проводник часто и тяжело дышал, словно испуганная собака.
— Что с тобой?
— Я не большой любитель воды. Все нормально. Я в порядке.
— А мне здесь нравится, — заявил Джон. — Памятник человеческой глупости. Как можно строить на затапливаемых землях? Полный бред! Города здесь неоднократно разрушались наводнениями. Как можно быть настолько самонадеянным, чтобы считать, что сможешь повернуть воды вспять!
— Этому городу больше двухсот лет. И дела у него идут весьма неплохо, — пожал плечами Хьюго. — Ты ведь живешь здесь, Джон. Ты сам выбрал эти затапливаемые земли.
— А что, если ребенок будет похож на него? — шепнул мне на ухо Кен.
Иногда он ведет себя просто отвратительно.
Мимо с громкими воплями прошла какая-то компания, и на землю, прямо к нашим ногам, приземлились пивные бутылки. Одна даже задела Фэй по руке, но та ничего не сказала, а просто потерла ушибленное место.
Хьюго повел нас вниз, под опоры моста. Жутко воняло отбросами и жидкой грязью. Вытащив из кармана перчатки, Хьюго натянул их на руки. Он разгреб кучу мусора, и под ней обнаружился люк, крышку которого он тут же поднял и отодвинул в сторону.
Наш проводник знаком предложил мне спускаться. И мы полезли вниз. Сразу стало как-то спокойнее. Пахло мокрым и горячим бетоном. И слегка мочой, словно, мешая бетон, туда добавили мочу. Там были ступеньки — крутые, с ржавыми перилами. Нора с писком отшатнулась, словно испугавшись, что если дотронется до перил, то те обвалятся.
— Держись за меня, — предложил ей Джон.
У меня уже все руки были в ржавчине, так что пришлось раз десять вытереть их о рубашку Кена.
Хьюго чуть из штанов не выпрыгивал, желая всем угодить.
Стены, казалось, надвигались на нас. Чтобы хоть немного отвлечься, мы начали петь «Долог путь до Типперери», но быстро иссякли, и тогда кто-то затянул государственный гимн, чем нас ужасно рассмешил.
— Далеко еще? — спросила Джули слабым голосом.
Мы все устали. Мне даже думать не хотелось о том, как мы будем карабкаться назад.
— Будь на то моя воля, ни за что не потащил бы тебя в такое место, — прошептал мне на ухо Кен, когда нам пришлось переступить через гору каких-то бурых отбросов.
— Ты и не тащил! — прошипела я в ответ. — Я сама пришла. Добровольно.
Он, как всегда, поднял руки вверх, показывая, что сдается, и в этот момент мне захотелось, чтобы он ушел. Он поддерживал меня, на самом деле не слишком веря в успех предприятия, и я поняла, что непременно от него уйду, если по его вине упущу шанс стать матерью.
— Это что, и есть вход? Заваленный камнем? — спросил Кен.
Практическая сторона дела отвлекла мужчин, и общими усилиями они откатили камень в сторону. Мы не разговаривали. Каждая из нас, женщин, твердо знала, что мы сделаем это. Ради наших детей мы прошли бы и по горячим углям.
Неожиданно мы услышали глухие стоны.
— Что это такое? — удивился Кен.
— Звуки здесь слышатся по-другому. Тут замкнутое пространство: стены, и только. Все будет хорошо, — ответил Хьюго.
— Я не могу, — простонала Фэй, которая на групповых занятиях всегда была самой напряженной, всегда хотела знать правду и в то же время безумно ее боялась.
— Все нормально. Это серебряные души зовут вас. Они не причинят вам вреда. Призраки, когда собираются вместе, вовсе не злые. Они, наоборот, становятся более спокойными и чувствуют себя как дома. На небесах, возможно, — заметил Хьюго и, внимательно посмотрев на нас, добавил: — Вы все здесь, так как побывали в аду и вернулись обратно. Вы ведь хотите детей?
Мы молча кивнули.
— Они ждут. Идите и найдите подходящую вам душу, — очень спокойно произнес он.
— Ты слышишь? Чувствуешь запах? — спросила я, сжав руку мужа.
— Нет. Мне очень жаль, — покачал он головой.
Я вошла первой. Я устала ждать. Я хотела этого младенца.
Я ожидала, что все вокруг будет сверкать серебром. Хьюго предупредил, что здесь будет прохладно, а потому мы оделись потеплее, и все же этот ледяной холод поразил меня.
Запах был совсем слабым, немного металлическим, немного земляным. Кто-то установил здесь освещение, и мы увидели булыжники и развалины исчезнувшего города. В стене оставались пазы от петель главных ворот.
— Поверить не могу, что археологи еще не открыли это место! — крикнул стоявший у входа муж Фэй.
— Посмотри на стену, — произнесла Нора, дотронувшись до отметин, оставленных наводнением. — Сразу видно, где стояла вода. — Нора наклонилась, зачерпнула пригоршню грязи и, просеяв ее, показала нам серебряную монету. — Ничего не вижу при таком освещении.
— Мы рассмотрим ее чуть попозже, — ответила я.
— А что нам делать? — спросила Фэй. — Просто стоять и ждать?
— Я считаю, что надо идти. Они, должно быть, где-то дальше, — отозвалась я.
И мы сплоченной группой пошли вперед, спотыкаясь о кирпичи и камни и все дальше продвигаясь вглубь города. Пол был сильно поврежден, но по остаткам прекрасной мозаики можно было судить о его былом великолепии.
Стены в комнате были очень высокими, возможно в пять раз выше моего роста. На одной из стен (опять же ужасно поврежденной) я увидела удивительное генеалогическое древо: каждый ребенок под своими родителями и у каждого такая же широкая улыбка, как и у Хьюго.
Тут слева от нас что-то зашевелилось.
— Что там такое? Там кто-то есть? — спросила Фэй.
Оно было серым и тусклым.
— Этого не может быть. Оно не серебряное! — воскликнула Нора.
А потом серое существо подняло голову, и мы увидели такое злобное лицо, что даже завизжали от страха.
— Скорее вперед! Скорее вперед! — надрывалась Нора.
— Нет, назад! Назад! — вопила Фэй.
— Я не уйду без своего ребенка. Я уже достаточно далеко зашла. Я остаюсь, — твердо заявила я и, сделав шаг навстречу судьбе, крикнула: — Мы уже здесь! Где вы?
И тут появились сотни серых, грязно-коричневых существ, которые стали надвигаться на нас, как стая волков. Лица у них были какими-то перекошенными, печальными.
— Это не они! — простонала Нора.
И с их приближением звуки становились все громче.
— Мне таких не надо! Они не похожи на младенцев! — воскликнула Фэй.
Некоторые из них были какими-то скрюченными, сутулыми. Я была не в силах посмотреть им в глаза.
Мы повернули обратно и попытались бежать, но они окружили нас.
— Может, они так и должны выглядеть, — предположила Джули. — Они ведь изменятся. Правда?
Их лица были уродливыми, деформированными. Они скалили прозрачные зубы и кружили прямо у нас над головой, вращаясь так быстро, что от этого зрелища нам даже стало нехорошо. Я почувствовала, будто меня что-то притягивает к одному из них. Истинная правда. Существо на мгновение остановилось и наклонило голову, словно оценивая меня. А потом оно стало тянуть ко мне руку.
— Нет, Джен, нет! — взвизгнула Фэй.
Но было уже поздно. Существо вытянуло обе руки и воткнуло свои длинные пальцы прямо мне в глаза. Я точно ослепла, но боли не было. Я почувствовала, как оно вползает мне в голову через глазницы, втаскивая себя целиком, скользит вниз по горлу, дальше, дальше — прямо в матку, где и свернулось клубочком в ожидании тела, которым должно было стать.
Фэй скорчилась на земле, стараясь защитить глаза.
— Фэй! — окликнула ее я. — Ты будешь жалеть, если не сделаешь этого. Ну давай же! Погляди, я в порядке.
Я с трудом оторвала ее руки от лица, и она подняла глаза. Пятеро призрачных существ окружили нас и с любопытством смотрели вниз. Отпихивая друг друга, они пытались до нее дотянуться, тыкали пальцами ей в глаза, щипали за лицо, так что она, не выдержав, завизжала. Одно из них все же сумело засунуть указательные пальцы ей в глазницы, и тогда остальные улетели прочь, дав возможность серебряной душе войти в нее, как только что вошла в меня моя. Оглянувшись, я увидела, что Джули уже заполучила серебряную душу, так же как и Нора.
Мы молча шли назад, туда, где нас ждали наши мужчины. Призрачные существа носились у нас над головами, время от времени пикируя на нас, и нам приходилось отмахиваться от них, словно от надоедливых птиц.
Увидев наших дорогих мужей, я даже расплакалась. Кен казался каким-то чужим и незнакомым. Он будто постарел на десять лет, пока я была в Каэнессе.
— Что там произошло? — спросили они. — С вами все в порядке?
Мы дружно потрогали свои животы, чувствуя, как извивается там еще не рожденное существо.
— С нами все в порядке, — ответила я.
Не было никакого смысла рассказывать об этом мужчинам. Абсолютно никакого. Что мы могли сделать? Нельзя убить того, кто уже давно умер, а мы так хотели детей!
— Теперь вы знаете, почему мама не хочет сюда возвращаться, — шепнул мне на ухо Хьюго.
В этом году Фэй снова принесла свой знаменитый картофельный салат.
— Я поджарила картофель, — сказала она, передавая мне тарелку. — Ну разве не постреленок?
Я посмотрела на ее трехлетнего сына, уже успевшего раздеться до растянутых трусиков с изображением Человека-паука и ковырявшего мою скамью ножом для резки хлеба. Он бегал, пританцовывая, вокруг меня, и его маленький пенис болтался туда-сюда, а белый дряблый живот противно трясся. Я улыбнулась и подумала: «Ты похож на червяка. Или на жирную белую змею, только что проглотившую ребенка».
Наконец он остановился, мотнув головой в мою сторону. А потом зашипел совсем как змея.
— Да уж, что есть, то есть, — ответила я.
Фрэнк, муж Фэй, сухо клюнул меня в щеку и улыбнулся. Он даже не сказал: «Привет». С каждым годом Фрэнк становился все более и более усталым. Он молча поставил на скамью три бутылки красного вина.
— Мы что, первыми пришли? — поинтересовалась Фэй.
Тут в кухню вошел Кен с нашей трехлетней дочерью на руках. Она безвольно висела на нем, точно у нее совсем не было мускулов.
— Как всегда, пунктуальны, — заметил Кен.
Фэй посмотрела сначала на нашу дочь, потом — на меня. Мы обменялись понимающими взглядами — взглядами матерей Каэнесса, — а потом кинулись готовить напитки и закуски. Кен наклонился, чтобы поставить дочку на ноги, но она, как всегда пронзительно завизжав, вскарабкалась на отца и устроилась у него на плечах. Она засунула ему в уши свои длинные указательные пальцы и прижалась лицом к его волосам.
— Кто еще будет? — поинтересовался Кен, согнувшись под тяжестью дочери.
Сейчас он уже очень спокойный и очень бледный. Он словно ее дополнение: опухоль под ее руками, с ногами и кусочком головного мозга. Ей нравится, когда ее носят. Ухаживают за ней.
Хьюго и Мария, приехавшие пораньше, чтобы помочь накрыть на стол, нежно поцеловали нашу дочку.
— Сегодня должны прийти еще четыре новые семьи. Год назад вернулись из Каэнесса, — сообщила Мария.
— Выходит, детям по три месяца? — предположила Фэй.
Мы обменялись с ней понимающими взглядами матерей Каэнесса, твердо зная, что не будем задавать женщинам лишних вопросов. Мы не спросим: «Как вам Каэнесс?» — и сделаем вид, будто не замечаем, что у всех без исключения детей глаза серебристо-серые; мы сразу узнаем эти серебристо-серые глаза, хотя наши мужья ничего не замечают, так как они не входили вместе с нами в Каэнесс.
Нора прибыла со всей семьей. Их сына прямо на пороге вырвало кроваво-красными леденцами, и мы поспешили поскорее все убрать. Руки у него были сплошь разрисованы изображениями матери в голом виде. Поймав мой взгляд, Нора быстро опустила рукава его рубашки.
— Он уже говорит, — сказала она. — У него словарный запас — целых пятнадцать слов.
— Это очень хорошо, — ответила я.
Я не стала спрашивать, понимает ли она то, что говорит ее сын, или его речь, как у моей дочери, не совсем похожа на настоящий английский.
Внезапно стал накрапывать дождик, и мы увидели, как наши дети задрожали, стали прятать глаза. Они все как один ненавидели воду. Мы не можем научить их плавать, не можем взять с собой на пляж. Фэй считает, что все из-за той жуткой истории, которую снова и снова рассказывает им Хьюго. Но мы не можем ему помешать. Он говорит, что это семейное предание. Он любит наших детей, каждого из них. Он собирает их вокруг себя, словно наставник учеников.
— Таких коварных родителей, как те, из Каэнесса, свет еще не видывал. — Хьюго растопыривал пальцы, заставляя детей смотреть ему прямо в глаза. — И они заманили своих дорогих детей в ловушку, обманом завлекли в комнату, а потом открыли шлюзы. Те дети утонули, в их легких была вода, а не воздух, и они захлебнулись. Можете себе представить?
О да, дети могли. Это точно. Остальные родители ненавидели эту историю, но Кен понимал ее значение.
— Она захочет узнать, откуда родом. Когда подрастет.
— Она наш ребенок. А все остальное не имеет значения.
— Нет, очень даже имеет. Все приемные дети хотят знать.
— Она… не… приемный… ребенок.
Я уже видеть не могла своего мужа.
Приехали новые семьи. Они принесли купленного в магазине жареного цыпленка и чипсы. Их младенцы кричали, шумели, извивались и плакали.
— Не волнуйтесь. Потом станет легче, — успокоила их Фэй.
Но мы видели, как ведут себя трехлетние дети, и знали, что это неправда. Сын Фэй ползал вокруг нас, выковыривая длинным ногтем слизь из уголков глаз младенцев.
Мы будем продолжать общаться. Иногда мы встречаем Сьюзен, и она кажется совершенно безумной. Она даже трясется от зависти при виде наших прелестных крошек. Наши дети одного возраста, и общий опыт связывает нас вместе. Два мальчика и две девочки. Каждый из них по-своему трудный ребенок: с холодными глазами и без детской невинности. Но это наши дети, и мы их любим. Они будут подрастать, а мы будем следить за ними, гадая про себя: «Что они сделают с нашим миром, когда станут взрослыми, и сможем ли мы найти слова, чтобы оправдаться за то, что дали им жизнь?»
ДАРИН БРЭДЛИ
Будут только дороги
Пер. Е. Нестерова
Престер перебирал в руках цепочку — он сдернул ее с бачка в одном из туалетов в центре города, в Айдайо, на старом комбикормовом заводе, превращенном в ночной клуб. Цепь впитала в илистой воде столько силы, честно выполняя свое предназначение, что ни разу не обманула ожиданий посетителей клуба. Престер представлял, как каждый смывочный синапс пускает свой нейронный заряд по цепи в воду и затем она мирно пузырится в покрытом известковым налетом фарфоре. Престеру никогда полностью не измерить ту колоссальную силу, которой наделили цепь завсегдатаи клуба в Айдайо, хотя даже себе он не мог объяснить, откуда взялось это сакральное знание. Тусклые царапины на тонких окислившихся звеньях цепи напоминали ему цветы, картину дополняли стебли ржавчины и бледные корни известкового налета.
Он глубоко вдохнул, очнувшись от забытья, и резко ощутил, как в квартире пахнет сыростью. Закашлявшись, он опустил цепь обратно в карман — она и так уже придала его мыслям упадническое настроение.
— Мне понадобится больше чар, — громко сказал он; в люминесцентном свете компьютерного монитора его пальцы отливали синим. — аЛан, — позвал он.
Экран планшета мигнул рядом с локтем, и, как только тот подал признаки жизни, цвета мгновенно изменились.
Престер взглянул на него:
— Извини, думал, что ты на связи.
Планшет, которому без динамиков было не ответить, терпеливо мигал, пока Престер подсоединял его к стационарному компьютеру.
— Готов? — через минуту спросил Престер.
— Я здесь, — ответил андрогинный голос аЛана.
— Мне нужно больше чар, — сказал ему Престер. — Намного больше.
аЛан на мгновение задумался, информационная строка заскользила по экрану.
— У тебя есть двести неактивных, — доложил он.
Престер посмотрел на диаграмму, прикрепленную к стене. За последние шесть месяцев газетная бумага пожелтела, а от штормовых ливней, умывших город в прошлые выходные, у нее загнулись края. Готовые чары усыпали страницу — разноцветные строки переплетались, складывались в Соломоновы знаки, связывались нитями хрупкого замысла: имена, адреса, серверы электронной почты, сулящие силу самого разного характера. Некоторые из них означали письма счастья, все еще дремлющие в базе данных, другие — аббревиатуры для различных пересылок во «Входящих» его почты. Там было небольшое количество еще не выпущенных слухов. Все они обладали собственными чарами, обещая исполнение желаний за дальнейшее распространение. У Престера было мало чар — мало для создания нового ритуала, способного породить необходимые желания. Нужно, чтобы ему хватило хотя бы на то, чтобы рассеять гнев левитов, если вдруг два-три желания непрошеных гостей проскользнут сквозь защитный ритуал в их святилище. Престера не волновало, что они так тщательно скрывают, — ему были нужны их деньги.
— Плохо дело, — подытожил он. — Я уже запустил большую часть в ритуал контрчарами. — Он почесал голову. — А мне нужно еще немного, чтобы уехать.
аЛан снова погрузился в расчеты. Фамильяры двигались медленно, но Престер давно привык полагаться на аЛана, к тому же, учитывая опасную обстановку в Сети, он не хотел рисковать, призывая новых. Слишком много было поставлено на кон, чтобы теперь раскрываться перед незнакомыми программами, которые могли откликнуться на призыв.
— Тейлор, — в конце концов доложил аЛан, — за последние пять дней выпустила восемьдесят чар.
Престер отъехал от компьютера, скрип роликов стула слился с его разочарованным вздохом. Если Тейлор может зараз выпустить такое количество, значит, активов у нее более чем достаточно и она ничего не уступит задешево.
Но зачем ей выпускать так много?
— Зачем тебе столько? — спросила Тейлор.
Ее голос по линии связи звучал неестественно сипло.
Престер поежился, вспомнив, как долго ему пришлось отделять образ, создаваемый ею по линии, от ее голоса в спальне.
Престер вставил наушник от аЛана поглубже в ухо:
— Это для работы — сегодня последний срок.
— Не можешь вырастить свои?
— Нет.
— Надеюсь, ты не связался с Новыми левитами?
Тейлор замолчала.
Престер ничего не ответил.
— Я ведь говорила, чтобы ты не брался за это дело.
— Угу.
— А ты взялся.
— Угу.
— Ну ты, Престер, и дурак!
По голосу он услышал, что она курит, — сам он не курил с тех самых пор, как в то Рождество они вместе бросили.
Он решил попридержать язык и не говорить ей, что не всякий чародей может по-прежнему тянуть деньги на обучение из папочки. С его отметками выбирать не приходилось. За последние два года он не пробыл ни в одной сущности достаточно долго для того, чтобы вложить в нее хоть какой-нибудь реальный капитал, так что лучшей работы, чем мыть туалеты у этих модников в Айдайо, для него не нашлось.
Престер взял себя в руки:
— Тейлор, пожалуйста. Давай говорить только о деле, и больше ни о чем.
— Прекрасно! — огрызнулась она. Он чувствовал, что она не собирается соглашаться с ним. — Будут у тебя чары, но мне придется вытягивать их из всего, что подвернется.
Он чувствовал, к чему она клонит.
— Сжатость сроков не оставляет тебе возможности выбора, Престер. — Чтобы получить то, что ты хочешь, придется пойти на воровство.
Черт! Он только-только привык к этой сущности.
— Эндрик, — понял он.
— Ага, — отрезала Тейлор, выдыхая дым. Казалось, от него по линии идет электростатический треск. — Кое-кому из его клиентов не терпится нагреть свой Южноафриканский банк.
Престер придержал язык. Он думал, что Южноафриканский давно забыт, — никто же больше не верит в банкиров, щедро раздающих деньги направо и налево. Так ему казалось.
— Хорошо, — сказал он. Панель задач аЛана ходила ходуном по экрану, как показалось Престеру, с неодобрительным видом. — Пересылай, а я отвечу.
— Деньги должны быть оформлены легально, — предупредила она.
— Конечно, но их не так уж и много.
Она сделала паузу.
— Ты этого хотел, вот и разбирайся сам со своей головной болью. Никаких отчетов. Ничего.
Престер пригладил волосы. Какие они жирные, подумал он. Когда он в последний раз мылся?
— Будь по-твоему, — пообещал он. — Ты только передай чары по линии аЛану.
— У тебя готово новое лицо? — спросила она.
Он кивнул:
— Несколько месяцев занимаюсь этим, скоро будет готово.
— Новый номер страховки, новая дата рождения, новая кредитная ис…
— Все предусмотрено, Тейлор. Даю твоим из Южноафриканского неделю на перевод — и прощай, старое лицо.
— Ты об этом пожалеешь, Престер.
— Знаю.
— Они расставлены, — доложил аЛан.
Престер зашевелился и пришел в себя. Отупев от усталости, он глотнул из кружки на столе, забыв о том, что спросонья лучше кофе не пить. Он поморщился, но проглотил. аЛан расставил чары Тейлор для нового ритуала и выдавал результаты через старые пластиковые губы принтера. Престеру представилось, как будто машина жует страницу: пара вощеных заскорузлых челюстей пробует расстановку на вкус, возможно надеясь на ее съедобность. Несомненно, принтер умирал с голоду, как и все остальное в квартире, включая самого хозяина.
Он сел, закряхтев вместе со стулом, и принялся перестраивать сюжет. Тейлор хорошо поработала — в распечатке аЛана значились новые для Престера пересылки, и каждая из них сулила новый маршрут для тех же чудес, тех же желаний, которые в первую очередь подпитывали жизнеспособность чар. Десять друзей, десять минут, три желания в час. Как ни глупо это когда-то казалось Престеру, немало людей были готовы попробовать — так, а вдруг? — и поделиться идеей с друзьями и родственниками. Немного иначе выходило, если чародеи полагались только на письма счастья, но принцип был тот же. Интернет только ускорял процесс. Линия же просто сводила с ума.
Престер вытащил листок бумаги из груды конвертов и прошений на столе. За несколько минут он нацарапал имена новых чар и прикнопил их к стене. Не вникая досконально в сюжет, он смог обозначить положение новых чар в ритуале. Разные желания обозначались по-разному: одни полосками, другие схемами, контрчары косичками. Как только аЛан запустит ритуал, Престер смоется. Он надеялся, что в Художественном совете не изменилась система водостоков.
— Хорошо, — сказал Престер, отойдя в сторону. — Открывай резервные чары.
— Кому? — механически спросил аЛан.
— Не важно, — ответил Престер. — Ничего запредельного, мне нужно только совпадение. Готово? — спросил он через минуту.
— Сделано, — доложил аЛан.
Престер закрыл глаза. Ему надо всего несколько галлонов — мелкое желание, не более того. Он попытался вытеснить Тейлор из своих мыслей, не думать о том, что есть у нее и нет у него, чтобы не испортить чары. Не очень у него это получалось; Престер чувствовал, что его раздражение отравляет маленький ритуал. Тейлор никогда не нужно было беспокоиться о том, сколько галлонов у нее в баке, — на памяти Престера, отец всегда оплачивал ей проезд на метро. Оплачивал счета на одежду. Покупал планшет получше, новую мебель. Престер неделями не держал проездного в руках, а сколько еще протянет «бель эйр» — непредсказуемо.
— Посылай, — приказал он.
На улице Престер улыбнулся. Планшет в кармане был теплым — разогрелся от воровских, на сей раз, вычислений аЛана. Престер и раньше видел припаркованный неподалеку от его машины грузовик, но тот всегда стоял ближе к пруду, а вовсе не рядом с его жалким тарантасом.
Он неловко открыл помятую откидную дверцу грузовика и провел пальцами по крышке топливного бака. Краска здесь не покрылась ржавчиной, и солнце не добралось до темной пластиковой пробки. Он отвинтил ее, опустил шланг и начал качать. Через несколько секунд из грузовика уже вытекало токсичное горючее. Престер взял всего несколько галлонов, не желая привлекать больше чар. Он послал всего десять, чтобы совпадение состоялось, и опасался, что удача быстро отвернется от него, если он возьмет то, за что не платил.
Затем он вставил шланг в свой бак и вдохнул жизнь в свою старую машину. Он рассчитывал пуститься в путь пораньше, когда при ярком солнце слабый свет левой фары не играл бы никакой роли. Теперь он надеялся, что ночь окутает машину, скрыв, как она это умеет, запущенный вид развалюхи. Он не хотел привлекать внимание.
За окнами машины мелькал фантасмагорическими кусками центр города; многочисленные вывески и уличные фонари бросали блики на ветровое стекло Престера. Все здания глядели в никуда, каждое прилагало все возможные усилия, чтобы его неоновое великолепие смотрелось как нельзя лучше, но в своем самоослеплении не могли разобрать, так ли это на самом деле. Фальшивые фронтонные доски неуклюже цеплялись за края крыш, в щербатой рождественской иллюминации их мелкие детали походили на рассевшихся рядками пылающих птиц. Глянцевые люди внизу сновали из клуба в клуб, обкуривая друг друга, путаясь в уличном движении, торопясь в никуда, гонимые чужой волей. Они думали, что их манят удовольствия субботнего вечера, но Престер знал, что за толпами людей стоят чародеи, — банкротство торгового центра на углу, процветание «Лейдизнайт» на одной улице и провал на другой происходили не просто так. Один решался на гоп-стоп, другому был нужен клуб, где было бы легко обчищать карманы. Чародеи создавали стечение обстоятельств, и разные заведения так или иначе приходили в упадок по их приказанию.
Выехав с проспекта и обогнув небольшую аллею, он увидел город в его параноидальном блеске поверх тусклых елей — тех, что выросли достаточно большими, чтобы смотреть сверху вниз. Запертые ворота жилых корпусов заботливо поднимали чугунные пальцы, когда Престер проходил мимо, — за них, обещали ворота, никогда не проникнет разруха. Штукатурка, гипсокартон и фальшимпосты на окнах давали знать, что тут, в отличие от центра, действуют медицинские команды косметических хирургов, ловко обращавшихся со шпателями и пневматическими молотками, так что здесь нет нужды в неоне и самоослеплении: царапины просто замазываются и никто на них не смотрит.
Миновав отважно забравшиеся так далеко предместья, он зашагал по старой дороге, где раньше возили лес, к поместью левитов. Когда он пришел, ворота оказались открыты, и залитая лунным светом тенистая подъездная аллея словно бы дышала. С кабеля линии связи левитов свисали, раскачиваясь на ветру, связанные между собой шнурками несколько десятков пар ботинок. Он удивился: что это пришло в голову старым психам?
Престер вытянул ноги, откинувшись на складчатую спинку кожаного кресла. Такой же пол, как здесь в гостиной — черно-белое домино, — встречался ему и в других подобных анклавах. Ему хотелось осмотреться, хотелось вычленить что-нибудь содержательное в янтрах и мандалах и в дурацких подковах, прибитых поверх темной стенной обшивки.
Но он этого не сделал. аЛан, примостившись рядом с его локтем на низком комоде красного дерева, старательно переносил ритуал Престера на старенький терминал левитов.
— Выглядит прекрасно, молодой человек, — сказал левит.
Престер не знал, как его зовут, и вообще не был уверен, что у них есть имена.
Престер улыбнулся:
— Я старался, сэр.
— Наш терминал сообщает, что многие чары… новые. — Старик бросил изучающий взгляд сквозь очки, свет ненастоящих газовых ламп трепетал на его лысине. — С ними ритуал станет сильнее?
Престер наклонился вперед:
— Да. Мой ритуал будет охранять вашу базу данных, а с помощью новых чар быстрее научится это делать. Чем больше их ему встретится, тем быстрее он войдет в полную силу, тем лучшее он будет желать. — Он взглянул на аЛана: тот почти заканчивал загрузку. — Через месяц совсем созреет.
— Очень хорошо, — улыбнулся старик, выискивая на клавиатуре нужные клавиши и затем ударяя по ним. — Тогда я посмотрю, что там с переводом. Ваш… фамильяр скоро сможет проверить зачисленную сумму.
Престер сглотнул, выудил листок бумаги из-за отворота поношенного пиджака и передал его левиту:
— Воспользуйтесь, пожалуйста, этим счетом, если не сложно.
Нет смысла класть новые деньги на старый счет только из-за возможной проверки со стороны южноафриканцев.
Старик прищурился и взял листок бумаги:
— Конечно.
Престер сердито взял сигареты и вылетел из дверей магазина. Ему было стыдно курить, ну и что? Кому какое дело? Тейлор уж точно наплевать, как бы ему ни хотелось обратного.
Вернувшись в машину, он вставил прикуриватель в гнездо и, нажав на газ, выехал с парковки. аЛан спокойно лежал на искусственной коже сиденья, голубой и безучастный, как и свет, заливавший приборную панель Престера. Как хорошо, что через неделю он уже поменяет лицо, — штрафные квитанции, которые подбросил ему местный коп, что б ему пусто было, пожрали бы все заработанное у левитов… и еще немного. По крайней мере сейчас он потеряет четверть суммы на более подходящий набор новых номерных знаков. Оставшееся уйдет на покупку чар на следующий месяц. И может, люди наконец начнут обращаться к нему.
Он припарковал «бель эйр» на узкой парковке Айдайо. Парковка мигала ему вспышками радуг, масляные пятна на асфальте пробудились от тумана и лунного света. Престер сунул планшет в карман и прихватил сигареты.
В клубе из другого кармана он вытащил кипу дешевых афишек и начал их раздавать. Они рекламировали фиктивное представление — этот номер он придумал в прошлом году — и предлагали своим обладателям замолвить о нем словечко через граффити и ксерокс. На представлении, как сулил плакат Престера, претворятся в жизнь самые дикие желания, но только если человек оповестит об этом шоу других.
Фиденс, бармен, ткнул мясистым пальцем в лицо Престера:
— Прекрати раздавать это дерьмо, Престер.
Престер не стал спорить. Он засунул оставшиеся афишки обратно в карман. Чуть позже он их пересчитает, чтобы сказать аЛану, сколько ушло.
Он умиротворяюще протянул руки:
— Я только выпить пива, Фид.
— Кончилось, — кисло ответил Фиденс.
— Что кончилось? — не поверил Престер. — Пиво?
— Вылил последнее десять минут назад, — сказал Фиденс. — Будь трижды проклят этот Бах, который еще в прошлую среду закрылся на переучет. Без него мы потеряем сегодня не меньше тысячи.
Плечи Престера напряглись. Сначала коп, а теперь вот это. Какая нелепость. В Айдайо никогда не кончалось пиво, и Престер не помнил, чтобы за последнее время перебежал кому-то дорогу, по крайней мере никому из чародеев. Кто мог напустить на него желания?
Престер настороженно огляделся:
— Что ж, тогда я просто посижу.
— Шел бы ты куда в другое место, — проворчал Фиденс.
Не утратив спокойствия духа, Престер вышел. С пролета железнодорожного моста за клубом выпал винтик. Поезд метро прогрохотал по путям с другой стороны проспекта, пассажиры в чересчур ярко освещенных вагонах походили на разрисованных для представления статистов. Проносясь мимо, пара-тройка из них, как показалось Престеру, взглянули на него.
Надо было попасть в «Сиксс» — там часто бывала Тейлор, а он начинал волноваться. Может, чары Эндрвика никуда не годились. Может, он только подправил старые, и в итоге ритуал безопасности Престера пытался задействовать мертвые желания. Он внутренне содрогнулся. Тогда жди неприятностей.
Он уселся в машину и, взглянув в зеркало, остолбенел, увидев позади машины модника в прикиде из водосточных труб. Казалось, кожа парня была из листового металла, волосы покрывали ржавчина и короста. В глазах чувака оранжевым блеском светились огни города.
Престер обернулся, но люди, проходившие через парковку, выглядели нормально, по крайней мере для Айдайо. И как он ни смотрел, но поблизости больше никого не увидел.
Он прикурил еще одну сигарету, и, пока он выруливал с парковки, тормоза пронзительно визжали, выражая свое отвращение.
В «Сиксс» было не так многолюдно, как в Айдайо. Престеру даже больше понравилась музыка — мелодии здесь были поспокойнее. В Айдайо он воспринимал только драм-энд-бейс.
Тейлор сидела в угловой кабинке с какими-то чуваками в вельветовых прикидах. Престер стрельнул у проходившего мимо бородача зажигалку и поспешил к кабинке.
Зажигалка парня сломалась.
— Привет, Тейлор, — с волнением сказал он.
Она подняла глаза, ядовито-зеленые блики от экрана планшета падали на ее очки.
— Разберитесь с этим сегодня, — сказала она остальным.
Парни слиняли, прихватив свои ноутбуки. Престер сел.
— И тебе привет, — сказала Тейлор, расправляя плечи. — Разделался со своим ритуалом?
— Угу, — сказал он. — Деньги хорошие.
— Ты полный придурок, — сказала она; под потолком трещал воздухоочиститель.
Он сглотнул:
— Что? Почему?
— Ты же и слушать меня не будешь, а?
Он продолжил игру — он решил, что должен ее продолжать.
— О чем ты?
Она перегнулась через стол, наклонившись над пустыми пивными стаканами.
— Тебя сделали.
— Левиты?
Он старался отвести взгляд от бездны, маячившей в глубоком вырезе на груди Тейлор.
— Ты ведь соорудил им ритуал безопасности?
— Угу.
— У них уже был один.
— Нет, не может быть, — усмехнулся Престер. — аЛан разметил всю их систему еще до того, как я начал собирать чары.
— Но он был, — сказала она. — Я пыталась тебя предупредить, но что можно сказать по линии, тысяча чертей! Боже, их фамильяры подслушивают повсюду.
Он сглотнул. Возможно, у них были другие серверы, автономные устройства, не подключенные к линии связи как к основной системе. Он помотал головой. Даже если и так, аЛан не мог не вычленить их передаточные станции. Ни один фамильяр не может так долго молчать.
Она сжала его руку:
— Хоть бы раз ты зашел сам, а не звонил, когда тебе было что-то от меня нужно, я бы помогла тебе врубиться. — Она прикурила сигарету. — А так тебя просто поимели.
— Предположим, ты права. — Он вытер ладонью пот со лба. — Но даже если я и наложил новый ритуал поверх уже существующего, это ничего не значит. Нет ничего плохого в том, что они дублируют друг друга.
— Кроме того, — сказала она, выдыхая в потолок клубы дыма, — что ты засветился. Ты сам позволил, чтобы тебя имели, имели и еще раз имели. Ты написал код, загрузил ритуал в их терминал, затем повысил его мощность своими чарами. Прекрасно. Но теперь, когда поглотители чар перенаправляют, подписывают и посылают письма счастья, поддерживая жизнь твоего ритуала, старый станет питаться за его счет. — Она затянулась сигаретой. — В конце концов старый выследит, откуда чары берут свое начало, и в качестве объекта отдаст предпочтение тебе. Черт, это могло уже произойти.
Престер потер лицо:
— Подожди.
Она скрестила руки на груди.
— Кто его закодировал? — спросил он.
— Я, два месяца назад.
Он придвинулся ближе:
— Ради всего святого, Тейлор, отзови его.
Она прикрыла веки:
— Ты думаешь, у меня есть с ним связь? Не будь ослом. Я приняла меры предосторожности.
Престер услышал, как завертелись крошечные вентиляторы планшета, выдувая из машины механический жар.
— И что теперь?
— Черт с тобой! — сказала она, выскакивая из кабинки. — Пошли.
— Нет, — сказал он, отшатнувшись, — возьмем мою машину.
Тейлор нагнулась и опять схватила его за руку.
— Тебе повезло, что ты вообще доехал на ней сюда! — прошипела она. — Если тебе нужна моя помощь, ты едешь со мной. Кто знает, может, тормозная жидкость вытекла и свечи заржавели.
Престер уступил и пошел с ней к метро. Он подумал о копе за городом. Об Айдайо. Ритуал Тейлор вычислил его — сомнений не было.
— Не могу поверить, что помогаю тебе, — пробормотала она. Туман сгустился в дождь, его капли бусинами переливались на ее почти совсем голых плечах. — Это глупо.
Престер прикусил язык.
На тротуаре они, бесцеремонно расталкивая прохожих, пробирались сквозь двигающуюся навстречу толпу. Куда бы ни смотрел Престер, везде на коже и одежде прилизанных дождем людей отражался город позади него. Неоновые изгибы и размытый рисунок кирпичной кладки отсвечивали на влажных тенях темных лиц пешеходов. Он видел, как белый человек со знака пешеходного перехода прошел сквозь людей, стоп-сигналы вспыхивали на их мокрых щеках. Провода линии передач и метро переплелись с волосами.
Один пешеход столкнулся с ним, залепив рукой со множеством колец на пальцах по планшету в кармане Престера с таким звуком, что он забеспокоился, что незнакомец повредил аЛана.
Увлекая Престера за собой, Тейлор протащила его сквозь троицу длинноволосых девиц в чистых свитерах, вышедших на ночную прогулку из кампуса дальше по переулку. Их глаза сверкнули на него дорожными знаками.
Он не понимал, то ли он потерял равновесие, то ли ближайший фонарный столб толкнул его.
Когда они вошли в метро, Престер рванулся было назад:
— Поезд?
Тейлор дернула его обратно, бросив на него крайне раздраженный взгляд:
— Мы идем пешком.
— Куда? — бессильно спросил он.
В лужу перед ним откуда-то из толпы плюхнулся один из его фиктивных плакатов. Престер машинально ощупал карман, где они хранились, но этот явно вернулся откуда-то еще.
Тейлор молча тащила его вперед, он врезался то в одного, то в другого прохожего, ударяясь голенями о гладкие кирпичные ограды палисадников. Когда движение стало не таким интенсивным, а дома стали меньше глазеть на людей и больше друг на друга, Престера немного отпустило. Здесь были тени, углы, арки и ниши без неонового света, без окон. В этом районе фасады домов давным-давно сдались на милость пятнам от старого угольного дыма и слабого известкового раствора. Престеру представилось, что только они, в общем городском упадке, осознавали себя с архитектурной стороны. Они осознавали, что когда-то были другими. Было время, когда здания управляли реальностью в городе. Когда единство их балок и мощь их арматурных стержней задавали темп происходящим изменениям. Теперь они знали только, что на них со всех сторон наступает хаос. Что все распадается на части до срока, а стили формируются и отмирают до времени. Так в конечном итоге останутся только дороги.
Престер посмотрел вверх и увидел, как дождь водопадом стекает по всей длине линии связи между водостоками двух зданий. Он сразу понял, что информационный поток взбудоражил и оголил ее изоляцию, а случайно прикоснувшись ладонью к изъеденной оспинами каменной облицовке стены, за которую ухватился, когда Тейлор резко свернула в аллею, он ощутил сквозь камень, как гудит линия, раньше времени воодушевляя дом на дела, для него непостижимые.
Когда они проскочили аллею, ему послышалось, что за ними кто-то идет. Посмотрев через плечо, он увидел ромбовидные локти из листового металла и уныло-зеленые глазные яблоки, но тут упала новая тень, и эти странные детали смыло из поля его зрения. Теперь Престера окружали их метафоры: мусорные баки и лампочки эвакуационного выхода. Темные здания стонали под дождем. Ритуал Тейлор соединял своих агентов вместе с отмирающими частями тела города.
Тейлор развернулась — теперь они стояли в улочке с облицованными кирпичом стенами. Кафе и книжные магазины выстроились по дальней стороне пешеходной аллеи, а дубы вытянулись в вазонах традиционного стиля, их листья-пальчики были в ярко-зеленой пене от ослепительной подсветки.
— Проверь воздух, — велела она.
Престер послушно вытащил планшет. Его экран треснул при столкновении с окольцованным прохожим, но не смертельно — высвечивать мысли аЛана он был в состоянии. Престер быстро отбил по резиновым клавишам планшета несколько команд, но аЛан не обнаружил здесь беспроводного взгляда линии связи.
— Атмосферные помехи, — сообщил Престер, подняв голову.
Тейлор отстукивала по клавишам собственного планшета.
— Будем надеяться, что так, — сказала она; ее волосы теперь прилипли к шее, сквозь бледную кожу проступали темными полосами синеватые вены.
По волосам Престера за спину холодными ручьями стекал дождь.
— И что теперь? — спросил он, подозрительно прищурившись.
Тейлор распрямила плечи:
— Теперь твои счета заново поглощены, твои новые лица исчезли. Думаю, что и дом уже сгорел, но, может, из-за дождя это произойдет чуть позже.
— Боже! — сказал Престер.
Она взглянула на него.
— Мой ритуал стремительно перенаправляет и маршрутизирует десятки писем в минуту. Его чат-боты распространяют эти идеи на всем протяжении линии. Ему не так сложно выстроить человеческие желания, — сказала она. — Ему нужно только устроить так, чтобы правильные желания располагались в правильном порядке. Я к тому, — она выдержала паузу, — что те, кто загадывает желания, мечтая улучшить ситуацию на дорогах или снести многоквартирные дома в твоем районе, не знают, что помогают ритуалу заполучить тебя.
— Совпадения, — понял он.
— Последствия, пустые слова, — продолжила она, махнув рукой. — Ритуал может заставлять их желать то, что он хочет. Когда в задачу входит подчинить тысячи желаний, неопределенность очень хороша. Ритуалу остается только пожинать плоды и посылать туда, куда ему надо.
Перетер засмеялся:
— То есть на меня.
— Ну, точнее, на твою работу.
Он посмотрел на нее:
— Итак, зачем мы здесь?
Она показала. Престер проследил за ее рукой. Они пришли сюда с другой стороны, поэтому он не узнал здания, но теперь ему стало все понятно. Художественный совет, элегантный и чистый, стоял в конце аллеи.
— Системы, — понял он.
Она кивнула:
— Заманить и подменить.
Престер ринулся вперед, на сей раз увлекая за собой ее. Если здание еще открыто, если у него получится подсоединить аЛана к линии, то можно попытаться воспользоваться каким-нибудь старым ритуалом — они давно уже бездействуют. Престер с трудом припомнил несколько из них: хорошая работа, хороший столик в кафе в центре города, карбюратор с большим сроком службы. Если бы у него получилось восстановить хотя бы несколько чар из старых схем, расписанных на газетной бумаге, он пустил бы ритуал Тейлор по мертвому следу, послал бы его разрабатывать произвольные, уже не существующие линии. Как дома вокруг него, Престер мог уничтожить себя и тем самым выйти за пределы досягаемости ненасытного ритуала. Он сведет свою сущность к неодушевленному предмету: пучку веревок и бумаг, давным-давно утратившим какой-либо смысл. К дороге, которая никуда не ведет.
— Ты придумал, — сказала она.
— Мое новое лицо — это мое старое лицо, — сказал он в ответ, ощущая везде вокруг себя пульсацию дождя.
Тротуар рокотал, принимая гидромассажную ванну, водостоки пели — старые дома вновь могли надеяться, что небо смоет хоть часть оставленной энтропией коросты. Все дышало, а упадок смотрел сам на себя немигающим неоновым взглядом.
Он бы пробился в Художественный совет, если бы это потребовалось, если бы у Тейлор не было чар, воздействующих на забывчивых ночных сторожей и способных повернуть замок. Оказавшись внутри, он поменял бы матовую стальную цепочку на бачке одного из местных туалетов на обрывок своей старой цепи из Айдайо. Пускай бы посетители и смотрители направляли мощную струю силы его старой цепи в стены, обратно в искусство. И через время приманка была бы съедена.
— Пошли, — сказал он, увлекая ее за собой под ближайший навес. Он задержал дыхание и понадеялся, что сигареты в кармане еще можно раскурить.
Тейлор рассмеялась, кивнула и неловко прикурила сигареты от своей зажигалки. Они затянулись, пока в безопасности, вместе выдыхая дым в дождь. Отдавая то, что давалось им.
ДЖЕНН РИЗ
Тазер
Пер. Е. Нестерова
Нас опекает целая стая дьявольских псов под предводительством свирепого полухаски, которого мы зовем Тазер. Они околачиваются поблизости, едят нашу еду, иногда приносят в зубастой пасти оружие или наркотики — виляя хвостом и свесив язык, они отправляют нас во все концы грабить, драться, просто что-нибудь ломать.
Мы с Кейсом лезем на телеграфный столб. Я вижу, как он смотрит на шрамы у меня на руках и ногах, чувствую его зависть. Мы забираемся на самый верх и бросаем на провода пару кроссовок Маркуса. Маркуса подстрелили две недели назад, и теперь его «найки» будут отгонять от нас проклятых птиц, когда мы курим или строим планы. Эти гребаные голуби разбалтывают увиденное стаям девчонок, которые кучкуются подальше от нас. Но ботинки, как моча, метят наш участок, они обладают особой магической силой, которая таится в пятнах пота на подкладке и в грязной резине.
Извиваясь, мы сползаем вниз, а Тазер нас ждет, восседая на асфальте, как на троне. Он чего-то хочет от нас. Чувствую взгляд Кейса, слышу, как он прерывисто дышит мне в ухо. Собаки всегда обращаются ко мне. Они знают, что я выполню все, чего бы они ни захотели. Для них я пролезал в форточки, взламывал машины, воровал. Я отвлекал копов, хозяев магазинов, парней из других банд. Долгие ночные часы я проводил в засаде, и по первому их зову готов вновь сделать это.
Глаза Тазера блестят. Высунув язык, он часто дышит, широко оскалив острозубую пасть. Когда он встает и рысцой бежит по дороге, нам ничего не остается, кроме как последовать за ним.
Кейс кричит остальным, говорит, что мы уходим с Тазером. Слышу гордость и страх в его голосе. Он идет в первый раз, его кожа пока еще ровная и ничем не примечательная. Рик З., который тут у нас вроде как за главного, когда собаки позволяют, кивает и возвращается к своей травке. Две ночи назад мы удачно сходили на дело, и еще пару дней никого из нас будет не оторвать от еды и курения травки. Даже те, кто дорос до того, чтобы поймать телку, оставляют в покое свои члены, пока нам хватает плана для кайфа.
Мы следуем за Тазером по сплетению улиц и аллей, везде темно, пахнет алкоголем и гнилью. Когти Тазера цокают по черной дороге. Он помахивает хвостом, но от ходьбы, а не от особой радости вести нас. Думаю, что он, может, и доволен нами, может, даже гордится, но показывать это, тем более каким-то дурацким вилянием хвоста, — ни за что.
Кейс младше меня, но крупнее. Выше дюйма на два. Мне приходится задирать голову, разговаривая с ним, впрочем, как и с остальными. Я ростом ниже всех, кроме совсем молокососов. Наползает ночь, холодает, мы сжимаем кулаки, опасаясь каждой тени; Кейс бросает на меня взгляд за взглядом — в каждом немой вопрос. Тазер никогда раньше не выделял его из группы, и он готов наделать в штаны от страха и волнения.
Я не смотрю на Кейса и стараюсь его успокоить. Я расправляю плечи, шагаю быстрее. Мне здесь все привычно, и Кейс должен это понять. Должен это почувствовать. Должен рассказать остальным все до мельчайших подробностей.
Тазер все идет, и даже я начинаю терять представление о том, где мы находимся. Многоэтажные дома сменяются двухэтажными, двухэтажные — одноэтажными, мы идем дальше, и дома опять становятся больше. Люди тоже меняют цвет. Я никогда не уходил так далеко от дома, от подвластной нам территории. Над головой летят птицы, и никакие кроссовки не помешают им нас увидеть. Даже у собак во дворах, мимо которых мы проходим, неживые глаза. Их челюсти никогда не ощущали холодного металлического привкуса револьвера, только безвкусный дробленый сухой корм из пластиковой миски. Тазер совсем не такой.
Солнце садится. В брюхе урчит — мало еды, много травы. Кейс сзади сходит с ума, пытаясь делать вид, что все в порядке. Тазер привел нас к торговым рядам. Может, он хочет, чтобы мы угнали какой-нибудь автомобиль, — я уже положил глаз на прелестный маленький «мустанг», — но мы проходим через парковку и заворачиваем. Сверху то включается, то гаснет фонарь, как будто кто-то щелчками включает и выключает солнце, чтобы испортить мне вконец зрение.
Мусорные баки и бутылки, картонные коробки и запах гнилых фруктов. Такой хлам всегда попадается нам в аллеях. Такой хлам заставляет нас чувствовать себя как дома везде, где бы мы ни находились. Но вот впереди слышится шорох. Всхлип. Тазер отходит в сторону и садится, свесив язык в кривой ухмылке.
У меня нет оружия — хреново, что нет. Тазер никогда не просил меня драться для него, но придет день, когда попросит, и когда это дерьмо случится, у меня не будет ничего, кроме ножей.
Еще всхлип и гуканье. Головорезы не издают таких звуков, так что драться мы, вероятно, не будем. За мной идет Кейс: «А?» Но я не отвечаю. Мне нужно сохранять невозмутимость перед ним и Тазером. Я делаю несколько шагов вперед, пока тени не обретают истинные формы.
Это женщина, ребенок и собака.
Женщина белее бумаги там, где нет грязи, а грязи на ней много. В ее широко раскрытых глазах застыл испуг, она тянется к ребенку.
Ребенок на земле подле часто дышащей собаки — коричневой суки, кажется, овчарки, — изо всех сил присосался к ее животу. Черт побери, она его выкармливает. Кейс встает почти рядом со мной, лишь чуть позади, невнятным шепотом озвучивая мои мысли.
— И что нам делать? — бормочет он.
Я смотрю на Тазера. Обычно понять, что думает собака, если она не попрошайничает или не злится, сложно, но что-то в глазах Тазера, что-то темное и запутанное, посылает приказ прямо в мой мозг, и он звучит отчетливее слов.
Мерзость, — говорит он мне. — Убей его.
Боже! Я не успеваю совладать с собой, и у меня перехватывает дыхание, Кейс замечает это. Я поворачиваюсь спиной к женщине и обреченному на смерть младенцу и говорю Кейсу, чего хочет Тазер, приготовившись к его возмущению и страху.
Но Кейс только смотрит через мое плечо на ребенка и кивает.
— Мы легко с этим управимся, — говорит он. — Вокруг никого. Можем заодно и женщину прикончить.
— Нет, только его.
Я говорю не слишком быстро, но медленнее, чем хочется. Я никогда раньше не проливал крови, если только кулаками или ногами, и я никогда не убивал. Тазер, видимо, считает, что я готов. Видимо, это проверка. Я отказываюсь от мысли повернуть голову и опять посмотреть на него. Не такой уж я слабак, и мне не хочется им казаться.
Боже, мне и не представить, какой шрам я получу за это. Чем сложнее задание, тем сильнее впиваются собаки в тело, рвут его, оставляют отметину и шрам. Мои руки испещрены проколами и царапинами, но они мелкие, с возрастом могут совсем исчезнуть. Тогда мне будет нечем оправдать свою жизнь, нечем остановить других, чтобы они не издевались надо мной, будто я кусок дерьма, никчемный слабак.
— Я подержу женщину, — говорит Кейс, опять заглядывая мне через плечо, — а ты сможешь заняться ребенком.
Он предлагает его мне. Он знает свое место, он уважает меня, отдает мне должное — не покушается на то, чего пока еще не заслужил. Тазер ни за что не взял бы его на это дело без меня, и Кейс это знает и показывает мне, что он это знает. Только… черт!
Я вытираю руки о штаны, тяну время, размышляя. Мой нож прекрасно заточен, им проще простого убить младенца. С этим никаких проблем, только постараться, чтобы не заляпать одежду, когда он будет истекать кровью. Кейс позаботится о женщине, зажмет ей рот, пока с ребенком не будет покончено и кричать станет бессмысленно. Она и так по уши в дерьме и легко поймет, когда дело будет сделано, что лучше заткнуться.
Но как это сделать? Господи боже мой, я никогда раньше не втыкал ножа в человеческое тело. Я думал об этом бессчетное количество раз, когда все колотили меня, — это было до того, как собаки стали мне покровительствовать. Но я всегда думал, что убить придется в драке, когда некогда думать, нужно только бить.
Тазер рычит, от этого тихого рычания у меня сводит челюсть, я чувствую себя так, будто обоссался в штаны. Я смотрю на женщину. Она прижимает младенца к груди, чуть ли не душит его. Овчарка все еще лежит на земле. Возле ее белого живота я вижу маленькие коричневые комочки, свернувшиеся калачиками, кажется, их штук шесть. Ее щенки. Не двигаются. Видимо, женщина убила их, чтобы освободить место для своего малыша.
Это упрощает дело. Она убила детей собаки, Тазер хочет отомстить. Месть занимает в нашей жизни нехилую часть наряду с необходимостью питаться и дрочить. Я делаю шаг вперед. Кейс только этого и ждет. Он быстро проходит и хватает женщину. Она сопротивляется, пытается кричать, но она медлительна и неповоротлива, не знаю уж из-за чего. Кейс грубо затыкает ей рот и шепчет на ухо угрозы. Зрачки ее расширяются и принимаются метаться в глазницах из угла в угол, как мыши в клетке.
Я опять вытираю руки, сглатываю слюну, делаю шаг. Я слышу только, как кровь стучит у меня в ушах. Тяну к себе ребенка. Но женщина держит его крепко. Кейс рывком отводит ей голову чуть назад, злобно шепчет что-то сквозь сжатые зубы, и женщина отпускает ребенка, покоряясь неизбежному, чтобы остаться в живых.
Ребенок ревет. Проклятье, какой он тяжелый! Не то чтобы по-настоящему тяжелый, но тяжелее, чем я думал. Настоящий, теплый, дышит и пахнет прокисшим молоком. Страшный как смертный грех — сморщенное розовое личико, крепко закрытые глазки, слишком большая голова. Но боже! Он дышит и шевелится у меня в руках, он живой.
Я вынимаю нож, а Кейс оттаскивает женщину еще на несколько футов назад. Она сопротивляется, и зуб даю, что это нравится Кейсу. Левой, свободной рукой он стискивает ей грудь.
И вот этот гребаный ребенок открывает свои гребаные глаза. Голубые глаза глядят на меня, зажмуриваются, опять открываются и смотрят на меня.
Не так должно было все происходить. Не так должен был я себя ощущать. Втыкая в кого-то нож, ты должен чувствовать, будто имеешь весь этот мир. Как будто ты победитель крупнейшего чемпионата по траханью. Вместо этого меня мутит. Возможно, я даже готов разрыдаться.
Я перешагиваю через собаку и поворачиваюсь, чтобы и Кейс, и Тазер оказались передо мной.
— Мы не будем его убивать, — говорю я, мой голос как гром вырывается из горла, нож наготове, рукоятка крепко сжата.
Тазер вскакивает на все четыре лапы, скалит зубы, яростно сверкает глазами.
— Какого хера ты делаешь, чувак? — говорит Кейс.
Тазер поворачивает морду в сторону Кейса, возможно впервые замечая его, между ними что-то происходит. Кейс медлит. Он хотел было посмотреть мне в глаза, как раньше, но сразу вспомнил, где я и что я делаю. Затем он вытаскивает нож и перерезает женщине горло, едва успев отставить другую руку. Сноп красных брызг, бульканье, и она падает на землю.
— Теперь нам придется убить ребенка, — говорит Кейс. Его глаза блестят, как у Тазера. Он оборачивается, чтобы взглянуть на женщину. Его трясет и качает. Он выглядит так, будто только что поимел весь мир.
Тазер подходит ближе. Ростом он всего несколько футов, но мне кажется, что он размером с бульдозер. Моя рука с ножом трясется. Чем больше я стараюсь унять дрожь, тем она сильнее.
Я опускаюсь на колено и заношу нож над лежащей на животе собакой. Слежу глазами за Тазером. Кейс чуть заметно дергается, но сразу замирает, стоит дьявольскому псу один раз резко гавкнуть. Это касается только Тазера и меня, и он дает Кейсу это понять.
Ничего не происходит, ровным счетом ничего. Мы с Тазером смотрим друг на друга, и мне кажется, будто моя кожа пылает огненным жаром. Я хочу только одного — отвернуться, опустить голову, чтобы не видеть в его глазах презрения. Осуждения. Ненависти.
Но господи, если я отступлю сейчас, то я полное ничтожество. Еще меньше, чем ничтожество. Я отвечаю на взгляд ужасных собачьих глаз, и тут, сам собой, нож перестает дрожать в руке. Я достигаю новой высоты, вершины некой горы, и спокойная сила с другой стороны наполняет меня и прогоняет слабость.
Тазер глядит на меня своими собачьими глазами. Он мог бы меня убить. Мы оба знаем это. Но здесь происходит нечто совсем иное. Я не оспариваю его господство в группе. Я только хочу быть господином самому себе. Его сила высушивает, пронзает, прощупывает и испытывает меня. И вот, едва я готов к новой атаке, Тазер отходит. Мое сердце неистово бьется, до боли в груди. Я отставляю нож от собачьего горла.
Тазер разворачивается, идет к Кейсу. Молниеносно осознав, что надо делать, Кейс встает на колено и выставляет руку. Открывая пасть и пронзая клыком кожу Кейса, Тазер смотрит на меня. Кейс вскрикивает, одновременно и от боли, и от радости, а Тазер по-настоящему глубоко вспарывает его плоть. Мировой шрам выйдет. И не только шрам — еще и напоминание мне, да и Кейсу, об этой ночи. Я уверен в этом, как и во всем остальном.
Когда Тазер смотрит на меня, в его взгляде читается отвращение, как будто он смотрит на отбросы, а не на того, кто некогда был предан ему всем сердцем. Он отпускает Кейса и рысцой бежит на улицу. Кейс с ухмылкой ковыляет за ним, зажимая кровоточащую руку.
И я иду следом, на приличном расстоянии, оставляю ребенка на пороге одного из этих прекрасных домов, мимо которых лежит наш путь. Не имею ни малейшего представления, что будет, когда мы вернемся к остальным, какое место я смогу занять среди них теперь, после сегодняшней ночи. Стыд проникает мне под кожу, добирается до сердца, я не сопротивляюсь ему. Я обосрался, и мне придется заплатить, может даже собственной жизнью. Это решать Тазеру и остальным. Но если я останусь в живых, я стану самим собой в большей мере, чем когда-либо, и это чувство глубже любого шрама.
ДЭВИД ДЖ. ШВАРЦ
Сомнамбула
Пер. О. Александрова
Сомнамбула тормозит на перекрестке, на пересечении пригородных Айви-какая-то-там-лейн и Какой-то-там-крик-роуд. Фары освещают тишину двух часов ночи. Она наклоняется, чтобы открыть дверцу со стороны пассажирского сиденья, и ее муж в обличье серой белки запрыгивает внутрь. Он отсутствовал двенадцать дней, поскольку попал в двойную ловушку: находясь в коме, пересекал астральное пространство и обработанные химией лужайки. И вот сегодня, рано утром, его человеческое тело умерло. Сомнамбула горько плакала, пока не уснула; на лице высыхали соленые дорожки.
Она закрывает дверцу и садится на место. Муж-белка скачет к ней, хвост выгнут дугой и тянется за ним, словно эхо. Муж-белка взбирается по рукаву ее пижамы с медвежатами и устраивается у нее на плече.
Сомнамбула — когда она не спит, ее зовут Джуди — замужем уже десять лет. Ее муж называет себя торговцем, и это, возможно, самое точное определение того, чем он занимается, но его называют и по-другому: магом, колдуном, демоном. В рамках его профессии эти термины не имеют особого значения. Он торгует властью — вот в это Джуди всегда хоть как-то верила.
«Больница», — говорит муж-белка.
По крайней мере, она слышит голос, а белка — всего лишь его источник. Сомнамбула поворачивает в сторону автострады.
Джуди верит, что ее муж — когда она не спит, его зовут Дональд — очень милый, но скучный человек, который компенсирует это, беря ее с собой в путешествия по всему миру. Она ничего не знает о том, какую роль играет в его работе, о том, как он относится к ней. Она не знает, что он не умер и только она может его спасти.
Когда они познакомились, у Джуди была работа, на которой она имела дело с телефоном, а руки были без надобности. Разница в возрасте поначалу слегка ее беспокоила: ей было за двадцать, а Дональду — за сорок. Но она была очарована тем, что он более-менее разбирался в бейсболе и знал волшебные сказки, и обезоружена его искренним интересом к ней. Его абсолютно не волновало то, что она ходит во сне; он даже не заикался на эту тему, хотя какое-то время лунатизм ее прогрессировал.
Джуди переживала из-за того, что у него так мало друзей, но очень скоро сама попала в его маленький мир. Сестра ее не одобряла. «Похоже, ты потихоньку начинаешь в него превращаться», — сказала она во время их последней беседы.
Джуди не собиралась увольняться после замужества, но у него были деньги, и он хотел, чтобы она с ним путешествовала. Они ездили в Марокко, и в Таиланд, и в Португалию, и в Эквадор, и в Патагонию. И самые мучительные сны у нее были, когда она путешествовала. Ей снилось, что она сидит верхом на лошади о восьми ногах, держа в руках огненное копье; что она откапывает кости из-под полов старинных соборов; что она карабкается по внутренним стенам крепостей, разрушенных и отданных на растерзание туристам, и достает амулеты, спрятанные между незакрепленными кирпичами. Иногда она убивала какие-то безликие существа, которые ползли навстречу ветру или летели, оседлав песчаные буруны. Она просыпалась на шелковых простынях, чувствуя себя абсолютно разбитой, с мозолями на руках. У нее никогда не было необходимости подстригать ногти.
Доктора были бессильны диагностировать ее заболевание. Дома она целыми днями не вставала с постели, и Дональд то и дело поднимался наверх из своего подвального офиса, чтобы вкусно накормить ее нежным тунцом, спагетти с клейкими ломтиками моцареллы, макаронами с тертым сыром. Он так беспокоился за нее.
И пока она ела, он рассказывал ей истории, где враги превращали героя в зверя и разлучали его с возлюбленной. И чтобы вернуться, ему необходимо было пройти через царства враждующих чудовищ, перебраться через горы и реки. А возлюбленная никогда не снимала бриллиантовой подвески, которую дал ей герой. Она носила бриллиант у сердца. (Дональд никогда не дарил Джуди подобных подвесок, хотя ей очень хотелось.) И в историях этих непременно фигурировали лестницы, по которым никто никогда не поднимался. А в конце герой и его возлюбленная жили долго и счастливо и умирали в один день.
Истории были чистой правдой, за исключением конца. Рассказывая их, Дональд даже иногда ронял скупую слезу. И Джуди верила, что слезы вызваны тем, что рассказ так сильно его захватил, и это заставляло ее любить его еще больше и одновременно ставило в тупик.
Джуди водит машину гораздо лучше, когда спит. И вообще она много чего делает гораздо лучше, когда спит: говорит на урду, играет на арфе, занимается кравмага. Она перемещается по лежащему за лобными долями священному пространству, где говорит на языке зверей, и забирается на небеса, чтобы выпить с богами. Иногда она ощущает себя ходячим клинком; во время полетов все ее тело поет, как камертон, так что даже зубы стучат.
Муж-белка, торговец, объясняет ей, где он только что был. Его бизнес — это торговля обрывками жизни и властью. Обмен происходит в астральном пространстве: души покупаются, сияние продается. Он предлагает на продажу идолов, находящихся на пороге смерти, жертвенные шкуры с еле заметными следами крови, и конкуренты слишком сильно боятся Смерти, чтобы отвергнуть все это. Они расплачиваются тайнами и картами — вещами, из которых они не надеются извлечь выгоду на своем веку. Торговец использует полученную информацию, чтобы найти сокрытые источники власти. Вместе со спящей Джуди — его помощницей и наемной убийцей — он берет столько, сколько может, а остаток продает втридорога. Все его ненавидят.
Торговец боится Смерти так же, как и любой из них. Быть может, даже больше. Он был первым, кто сумел обмануть Смерть, кто знал Смерть задолго до образования трещины между землей и небесами. Как-то он даже пировал вместе со Смертью и всеми богами, но сейчас на него давит груз грехов и страхов, накопившихся за украденные им годы. Он убеждает себя, что когда наберется достаточно сил, то залезет наверх и встретится с богами лицом к лицу. Но еще слишком рано.
Когда двенадцать дней назад он находился в трансе, поскольку продавал небесное сияние, консорциум врагов проник в его убежище и разрезал серебряную нить, соединяющую его с физическим уровнем. Тело его осталось умирать, поскольку сердце оторвано от души.
Впав в панику, он помещает свою душу в первое подвернувшееся ему живое существо. Белка была в шоке: сосед запер ее на чердаке и душа ее пребывала в смятении. Одним движением мысли торговец отправил душу белки восвояси, а сам вселился в зверька. Но даже если и так, он почти не помнил, какую форму принимал до того, как его выпустили на волю в парке на берегу реки — в месте, абсолютно не знакомом ни ему, ни его новому телу.
Звери хорошо знают границы, которых люди видеть не способны, и муж-белка стал торговцем, вторгшимся на чужую территорию. Целых двенадцать дней он с боем прокладывал себе путь через враждебные земли, отбиваясь от королей-воителей, яростно защищавших свое верхушечное королевство. Не раз за время путешествия он сталкивался с аватарами Смерти. Его преследовали бешеные псы и зараженные хищники. И теперь у него раны за ухом и на животе, а дыхание прерывистое из-за неистовых толчков сердца.
Он стоит на ее плече, одна крошечная передняя лапка покоится у нее на голове, другая — за мочкой уха. Ее длинные темные волосы трутся о беличий хвост. Муж-белка своим новым носом остро чувствует ее запах, который действует на него, как наркотик. Он вдыхает высохшую соль ее печали, закрывает малюсенькие глазки и тычется носом ей в ухо.
Сомнамбула паркуется в пустом углу больничной стоянки. С мужем-белкой на плече она вскрывает заднюю дверь и проходит в подвальное помещение. Она расстегивает пижамную куртку, спускает ее с левого плеча и вытаскивает из ключицы пятифутовый меч.
Она идет, шлепая босыми ногами, по коридору.
Смерть патологоанатомов — неудачное стечение обстоятельств. Это понимает даже муж-белка, причем лучше, чем его жена, — ведь она всего-навсего видит сон, который надеется скоро забыть. Она такая, какой он ее создал: кости укреплены лигатурой, мускулы натренированы для его целей. Но ее нельзя назвать швейцарским армейским ножом, обладающим набором удобных качеств: телохранителя, механика, истребителя драконов. Чтобы все работало, ему приходится любить ее за каждое из данных качеств, потому что любовь — это боль, это изменение, это волшебство.
В морге работают двое мужчин, и спящая Джуди убивает их прежде, чем те успевают ее разбудить. Меч разрубает их, но крови нет.
Муж-белка нюхом чувствует, где хранится тело Дональда. Он что-то шепчет спящей Джуди, и она открывает холодильник, выдвигает полку, где лежит тело — сморщенное, голое, холодное и абсолютно пустое.
Однажды во время поездки в Колорадо они отправились в Скальный дворец анасази. Гид провел их в ритуальный зал, куда можно было попасть, спустившись по приставной лестнице. Дональд без проблем преодолел спуск, но, когда пришло время лезть обратно вверх, ударился в панику. В результате пришлось поднимать его на веревках.
Джуди еще тогда спросила, боится ли он приставных лестниц. Возможно, у него фобия. Она даже сообщила ему, что сама, например, до ужаса боится ящериц, но он почему-то только рассмеялся в ответ. Это просто приступ паники, сказал он. Однако раньше она что-то не замечала за ним приступов паники.
Однажды в Аризоне ей снилось, что она танцует вокруг веревки, которая свисала с неба, затянутого грозовыми облаками. Ее муж что-то кричал, глядя в ночное небо, — сперва сердито, потом умоляюще. В облаках появилось лицо Смерти. Лицо это было совсем не страшным, как ей показалось, но ее муж испугался.
Когда они трахались (она никогда не называла это «заниматься любовью», хотя любовь окружала это действо), Дональд медленно проводил пальцами по впадинкам между позвонками, и, по мере того как поднималась его рука, невыносимый жар охватывал ее всю, жег череп, и ей казалось, что мозг вот-вот закипит.
Сомнамбула вкладывает в себя, как в ножны, меч и берет небольшую циркулярную пилу. Она снимает у Дональда скальп, круговыми движениями врезается в череп и, удаляя верхнюю часть, обнажает мозг.
Муж-белка все еще сидит, прильнув к ее плечу. Он продолжает выкладывать ей все свои секреты не потому, что она хочет их знать, а потому, что он не знает, как сказать ей «до свидания».
— Мое сердце — это вовсе не мое сердце, — говорит он. — Мое сердце — это бриллиант. Я заменил его десять лет назад, когда жил по соседству с богами.
Спящая Джуди кладет верхнюю часть черепа на стальной пол. Гибкими движениями пальцев она расправляет складки мозга Дональда.
— Сердце мое умеет любить идеальной любовью, и по чистоте ему нет равных.
Муж-белка, торговец, смотрит на Дональда и вспоминает, как любил его. Ему всегда было трудно решить, сохранять ли украденные тела. Он не знал, утешение это или наказание — видеть в зеркале лица тех, кого любил.
Замерзшие мысли Дональда тают под пальцами Джуди и ускользают, покидая свой объект. Ее собственный череп резонирует от меча и гудит от предвидения. Она верит, что все это ночной кошмар.
Еще немножко — и она в ужасе проснется.
Муж-белка всем тельцем прижимается к отворотам ее пижамы; поле его зрения слегка расплывается по краям. Совершая перемещения в самых неудачных условиях, он до последней минуты не может знать наверняка, получится у него или нет. Судьба его сердца сейчас в ее руках.
Пальцы Сомнамбулы вдруг нащупывают что-то маленькое, твердое и круглое. Она вытаскивает это из развалин его старого дома, сквозь дыру в крыше, через которую она боится лезть в одиночку.
— Проглоти это, — говорит он ей.
Она кладет бриллиант, покрытый застывшей кровью, себе на язык. И это сжигает барьеры между сном и явью. Чистота камня — словно лампа, слепящая ей глаза, и в этом свете она видит приставную лестницу, поднимающуюся из грудной клетки ее мертвого мужа, ступеньки — точно ребра. Лестница тянется вверх, сквозь дыру в потолке морга.
— Проглоти это, — повторяет он.
Под конец это всегда рискованная игра. Он больше десяти лет шел к этой минуте. Каждый подарок, каждое прикосновение, каждая уступка ее страсти к сыру — все это было направлено на то, чтобы поймать ее любовь и посадить в клетку. Она должна была пропустить его вперед именно сейчас, когда узнала все его секреты, когда она одновременно и Джуди, и Сомнамбула, когда она может или спасти его, или уничтожить.
Она не любит его.
В тот момент, когда это до нее доходит, она еще не понимает все далеко идущие последствия, но не подчиняется его приказу. С бриллиантом во рту, она смотрит на останки своего мужа. И хотя она оплакивает его, все же не желает становиться сосудом для его сердца. Она хватается за лестницу, освещенную бриллиантовым светом, и ползет вверх.
Белка, вереща, спрыгивает с ее плеча. Отчаянный, царапающий звук отражается от стали внутри Джуди и бриллианта у нее во рту, и секунду она колеблется. Она вспоминает все то, что готовил для нее муж: брокколи, запеченную с моцареллой, омлеты со швейцарским сыром. Она вспоминает томные, ленивые утра, когда они голые лежали рядом, тесно прижавшись друг к другу. Но вместо любви она чувствует гнев. Она ведь многим пожертвовала ради него: своей работой, своей семьей, своей независимостью. А для него она всего лишь бронежилет! Она продолжает карабкаться вверх.
Он так ею гордится. Она обладает качеством, свойственным всем сомнамбулам. Она считает себя неспособной делать все то, что совершает для него во сне. И все же она делает то, чего он до смерти боится: лезет вверх по приставной лестнице.
Но все его труды, каждый люмен световой энергии, который он заработал, ушли на подготовку к тому, чтобы она могла стать его сосудом. Он покидает тело белки, становится смерчем и молнией. И пока она лезет вверх, он колотит ее молотками воздуха, бьет кулаками потоков. Волосы ее нимбом разлетаются вокруг головы, а скелет испускает синее сияние.
Лестница длиннее, чем кажется. Если Джуди упадет, то наверняка умрет. Быть может, он надеется встряхнуть ее так, что она проглотит его сердце, и тогда ее последний вздох станет его первым. Но она железной хваткой держится за ступени и упрямо ползет вверх. По мере подъема Джуди накапливает время, обретая божественность. Божественность оседает на ней, словно пыль, и она впитывает ее костями. Вечность: одежда из гор, утоление голода из рек. Бриллиант, как маленькое землетрясение, стучит о ее зубы.
Отсюда она видит небеса. Небеса — это задняя веранда нуждающегося в покраске темно-коричневого домика на озере. Смерть сидит вместе с другими богами, пьет пиво и слушает по радио репортаж о бейсбольном матче. Озеро бесконечно. На полянке между берегом и верандой по деревьям туда-сюда снуют белки.
Торговец — похититель жизней, муж-буря — воет ей в уши: разветынелюбишьменяразветынелюбишьменя — и пытается сделать так, чтобы она камнем упала на твердый пол там, внизу. Она не падает. Она жалеет его, но она такая, какой он ее сделал: больше, чем человек, и слишком сильная для своего мужа.
Добравшись до верхней ступени лестницы, она сжимает бриллиант зубами и стискивает челюсти, старые, как мироздание. Сердце торговца пеплом сыплется у нее изо рта, и приговор наконец приводится в исполнение.
АННА ТАМБУР
Эра рыб. Постцветочная
Пер. О. Александрова
Не успеете вы подумать, что убили их всех, как тут же, откуда ни возьмись, появляются новые и ползут прямо через Стену. Или прогрызают ее. Или, что еще хуже, — хотя это, может, всего лишь слухи — плодятся прямо внутри.
Что касается звуков, на эту тему было полно досужих домыслов, вызвавших тоже немало шума. Являются ли звуки новым тактическим ходом в борьбе с ормами? Мы в своем кругу, конечно, много спорили, но большинство из нас были слишком напуганы, чтобы говорить об этом, и даже слышать ничего не хотели. Однако (хотя это могло быть сплошным позерством) некоторые горлопаны настаивали на необходимости ежедневных заверений в том, что Звук — причем звук с большой буквы! — последняя современная разработка, и, конечно, в это вполне можно было бы поверить, если бы они, наши оптимисты, не превращались в кротов, так же как все остальные, и не бежали во весь опор вниз при первых же раскатах, раздающихся вдали каждое пропащее утро. Они твердят нам: второстепенный ущерб, вероятные риски, кто-нибудь нам сообщит, не обращайте внимания, и в один прекрасный день все образуется.
Сегодня мы получили еще одно сообщение о том, что произошло уже у нашего порога. Орм — совсем детеныш, но толщиной с бедро взрослого мужчины, со спинным плавником размером с туловище, с жесткой гривой, похожей на проволоку, — был пойман с поличным всего в квартале от нас на акте пожирания: две ноги безвольно свисали из его пасти.
Рассказывают, что человек в синем зацепил его своей сетью с крючками. Но орм одним ударом не попавшего в сеть хвоста превратил живот парня в кашу, и все же тот успел вызвать бригаду по борьбе с ормами. Человека в пасти орма можно было считать погибшим за общее дело. Этот орм накормит сотню ньюйоркцев, а может, даже и пришлых. Вот так говорит Джулио, который видел кого-то, кто видел, как бригада грузит орма в автобус. Но что до меня, то все это чистой воды спекуляции. Я не считаю себя умником и таковых рядом что-то не наблюдаю.
Звуки и воронки — совсем из другой оперы. Звуки приходят всегда на рассвете. В них присутствуют элементы грохота. Кажется, будто что-то волочат и что-то режут, да и земля трясется, но определить точно не представляется возможным: просто звук, от которого ты просыпаешься в холодном поту, словно после страшного сна, хотя это и не сон вовсе. Маленькая поправка: раньше не было сном. Реальность превосходит любые сны — сны, которые снились раньше. Вот такие дела.
Из-за звуков пробуждение наше происходит по заведенному порядку. Мы дружно спускаемся в убежище (хотя никто так толком и не выспался) и сидим там, прижимаясь друг к другу и прислушиваясь к нарастающей дрожи земли (или это наша дрожь?), до тех пор пока все не устаканивается, относительно конечно.
Все еще идет дождь. Мы давным-давно прошли временную отметку в сорок дней и сорок ночей, что, слава те господи, гораздо больше, чем болтают в нашей группе. Но среди нас не осталось тех, на кого можно было бы сослаться. Я не помню, когда в последний раз видел сияние луны.
Два уровня подземной парковки в нашем доме теперь, к счастью, полностью залиты водой. Так что одной заботой меньше. Электроэнергия могла бы стать проблемой, если бы не наш местный гений, другими словами — заносчивый лицемер. Джулио единственный, кто может общаться с парнем, и, пока Джулио с нами, нам все по барабану. (Надо сделать так, чтобы Джулио всегда был в хорошем настроении!)
Джулио — тоже гений, но несколько иного рода. Он называет нас Неутомимые, но такой уж он человек. Говорит, вычитал это в какой-то книжке, причем скромно так говорит, абсолютно не рисуясь, и в этом он весь. Мне никак не удается раскусить его. Сначала я думал, что им движет любовь. И к кому же, если не к Анжеле Такс? Но она уехала в самом начале, а Джулио остался. Говорит, что мы даем ему цель в жизни, что он любит Бревант. А еще — что мы тоже любим Бревант, а уж он — точно. Я, безусловно, должен дать ему цель в жизни, так как, боюсь, не выживу без всего, что он для нас делает.
Неутомимые, а точнее, члены кондоминиума Бревант-билдинг, группа, как мы сами себя называем, были бы рады-радешеньки (причем без всякой иронии!), если бы смогли раздобыть побольше грунта. И вот Джордж Максвелл, предпочитая словам дела, отправился за землей. Вчера он дошел до Пятьдесят первой улицы в надежде найти земляного мальчика с настоящим грунтом.
Джордж сказал, он был так расстроен, что забыл об опасности. А я считаю, он был так расстроен, что не думал об опасности. Лично я в жизни не бегал в поисках земляного мальчика. Боялся, что меня убьют за мои семена. Хотя Джордж — уже большой парень, когда-то играл за Йельский университет (который, поговаривают, все еще где-то неподалеку, и вот там-то все умники и собрались). Джордж — один из тех парней, чьи мускулы с годами только крепчают, так же как и упрямство. У нас здесь, в нашем маленьком сообществе, таких — целая коллекция, конечно не столь смелых, как Джордж, и не столь полезных, как Джулио. Но, как мы любим говорить, каждому есть что предложить. Когда-то дом был битком набит совершенно бесполезными личностями: истериками, унылыми кататониками и теми, кто жил одними воспоминаниями, — однако все они уже умерли или куда-то подевались. Я считаю, что мне крупно повезло стать частью нашей группы, и я горжусь этим.
От Джулио, старшего по Бреванту, мы узнаем последние слухи. Именно он велел нам построить укрепления, хотя под конец только он да Джордж Максвелл продолжали загонять во внешнюю стену битое стекло, картинные рамы с острыми углами и стальные мебельные каркасы: один втыкал все это добро в стену, а другой охранял втыкавшего, имея под рукой скудный арсенал заостренных стальных предметов. Что касается стали, то мы сами не ожидали найти такое количество кресел дизайна Миса ван дер Роэ в нашем доме. Лично я приобрел свои по смехотворной цене в одном местечке в Трентоне, хотя, когда их доставили в мою квартиру (пришлось приобрести целых три, чтобы оправдать доставку), понял, что свалял дурака. Я даже был рад пожертвовать этими креслами. Казалось, им не слишком нравилось, когда я на них садился, и они явно торжествовали, когда я оставлял их в покое. До разработки защитного проекта у меня не было возможности расстаться с ними, но перспектива разломать их на безобразные куски оказалась такой заманчивой, что день, когда я на это решился, стал лучшим днем за все это время.
Итак, несколько отступлений от темы. Теперь о Стене, о которой вы, наверное, хотите узнать. Стена возникла — сам точно не помню когда. Наверное, в первые годы этой эры. Решение о строительстве было лишь отчасти обусловлено ормами, но именно ормы, согласно официальным заявлениям, стали основной мотивировкой проекта Стены. Откуда взялись ормы, мы никогда не узнаем. Тогда еще обвиняли норвежские торговые суда в том, что они вместе с балластом сбросили преснячков, как называют мальков ормов, в Майами и Нью-Йорке. Норвежцы, конечно, отпирались, говоря, что это вовсе не ормы и что их ормы — существа мифические (хотя многие норвежцы и это оспаривали). Но мэры и сам президент в своих заявлениях упомянули именно ормов, а потому с тех пор мы так и стали их называть. Однако в любом случае уже не столь важно, как их там называют, как они к нам попали и как далеко продвинулись вглубь страны. Поговаривают, что они уже давным-давно достигли и Великих озер, и Миссисипи, а еще, что они, передвигаясь по суше, могут довольно долго обходиться без воды. Мы строили самые разные догадки, но, как правильно заметил Джордж, зачем? Из жителей всей страны мы, пожалуй, находимся в наиболее выгодном положении с точки зрения безопасности: мы первыми построили защитные сооружения и, насколько нам известно, располагаем самыми организованными (более того, механизированными) силами защиты, а кроме того, у нас (как мы слышали) все еще имеются рабочие, обслуживающие Стену, и люди в синем.
Итак, Стена. Первое место для строительства было самым сложным: Нью-Йоркская бухта. Стена охватывала все новые районы Нью-Йорка, а затем окружила и некогда респектабельные пригороды. Величайшее достижение человечества — ее было хорошо видно даже из космоса. Строительство получило широкую общественную поддержку и стало как предметом гордости за свою страну, так и объектом величайших чаяний. Я хорошо помню это чувство.
К тому же флотские прощупали море сонаром по самое не балуй: бухту как внутри Стены, так и за ее пределами на три мили. Затем армейские пропустили по наземной части Стены ток. Примерно с год мы спали спокойно.
А потом первый орм был обнаружен внутри. Помню заголовки в старой доброй «Нью-Йорк таймс»: «Люди в синем проигрывают схватку с ормом. Мэр клянется умножить усилия». Так вот, одиннадцатифутовый орм пролез сквозь фановую трубу в уборной во Флашинге.[9] (Да-да-да, именно во Флашинге, хотя не понимаю почему, а может, и не во Флашинге, но они так сказали, видимо просто для смеха, и будем смотреть правде в глаза. Типа во Флашинге — ха-ха-ха! — уже по определению должно течь, как из носа в ноябре.) К тому времени как орм был зарезан куском оконного стекла и пригвожден к стульчаку (хозяйкой дома, штангисткой, насколько я помню, хотя не знаю, может, это такая же утка, как и Флашинг), он уже успел (вероятно) вгрызться прямо во внутренности высокого и мускулистого строителя-отделочника (хотя он мог быть и хилым бухгалтером). Но чьи бы там ни были внутренности, их обнаружили в орме уже после смерти последнего (тогда ормов еще никто не ел). Но факт остается фактом: орм убил человека в безопасной зоне. Была проведена кампания по массовому уничтожению преснячков, а также всего, что могло попасть в канализацию на огороженной территории. Подземку наглухо запечатали, а вентканалы закрыли цементными пробками.
Освещение предпринятых мер в средствах массовой информации было максимальным, а вот результатов — минимальным. А потом массмедиа вообще замолчали, словно решили, что публике от этих сведений толку что от козла молока. Ормы еще какое-то время появлялись, а затем, насколько нам стало известно, поумирали один за другим. Джулио говорит, что вовсе они не поумирали, и вот почему мы и еще куча народу теперь отключены от канализации и вообще от всех муниципальных систем (если, конечно, те остались).
В одном аспекте мы можем чувствовать себя в полной безопасности. Теперь ни люди, ни ормы не смогут ни перелезть через наши стены, ни просочиться через наши двойные двери (защита разработана нашим гением).
«Не теряй бдительности!» — наш девиз, когда нам все же приходилось покидать Бревант. А покидать Бревант, хотя бы на короткое время — согласно списку дежурств, — приходится всем. Над нами работает Джордж (помешанный на здоровье). «Вам нужен свежий воздух», — говорит он. Он, конечно, не добавляет: «Вам надо вырабатывать характер, а то у вас кишка тонка», хотя мог бы. У Джорджа кишка вполне мускулистая и отнюдь не тонкая, и это дает ему смелость укреплять наше здание. Всем нам приходится иметь дело с дилерами. А это тяжкое бремя. И иногда один из нас не возвращается. Мы всегда дружно оплакиваем потерю члена нашей группы, а еще больше — потерю того, чем мы должны были расплатиться с дилером. Самая дорогая плата — это, конечно, семена. Дилеры на то и дилеры, чтобы думать в основном о том, как подзаправиться, а потому хотят мяса.
После семян самым ценным товаром для дальновидных людей является земля. Земляные мальчики вполне соответствуют своему определению: это мальчики, причем все в земле. Они стоят на втором месте по ловкости и быстроте в нашем городе. Только они знают, где можно найти землю. Люди в синем охотятся на земляных мальчиков и даже убивают их, поскольку те делают подкопы под Стеной, чтобы добыть землю. По крайней мере так говорят. Этого я не знаю, но точно знаю, что под одеждой мальчики проносят землю, и тебе надо спрятать эту землю уже под своей одеждой. Приспущенные штаны и рукава рубашки — самый удачный выход, причем у земляных мальчиков множество простых способов замаскировать свой груз. Если нас застукают с землей, то, конечно, не убьют, но обязательно зачислят в волонтеры. Я еще ни разу не видел ни одного волонтера. В обязанности Джулио входит уберечь нас от призыва, и Бревант пока не трогают. Я не в курсе, что там у нас еще есть интересного для людей в синем, помимо семян, но Джулио уж точно в курсе. Он часто просит нас отдавать ему старые электроприборы: электробритвы, удлинители, хлебопечки, — что мы охотно и делаем. Однажды нам, возможно, уже нечего будет отдавать, но пока резервы имеются. Почему люди в синем просто не берут, что им надо, — для меня загадка. Может, потому, что они на службе.
В последнее время я много думаю и о других вещах. Например, о воронках, о которых рассказывал Джулио. Каждая воронка, отверстая к небу, — это нерестилище, говорит он, а еще он говорит, что это всего лишь вопрос времени. Поскольку ормы адаптировались к электричеству, пропущенному по Стене, пришлось отсоединить провода и натыкать по всему периметру острые, как иглы дикобраза, пики. А это значит, что опасность возрастает с каждым новым дождем, так как тротуары становятся скользкими, а любая рытвина превращается в лужу. Орм, ты и вода… Как только орм почует твое присутствие, тело твое зашипит, словно картофель, брошенный в кипящее масло.
Воронки — ближайшая угроза нашего времени. Я никогда не видел воронки, а вот Джулио видел, они занимали целые кварталы на Гранд-Конкордс и тянулись полосой, такой широкой, что даже захватывали линию надземки над Джером-авеню. Парк Эдгара По, сказал Джулио, стал намного больше (и тут он засмеялся, так что даже мурашки побежали по спине), и тот маленький дом[10] исчез, сказал он, что не слишком-то хорошо, но зато без надземки перспектива гораздо лучше, сказал он. Как так могло получиться, что целая надземная линия метро исчезла вместе со всеми зданиями, недоумевали мы, когда он заявил, что в результате местность стала выглядеть гораздо лучше; тут он снова засмеялся и повторил: даже с воронками на том месте, где были приземистые кирпичные многоэтажки; окончательная распродажа у Александра окончательно закрылась, давился он от смеха, тыкая в нас пальцем и складываясь пополам, словно смотрел старую комедию. Это, конечно, было весьма грубо с его стороны — смеяться одному ему понятным шуткам. Но веселость его была настолько заразительной, что в результате мы тоже дружно рассмеялись. Уж кто-кто, а Джулио умел заставить забыть о тревогах и заботах. У него всегда был собственный взгляд на вещи. Чего мне здорово не хватало, поскольку после похода в Бронкс меня всю неделю мучили ночные кошмары, ведь именно там все стало разваливаться на куски.
Джордж видел пустые пространства в Квинсе, с дырами на месте фундаментов; и, как ни странно, то же видел и Фэй, который однажды забрел дальше других. Может, именно мечтательность завела его так далеко и именно удачливость вернула его домой.
Я, конечно, мог волноваться в часы бодрствования, но что хорошего мне это принесет? Может, это покажется позерством, ложным геройством с моей стороны, но сейчас меня волнует только один вопрос — и именно он не дает всей нашей группе спать по ночам, — и вопрос этот такой: знает ли кто-нибудь о нашем подсолнухе?
Вся наша группа праздновала тот день, когда взошло семечко подсолнуха — единственное из пяти драгоценных семян, раздобытых Джорджем во время последней (абсолютно незаконной) экспедиции за семенами. (Единственно законная сделка — пойти волонтером «за еду». Я эту еду и в рот не взял бы, по крайней мере если она такая, как о ней говорят, и я не собираюсь жертвовать собой ради Стены, так же как и все люди, у кого остался хоть какой-то выбор.) Возможно, это семена из ботанических садов, еще существовавших в первые дни Переходного периода. Джордж заверил нас, как в свою очередь заверили его, что этот подсолнух вырастет и даст действительно всхожие семена. Нам мало было картинок в книжках, собранных в Бреванте, нет, мы должны были своими глазами увидеть эти семена, чтобы в них поверить, а затем воочию убедиться, что они дают новые всходы. Все наши книги очень старые, купленные в свое время именно потому, что они были старыми, когда семена были просто семенами для воспроизводства, а книги с картинками — просто книгами для коллекционирования, а не для извлечения хоть какой-то информации, хоть крупицы полезной информации, необходимой для выживания.
Чтобы заплатить за семена подсолнуха, пришлось пожертвовать стареньким пуделем миссис Уилберфорс, и нам еще здорово повезло, что дилер совсем обезумел от голода, а иначе он взял бы пуделя да к тому же забрал бы обратно семена.
Орм. Вы думаете, у него должно быть какое-то кошмарное имя, но орм в нем не нуждается. Эта лошадиная голова… Грива, жесткая и спутанная… Раскрытая пасть размером с мусорный бак, с целым набором острых как бритва треугольных зубов… Глаза акулы, абсолютно безжалостные… Прожорливость и жадность до человеческой плоти… Жутко даже смотреть, как он движется. Как проворно перелезает через стенки, лезет по кирпичам, проносится по перекресткам, некогда забитым людьми, автобусами, машинами, гудящими желтыми такси. Так было в первые дни, когда в новостях появлялись их снимки. В реальной жизни я ни разу не видел орма.
Но вернемся к подсолнуху. От него зависит наше будущее — в нем наше богатство и наше спасение. Очень мало у кого есть вода, земля и электроэнергия, чтобы выращивать растения в помещении, а еще правильная общественная организация, чтобы сохранить свое достояние. А вот у нас все это имеется, что делает нас потенциально очень богатыми. У продавцов семян котелок варит не слишком хорошо. Они думают только о настоящем. А настоящее для них — только мясо. Мы же хотим, чтобы у нас было будущее.
Мы не одиноки. Есть горстка избранных, которые думают так же, как мы. И некоторые из них стали дилерами, слава те господи. За эти семена подсолнуха нам пришлось отдать свое последнее мясо, раз уж среди нас не нашлось смельчаков поохотиться на орма. Даже у Джулио и Джорджа не хватило духа. «Пока», — говорит Джулио.
Наши огурцы снова не взошли. Снова бесплодные семена. А может, поддельные. Мицелий грибов опять не прижился. Какой ужасный удар (финансовый в том числе)! Никто из нас не занимается сбором урожая на тротуарах. Слишком большой риск при слишком малой отдаче. Крошечные побеги травы чересчур малы, чтобы их можно было собирать. Даже сорняки исчезли много лет назад. Не достигли стадии бутонизации. Что касается парков, они тоже давным-давно исчезли. Их признали опасными и полностью замостили. Мы вычитали, что можно есть кору, но все деревья сожгли еще в первую зиму.
У каждого из нас имеются свои обязанности. У старого мистера Весилиоса есть карликовая яблоня, так как ему разрешили ее оставить. Именно с нее все и началось. Он ее любит. Называет «моя женушка». Интересно, а что, по-вашему, может выращивать человек, носящий имя Лютера Трит? Между прочим, это имя удивительно подходит к ее внешности. Я было решил, что сливу, но на самом деле оказалось — турецкий горох и еще то, что она называет черным козлобородником. Спрашивается, откуда она взяла этот горох, причем плодоносящий, не говоря уж о козлобороднике? Она выращивала их в наружном ящике для растений еще тогда, когда у нас на окнах были ящики для растений. Она говорит, что в молодости привезла семена турецкого гороха из поездки в Египет и решила оставить их на счастье. Утверждает, что на счастье, а я точно знаю: тут дело в романтике. Уверяет, что посадила их, так как ей надоели все остальные цветы, но если это правда, то я пасхальный кролик из прошлых времен.
Горох этот очень питательный, а еще очень красивый, и она сразу краснеет, когда кто-нибудь спрашивает о его происхождении. Хотя мне грех жаловаться на Лют. Кстати, она заявляет, что терпеть не может, когда ее так называют, но мы зовем ее именно так, поскольку Джордж говорит, что в глубине души ей даже нравится. Но я не сомневаюсь, что она ненавидит свое имя, более того — хотела бы, чтобы ее звали Дженевьева или Хелена, и вообще хотела бы быть красавицей, чтобы ее внешность отражала ее внутреннюю сущность, которая действительно прекрасна. И я не отказался бы от своих слов, даже если бы среди нас остались по-настоящему красивые женщины, потому что это правда. Хотя манере поведения Лютеры вполне подходит имя Лют. При такой внешности ей не пристало демонстрировать романтические порывы, и этим объясняется ее смущение по поводу гороха (и необычных резных ящиков для растений). И как когда-то сказал Джулио, ей не было особой нужды лично интересоваться съедобными культурами, даже если бы она занималась финансированием неправительственной организации по обеспечению продовольствием.
Что касается остальных, то мы приучили себя пить эспрессо из герани (точь-в-точь нафталиновый шарик, и не более того, и уж вовсе не кофе) и есть «фиолетовые подушки»[11], садовую гвоздику со вкусом пряностей, отвратительно сладкие фиалки, ноготки, от которых пучит живот, тюльпаны, на вид похожие на леденцы, а на вкус — почти на настоящую еду, вот разве что почти — это и отличает все растения, выращенные в ящике для цветов в Бреванте. Ведь как однажды заметила Лютера: так увлекательно питаться декоративными растениями! И я почему-то сразу же вспомнил времена благотворительных обедов, когда от каждого блюда несло чем-то вроде брошенных туда увядших букетиков с корсажа. Именно тогда Лютера «в знак протеста» выкинула все свои тюльпаны и лобелии и засадила ящики для цветов козлобородником и пресловутым турецким горохом. Ее протест принес нам даже больше пользы, чем усилия остального личного состава группы, так как благодаря ему у нас осталось хоть какое-то мясо на костях. Козлобородник нам особо пришелся по вкусу, хотя наши любители прогулок на яхтах сетовали на то, что слишком уж он напоминает устрицы: «устрицы, запеченные на костре, когда сок течет по просоленным рукам, а еще много пива и солнца». Но любители эти, слава те господи, всем гуртом ушли. И кислые дары Лют нам нравятся гораздо больше, чем ежедневные воспоминания яхтсменов.
Теперь у нас есть и другие растения. Нам так и не удалось получить картофель, способный дать клубни. Мы, конечно, очень старались, даже разорились на грунт, заплатив сумасшедшие деньги. Нам не повезло и с так называемыми натуральными зернами пшеницы, бурого риса, чечевицы и с другими запасами продуктов для здорового питания из наших кладовок, которые были пожертвованы для пополнения семенного фонда. Мы мужественно опробовали на себе другие декоративные культуры и, представьте себе, остались в живых, за исключением Кейт из квартиры 4С, которая, не желая делиться, поспешила сожрать все в одиночку.
А вот что касается щедрости, то тут приз, если бы таковой у нас имелся, точно достался бы Фэю Клэксону, трясущемуся дряхлому рокеру с землистым цветом лица. На самом деле звали его Джон Смит, правда-правда, без шуток, как он сообщил нам в день, когда списочный состав нашей группы уменьшился до восьми человек.
В конце первого собрания нашей группы (двадцать пять присутствующих) он сказал нам, мол, подождите, пожалуйста, что было непривычно вежливо для него. Мы были настолько потрясены, что именно так и сделали. Очень скоро он вернулся, сгибаясь под тяжестью куста в горшке. Теперь листья с этого куста общипываются только по особым случаям (причем только единичные): когда кто-то покидает здание или когда мы сидим спина к спине в сухом подвале, прислушиваясь к тем звукам. Мы попытались размножить куст черенкованием, но тщетно. Наши попытки вырастить его из семян тоже провалились. По моему мнению, это самое ценное достояние нашей группы, хотя продуктовые запасы Фэя, некогда представлявшие еще большую ценность, теперь практически исчерпаны.
Похоже, каждый из нас по-своему любил делать удачные покупки. Муры со второго этажа собирали фарфор династии Мин, и предметом их наибольшей радости было то, сколько они заплатили за каждую вещь. Причем не как много, а как мало! Не слишком типично для мира искусства, но в то время мистер Мур занимался бизнесом с левыми брендами. Корделл Уэйнер собирал обувь. Мистер Весилиос — оливковое масло. В комнате для вин он хранил оливковое масло, а вино терпеть не мог. Что до меня, то я собирал консервированные продукты. Поскольку гостей я отродясь не принимал, то места у меня было предостаточно. Причем закупался я с умом. Из-за сложностей с доставкой я зараз забивал свободную комнату и ванную. Почуяв первые признаки наступления новой эры, я решил, что нечего столовой зазря пропадать, и заполнил ее консервами. На редкость успокаивающее зрелище — все мои баночки. Столовая снова была забита совсем как во времена моего детства, когда дом был полон смеха и гостей, которых приглашали родители.
Свою последнюю банку я получил от нашей группы уже год назад, но приятно было думать, что благодаря умелому управлению все же удалось растянуть на подольше запас консервов (причем благодаря моему умелому управлению, поскольку с самого начала именно я отвечал за продовольственные запасы).
Хотя Фэй справлялся даже успешнее, чем я. Он вдруг стал патологически стеснительным. Если бы я выглядел, как Фэй, то тоже стал бы стеснительным, а выглядел он не лучшим образом, тут уж ни убавить ни прибавить. Он постоянно тревожился о своем здоровье. Он годами сидел на бесслизистой диете доктора Эрета, что явно не пошло ему на пользу. Его беспокоила толстая кишка. Кристаллотерапия не помогала. Он переживал по поводу грибка. А поскольку Фэй больше не доверял практикующим врачам, то разработал собственный режим: запасся всем необходимым и планировал уже больше никогда не покидать здания. Он закупил английский сухой заварной крем-концентрат «с натуральной ванилью и крахмалом». Ко времени первого собрания членов нашего кондоминиума он уже шесть месяцев сидел на этой натуральной пище, которую разводил водой. Его квартира будет побольше моей, так как состоит из двух, специально объединенных для его буйных развлечений. И одну он полностью забил припасами. Заварной крем кончился в прошлом месяце.
Мы относительно здоровы, хотя ни у кого нет лишнего жира и у любого из нас можно легко пересчитать ребра и позвонки, которые с каждым днем выступают все отчетливее. У нас еще достаточно разнообразный рацион питания, однако его необходимо срочно улучшить, поскольку пока ждать чудес не приходится. Все, кроме Фэя, испытывают настоятельную потребность в мясе. Мы не обсуждаем, что едят люди за пределами Бреванта, хотя знаем, что крысиным мясом торгуют практически легально. Но я никогда не смогу взять в рот крысятину! Орм, по крайней мере, все же рыба.
Сейчас наше самое ценное достояние — это подсолнух. Он наше будущее, если уж лучшее будущее нам не светит.
Но знаете, мы ведь действительно думаем о лучшем будущем. Не для наших детей. Бревант не предназначен для детей. Но тогда почему? Для чего? Прошлым вечером мистер Весилиос порадовал нас удивительным рассказом о том, сколько оттенков он насчитал у цветов своей яблони, и после разговора этого я увидел сон, от которого не хочется пробуждаться.
Сейчас снова рассвет, когда большинство из нас по привычке просыпается. Тот звук опять появляется. Надо срочно спускаться в убежище.
Подсолнух. Подсолнух, хотя это всего лишь росток, дышит, выделяя кислород, или что там выделяют растения. Вдох-выдох. Совсем как мы, но подсолнух спокойно дышит весь день и спит всю ночь, покоясь в драгоценной земле. И все его так любят. Должны любить.
Этот Звук. И оттого, что он такой приглушенный, становится еще страшнее. Я всегда стараюсь с грохотом скатываться вниз по ступеням. Я пытаюсь произвести как можно больше шума, чтобы заглушить этот Звук. Но сегодня я почему-то прислушиваюсь, стараясь не двигаться.
Один из листьев Фэя. Вы способны представить, каково это — жевать лист? Комок листьев? Горькая слюна и капля масла, которое Фэй с Джулио выбрали в качестве странного дополнения к листу. И сразу же в мою кровь, в мое сердце, в мои мысли словно бы просачивается ощущение счастья и легкости бытия. Это продолжается совсем недолго, но в такие минуты даже подсолнух вдруг становится для тебя не столь важным. Я прислушиваюсь и представляю себя Джорджем Максвеллом. Или Джулио. Нет, даже не таким, как они, потому что они тоже бегут в убежище. Я представляю себя кем-то из старого доброго времени — сильным, смелым, героическим. Как будто вернулись те люди в синем, когда они были настоящими людьми в синем.
Звук становится сильнее, но думаю, он все еще где-то далеко. Шум обрушения и оползня? Я уверен, что если бы кто-нибудь оказался внизу, то только чувствовал бы все это, но не слышал, поскольку барабанные перепонки непременно лопнули бы. Я иду. Я иду. Зря я так долго лежал в кровати. Двигаться все труднее и труднее. Обычно я бегом бегу, но сейчас самое большее, на что я способен, — выпрямиться и ползти, держась за стены. Пристыженный, я заставляю себя идти спокойно, но это всего лишь бессмысленный компромисс.
Сквозь крошечное отверстие в забаррикадированном окне в вестибюле просачивается рассветный луч, розовый, как бутон. Когда же я в последний раз видел свет? Это было так давно. Во времена роз, когда я просыпался под воркование голубей за окном. А потом костюм для бега — и в парк. Один круг — и отдых в саду, где роса лежала на лепестках роз.
А теперь эти розы на небе делали еще более невыносимой необходимость забираться, как крот, под землю при наступлении дня. Живот крутит. Разве не забавно было бы, как в старое доброе время, рассказать почему? Доктор…
И в чем решение моих проблем? Комочки спрессованных порошков.
Острый луч розового света пронизывает радужную оболочку моего правого глаза. Сейчас мне следовало бы стать кротом, съежившимся в убежище вместе с остальными. Глаза нам без надобности, когда мы пересиживаем там привычный дневной ужас.
Может, все дело в животе, а может, в цвете розы.
Я вжимаю голову в плечи и быстро произвожу все действия, необходимые, чтобы открыть заднюю дверь. Ее скрип-скрип за моей спиной так много мне говорит. Я не слышу скрипа, но чувствую его всем телом. Чувствовал.
Рассвет — точно мертвый.
Звук, заглушивший стук двери, живой. Настолько живой, что, как мышь, бежит по моим зубам. Некуда идти. Открыв дверь, я сбросил свою кротовую шкурку, а потому делаю то, о чем давно мечтал, — ступаю на тротуар. Теперь пора поднять голову… И это так здорово!
Обвожу глазами линию горизонта, пытаясь отыскать источник Звука. Сейчас Звук такой громкий, что заполняет меня целиком или хотел бы заполнить. Он такой громкий, и я даже не могу разобрать, что же на самом деле слышу — Звук или всего лишь эхо.
Небо теперь цвета мокрого асфальта с кровавыми мазками. Я вглядываюсь, но ничего не вижу сквозь дымку.
Выглянуть наружу… Посмотреть вверх…
Что-то такое.
Два тонких троса (?), хотя каждый может оказаться и толщиной с дом. Не могу определить расстояние.
Они падают параллельно откуда-то из бесконечности рваного горизонта.
Скрип и треск. Где-то далеко. Резкие. Я пытаюсь понять, в чем дело, но теперь остался один только Звук, так как тросы снова исчезают в сером шерстяном небе.
Я не слышал о планах установить что-то над городом, но, как я вам уже говорил, с умниками я не знаком. Там, наверху, должно быть, гораздо безопаснее. Может, они просто не хотят, чтобы мы вмешивались, а потому производят весь этот шум. Что они делают? А вдруг это зачистка, о которой они говорили. А вдруг они все-таки решили воспользоваться случаем!
Насколько я могу видеть, даже встав на цыпочки, я единственный, кто наблюдает за происходящим. Со мной в жизни никогда такого не было.
Это лучшее, что со мной когда-либо случалось. Уоллес Эвиан Стюарт Четвертый. Маленький Уолли. Я не маленький. Просто у Четвертых судьба такая. Мой великий прадед, наверное, выбросил бы все свои деньги в сортир или потратил бы на шлюх либо лошадей, если бы знал, что их промотает мой отец, но я не хочу быть паршивой овцой. В моих предках что-то такое было. Они жили полной жизнью, а не только заключали контракты и делали деньги. Когда родители были еще живы, я слышал, как люди за моей спиной называли меня славным.
Мне необходимо сосредоточиться на том, что происходит. Они давным-давно обещали нам что-нибудь сделать, правда не уточнив, что именно, но потом они больше не утруждали себя сообщениями, поскольку мы только и умели, что жаловаться.
Ну да, действительно жаловались.
Звук сотрясает воздух. Дрожь идет прямо от земли. Теперь я чувствую ее всем телом, словно дантист делает мне в нёбо укол. Звук проходит через меня, входит через подошвы ног и пронзает до верхнего нёба, до корней волос. Я ничего не вижу, черт побери!
Удушливое облако поднимается вверх, а потом рассеивается, и выходит солнце, словно никогда нас и не покидало, и светит так, как светило когда-то. Небо между тросами опять, как в старые добрые времена, невинного голубого цвета — цвета незабудок, а серые тучи — это не дождевые облака, нет, это рукотворные облака, поскольку поднимаются над тем местом, где тросы исчезают за горизонтом. У меня словно ноги прилипли к земле, и уходить я не собирался.
Тросы (или цепи?) были даже больше, чем сперва показались, а оглушительный треск все ближе, а я все стоял столбом, закусив щеку, пока не почувствовал металлический вкус. Вкус собственной крови. Но я думал о ней как-то отстраненно, просто констатируя факт.
Еще одно облако дыма — и снова оглушительный грохот, даже сильнее, чем раньше, и гораздо ближе. Окровавленная щека начинает ныть.
Я вижу концы тросов. Они прикреплены к чему-то вроде огромной раскрытой сети.
Они тянут сеть вверх… Из нее выпирают градирни, куски автострады, дома, сквозь дыры лезут острые шпили. Ванты мостов свисают, словно спагетти с вилки во времена моего детства. И чем выше поднимается сеть, тем лучше мне видно ее содержимое. Вот, например, скульптурное изображение Земли — огромный шар. И гигантские расколотые блоки — Стена!
Куски с треском разлетаются во все стороны. Но потом грохот стихает.
Интересно, сколько ормов они сумели поймать этой сетью?
Сейчас вокруг меня полная тишина. Скорее, пронзительные отзвуки тишины, сопровождающей подъем нагруженной сети. Мне кажется, что ее раздувшееся дно больше, чем стадион «Янки». В несколько раз больше. Длинная, длинная сеть возносится прямо навстречу сияющему солнцу. Его лучи слепят глаза, и я не вижу, куда поднимают сеть. И сейчас, несмотря на окружающую меня голубизну, капли дождя падают мне на лицо. Кажется, такой дождь еще называют грибным. Солнце и дождь. В любом случае дождь скоро пройдет. А потому я, втянув голову в плечи, поворачиваю к дому.
Я и думать забыл об орме. Я даже не знаю, как долго это все продолжалось.
Оно было совсем близко. Я это твердо знаю. Я видел.
Я расскажу обо всем и, уверен, ни разу не запнусь. Уоллес — не самое хорошее имя, но все лучше, чем малыш Уолли. Может, я даже сменю имя. На моем месте мог быть кто угодно. Ходили какие-то слухи, но никто им не верил. Уж я-то точно, а Джулио просто смеялся над ними. Джордж говорил, что это не имеет значения. Он просто сказал: «Выйди на улицу. Глотни воздуху».
Набираться мужества? Может, Джордж и знал, как это делается, но у него самого кишка была тонка, когда он оказывался перед выбором: превращаться в крота каждое утро или все же сбросить постыдную животную личину и сделать шаг, достойный настоящего мужчины, заставить себя стать храбрецом.
Ну по крайней мере, Стены уже нет. Что очень хорошо: ведь мы ждали этого прорыва, но были слишком трусливы, чтобы признаться.
В любом случае я расскажу о том, что видел. Я, который не побоялся рискнуть.
И что теперь делать, когда источник Звука определен? Я мог бы дать хороший совет: пока мы будем сидеть под землей, зачистка нам не страшна.
Может, мне завернуться в разрисованный холст и вооружиться копьем? Или мы уже израсходовали все кресла?
А каков орм на вкус?
И что подумает Лютера, если я принесу одного домой? Когда я принесу одного домой. Надеюсь, они не успеют все подчистить, прежде чем я его поймаю.
И тем не менее я снова пойду туда. Может, слегка неуверенно, как и положено малышу Уолли. Уверен, будет здорово стать героем нашей группы. Ведь на протяжении всей истории человечества мужчина, достойный своего меча, мыслит шире, чем какая-нибудь Лютера.
БАРТ АНДЕРСОН
Последний побег
Пер. О. Александрова
Вот что должно было произойти: Скарабея закуют в наручники и посадят в сейф с тремя замками, и сейф этот будет помещен в упаковочную клеть, и клеть эта будет поднята лебедкой на главном портовом пирсе, и на лебедку эту наложат три заклятия, предоставленные Истинным Братством.
Он, конечно, способен выбраться откуда угодно, но вряд ли сумеет бежать отсюда. Разве не так?
Мы неделями спорили о том, сможет ли Скарабей это сделать. Некоторые — предсказатели судьбы в доках — считали, что очень даже сможет, и весьма на это надеялись, но они ведь ненавидели Истинное Братство.
Остальные же из нас были настроены не так нелояльно. Истинное Братство опутало наш город и гавань магическим туманом. Оно защищало нас от всяческой заразы, насылаемой с архипелага, от кровожадных бандитов, обитающих в глубине страны, и от всевозможных бунтовщиков. А тут какой-то Скарабей — болтливый чужеземец в дурацком костюме жука, с красным кушаком. Да что там говорить, Истинное Братство сделает его, как ребенка.
Хотя, конечно, трудно было сказать наверняка, чье волшебство победит, поскольку мы сами толком не знали, кто или что такое Скарабей. Может, каталонский мистик? Микронезийский знахарь? Розенкрейцер? Этот циркач-иллюзионист появился где-то три месяца назад, примерно тогда, когда неподалеку от гавани бросил якорь чумной корабль. Появился и начал обрабатывать толпы на причале, присоединившись к факирам, пожирающим огонь, жонглерам и исполнителям пантомимы «Перикл в Делавэре». Правда, в случае Скарабея имелась некоторая проблема перевода, с самого начала бросавшая на него тень. Его табличка с надписями от руки гласила:
«Он не повинуется узам, подобно жуку!»
«Вы будете непредсказанными!»
«Почему бы вам немедленно не опробовать его желание?»
Первая аудитория Скарабея состояла из проходивших мимо портовых работяг, которых скорее заинтересовала странная табличка, нежели банальное сбрасывание уз.
Однако Скарабей довольно быстро завоевал репутацию человека, способного высвободиться из любого захвата. Встав в позу борца, он кричал проходившим мимо извозчикам: «Идите сюда и попробуйте меня удержать! Эй, вы там! Попробуйте меня удержать!» Когда он их окончательно достал, они побились об заклад, что на счет двадцать сделают его.
Именно в тот первый день стало ясно, что Скарабей действительно не шутит: такой махонький, а двум мужикам с ним не справиться. Пятерым? Бесполезно. Скарабей лежал себе распростертый на земле, красная шапочка съехала набок, а десять-одиннадцать здоровенных мордоворотов, раздевшиеся до нательных комбинезонов, держали его мертвой хваткой. Так, что только треск стоял. Окружавшие их причальные крысы, как обычно, делали свои ставки, а затем из-под всей этой груды увесистых ягодиц и необъятных ляжек выбирался Скарабей — целый и невредимый.
Несчастные пьянчуги с кривой ухмылкой отдавали свои денежки, но в душе ненавидели Скарабея и все как один жаждали мщения.
Итак, цеховые старосты корабелов и механиков сошли на причал по деревянным мосткам, и Скарабей в один прекрасный потный полдень обчистил все цеха. Обчистил руководство, обчистил и цех кузнецов, которые изготовили особый наряд: спаянные между собой железные рукавицы и латы в форме туловища гигантского жука, а потом поместили туда Скарабея и всю конструкцию крепко-накрепко завинтили болтами. Мы толпами стали сбегаться, запрудив причал, чтобы воочию увидеть необыкновенное зрелище. Хотя, конечно, наша аристократия, обитающая на Китовой горе, не пожелала спуститься по лакированной деревянной лестнице, соединяющей их владения с доками. Авантюрные дамочки с костюмированной свитой да маги Истинного Братства в напудренных париках стояли на нижней площадке, демонстрируя величайшее страдание, словно присутствовали при повешении, а не смотрели, как человек пытается выбраться из железного костюма жука.
С тем костюмом Скарабею, конечно, пришлось повозиться, и после нескольких минут, показавшихся нам вечностью, железный жук был с трудом вскрыт, и все присутствующие убедились, что иллюзионист исчез. В панцире никого не было, и мы стояли, ошалело уставившись на пустые створки. И тут кто-то захлопал в толпе. В полной тишине хлопки эти прозвучали как-то издевательски, мы повернулись, чтобы посмотреть, кто бы это мог быть, и увидели Скарабея в разорванном костюме и с окровавленным лицом.
Вот тогда-то мы и поняли, что ему это с рук не сойдет, и просто умирали от желания узнать, как будут разворачиваться события.
В результате Скарабей даже внес вклад в местный лексикон, ибо после каждого освобождения он хлопал в ладоши и восклицал со своим немыслимым акцентом: «Нет-нет! Я неисправим!» Это тут же пошло в народ. И теперь всякий раз, сделав что-нибудь эдакое (например, выиграв три кона подряд в картишки у своего босса), любой из нас поворачивался к друзьям, хлопал в ладоши и говорил: «Я неисправим!»
Примерно в то же самое время в нашу бухту зашло судно под черным флагом.
Весь порт замер в тревожном ожидании, продавцы палтуса подняли весла, да так и застыли, удивившись столь печальному повороту событий.
На привычном месте Скарабея можно было увидеть странную живую картину: молотки замерли в воздухе над наспех закрытой крышкой гроба, гвозди зажаты в перекошенных ртах. Группа из семи человек уже практически успела поймать Скарабея в капкан, когда увидела черный флаг. Да, не повезло так не повезло. И пока они стояли, отвернувшись, неведомая сила встряхнула гроб, кто-то откинул крышку, и все увидели Скарабея в костюме жука, с красной накидкой, который во все глаза смотрел на чумной корабль.
Когда прибывает чумной корабль, то смотреть особо не на что. Различная зараза распространялась с новых островов в Атлантике, а еще из всяких удаленных уголков. Обезображенные жертвы кормили Истинное Братство явными небылицами о чуме, которую моряки торгового флота привозили с бракованным такелажем, — болезни, которая превращает ноги в раздвоенные копыта, а людские голоса — в блеяние. Обычно при появлении чумного корабля администрация порта подавала сигнал, чтобы команда бросила якорь и, не входя в гавань, встала на карантин подальше от судоходных путей, там, где дно океана круто уходит вниз. Затем Истинное Братство подплывало к кораблю, чтобы поговорить с командой и спасти тех, кого могло. Через день судно должно было быть потоплено орудийным огнем.
Итак, пока один из членов Братства стоял на носу двадцатифутового ялика администрации порта, по правому борту от чумного корабля, Скарабей, так и не вылезший из своего гроба, начал что-то кричать на родном языке. Скарабей был явно возмущен, почти на грани паники, но затем потихоньку успокоился, посмотрел на мужчин, над которыми только что взял верх, потом — на стоявших рядом зевак, словно хотел найти хоть одно понимающее или знакомое лицо.
— Вы что, полоумные комедианты, верите в это колдовство? Чем же вас действительно можно напугать, дремучие вы люди?! — кричал он что было мочи. — Вы хоть знаете, что это за судно?
Когда и мы ему не ответили, он весь напрягся, что-то сердито пробормотал себе под нос, отшвырнул ногой гвозди от гроба и, размахивая полами красной накидки, побрел к таверне «Сирена».
Никто из нас не мог понять, с чего это он так разозлился. Те, кто стоял достаточно близко, говорили, будто он глаз не сводил с мирового судьи на носу ялика, но никто не мог объяснить его реакцию или что значит выражение «полоумные комедианты».
Тут портной, шивший спецовки, решил не упускать удобный момент, хлопнул в ладоши и заорал: «Вы неисправимы!» — чем вызвал дружный смех облегчения.
Но потом все пошло по-другому. Тон Скарабея изменился прямо на следующий день. Он продолжал вызывать купцов, представителей цехов и отдельных желающих схватить его, но на табличке теперь было написано: «Никакое полоумное колдовство не может его удержать!»
Мы каждый день ходили через порт на базар или в церковь и видели вдали чумной корабль с черным флагом, трепещущим на фоне стены вездесущего наколдованного тумана. Но ни одного выжившего на берег почему-то не доставили. Никаких спешащих на помощь санитарных лодок тоже не наблюдалось. Не было и военной галеры, чтобы потопить корабль пушечными ядрами. Нам страсть как хотелось знать, что же будет дальше.
Через два дня после появления чумного судна табличка Скарабея снова изменилась… Слово «колдовство» было перечеркнуто, а сверху написано: «Истинное Братство».
Мог ли Скарабей избежать действия магических заклинаний Братства? Наши сомнения были так восхитительны, что мы прямо-таки смаковали их, заедая лепешками на цеховых кухнях и запивая пенистым пивом.
Когда на профессиональном языке порта термин «колдовство» стал синонимом Братства, тогда уж и Истинное Братство попалось на удочку и договорилось со Скарабеем насчет ставок. Предсказатели судьбы, взмахивая серебряными палочками, кудахтали: «Видите? Истинное Колдовство хочет публично его опозорить. Он для них угроза».
Несколько чиновников встретились со Скарабеем на его обычном месте возле доков и попытались обездвижить его с помощью наручников и ножных пут Братства. Зимние ветры уже стали кусачими, но событие собрало целую толпу, которая наблюдала за тем, как чиновники, заковав иностранца, стояли столбом, их напудренные парики слегка припорошило пылью, но не тронуло непогодой. Скарабея заковали, потом поместили в мешок из плотной парусины, и чиновники затянули свое: зря-зря-зря, и держи-меня-крепче, и вяжи-узлы, и ночь-ночь-ночь. Но Скарабей снял путы и заклинания со своего тела и пританцовывал перед зрителями, выпятив бочкообразную грудь.
«Я неисправим!» — дружно подали мы свою реплику.
Были еще состязания, и после каждой встречи Скарабея с чиновниками ставки удваивались, так что к тому времени, как было объявлено Большое шоу, когда Скарабея должны были подвесить в сейфе над гаванью, Истинное Колдовство уже поставило против иллюзиониста целое состояние.
Так кто же из наших двоих героев в конце концов одержит верх?
Как ни грустно, но две недели кряду температура все понижалась и злобные ветры с гор завывали над нами. Иностранные суда уплыли прочь, боясь попасть в ледяной плен, и состязание между Скарабеем и Истинным Колдовством было отложено. Это привело Скарабея в ярость, но вовсе не потому, что он жаждал выиграть пари. Он, скорее, казался чем-то напуганным, смущенным или сердитым, хотя трудно было понять почему, поскольку он и так уже заработал кучу денег.
— Они не смогут остановить эту заразу, — объяснял он нам в баре «Сирены». — Давайте стащим у них галеру, сами расстреляем из пушек чумной корабль и потопим его. Пошли! Кто со мной?
Кучка зубодеров соблазняла Скарабея сделать тур по архипелагу. Чумной корабль определенно уже не представляет угрозы, говорили они ему. Чума, что была на борту, определенно сожрала весь запас человеческих тел уже много недель назад.
— Я хочу вытащить вас из теплых постелей, поскольку, послушайте, у Истинного Братства уже не осталось магии! — кричал Скарабей. — Вы что, не видите тот черный флаг у вашей гавани?! Тот корабль! Вот где истинное колдовство, подлинная угроза! Но ваше Истинное Братство не в состоянии его остановить!
— Скарабей, здесь еще никогда ничего плохого не случалось, — отвечали зубодеры. — А вот сможешь ли ты завтра освободиться во время Большого шоу — действительно вопрос.
На что Скарабей лишь насмешливо расхохотался.
— О да, я смогу освободиться, — заявил он, стукнув пустым стаканом о стол. — Но, вне всякого сомнения, только я и смогу — единственный и неповторимый.
Возможно, Скарабей еще что-то там говорил, но посетителей бара он уже успел утомить, а потому никто ничего больше не запомнил.
Надо же, Скарабей стал утомлять, решили мы. Ну точь-в-точь как предсказатели судьбы с их нравоучительным негодованием в адрес Истинного Братства. Нет, нам он нравился гораздо больше, когда выскальзывал из стального туловища жука.
В тот вечер накануне перенесенного состязания, когда воды в нашей гавани словно закипели от ледяного зимнего воздуха, мальчик понес обед Скарабею в его комнату в таверне «Сирена».
Постучав несколько раз в дверь и не получив ответа, мальчик-слуга и дряхлый портье решились войти в комнату, и, согласно более достоверным официальным источникам, Скарабея там не оказалось, причем в помещении царил странный беспорядок. Костюм жука был разорван в клочья, хотя остальная одежда аккуратно висела на трубе парового отопления. В комнате опасно пахло способным в любой момент загореться маслом из разбитой лампы; на уцелевшем оконном стекле красовалась кровавая завитушка, а на каминной полке поблескивали два нетронутых стакана с коньяком. Дряхлый портье сообщил администрации порта, что в тот же день, но чуть раньше, Скарабей принимал посетителя — высокого человека, одетого, как знахарь с архипелага (в медвежий мех), — но больше ничего путного сообщить не смог, так как вовсе не обязан был знать местонахождение Скарабея.
Администрация порта тут же перекрыла все дороги в районе причала, а Истинное Братство объявило, что накладывает на нас два заклятия с тем, чтобы ни одна живая душа не могла ни приехать в город, ни уехать из него. На всех чиновников неожиданно была возложена миссия найти Скарабея ради его же блага.
Зима наглухо заморозила наши двери, а булыжные мостовые стали такими скользкими, что только тягловые лошади стражников цокали по льду. Было ли это волшебством? Была ли такая погода делом рук Истинного Братства? Или это была просто-напросто зима? Мы надеялись, что это все же не зима.
На следующее утро мы проснулись и обнаружили, что гавань наша полностью замерзла, льды взяли в плен и последнее оставшееся там судно — чумной корабль. Когда немного прояснилось, мы увидели безжалостное холодное небо и разбитое солнце. По заснеженным улицам не тарахтели повозки с товарами, а доки были укрыты плотным одеялом изо льда и морской соли. В ту ночь, когда пухлая луна залила гавань синим светом, небольшая группа портовых шкиперов выскользнула на пронзительный холод, чтобы распить вместе пару бутылок водки. Работа их в основном была летней: доставлять бочонки рома и свежей воды со складов на суда, пришвартованные в порту, а потому выпивать поздно, даже в такую холодную ночь, как эта, было для них делом привычным.
Один из шкиперов бросил взгляд в сторону чумного корабля, стоявшего в безжалостном лунном свете, и увидел какие-то фигуры на льду рядом с судном:
— Эй! Посмотрите-ка туда!
Шкиперы с удивлением наблюдали за тем, как с высокого фальшборта чумного корабля спрыгивали какие-то люди. Человек двадцать-тридцать.
— Что там задумали эти идиоты? Разве они не знают, что судно опасно?
— Я слыхал, что Истинное Братство давным-давно успело дезинфицировать судно, — отозвался кто-то.
Фигуры, словно исполняя какой-то ритуальный танец, потихоньку собирались небольшими группами. Потом они двинулись через замерзшую гавань в сторону порта.
Группа людей все приближалась, отбрасывая на бледно-голубой лед длинные чернильные тени, хорошо видные во время вспышек маяка.
— Наверное, это священники. Возвращаются после отпевания мертвых на чумном корабле, — сказал старший из шкиперов.
— А может, это корабельные плотники, которые обследовали корпус на предмет повреждений льдом?
— Интересно, выжил ли там хоть кто-нибудь после чумы?
— Это без всяких припасов?!
— Интересно, кто ж они такие?
Прошло еще много времени, прежде чем группа людей миновала скованные льдом бакены и поднялась на пирс. По мере приближения этих странных фигур становилось видно, что на них разномастная морская форма и длинные шинели различных иностранных флотов. Пустые бутылки со звоном покатились по обледеневшему пирсу. Шкиперы стояли, подняв руки вверх, точно готовились остановить наступление этой невероятной команды. Самого молодого тут же отправили в администрацию порта, чтобы доложить об увиденном, но когда он вошел в зал с дубовыми колоннами, на которых были вырезаны корабли и морские символы, то обнаружил, что там никого нет. Ни дежурного сержанта за высоким барьером. Ни офицеров, играющих в карты. Ни коек со спящими солдатами, ожидающими приказа «в ружье!».
Тогда молодой шкипер побежал в магистратуру Истинного Братства. Но и там никого не оказалось. Ни толстого управляющего, который выругал бы мальчишку за то, что ломится в дверь. Ни чиновников, толкущихся за грязными стеклами в зале Триады. Ни членов самого Братства. Нигде — ни одной живой души.
А в замерзшем порту моряки с чумного корабля построились в шеренгу — и разбежались. Рассыпались по всей территории порта, забирались по каменистым насыпям на маленькие пристани и, стуча каблуками сапог по обледеневшему настилу и булыжникам мостовой, растворились в тени наших магазинов и сараев.
Много дней мы следили за происходящим сквозь щелочки в крепко-накрепко запертых ставнях и ждали, чтобы кто-нибудь пришел и сказал, что опасность миновала и уже можно выходить. Сидеть в карантине было до одури скучно и одиноко, но страх сделал нас осторожными. Наши ноги, теперь копыта, нетерпеливо били о полы наших кухонь. Хвосты испуганно двигались из стороны в сторону. Мы пронзительно кричали враз огрубевшими голосами, напрасно пытаясь задать вопрос. Но в ту минуту даже больше, чем страх или сожаление, нас, конечно, мучило нездоровое любопытство: что же будет дальше?
КЭТРИН М. ВАЛЕНТЕ
Палимпсест
Пер. А. Гузман
Лавка гадалки: скрещенные перед входом пальмовые ветви. Внутри — четыре красных стула, перед ними — четыре плоские очистительные чаши, наполненные вихрением черных чернил. Неуклюже входит женщина, закутанная в драный лисий мех. Голова, обернутая множеством платков, у нее лягушачья, крапчато-зеленая и лупоглазая, розовый язык то и дело облизывает широкие губы. Отдельных клиентов она не видит. Итак, четверо незнакомцев рассаживаются по красным стульям, снимают носки, опускают ноги в чаши с чернилами и берутся за руки под невидящим взглядом земноводного. С этого всегда и начинается погружение в Палимпсест: Орланда поможет вам раздеться, рассадит по местам, примет в семью. Сложит вас четверых вместе, как лист формата ин-кварто. Нарисует каждому по карте — смотрите, вам выпал Разбитый Корабль вверх ногами, что символизирует извращение, долгий беспросветный путь, подагру, — и свяжет ваши руки вместе красной нитью. Куда бы вы ни пошли в Палимпсесте, вы прикованы к этим незнакомцам, которых случай занес к Орланде тогда же, когда и вас, и куда бы вы ни направились, какого бы каплуна или соню ни отведали, каким бы приторным портвейном ни запили, они почувствуют тот же вкус, и какую бы шлюху ни посетил любой из них, вы ощутите под собой ее же, и пока с ног ваших не смоются чернила — что, поскольку Орланда порождение болот и не чужда слякоти, произойдет не быстро, — воздух вы вдыхаете один на всех.
На другой стороне улицы — фабрика. Между ее тонкими зелеными шпилями вспыхивают в ночи длинные дуги белого пламени. Хозяйка здесь Казимира, как до того хозяйничал ее отец, а до того ее бабка, и так далее вплоть, возможно, до самого дальнего ее предка, чьи пальцы-хоботки так же манипулировали станками из палочек и костей. Какая-нибудь Казимира была здесь всегда, кроме тех случаев, когда здесь был какой-нибудь Казимир. Работники носят обед в раковинах моллюсков. Спецодежда у них необыкновенная: бело-зеленая чешуя, уложенная внахлест, непристойно льнущая к коже, поблескивающая во вспышках разрядов. К этому и сводится весь их наряд, каждый изгиб и каждая морщинка четко акцентированы. В ритме танца движутся они сквозь проходную, извиваясь, как змеи, под табельными часами, что веселым боем отмечают их приход и уход. Их па и пируэты подчинены музыке машин, третье веко их рыбьих глаз дремотно приспущено от удовольствия.
Что же выпускают на этой фабрике? Ну как что — паразитов Палимпсеста. Один станок штампует тараканов, закованных в блестящий панцирь зеленого хитина, с клеймом производителя, хитро спрятанным под левым крылом. Другой формует крыс, покрытых искрящимся жестким мехом. Третий отливает белок, четвертый — бурундуков, пятый — обычных мышей. Здесь есть сепаратор для пауков, литник для ящериц, а также древний тонкий механизм, выпускающий по очереди комаров и мух настолько совершенных, что кажется, будто сделаны они лишь из медной проволоки, сахарной ваты и света. Печатный пресс для граффити извергает искрометные буквы, багровые, черные, желтушные, а также фирменного казимирского зеленого цвета. Они вылетают из высоких окон и распластываются по стенам, эстакадам, железнодорожным вагонам.
Когда на фабрике, знаменуя окончание смены, трубит рог — длинный олений рог, доставшийся Казимире от дяди, единственного в роду, кто пренебрег традицией и стал простым охотником, чем вызвал шумное и затяжное негодование всего клана, — из служебного входа выплескивается волна живности: кроты и жуки, скворцы и летучие мыши, черви и муравьи, бабочки и богомолы. Каждый сверкает последним слоем уплотнителя, каждому крошечные, почти до невидимости, устройства, жужжа, нашептывают в рудиментарный мозг, что хозяйка любит их, что она думает о них денно и нощно, что она мечтает прижать их к своей груди.
В кабинете Казимира закрывает глаза и слушает шепот кишащих масс. Каждый вечер они рассказывают мамочке все, что узнали о мире живых.
Ее работа необходима городу. Ни одно другое семейство не получало от городских властей столько официальных благодарностей.
В первый раз я увидела это в ямке женского локтя. За столиком у грохочущего танцпола, в свете оранжевых и фиолетовых огней, она казалась леопардихой-декаденткой. Я спросила ее, что это такое; она стеснительно одернула рукав — так моллюск втягивает свое мягкое тело в раковину.
— Это не рак, — громко сказала она, перекрывая монотонную долбежку из динамиков. — Я сходила проверилась. Оно просто взяло и проступило изнутри, как, блин, дороги у наркомана. Приходится теперь все время носить на работу длинный рукав, даже летом. На самом деле там ничего нет, то есть что-то, конечно, есть, но ничего страшного, доброкачественное образование, вроде как позднее родимое пятно, и всё.
Мы поехали ко мне. Я прихватила ее с собой не из-за этой отметины, а потому, что ее волосы были ярко-рыжими и очевидно крашенными, как раз как я люблю. Некоторые оттенки рыжего неподвластны генам, но в мигании сине-зеленых стробоскопов ее окружал вызывающе багровый нимб.
На вкус она была как свежий хлеб и лимонная вода.
Засыпая, она прикрыла одной рукой глаза, а другую расслабленно откинула на мою простыню, и я нежно погладила эту отметину близ ее локтя, похожую на татуировку, эту паутину иссиня-черных линий, пересекающихся друг с другом, пересекающих ее поры, закладывающих крутые виражи и сходящих на нет в чистой, без изъянов, коже у самой локтевой ямки. Казалось, ее вены потемнели и отвердели, самоорганизовались в нечто большее, чем вены, вознамерились покинуть границы хозяйкиной плоти. Во сне она пробормотала мое имя: Лючия.
— Похоже на карту города, — сонно прошептала я и отбросила прядь ее волос от покрасневшего уха.
Прижавшись ухом к ее груди, я увидела во сне четыре черных омута в доме Орланды. Я смотрела прямо в крапчатый розово-серый рот, и красная нить крепко обвила мое запястье. На мои обтянутые кожаной юбкой колени выложили Освежеванную Лошадь, эта карта символизирует тщетную жертву, погоню без любви, пустую кладовку. Рядом со мной сидел лысый мужчина в старомодной фетровой шляпе набекрень, губы его порозовели и припухли, как будто он только что целовался. Мы взялись за руки, и Орланда связала нас нитью; на руке у него было шесть пальцев, и я заставила себя не отдернуться. Передо мной сидели две женщины: одна с тонкими золотистыми волосами под зеленой косынкой и серебряным кулоном в виде богомола на груди, другая — турчанка или, может, армянка, глаза густо подведены тенями, как на египетской иконе.
Женщина с лягушачьей головой показала мне маленькую карточку, слова аккуратно выписаны красными печатными буквами на пожелтевшей бумаге:
Вы четвертованы.
Узлы ослабли. Шагнув под пальмовые ветви, я вышла в ночь, пахнущую ромом и лавром, на улицу Папирусную. Остальных разметало, как пепел. Дорога тянулась передо мной, сколько хватало глаз; фонари горели, как набухшие тыквы, а в канавах журчали дождевые потоки.
В центре кольцевой развязки — Чугунный мемориал. У основания этого барочного шпиля, высокого и стройного, — одинокая черная статуя: девочка с кляпом во рту и с гибкими, жилистыми ногами страуса, склепанными из железных колец, сквозь коленные щели видны сорняки с ярко пламенеющими цветами. Она сидит в траве, руки умоляюще раскинуты. Бронзовые и титановые колесницы нарезают вокруг нее бесконечные круги, катят с тиканьем по направляющим, как самобеглые блестящие хронометры. Между ее вывернутыми внутрь коленями — табличка белого камня:
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
сыновьям и дочерям Палимпсеста,
сражавшимся и павшим в Безмолвной войне.
752–759
- Хранят безмолвие поля,
- Где их нашел покой.
Однажды на этом самом месте — хотя туристам-то откуда знать — без единого звука погибла ровным счетом тысяча. Полчищам «добровольцев» заменили их данные от рождения конечности на более шустрые, умные, сильные и новые. Вдобавок этим бойцам ампутировали гортань, чтобы не выдали расположения войск невольным вскриком или не рассказали о том, что они творили в пустыне, у моря, в городе, который тогда еще только народился. Целые армии, модифицированные таким образом, сражались абсолютно беззвучно. В центре кольцевой развязки девочка-страус погибла, не проронив ни слезинки, пока ее отцу-жирафу полосовали длинную пятнистую шею штыком слоновой кости.
Улица Серафимов — с надраенной до блеска мостовой, с махагониевыми тротуарами — славится своими портными. В витрине одной портновской лавки платье в новейшем стиле — пронзительно-синее, стекающее с плеч золотистого манекена. Из выреза под лифом сверкает гладкий живот, пересеченный поясом; пряжка — два лазурных глаза, они лениво, по очереди, мигают. Белки их — алмазные, зрачки — черного дерева. Юбка спадает глубокими жесткими складками, выплескивается из витрины тщательно уложенным шлейфом, отороченным вороньими перьями. Портной Алоизий держит бледно-зеленого казимирского кузнечика на вышитом бисером поводке. Кузнечик потирает лапки, а портной трудится в груде черных перьев, шьет три платья, идентичные выставленному в витрине, только не синие, а фиолетовые, для своевольных тройняшек.
Ночью он привязывает кузнечика к столбику балдахина, и крошечное существо лежит на подушке рядом с широким, изрезанным морщинами лицом портного, нащелкивая старику в бороду свою двоичную колыбельную. Алоизию снится бесконечная череда разоблаченных тел, одно другого краше.
Наверное, простительно, что я заметила это лишь через несколько дней. Развернувшись у зеркала, чтобы оборвать на юбке выбившуюся нитку, я увидела сзади под коленом темную сетку перекрещенных линий и, кажется, даже разглядела между ними крошечные слова и цифры, змеящиеся по всей карте.
После этого я принялась их искать.
Второго я нашла в суси-баре с черными скатертями — он сидел через два столика от меня, но, когда он взял палочки, я увидела пульсирующую карту на его ладони. Я подсела к нему — он не возражал. Мы отведали угрей в огуречных ломтиках тоньше пергамента и выпили столько прозрачного, курящегося паром сакэ, что за поцелуем в такси мне даже не пришлось наклоняться. Он вмял свои губы в мои, я вонзила ногти ему в шею; когда мы разделились, я схватила его за руку и обвела языком паутину перекрещенных улиц: линии сердца, линии судьбы.
В его унылой квартирке я поцеловала его живот. В его унылой квартирке на матрасе, затиснутом между молочными ящиками и шлакоблоками, лунный свет вливался в окно через сломанные жалюзи и прорезал на моей спине длинные тигровые полосы.
В его унылой квартирке на подушке, расплющенной в блин десятками ночных кулаков, я увидела сон. Может быть, ему тоже что-то снилось. В моем сне он, кажется, брел по улице, забитой воздушными шарами и глумливыми газелями, но я за ним не пошла. Я стояла на бульваре, вымощенном чопорными оранжевыми маками, и вдруг ощутила на языке вкус бренди, скользнувшего мне в глотку, а легкие мои наполнил бледный дым. Где-то далеко моя четверть в зеленой косынке смаковала снифтер и опиум. Той ночью я увидела девочку-страуса. Я вдохнула махагониевый аромат серафимских тротуаров и почти без сожаления обменяла мои длинные каштановые волосы на платье. Алоизий обрезал их хрустальными ножницами, и я зашагала по красному дереву под сернистыми звездами, волоча за собою шлейф черных перьев. Мою голую шею ласкал теплый ветер. Пальцам тоже было тепло — мой лысый четвертак поглаживал женщину с чешуйчатой, как у змеи, кожей.
Были и другие. Мужчина с серебряным зубом — пальцы ног его пестрели картой с отметкой морских глубин. С ним мне приснилось, что я обхожу свайный поселок над синей рекой и ем гуляш с львиноголовым ветераном, который рвал мясо жуткими желтыми клыками. Объяснялся он жестами, но я правильно угадала лишь те, что означали «мать», «юго-восток» и «сон».
Женщина с двумя детьми и родинкой на левом бедре — между лопатками у нее петляющие улочки и старые тупики складывались в колесо арондисманов. С ней мне приснилось, что я работаю в ночную смену в ресторане, где подают одно-единственное блюдо — жареную печень слона, вымоченную в лавандовом меду и усеянную зернышками граната. Персонал там носил туники, сшитые из павлиньих перьев, и не должен был смотреть посетителям в глаза. Поставив блестящую тарелку перед мужчиной с длинными серыми пальцами, я ощутила, как моя черноглазая четверть подцепила золотой вилкой улитку в ромовом соусе и отправила ее в рот.
Милый мальчик с редкой бороденкой — от сетки улиц и стихийных проулков на подушечке его большого пальца было черным-черно, как будто его дактилоскопировали в некой неназываемой тюрьме. Он уснул в моих объятиях, и мы грезили вместе, как спаривающиеся стрекозы, летящие тандемом. С ним я увидела литейные цеха, извергающие в небо пламя. С ним я танцевала в опалесцирующей чешуе и произвела на свет ровно пятьдесят семь диких зайцев, с зеленой печатью Казимиры на левом ухе каждый.
«Лючия! — кричат все они, лежа на мне. — Лючия! Где тебя найти?»
Но на простеганных тенями улицах я всегда одна.
На всех этих кожах я искала город грез. Разве сравнятся обыкновенные, с желтой разметкой улицы — и улица Серафимов? Мои табельные часы, чеканящие бессмысленные дни, — и самоцветная фабрика Казимиры? Чье бы то ни было прикосновение — и пароксизмы чувствительности в моих снах, где каждый жест умножается на четыре? К тому, на ком нет карты, я и не притронусь. Лишь однажды за весь год, после снегопада, я сделала исключение — для женщины с грудью цвета кедра и кольцом в носу, как у быка или минотавра. Бинди на лбу она носила, как пятно крови. На ее безупречном теле не было ни единой отметины — уже так странно и непривычно для меня, так пусто. Но она была прекрасна, и ее голос, чистейшее сопрано, мог резать стекло, а я слаба. Я упросила ее спеть мне после любви, а затем во сне увидела, как ее ведет в танце мужчина с шакальим хвостом — в освещенном фонариками баре, где подавали настойку на бабочках сотни оттенков. Я разбила их пару, он увял и слился, а ее я отвела к морю, где пена разлеталась стеклом на песке и мы шли вдоль полосы мокрых сверкающих осколков.
Когда я проснулась, карта расцвела из ее пупка, свежая и сочная. Я улыбнулась. Поцеловала сетку улиц на ее спящем животе и ушла, не выпив кофе и не попрощавшись.
В Палимпсесте две церкви, совершенно идентичные во всем. Они стоят рядом на углу, охватывая его, как дверная петля. У каждой семь белых колонн, расписанные по спирали черными символами, на первый взгляд напоминающими кириллицу, — но это не кириллица. У каждой остроконечная крыша из красной глазурованной черепицы, вход в каждую охраняет пара каменных лошадей с головами ящериц, высунувших раздвоенный язык. Обе воздвигнуты из камней, добытых в одной и той же каменоломне на далекой южной окраине, бледно-зеленых, пыльных, идеально круглых, как мяч. В стенах их больше строительного раствора, чем камней, раствора из тертых казимирских стрекоз, дарованных фабрикой в промышленных масштабах, туфовой пыли и селедочных хвостов. Скамьи внутри полируют лаймовым маслом, и каждый четверг прихожане причащаются ломтиками китового мяса и коричным вином. Отличаются у церквей лишь подвалы; в каждом оборудована гигантская усыпальница, где вдоль стен выстроились алебастровые гробы, каллиграфически, с бесконечным тщанием расписанные кровью погребенных в них дорогих усопших. В северном углу пьедестал, обильно усыпанный подношениями (кукурузные листья, шоколад, табак), на пьедестале гроб. В одной церкви там лежит слепец, в другой — глухая. У обоих из середины лба растет витой рог, как у нарвала; оба умерли молодыми. Правоверные приходят к этим подвальным святым, кому какой больше нравится, и оставляют у ног их свои скромные дары. Жустиция с детства поклонялась Неслышащей — ее желтая вуаль и бирюзовые кольца на больших пальцах знакомы всем в Церкви Слева, именно она приносит кукурузные листья с регулярностью рассвета. Когда она умрет, ее похоронят здесь же, в ее собственном гробу.
Когда вы войдете, она запечатает ваши уши воском и потребует абсолютной тишины. Может быть, вы заметите длинный змеиный хвост с гремучкой, который торчит из-под ее юбки и стучит по мозаичному полу, но упоминать об этом невежливо: раз она говорит «тишина», лучше прислушаться. Это самое страшное ругательство в ее лексиконе.
Пригороды Палимпсеста распахиваются за городской чертой, как узорные веера. Сперва дома, все краснокирпичные, тянутся ровными рядами и ветвящимися, будто вены, проулками, дворами и тупиками. В парках трава пахнет апельсинами, а ручьи покрыты колышущимся ковром иссиня-черных роз. Дети рисуют на тротуаре девочек с антилопьими копытами и мальчиков с воробьиными крыльями — и прыгают между ними на одной ножке. Звонкий детский смех обращается в оранжевые лепестки, разносится ветром и лениво усеивает газоны. Наконец дома уступают место полям — амаранта, шпината, земляники. Пасутся косматые коровы, блеют черномордые овцы. Голод Палимпсеста неутолим.
Но и поля не бесконечны, они уступают место целине — еще не колонизованной городом, не населенной, не изведанной. Пустые луга тянутся до самого горизонта — светлые, темные, тучные, мягкие.
Крепчает ветер, горячий, пыльный, соленый, и неисчислимые квадратные мили голой кожи покрываются мурашками.
Я увидела ее в ноябре. Шел дождь — ее косынка намокла и облепила голову. Она прошла мимо, и я узнала ее по запаху, по форме кисти. Ее быстро поглотили праздничные толпы, и я бросилась следом, не зная, какое имя кричать.
— Подожди! — вырвалось у меня.
Она остановилась и обернулась ко мне; эта квадратная челюсть, эти огромные карие глаза были знакомы мне, как собственная подушка. Мы замерли под ливнем возле самодельного уличного лотка с часами.
— Это ты, — прошептала я.
И показала ей свою карту, сзади под коленкой. На миг она поджала губы, зеленая косынка прилипла к шее, как мокрый лист. Решившись, она высунула язык — и в струях дождя полыхнула синим светом карта Палимпсеста. Она закрыла рот, я обвила ее рукой за талию.
— Я тебя чувствовала: костяная трубка, белый дым, — произнесла я.
— Я чувствовала платье на твоих плечах, — ответила она низким скрипучим голосом, так скрипят, открываясь, ворота.
— Пошли ко мне. У меня есть бренди, если хочешь.
Она склонила голову набок, тонкие золотистые волосы мокрыми змеями скользнули по обтянутому плащовкой плечу.
— И что дальше, как по-твоему?
— Может, — улыбнулась я, — наши ноги отмоются.
Она погладила меня по щеке, запустила длинные пальцы в мои волосы. Мы поцеловались, а рядом блестели часы, серебряные и золотые.
На южном углу: круглые зажженные фонари в толстой оправе кованого железа — спуск в метро. Каждые пятнадцать минут под лестницей проносится поезд. На стеклянной платформе стоит Адальгизо и играет на скрипке своими шестипалыми руками. На его лысой голове криво сидит фетровая шляпа. Рядом с ним Аззия, ее голос, прокуренный тенор, ласкает струны, словно поцелуями. Глаза ее густо подведены, как на портрете фараона, волосы длинные, жесткие и черные. Играет Адальгизо так стремительно и вдохновенно, что поезда останавливаются послушать, косо замирают на рельсах и раздвигают двери — ловят рассыпаемые им глиссандо. Скрипичный футляр лежит раскрытый у его ног, и каждый пассажир ветки Маргиналия не забывает прихватить плату — жемчужину, они падают в футляр по одной, и вот уже тот переполнен, будто молоко убежало из кастрюли. В углу станции тараканы с оптоволоконными крыльями царапают лапками по плиткам пола, это царапанье служит скрипачу и певице метрономом.
На северном углу: студия картографа. В каждой щели стоят чернильницы, на десятке столов разостлан пергамент. В клетке из китового уса сидит казимирский голубь и курлыканьем честно отмеряет часы. Его помет — чистые кальмарьи чернила, их собирают в жестяной желобок. Лючия и Паола заправляют лавкой с незапамятных времен: Лючия серебряным циркулем чертит карты с лучезарной, безупречной точностью, а Паола украшает их изысканными миниатюрами, пляшущими в пространстве меж улиц. На предплечье у каждой по десятку наручных часов. Для прибывших в Палимпсест это вторая остановка, после салона земноводной гадалки, особенно для иммигрантов, которым две женщины особенно покровительствуют. Каждому нужна карта, и Лючия удовлетворяет их спрос: планы улиц и схемы метро, исторические карты и топографические, карты с искажениями и сверхточные, карты далеких городов. Смотрите — для вас она изготовила складную брошюру, где показаны все знаменитые достопримечательности: фабрика, церкви, салон, мемориал. Следуйте брошюре, и вы не потеряетесь.
Каждое утро Лючия выставляет новейшую карту на подоконник, будто свежий пирог. Та медленно остывает, раскрывается по сгибам, взмахивает углами, как крыльями, и неуверенно отправляется в полет, с шелестом порхает над городом. Тщательно, как оригами, карта складывается в воздухе: теперь у нее бумажные глаза, чернильные перья, пергаментные когти.
Она оглядывает сверху городские проспекты в поисках мышей.
Об авторах
Екатерина Седиа (Ekaterina Sedia) живет в Нью-Джерси с лучшим в мире мужем и двумя кошками. Ее новый роман «Тайная история Москвы» (The Secret History of Moscow) вышел в 2007 г. в издательстве Prime Books, а в 2008 г. там же — роман «Алхимия камня» (The Alchemy of Stone). Ее рассказы опубликованы в журналах Analog, Baen's Universe, Fantasy Magazine, Dark Wizdom и в антологиях Japanese Dreams и Magic in the Mirrorstone. Посетите сайт автора: www.ekaterinasedia.com.
Форрест Агирре (Forrest Aguirre) получил Всемирную премию фэнтези (The World Fantasy Award) за выпуск антологии Leviathan-3. Кроме того, под его редакцией вышло еще несколько антологий, включая сравнительно недавнюю Text: UR, The New Book of Masks. Его произведения печатались в таких изданиях, как Polyphony, American Letters & Commentary и Notre Dame Review. Рассказы Агирре были собраны в антологии Fugue XXIX, а его первый полновесный роман «Лебеди над Луной» (Swans Over the Moon) вышел в издательстве Wheatland Press. Ф. Агирре живет в Мэдисоне, штат Висконсин, с женой и четырьмя детьми.
Барт Андерсон (Barth Anderson) — обладатель богатого воображения. Проза этого автора печаталась в журналах Asimov's, Strange Horizons, Clarkesworld Magazine, Polyphony и других достойных изданиях. О его первом романе «Святой покровитель чумы» (The Patron Saint of Plagues, издательство Bantam Spectra, 2006) сайт salon.com отозвался так: «Андерсон мастерски владеет пером, и от его книги не оторваться — она совмещает в себе медицинский триллер, киберпанковскую игру и провокативное подначивание». Второй роман Андерсона «Волшебник и дурак» (The Magician and The Fool) вышел в 2008 г. Барт живет в Миннеаполисе с женой и двумя детьми.
Стив Берман (Steve Berman) вырос на нездоровом рационе из утренних субботних телепрограмм, что необратимо повлияло на его мозг, и поэтому он не смог противостоять иллюзиям и сделался писателем. Стив воображает, будто опубликовал более восьмидесяти статей, эссе и рассказов, а может, и еще один роман для подростков и юношества. И ему кажется, что под его редакцией вышло несколько антологий. Стиву мнится, что родился он в Новом Орлеане или в Филадельфии, которая очень напоминает Потерянную Землю,[12] если вы включите один из дециметровых каналов в субботу с утра пораньше. Связаться со Стивом можно по адресу: steveber-man.com.
Дарин С. Брэдли (Darin С. Bradley) — редактор и дизайнер журнала Farrago's Wainscot. Он имеет научную степень в области поэтики и специализируется на исследовании механизмов «странного». Дарин публиковал свои работы в следующих изданиях: Electric Velocipede, Strange Horizons, Polyphony-6, The Internet Review of Science Fiction, Abyss & Apex, Astropoetica, GrendelSong и Bewildering Stories.
Стефани Кампизи (Stephanie Campisi) печатала свои произведения в Fantasy Magazine, Farthing, Shimmer и других изданиях. Сейчас она работает над романом, действие которого разворачивается в том же мире, что и в представленном рассказе.
Хэл Данкан (Hal Duncan) родился в 1971 г., живет в Глазго и уже давно состоит в сообществе писателей-фантастов Glasgow SF Writers Circle. Его первый роман «Пергамент» (Vellum) номинировался на литературную премию Кроуфорда (The Crawford Award), Британскую премию фэнтези (The British Fantasy Society Award) и Всемирную премию фэнтези (The World Fantasy Award). Продолжением этого романа стала книга «Чернила» (Ink), которая выходила в США и Великобритании. Кроме того, он выпустил сборник стихов «Сонеты к Орфею» (Sonnets For Orpheus), а рассказы Данкана публиковались в таких журналах, как Fantasy, Strange Horizons, Interzone, и в антологиях Nova Scotia, Eidolon и Logorrhea.
Майкл Джаспер (Michael Jasper) пробавляется избытком кофеина и недостатком сна в Уэйк-Форесте, штат Северная Каролина, где живет с прелестной женой Элизабет и изумительным маленьким сынишкой Дрю. Проза Майкла печаталась в журналах Asimov's, Strange Horizons, Interzone, Fantasy Gone Wrong, Hemes in Training, Aeon, Polyphony. Сборник рассказов Джаспера «Охота на Будду» (Gunning for the Buddha) вышел в 2005 г. в издательстве Prime Books, а роман о паранормальных явлениях «Сердечная месть» (Heart's Revenge), написанный под псевдонимом Джулия С. Портер, вышел в 2006 г. в издательстве Five Star. Роман «Цикл Ванношей» (The Wannoshay Cycle) вышел в этом же издательстве в 2008 г.
Вилар Кафтан (Vylar Kaftan) пишет научную фантастику, фэнтези, хоррор и афористичные записки-напоминалки, которые прилепляет на холодильник. Ее рассказы публиковались в журналах Strange Horizons, ChiZine, Clarkesworld. Переведенная на испанский проза Кафтан печаталась в аргентинском журнале Axxon. Вилар живет в Северной Калифорнии, и у нее есть соответствующая выцветшая футболка с соответствующей надписью. Она закончила «Clarion West», знаменитые краткосрочные курсы литературного мастерства в области фантастики и фэнтези, и теперь в качестве волонтера преподает литературное мастерство в виртуальном литературном объединении для пишущих подростков «Absynthe Muse». Среди ее хобби — современный храмовый танец и подготовка к землетрясению. Вилар ведет дневник на http: //www.vylarkaftan.net.
Джей Лейк (Jay Lake) живет в Портленде, штат Орегон, в обществе книжек и двух забавных кошек. Он постоянно работает над множеством писательских и издательских проектов. На сегодняшний день на его счету романы «Суд цветов» (Trial of Flowers) и «Пружина» (Mainspring), изданные соответственно в Night Shade Books и Tor Books. К обоим романам Лейк в 2008 г. написал продолжения. В 2004 г. Лейк удостоился премии Джона В. Кэмпбелла (John W. Campbell Award) в номинации «Лучший новый писатель-фантаст», а также неоднократно выдвигался на премию «Хьюго» (Hugo) и Всемирную премию фэнтези (The World Fantasy Award). Лейк ведет дневник на jaylake.livejournal.com.
Пол Мелой (Paul Meloy) работает сиделкой-психиатром в кризисной команде города Бери-Сент-Эдмунде. В 2005 г. его сочинение «Черное электричество» (Black Static) получило Британскую премию фэнтези (The British Fantasy Society Award) за лучший рассказ. Произведения Мелоя печатались в журналах The Third Alternative, Nemonymous, Interzone. В 2007 г. вышел сборник его рассказов «Ислингтонские крокодилы» (Islington Crocodiles).
Джесс Невинс (Jess Nevins) — автор «Энциклопедии фантастики на викторианские темы» (Encyclopedia of Fantastic Victoriana) — справочника по персонажам и сюжетам соответствующего жанра в литературе XIX века. Джесс служит библиотекарем в Государственном университете имени Сэма Хьюстона (Sam Houston State University) и в настоящее время работает над «Энциклопедией персонажей криминального чтива» (Encyclopedia of Pulp Heroes), справочником по соответствующему жанру XX века.
Ричард Паркс (Richard Parks) живет в Миссисипи. Его произведения печатались в журналах Asimov's SF, Realms of Fantasy, Lady Churchill's Rosebud Wristlet, Fantasy Magazine, Weird Tales, а также во множестве антологий, в том числе в Year's Best Fantasy, Fantasy: The Best of the Year. В 2007 г. у него вышло две книги: роман «Потусторонность и далекое» (Hereafter And After) и сборник рассказов «Поклоняясь мелким богам» (Worshipping Small Gods).
Бен Пик (Ben Peek) живет в Сиднее, его рассказы печатались в антологии Leviathan-4, собранной Форрестом Агирре, в антологии Polyphony-6 под редакцией Деборы Лейн и Джея Лейка, а также в Agog! Ripping Reads под редакцией Кэт Спаркс, Aurealis, Fantasy Magazine и в многочисленных антологиях «Лучшее за год». Пик — автор книг «Двадцать шесть небылиц/одна правда» (Twenty-Six Lies/One Truth) и «Черная овца» (Black Sheep). Иногда он появляется в Интернете по адресу: benpeek.live-journal.com.
Кэт Рэмбо (Cat Rambo) живет и работает на тихоокеанском Северо-Западе со своим очаровательным супругом Уэйном. Она — выпускница курсов «Clarion West» и писательского семинара в Университете Джонса Хопкинса. Ее произведения печатались в Fantasy Magazine, Subterranean, Strange Horizons. В рассказе «Шарик Бамлети» (The Bumblety's Marble) действие разворачивается в морском порту Табат, декорации, которая объединяет несколько рассказов Рэмбо, а также роман «Ученик Луны» (The Moon's Accomplice).
Дженн Риз (Jenn Reese) всю свою жизнь провела в пригородах Иллинойса, Нью-Джерси, Мэриленда и Нью-Йорка, однако теперь обосновалась в Лос-Анджелесе, выбеленном солнцем пустынном городе психов, который она обожает. Когда она не пишет или не сидит на работе, то обучается боевым искусствам, играет в стратегические игры или стоит в пробках. Список ее публикаций и сведения о ее первом романе «Нефритовый тигр» (Jade Tiger) вы найдете на www.jennreese.com.
Дэвид Дж. Шварц (David J. Schwartz) публиковал свои произведения в журналах Strange Horizons, Twenty Epics и в антологии Year's Best Fantasy. В 2008 г. вышел его первый роман «Сверхсилы» (Superpowers).
Кэт Спаркс (Cat Sparks) живет на южном берегу Нового Южного Уэльса в Австралии. Она работает графическим дизайнером и совместно с Робертом Худом ведет работу издательства Agog! Press. В 2004 г. она в числе лучших выпускников закончила литературные курсы «Clarion's South Writer's Workshop» и завоевала премию «Писатели будущего» (Writers of the Future). С 2000 г. Кэт Спаркс успела семь раз получить премию «Дитмар» (DITMAR) и в 2004 г. получила премию «Аурилис» (Aurealis Award). Недавно она стала членом Американской ассоциации писателей-фантастов (Science Fiction Writers of America).
Анна Тамбур (Anna Tambour) живет в Австралии. Сборник ее рассказов «Великолепие Монтерры и другие истории» (Monterra's Deliciosa & Other Tales), а также роман «Пятнистая лилия» (Spotted Lily) вошли в список рекомендованной литературы журнала Locus. Любители приключений наверняка пожелают посетить края Анны Тамбур на www.annatambour.net и ее дневник на http://medlarcomfits.blogspot.com.
Марк Теппо (Mark Терро) проводит большую часть своего времени в заведении «Каллиопа» — это гибрид кофейни и книжного магазина, — поудобнее устроившись у окна. Обычно он попивает двойной ристретто с корицей и наблюдает, как ползут мимо машины, то и дело застревая в пробке на углу бульвара Миссии и 14-й улицы. Иногда его заставляет сняться с насиженного места заседание Fourth Foundation Society, и тогда он проводит день в парке, бегая за белками. Если вы питаете отвращение к белкам или пользуетесь Интернетом, то найдете Марка на www.markteppo.com. В 2007 г. вышел роман-гипертекст Теппо, который можно найти по адресу: www.farragowainscot.com.
Кэтрин М. Валенте (Catherynne М. Valente) — автор серии «Истории сироты» (Orphans' Tales) и книг «Лабиринт» (The Labyrinth), «Юм но Хон: книга снов» (Yume no Hon: The Book of Dreams), «Меч, срезающий траву» (The Grass-Cutting Sword) и четырех сборников стихов: «Музыка протосамоубийств» (Music of a Proto-Suicide), «Апокрифы» (Apocrypha), «Нисхождение Инанны» (The Descent of Inanna), «Пророки» (The Oracles). Валенте номинировалась на Пушкарт-премию (Pushcart Prize) и в 2006 г. получила Премию Типтри (Tiptree Award). В настоящее время живет в Огайо в компании двух своих собак.
Грег ван Экхаут (Greg van Eekhout) публиковал свои произведения в таких изданиях, как Asimov's SF, Magazine of Fantasy and Science Fiction, Realms of Fantasy. Некоторые его рассказы печатались в антологиях «Лучшее за год», а его рассказ «Поздним декабрем» (In the Late December) вошел в список финалистов на премию «Небьюла» (Nebula Award). Ван Экхаут работает дизайнером, обожает кофе и старательно, пусть и медленно, осваивает боевые искусства. Его дневник вы найдете по адресу: writingandsnacks.com/blog.
Каарон Уоррен (Kaaron Warren) живет на Фиджи. Опубликовала сборник рассказов «Стеклянная женщина» (The Glass Woman). Австралийское издание получило три премии. Кроме того, один ее рассказ вошел в состав антологии Эллен Датлоу Year's Best Fantasy and Horror-20.