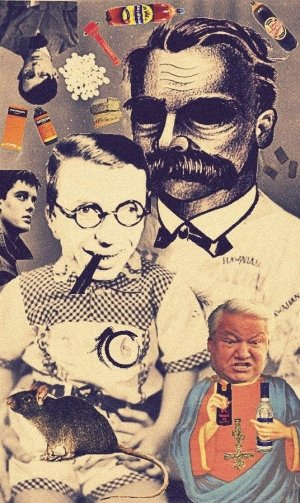
Intro. Не ищи тут смысла. Не читай этот хлам.
Это будет довольно тусклая, неказистая и пресная история, не способная захватывать читателя, практически лишенная сюжета и не представляющая интереса как художественное произведение, коммерческий продукт или какое–никакое развлекательное чтиво.
Минутой раньше я раскрыл свой блокнот и в очередной раз принялся рисовать глаз.
Все листки моего изгвазданного чернилами блокнота испачканы глазами. Разных форм и размеров, закрытые и открытые, масонская лучезарная дельта с всевидящим оком, кровоточащие глазницы, глаза с ногами, с паучьими лапками, с крыльями, просто черные, белые, закрученные по спирали, маленькие точки, гигантские шары. И так сотни глаз по всему блокноту, перемежающиеся с унылыми невнятно изложенными набросками мыслей, идей, четверостиший и прочей чуждой взрослому человеку графоманской ереси, которая должна была бы отпустить еще в подростковом возрасте.
На этот раз я начал рисовать цветущий глаз. Корни тонкие, длинные, не менее хрупкий стебель, листья, покрытые взбухшими венами, а на самом верху раскрывшийся бутон глазного яблока, огромные зрачки, никаких век, ресниц, только огромный глаз с расширенным зрачком.
Я никогда не отличался талантом художника, как и любым другим талантом, но если вдруг находил какой–то приятный мне образ, принимался с одержимостью рисовать его везде и всюду. Так классе в девятом это были клоуны с огромной зубастой пастью и инфернальными глазами, и поля и последние страницы всех тетрадей пестрили его изображениями. В старших классах это были пауки с длинными и тонкими лапками, подобными ногам слонов, сошедших с картин Дали. Сейчас это глаза.
Я где–то вычитал, что глаз — это параноический образ контроля, якобы человек, постоянно изображающий око, остро ощущает свою собственную несамостоятельность, слабовольность, неуверенность. Это признак беспокойства, связанный с дефицитом внимания. В тот момент, я наверняка резво закивал головой: «да, да, это про меня, это я такой ненормальный», ведь хлебом не корми, дай прочувствовать свою собственную ущербность. Это пришло не сразу, но с годами я научился все свои недостатки превращать в причину гордости, если можно так выразиться, строил свой алмазный трон из осколков битого стекла. Я впитывал левые идеи, чтобы каждого успешного и богатого гражданина обвинять в продажности, капиталистической проказе, называть буржуями и выблядками, тем самым находя оправдание своему нищенскому положению. Тех, кто посмеивался над моей почти анорексичной худобой, я считал обрюзгшими мягкотелыми жирдяями с коровьими ляжками и впалой грудью. Если кто–то обращал внимание на мою замкнутость и малообщительность, я находил оправдание в каком–то неадекватном снобизме и даже нарциссизме, считая окружение неспособным понять и принять меня. И все в таком духе. Я был жутко претенциозен. И, быть может, именно за это я и поплатился. Хотя все вышеперечисленное не более чем защитный механизм. Себя я все равно всегда презирал больше всех. Просто не хотел в этом сознаваться. Псевдоинтеллектуальный сноб, социофоб и ничтожество. Наверное, поэтому я рисую глаза. Глаза — зеркало души. Потому они у меня испуганные, смотрят только вверх или внутрь себя, ползают на тощих паучьих лапках или растут на тонких, длинных стеблях. Дилетантские изыски с претензией на психоанализ, но я надеюсь, я буду понят. Я думаю, у меня будет читатель, может даже пара или чуть больше, те, кто осилят всю эту буквенную какофонию и псевдолитературный луиджируссолоизм. Я нарисую по этому поводу глаз, это будет красивый читающий глаз.
Я не знаю к чему эти 5 бессодержательных абзацев выше, но надо же было с чего–то начинать. От темы к теме, без существенной логической связи, «я разрушаю выдвижные ящички мозга».
Глава 1. Общие положения.
1.1. Сон об Иисусе–бомже и знамения энтропии.
В самом начале сна я очутился в коридоре университета. Накинув на плечи свое выцветшее блекло–черное пальто, я незамедлительно покинул альма–матер, оставив за спиной лекции, в своем унынии грозившие мне олигофренией в степени имбецильности.
В следующем отрывке сновидения я уже сидел в парке на скамейке, покрытой потрескавшейся краской традиционного тускло–синего цвета. По соседству стайками кучковались человекообразные люди, праздновавшие «первые–дни–мая–когда–наконец–можно–нажраться–на–улице», поскольку май — это такая пора, когда прямоходящая рвота, всю зиму тухшая в подъездах и тонированных девятках начинает выблевываться и растекаться по улицам. И посреди всего этого языческого пиршества встречи весны, я листал томик Генри Торо и пытался предаться духу дауншифтинга и анархо–примитивизма, но цветы цивилизации, расположившиеся неподалеку, слишком бурно веселились, тем самым не позволяя проникнуться настроениями торовского эскапизма. Да и вдобавок ко всему ветер остервенело листал страницы, будто сам Стрибог в маразматичном припадке умирающего языческого божества решил пошкодничать.
Окинув взглядом компанию чуть левее меня, я почувствовал как в копях моей душонки просыпается барлог классовой ненависти: все эти красавцы и красавицы, люди–брэнды, у таких носки стоят дороже, чем мое пальто из сэконд–хэнда. Все эти детишки с айпэдами и зеркалками, стоящими моей будущей годовой зарплаты — они воняли элитарностью и роскошью. Как и их родители, социальный мусор, офисные личинки, среднее звено, предприниматели, разжиревшие боровы с коллекцией вторых подбородков и спасательными кругами складок на животе, в своих фордах–фокусах и шевроле–лачетти, со своими уютными квартирками с плазмами на 72 дюйма, мебелью из икеи и всякими лабрадорами–ретриверами, йоркширскими терьерами, биглями.
Сейчас я, как истинная левацкая шлюшка, начитавшаяся умных бородачей, осознаю свою классовую ненависть как нечто благородное, само собой разумеющееся, аргументирую ее для себя, орудуя целым набором самых разных защитных механизмов я превращаю свою зависть и ненависть к богатым в идейную борьбу. Но было время, когда я испытывал какой–то раболепский стыд за свое нищенство.
Мой сон посетил новый персонаж — типичный бомж, окруженный собаками, в лохмотьях, с кучей клетчатых сумок, наполненных барахлом, объедками, пустыми пластиковыми бутылками, жестяными банками. В каждом городе есть такой сумасшедший нищий или съехавшая с катушек старуха, бродяги, сопровождаемые стаей дворняг, слоняющиеся без дела и разговаривающие сами с собой или кричащие на прохожих.
Каждый раз, когда я вижу такого бродягу или нищенку, я вспоминаю одно старое фэнтэзи, в котором ни в чем неповинного молодого парня замучали и распяли, а он, в лучших традициях кинофильмов Джорджа Ромеро, восстал из мертвых. Если две тысячи лет назад, когда появился безумец, объявивший себя сыном самого Господа, его распяли как еретика и самозванца, то появись подобный персонаж в наше время, граждане, имеющие стойкий иммунитет к обманам, розыгрышам и мошенничествам, решат, что он всего–навсего очередной клоун, сектант, самозванец, шарлатан или аферист и просто проигнорируют его. Пораскинув мозгами и представив появление Христа V2.0 в годах так двухтысячных, можно спрогнозировать довольно предсказуемое развитие событий: начни он людям рассказывать о любви и Отце, все нынешнее цивилизованное общество просто–напросто раздавило бы Нового Мессию, распяло бы морально и социально, опустило бы на дно, свело с ума, сбросило в нищету, заставило бы пить, вмазываться кодеином по подворотням, побираться, тащить свой крест из склянок, жестяных банок и тряпья к Голгофе железнодорожного вокзала и обратно, стреляя по дороге мелочь и сигаретки. И вот он мессия, второе пришествие, пьяный опухший бродяга, окруженный собаками, единственными чующими его Божественную природу. И каждый раз, когда я вижу таких нищих, именно об этом я думаю. А вдруг передо мной проходит Он? Это оскорбление чувств верующих?
Он присел рядом со мной, в нос ударил явно не мессийский запах. Я оглядел его: женские джинсы, подобранные на помойке и не ощутимо давно не видавшие стирки, какие то мощные ботинки, этакие отечественные тимберлэнды для андеркласса, массивные разбитые говнодавы, стоптанные и сношенные. Болоньевая куртка, вся в порезах и прожогах и пятнах от слюней, крови, еды, а под курткой совковый заношенный свитер с оленями. Модный лук. На улице было градусов 15–20, но такие ребята зимой и летом не изменяют своему стилю, стиль социального паупера, это ведь определенно стиль, одежда, образ жизни, мысли, ценности, идеи, бомж — это субкультура. Пальцы толстые, грязные, ногти желтые. Поры на коже словно карьеры, наполненные грязью, парень явно забыл о бритве и ножницах, многомесячная небритость и волосы, вот–вот грозившие скататься в дреды, дополняли образ, также как и склизко–мутные глаза, похожие на подъездные пепельницы из банок нескафе, наполненные харчками, окурками и пеплом. Возраст определить было сложно, может лет 20, может 40, опухший, небритый, грязный, он выглядел на все 80.
Странно, что он присел рядом, обычно такие только подходят спросить мелочи и сигарет, а в целом стараются держаться подальше от цивилов (каким я явно был в его глазах), дабы избежать проблем со служителями закона. У этого явно было, что мне сказать, просто так он не сел бы.
Я с опаской поглядывал в сторону своего нового соседа, в то время как он, даже не глядя в мою сторону, достал из глубин своей болоньевой куртки нечто похожее на флакон духов, хотя я и сомневался в том, что этот персонаж носит в карманах бутыльки с Bruno Banani, Givenchy или Росой Юности, опохмеляться элитным парфюмом было бы слишком дорого для него, да и на менеджера по продажам косметической продукции он был мало похож. Мой потрепанный Иешуа протянул мне это «нечто». В голове пронеслась стайка тревожных мыслей. Во всем происходящем был какой–то сакральный смысл, но он куда–то ускользнул от меня (смысл большинства происходящих со мной вещей были вне моей досягаемости. Моя жизнь в принципе своей абсурдностью напоминала мне дадаистический спектакль, хотя в ней было больше безысходности, нежели разгильдяйского дада–иррационализма, получается я скорее персонаж кафкианский, нежели дадаистический. /Псевдоинтеллектуальные размышления/).
Ситуация просто была пронизана пафосным благоговением, абсолют явно намекал на эпохальность данного события для меня, но я все равно ничего не понимал, ведь далеко не каждый день ко мне на улице подходят неопрятные господа, вызывающие ассоциации со вторым пришествием, и дарят артефакты.
Все вышеизложенное пронеслось в моей голове за миллисекунду, после чего я абсолютно безвольно протянул руку, на подсознательном уровне понимая, что так надо. Флакончик упал мне в руку. Это был даже не флакон а маленькая пирамидка, вроде тех сувениров, которые все норовят привезти из Египта. Но это был не сувенир. На гранях можно было разглядеть изображения и руны. На первой из граней пирамидки был изображен скорпион, вонзающий свой хвост себе же в спину. На второй грани красовалось изображение вписанного в стенку перевернутого треугольника, опирающегося на звезду. На следующей грани малоразборчивая мазня напоминала пса, стоящего у обочины дороги, с звездами, подобными тем, на которые упирался треугольник, вместо глаз, а на днище этой сакральной безделушки был изображен змей уроборос, пожирающий сам себя.
Я так увлекся разглядыванием этой гробницы минихеопса, что абсолютно не заметил, что мой личный сорт архиерея куда–то благополучно исчез вместе с песиками. Недоумевая и испытывая легкие ассоциации с булгаковскими мотивами, в которых я, вероятнее всего, являлся бы Берлиозом, я сел и стал ждать, когда в моем убогом городе проведут трамвайные пути, дабы после отправится на поиски лужи маслица. Кинув в карман безделушку, подаренную моим бесследно исчезнувшим Иеговой, я решил встать, прогуляться немного и осмыслить произошедшее. Я поднялся, по всей видимости, слишком резко, поскольку перед глазами все поплыло, в глазах заскакали красные круги в макабрическом танце, ноги подкосило, в ушах рычало нечто хаотичное, дьявольское и утробное. Я начал проваливаться вниз…
1.2.Монологанатом.
Очнулся я в своей собственной постели. Рухнул прямо из теплого влагалища сна в холодные лапы реальности под аккомпанемент грайндкор ансамбля, встречающего меня своими «дьявольскими и утробными» звуками каждое утро. Иными композициями меня трудно вытащить из постели.
Я разодрал залитые печатью ночного гноя веки и первое, что я увидел перед собой — тянущиеся от стены к стене четверостишия, в эпоху наиболее острого проявления подростковой депрессии черным маркером намалеванные прямо на потолке моей комнатушки:
С тех времен мало что изменилось. Я вообще перестал чувствовать какое бы то ни было взросление лет в 15–16, кто–то скажет, что это здорово, скажет «smells like teen spirit» и «forever young», а кто–то назовет меня инфантильным мудаком, неспособным принимать решения и боящимся брать на себя ответственность, и будет прав.
Дух городского отчаяния, ненужности, обреченности, упаднические настроения, вечные депрессии, загоны, страхи, неуверенность, замкнутость, резаные руки, дурные стихи: свои и чужие, «no hope, no future, no second chance!». Все это жило во мне и не уходило с переходного возраста и до настоящего времени, хотя, мне, здоровому лбу и великовозрастному дяде поры бы уже было браться за ум и обустраивать свой никчемный быт.
Внешность, стоит отметить, вполне гармонично соответствует робкому, болезненному и хрупкому нутру: я всегда молчу, опасаясь сказать что–то не то, бездействую, боясь сделать что–то не так, в потугах снискать социального одобрения улыбаюсь по поводу и без, словно кретин, или же, наоборот, в припадках социального отторжения хожу с лицом сложнее, чем курс математического анализа. Вязкий, склизкий, невнятный, непонятный. Я бы с себеподобным дружить не стал.
Я сполз на край кровати, выдрал из уголков глаз засохшие остатки «гнойной печати» и просто уставился на стену, пережевывая сон. Бывает такое, что сон настолько реалистичен и ярок, что проснувшись, ты прокручиваешь эмоции, испытанные в ходе снова и снова. Что–то схожее я переживал и в этот раз.
Попытки разобрать сны с точки зрения психоанализа и монографии Фрейда «Толкование сновидений» всегда заводили меня в тупик, связать события во сне с недавними незначительными вещами, способными напомнить мне вещи более значительные в более далеком прошлом, попытался найти завуалированные желания ну и прочие фаллические символы, излюбленные Фрейдом. Это был дохлый номер, привязать сон таким образом можно было к сотне событий в прошлом, как недавнем, так и более отдаленном, а желаний надумать и того больше. Должно быть, психоанализ и вправду «самое грандиозное интеллектуальное мошенничество двадцатого века».
На деле, вся эта каша – всего лишь ошметки воспоминаний и знаний, подчерпнутых в псевдооккультных книжонках, разносортных мистических романах, сомнительных статьях, лекциях по дисциплине «Социальные девиации» и прочем хламе, запомнившемся резкими и яркими образами. Сон довольно простой для разгадки, если учитывать этот факт, а также то, что я сам испытываю нездоровую тягу к мистификациям, мрачным символам, угрюмому визионерству и саморазрушительному поведению. Все изображения, начерченные на гранях пирамиды, говорят о разных формах аутоагрессии. Скорпион, пронзающий самого себя жалом. Перевернутый треугольник со звездой у основания: типичный символ смерти в оккультизме, опирающийся на Сириус, собачью звезду, символ угрозы из созвездия большого Пса, отсюда и пес на следующей картинке, и глаза его те же звезды, да и еще в древних поверьях разных народов души самоубийц превращались в человекоподобных существ или животных, скажем собак, например, которые подстерегали жертв у дорог на кладбище. Ну а про уробороса пояснять не надо думаю, это ведь всем известный персонаж, имеющий кучу трактовок, будь то бесконечность, цикличность, гармония, самопожирание и саморазрушение опять же.
В конце концов, я мотнул головой, сымитировав губами что–то вроде «бред» и подошел к зеркалу. Анорексичное чудовище, ссохшийся экспонат из человеко–гербария, широкотазый вырожденец и унтерменш. Я никогда не был доволен своим телом, слишком тощий, слишком субтильный, слишком женственный. По календарям (с помощью которых можно выгадывать дату зачатия, с целью родить мальчика или девочку) я должен был родиться девочкой, а по данным УЗИ, я вообще выкидыш. Поэтому в итоге я родился невнятным человекообразным слизнем с торчащими отовсюду костями, обтянутыми кожей. Я никогда не понимал девушек, старающихся сбросить вес, ограничивая себя в еде, я всегда мог позволить себе съедать тройные порции любых блюд, жаренное, жирное, мучное. Я объедался всякой дрянью так, что изжога, жирные лоснящиеся волосы, сугробы перхоти и прыщи стали моим нормальным состоянием. При этом я не набирал даже жалкого килограмма веса. Во мне с юношества боролись два начала: с одной стороны, я всегда хотел быть здоровенным быком с широчайшей спиной, внушительным торсом и мощными руками, с ломовейшей бородой, бархатным басом и килограммовыми яйцами в штанах; с другой же – время от времени я смотрел на порно актрис жанра shemale/ladyboy вроде Бейли Джей, мечтая превратиться в хрупкую девицу с первым размером груди, миниатюрными пропорциями и миловидным личиком. На самом же деле я был слишком угловатым для девушки, но в то же время чрезмерно худощавым для парня. Я вообще был на любителя, весьма и весьма на любителя. На очень извращенного любителя. Волосы, жирные у корней и с секущимися концами (прямо как в рекламе шампуня, примечательно, что ни один из них не помогал) и тело, на вид хрупче графита и бледнее мрамора. Не то, чтобы я напоминал Кристиана Бейла в «Машинисте», но определенно ушел от него не так далеко. Весьма забавным является и тот факт, что на меня часто западали девушки с избыточным весом, вопреки расхожей фразе «похожее тянется к похожему». Нормальной ситуацией для меня было идти под руку с дамой на 15–20 килограмм тяжелее меня, испытывая при этом жгучее переживание собственной неполноценности.
Однако были и исключения из правил, скажем, моя последняя избранница в силу своего нестабильного характера и эмоциональных скачков, стервозности и постоянных срывов, была похожа на истощенную долгим амфетаминовым «марафоном» наркоманку. Правда дело тут не только в нарушениях психики, но и в ядерных дозах флуоксетина и бронхолитина с кофицилом, столь любимых юными адептками культа анорексии и эстетики сторчавшихся дрищух в стиле «Эми Вайнхаус».
Я пересел с кровати на совдеповскую табуретку под красное дерево, положил руку на мышку, раскрыл ноутбук и обнаружил на рабочем столе сохраненная в блокноте записка от самого себя. Щелкнул по файлику и начал читать:
«Ничтожество! Ничтожество! Ничтожество! Перед тобой закрыты все двери, но проблема не в том, что они закрыты, а в том, что ты не можешь их открыть. Или не хочешь! Хотя нет, скорее боишься. Трус! Ничтожество! Ты червь! Маленький, скользкий, никчемный червяк. Дождевой червяк, брошенный посреди пустыни в песок. Давай, извивайся, пытайся найти оазис, ты один хер засохнешь, сгниешь и испаришься в этой пустыне одиночества, отчаяния и бесконечных страхов. И чтобы мои заявления не казались тебе безосновательными и не имеющими под собой почвы, я приведу ряд аргументов.
Раз – осмотрись, где ты живешь и с кем, а теперь покопошись в подкорке, сколько тебе лет, пора уже вставать на ноги, а ты нищеброд на родительской шее, сколько раз ты пытался устроиться на работу и ровно столько же раз ты слышал «мы вам позже перезвоним», ты не способен найти работу физическую, потому что ты слишком жалок и слаб, ты не способен устроиться консультантом или еще кем–то, кто работал бы с людьми, ты не умеешь преподносить себя, не умеешь говорить и общаться, ты ничтожен в своей социофобии, несамостоятельности, зависимости, а может ты просто не хочешь работать, потому что боишься ответственности?
Два – твои отношения – твоя цепь, ты раб, ты ничтожен в свой любви (читай – рабстве), твои иллюзии, ты знаешь, что это всего лишь иллюзии, но продолжаешь в них безоговорочно верить, твоя дама сердца не ставит тебя ни во что, размазывает тебя как Мэрилин Мэнсон помаду по губам, ты растоптан как окурок, ты прощаешь ей все, а ответить ничем не можешь; помнишь она назвала тебя бесхребетной тряпкой, так вот – она была права как никто, твоего хребта не хватает даже порвать с ней, не говоря уже о том, чтобы выдержать ее.
Три – тебя унижают даже школьники, над тобой смеются все, от взрослых разжиревших баб в автобусе, до малолетних выблядков, курящих за школой или в подъезде твоего дома, ты ничтожен в своей неспособности ответить им хоть чем–либо, хотя бы просто послать на хуй, все, что ты можешь, это придумывать новые и новые защитные механизмы типа «я выше этого, я лучше их, смеется тот, кто смеется последним, какое мне до них дело, они всего лишь быдло, вот я, пока ты споришь с дураком, он делает то же самое, ну и прпрпр.», а на самом деле ты просто боишься, боишься им ответить, ты просто сыкливое ничтожество!
Четыре – ты маменькин сыночек, ты не представляешь, что ты будешь делать без матери, ты даже в девушках и друзьях ищешь, что–то похожее на материнскую опеку, ты не получил мужского воспитания, потому что всех своих отчимов считал быдлом и никогда не слушал их, предпочитая плакаться в мамину юбку и прятаться за нею же, ты ничтожен в своей эдиповости.
Пять – ты ненавидишь себя, поэтому и ненавидишь всех, даже эта записка этому подтверждение, но тебе не хватает смелости встать на истинный путь саморазрушения, поэтому ты диванный бунтарь и комнатный революционер, твой праведный гнев и твоя агрессия не выходит за пределы твоих четырех стен, копоть твоего бунта оседает исключительно на близких и родных, ну и робкие мазки в интернете, слишком слаб чтобы убиться, слишком жалок, чтобы жить, ты ничтожен в своей плюшевой мизантропии.
Шесть – ты ничтожен в своей духовной, физической и социальной организации: ты слаб телом, слаб духом и слаб как личность, ты перемещаешься вдоль стен, боишься и ненавидишь себя и других, не в состоянии дать отпор противникам ни словом, ни делом, твое тело уязвимое и рыхлое, словно темя у младенца, твое слово беззвучное как плевок в воду, твой удар хрупок как одуванчиковые семянки, ты пуст, слаб и ничтожен, ты моль, проевшая дыры в самой себе.
Семь – ты в неправильное время, в неправильном месте, с неправильными людьми, ты живешь не там, где хотел бы, не с теми с кем бы хотел, занимаешься противными тебе вещами, учишься на факультете чуждом тебе по специальности от которой ты безумно далек, ты называешь друзьями тех, в ком не видишь истинной дружбы и поддержки, те, кого ты любишь, плевали на тебя, те, кого ты уважаешь не видят тебя, те кто уважает и любит тебя, тебе безразличны, ты замкнулся, ты жрешь сам себя, ты не там, не тогда, не с теми, не тот, никто, ты ничтожен в своем небытии, ты не существуешь (ты никто, а когда ты станешь кем–то, то перестанешь быть собой – твои строки).
Достаточно? Я могу перечислять очень и очень долго.
Неясно: зачем ты живешь, для кого, ради чего? Ты слишком червь, чтобы быть человеком, но только потому, что ты червь, ты слишком скользок и выскальзываешь из всех петель, свитых тобой же. Продолжай дальше ткать свою паутину защиты и увязнешь в ней же, насекомое, единственная вещь, которая у тебя выходит превосходно – это убеждать себя, что все в порядке, когда на самом деле ты летишь в пропасть, вот и на этот раз, прочтя эти строки, придумай оправдание, скажи, что вчера ты просто был на эмоциях и что это все всего лишь истерический бред. Забудь все и удали этот файлик. Действуй, ничтожетсво!
С непомерно глубоким неуважением, Ты.»
А ниже красовались два стиха, первый посвящался мне и был озаглавлен как «монологоанатом», а второй, названный «Ты!» предназначался моей пассии и накануне был выложен в сеть для нее:
Монологоанатом
Ты!
Началось все, наверняка, как всегда с какой–то мелочи, я даже вряд ли вспомню с какой, кто–то что–то сказал не со зла, не подумав, второго это зацепило, вспылили, понеслась. На легкой неровности типа «не ответил(а) на смс», «посмотрел(а) не в ту сторону», «поставил(а) «лайк» под чьей–то фоткой в интернете». В итоге крики, сломанная клавиатура, разбитые костяшки пальцев, изорванные обои, новые записи на стенах, по–позерски порезанные руки. Все эмоции, выплеснутые в txt формат, я ни слова не помнил из, того, что написал сам себе вчера, я вообще плохо помнил вчерашний вечер, все эти вспышки аффекта стали дурно влиять на мою память.
Эрих Фромм написал: «Очень часто — и не только в обыденном словоупотреблении — садомазохизм смешивают с любовью. Особенно часто за проявления любви принимаются мазохистские явления. Полное самоотречение ради другого человека, отказ в его пользу от собственных прав и запросов — все это преподносится как образец «великой любви»; считается, что для любви нет лучшего доказательства, чем жертва и готовность отказаться от себя ради любимого человека. На самом же деле «любовь» в этих случаях является мазохистской привязанностью и коренится в потребности симбиоза». Так вот. Это та самая история, с поочередной сменой ролей. Ядерная пара: замкнутый меланхолик и неадекватная холеричка. Вот и вчерашний вечер закончился дичью, садистским мозгоебством двух незрелых, психически нездоровых личностей.
1.3.Рождение дзен саморазрушения.
Перечитав пестрящий желчными красками манифест ненависти к самому себе, я включил что–то из папки с заунывным ноу–вейвом, упал своим тельцем обратно на уже успевшую остыть постель и уставился в потолок. Или потолок уставился в меня. В этой беседе я сделал для себя три незначительных вывода касательно своего безрадостного положения. Во–первых, я устал так жить, очень, невероятно, никаких резервов; во–вторых, пора бы было уже что–то предпринять, прорвать блокаду бесконечной рутины; в третьих, я вряд ли способен на какие бы то ни было решительные действия, а потому предыдущие два вывода обращаются в прах.
Я вспомнил тот пресловутый миф о пещере, платоновский, о том, что люди якобы все скованны и видят лишь тени истинного мира, а все твое субъективное представление о мире – всего лишь иллюзия и ни хера ты на самом деле не видишь. На тот момент у меня складывалось ощущение, что я даже не тени вижу, а зеркальные отражения теней, или если быть проще: моя жизнь мне представлялась как просмотр сверхкачественного наимоднейшего фильма с кучей спецэффектов и 3Д моментов, только без специальных очков, с помехами и на черно–белом советском телевизоре, вроде олдскульного такого рубина с невъебенным тумблером для переключения каналов. Вроде бы жизнь как жизнь: семья, отношения, учеба, ну периодически работенка попадалась, компании, товарищи есть какие никакие, где–то успехи, где–то провалы, все как у людей, но все это ненасыщенно как–то.
Оказавшись в подобном эмоциональном и духовном отстойнике, наиболее разумным и единственно верным путем была бы попытка рационализировать происходящее, разложить по полочкам ситуацию и направить свою бурлящую энергию упадничества в позитивное русло. Я же, в своих лучших традициях, избрал путь контрпродуктивный, а именно:
1 – ввел в замешательство свой ум и начал беспокоится.
2 — начал категорично и жестко осуждать все, что происходит вокруг и всех, кто меня окружает.
3 – все сильнее обострял страх освободиться от привязанностей к вещам, людям, к своим защитным механизмам.
А для просветления ума стоит делать все наоборот.
У дзен–буддизма не мало общего с моей внутренней войной, ведь в нем всего–то и надо, что успокоить ум (читай: послать все к черту), прекратить безусловно осуждать все и всех (читай: послать все к черту), освободиться себя от привязанностей (читай: послать все к черту).
Дзен саморазрушения, вот он путь, в котором следовало бы посылать все и всех к чертям, и вообще на пути своего просветления не считаться с какими бы то ни было моральным, социальными или психологическими препонами. Это тот путь, который я хотел бы сделать своим, будь я чуточку увереннее и сильнее. Я бы хотел творить любой невообразимый бред и аморальный ад, словно безумец Чарльз Бронсон. Я бы хотел избавиться от всех привязанностей, попросту разорвав все связующие с социумом цепи. Хотел бы объективно и безоценочно взглянуть на мир.
Вот с такими вот твердыми намерениями и не менее твердой утренней эрекцией я вышел из своей комнатки и прошел мимо двух тел. Это был мой отчим с мамой, они тоже время от времени практикуют дзен саморазрушения, вот и вчера они были близки к просветлению, однако усталость сразила их наповал, да так, что отчим прямо и уснул в одежде на полу.
На самом деле, каким бы циничным я не был, я в иные моменты был очень рад за мою маму, например, когда она таки избавилась от предыдущего тоталитарного выблядка, домашнего гитлера, всеми любимого штурмбанфюрера семейного быта, так любившего отпускать всем пиздюли и через слово повторять «блядь». Я отлично помню, как он появился в нашем доме, помню раскиданное по просторам общаги нижнее белье и советские серые колготки на моей детской кровати и пару тел на соседнем диване, занятых какой–то невообразимой подвижной игрой, так забавлявшей меня, но абсолютно мне не понятной. Я тогда спросил у мамы «а что это вы делаете?», но мама лишь расплылась в пьяной улыбке и отрывисто ответила «ни–че–го… спа–а–ать иди–ии–и!». И с тех пор он жил с нами. Он любил выпить, и, достигая просветления, он очень часто блевал, сплевывал на ковер и заставлял это чистить, неповиновение каралось телесными наказаниями. Семейное насилие, тоталитаризм, беспробудное пьянство и обоюдная ненависть скрепляли нашу семью очень и очень долго. Кстати внешне мы были очень даже приличной семьей, ни намека на внутренние конфликты, царствовал мещанский снобизм и показуха. Среди друзей и знакомых семьи все старались выглядеть молодцами, пить только дорогое кофе, угощать всех лакомствами, хвастаться новым телевизором, ремонтом, бытовой гармонией. Говорят дети в таких семьях вырастают пассивными, неуверенными, несамостоятельными аутсайдерами с заниженной самооценкой и попадают в группу риска людей, склонных к суициду с мотивом самоустранения. Так вот, после лет 15 семейного трэша и угара, перманентных синяков после не менее перманентных пиздюлей, я в одной из очередных пьяных потасовок проломил голову своему первому отчиму и он ушел из семьи, потеряв статус альфа–самца. Так к чему это все? Я был рад за маму, когда у нее появился новый мужчина, этот замечательный, робкий мужичок, который ухаживал за ней, приезжал на машине, стеснялся меня в прихожей, а потом они, словно подростки, опьяненные любовью и дешевым вином из картонных коробок, шептались за стенкой, поскрипывали кроватью и приглушенно постанывали, прямо как тинейджеры в родительском доме. Я был очень рад. Хоть и не высыпался порой, но все же. Я думаю, многие взрослые люди заводят интриги уже, будучи в возрасте, дабы ощутить всю сладость этой подростковой игры, они будто молодеют на глазах, ведут себя как маленькие, ухаживают, стесняются, выпивают, чтобы осмелиться на новый шаг, они будто переносятся на 20–30 лет назад. Но потом все изменилось, новый отчим переехал к нам, пропил машину, уволился с работы и теперь спит пьяный на давно не пылесошенном ковре.
Я прошел на кухню. Меня всегда забавляла эта традиция всех пьяных людей – превращать в пепельницу любую посуду за неимением настоящей пепельницы, вот и сейчас на столе стояла старая сковорода, наполненная жиром, кусками рыбы путассу, ее же костями и головами вперемешку с пеплом и окурками балканки. Вот оно светское пиршество. Пару чакушечек, стоящих у ножки стола, только дополняли атмосферу тотальной чернухи. Но я не обращал на это внимания, я жил так практически с рождения. Взяв зубную щетку, я выдавил зубной пасты в два раза больше чем обычно – я всегда так делаю, когда просыпаюсь исполненный сил и уверенности в себе, будто ровная и толстая полоса зубной пасты может стать красной строкой в начале новой жизни.
Червь сомнения давно свербил в моем рассудке, нашептывая, что высшее образование не приносит знаний в незрелые головы студентов, а чтобы быть хорошим учеником, всего–навсего необходимо посещать пары и знать на зубок плотные потоки старческого маразма, слитого тебе в уши на лекциях. И лишь тогда ты можешь рассчитывать на хорошее отношение, добротные оценки, автоматы и благосклонность преподавателей, падких на самолюбование и нарциссическое восхищение своими научными степенями, статьями и никому кроме них самих ненужными монографиями.
С этим рассадником ложных идей и пустых, не применимых на практике знаний давно пора было бы покончить. Я не раз порывался войти в деканат и высказать все, что я думаю о происходящем, ну или как минимум робко написать заявление на отчисление, но каждый раз пресекал этот порыв шквалом страхов и нерешительности.
Итак, день был отмечен в календаре подсознания черным маркером серой реальности и обведен красным кругом отрешенности и дзен саморазрушения. Я просто поставил жирный черный крестик на всем, встав на старый новый путь апатии и тихой ненависти.
Глава 2. Падение дзен саморазрушения.
2.1. La Nausee.
Я накинул свое двухсотрублевое пальто и выскочил на улицу. Я не имел четко структурированного плана, и спланированной речи у меня еще не было, но в голове я соорудил каркас завершения давно мучавшего меня гештальта. Внутриличностные конфликты надо уничтожать, и расправа должна быть жесткой и бескомпромиссной, как порно с Аннет Шварц.
Я шел очень быстрым шагом. Но не потому, что стремился воплотить свой план в жизнь. Я навряд ли вспомню, когда в моих движениях появилась излишняя резкость и нервозная торопливость, возможно, я всегда так ходил, но что–то подсказывает мне, что тут есть некоторая увязка с моей нелюбовью к людям и обостренной социофобией. Кто–то может сказать, что любой человек стремиться идти быстро, дабы обогнать шествующего впереди, якобы это все подсознательное стремление к лидерству, первенству. Хуйня все это собачья. Лично я всегда передвигался быстро по одной простой причине: я просто испытываю неприязнь к окружающим. Я не могу смотреть на лица. Унылые, скучные, узколобые, озабоченные бытовым хламом, глаза с отсутствующим выражением. Я хочу скорее пробежать мимо них, не заглядывая в их пустые душонки, я разглядываю каждого обывателя на улицах города, я бы мог заглянуть глубже, но ограничиваюсь исключительно разглядыванием. Я не из тех, кто, увидев кучу дерьма станет тыкать его веточкой (хотя в детстве я любил отковыривать от асфальта засохшие смачные харчки возле магазинов, поскольку они при этом издавали очень забавный звонкий хруст, быть может, именно тогда зародилась моя любовь к нойзу и индастриалу). Я хожу быстрым шагом исключительно потому, что боюсь и терпеть не могу людей и себя, вернее сначала себя, а уже потом (и исключительно по этой причине) всех остальных. Я не только не хочу глубоко всматриваться в кого бы то ни было, но и не хочу впускать их в себя, я просто взбешен, когда кто–нибудь из прохожих начинает протыкать меня пристальным изучающим взглядом, будто выискивая изъян. Я не могу и не умею смотреть в глаза, я увожу взгляд в сторону, я не из тех псов, что рычат и огрызаются, глядя в глаза, я из тех шавок, что скулят и, поджимая хвост, забиваются в углы.
Предполагаю, что когда я был молод, очень молод, абсолютно молод, то бишь был сперматозоидом и несся сломя голову к яйцеклетке своей матери, я был так стремителен не столько потому, что был одержим инстинктами и природными стремлениями, а скорее всего уже тогда во мне зародилась мизантропия, я уже тогда возненавидел своих собратьев сперматозоидов, за их нелепые хвостики и неуклюжие движения. Я несся прочь от этих глупых уродцев и неожиданно для себя стал лидером и первым добрался до яйцеклетки. Ненависть и страх всегда были моими стимулами к развитию, всегда мотивировали меня к активным действиям и явились причиной всех моих немногочисленных жизненных достижений.
Иногда, в припадке творческого садизма, я целенаправленно отправлялся в людные скверы и парки, центральные улицы и прочие оживленные места, с целью начеркать в блокноте пару–тройку более–менее складных четверостиший, поскольку исключительно в состоянии агрессивной, истеричной одержимости у меня выходили, на мой взгляд, самые лучшие строки.
В один из таких моментов я достаточно ясно осознал, что человек есть сам творец рая или ада своего. Не то чтобы я приравнял в своих мыслях человека к богу, но творцом в каком–то смысле каждый человек для меня стал.
Погружаясь в сон, теряя сознание, опьяняя себя наркотиками или алкоголем, человек всегда окунается в нечто, вроде царства грез, сюрреального мира, созданного им самим, сотканного из мечтаний, стремлений, идей, одержимостей, всех тех вещей, эмоций, чувств, которыми одержим человек в обыденности. Человек погружается во что–то вроде мифического Нагльфара, корабля, целиком собранного из ногтей мертвецов. Какие именно ногти, и у каких мертвецов они будут выдраны – определяет каждый человек индивидуально. Скажем, если человек озабочен стремлением к богатству, просто одержим успехом и карьерой, то, соответственно, и во снах своих он видит себя богатым и успешным, быть может, это он видит не так явно, а скорее завуалировано, зашифровано, запутанно среди абсурдных символов сновидений, но, тем не менее, его преследуют именно эти идеи, именно они будут тревожить его и беспокоить в состоянии опьянения, будут настигать его во снах, сверлить его в подсознании и мотивировать в сознании. Можно взять более конкретный, более мелкий пример, скажем: девушка, озабоченная своим весом, своими формами, девушка, помешанная на диетах, девушка, стремящаяся к анорексичной худобе. Ей будут сниться ее желания или страхи, торчащие ребра или жировые складки, эфидрин–коэфициловые коктейли или обжаренная в кляре куриная грудка. Вдохнув, к примеру, смолы гашиша, эта девица погрузиться, скорее всего, в размышления о своей перфекции и путях к ее достижению, или растворится в довольстве своей фигурой, понимая худобу на каком–то сакральном, метафизическом уровне. Таким образом, любой человек, погружаясь в сюрреальный мир, попадает во власть своих страхов, желаний, грез и прочих воздушных замков, как осуществимых, так и фантастичных, как вполне благородных, так и греховных. Покидая реальность мы все попадаем на судна наших собственных Нагльфаров.
Аналогичная ситуация происходит и с человеком после его смерти, поскольку, умирая, человек покидает реальность навсегда. В разных религиях это финальное плавание обозначали по–разному, будь то банальные Рай и Ад, или царство Аида, Тартар, Шеол, Элизиум, Нирвана. В общих чертах суть везде была и есть одна – каждому человеку воздастся по его заслугам, по сотворенным на Земле деяниями, блаженный попадет в Рай, достигнет Нирваны, будет блуждать по Елисейским полям, а грешник, низвергнется в ад, будет вращаться в бесконечных кругах мучительных рейнкарнаций, попадет в небытие Тартара или еще какой–либо бездны.
Человек, утратив свою биологическую оболочку, потеряв связь с миром, навсегда остается в тех воздушных замках, которые строил всю свою реальную жизнь. Человек остается в вечности, созданной им самим, обреченный бесконечно блуждать среди тех идей–фикс, которыми он был одержим при жизни. Таким образом, тот самый человек из первого примера, который был помешан на успехе, будет бесконечно подниматься по карьерной лестнице, добиваться новых высот, ползти по головам и устраивать социальное гнездо, только уже в своем собственном Абсолюте, в своем персональном Раю/Аду. Тогда как девочка из второго примера будет блуждать среди бесконечности диет, нескончаемых торчащих костей, подсчетов калорий и пр.пр.пр. Конечно же, это все обобщающие и утрированные предметы, ведь на самом деле у каждого в жизни огромная масса забот и одержимостей, скелетов в шкафу, тараканов в голове, тайных и явных мыслей и желаний, вот все вышеперечисленное и должно составить загробный микс, сюрреальную вечность, порожденную обыденностью и реальностью.
Таким образом, выходит, что человек, проживший жизнь беззаботно, смотревший на жизнь позитивно, бывший оптимистом, соответственно и попадет во что–то, что в обыденном представлении можно обозначить как «Рай», при условии, если этот человек не таил скрытно свои обиды и негативные эмоции, не прятал свои греховные и постыдные мысли за вуалью благочестия. В то же время человек, движимый по жизни меланхоличными настроениями, впадающий в депрессии, человек мнительный и опасающийся, злобливый или желчный, двуличный или агрессивный — этот персонаж попадет, несомненно, во некое подобие «Ада», опять же это является лишь условным названием, не привязанным к какой–либо религии. Но и тут могут быть оговорки, ведь кто–то страдает от несчастья, а кто–то видит в них стимул к жизни, кто–то стремится жить в комфорте, а кто–то в своем мазохистском стремлении может доставлять себе духовные и физические увечья. Значит, каждый Рай и каждый Ад будет исключительно индивидуален, построен по тем замерам, параметрам какие сам человек задавал на протяжении всей своей жизни.
Выходит, что, скажем, маньяк–убийца, педофил, садист и прочие деструктивные с точки зрения общества личности, попадут в свой персональный Рай после смерти, где смогут безнаказанно насиловать и убивать, разрушать и уничтожать, получая от этого удовольствия, высвобождая свои желания и удовлетворяя свои похоти. А значит, никакого возмездия за совершенное зло не будет. Лишь сам преступник может наказать себя, к примеру, чувством вины, преследовавшим его в течение жизни. А если наш персонаж есть абсолютно аморальная личность, не знавшая чувства вины, а лишь получавшая неимоверное удовольствие от творимого бесчинства – такой персонаж свой Нагльфар построит из ногтей своих жертв и, с превеликим удовольствием, будет странствовать на нем в своей загробной жизни среди чужих страданий. Раз человек – сам себе демиург, следовательно, он сам себе и судья, а если он посчитает, что вины в его поступках нет, то и наказания он себе не назначит.
Тут у меня возникла еще одна мысль: если, скажем, убийца убивает маленького ребенка, значит, он преждевременно отправляет его в мир забвения, а, следовательно, ребенок попадет в сюрреальный, невинный мир, сотканный из детских представлений, детских желаний, детских грез. Такой мир, несомненно, станет Раем – вечное наивное детство (если не считать предсмертной агонии). Получается, что этот персонаж становится благодетелем, он освобождает ребенка от очерствления, огрубения, взросления. В то же время педофил, изнасиловавший и оставивший в живых маленького ребенка, обрекает его на глубокую психическую травму, а значит и сюрреальный мир его будет попран и изуродован. Получается, этот персонаж становится злодеем, причем не столько потому, что изнасиловал ребенка, а потому, что оставил его в живых. Можно сделать вывод, что убийство, исходя из данной логики, не грех, убийство может стать и актом благодетеля, все зависит лишь от самого убийцы, от того насколько гуманно он расправится с жертвой. Выходит и убийство может быть гуманным, а насильник может быть назван гуманным и даже благодетельным.
Если следовать этой идее до конца, выходит, что и понятий греховности и благодетели весьма размыты и субъективны. Человек – сам творец, а значит, он сам определяет границы добра и зла. И выходит, что общество, своими нормами и моралями, законами и традициями, правилами и запретами лишь вводит человека в состояние страха, долга, вины, заставляет его прятать, скрывать, переосмысливать, перефразировать, вуалировать свои истинные побуждения и желания, заставляет его подстраиваться под общепринятые ценности, выдумывать себе чужие мечты, стремиться к чужим перспективам и проживать чужую жизнь. А это все в итоге ведет к череде деструктивных стрессов и мощным внутриличностным конфликтам, что, в конце концов, разрушает, уродует, деформирует ту вечность, тот загробный мир, который мы должны создать в течение жизни. Ведь, исходя из этой мысли, весь смысл нашей реальной жизни лишь в том, чтобы создать такой внутренний мир, в котором мы бы смогли комфортно провести вечность.
Я понимаю, что тут огромное количество спорных моментов, над которыми можно размышлять и размышлять, я понимаю, что это все попахивает субъективным идеализмом, а местами прямо даже сквозит солипсизмом, я понимаю, что я не изобретаю велосипед и я не первый изложил подобные мысли, но, все же, я пришел к этому сам, я нашел в этом огромное количество пищи для размышлений, возможно где–то ошибочных. Эти мысли могут мотивировать человека к проживанию своей собственной жизни, а не чужой, к самоактуализации, самокопанию, к более глубокому пониманию себя и своих желаний. Кого–то это может привести к гедонизму, а кого–то к самосовершенствованию, одних это может навести на мысль о безнаказанности, а кого–то толкнуть на путь альтруизма. По сути это не важно, главное, что эти мысли могут заставить человека сдвинуться с места и начать жить так, как бы он этого хотел, пускай даже для своего субъективного счастья ему потребуется творить не самые благочестивые вещи, идти в разрез с нормами морали и правилами, установленными в обществе. И даже так: исходя из вышеизложенной логики, следовало бы и общественные законы и морали пересмотреть. Быть может, это просто было порождением очередного гашишно–гликодинового трипа, которое внезапно для себя было обнаружено в тот момент в моей голове или это просто было оправданием для моих собственных асоциальных желаний (второй вариант более вероятен).
Тем временем, моя родная альма–матер появилась в поле зрения. Провинциальный университет рассекал небеса своими пятью этажами, словно Барад–дур, разве что ока Саурона недоставало. Проскочив с десяток ступеней, я оказался на крыльце, забитом курящими студентами и преподавателями, облако смога окутывало центральный вход в цитадель знаний.
Я выгреб из карманов все автобусные билетики и сбросил в ближайшую урну, тем самым обозначив новую ступень в своем восхождении к свободе. Я очистил карманы от мусора, словно Тристан Тцара, разрушающий выдвижные ящики сознания.
Внутри меня встретила волна университетской вони: букет из запахов студенческого тунеядства, смрада научных степеней и докторских званий, тяжелый дух бесполезных знаний пропитывал каждый квадратный микрометр этих коридоров. А кафедра была просто насквозь пропитана духом бюрократии: маленькие столики для каждого преподавателя — все это напоминало загоны для одомашненного скота. Загоны для элитного скота, ученного скота, скота который должен обучать еще не зрелое, неопытное поголовье диковатых молодых зверят, обучать правилам интеллигентного, элитного, образованного скота. Скотобаза, инкубатор будущей прослойки дешевых, плохо квалифицированных специалистов и элитарных, высокооплачиваемых бездарей.
Эти морщинистые лбы и глаза в пелене старческих доктрин всегда внушали мне ужас, граничащий с отвращением, шайка бездельников, сидящих на государственном бюджете, аромат духов «красный октябрь», нелепые медные брошки на велюровых блузках с ватными плечами, все это воняло совком. Именно эти люди держали в своих ссохшихся ручонках всю энергию молодости, именно эти люди топили молодые умы в сливных бачках своих консервативных учений.
Однажды мне в голову пришла довольно занятная и сюрреалистичная фантазия. Мне привиделось, будто я стоял на старом стуле под красное дерево, этакая постсоветская табуретка, стоял я в своей комнате, свет в ней был приглушен, что придавало дополнительного драматизма всей ситуации. Лишь на фоне работал старый допотопный телевизор, с экрана которого вещали дикторы, вещали о захватывающих вещах, о новых успехах нашей мощной страны в аграрном, экономическом, социальном секторе, о новых успешных реформах, о фестивалях игры на ложках, о визитах одних чиновников к другим чиновникам. Дикторы вещали о диктаторах. Президенты и премьер–министры освещали комнату своими улыбками с телеэкранов. А я стоял на табуретке, продев шею в петлю из длинного usb провода. А передо мной в уютных креслах сидели представителя моей кафедры, они расселись в своих самых лучших платьях, купленных в ЦУМЕ еще при Брежневе, в своих самых лучших брошках из янтаря и малахита в обрамлении из золота. С надменным пафосом они глядели на меня и делали пометки. А я улыбался им старательно, учтиво, пресмыкаясь и демонстрируя весь свой талант лизоблюда, лицемера и скалозуба. На столах перед ними лежала моя предсмертная записка, распечатанная в нескольких экземплярах для каждого представителя комиссии. А потом я спрыгнул и повис. Повис в петле, покраснел и задыхался, бился в предсмертной агонии, пытался схватить еще глоточек воздуха, а жюри переговаривались, перешептывались, кто–то кивал, кто–то наоборот качал головой в недовольстве. Мой научный руководитель делал пометки в предсмертной записке, указывая на излишне публицистический стиль, неправильно построенные и не согласованные предложения, незаконченные абзацы и отсутствие ссылок на первоисточники. Мое тело обмякло и повисло в петле, а жюри скучковалось, вынося окончательный вердикт, они тыкали кончиками карандашей и ручек в сторону моего болтающегося в петле трупа и что–то неспешно обсуждали, скептично поглядывая на предсмертную записку. Затем заведующая кафедрой открыла свой журнальчик, и в графе рядом с моей фамилией нарисовала цифру 4. А в телевизоре премьер–министр рассказывал о введении инноваций в социальную сферу, модернизации ведомственного взаимодействия и развитии оборонного комплекса.
И я вновь ушел от темы.
Я стоял у дверей с табличкой зав.каф. Она давно приглашала меня в гости, но я настойчиво и учтиво избегал встречи с штурмбанфюрером нашей кафедры.
Сердце настукивало бешенные джазовые ритмы, я чувствовал себя словно девственник в свой первый раз. Плана действий у меня по–прежнему не было, я решил импровизировать: ведь так не сложно добиться отчисления. Я робко вошел и встал возле стола заведующей кафедры. Я всегда робко входил и вставал рядом, ожидая пока на меня обратят внимание и предложат сесть и изложить суть визита – такова уж моя робкая натура. Вот и в этот раз я никого не удивил.
Заведующая оторвалась от чтения очередной подшитой папки и взглянула на меня из под толстой оправы своих очков. Она что–то мне говорила, наверняка предлагала присесть и возмущалась по поводу моих задолженностей по дисциплинам, не вовремя сданным отчетам, но я ее не слышал, я весь трепетал, как открытая рваная рана, хорошенько присыпанная хлором. Я чувствовал себя кончиком языка, щекочущим оголенные провода. Руки едва заметно дрожали, ладони и лоб вспотели, по спине протекла капелька холодного пота, заставив меня передернуться, меня бил легкий озноб. Я готов был развернуться и уйти: ощущение, когда вдруг понимаешь, что переоценил свои возможности и был слишком самонадеян, момент, когда охватывает жуткий соблазн отказаться от уже начатой затеи, забиться обратно в угол и продолжать скулить как раньше, момент «а–может–ну–его–на–хуй–не–очень–то–и–хотелось». Со мной такое часто случалось, будь–то попытка сделать зарядку с утра или высказать все свои претензии кому–либо.
И как раз в этот момент я осознал, что любые сказанные сейчас мною слова, будут вязко стекать с моего языка подобно вязким, густым слюням, что конструктивной критики из всей этой затеи не выйдет, что я буду мямлить и нудить, пытаясь спровоцировать оппонента, но вместо этого лишь опозорюсь, выдав невнятную тираду, кишащую словами–паразитами, неуклюжими связками, запинками и нелогичными цепочками. Я прекрасно все чувствовал на подсознательном уровне, я наблюдал свою ненависть и отвращение к этим бюрократическим червям, к их старческому маразму, но я не мог красочно сформулировать и скомпилировать всю это злость в мощный посыл, не мог одной лишь импровизацией создать устный манифест, во мне было слишком мало Гитлера, слишком мало Кастро, во мне был только заика–имбецил.
Я открыл было рот, чтобы начать свою речь, я хотел высказать насколько я ненавижу их спутанный бюрократизированный аппарат, насколько они далеки от молодежи и студентов, да и от мира вообще, о том, что они оградились от окружающего реального мира стенами, построенными из научных статей, монографий, нормативно–правовых актов, разного рода публицистики, о том, что они не видят реальности за этими стенами, что они отчуждены, оторваны, жутко далеки от тех вещей, которым пытаются учить. В голове крутились мысли о том, как несправедлив механизм обучения, стирающий личность и индивидуальность, насколько глупа система, душащая креативность, система, навязывающие мышление по шаблону, заставляющая ставить сноски под каждой своей мыслью, да и в принципе не иметь своих мыслей, а формировать свое мышление из сносок, лишь цитировать, делать цитаты на цитаты, а цитаты заверять ссылками и сносками. Механизм, в котором абсолютно не важно: что, как, сколько и в каком качестве ты сделал, а важно лишь то, как ты за это отчитался, насколько грамотно и ГОСТно ты выполнил отчет по проделанной работе. Важны лишь бумаги, важны лишь отчеты, важны лишь протоколы, не важна личность. Не важны способности, не важны устремления, не важна индивидуальность. Зубри, посещай, монотонно считывай с листков скачанные с allbest доклады и ни в коем случае не смей мыслить, не смей иметь мнения, не пытайся спорить. Во мне кипел протест, кипела злоба и ненависть, перебродившая из страха, чувства вины и долга, меня разрывало недовольство схемой, исходя из которой ты всегда и всем будешь должен: ты должен преподавателям посещать и отвечать, учить и сдавать, ты должен научному руководителю писать, изучать, приносить исследования, ты должен зав.кафедрой, ты должен руководителям практики, ты должен в ходе учебного процесса, ты должен в ходе практики, ты должен в ходе сессии, и все бы ничего, но этот долг никогда не будет закрыт, это длительный, перманентный долг, долг бесконечный и невыполнимый, закрывая одну задолженность ты плавно перетекаешь в другую, а то и обретаешь несколько новых, сдав все хвосты ты всегда обнаружишь, что пока ты их обрубал, выросло в два раза больше новых, а по окончании учебы ты устроишься на работу, и там ты вольешься в новую системы подчинения и долга и так далее до бесконечности. В какой–то момент чувство долга начнет бродить и, осознав невозможность выполнить свой долг, ты начинаешь испытывать чувство вины, а чувство вины в свою очередь выльется либо в протест, либо, как в большинстве случаев и бывает, в безмерную покорность и отсутствие воли, загнанность и стирание лица в нескончаемых учебных, рабочих и бытовых коллапсах. Так ты становишься никем. Это бурлило во мне, это я хотел это высказать, но, в то же время, я прекрасно понимал, что слова, чуть только они сорвутся с языка, закапают на пол, как слюни, так и не собравшись в смачный плевок, и не долетев до лица неприятеля.
У меня закружилась голова, и я подошел к столу. Она все еще что–то говорила, я совсем не слышал, как, если вдруг выдернуть шнур с наушниками из гнезда и смотреть клип без звука. Я смотрел ей прямо в глаза, наверняка я выглядел как маньяк или так, словно мне стало очень дурно, вспотевшее лицо, дрожащие руки, молчание, стеклянные глаза. Меня и вправду тошнило. Я открыл рот и дал волю слюне. Из–за подмывающего чувства тошноты в моем рту было много жидкой, водянистой слюны. Она стала стекать по моим губам, с краев рта, к подбородку и капать с жидкой бородки на отчетные документы, оставляя на них мокрые пятна. Заведующая что–то кричала, с отвращением глядя на меня и откатившись в своем кресле подальше к стене, а я просто смотрел ей в глаза и ронял слюни на документы. Наверняка это было достаточно отвратительное зрелище.
Затем я окунул указательный и средний палец в рот и надавил на основание языка, вонзился пальцами в глотку, указательным теребил колокол язычка, вызывая рвоту. Она не смотрела на меня, а кричала что–то в сторону, наверняка звала кого–нибудь на помощь. И именно в этот момент я оросил ее ученый лоб своим желудочным соком, я не завтракал этим утром и поэтому смог из себя выдавить лишь порцию едкого, жутко пахнущего желтого сока. Она истерично верещала, а по ее волосам и лицу стекала рвота.
Я сплюнул на стол и вышел, к дверям кабинета к тому моменту уже ринулись все преподаватели кафедры, я растолкал этих старух и стареющих аспирантов локтями, кто–то из них попадал на пол, а я рванулся к дверям, надо было скорее скрыться подальше.
Охранник в нашем учебном заведении – это всего лишь престарелый разжиревший боров, который вряд ли сможет меня удержать, но мне хотелось бежать, скорее бежать, не задерживаясь больше здесь.
Этим миром правят одни старики, а охранять порядок им помогают другие старики, и подчиняются им в основном старики, судьбы определяют старики, и я имею ввиду не биологический возраст.
Я чувствовал себя дурно.
2.2. Крыса и гашиш.
Слившись воедино с ртутной массой прохожих, я скользил вниз по улице, прижимаясь то к бордюрам, то к стенам прилегающих магазинов. Я часто передвигался вдоль стен, словно тот классический пример меланхолика из учебных пособий по основам психологии. Но в этот раз мне особенно сильно хотелось отстраниться от людей и ползти по стене наощупь, закрыв глаза, чтобы не чувствовать на себе взгляды прохожих. А взгляды наверняка были. Еще бы. Я весьма скверно выглядел, наверняка был бледен словно 5 летний ребенок, вышедший из прививочного кабинета, глаза опустошены – две сквозные дыры. Вполне возможно, что на губах застыли капли засохшей рвоты, да и шел я весьма странно — моя мама обычно таких странных персонажей нарекает словосочетание «обколотый какой–то». Я и вправду был обколот: доза очередного провала растеклась по венам. Инъекция неудач. Я пошатывался и смотрел сквозь асфальт, можно было подумать, что я вижу земное ядро. Впечатлительные особи шарахались от меня, в то время как широкоплечие мордоплюи бесконечно бортовали меня плечами, отбрасывая на идущих позади тетечек и девочек, а я неряшливо извинялся перед ними, сбивчиво выдавая невнятный набор звуков, вызывая тем самым еще большее отвращение у себя и у окружающих. И так я продолжал движение.
Наконец я завернул в какой–то двор. По сути, неважно, что это за двор. Типичные трущобы типичной провинции: бетонные коробки с коврами, бельем и спутниковыми антеннами на балконах, сейфовые двери на подъездах, облупленные скамейки, выкрашенные в поносно–зеленые цвета, испещренные уличным искусством, мусор, вонь, шайки околочеловеков, собаки, собачье дерьмо, переполненные мусорки, детские площадки, похороненные под горами коричневых пустых полторашек, двушек, пятилитровых цистерн багбира, окурков, пустых бутыльков из под гликодина, упаковок триган–д, ремантадина и прочих напоминаний о культурно–развлекательном секторе молодежной политики.
Я шел по разбитому асфальту вдоль подъездов, заглядывая в окна и на балконы домов. Когда мне было 3–4 года, дворовая мразота с моего района лет 12–16, брала меня с моими маленькими друзьями гулять. Большой ватагой малолетних отморозков мы забредали в подобные дворы, после чего ребята постарше закидывали нас на балконы квартир первого этажа (решетки тогда еще установлены были не везде), мы скидывали старшим ребятам пустые пивные бутылки (русский народ имеет странную привычку коллекционировать пустую стеклотару на балконах), алюминиевые санки и все, что имело хоть малейшую ценность и что можно было перепродать или выменять у продавцов в ларьках на товар. Так мы обчищали несколько балконов, бутылки уносили в пункт приема стеклотары, все алюминиевое, медное и дюралевое тащили в пункты приема цветмета, остальное пытались впарить продавщицам в магазинах. Так у нас появлялись деньги на карманные расходы. Вернее не у нас, а у «старшаков», которые покупали себе дешевое крепкое пиво, полиэтиленновые пакеты, тюбики с клеем и дешевые сигареты, а нас они в благодарность за выполненную работу одаривали сладостями – жвачками с переводками, чупа–чупсами и прочими детскими радостями.
Подглядывание в чужие форточки, за чужие занавески навело меня на еще одну мысль, еще одну псевдофилософскую чушь. Я подумал о том, что в этих бетонных клетках растут и разрастаются гнезда человеческих пороков, именно у тихого, уютного и безмятежного домашнего очага взращивается и культивируется вся греховная грязь под ногтями нашего общества, все социальные паразиты сходят прямиком с конвейеров социальных ячеек. За каждой занавеской, за каждым стеклопакетом кроются мерзкие душонки, складирующие в свои шкафы все новых и новых скелетов, коллекционирующие в своих головах жутких тараканов, слизней и прочих сколопендр человеческого сознания. В каждой квартире кроются свои секреты, свои скандалы и семейные «трупы», замешанные на сексе, грязи, насилии, гедонизме, пьянстве, наркомании: кто–то насилует свою дочь, а кто–то более счастливый спит с дочерью по обоюдному согласию, да и к тому же снимает это на камеру для «ценителей» подобного кинематографа, кто–то растит нежеланного ребенка, которого просто не удалось вытравить противозачаточными, а аборт было поздно делать, кто–то растит вообще не своего ребенка, кто–то продает разбавленный спирт из под полы, а кто–то и дурью банчит, наверняка почти в каждом подъезде есть сын, избивающий мать, причем сын может быть 14 летним подростком, а может быть великовозрастным мужиком, где–то домашний тиран муштрует всю семью прилежанием и послушностью, кто–то годовалого ребенка в вспышке пьяной агрессии кормит дерьмом из подгузников, а кто–то малолетних детей поит паленой водкой на потеху гостям, кто–то спит с шлюхами в тайне от жены, кто–то тащит из дома микроволновки и миксеры в ближайший ларек, чтобы выменять на опохмел, кто–то стегает своих детей шнурами и кожаными ремнями с увесистыми бляхами, а кто–то свою жену избивает до полусмерти просто за то, что та плохо вымыла посуду или пришла с работы на 10 минут позже обычного. Этот список можно продолжать до бесконечности, в каждой семье, независимо от того, к какой страте она принадлежит, к какому классу и уровню достатка, будь то социумная плесень и андеркласс из трущоб или сливки олимпа общества из элитного жилья — везде есть свои скелеты, свои тайны, похороненные и сожженные в печах домашнего очага. Это такой семейный холокост со своим Освенцимом, где сжигают все те факты, воспоминания, что мешают семье выглядеть поистине арийской и благородной. Такие вещи обычно не выносятся за стены дома, остаются и гниют в рассудках и сердцах домочадцев, превращаясь в перегной и удобрение для будущих пороков и морального разложения: так изнасилованные дети становятся нечувствительны к своему телу и открывают каждой мрази доступ к нему, нежеланные дети ищут понимания и внимания в сектах, маргинальных тусовках, пьяном и наркотическом угаре, кто–то спивается, кто–то превращается в циничных недолюдей, кто–то выбирает путь насилия и умеет изъясняться только на языке агрессии и прпрпр. И так подобные плодят подобных, выросший в насилии, воспитает еще двух таких же. Потомственный алкоголизм, деструктивные роли, асоциальность, лживые установки, беспринципность и аморальность из поколения в поколение это передается по наследству и вот мы все живем в обществе, которое выдавливая прыщи на своем теле, не заметило, что утонуло в выдавленном гное. Это все банально и вполне понятно без вышеизложенного словесного потока, но так оно все еще яснее и нагляднее.
Пока я брел вдоль этих окон, обдумывая человеческие пороки, превращая соринки в чужих глазах в бревна, упорно не замечая склад лесоматериалов в своих глазах, я навел сам себя на мысль о том, что неплохо бы и самому слегка деградировать и оторваться от реальности, возложить венок скелетам в своем шкафу. Не мешало бы слегка расширить сознание, расслабиться и стереть из памяти воспоминания о последней неудаче. Я всегда так делаю, всегда бегу от реальности, если она меня не устраивает, просто в детстве я мог это делать без дополнительных катализаторов: мне было достаточно веника, чтобы представить себя Джимми Хендриксом, фломастеров, чтобы стать Сальвадором Дали, расчески, чтобы изобразить из себя Игги Попа, крышки от кастрюли, чтобы перевоплотиться в Артура Сенну. Теперь же мне была необходима как минимум четверть грамма, чтобы хотя бы на час стать самим собой.
Буквально в двух кварталах от тех дворов, в которых я ошивался, проживал мой не очень хороший знакомый по прозвищу Крыса. Этот парень родился и вырос в довольно авторитарной и патриархальной семье. Его отец, когда–то высокопоставленный вояка, нынче же обыкновенный предприниматель и коммерсант, был одержим дисциплиной и строгостью, этакий семейный Пол Пот, сторонник розог и кнутов, надзора и контроля, принципиальный и жесткий, «всего добившийся сам». Не желая терпеть домашнюю муштру и бытовой тоталитаризм, каким–то немыслимым образом сын стащил у отца порядка трех сотен тысяч рублей и рванул с этой суммой на пару дней в северную столицу. Не могу с точностью сказать, по каким каналам он все пробивал, как, каким образом и на кого он вышел, но, учитывая всем известные грошевые цены на вещества в СПБ, он прикупил примерно килограмм, по оптовой цене 200 рублей за 0,001. Запаковал кирпич в фольгу, замотал в плотный слой коричневого скотча, просто сунул в спортивную сумку, причесался, гладко выбрил лицо, одел приличный и опрятный костюм и поехал обычным плацкартом обратно к себе в провинцию, не вызвав никаких подозрений у охранников правопорядка. Возможно, это было просто везением. Возвратившись домой, он, с помощью незамысловатой диллерской магии, превратил килограмм в полтора и стал толкать в нашем городке по 1200 за один (стандартная цена для российской провинции), тем самым возымев 500 процентов чистой прибыли и превратив отцовские 300 тысяч в 1800000. Провернул он это все втайне от отца, так что, тот даже не заметил, как сумма исчезла из семейного бюджета и затем вернулась обратно. Теперь же этот парень снимал комнату в общаге и жил не особо напрягаясь, толкал примерно по 1–2 грамма в день исключительно проверенным людям. На карманные расходы ему вполне хватало, да и вдобавок ко всему, он сам убивался каждый вечер практический на халяву, попросту позволяя своим друзьям курить и ночевать в его берлоге в обмен на пару–тройку сытных напасов с уже купленного ими веса.
Именно так, пару месяцев назад я познакомился с ним через друзей друзей, он представился как «Крыса» (его настоящего имени я до сих пор не знаю), чем мне сразу понравился: далеко не каждый изберет и примет своим прозвищем символ агрессивности, гниения, распада, разрушения, чумы, бедствия и смерти, однако он лишь удивленно пожимал плечами и утверждал, что крыса символизирует плодовитость и удачливость, и проблема лишь в субъективном негативном восприятии и в моей жёстко фиксированной точке сборки. И вот как раз в тот день я вписывался в его обители и накуривал крысу его же халвой, купленной за мои деньги.
Впечатление он производил весьма странное: тихий психопат. Вся комната обклеена плакатами индустриальных, нойзовых и грайндовых групп, тотальный бардак и склад бульбов в мусорных пакетах. Из мебели – тумба, большой диван, весь в выжженных язвах, и стол, заваленный обертками от сладостей: шоколадок, печенья, конфет и пр., по центру стоял водник, собранный из пятилитровой кастрюли, колпака из двухлитровой колы и наперстка, рядом лежала разделочная доска и скальпель. Что меня еще порадовало в его берлоге, так это груды книг, разбросанные по углам и на столе: Берроуз, Гинзберг, Керуак, Бодлер, Рембо и прочие чудные торчки классической и битнической культуры. Стоит заметить, что, несмотря на такие свои утонченные вкусы в литературе, он был любителем гор–порно–грайнда и кинематографа в стиле снафф. Вообще он был немногословен и скуп на эмоции, был похож на тех ребят, которые молчат и улыбаются, учтиво здороваются с соседями, хорошо учатся, ведут себя тихо и никому не мешают, а потом, однажды, приходят в университет и расстреливают одногруппников или вырезают соседскую семью и кончают жизнь самоубийством. Наверняка у него была своя армия скелетов шкафу. Мне кажется, отец над ним издевался. Мне кажется, крыса ненавидел женщин. Мне кажется, он возбуждался и мастурбировал, залипая в снафф с разделанными девушками, изнасилованными трупами с головами в пакетах, перевязанными грудями и выпотрошенными внутренностями. Мне кажется, он рано или поздно сторчится или убьет кого–нибудь.
Я нащупал в кармане своего пальто несколько смятых купюр: десятки, пара полтинников и одна тысячная. Этого должно было бы быть достаточно, чтобы приобрести необходимое мне количество лекарства от реальности.
Медленно, но верно я подбирался к общаге: очередное типовое постсоветское захолустье, с пожарными лестницами, заваленными окурками и прочим мусором, разбитые окна первых этажей, исписанные входные двери, едва державшиеся на петлях, стойкий запах человеческой, кошачьей и собачьей мочи, шайки детишек – потенциальных шлюх и районных отморозков – играющих, за неимением компьютеров, в «квадрат» или «пекаря» — архаичные игры, попавшие под геноцид игровыми приставками где–то в начале нулевых.
Стоя на крыльце общаги, я вытирал рукавом пальто остатки рвоты на своих губах, второй рукой набирая смску «я через пару минут забегу, вписка есть?».
Я посмотрел по сторонам: слева на меня косилась шайка уже сформировавшихся выродков, они вышли на крыльцо покурить, по традиции присев на корточки: бритые затылки и прически а–ля «под троечку с челочкой», затертые спортивные мундиры и напрочь убитые тапки с мощной подошвой (у меня бабушка такие любила, пока не умерла). Ребятам наверняка не нравились мои слишком узкие джинсы и слишком черное пальто, слишком длинные волосы и слишком бледное лицо, да и вообще я был слишковат в их понимании, дерзковат в самовыражении и борзоват внешне. Никогда не понимал, как Крыса выживает в среде таких персонажей. Справа, у угла дома, резвились еще не сформировавшиеся выродки, личинки быдла носились и кидали друг в друга пустой полторашкой из–под пива, крича «сифа! сифа!». Пройдет время и эти девочки начнут курить твердый дукат или синий бонд, делать минеты этим мальчикам на задних сиденьях тонированных шестерок под аккомпанемент хитов европы плюс, мальчишки начнут плавить кастеты из свинца, выдранного из старых аккумуляторов и сносить друг дружке ебальники, все они дружно будут ходить в местные бары и накидываться дешевым пойлом, трахаться друг с другом, залетать, рожать себеподобных моральных уродов, создавая новое поколения общажной гниды, социальных вшей. Это к слову. К моей теории о потомственности и преемственности в очагах семейного порока.
Тем временем мой телефон провибрировал, выдав сообщение «Го», это значило, что все чисто, вписка и вес есть, а значит, нас ждет сеанс эскапизма и саморазрушения. Я ухмыльнулся ребятам слева и заскочил в подъезд.
Проскочив пару этажей, я увидел крысу, выглядывавшего в приоткрытый дверной проем: он был очень сонным и помятым – наверняка только недавно проснулся. Он был невысокого роста, однако, весьма крупных габаритов, амбалистый и коренастый от природы, как Гимли гном. Коротко стриженный и небритый, с отчужденным взглядом и загадочной улыбкой серийного убийцы, человек в себе, интроверт, всегда в безразмерных футболках с нечитаемыми логотипами грайндкор–банд. В принципе, он неплохо смотрелся бы в его излюбленном снаффе в роли насильника: типичная машина для убийства, широкоплечий небритый ублюдок, немногословный и безумный. В углу его комнаты валялись разборные гантели и штанга, а среди всего множества этикеток, склянок и прочего мусора в комнате я как–то нашел пустую ампулу омнадрена(андрогенный анаболический стероид, доступный, легальный и недорогой).
Он рукой пригласил меня внутрь, где меня ждала все та же картина: свалка бульбиков, сладостей, этикеток и книг. Играло что–то атмосферное и неспешное: какой–то спэйс–эмбиент с самого порога вводил в транс.
Я вытащил из пальто тысячную купюрку со словами «Со штуки сдача будет?» и, услышав в ответ лаконичное «Мгм», подложил смятую купюрку под томик Борхеса, лежащий на столе.
Крыса копался в каких–то своих коробочках. Спустя мгновение он извлек полиэтиленовый пакетик (кстати, я где–то читал, что эти закрывающиеся пакетики делают на специальных предприятиях инвалиды, старики, умственно–отсталые и прочие малоэффективные унтерменши, отправленные социумом в контейнеры для биомусора, вроде интернатов и спец домов), на дне пакетика лежал прямоугольный брусочек, напоминающий ломтик халвы.
«Летсгоу?» — крыса улыбнулся своей неповторимой улыбкой, вызывающей спазмы в спинном мозге и холодок мнительности во всем теле. Я кивнул.
«Бульб? водник? бонг? трубка?». Я был настроен более чем решительно и выбрал второй вариант ответа – с водного всегда мозги в брызги.
Крыса вытащил мою штуку из–под книги, запихнул в правый задний карман, вытащил кучку смятых купюрок из левого заднего кармана, отслюнявил четыре сотни и протянул мне. Затем он присел на диван, а я тем временем снял пальто и повесил его на кривой гвоздь, прибитый к входной двери. Крыса выпотрошил пакетик и бросил бедного гаррисона на прокрустово ложе разделочной доски, вооружился скальпелем и прицельно начал четвертование половинки. Интересно, представляет ли он в эти моменты себя Майком Майерсом или Чарльзом Мэнсоном, разделывающим тело жертвы? Я вот в детстве с азартом и задором кромсал хлеб большим тесаком, воображая себя поборником справедливости, а булку белого – своим заклятым врагом.
Кстати о хлебе: телом христовым традиционно считается хлеб, а кровью – винище. Учитывая то, что испокон веков многие шаманы, жрецы и прочие религиозные клоуны пытались поговорить с абсолютом, приобщиться к метафизическому, божественному восприятию мира при помощи галлюциногенных грибов, опиума, гашиша и прочих психоактивных веществ, я считаю, что справедливо было бы символом тела христова сделать кусочек гашиша и на крещении давать людишкам сладкие кексики с гаштетом. А винище заменить добротным абсентом на горькой полыни, ведь еще Альбер Камю говорил, что « боги выражаются в появлении солнца и благоухании абсента». Вот такой модернизация была бы в церквях: после крещения детей и запоздавших взрослых кормили бы кексами с дурью и поили настоящим абсентом, от чего у тех бы сносило к чертям крышу и во всем том антураже мистерии и религиозного пафоса ребята и впрямь могли бы пообщаться с Господом и проникнуться идеями Христа, такие метафизические практики позволили бы людям по настоящему уверовать, испытать ту самую «даровую благодать», «предмистические видения» и «полнокровный мистический опыт», как бы выразился Олдос Хаксли. Рождение во Христе, начатое с такого резвого расширения сознания, наверняка впечатляло бы людей и ставило бы их на путь знания и саморазвития. Ну, или на стезю саморазрушения и зависимости. Но это уже естественный отбор – не все же Христу решать, Природа тоже имеет голос. Гашиш и абсент – тело и кровь Христовы. Я бы был православным в этом параллельном мире.
Тем временем, крыса ровно порубил полку на четыре восьмушки, одну из которых бросил в наперсток: водник был в боевой готовности – поджигай и разговаривай с богом.
Через мгновение я уже тянул в себя дым из водника, едва сдерживая кашель, раздирая глотку едким смогом. Первые пару напасов, пока во мне еще живет мнительность, логичность, рациональность и способность трезво мыслить, в эти моменты всегда просыпается страх того, что это все очень вредно и опасно, что это чревато раком гортани и агрессивно жрет легкие, сушит мозг и мешает самореализации. Но мой путь дзен саморазрушения на то и создан, чтобы превращаться в большую раковую опухоль, не позволяя себя реализовываться. А значит, я на правильном пути.
Еще через мгновение я сидел на диване, опершись спиной на стену, пытаясь побороть внутренний поток мыслей, с доблестью дон кихота сражаясь с ветряными мельницами своего сознания, стараясь акцентировать внимание на какой–нибудь предметной мысли и остановиться на чем–то конкретном, но мысли растекались и неслись как автомобили на встречной полосе магистрали, врезались вспышками в мое сознание, оставляя в нем миникатастрофы. Гениальные вещи рождались и прогорали за мгновение, не оставляя и следа в памяти, единственное что оставалось – осадок восторга от того, что я приобщился и постиг эти вещи, пускай даже я их и не мог вспомнить через секунду после того, как познал.
Еще напас, и я лежал, медленно моргая, постепенно погружаясь в сон. Мышление дробилось на более мелкие составляющие, мир раскладывался на детали, процесс восприятия становился более детализированным. На фоне внешней безмятежности во мне рождались звезды идей, вспыхивали сверхновые и гиперновые. Прогорали и погибали, обращались в гравитационный коллапс и черные дыры, утягивая внутрь себя все, рожденное секунды назад. Вот она та самая метафизика. Я есть абсолют – внутри меня вселенная. Я часть абсолюта – вокруг меня вселенная. Все есть абсолют – все есть вселенная.
Я цеплялся за мысли, пытаясь довести до ума хотя бы одну идею, запомнить хотя бы основные положения, не растерять всю даровую благодать мистического опыта. Это у меня получалось из ряда вон плохо, мысли ускользали у меня из под носа, превращаясь в иррациональное и абстрактное месиво образов. Я решил зацепиться за свою старую мысль о педофилии, как страхе смерти, и латентной некрофилии, как характерной и социально одобряемой черте каждого гражданина и члена общества. Эта мысль была хоть чуточку проработана и поставлена на рельсы, осталось лишь заставить ее двигаться. Нет смысла отдавать свой разум наркотикам и погружаться в их мир, если ты при этом не ставишь своей первостепенной целью – принести что–то из этого мира, вытащить немного хаоса наружу, конвертировать иррациональное в рациональное или наоборот.
Мое сознание, находись оно в своем обычном – суженном – состоянии, наверняка гнало бы метлой эту невнятную и абсолютно необоснованную гипотезу о существовании двух доминирующих «филий» в обществе. Но твердый разбудил во мне синдром поиска глубинного смысла, и я сгенерировал бред.
Человеческой сознание представилось мне нагромождением из двух крайностей, по типу психоаналитических «id» и «superego», только на место подсознательного зверя «оно» встала педофилия, а нишу социальной доминанты «сверхэго» заняла некрофилия. Сложно теперь высечь искру разума из всего того образного и абсурдного сумбура, что творился в моей голове в тот момент, но общая суть такова: под педофилией я понимал не столько половое извращение (хотя и его тоже, как страх смерти, желание обладать юным телом, быть причастным к детству), а скорее волю к жизни, стремление и желание жить ярко и полно, словно ребенок, беззаботно, чисто, наивно и открыто. Таким образом, педофилия – есть юность и жизнь в рамках данной идеи. В то же время некрофилия опять же понимается гораздо шире. Некрофилия не в том смысле, который любит затрагивать Габриэль Витткопп в своих творениях. А несколько иная некрофилия, фроммовская что ли. Правда Фромм под некрофилией понимал чувство дискомфорта в обществе, ориентированном на созидательные ценности, культ войны и разрушения, террора и геноцида и агрессию как норму жизни. Я же воспринимаю некрофилию как некоторое отчуждение, отстранение от мира живого и реального, отчуждение, приходящее с возрастом. Некрофилия есть апатичное потребление, сухость эмоций, рациональность рассудка. Представитель среднего звена – типичный некрофил: он обхаживает свое гнездышко, выстраивает домашний уют, становится рабом своих вещей, испытывает патологическую тягу к ценностям мертвым и материальным, теряя при этом связь с ценностями живыми, реальными, духовными, а зачастую начинает испытывать отвращение к этим ценностям. Некрофилия – есть уныние быта и духовная смерть в рамках данной идеи. Так вот на стыке этих двух «филий» и рождается личность, подумал я в тот момент, человек вынужден выжигать некоторые детские радости в угоду общественным требованиям, люди говорят тише, чем кричат в детстве, люди отчуждаются и запираются, люди становятся более рациональными и менее эмоциональными, нежели будучи детьми. В процессе социализации происходит гибель ребенка, человек сам в себе убивает сначала дитя, затем подростка, со временем начиная получать удовольствие от этого: быть взрослее, быть солиднее, быть серьезнее — вот залог успеха, залог карьерного роста и успешной социализации, нужно просто выдавливать из себя по капле ребенка – чем вам не некрофилия. Если в детстве большинство людей вымаливают у родителей завести живность, морскую свинку, собаку или хомяка, то с возрастом те же самые люди становятся более рациональными в своих суждениях, начинают вести слегка затворнический образ жизни, ограничивая себя в общении как с природой, так и с социумом. Самое простое проявление подобной некрофилии – равнодушие взрослых к сладостям. Для детей сладости – есть символ восторга, радости, праздника и жизни, со временем сладости теряют свою ценность в глазах людей и превращаются в простое лакомство, а для кого–то даже в роскошь. Люди перестают любить общение, становятся безразличны к природе и всему живому, сужают круг своих развлечений и свобод, запираются в социальных ячейках, бетонных клетках, заковывают себя в быт и обывательщину добровольно, а порой даже с искренним желанием лишают себя истинных живых удовольствий, заменяя их удовольствиями ложными и искусственными. Происходит гниение и смерть личности в условиях технократии: забота о котенке или щенке воспринимается как пустая трата времени и ресурсов, в то время как забота о «железе», приобретение новейшего гаджета есть полезное и социально одобряемое времяпрепровождение. Коллекционирование всякого дерьма, вещизм, консюмеризм, городское отчуждение, апатия – признаки загнивания и некрофилии. На тех же, кто плохо социализируется, вешают ярлыки «ребенка», «инфантильного», «незрелой личности», «клоуна» и прпрпр. Я предположил, что и сексуальные отклонения рождаются именно в утробе этого конфликта между детством и социумом: педофил боится смерти, а некрофил — плохой социализации. Я не Карл Юнг, не Эрих Фромм и не Зигги Фрейд, в конце концов, поэтому не смогу объяснить все эти вещи на языке мудрости и науки, я все это понял в тот момент на инстинктивном, подсознательном уровне, а если и попытаюсь описать это все языком науки, то выйдет еще более нелепая околесица, нежели та, что изложена в этом абзаце (хотя куда уже бредовее).
Затем я, скорее всего, уснул.
2.3. Сон о странном парне.
Веки, акульими пастями сомкнулись на глазном яблоке и никак не хотели сдвигаться со своих мест, где–то между сердцем и глоткой замер рвотным позывом вчерашний «непрожеванный крик», чуть ниже кишечник, свился змеей и недовольно шипел и булькал, ноги отказывались слушаться хозяина, а пальцы на руках возомнили себя припадочными эпилептиками.
Собравшись с силами, он все–таки превозмог себя и разлепил веки. В глаза ударил коварно просочившийся сквозь занавески луч света, утренняя светозвуковая граната «Заря».
Тяжело дыша, он сполз с постели и осмотрелся: на подушке, пропитавшейся желудочным соком, лежали ошметки плохо переваренной пищи, кусочки чипсов и шоколада, вперемешку с размолотыми орешками из автомата, обильно залитые дешевым коньяком и вышеупомянутым желудочным соком. На табуретке рядом с постелью был разложен натюрморт: небрежно раскиданные обрывки фольги от шоколада, смятая засмоленная изнутри бутылка минералки с «пулевым ранением» в области таза, катеторная игла и мелкие крошки гашиша. Он обслюнявил средний палец, провел им по поверхности табуретки и слизнул крошки, почавкал – помимо низкого коэффициента увлажнения в пустыне его рта явно разлагались трупы вчерашнего вечера, оставляя мерзостный запах и вкус. Очень хотелось пить. Под табуретом притаилась неприконченная бутылка коньяка. Протянув руку, он поднял фляжку, откупорил и пронес горлышко перед ноздрями, запах дешевого алкоголя, мощная волна вони, спирт ударил в нос и по всему делу прошлась дрожь отвращения, умерев все там же: между сердцем и глоткой, рядом с «непрожеванным криком». Он опрокинул бутылку и двумя большими глотками жадно схватил остатки. С нижней губы скатились к подбородку пара капель, растворившись в зарослях двухнедельной небритости. По телу прошлась еще одна волна отвращения, схороненная в братской могиле глоткосердца с предыдущими волнами. На мгновение в его теле разгорелась война: кровь прилила к лицу и ушам, глаза заслезились, глотка разгорелась пламенем, а желудок рвотными судорогами пытался сплюнуть сброшенный в него коньяк. Его еще раз передернуло, и он одержал победу: организм проглотил очередную порцию алкоголя.
Сковыряв засохший гной с уголков глаз, он осмотрел комнатку: он не знал где именно находился, но это явно была дешевая забегаловка, мелкий отельчик, вроде тех, в которые обычно водят шлюх на ночь или скрываются от погони в голливудских фильмах. Ничего кроме жесткой пружинной кровати, покрытой пожелтевшим постельным, небольшого умывальника с зеркалом у дверей, табуретки и обшарпанного стола в комнате не было. На окнах занавески, покрытые полустершимися узорами, такие же желтые как постельное.
Он приложил руку к левой стороне груди: сердце остервенело молотилось, грозя проломить грудную клетку с ребрами и вырваться на волю, прочь от такого хозяина. Он провел по небритому подбородку, по лицу, по длинным засалившимся волосам. Он был мерзок. В уголках губ скопились засохшие слюни, в бороде капли застывшей рвоты, ресницы в гнойном инее. На нем были синие затасканные джинсы, давно не видевшие стирки, в пятнах от коньяка и еще бог знает чего, покрытая небольшими дырочками от крошек раскаленного гашиша черная футболка с изображением обложки альбома Pink Floyd «the dark side of the moon». Запястье опоясывал тонкий ремешок черной кожи с круглыми часами, стрелки показывали 10 часов 49 минут. Он пригляделся. Секундная стрелка шла вспять, отсчитывая время назад. Почему–то это его не удивило.
Еще раз, тяжело вздохнув, он подошел к раковине и взглянул в зеркало, где его ждало худощавое, но вместе с тем опухшее лицо постаревшего подростка, волосы блестящими лоскутками спадали на засыпанные пеплом и грязью глаза, губы пересохли и потрескались, напоминая поверхность каменистой пустыни.
Он включил кран, полилась едва теплая вода ржавого цвета, но это не имело для него особого значения – он ополоснул лицо, тщательно промыл глаза, прополоскал рот, заодно вдоволь напившись ржавой водой. Взглянув на себя в зеркало еще раз, он решил побриться. На раковине лежал футляр с опасной бритвой, но попытки открыть его не увенчались успехом, защелку намертво заклинило от ржавчины, основательно покрывшей футляр. Он с силой ударил крышкой об край раковины, и футляр раскрылся, бритва, звонко ударившись об пол, раскрылась, а вместе с ней выпали два мягких куска мяса, шмякнулись на пол и раскатились в разные стороны. Он присмотрелся. Кусочки оставили после себя красный шлейф – по–видимому, это были свежие куски мяса. С кровью. Он наклонился и поднял один из них: это был глаз, человеческий глаз с голубой радужкой, от глаза тянулись нервы и шмотки плоти. Он вздрогнул и оглянулся, только теперь заметив, что в комнате был еще кто–то помимо него. Бросив глаз в раковину, он вернулся к кровати. Спиной к нему лежала обнаженная девушка, настолько худая, что сквозь ее кожу практический просвечивали ребра, а каждый позвонок, казалось, вот–вот прорвет кожу изнутри, оголив трицератопсовый хребет. Взяв девушку за острое плечо, он развернул тело к себе лицом. Девушка была невероятно красива: пухлые чувственные губы, ярко разукрашенные красной помадой, были грубо зашиты черными нитками, неаккуратно заштопанные рваные раны до ушей, имитировавшие улыбку. Глазницы пусты — несомненно, это ее глаза лежали в футляре — под глазницами подтеки из свернувшейся крови образовывали замысловатый узор. Разглядывая девушку, он понимал, что эта картина вызывает в нем восторг. Ничего не вызывало тревоги и отвращения. Это было нормально. Лишь любопытство: он не знал кто она такая и кто он сам такой, где он, почему он тут, что произошло вчера, да и вообще, что было в прошлом, он был абсолютно потерян в пространстве и времени, он не узнавал человека, смотревшего на него из зазеркалья, он не узнавал эту мертвую шлюху, а она явно была шлюхой, но его восхищал ее вид: синие омертвевшие соски маленькой, практически детской груди, худое, остроконечное, бритвенное тело, тонкая побелевшая кожа, аккуратно выбритый лобок, синяки на коленях, шее и руках, рваный улыбающийся рот, макияж из запекшейся крови, под пустыми, бездонными глазницами, спутанные, лохматые волосы. Все в ней было идеально.
Он присел рядом с девушкой, провел кончиками пальцев по остывшему телу, по волосам, после поцеловал девушку в зашитые губы и накрыл простыней. Встал, поднял бритву с пола, ополоснул под краном и срезал спутавшиеся колтуны волос со своей головы, бриться он передумал и, сразу упаковав бритву в футляр, положил в задний карман джинсов. В углу комнаты кучей были сбросаны вещи, порывшись в них и, обнаружив помимо кружевного белья и использованных презервативов черное пальто с огромным капюшоном, накинул его на себя, обулся в тяжелые коричневые ботинки на шнуровке, закутался в капюшон и еще раз огляделся. Улыбнувшись, он направился к двери, отдернул щеколду и вышел в коридор. Наугад пошел налево, и вышел к лестнице, спустившись на первый этаж, прошел мимо мирно спящей за журналом разжиревшей женщины–вахтерши, разложившей свои вторые подбородки вокруг себя словно подушку. Вернувшись к столу вахтерши, он выдвинул ящик опрометчиво не запертой кассы и вытащил несколько купюр разного достоинства, горсть разноцветной мелочи и скинул это все в карман пальто, направившись к выходу.
Улица ослепила его утренним светом, еще одна светозвуковая граната оглушила его на мгновение. Часы показывали 10.13, он был в каком–то порту, кругом сновали мужики в рабочей форме, таскали тюки и ящики, неподалеку пришвартовались несколько судов, еще чуть поодаль рабочая техника погружала на баржу древесину. Значит, он был в портовой забегаловке с портовой шлюхой. Он снова улыбнулся. Поглубже спрятавшись в капюшон от солнца и людских взглядов он опять наугад повернул налево, перебирая в кармане мелочь из отеля. Он вынул одну из монет и, подбросив ее, поймал, бросил на тыльную сторону ладони: это был американский юбилейный четвертак с девизом штата Нью–Хэмпшир: «живи свободно или умри». Он нахмурился и продолжил шествие.
Завидев вдали старый, заброшенный маяк он почему–то ясно осознал, что ему нужно туда: его просто рвануло туда какой–то неведомой силой, словно кто–то дернул его за плечо, зазывая прогуляться вместе. Он ускорил шаг, хотя ноги были ватные и плохо слушались хозяина.
Он шел вдоль берега, а ему навстречу стремительно ползла змея из человеческих лиц и плеч, его то и дело пихали и толкали, бросая в след оскорбления и ругательства, на что он лишь глубже погружал шею в плечи, прячась в капюшон, и до боли сжимал мелочь в кармане, оставляя кровавые рубцы от впившихся в ладони монет.
Пройдя практически весь порт, он свернул на небольшую тропинку, ведущую сквозь скудный лесок прямиком к маяку. Это был старый маяк с заколоченными окнами, покрашенный в красно–белую полоску, кирпичный, местами обвалившийся и потерявший цвет, весь искрашенный городской живописью: тегами, абстрактными рисунками, похабщиной, именами бывших тут подростков.
В затылке рванул детонатор, и боль разлилась по всему телу, он сжался и согнулся пополам, его откинуло в сторону, к дереву справа от него. Он ухватился одной рукой за ствол, второй держась за живот. Между глоткой и сердцем проснулся непрожеванный крик и стал плясать на братских могилах. Его мутило, все тело сводило одной большой судорогой, нос заложило, а из глаз потекли слезы. Кислые слюни наполнили рот в предвкушении рвоты. Он сплюнул на землю, жадно впитавшую его слюну. Потом еще раз. И еще. Из его глотки на землю хлынула волна красно–желтой жидкости, утренний коньяк все–таки вырвался наружу. Он сплюнул остатки склизкого сока. Вытер слезы, глубоко вздохнул несколько раз, от чего у него закружилась голова. Придя в себя, он продолжил подниматься по тропинке сквозь лесочек.
Тропинка была узкая, но хорошо протоптанная, по обе стороны от нее торчали облезлые тонкие деревья, практически без ветвей и листвы и обсохшие помирающие кустики, тут и там попадались пустые упаковки от еды, разного рода сладостей и соленых закусок, бутылки от алкоголя, завязанные на узелок презервативы с мутной спермой их бывших обладателей, шприцы и дырявые пластиковые бутылки.
Маяк уже был совсем близко. Он еще прибавил шагу, завидев вдали небольшую группу людей, их было трое: две девушки и один мужчина. Они тоже заметили его и повернулись все втроем в ожидании гостя. Он ясно понимал, что это именно те, кто ему нужен и что он на верном пути.
Он приблизился. Стоявший перед ним мужчина был достаточно взрослым, лет 45–50 на вид, азиатской внешности: раскосые глаза, широкие скулы, смуглая кожа, короткие черные волосы, весьма внушительного телосложения, с выпирающим животом и широкими плечами, одет он был в мятую черную рубашку, неаккуратно заправленную в брюки с неровными, давно не проглаженными стрелками, туфли были покрыты слоем пыли. Мужчина с недоверием и скепсисом поглядывал на своего гостя, не зная чего ожидать, на постоянного клиента гость похож не был. Девушки были близняшками, видимо его дочки, стояли они поодаль, и были весьма неопределенного возраста на вид. Обе азиатки, но с бледной, густо напудренной кожей, ярко подведенными глазами и ярко–алыми губами, покрытыми жирным слоем помады. В ярких безвкусных вещицах, коротеньких юбочках в складку, коротких цветастых футболках они создавали впечатление малолетних школьниц–нимфеток. Они тупо пялились на своего гостя, хлопая длинными густо намалеванными ресницами.
Он дрожащими руками вытащил несколько мятых купюр из кармана пальто и протянул их мужчине, тот брезгливо взял их, послюнявил палец и отсчитал. Еще раз недоверчиво посмотрел на гостя и хрипловатым басом проговорил:
— Полчаса у тебя, выбирай любую.
Он кивнул капюшоном и ткнул пальцем в ту, что стояла слева, она явно была более тощей и хрупкой на вид, да и взгляд у нее был остервенелым, острым, из нее выйдет неплохая кукла. Девочка изобразила утомление и недовольство, клиент ей явно не нравился. Она посмотрела на отца, изображая жертву, на что отец выпалил:
— Не кривляйся! – отец сжал кулак, одетый в массивную поблескивающую золотом печатку. Дочь изобразила кротость, развернулась и двинулась к входу в маяк. Гость пошел вслед за ней. Отворив дверь, она жестом пропустила его вперед, всем своим видом изображая недовольство и отвращение, но с опаской поглядывая на отца, отец лишь кивнул.
Гость перешагнул через порог: внутри было сыро и грязно, штукатурка отсырела и обвалилась на прогнивший пол, по стенам и потолку тянулись дорожки сырости, все было пропитано запахом гниющего дерева, старых тряпок и сырой земли. Всюду в полу зияли дыры, наполненные накапавшей с потолка водой, стены местами просвечивали насквозь. Прямо за порогом начиналась шаткая деревянная винтовая лестница, половина ступеней которой были либо переломлены пополам, либо грозили вот–вот проломиться. Он шагнул на первую ступень, она мучительно застонала под его ничтожным весом. Он оглянулся: девочка изображала нетерпение и раздражительность его медлительностью, жестами пытаясь поторопить клиента. Он сжал скулы и начал неуверенно подниматься по лестнице, девочка последовала за ним.
Наверху их ждала дверь. За дверью располагалась небольшая комнатка, видимо ранее служившая обителью смотрителя маяка. Жилище также было в упадке: полки с книгами обвалились на пол, а сами книги были разбросаны по полу комнатушки, размякшие и рванные, в покрытых пузырями обложках: Прудон, Ганди, Маркс, Грамши, Бакунин. В углу комнаты стоял небольшой бильярдный стол, заставленный пустыми бутылками из–под разных сортов алкоголя и заваленный пустыми полиэтиленовыми пакетиками и прочим хламом. Бильярдные шары раскатились по полу, перемешавшись с мусором и книгами. В другом углу стояла кушетка, продавленная, с проржавевшими ножками, матрас весь в желтых пятнах. Над кроватью висел потерявший цвет плакат с Че Геварой и подписью на испанском «mas vale morir de pie que vivir de rodillias!».
Девочка сняла туфли, сбросив их у постели, сняла через голову футболку, обнажив практически отсутствующую грудь, с огромными сосками. У нее было тело ребенка, очень худого ребенка с выпирающими ключицами, тонкими бледными ручками, хрупкими ребрами, шеей толщиной с запястье, немного кривоватыми тощими ножками. Она скинула юбку. Он все еще стоял в пальто и улыбался. Откинув капюшон, он приблизился к ней, робко взял ее за запястья, целуя в шею, дрожь в руках пропала. Девочка покорно принимала ласки. Он уложил ее на постель и кончиком языка коснулся кончиков сосков, провел пальцами по волосам, все также улыбаясь. Девушка изображала удивление таким учтивым поведением клиента. Он спустил руки с волос, пальцем коснулся мочек ушей, погладил бледную кожу ее плеч. Затем обе его руки оказались на ее детской шейке. Он улыбнулся и взглянул ей в глаза. Она изобразила взаимность. Он легко обхватил и сдавил ее тонкую шейку. Девушка попыталась вскочить с кровати, но он прижал свое колено к ее груди, не давая встать, он сдавливал шею все сильнее, девочка хрипела, пытаясь кричать и звать на помощь, хаотично махала руками, пытаясь зацепить, поцарапать, скинуть его с себя, но все это было безрезультатно. Он сдавил ее плоть еще сильнее, налег всем телом на ее грудь, жилы на его шее вздулись узлами, он покраснел, а по лбу пробежала дорожка пота, желваки на его щеках ходили ходуном, он был в предвкушении. Он чувствовал, что все делает верно. Девочка слабела, уже не могла поднять рук и лишь изредка пыталась вяло сопротивляться. Наконец ее тело совсем обмякло, в глазах кроме страха появился особый блеск. Он знал этот блеск, он и теперь знал, что надо делать дальше.
Потянувшись к заднему карману, он вынул футляр с бритвой. Он ударил им об край постели, звон металла разлетелся по помещению, вонзившись в уши, заставив его поморщиться.
Бритва была в его руках. Широко улыбаясь, он нарисовал столь же широкую улыбку на губах своей избранницы, ручейки крови скатывались по ее щекам, смешиваясь с общим узором сырых пятен от воды, напитков и спермы на простынях. Она улыбалась ему. Улыбалась широко. Он знал, что теперь все идет как надо, все в его руках, время не идет больше вспять, он знает кто он такой, где он, что он делает и зачем, он больше не был потерян. Он улыбался ей в ответ. Теперь только ее глаза портили картину: испуганные, злые, растерянные глаза. Это стоило исправить.
Он срезал веки, глубоко впившись бритвой в глазницы. Сначала один глаз, затем и второй оказались в футляре. Он улыбался. В кармане пальто он нашел оставленные предыдущей ночью нитки с иголкой. Грубыми стежками он зафиксировал улыбку на ее лице навсегда. Теперь она была идеальна. Он радовался. Он улыбался. Он плакал. Часы показывали 9.12.
И тут лестница снаружи застонала.
— Эй! У вас там все в порядке? – за дверью кричал отец.
Тело гостя пробила судорога. Он резко бросился к двери и задвинул щеколду. Руки трясло все сильнее. Теперь в нем родилась тревога. А отец уже стоял за дверью и колотил в нее, выкрикивая имя дочери и проклятья в адрес гостя, но тот не понимал ни слова, мысли потоком хлестали как кровь из артерии, каждый стук врезался в стенки головы изнутри, пульсируя, тревога нарастала, он больше не улыбался. А отец уже перестал стучать в дверь, он настойчиво таранил ее плечом либо пытался вынести ногами. Дверь едва держалась на петлях, да и щеколда долго бы не вытянула под таким резвым натиском обезумевшего отца.
Гость бросился к своей девочке, обнял ее тело и прижался к груди. Она безмятежно улыбалась. Ее глаза лежали на полу, в окружении бильярдных шаров. Он боялся. Дверь потихоньку поддавалась, еще пара минут и отец будет внутри. Он не поймет. Он не почувствует. Он не знает.
Он смотрел своими испуганными глазами в ее испуганные глаза. В его дрожащих руках звенело лезвие. Он перевел взгляд на бильярдный шар. «Живи свободно или умри» шептал ему четвертак, «mas vale morir de pie que vivir de rodillias!» кричал ему плакат со стены. Томик Юкио Мисимы лежал у него в ногах, взглянув на него, он вспомнил, что, в древней Японии, самураи, застигнутые врасплох, неспособные в ситуации, угрожавшей их чести провести обряд сэппуку в соответствии с традициями, просто перерезали артерии на шее и бросались на противника, сохранив тем самым свое достоинство. «Путь искренности в смерти» — в голове пронеслись строки из сокрытого в листве. И он больше не дрожал, он больше не боялся. Он улыбался. Он поцеловал девочку, почувствовав шелковые нити своими губами. Накрыл ее простыней и встал напротив дверей.
Дверь вот–вот должна была слететь с петель. Он стоял наперевес с бритвой и улыбался. Удар. Удар. Удар. На часах 9.10.
Он решил.
Сейчас.
Он приложил лезвие к артерии на своей шее. Бритва нежно лизнула его от ключиц к подбородку, плоть раскрыла свои объятья. Он еще раз окунул лезвие в кожу, уже с другой стороны. Сок хлынул из его артерий. Дверь, наконец, слетела. Отец ворвался в комнату и опешил, он стоял застывший и испуганный: среди всего того хаоса, что творился в маяке лежал труп его дочери без глаз и с зашитым ртом, ее глаза лежали на полу среди бильярдных шаров, а посреди комнаты стоял гость, сочащийся кровью с улыбкой на лице, кровь хлестала и стекала на пол, а он улыбался. Вторая дочь выглядывала из–за спины отца, изображая страх.
Гость кинулся на отца и вогнал ему бритву, вошедшую как в масло, в левый глаз. Отец завопил и бросился в сторону, пытаясь выдрать лезвие из глазного яблока. Дочь завизжала и кинулась вниз, спотыкаясь об ветхие ступени.
Он упал на колени, больше у него сил не было. Отец хрипло вопил в углу комнаты, истекая кровью, одна его дочь, изображая панику, кричала на улице, призывая на помощь, другая широко улыбалась. И он теперь улыбался вместе с ней. На часах было 9.11.
Глава 3. Встреча выпускников декаданса.
3.1. Паломничество к храму этилового спирта.
На часах было 9.11 вечера когда я проснулся. Мозг обволакивала пелена пост–гашишного синдрома в купе с невнятным эмбиентом, жужжащим в колонках. Крыса спал на полу, свернувшись в позе эмбриона, а я словно «царь во дворца» расположился на диване, хаотично раскидав свои конечности по его поверхности. Ощущение вязкости и торможения намертво впилось в сознание: создавалось впечатление, будто бы весь мир погрузили в желе, на самом же деле желе в этот момент было лишь в моей черепной коробке.
Всегда чувствовал себя нелепо, читая на форумах истории прожженных торчей, описывавших свои кумары и ломки после длительного употребления хмурого, куда мне там с моим баловством, но, тем не менее, я стабильно заливал слюнями клавиатуру вчитываясь в описания мощных трипов от лсд, доба, мдма,2сиби и прочих drugметаллов, доступных лишь столичным рейверам и тусовщикам. У нас же на селе молодежь лишь заливала в свои хоботы цикломед, поглощала сиропы от кашля, триганде, баклофен, ремантадин, гавнокурила преимущественно ядреными синтетическими смесями, да изредка баловалась скоростями, ну и в сезон – август+сентябрь — блуждала по полям в поисках псилоцибиновых прушек. Вот такие вот забавы у молодежи, досуг и культурно–развлекательные мероприятия.
Я сполз с уютной теплой постельки, выковырял засохший гной из уголков глаз, выпил минералки из полторашки на столе, попутно пожалев о том, что по дороге к Крысе не купил колы или еще какой вкуснейший напиток — заливать сушняк колой или соком – удовольствие сравнимое с оргазмом. Попутно я вспоминал странные сны, посещавшие меня этой ночью, то есть днем. Анализировать желания не было, да и что там было анализировать – тупая сюрреальная мизантропия, альтерэго в царстве грез устроил расправу над шлюшками. Сделал пометку на запястье ручкой – «шлюхи, бритвы, глаза» — я всегда так делаю, когда хочу позже записать и художественно оформить какой–либо из своих снов.
Я растолкал крысу – «закройся» — «ахъгагъ» — в глазах его тлел вселенский похуизм и два желания – напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднести к устам своим и досмотреть сон. Он вытащил огромный черный мусорный пакет и, спихнув в него все обертки, этикетки, фантики и пластиковые бутылки, замотанные фольгой, вручил мне. Пакет на деле оказался довольно вместительным и прозрачным, поэтому, выйдя на улицу, я светил перед районной гопотой парой десятков бульбуляторов в пакете, ярко поблескивающих кусочками фольги в свете вечерних фонарей. Ребята понимающе ухмылялись, кивая в мою сторону головой и переговаривались – ну хотя бы в этом у «псевдоинтеллектуальных господ» вроде меня есть взаимопонимание с «примитивными плебеями» вроде них.
Я унылой походкой шествовал мимо подъезда, волнительно ожидая встречи с участковым или еще каким доблестным поллюционером. Однажды я побывал в местном отделении ГНК и, отвечая на вопросы следователя, заметил у него в кабинете пакетики, набитые бульбиками и опечатанные – по всей видимости, вещдоки. Не хотел бы я, чтобы мой безмерный пакет оказался в таком кабинете.
Господь услышал мои молитвы, и я беспрепятственно дошел до мусорных баков, доверху заваленных сокровищами. Один из баков венчала уверенная псина – императрица трэша. Я кинул пакет к ее ногам, на что она бурно отреагировала, начав обнюхивать и тыкать носом полиэтилен, но была разочарована содержимым.
Вынырнув из дворов на одну из центральных улиц нашего чудного города я присел на скамейку, спрятав шею в воротник пальто. Я глядел в асфальт. Планов действия не было, телефон разрядился, наверняка он переполнен пропущенными звонками и смсками, источающими ревность и ненависть. Бедный аппарат пропустил через себя слишком много словесной желчи и едких смсок. Идти было абсолютно некуда, поэтому я двинул вниз по улице в сторону своего дома.
Я никогда не отличался особым человеколюбием и гуманизмом, но в моменты недосыпа, отходняков и разного похмельного синдрома во мне с лютой яростью просыпается ненависть к людям, особенно к их медлительности. Раздражение вызывали разгуливающие обрюзгшие тетки, загораживающие весь проход, не позволяя пройти или хоть как–то обойти их туши, толстые люди вызывали особую ненависть за свою привычку сильно размахивать руками при ходьбе – возможно причиной этому служили спасательные круги жира на их талиях; мужики из числа рабочего класса, с огромными спортивными наплечными сумками, набитыми банками из–под пюре или супа («тормозки» на работу); медлительные старухи, еле тащащие свои потроха. Я бесился, если не мог обойти тетечек с кучей пакетов и сумок, наполненных крупами, сахарами, картошками, дешевыми пряниками и печеньками к чаю. Ненавидел мразоту с банками коктейлей и бутылками пива в руках. Независимо от возраста они вызывали у меня отвращение своим убогим внешним видом, убогими разговорами о проведенных в школе/ПТУ/институте/работе днях, последних пьянках и сочной ебле. Хотя, стоит признаться, сам я был немногим лучше их. Раздражали овуляшки–мамаши, прогуливающиеся с колясками, особенно бродящие отрядами по трое–четверо со своими «пузожителями» — они занимали всю дорогу и даже не намеревались посторониться или пропустить кого–то, наивно полагая, что биомусор в их коляске дает им какие–то привилегии и преимущества перед другими людьми. Такую же ненависть я испытывал и к беременным неуклюжим особям, да и вообще ко всем, кто как–либо преграждал мой путь, но я никогда ничего не говорил, моя робость не позволяла мне даже попросить уступить мне дорогу – все, что я делал, это молча плелся позади, сжимая кулаки в карманах пальто или же с силой втыкая кончик отвертки (я всегда ношу отвертку в своем кармане на случай, если слов в беседе с представителями улиц не хватит – хотя, стоит отметить, что моя ссыкливая сущность не позволила мне ни разу воспользоваться отверткой, а лишь заставляла меня поджимать хвостик и скуля находить оправдания своей трусости) в большой палец. Порой я обходил людей чуть ли не по противоположной стороне улицы или же оббегал их по проезжей части, балансировал на бордюрах, шлепал по лужам, а зимой ползал по сугробам. Я просто шел и всех ненавидел: этого за медлительность, этих за нелепое сочетание шмотья, тех за разговоры, за унылое лицо, за кривые зубы, за короткие штаны, за рванные кроссовки, меховые шубы, слишком модный, слишком немодный, слишком вульгарная, слишком пуританская, слишком высокомерная, слишком хипстерская, слишком, слишком, слишком.
Исполненный ненависти к человечеству, воображая жестокую расправу над каждым идущим спереди или позади меня, я продолжал шествие, оказавшись, наконец, на перекрестке двух центральных улиц моего города. Остановился на светофоре, наблюдая за проезжающими автомобилями – металлическими оцинкованными гробами с колесами – еще одна технократическая некрофилия. Вечно мешающие, гудящие, скрипящие, шумящие, не дающие спокойно перейти на другую сторону дороги, не позволяющие насладиться музыкой, играющей в наушниках, вечно торопящиеся, загромождающие все дворы и проходы своими убогими железками, считающие себя полновластными хозяевами дорог и городов, испытывающие презрение к пешеходам.
Размышляя об этом, я почувствовал чью то ладонь на своем плече – я обернулся: передо мной стоял мой друг, один из тех, кого я без зазрения совести и сомнений мог бы назвать своим другом, положиться, довериться, поведать о всем том, дерьме, что плодиться и кипит в стенах моей черепной коробки, при этом рассчитывая на поддержку, понимание и просто угар и здравый сарказм и иронию. Еще с детских лет все прозвали его Казимир, за пылкую страсть к росписи стен подъездов, дверей машин и вообще всего, на что ложилась краска различными тегами и незамысловатыми рисунками. Казимир стоял позади и тянул мне свою ладонь, я нелепо ухмыльнулся и пожал руку, после чего в моей голове, как в голове человека, претендующего на звание самого мнительного параноика в мире, пронеслась мысль о том, не слишком ли сильно я пожал руку. Он поинтересовался, куда я направляюсь, на что я сбивчиво и сумбурно дал понять, что планов не имею и бреду бесцельно, куда глаза глядят. Как оказалось, он тоже шел особо ниоткуда и направлялся особо в никуда и ему так–то тоже плевать и планов на вечер нет – такие вот дела, потерянное поколение, идем из ниоткуда идем в никуда без цели, без мотива, без причин.
Мы помялись на перекрестке пару минут, пропустив пару зеленых на светофоре, обмениваясь краткими репликами и вопросами по поводу последних изменений в наших никчемных жизнях, после чего решили прогуляться вниз до местного парка, обсудить животрепещущие и актуальные вопросы и, возможно, зарядить вены дозой алкоголя.
Теперь я неспешно плелся со своим товарищем по улочке, на ходу обсуждая всякую ерунду. Вскоре мы добрались до какой–то забегаловки: готическая винтовая лестница вела в нелепо оформленный подвал, деревянные столы и стулья, выполненные с претензией на ирландский паб, мягко говоря, негармонично смотрелись с потолком, украшенным диско–шаром, и стенами, покрытыми имитацией советских агит–плакатов. Оформители и хозяева бара наверняка считали такой подход очень оригинальным, креативным и нестандартным, на деле же все это в совокупности смотрелось как обильный пестрый сблев после плотного завтрака из винегрета, яичницы, апельсинового сока и бутербродов с шоколадной пастой.
Я скинул пальто и повесил его на не менее гармонично смотрящиеся золотистые пластиковые крючки. Мы взяли по стакану самого дешевого и самого крепкого пива, поскольку целью нашей было, помимо культурной светской беседы, было приблизиться к сакральному и мистическому восприятию мироздания через алкогольную нуминозность.
Держа в руках полулитровый пластиковый стакан с горьким пивом, я чувствовал себя Перегрином Туком с пинтой темного эля в трактире «Гарцующий пони».
Когда–то давно, когда мне было лет 9, а моя мать работала в ларьке разливного пива, я нашел для себя довольно неплохой источник заработка: каждый день после школы я приходил в ту самую забегаловку, собирал все использованные стаканы из урн и тщательно мыл их в подсобке киоска, смывая слюни, пену и помаду, аккуратно сушил полотенцем и отдавал маме, после чего она пускала их обратно в продажу. Круговорот стаканов в киоске. В день я отмывал примерно 50 стаканов, а в праздничные и выходные дни и до ста, имея с каждого по рублю, огребая таким образом 50–100 рублей чистого кэша на карманные расходы. Тратил вырученные деньги я чаще всего на разнообразную ерунду, вроде журналов с плакатами типа «Все звезды», в погоне за постерами с изображением Нирваны, Эксплойтед и прочих героев моей юности. Примерно раз в месяц, я ездил в магазин рок–атрибутики, где приобретал банданы, например оффспринг, кассеты, напульсники, торбы и прочий хлам. Как вариант, накупал в местном ларьке кассет по 16 рублей за штуку, тем самым скопив огромную коллекцию разносортного музыкального хлама, вроде трибьюта КИСС, неизвестных альбомов Слипкнот, гритест хитс оф Блэк Саббат и прочих. Тогда, за неимением интернета, журналы и пиратские кассеты были единственными источниками информации для меня. Никаких фэнзинов и трушных форумов у меня под рукой не было, но, тем не менее, стоит признать, что это были одни из самых счастливых дней моего детства, когда плаката Мадвэйн или кассеты Айрон Мэйден хватало, чтобы обеспечить себя радостью на несколько недель вперед. Правда именно тогда я впервые отхватил неробких пиздюлей от дворовой гопоты за несоответствующий внешний вид, если быть точным за бандану оффспринг и клепанный напульсник. Тогда на вопрос «слышь, ты панк что ли? Что вообще за панк знаешь?», я ответил что–то вроде «да ладно вам ребят», после уже лежал на асфальте и бил ребрами ноги старшеклассников. Разрыдался как сопляк, хотя я им и был тогда – 10 летний щенок. Банданку мою отобрали и обоссали в три струи, напульсник забрали себе. А я после этого, униженный и оскорбленный, скуля, пополз домой, держась за ребра, всхлипывая и жалея себя. Удивительно, но серьгу из уха мне тогда не выдрали.
Расположившись в угрюмой и нелепой забегаловке, мы развлекали себя, греша празднословием, обсуждая разномастные темы: последние сворованные из интернета релизы маткор банд, эйсид джаз, набравший котировок в среде модников и позеров хардкор–панк с его продажными, попахивающими гнильцой и лицемерием шаблонными идеями свободы, равенства и братства, показной бравады и маскулинности, ебучим стрэйт–эйджем, веганством и активной гражданской позицией. Мы с большей теплотой относились, скажем, к аморальным персонажам вроде Джи Джи Аллина, нежели к прилизанным лащенным пидоркам на крестах с их ссаным юф–крю и энергией молодсти и юнити, позитивными идеями и прочей однообразной чепухой. Между делом покичились своим снобизмом, обсудив пару–тройку моднейших фильмов, вспомнили Тимоти Лири и Соломона, обложили плотной бранью Кастанеду и его последователей, обменялись впечатлениями, оставшимися от опыта метафизических практик: я поведал о тех плато, что достиг, испив декстрометорфановой цикуты, а он рассказал мне об истинах, что постиг, вкусив сушенных Псилоцибе Кубенсис. Беседа пестрила занятными словесными оборотами, вроде: «Мы, блядь, постоянно хотим куда–то прийти, достичь каких–то ебучих высот и постичь какие–то ебанные истины, но, блядь, как мы можем куда–то на хуй выйти, куда–то, блядь, попасть, чего–то, блядь, достичь, если мы никуда ни хуя не уходили и ничего, блядь, никогда не понимали, мы, блядь, статичны, а может нас вообще на хуй нет, может мы все кому–то, сука, снимся, или Господь ебашится в симс, мы же пиздец как далеки от объективных истин, да и какие на хуй объективные истины, их может быть тоже вообще и нет ни хуя, само понятие объективные истины ни разу, блядь, не объективное, сама суть объективности слишком субъективна в этом ебанном ограниченном человеческом восприятии, короче все это хуйня собачья, и, как говорил Соломон, хуета хует, нет ничего и все, блядь, бренно, смысла никакого ебучего ни в чем нет и не будет, надо меньше ебать себе мозги и раздумывать, не философствовать, а, сука, жить, без всякой лишней псевдоинтеллектуальной хуеты, многие, блядь, знания приносят многие несчастья, такая вот хуйня». Философия баров и кабаков, Сократы и Платоны живут на социальном дне 21 века, трактаты гибнут трактирах – кладбищах идей и мыслей.
Влив в себя примерно по 4 литра пива, мы, в конце концов, пришли к выводу о том, что изрядно захмелели, и было бы неплохо выйти — вдохнуть свежего воздуха и взбодриться. Не помню, кому из нас взбрело в голову после этого отправиться в клуб, учитывая то, что зажигать под «джони ля ханта эста ми лока» — это немного не наш репертуар. Но, тем не менее, было решено отправиться на поиски приключений именно в это сомнительное заведение.
Казимир уверенно бортовал прохожих, пихал плечами гопников, провоцируя их на конфликты. Он, будучи довольно крупным парнем, бритым под ноль, со щетиной и острыми скулами и так был довольно внушительным и грозным, а под воздействием алкоголя, его взгляд начинал блистать жуткой свирепостью, скулы словно становились еще острее, а желваки ходили ходуном. При одном взгляде на него гопники терялись, а после учтивой фразы «че, блядь? сказать мне что–то хочешь, паскуда?» те совсем проглатывали языки, таким образом, до драки у него дело доходило редко.
По дороге я переложил отвертку из кармана пальто, заправив ее в ремень джинсов, и прикрыл сверху поло, воображая себя настоящим уличным псом и очень опасным парнем. Тем временем мы практически добрались до самого популярного клуба нашего убогого городка (стоит отметить, что клуб был не менее убог).
Вход клуба мерцал, блистал и переливался разными цветами, крыльцо было усеяно созвездиями окурков и плевков, отражающих переливы клубных огней. Молодежь у входа активно знакомилась и общалась, сбившись в небольшие стайки по 3–4 человека, потенциальные сексуальные партнеры принюхивались друг к другу.
Мы прошли мимо стаек внутрь клуба, в этот момент мое робкое сердечко замерло на мгновение, а в следующее мгновение начало колотится особенно сильно. Каждый раз, когда я прохожу мимо стаек альфасамцов и альфасамок, я испытываю робость и какой–то аккуратный страх, не то чтобы панику, скорее маленькую тревогу «а вдруг плечом задену, ебало разобьют». В итоге мы прошли внутрь, Казимир оплатил вход, я скинул свое немодное пальто в раздевалку, оставшись в джинсах и потертом поло, застегнутом до самого верха. Последняя пуговица несколько сдавливала сонные артерии и затрудняла дыхание, однако я никогда ее не расстегивал, и всегда был укутан по самую шею, поскольку считал, что только так я до конца соответствовал своему амплуа конченного задрота и социопатичного выблядка.
Охранник нехотя нас ощупал и провел металлоискателем вдоль моих ног и туловища, детектор пикнул, на что я невнятно промямлил, что–то вроде «ремень клепаный». Охранник презрительно окинул меня взглядом, видимо решив, что рахитичный дрищ вроде меня угрозы представлять не может, и пропустил в клуб, Казимир шаткой походкой проследовал за мной.
Клуб встретил нас назойливыми, пожирающими мозг басами и прямой бочкой, долбившей примерно 180 BPM. Тела вокруг сливались в нелепом танце, все те же потенциальные половые партнеры танцевали предбрачные танцы, самки заманивали самцов, самцы самок. Танцы. Все были готовы к случке, лобки, наверняка, выбриты, рожи намазаны тональным кремом, косметикой, заказанной из каталогов на задних партах институтов, колледжей, техникумов; парни, наверняка, одели свои самые стильные трусы, а девушки черные прозрачные стринги; брови выщипаны, прыщи выдавлены. Еще один сорт элитного скота готов к спариванию. Но в тот момент я не испытывал отвращения к этим персонажам, я глядел на них скорее даже с завистью, ведь знал, что в силу своей робости и застенчивости вряд ли способен влиться в этот праздник танца, весьма сомнительными были мои шансы на случку этой ночью, поэтому я, руководствуясь очередным защитным механизмом просто присел на диванчики в углу клуба.
Слева от меня сидела блондинка в джинсовом костюме: жилет–короткая юбка, сидела–потягивала апельсиновый коктейль через трубочку и улыбалась, пила–улыбалась–глядела на танцпол и ритмично двигалась в такт бочке, она наверняка присела просто отдохнуть после утомивших ее танцев, отдохнуть, влить чуточку живительного алкоголя в свою ротовую полость и присоединиться к танцующим вновь. Она даже не замечала меня, а я вглядывался в ее лицо, в замазанные тонаком угри и прыщики на лице, поры, отчетливо проступающие в моменты вспышек огней, белые катышки на плечах, светящиеся в лучах неоновой подсветки. Это все было так мерзковато, убого, нелепо, что я переключил свой взгляд на Казимира, ошивающегося у бара: он взял два коктейля, по всей видимости, те же, что и у дамы левее. Присев рядом, он один из них вручил мне. Я вынул трубочку и залпом выпил примерно половину стакана, поскольку сушняк меня начал мучать еще в середине пути в клуб.
Я чувствовал, как кончик отвертки упирается мне в пах, чувствовал, как капелька пота бежит по моей спине, чувствовал, как от девушки пахнет дешевыми духами эйвон или фаберлик, чувствовал, как от Казимира тянет перегаром и потом, чувствовал, как болит голова от непрерывной прямой бочки и басов, чувствовал, как алкоголь горячей струей течет по моему пищеводу, слегка обжигая внутренности, вливается в желудок, он уже всасывался организмом и я это тоже чувствовал, поскольку визуальная картинка слегка замерцала и расплылась, а музыка доносилась с эхом. Коктейль оказался довольно крепким.
Казимир, будучи более уверенным и смелым молодым человеком, решил присоединиться к танцующей толпе, сказав предварительно мне на ухо что–то вроде «не скучай, я ща», я же решил прогуляться до уборной, ополоснуть лицо холодной водой, немного прийти в себя.
Взяв наполовину пустой стакан, я двинулся в направлении туалета, однако меня сильно повело, голова закружилась, возможно, от голода, возможно от изрядной дозы алкоголя в крови. Я ухватился за спинку стула, закрыл глаза, все кругом кружилось, так называемые вертолеты. Я присел. Оказался за столом с тремя абсолютно незнакомыми дамами, они удивленно взирали на меня своими пустыми глазенками, одна из них заинтересованно улыбалась, поглядывая то на меня, то на подруг; другой особе было совсем безразлично все происходящее, она посасывала напитки и смотрела сквозь меня, на кого–то в толпе; последняя дама, сидевшая прямо напротив меня, испытывала, по всей видимости, какое–то невероятное негодования из–за моего появления, была разгорячена и возмущена, она с гневом и отвращением смотрела прямо мне в глаза, всем своим видом показывая недовольство. Я улыбнулся ей. Она скорчила мину презрения и пренебрежения. Девушка справа засмеялась и спросила «ты кто?», я растерялся, я всегда теряюсь, когда более–менее красивые люди пытаются интересоваться моей персоной, при этом я становлюсь абсолютно не дееспособен, и не могу ответить на элементарные вопросы, поскольку считаю, что раз мной заинтересовались, значит, я ответить должен что–то оригинальное, иначе разочарую персон. Так произошло и в этот раз. От девушки напротив послышался мерзкий смешок, девушка справа мило посмеялась, девушке слева было плевать.
В моей голове все падало и рушилось, возрастала энтропия, творился хаос и сумбур, я пытался найти, что ответить дамам, дабы не выглядеть полным мудаком, но вместо этого, путался еще больше в своих мыслях. Я словно неуклюжий толстый человек из второсортных комедий, который пытаясь вернуть все на свои места, своим жирным животом сносит еще больше вещей и крушит все вокруг своей толстой задницей. Мое сознание было самой неуклюжей моей частью. Чокнутый профессор.
«Тебе что надо тут?» задала вопрос дама напротив, я вновь растерялся, в голове пронеслась фраза, оброненная кем–то когда–то, совет мне, как научиться общаться с людьми, говорить бред, нести все, что взбредёт в голову, не задумываясь, нестись на волнах потока сознания. Я улыбнулся и сказал «Привет».
«Ох ебать, да он разговаривать умеет» послышалось мне в ответ от самой нелицеприятной самки, девушка справа засмеялась, девушка слева повернула ко мне свою голову. Я еще раз улыбнулся, своей глупой робкой улыбкой, коронной доброжелательностью, кричащей что–то вроде «смотрите, я хочу понравиться всем, смотрите я бесхребетная тряпка, смотрите, я боюсь вас и вашего мнения, пожалуйста, думайте обо мне хорошо, я доброжелателен, я позитивен, я улыбчив, пожалуйста, составьте обо мне хорошее мнение».
Я решил выдать тираду, просто поговорить, поделиться мыслями, я обратил свой взгляд на девушку справа, она улыбалась, на мгновение мне показалось, что я могу ей нравиться, и я, глядя ей в глаза и обращаясь только к ней, выдал что–то вроде «Вы ведь читали сказки Льюиса Кэролла? Читали ведь? Про Алису? В зазеркалье? Ну, так там есть такой занятный спор между Алисой, Траляля и Труляля, по поводу того, что все сняться Черному Королю, что все ненастоящее. Помните? Нет? Ну да это и не суть важно. Я об этом думал и решил, что бог – безумен, а вся вселенная – его шизоидный бред и галлюцинации. Вот. Я просто подумал, что бог ведь тоже однажды очнулся и понял, что он есть абсолют, всемогущий и безграничный. Наверняка он очень страдал, один, в бездне и хаосе, среди тьмы и в тотальном одиночестве, ведь какой прок от могущества, безграничной силы и прочих божественных сверхспособностей, если ты навечно один, толку от того, что ты совершенен, нет, да и совершенен ты лишь по той причине, что сравнивать тебя не с кем. Наверняка в определенный момент весь хаос и вся бесконечность вокруг стала восприниматься Им как клетка или камера, наверняка ему было очень страшно одному, несмотря даже на то, что Он – бог. Человек, окажись он в таком месте сразу бы сошел с ума или постарался покончить жизнь самоубийством, а Он, наверняка провел там целую вечность, и обречен был на такую же безграничную вечность впереди, мне кажется, даже господь бессилен перед одиночеством и пустотой. Вот тогда он и сошел с ума, просто рехнулся, в своем бреду создал наш сумасшедший мир, сотворил себе подобных людей и всяких животных – все, на что хватило фантазии, ну а поскольку он был безумен, то, соответственно, и наш мир получился не совсем адекватным, люди несуразными, странными, каждый со своими заморочками и страхами, скелетами. Наш мир – по сути сюрреален и тут даже не нужны Сальвадоры Дали и Андре Бретоны, наш мир и без них безумен и полон абсурда, благодаря безумию своего творца. Выходит, что весь мир держится на сознании одного безумца, ведь, когда люди спят, они тоже проектируют маленькие мирки и вселенные со своими персонажами, своей архитектурой, своей логикой, своими слонами и черепахами, но мирки эти маленькие и недолговечные, поскольку людское сознание слабое и примитивное. В то время, как господь может удерживать в своем сознании целые вселенные, с миллиардами персонажей, характеров и личностей, а также прочий антураж в виде законов физики, например. Так вот, я и решил, что все мы привиделись господу в припадке безумия, вызванного беспросветным и нескончаемым одиночеством во мраке хаоса, он компенсировал это вымышленными людьми. Наверняка, он бродит в обличии сумасшедшего бомжа с кучей сумок и лохмотьев или живет в какой–нибудь хибаре, сумасшедший старик, о котором слагают легенды дворовые детишки, а он всего лишь – бог. Учитывая, что время в его сознании течет по–другому, то наверняка наша вселенная – не первая и не последняя, в какой–то момент он проснется, отойдет от галлюцинаций и психозов и некоторое время проживет в гармонии с собой, до тех пор, пока период ремиссии не закончиться и его сознание вновь не сорвется с цепи и не создаст новую вселенную галлюцинаторного бреда, наверняка, более яркую и более сюрреальную, более абсурдную. И так будет продолжаться вечно, миры будут достигать с каждым разом нового пика своей абсурдности, бог будет сходить с ума, пока навечно не погрузиться в абсолютный, бесконечный шизоидный, сюрреальный сон. Как–то так».
Мой голос предательски дрожал в тот момент, интонации скакали как у подростка с ломающимся голосом, но я, тем не менее, говорил громко и отчетливо, хотя по большей части говорил сам собой, поскольку девушка слева лишь изредка поглядывала на меня, бросая недоумевающие взгляды по типу, «какого хера вообще происходит», девушка справа явно потешалась надо мной, оборачиваясь к подругам и смеясь, пусть и мило, но смеясь в голос над моей нелепой улыбкой и моими нелепыми речами, девушка напротив просто закипала и шевелила губами, шепча, по всей видимости, какие–то проклятия. Когда я закончил, я спрятал свой взгляд в стол и замолчал, осознав, что спорол хуйню не там и не тем, кому стоило это говорить.
Девушку справа я развеселил весьма и весьма, она до сих пор посмеивалась, девушка слева до сих глядела сквозь меня, девушка напротив прокричала «да ты же ебанный фрик, вали отсюда на хуй, придурок!», девушка справа просто разразилась заливистым смехом, я понял, что пора сваливать. Я залпом допил свой стакан и собирался уже вставать, но позади меня возник внушительный персонаж, скорее всего это был парень одной из сидящих за столом девушек, скорее всего той, что сидела напротив, поскольку именно она расплылась в довольной улыбке, как только увидела своего возлюбленного позади меня.
Не то чтобы парень был прямо огромным, но, учитывая конституцию моего тела, его 85–90 килограмм были в полтора раза больше моих. Он спросил у девушек что–то вроде «что за петух?», девушки рассмеялись, даже та, что сидела слева. «Может ты поговорить на улице хочешь?» самец решил проявить свою маскулинность, показать кто хозяин положения.
Отвертка все еще упиралась мне в пах. Последняя доза алкоголя действовала весьма резво, и перед моими глазами уже все плыло и мерцало, однако и пьяной бравады в моих висках прибыло. Я решил, что терять мне нечего и встал, слегка пошатнувшись, я попытался пройти мимо парня, однако тот схватил меня за плечо, довольно таки больно сжав мои хрупкие ключицы, на что я ответил «руки свои убери, падаль», «Тебе пизда», в ответ услышал я, он отпустил меня и толкнул в спину, головой кивнув в сторону выхода. Я глазами выискивал в толпе своего друга, но его нигде не было, одна из девушек позади проводила меня фразой «удачи, придурок», не трудно догадаться, кто это был.
У выхода я натолкнулся на ту самую блондинку в джинсовом костюме, я попытался заглянуть ей в глаза, мне почему–то казалось, что она чем–то может мне помочь, однако она расплылась в улыбке перед быком, просто блистая благоговением перед этим стильным и спортивным парнем позади меня, я потупил взгляд и направился к раздевалке.
Забрав свое пальто и накинув его на плечи, я вышел на улицу и завернул за клуб, бык следовал за мной, что–то попездывая в спину, наверное, какие–то угрозы. Я ощупал рукоятку отвертки и крепко сжал ее в ладони, раздумывая, куда воткнуть ее противнику и главное как. Я понимал, что моими единственными преимуществами были отвертка и возможность ударить первым, воспользовавшись эффектом неожиданности.
Я выхватил отвертку из ремня и с замахом попытался воткнуть ее в висок оппонентку, однако солидное количество выпитого сыграло свою роль, я неуклюже замахнулся, выглядело это глупее потасовок в шоу бенни хилла, разве что моим движениям не хватало смешной озвучки.
Я даже не успел промахнуться, как голова быка, вернее его лоб прилетел мне в переносицу, носок его туфли с силой вонзился мне в пах, я согнулся пополам. Фаталити: удар ногой в голову. Я откинулся на спину, ударившись затылком об асфальт, отвертка вылетела из руки, я распластался на земле в дурацкой позе, ноги согнуты в коленях, руки в разные стороны, из носа покапывала кровь, удар головой был не сильным, но достаточным, чтобы его разбить, затылок по видимому тоже был разбит. Оппонент ретировался, плюнув мне на пальто и высказав немного неаргументированной грубоватой критики в мой адрес. Я лежал в грязи, на асфальте, лицо в каплях крови. Глупо.
Позже я поднялся, я совсем не протрезвел от драки (читай: избиения), а скорее наоборот, ещё сильнее потерялся в лабиринтах подсознания. Я отряхнулся, вытер лицо рукавом пальто, пизды я получил не сильно, так слегка, парень попался порядочный и просто проучил меня за дерзость, так как нечего ущербным вырожденцам вроде меня ходить в клубы, да еще и усаживаться к самкам за столы, да еще и дерзить их молодым людям. В принципе он все сделал правильно, такова социальная иерархия, каждый должен знать свое место, а мое место явно было не там, будь я на его месте, я бы поступил точь–в–точь также. Парень – молодец, спасибо ему за верность традициям социума, на таких как он и держится вся система и все социальные страты.
Я, пошатываясь, шел к проезжей части, после момента эпичной битвы за клубом я помню все вспышками, асфальт, лужа, попытки умыть лицо в грязной воде, дорога. Я ловил машину без гроша в кармане, грязный, чумазый, пьяный и избитый, шансы были равны нулю, куда ехать я даже не предполагал, не мог вспомнить ни одного человек, которому мог бы довериться в 2–3 часа ночи, вписаться без проблем, умыться, отоспаться. No friends. No crew. Fuck you!
Довольно невероятный случай произошел со мной далее: рядом остановилась красная шестерка, я сел внутрь, небритый мужик сидел за рулем, он был не менее пьян, чем я, в его руках была бутылка коньяка, он постоянно причитал, что–то вроде «сынок, садись, сынок, что с тобой случилось, ты ведь весь грязный, весь в крови, сынок, тебе куда, говори, я тебя отвезу куда угодно, сынок, у меня ведь сын родной одного с тобой возраста, ты что с собой делаешь сынок, зачем так пьешь, ты ведь молодой, сынок, кто тебя так уделал? Выпей вот со мной, сынок, меня жена за двери вышвырнула, говорит пшел прочь, тварь пьяная, бабы они ведь такие сынок, у меня все в этой жизни наперекосяк, да и у тебя гляжу не сахар житуха, сынок, на, глотни». Я вливал через силу в себя горький коньяк, не запивая, слушая его истории, одну охуительнее другой, отвечая что–то вроде «блядь, ты можешь заткнуться, просто вези меня к фабрике».
Я попросил его отвезти меня к фабрике, заброшенной и засквотированной местными музыкантами, хотел вписаться к маргиналам, поскольку в таком виде меня могли понять и принять только спившиеся и сторчавшиеся музыканты, обитающие в заброшке, без горячей воды и отопления. Однако мужик не унимался, травил какие–то байки, через слово повторял «сынок», задавал сотни глупых вопросов, гнал примерно под 120 какими–то окольными путями, при этом убиваясь коньяком все сильнее и сильнее.
В определенный момент я провел аналогию с персонажами эпичнейшего и всеми любимого киношедевра Светланы Басковой «Зеленый Слоник», только тут я был заперт не на гауптвахте с Пахомом, а в шестерке с каким–то неадекватным мужиком.
Потом мне пришла в голову мысль о том, что возможно этот мужик не такой уж и мудак, а ссаный извращенец и маньяк, пытающийся меня опоить. Вез он меня какими–то загородными лесами, пустыми трассами. Я даже не понимал где мы едем, казалось, что сейчас он высадит меня где–нибудь в лесу или парке, огреет разводным ключом по затылку, бросит на капот своей шестерки, спустит штаны и на сухую оттарабанит меня в очко пару–тройку раз, устроив моему анусу знатный creampie, может быть выпотрошит мой труп, поиграется с внутренностями или еще какую содомию устроит, хуй их знает этих извращенцев, а потом скинет в какой–нибудь овраг или закопает, скормит собакам, или, как вариант, увезет домой и в блендере перекрутит внутренности и сольет в унитаз, от трупа ведь не так уж и сложно избавиться. Но я не сильно был встревожен таким развитием событий, как, и возможностью влететь на скорости по встречной в грузовичок — я не был пристегнут, вылетел бы через лобовуху и оставил бы шлейф мозгов на асфальте. Меня это не тревожило, я был уже слишком пьян и безволен, бессилен и пассивен, со мной можно было делать все что угодно, я вряд ли стал бы и смог бы сопротивляться.
Меня трясло и укачивало, мужик гнал очень быстро, а дороги были на редкость хуевыми. В итоге он меня не убил и не трахнул, высадил прямо у фабрики, пожелав добра и истинного пути, предложив мне даже денег, от которых я отказался, послав его на хуй. Пытаясь выйти из его машины, я не выдержал и заблевал ему весь салон, на что мужик ответил «ну что же ты так, сынок, ну как же так, мне же теперь убирать это все, зачем ты так вот, вышел бы на улицу для начала, сынок, ну что же теперь поделаешь, иди уже, сынок, удачи тебе, береги себя, сынок». Я еще раз послал его на хуй и вылез из машины, вытирая рукавом пальто рвоту с губ.
Я достал сотовый телефон, пытался несколько раз его включить, позвонить друзьям музыкантам, однако телефон выключался каждый раз, как появлялась заставка с его маркой, мигал красный огонек на панели и телефон погасал. Тогда я решил с боем прорваться на фабрику, все входы в которую, кроме главного, были закрыты на навесные замки.
Я вошел внутрь, где меня ждала вахтерша. Фабрика была не то чтобы заброшенной, а по факту просто перестала быть фабрикой, но, тем не менее, в ней сдавались помещения всем, кто мог платить: тут жили музыканты, производили мебель, складировали мешки с одеждой для рыночных палаток, было несколько мелких магазинов по продаже сантехники, дачных печей и еще какого–то дерьма, репетиционные базы, социальный магазин, склад угля, все что угодно, в общем. Вахтерша была совсем не рада моему появлению, я шатаясь подошел к окошку и сбивчиво и невнятно, обдавая все вокруг перегаром проговорил «я…мне…музыканты…база…можно…второй этаж…я к ним…музыканты», в ответ я услышал «какие музыканты, иди проспись, нет тут никого, все давно домой ушли, спят, нет тут никого, иди давай отсюда». Я развернулся и ушел, сдавшись без боя.
Выйдя на улицу, я направился в сторону кирпичных пятиэтажек. Добравшись до них, я пытался войти в любой подъезд, звоня посреди ночи в квартиры, я мямля что–то в домофон. В пару подъездов мне все–таки удалось попасть, где, добравшись до пятого этажа, я пытался попасть на чердак, на котором я мог бы беспрепятственно отоспаться, не мешая жителям квартир, однако все чердаки во всех подъездах были заперты на замки, а рядом красовались надписи типа «ключ от чердака в квартире номер N». В итоге я забрел в какой–то подъезд со сломанной дверью, добрался до пятого этажа, собрав всю известку со стен на пальто, и улегся спать на огромном ящике с песком внутри на случай пожара.
Перед глазами все вращалось, мелькали картинки, кулаки, головы, танцующие тела, рвота, пьяный мужик из машины, ступени, лицо вахтерши, лицо Казимира, асфальт, грязь, кровь, расцарапанные ладони, коньяк, лица девушек, тела девушек. Я уснул.
3.2. Сын Одина и баклофен.
В квартире напротив моего иссушенного алкоголем тела кто–то активно собирался на работу или учебу, топал пятками, скрипел половицами, гремел посудой и принимал душ. Я еле разлепил глаза.
Мое тельце свернулось в плотный калачик на ящике, спина жутко ныла от таких спартанских условий, орнамент поверхности ящика отпечатался на моей щеке, во рту прописался стойкий привкус дерьма, приправленного рвотой и внутренним пост–алкогольным гниением, руки дрожали, в голове нойз–ансамбль устроил бенефис, а в промежутке между глоткой и кишечником все ходило ходуном и грозило вырваться наружу. Полная голова говна, полный желудок сока, полные вены алкоголя, при этом чувствовал я себя жутко опустошенным. И грязным. Я даже не знаю насколько грязно я себя чувствовал, это, наверное, где–то на уровне актрис копро порно по типу «scat», ощущение тотальной аморальности и ублюдства, будто мне накануне напихали полон рот хуев до самой глотки, обмазали спермой и дерьмом, посмеялись от души и бросили на пятом этаже каких–то блядских гадюшников. Удивительно, но телефон лежал по–прежнему в кармане, за ночь никто не копался в моей одежде.
Я привстал, вставил себе пару хлестких пощечин, чтобы прийти в себя. Это не помогло. Я встал, все плыло и ехало, ноги косило, я был еще очень пьян, самое мерзкое, убогое состояние. Когда ты еще пьян в говно, но при этом похмельный синдром уже в разгаре, и тебя хуярит с двух фронтов, а–ля двойное проникновение.
Пора было сваливать из подъезда, дабы не нарваться на праведный гнев жителей квартир. Я медленно спускался по этажам, сдерживая рвотные позывы, пять этажей казались бесконечными.
На улице меня встретил мерзкий моросящий дождик, из тех, которые не сильно ощутимы, но при этом неимоверно раздражают своими мелким точкованием. Меня трясло от сырости и холода. Я двигался вдоль дороги, куда–то в центр города, ближайшим чекпоинтом для меня был – автовокзал, там я мог посидеть на скамейках в тепле, обсохнуть, прийти в себя, ходить в туалет и узнать точное время на часах с расписанием рейсов. До вокзала было минут 40 пешего хода. Минут через 10 я насквозь промок, дрожал и стучал зубами. Хотя был и плюс, я несколько раз, незаметно для прохожих и проезжающих, открывал рот и вылавливал влагу ртом, тем самым слегка облегчив свой абстинентный синдром, помимо этого я смог обтереть свое пальто от известки и пыли, собранных в подъезде, ну и умылся по ходу.
Лицо побаливало, особенно затылок гудел. Хотя я, по всей видимости, не опух, по крайней мере, в отражении витрин магазина я не увидел ни синяков, ни шишек.
Все это усугубляло мое положение, с мелочью в кармане, севшим телефоном, обезвоженным и задестроенным организмом, больной головой, побоями и прочей экзистенциальной шелухой я чувствовал себя мразью, не знал, что дальше делать и какие планы выстраивать.
Добравшись до автовокзала, я узнал, что времени было 9 утра, я насчитал мелочи на вокзальный туалет, расплатился с толстой унывающей женщиной на кассе, разгадывающей судоку, протиснулся в кабинку, и практически уснул там, решив просто закрыть глаза на мгновение. Я бы и вырубился там, если бы с той стороны двери периодически не дергали ручку.
Очистив организм от набившихся в него шлаков, умыв лицо холодной водой, заодно жадно напившись хлора из–под крана, я взглянул на себя в зеркало. Все было уже не так плачевно как с утра, по крайней мере, я мог претендовать на спокойное времяпрепровождение на вокзале, без угрозы изгнания охранниками, на бомжа я перестал быть похожим.
Я выбрался из уборной и задремал на креслах в зале ожидания. Проснулся часов в 11. Меня никто не тревожил и не трогал, чувствовал я себя на порядок лучше. Голова соображала несколько менее хаотично (более лучше). Я наметил план действий, встал, неуверенной походкой двинул на улицу. Дождь уже прекратился.
Я стоял возле домофона и вызванивал парня по имени Тор, аптечный ковбой, знавший, что делать в подобных ситуациях, как избавиться от рвотных позывов, оживить организм и заставить голову работать. Он алекнул, понял кто на проводе, я вкратце объяснил ему свое состояние, он рассмеялся и сказал, что выйдет через 10 минут. Вышел через 5, и мы двинули к магазину, поскольку у обоих желудки сворачивались в узлы от голода.
Он был то ли с похмелья, то ли на отходняках, но выглядел не менее убого, чем я. Мы завернули в универсам, купили школьные булки по 11 рублей и пакеты с кефиром по 18. Вынырнули на улицу и присели на поребрик aka бордюр возле универсама. Пили кисломолочный продукт «снежок» из бумажных пакетов. Холодный и густой, белый сладкий кефир сползал по глотке в желудок и растекался по внутренностям, убивая засуху в глотке. Народ сновал вокруг туда–сюда, торопился на работы–учебы–дома, мы пили «снежок», нам было плохо, но все же лучше чем им.
Странный парень, очень странный, прозвище свое – Тор – получивший за то, что всегда носил с собой красный аварийный молоток, вырванный из маршрутки. Во времена бурной нашей молодости мы жили в одном дворе на отшибе города: полусело, деревянные частично благоустроенные двухэтажные бараки, сходки гопоты на летних кухнях. Мы брили друг друга под 3мм, иногда оставляя уебищные челки, слушали пурген и коррозию металла, гоняли в спортивных костюмах и пиздили ребят с соседских домов. Ужратые паленой водкой по 25рублей за 0,5 литра, мы ходили на убогие дискотеки, где догонялись охотой крепкой или волгой янтарной, сосались со стремными телками, у которых изо рта несло бензином, поскольку на нашем селе молодежь поголовно пыжала горючую смесь из пакетов — сливали с машин и разливали по полиэтиленовым 20копеечным пакетам. И мы постоянно ввязывались в драки, пиздили даже взрослых мужиков за 30, за 40 лет, хуярили толпой, пока человек не терял сознание, добивали штакетниками от заборов, плавили кастеты из свинца, выковырянного из аккумуляторов. Но Тор сделал креативнее – оторвал аварийный молоточек в маршрутке и всегда заправлял его в спортивки или джинсы, в драке пиздил всех по коленям или по челюсти, ребята его побаивались, отмороженный и конченный, отца своего не видел никогда, мать – алкоголичка, старший брат – алкаш, отслуживший в одной из горячих точек снайпером, и отмечавший свой дембель уже лет 15 беспрерывно. Тор был предоставлен сам себе, самоутверждался как мог.
Он отхлебнул из пакета.
«Я тут на днях обсаженный сидел, размышлял. Знаешь что? В детстве у меня была целая вселенная. Вымышленная вселенная, где я был президентом, царем и императором, у меня были армии, подчиненные, взвод офицеров и солдат, целый вымышленный народ. Я представлял себя то высокопоставленной шишкой, то знатным общественным деятелем, то бизнесменом, то рок–звездой: скакал по пустой квартире с алюминиевой гардиной от штор, представляя, что у меня в руках охуительный фендер, прыгал по дивану с насадкой от пылесоса, воображая, что это микрофон, а диван — это сцена, а передо мной многотысячная толпа, и все ссутся от восторга, глядя на меня. У меня был свой вымышленный кабинет вымышленных министров, мы решали проблемы внешней политики, улаживали отношения с враждебными вымышленными мирами, укрепляли армию, формировали национальную идею, ценности народа, контролировали СМИ. Это была вымышленная авторитарная страна, а я был ее вождем, но, тем не менее, мой вымышленный народ любил и боготворил меня, конфликтов и революций не было, тотальная гармония. Со временем я повзрослел слегка и понял, что иметь вымышленный мир это слишком по–детски, и я разрушил его, уничтожил, стер к хуям из памяти и всегда дико стремался вспоминать весь этот блядский цирк детского воображения, даже теперь мне об этом говорить стыдно. Я оставил лишь пару–тройку вымышленных друзей, у каждого из них есть свой характер, свои черты, они как персонажи какой–нибудь фэнтэзийной книги, типичные друзья главного героя: верный туповатый друг, хитрый пиздюк, умный застенчивый скромник. Вымышленные друзья охуительны тем, что они тебя всегда поддержат, не кинут и не наебут, всегда посмеются над твоей штукой, побеседуют, у них всегда есть время для тебя, они всегда открыты и доброжелательны, искренность двухсторонняя, твои секреты никогда не сольют левым людям, если ты расскажешь их вымышленным друзьям. Реальные же товарищи кинут тебя, как только жизнь перекусит им сухожилия на пятках, люди, в большинстве своем, слишком ссыкуны, чтобы дружить. Но вот последнее время, я все реже общаюсь с моими персонажами — посмотри на меня, я взрослый жлоб, мне бы пора семью заводить, форд фокус в кредит брать, ипотеку там и всякую карьеру строить, а я как мудак с вымышленными персонажами разговариваю часами, разыгрываю по ролям какие–то психодрамы. Это ведь пиздец. Поэтому я свел общение с друзьями к минимуму, теперь я просто разговариваю сам с собой. Сижу как шизофреник один в пустой комнате и говорю сам с собой, разыгрываю роли, смеюсь над шутками, упражняюсь в остроумии и риторике. Я сам себе вымышленный друг теперь. Все равно это странно. Это ненормально ведь? Одно дело ходить и самому себе под нос что–то бурчать или напевать песенки, а другое — устраивать дома театр одного актера. Мне за эту хуйню стыдно, пиздец. Я стараюсь так себя не вести. Поэтому я лет с 14 бухаю как конченный ублюдок, а теперь еще и жру всякую дурь, шляюсь по аптекам, покупаю сиропы от кашля, бакласан, барбитураты, чтобы хоть куда–то скрыться от реальности. Такая хуйня — я живу на дне сточной канавы, все люди живут на дне сточной канавы, просто кто–то чуть выше вскарабкался по куче подсохшего говна, а кто–то чуть ниже барахтается в жидком поносе. Так вот в детстве, моим спасением от смрада этой помойки — были вымышленные миры, я в них закрывался, и мне было заебись, сидел в каморке своей вселенной, в каком–нибудь штабике, сооруженном под столом, там было тепло и пиздато, все меня любили. А потом я начал социализироваться, как говорят умные дяди, и в ходе социализации я понял, что это все называется умным словом эскапизм и это хуево, хуево иметь воображение, хуево не любить свою канаву, свою канаву надо чтить и уважать, подливать в нее дерьма и обустраивать для будущих поколений. Стыдно убегать из канавы внутрь себя. Это по–детски, это инфантильно. И я нашел новый выход — упарываться дерьмом, быть обсаженным 7 дней в неделю. У торчка хоть есть некий ореол, романтика, ведь если ты просто мудак, разговаривающий сам с собой — ты задрот и неудачник, а если ты торчишь — у тебя наверняка есть охуительная легенда, отбросом быть не настолько стыдно. Социум мне говорит: «люби канаву, люби канаву, пидор», а у меня тут своя атмосфера. Такая вот хуйня, короче».
Я сидел и попивал снежок, поддакивал и кивал, он был слишком похож на меня в своей убогости. Потом он сказал, что нам нужно раздавить чуточку баклофена, станет легче и веселее. Осталось только найти аптеку, где бы нам продали сие чудное лекарство без рецепта. В первой же аптеке он купил нитроспрей, который якобы нужен поехавшей бабуле, и как бы невзначай спросил баклосан, оказалось, что он есть и стоит 370 рублей за упаковку 50 таблеток по 25мг. Вот так все было просто. Подобные трюки я проворачивал, закупаясь сиропами, покупал в придачу дешевые таблетки от кашля или нафтизин, всем своим видом пытаясь показать, что простудился и лечусь и три банки гликодина мне нужны исключительно для смягчения кашля.
Мы выбрались на улицу, завернули во дворы, оккупировали скамейку, закинули в себя по 5 таблеток баклофена. Сразу ждать теплоты и эйфории не стоило, эффект даст о себе знать через пару часов, а пик так вообще накроет часа через 4. Поэтому мы просто сидели и общались. Вспоминали прошлое, как две немощных старухи, листающие на кухне альбом с черно–белыми фотокарточками.
Мы вспоминали, как воровали деньги из карманов родителей, собирались в гаражах и летних кухнях, пропахших бензином и дешевым пивом, оборудованных стереосистемами, представлявшими собой старые проигрыватели виниловых пластинок типа «мелодия» или «вега», привязанные к трехкнопочным плеерам за 100 рублей и подключенные к сети с помощью старого адаптера от сеги или 9ватного радиоприемника. По всем стенам висели всевозможные динамики и колонки, вырванные из старых телевизоров, спизженные из чужих гаражей. Музыка всегда играла громко, будь то краски или хайпокриси, петлюра или напалм дет, бомфанк мс или кэнибал корпс, виджиос крусэйд или наговицин, рамштайн или света – мы были разносторонне развитыми мультимеломанами и не имели предубеждений в плане жанров и стилей, а в гаражах всегда лежали склады кассет, купленных или переписанных с помощью двухкассетников. Вспоминали, как тратили сворованные деньги на паленую водку, посылая какого–нибудь синяка или бомжа из местной общаги в уютные квартиры сельских коммерсантов, торгующих разбавленным техническим спиртом по 25–30 рублей за 0,5. Мы пили с горла, закуривая балканкой или запивая водой, набранной в пустые полторашки из колонок, в дни роскошных пиршеств у нас могла быть закуска в виде сосисок или сухих бичпакетов. Тор, вспомнил о том, как пыжал бензин с пакета посреди бела дня, сидя на гараже в своем же дворе. В нашем ПГТ всем было плевать на уебанных подростков, и взрослые привыкли к вечно пьяной или обсаженной шайке малолетних ублюдков, в лучшем случае нам в спины цокали языком, хотя чаще всего просто обходили стороной, побаиваясь неприятных стычек.
Тор рассказывал о том, как к нему однажды пришла «мга» — нечто таинственное и страшное, что–то вроде бэд–трипа у местных токсикоманов. Его накрыли плотные визуалы, на пике которых он якобы увидел лик смерти прямо у дверей гаража, на котором сидел, его руки начали осыпаться опарышами в пакет с бензином, а по лицу поползли змеи. Он начал биться в истерике, пока кто–то из соседей не стащил его с гаража и не окатил холодной водой из ведра.
Потом я вспомнил о том, как впервые развел свою сверстницу 14 лет на секс, опоил ее пивком «волга янтарное», потащил на свою летнюю кухню, повалил на скамью у входа, стянул клешованные джинсы, провел пальцами по подростковому небритому лобку, расстегнул ширинку и обнаружил мистера вялого в своих штанах. Тор рассмеялся так, что во мне засвербело чувство обиды и на мгновение я даже пожалел, что рассказал ему это. После он мне поведал занятную историю о случае, произошедшем с этой девочкой годом ранее, когда она встречалась с его двоюродным братом: Тор, будучи в состоянии алкогольного опьянения после весьма обильных возлияний паленой водки, забрел в баню «поссать» и обнаружил эту девочку, тогда еще 13 летнюю, отсасывающую у его брата, и, вместо того, чтобы любезно извиниться за вмешательство в столь интимный и волнительный момент, поставил девочку «раком», задрал юбку, отодвинул стринги в сторону, сплюнул на сфинктер, смочил слюной свой жезл любви и устроил ей анальное приключение. Рассказывая, как она визжала от боли, давясь членом его брата, он цинично ржал, а я рисовал картины жесткого детского порно в своей голове и возбуждался.
Мы вспоминали многочисленные пьяные драки, с применением самодельных свинцовых кастетов, diy–бит из ножек от табуретов, увенчанных на концах торчащими шляпками гвоздей, Тор рассказывал о том, как запорол свои новые белые кожаные перчатки в крови, избивая бомжа (бить бичей – было одним из любимых развлечений нашей компании), рассказывал, как разнес к херам какую–то хату пьяниц, воткнул хозяину квартиры в ягодицу нож, сантиметров на 5, приказал не двигаться, а сам, будучи весьма набожным малолетним пиздюком (я хорошо помню, что он носил серебряное колечко с молитвой и крестик с оберегом на груди) стащил из дома все иконы и притащил их к нам в гараж, расставив по всем углам лики святых.
Я вспоминал о том, как я в этом гараже впервые обожрался галлюциногенными грибами и залипал в плакаты «глюкозы» и «фабрики» (мы клеили любые плакаты на стены – главное, чтобы нас окружали яркие и красивые картинки, чтобы все как у людей), рассматривал линии жизни на руках, охуевал с песен найтвиш и смеялся над нелепыми фразами ребят и все никак не мог избавиться от тонкой паутины, щекотящей лицо.
Затем Тор поведал историю о том, как в том же гараже выебал какого–то местного малолетнего опущенца, нажравшись с ним водки и сперва заставив отсасывать, а затем, попросту отымев его на шатком диване в углу только за то, что тот был несколько смугл и монобровен (Тор уже тогда был приверженцем околоправых идей, любил коловрат и забривался под ноль, прыгал по пьяне на всех «неславян», порой раскидывался зигами, это теперь он почитает третий рейх, читает Шпеера, разбирается в истории, гоняет rac и околоправый хип–хоп и одевается в модные, почитаемые в правой тусовке, фирмы, а тогда он был самым обыкновенным боненком).
Потом мы вспомнили, как разносили друг другу лица (в те времена мы друг друга просто яростно ненавидели: он меня за то, что я много молчал и был слегка пафосен и надменен в общении — его это задевало, а его ненавидел за правые замашки и постоянные быдлизм и бескрайний и тотальный неадекват), вспомнили, как познакомились все в том же культовом гараже (сельский CBGB практически), он тогда подошел ко мне, с милой улыбкой протянул руку, крепко сжал и на ухо шепнул что–то вроде «будешь до хуя выебываться я тебе ебальник разнесу в щепки, падаль», в ответ я доброжелательно улыбнулся и еще крепче сжал его ладонь. Мы в тот же день, убравшись водярой с лимонадом «колокольчик» впервые «разнесли ебальники в щепки» друг другу.
Потом я вспомнил о том, как вся «гаражная тусовка» пиздила почти до полусмерти Тора за его неадекватность, излишнюю дерзость и постоянные провокации: мы тогда были в общаге у каких–то местных 15–16летних шалашовок, попивали водку, запивая коктейлями с полторашек, когда Тор вдруг решил показать свою браваду и начал выносить кулаками окна в рамах, разорвал себе сухожилие на пальцах и залил кровью всю комнатушку, измазал девчатам постельное и одежду. Мы тогда перематывали его рану подкладами, вырванными из карманов спортивных штанов, а Тор лишь разгонялся и пытался засветить в лицо каждому, кто пытался помочь ему остановить кровь или обработать рану. В итоге мы вытащили его в коридор, посылая на хуй всех сердобольных старушек и мамаш, выглядывающих из своих коммуналок. Вытащив его в парадную, будучи разгоряченными и на взводе, мы просто начали его пиздить руками и ногами. Сперва он пытался обороняться и сыпал ударами в ответ, после просто пытался закрыть лицо. Я отчетливо помню, как он, схватив мой пинок в под дых, согнулся пополам, после чего кто–то из наших с разбегу засветил ему носком кроссовка в челюсть, Тор сплюнул плотной струей слюны и крови вверх и, видимо, отключился, но нас это не остановило, мы продолжали его молотить ногами, поднимать, швырять о стены. Я помню, как Тор очнулся, глядел на нас обезумевшим взглядом, совсем не понимая, что происходит, помню, как кто–то просто прыгнул ему на лицо двумя ногами, поскользнулся и упал. Тор тогда отключился, а мы просто пошли в клуб, я уже тогда охуевал от того, что мы творили, но это была еще далеко не самая безумная выходка. Тор смеялся над этим всем, вспоминал, как потом пару недель ходил с синим распухшим лицом, обмазываясь каждый вечер «бодягой», вспоминал как плакал и просил у меня прощения за все свое дерьмо в тот же день, уже ночью возле клуба, как бы братались, жрали пиво и уже на пару хуярили каких–то мутных малолетних ребят из недружественной нам тусовки.
Мы вспоминали эти и еще многие другие истории из нашей волшебной, светлой, беспечной и бесконечно счастливой юности, а тем временем волна баклосановой гармонии и теплоты начала разливаться по нашим мышцам, я испытывал легкое приятное головокружение и беспомощную усталость, изнеженность каждой мышцы, словно после усердной и плотной тренировки в зале. На языке крутились слова, в голове мысли, я оглядывался по сторонам и мне все нравилось, я глядел на серые бетонные девятиэтажки, окружавшие двор по периметру и восхищался ими. Заваленные хламом балконы, это был не просто хлам – хлам человеческих жизней и судеб, каждые ссаные алюминиевые санки, каждая покрышка, советские потрескавшиеся лыжи, пустые коробки из–под техники, комоды и тумбы, наполненные всяким шлаком – все это несло в себе истории, некие частные экзистенции, складывающиеся в один общие экзистенциальный поток, все это дерьмо на балконах, сваливалось с бытом в квартирах, соединяясь воедино с людьми, индивидами, живущими внутри, обволакиваясь бетонной плацентой здания, формируя общую экзистенциальную утробу, наполненную жизнью, суетой, существованием, выживанием, эмоциями, историями, судьбами и прочей хуетой. Меня это восхищало. Я поделился этим с Тором, он посмеялся.
Уют внутри меня был настолько теплым, гармоничным и безбрежным, что выливался наружу и обволакивал тонкой пеленой благоговения все вокруг. Похмелье развеялось, а ненависть к людям поугасла, лишь легкая тошнота напоминала о том, что все это – лишь следствие отравления организма миорелаксантом.
Мы решили прогуляться до его дома. Движение доставляло удовольствие в совокупности с легким подташниванием. По дороге мы забрели в универсам и купили 5 полторашек крепкого пива, проникнувшись ностальгией по старым добрым запоечным временам.
Мы брели по узкой улочке с разбитым асфальтом, а навстречу нам текло стадообразное желе из людей. Происходящее вокруг представлялось мне неким квестом что ли, проходящие мимо люди выглядели, словно персонажи какой–то странной игры: вот семейка за руку переходят дорогу, сегодня хорошая погода, и они видимо решили вывести своих 7–8 летних личинок на прогулку, толстый отец с потным лбом, дети кричат «Мама, а почему папа в куртке», мама молчит, ведь знает, что отец одел свою любимую куртку — куртку для «выхода в город», парадную так сказать, он очень ею дорожит и потому не снимает, считая, что в ней он выглядит презентабельно, несмотря на то, что куртка скорее зимняя и для майских прогулок непредназначенная, он очень разозлится, если мать этого не оценит. Девчушка вся в черных одеяниях, начинающая неформалка, у нее еще плохо со стилем, из левого рукава торчат края бинтовой повязки — скорее всего, пыталась вскрыть вены, вернее покромсать слегка кожу в тех местах, где вены проступают, вероятно, из–за расставания с 15–16 летним обсосом в футболке слипкнот или металлика или из–за ссоры с родителями, и она, скорее всего, намеренно слегка подкатала рукава, чтобы бинт был виден — этакий напульсник, показатель богатого внутреннего мира, отчуждения, готишности. Вот бабуля скачет вокруг прохожих с горстью мелочи, с просьбой разменять железные десятки на бумажные, каждому пытаясь объяснить, что ей срочно необходимо положить деньги на телефон, а «шайтан–коробка» ни в какую не желает принимать железные, она сыпет христианско–плебейскими фразами вроде «Господа ради выручите старушку», она очень улыбчива и мила, но не вызывает у меня ничего, кроме жуткой агрессии; чуть поодаль молодые люди пытаются оккупировать магазин сотовых телефонов — безвкусно одетые юноши с плохими прическами и пристрастием к алкогольным напиткам имеют странную привычку: посещать салоны сотовой связи и бродить среди витрин с банкой пива в руке, пытаясь выказать осведомленность в сфере мобильной техники, напрягая тем самым щуплых мальчиков–продавцов, в обвисших рубашках и плохо выглаженных брюках (корпоративный стиль).
И вот среди всей этой социальной какофонии бредем мы — аптечные ковбои российской провинции, в наших карманах рецептурные миорелаксанты, в пакете дешевое пиво, в нашах головах тотальная разруха и грязь, перемешавшаяся с околофилософскими изысками, хаотичным набором запомнившихся идей из не менее хаотичного списка прочитанных книг, мы мним себя элитой среди грязи, наверное, или грязью среди элиты, самородками среди выродков или выродками среди самородков. Как–то так.
Мы сливаемся с потоком персонажей, обсуждая на ходу старые грибные трипы и походы на свалку за цветметом, пикники с вареными яйцами и картошкой запеченной в костре на закуску к той самой пресловутой водке, дружеские драки, беспробудное подростковое пьянство.
Мы направлялись к его обители — что–то вроде спального района нашего захолустья, девятиэтажки, с квартирами, заселенными в основном стариками и молодыми семьями с детьми. Тор снимал там однушку с двумя педовками–студентками, сам спал на кухне, а дамы в комнате на раскладном диване, хотя сдается мне, что с таким соседом они зачастую спали в складчину, где попало. Дам я этих пару раз видел — типичные хуевые студентки, еле как прошедшие со своими баллами в подзалупные вузы на бюджет, получавшие вышку ради вышки, потому что мама сказала «без высшего образования сейчас никуда», живущие кое–как на подработки промоутером, мамины подачки и материальную помощь института, просаживающие свои деньги на огульную жизнь, ворующие шмотки в бенетоннах, экстрах и «твое», кайфожорки и малолетние алкоголички.
Опустив подробности (которых итак было предостаточно), мы окажемся в квартире: прихожая в песке и куче пар туфлей (очевидно, спизженных из центробуви), скрипучие половицы, создававшие впечатление сигнализации с датчиками движения — сделал шаг: получил громогласный звук; не менее скрипучий диван, затертый ковер на полу, покрытый легким налетом крошек пищи, пеплом сигарет, а также украшенный пустыми пачками чипсов и бутылками из–под минералки и колы, стол с ноутбуком, два советских раскачанных стула, стремный шкаф весь в отпечатках пальцев и разводах, с кучей ворованного тряпья внутри.
На кухне тотальный пиздец: разруха, горы немытой посуды, три черных пакета мусора, забитых до отказа, плита в жире, нагаре и обуглившихся кусках картошки(?), холодильник «свияга» (есть вероятность, что его размораживали последний раз еще до прихода Бориса Ельцина к власти), кругом срач и тотальный коллапс, крошки, пустые банки, бутылки, этикетки, упаковки. У них своя атмосфера, как раз по мне.
Дамы приветствовали гостей улыбками и ожиданием ништяков, завидев пакеты, они недвусмысленно остановили свой взгляд на них. Тор побеседовал с дамами на предмет планов на вечер, в итоге мы оказались в их комнате, растолкали пиво в промежутки между мусором на полу, пили с горла, дамы угощались противоядием от действительности в количестве 3 таблетки на персону. Мы обсуждали последние новости города, спорили, улыбались, слушали музыку (Тор предпочел фоном (sic!) спидкор и брэйкор, пояснив это тем, что таблетки любят активную, быструю музыку). Мы выпивали, вспоминали всякие занятные подробности своих никчемных жизней, обсуждали планы на будущее, говорили о музыке, фильмах, книгах, философии, пьянстве, сексе. Мы были почти людьми, мы проводили совместный досуг, культурный отдых, мы вели себя так, словно мы вполне нормальные, ведь этим вечером у нас было оправдание для того чтобы быть самими собой и вести себя так, как нам хочется — у нас был миорелаксант центрального действия и алкогольные напитки.
Мышцы начало потягивать, какой–то приятной болью, схожей с той, с которой я просыпался после смены, работая грузчиком, или на утро после внезапно возникшего энтузиазма (да–да у меня бывает такое) и тяги к занятиям спортом. Я тогда подумал, что я — каучуковая жвачка для рук, а потому решил размяться и слезть с дивана.
Я подошел к окну и свесил туловище вниз, увидев наитипичнейший двор из тех, что я пытался описывать ранее: сломанные домофоны, обоссаные песочницы, в которых играли детишки, разукрашенные дешевой облупившейся краской детские площадки, молодые люди на скамейках, ведущие светские беседы, закинув ногу на ногу, девятиэтажки напротив — такие огромные и величественные, как мне тогда казалось. Хотя мне тогда все казалось как минимум приемлемым, что для человека, привыкшего исходить желчью направо и налево, мягко говоря, необычно. Я смотрел на эти убогие девятиэтажки и думал о том, что это все творение рук человеческих, о том, как здорово, что есть такая штука как цивилизация (Данилевский со Шпенглером в этот момент ворочались в котлах сатаны), о том, каких высот достигло человечество, раз может возводить такие огромные бетонные параллелепипеды с окнами и дверями, отоплением, водопроводом, газом, электричеством и даже! интернетом! Это ведь чудо — думал я — человек — это чудо из чудес, и впрямь венец творения, и не стоит сюда приплетать колонии муравьев или термитов или пчелиные соты, это кардинально разные вещи, думал я. Я думал позитивно, настолько позитивно, что где–то внутри меня нарастал бунт, орды духовной оппозиции проводили марши несогласных, кричали в рупоры о ничтожности человечества и духовной гибели цивилизации. Но внутриличностный митинг был подавлен.
Я глядел на детей, игравших на площадке, смотрел на эти разукрашенные во все цвета радуги нагромождения из досок и металла, лесенки, брусья, турники, радужки, грибочки со скамейками — почему они такие отвратительно пестрые? Почему, когда я был ребенком, меня так влекли эти яркие безвкусные цвета, блестящие машинки, радужные аттракционы, разноцветные игрушки — все вычурное, бросающееся в глаза? В какой момент своего детства я вдруг перестал радоваться ярким цветам? Сейчас я бы выкрасил всю эту площадку в какой–нибудь стильный матовый черный, сидел бы там, в полном одиночестве, а дети даже не стали бы смотреть на нее. Когда и из–за чего меняется это восприятие цвета? Я пытался вспомнить момент «перехода на темную сторону», наверное, это что–то подростковое, где–то в возрасте 11–12 лет, когда я впервые стал выряжаться в черные футболки, растить волосы и красить их остатками маминого брилианса или палетт, слушать мэрилина мэнсона и найн инч нэйлс и таскать кожаные напульсники с клепками. Хуй его знает, почему так произошло, вся эта тонкая психология может найти 1001 причину такого перехода — дрянная семья с пьянством и побоями, низкий статус в классе (вечно гнобимый омега–аутсайдер в затасканных джинсах, оставшихся от старшего двоюродного брата или отчима, с сальными волосами и дурными манерами), тотальная нищета, семейный тоталитаризм, телевидение и прпрпр. Конкретного ответа никто не даст, только абстрактные гипотезы, выдаваемые за аксиомы лишь потому, что некий бородатый (или безбородый — не суть) хер когда–то написал монографию и нашел пару–тройку эмпирических и теоритических подтверждений — но ведь для такой науки как психология — это все херня, нас в мире 7 миллиардов, эти выборки в 50–100–1000 человек равноценны моим глупым рассуждениям о природе вещей.
Люди позади меня общались и бродили по квартире, а я пялился на детей, сидящих на площадке, сейчас мне было на них плевать, а ведь обычно я ненавижу детей сильнее, чем рядовых граждан, странно. Зачем? Плодиться там, выращивать личинок, будущего ведь нет. Вполне может быть, что единственная задача человечества — вымереть, быть может, мы только для этого и созданы. Для гедонизма, любви к себе и может быть к другим, отнюдь не для родительско–детской. Все ведь восторгаются теми индивидами (или парами), которые прожили жизнь исключительно ради себя, не оставив потомства — ведь ребенка заводит в первую очередь тот, кто своей жизнью не вполне доволен, поскольку чтобы подарить кому–то жизнь — нужно от своей отречься, уничтожить самолюбие и стремление к саморазвитию, остановить себя и посвятить все ресурсы воспитанию, продолжению рода, отказаться от себя, как единицы, отдав 0,9 ребенку, а себе оставив 0,1 — это мерзко, это не этично по отношению к самому себе, преступление против своей собственной личности, духовное самоубийство. Выращивать человеческий род — это неправильно, это движение в никуда, нужно выращивать исключительно себя, идти по пути осознанного и основательного эгоцентризма, совмещающего саморазвитие и гедонизм. Наверное, я еще мелкий обсос, не достойный о таких вещах рассуждать, но многие из великих — детей после себя не оставили. Путь в никуда, будущего нет. Второй внутриличностный митинг прошел успешно.
«Будущего нет!» – заявил я ребятам. Тор рассмеялся, пытаясь напевать финальный рефрен секс пистоловской «боже храни королеву». «Ноооооу фьююююче» — поорал он и успокоился, спокойным тоном проговорив, что и прошлого тоже нет, как и будущего, по сути: «время — это вообще та еще шлюха, она вроде многим дает, но никому не дается, вот такая вот философская хуета. Прошлого нет, есть только память, один австрийский еврей–антисемит об этом писал, прошлое живет только в нашей голове, остальное — мертво, прошлое оно как ебучий оползень, ну знаешь, в этих ебучих экшнах, когда главный герой бежит в финале, а за ним все рушится и взрывается, горит там или водой топит, не важно, так вот, мы эти самые ебучие герои, мы идем, а за нами время дохнет, рушится, не оставляя после себя ничего, кроме памяти. Выходит так, что прошлого вообще нет и быть не может, там позади только руины времени и смерть, типа того, ну ты меня понял. А настоящий момент ты хуй поймаешь, момент он на то и момент, что мимолетный и неуловимый, настоящее ты никогда не осознаешь, мозгов не хватит синхронизировать осознание времени с настоящим моментом, скорости мысли что–ли, это ведь психофизиологическая хуйня, пока ты будешь думать «о настоящий момент, настоящее время» этот момент уже рухнет в прошлое. Ну и будущего соответственно нет — раз прошлое мертво, настоящее неощутимо, какое тогда на хер будущее, оно уже за нас написано, мы просто бежим от оползня прошлого, пытаясь ухватиться за миллисекунды настоящего, не понимая, что будущего нет. Сценарий написан — мы пешки». Тор опять рассмеялся, попутно кроя матом весь сказанный им монолог.
«Кем?» — я ухмылялся.
«Ну, каким–нибудь ебучим богом или еще какой–нибудь дикой вселенской хуйней, типа Абсолюта там, сверххуйня, вот она и сотворила все, и сценарии написала, а мы только носимся из угла в угол, знаешь как эти колечки в игрушке водяной, такие раньше были в форме медведя, например, там, на кнопки жмешь и пытаешься накинуть колечко на хуевинку напором воды, так вот мы — колечки, нас насаживают напором времени на всякие штыки. Я не угораю там по Христу или Аллаху или там Будде, мне вся эта чепуха чужда, я Пятикнижие едва осилил, не говоря уже про Танах и прочие евангелие от Варнавы. Я типа внеконфесионально верю в сверххуйню, так вот ее называю, думаю, она есть там где–то в пространстве, думаю, она не обидится на меня, она ведь наверняка мыслит другими, вселенскими категориями и не обижается на человеческий мат, это было бы для нее слишком мелко». Тор опять смеялся, он всегда смеялся, когда говорил серьезные вещи, как бы пытаясь обесценить все сказанные слова, свести все в шутку, смыть пафос беседы и околоинтеллектуализм. Мне это более чем нравилось.
Я тоже ухмылялся улыбкой молодого Ганнибала Лектора: «Выходит, раз все написано уже за нас, тогда все дозволено? Если я прихожу к мысли о том, что будущего нет, что ее уже сотворил Абсолют, значит все сценарии с Чарли Мэнсоном, Андреем Чикатило, сыном Сэма, ну или Гитлером, в конце концов — умышленно написаны? Все эти персонажи созданы как раз такими, какими они стали? Выходит, если я сейчас пойду, возьму ржавый кухонный нож, выйду во двор и начну резать глотки малолетним детишкам на площадке, мазаться их кровью и внутренностями, напевая гимны Мартина Лютера, значит, так оно и было назначено? Значит все дозволено? Все разрешено? Самим создателем? Выходит, нет ни греха, ни благодеяния, ни добра, ни зла — есть только сценарий? А что если все маньяки доходили до этой мысли? Решали, что сам создатель им позволяет, сам Он движет их рукой во время убийств? Занятная штука. Быть может, он даже дарует им райский кущи и вечную эйфорию за исполнение такого тягостного, мученического сценария, одна из самых сложных сюжетных ветвей — моральные мучения, этические страдания, всякая прочая ерунда. Они, выходит, чуть ли не герои».
Тор опять смеялся: «Это охуительно! Но знаешь, братишка, это все конечно заебись, но это не мой сценарий, я точно знаю, что резать глотки маленьким детям — не хорошо, как минимум, даже если дозволено, даже если понятий добра и зла не существует, все равно это как–то хуево, что ли».
Беседа так и текла приятным прохладным ручьем, господа шутили, дамы смеялись, и так по кругу. Гамма–аминомасляная кислота всасывалась организмом, перемешивалась с алкоголем, расслабляла наши мышцы, прибавляла уверенности, развязывала языки и запускала либидо. Во рту пересыхало от постоянного трепа, но на помощь приходило то самое дешевое пиво. В глазах мутнело, голова все сильнее кружилась, поверхность под ногами начинала покачиваться, улыбки глупее, глаза мутнее, речь бессвязнее, поступки смелее. В какой–то момент мы разбились по парам. В комнате наигрывал порядком подзаебавший габбер, прямо–таки стучавший по перепонкам и мозгам, настраивавший на несколько агрессивную волну. Вскоре компания рассыпалась по комнаткам.
Хер его знает, как описывать постельные сцены и всю эту тошнотворную ерунду, я не умею: робко закинул руку на спинку дивана, спустил на плечи, поглаживал волосы, ее рука на моей ноге (странно), какие–то убогие сальные фразы, неуклюжий поцелуй, стук зубов, дальше чуть проще, с матраса на кухне уже раздавались резвые стоны, прилегли, разделись, неуклюже стаскивая друг с друга тряпки, скача на одной ноге, стягивая штанину зауженных джинс (из женских журналов я узнал, что надо носки снимать в первую очередь — обнаженный джентльмен в носках выглядит как минимум нелепо), стаскивая стринги с белесыми пятнами на внутренней поверхности (тут я вспомнил, что часом раньше весьма удачно помыл член в раковине, используя затертый кусочек мыла), «тяжкий запах запущенного влагалище», небольшие кусочки женских выделений на моем языке, под баклосаном этому не придаешь значения — скорее даже наоборот: еще сильнее заводишься от происходящего аморального действа, робкий минет, плавно перешедший в глубокий, с гортанными звуками, обратно–поступательными движениями, я отчетливо помнил, как в моменты наиболее глубокого проникновения на коже ее хрупких плеч и спины выступали мурашки, остервенелый секс, смена позы, с возбуждением проблем не было, проблемы были с финалом, смена позы, я не мог кончить, смена позы, спина разодрана, смена позы, девушка наверняка пару дней будет ходить как кавалерист, смена позы, я очень стеснялся кончать ей на живот, как–то это неправильно — первый день знакомства, а я уже собираюсь поливать ее спермой как в дешевых порнофильмах, вот она этика 21 века: воспитанные девушки не позволяют кончать на себя на первом свидании, я кончил, прошло уже где–то полтора часа, оргазм оказался суховатым, весь живот вплоть до груди был в каплях и ручейках белкового коктейля.
Теперь у меня жутко закружилась голова, меня клонило в сон, на кухне ребята уже спали. Девушка попросила меня достать салфетки из ее сумочки. Влажные, с запахом вишни, я стер сперму с ее живота, другой салфеткой обтер головку члена, скомкал салфетки и запихнул в пустую упаковку из–под чипсов, кинул на пол, а сам пошел в душ. Умываться у меня сил не было, поэтому я помочился, сполоснул причинное место под краном, обтер куском туалетной бумаги, скинул и смыл.
Вернулся в постель, на нерасправленной постели лежало голое тело, я прилег рядом, одеваться сил тоже не было, поэтому я просто прилег рядом, окутав ее своим голым телом. Такая вот мерзкая постельная сцена.
Я закрыл глаза, голова безумно кружилась, я сдерживал тошноту, я, словно подбитый вертолет, кружащийся вокруг собственной оси, падал вниз, внутрь себя, в свои сновидения, я предчувствовал мерзкое утро, ощущение собственной низости и грязи, но сил размышлять об этом уже не было. Я забылся сном.
Глава 4. Очищение страданием.
4.1. Абстинентные приключения.
Я закрыл глаза. Я открыл глаза. Прошло часов 16. Рядом никого не было, я лежал один, голый, на кухне кто–то копошился — видимо Тор. Я попытался перевернуться с одного бока на другой и тут же почувствовал жуткий приступ тошноты, поэтому просто улегся на спине и смотрел в потолок. Потолок не желал статично фиксироваться перед моими глазами и все кружился и вертелся, плясал в пост–баклосановом макабре. Внутренности тоже танцевали безумное пого, да так, что дрожь отдавалась в самую глотку. Я отчетливо слышал стук сердца, это был нездоровый стук. Я хотел встать с постели, но понимал – еще одно резкое движение и меня тут же вырвет.
Собрав остатки воли в кулак, я встал, натянул трусы и джинсы, двинул к ванне, пытаясь побороть рвотные рефлексы. Во рту стоял мерзкий привкус застоявшегося пива — вкус последнего глотка в бутылке, того что на дне, в котором больше слюны, чем пива, теплой, мерзкой, желтоватой слюны с привкусом хмеля.
Из глотки пару раз попытались сфонтанировать капельки пива вкупе с желудочным соком, но я благополучно их проглотил. Махнул Тору, хозяйничающему на кухне — он кипятил чайник, собирался завтракать старым добрым ролтоном (или более бюджетным мивимэксом, не суть), спросил, буду ли я, но я ничего не ответил — я целенаправленно влетел в уборную, застегнул шпингалет на двери (шпингалет болтался на одном шурупе и едва держался), поднял стульчак, облокотился локтями на края унитаза и начал хлестать в бездну сточных труб. Я чувствовал, как кожа на моих руках прилипает к пятнам засохшей мочи на краях унитаза, вдыхал их кисловатый запах, но чувствовал себя достаточно конченным, чтобы не обращать на это внимание. Это был поцелуй, из глотки в глотку. Ничего кроме пива, пены и желудочного сока из меня не выходило, глаза слезились как у актрис фильмов категории «Deep throat/Gagging/Fuck face». Минут 15 я просидел в обнимку с моим новым другом, поминутно сплевывая в него накопившуюся во рту пену — так хуево мне не было давно. Затем я встал, скинул одежду на пол, забрался в душ и включил холодную воду, окатил себя несколько раз, задыхаясь, словно астматик, облил голову, умыл лицо, выдернул из уголков глаз запекшиеся корочки, обтер уголки губ, прополоскал рот, сел на пол ванной и просто минут 10 поливал себя с головы едва теплой водой, была бы моя воля — я бы так просидел до вечера.
Встал, обтерся серым полотенцем (белым, но его давно не стирали, да и пахло оно отсыревшей тряпкой для мытья полов). Взглянул на себя в зеркало опустошенным взглядом, не испытал никаких эмоций — ни отвращения, ни злости, ни презрения, будто в чужое лицо глядел, мутный хер с потухшими глазами, субтильными телом, запущенной небритостью, припухшим лицом. Оделся и вышел на кухню. На ноги налипли сотни песчинок, пыли, крошек и прочего дерьма с пола. Очень неприятное ощущение.
«Чайку будешь?». Тор нагребал сахар прямо из неаккуратно разорванного полиэтиленового пакета и кидал в грязные, покрытые разводами и подтеками чашки, затем оглянулся, не нашел чая, раскрыл мусорный пакет, где на пустой упаковке от основы для пиццы лежал использованный пакетик чая, он поднял его из мусора за ниточку и бросил в кружку, достал второй и кинул в другую. Залил кипятком — со дна электрического чайника почему–то капало, странно, что не закоротило, когда он кипел.
Мы уселись друг напротив друга, за окном было очень светло, солнце било мне прямо в глаза и я щурился словно Ким Ир Сен. Тор просто пялился сквозь чай на дно кружки.
«Ну как?», он по всей видимости спрашивал про мою предыдущую ночь с одной из его соседок. Я не знал, что ответить, толком я ничего не помнил, да и удовольствия особого не испытал, разве что порцию зверинной похоти, разбуженной алкоголем и Ко.
«Недурственно». Он ухмыльнулся.
В общем и целом, нам было до пизды на все произошедшее и происходящее. В прямом смысле этого слова. В самом наипрямейшем. Обычно, когда человек говорит, что ему на что–то «до пизды», это скорее всего означает, что он просто не хочет думать об этом «чем–то», маскирует свою озабоченность проблемой, старается не вспоминать и не будоражить себя. Как ребята, которые расставшись со своей «второй половинкой» обычно говорят «да мне до пизды ваще», хотя на самом деле страдают и распускают сопли словно эмокиды, поросшие челками и черно–розовыми напульсиниками с тимобертоновским джеком. Нам же в этот момент было действительно «до пизды». Наше «до пизды» было кристаллизированным и абсолютным, тотальным «до пизды», нас не беспокоили ни наши отношения с окружающим миром, ни какие–либо внутренние переживания. Если бы в тот момент за окном вырос гриб от взрыва ядерной бомбы — мы бы просто поглядели в окно, отхлебнули чайку и со стоическим смирением приняли бы на себя взрывную волну.
Кстати, очень часто мне снится один и тот же сон, в котором я стою на поросшем травой холмике, а вокруг простирается огромная поляна, смахивающая на Ширские раздолья из книг Толкиена: кругом дубы, скрученные временем, яркая зелень, словно в Новой Зеландии, какое–то чудо чудное, празднество, каравай и хоровод. Вокруг ходят люди, в костюмах, масках, шляпах–цилиндрах, и кажется, что я действительно очутился в Шире и Бильбо Бэггинс собрался сегодня праздновать свое 111летие. Рядом со мной на холмике сидят оба моих отчима, они почему–то улыбаются, они сильно постарели и изменились: мягкие, уютные, добрые люди (абсурд!). Моя мать, тоже уже в возрасте, седая, улыбается мне теплой материнской улыбкой, напротив мой младший брат, играет со мной в мяч, он уже взрослый парень, да и я, судя по всему, уже в годах в этом сне. Вокруг царит идиллия, гармония, мир и уют, словно бы я попал в рай. Ярко светит солнце. Затем в какой–то момент оно внезапно ослепляет всех вспышкой и начинает тревожно моргать, как лампа дневного свечения в привокзальных туалетах или в кульминационных сценах фильмов ужасов. Солнце лихорадочно мигает, на мгновения оставляя мир в кромешной тьме, чтобы затем ослепить всех яркой зарницей, а потом снова окунуть во мрак. Люди начинают паниковать, переглядываться, переговариваться. Я чувствую, как тревога вгрызается мне в глотку. После солнце взрывается пестрыми брызгами света, обжигая лицо и руки, ослепляя всех, люди падают на землю — последнее, что я успеваю увидеть. А потом только мрак. Стопроцентная темнота. Слышны только крики потерявшихся людей, все верещат «солнце погибло», «солнце погасло», «оно умерло». И ничего не видно, очень страшно и безумно беспокойно, кромешная тьма и вопли обреченных людей. Я чувствую сильный холод, а затем мороз, падаю на землю, слышу, как люди умирают, хрипя и воя, пытаясь что–то сказать, и сам оказываюсь придавленным смертью к земле. Я еще в сознании, но двигаться не могу, будто бы на грудь мне уселся несуразный гоблин с картины Генриха Фюссли «Ночной кошмар». Этакий сонный паралич внутри сна. После этого я медленно начинаю умирать, внутри себя мечась в конвульсиях, на деле же не в силах пошевелить ни одним мускулом. А после смерти просыпаюсь в своей постели. И этот сон повторяется раз за разом.
Я глубоко вонзился сам в себя на кухне, с кружкой отвратного чая в руке, хотя, скорее это была просто подсахаренная вода. Помню в «лихие девяностые» наша семейка скатилась в такое лютое нищебродство, что перед нами стоял выбор: купить заварку и пить чай без сахара или купить сахар и пить сладкую воду без заварки.
В моей голове среди всего кипиша и царства Гекаты и Лиссы, посреди всего хаотичного нагромождения помпейски–хиросимских развалин атрофировавшихся мозгов, коротили кусочки более–менее ценных мыслей. Нахлынула какая–то необъяснимая, очень неприятная измена, раздирающая виски и лоб тревогой и напряжением, каким–то животным страхом неизвестности и опасности, словно паркеровское паучье чутье проснулось. Я глядел на весь этот антураж вокруг и меня коробило, выворачивало наизнанку от осознания того, что все мы, все наше и без того гнилое поколение катится в сточную канаву. Ричи Хелл как–то визжал под гитару «I belong to the blank generation», вот и мы все принадлежим к пустому поколению: мы — социальная парша, лишай общества, фимоз. Правда, Хелл строчку продолжал словами «I can take it or leave it each time», у нас же выбора нет, никаких там «take it or leave it». Нам всем пизда. Без исключений. Я смотрел на Тора и понимал, что ему пизда, как и мне, как и двум его соседкам, как и еще нескольким десяткам ребят и девчат из круга моих знакомых. Нам всем пизда, будущего у нас никакого нет, а ведь мы могли бы стать интеллектуальной элитой общества, учиться, ездить на Селигеры, писать масштабные проекты, получать за них гранты, открывать свои дела, идти к успеху, зарабатывать деньги, создавать социальные ячейки, расти, ветвиться, стремиться вверх, к тому искусственному солнцу, которое питает весь социум своими амбициями и перспективами, надеждами и обещаниями, стандартами и стабильностью. Но что–то в нашем исходном коде пошло не так, где–то мы все слетели с рельс, ебнулись оземь и весело и задорно, распевая панк–рок, покатились по склону в кювет, обдирая колени о песок, разбивая лица о камни, сжигая кожу борщевиками и крапивой. Мы катимся на хуй. У нас были все возможности стать людьми, а какие–то возможности у нас еще остались. Но когда–то что–то пошло не так, когда–то кто–то все проебал, в нас живет какой–то ебаный вирус, который не дает нам воспользоваться всеми нашими способностями. По сути, нам просто напросто абсолютно нечего делать, мы гнием и разлагаемся от безделья, мир ничего не может предложить нам, кроме второсортных передач по телевизору, стандартных опостылевших развлечений вокруг, ебаных засанных парков, грязных улочек, убогих концертов и вялых дискотек в антураже прошлого десятилетия, ничего кроме дешевого интернета, порнографии, смакования насилия, дешевого алкоголя, потребления, ебаных шмоток и жратвы, ярких образов, вульгарности, культа цинизма и самолюбия, упрощенных механизмов жизни, все как в антиутопиях Хаксли или Брэдбери. Все упрощается, примитивизируется, предлагается некий шаблон жизни — это все банальное дерьмо, расписанное сотней–другой более умных парней до меня, более умными словами и оборотами, с более глубокими мыслями, но на моем примитивном уровне все так и есть. Мы ничего из этого брать не хотим. Поэтому нам пизда. Мы хотим больше. Поэтому нам пизда. Мы хотим быть лучше. Поэтому нам пизда. Мы хоть жить. Поэтому нам пизда. На самом деле — мы очень хотим жить, как бы часто мы не слушали заунывные суицидальные песенки Joy Division или Lifelover, как бы возбужденно мы не обсуждали самоубийство, как бы часто мы не писали в своих твиттерах и контактах меланхоличные депрессивные посты и заметки — мы все безумно хотим жить. И только поэтому мы ноем и кричим о том, как нам эта жизнь настопиздила. Мы хотим жить, но не тут, не сейчас, не с ними, не на одной планете хотя бы, не в одной реальности, не в одной вселенной. Только потому мы бежим. Эскапизм — наш стиль жизни, blank generation — наша субкультура. В свои жалкие «едва за 20» я знаю людей, скуривающих горсти ядерных синтетических смесей разносортных канабиоидов по 4–5 раз в день, объебывающихся до блева и детского лепета, просыпающихся только ради того, чтобы сходить в магазин за шоколадками с колой и бич–пакетами. Я знаю людей, которые оккупируют аптеки и закидываются барбитуратами, всяческими колесами и прочим дерьмом 7 дней в неделю, находясь в обсаженном состоянии 24 часа в сутки. Знаю ребят, которые в 18–19–20 уже бухают как безумные, страдая от почечной недостаточности, знаю и тех, что бахаются в вену время от времени, твердя, что это все баловство и все байки о наркомании — пиздеж. И тех, которые месяцами сидят на тарене, умудряясь приходить по утрам на работу и отрабатывать полную рабочую смену. Знаю студентов, которые за семестр ни разу не приходили на пары не на отходняках, не с похмелья или не под чем–либо. И мое окружение — еще не самое плохое, из тех, что могло бы быть. Мы гниль. Мы дерьмо. Будущего у нас нет. Мы валимся, катимся, рушимся, проваливаемся «как нос сифилитика», я не могу представить себя через 10 лет, не могу представить Тора через 5 лет, не могу представить никого из моих знакомых счастливыми в будущем, нас всех ждет либо быстрая просаженная жизнь и скорая долгожданная смерть от цироза, передоза или суицида, либо медленная проебаная бытовухой рутина и вечный страх смерти в старческой немощи. Мы никогда не проживем ту жизнь, которую нам хотелось бы, мы никогда не станем теми, кем мы хотели бы стать, мы не когда не достигнем своих целей, не исполним своих мечт, не удовлетворим своих желаний. Мы будем крутиться в круговороте тех мечтаний, целей и желаний, которые нам навязаны, которые нам с детства вбивали в голову, мы никогда не станем личностями. За нас все уже итак решили: кем мы будем, как нам прожить свои жизни, по каким путям идти и к чему стремиться. И только потому, что мы не хотим идти этими путями, только потому, что мы сами хотим решать, что с нами будет и как нам жить — нам пизда. Обществу не нужны самостоятельные личности. Обществу нужны верные муравьи, которые будут, следуя всем заветам социал–дарвинизма, ползти вверх по пирамиде социального блядства, выстраивая одну гигантскую муравьиную многоножку, пожирая дерьмо тех, кто сверху, кормя своим дерьмом тех, кто снизу. Вот и вся суть нашего демократического общества, жрать и гадить, изо рта в рот. Наверное, в человеческой многоножке все же был некий социальный подтекст. Нам всем конец. Мы все сторчимся, сопьемся, загнемся в быту, просадим жизнь на заводах, рынках, в торговых центрах, складах, офисах за 8–10–15–20–30 тысяч рублей в месяц, оплачивая бетонные коробки, воду, свет и газ, покупая замороженную еду, откладывая месяцами на новую микроволновку, нажираясь раз в неделю дешевым пойлом, грузясь под вечер мыслями о проебанной жизни, иногда веселясь, хватая кредиты, обсуждая по понедельникам субботние скучные кутежи, приукрашивая их и дорисовывая сознанием более яркие краски. Мы будем жалеть. Жалеть о проебанной молодости, о том, что не добились ничего, мы будем винить себя, винить всех вокруг, падать духом, разлагаться, деградировать, деградировать, деградировать. Потом мы сдадимся, и социум поглотит нас, и перманентное чувство вины и жалости к себе превратится в покорность и безвольность, нами можно будет вытирать пол, плести из нас веревки, мы станем такими, какими нас хотели бы видеть, мы будем воспроизводить такие же поколения, пустые поколения. Одно пустое поколение за другим. Нам всем пизда. И от осознания всего этого мне еще сильнее хотелось бежать, скрыться, снова упороться, напиться, накуриться, запереться, не видеть, не чувствовать, не понимать, не осознавать больше.
Не отрывая взгляда от чая, Тор проговорил: «Надо будет за ремантадином сходить что ли, денек нудный предстоит, хоть как–то скрасить». Я улыбнулся. Наверняка весьма натянуто, учитывая оползень мыслей, который осыпался в моей голове в тот момент.
Мы неспешно собрались, словно пара мух, едва проснувшихся после зимней спячки в окне между рамами. Я предвкушал свое шествие по ненавистным улочкам родного города, баклосановый абстинентный синдром только подкреплял это предвкушение маленькими цунами социопатии, пульсировавшими в висках.
Неоднократно отмечал безумный агрессив мод на отходах с баклосана, концентрированную мизантропию и ненависть ко всему живому, мертвому, материальному и метафизическому. В такие дни необходимо сидеть дома, завернуться в клетчатый плед, пить наикрпечайшие кофейные напитки, залипать в какой–нибудь Монти Пайтон и ни за что, ни в коем случае не выходить на улицу, не видеть людей, не разговаривать, не вступать в контакт. Однако выбора не было, я снова шлялся по улочкам столь родного и любимого города, ощущая как каждая клетка моего субтильного организма кричит на прохожих " я буду убивать детей ваших матерей и насиловать матерей ваших детей, суки вы блядь разэтакие!».
Самое худшее, что может случиться на отходах после баклофенового марафона, например – поездка в общественном транспорте. Вот ты едешь в душном, трясущемся автобусе, подскакивающем на каждой дыре в асфальте, швыряющем тебя к потолку на лежачих ментах (я был бы не против, если бы лежачих полицейских делали из настоящих блюстителей порядка, живьем закатанных в асфальт). В этом автобусе все гремят мелочью, ржавыми монетами, шуршат помятыми чириками и полтинниками, пакетами, бабули достают из глубин своих пропитанных нафталином пальтишек пакеты из под молока, перевязанные резинками от волос, достают свои несметные богатства дрожащими ссохшимися ручонками, жирная кондукторша необъятных размеров, разрезая кормой своего рифленого брюха массы человеческих тел прорезается к необилеченным беднягам, судорожно пытающимся устоять на ногах, одновременно достать деньги за проезд и не заехать ближнему локтем в лицо. Рядом школьник тычет в тебя своим огромным рюкзаком нелепой прямоугольной формы с катафотами и принтами с детскими героями, наполненным кучей учебников, контурных карт, атласов, тетрадей, пеналом с тремя отделами, набитым наборами гелевых ручек, карандашей, фломастеров, резинками и прочим дерьмом, позволяющим превратить юного падавана в послушного долбоеба. От школьника пахнет какими–нибудь булочками с повидлом или утренними бутербродами с колбасой, заботливо приготовленными его мамашей. Рядом кто–то тихонько срыгивает, и ты чувствуешь запах какой–нибудь омерзительной котлетки или опять же колбасы, запахи еды, пота, перегара, бензина, немытых волос. Толкучка. Тут школьник, чуть поодаль мужик, едущий на завод, у него на плече сумка, в сумке пюрешка с котлеткой, наскоряк брошенная в литровую банку перед сменой, рабочая форма, быть может, затертое до желти полотенце, скорее всего нольпятка пива для утренней мотивации. Чуть дальше жирная тетка, в нелепых нарядах, купленных в мещанском стремлении выглядеть броско, красиво и солидно, в нарядах, которые она наверняка считает весьма роскошными, делится обновками с сотрудницами на работе, обсуждает с подругой по телефону, наивно полагая, что у нее есть вкус, при чем вкус самый правильный, не в пример всем остальным. Двигатель гремит, кондуктор кричит «Передаем за проезд! Кто там на задней площадке еще без билета?», шум, гам, парочка на сидении лижется и воркует, бабка рядом смотрит на них со злостью и презрением, искренне считая, что благодаря своей немощи и старости заслуживает уважения и почтения. Запахи, вонь, кто–то орет в телефон, кто–то ржет как оголтелый, все под аккомпанемент хит фм, лав радио или европы плюс с потрясающими хитами и самыми модными и трендовыми треками современных исполнителей. И во всем этом аду едешь ты. Тебя воротит от любого лишнего движения, выворачивает наизнанку от любого запаха, ты не желаешь видеть ни одного человека на расстоянии ближе 100 метров, не желаешь слушать никакой музыки, кроме депрессивно–суицидального блек–метала или вязкого трип–хопа, не желаешь слышать простую человеческую речь, не хочешь вникать в происходящие вокруг вещи, да и жить особо не горишь желанием. И у тебя не возникнет ничего, кроме желания крошить черепа вашим попутчикам, спустить весь жир кондукторши на пол автобуса актом принудительной липосакции, раскроить голову школьнику его же гелевыми ручками, набить ебало миловидной парочке, сломать шею старухе, разбить банку с пюрешкой об голову похмельного люмпена, задушить тупую жирную шмару ее же бусиками из ЦУМа.
Да и на улице никогда не оставит уже столь родная и уютная атмосфера абсолютной ненависти и чистой, девственной мизантропии. Суетящиеся, спешащие прохожие, с пакетами, сумками, мешками, в одинаково разных шмотках, с одинаково разными лицами. И ничего в них нет. Они будут нестись тебе навстречу, или обгонять со спины, толкать плечами, наступать на ноги, задевать сумками, кто–то извинится, кто–то огрызнется, но для тебя это не будет играть значения, ты как зомби будешь влачиться вдоль улицы, возможно, ты будешь идти быстрым шагом, пытаясь обогнать всех, скорее спрятаться во дворах и подворотенках, но даже так твое шествие невозможно будет назвать никак иначе, кроме как влачение. Как растертая в кровь мозоль на пятке, ты будешь пульсировать, а каждый звук, каждая вспышка света, каждый проходящий мимо человек, любой раздражитель будет острым жжением впиваться в самое ядро мозоли. А ты будешь идти и молча кровоточить, воспаляясь и детонируя.
4.2. Казнь первая. Тьма ирритантовая.
Я вышел на улицу, на ходу застегнув пальто под самое горло и подняв воротник — не то чтобы мне было холодно, на улице на самом деле было достаточно душновато для весеннего денька — просто так мне было гораздо комфортнее, этакий Чеховский Беликов — человек в футляре, адаптированный под суровые реалии российской провинции.
Мы разделились с Тором, он двинул к аптеке, я в противоположную сторону, пока еще не придумав, куда направлюсь далее. Меня все еще покачивало и мутило, в районе желудка все стягивало тугим узлом, в то время как в области глотки — наоборот расшатались все крепления и развязались все узлы. Казалось все люди на улице пялятся на меня и сверлят глазами — привычная паранойя, но не в этой ситуации. Дальше меня ждала не очень приятная встреча, маленькое экстремистское приключение, весьма внезапное.
Проходя мимо почты, я завернул в дворик, дабы срезать. Периферийным зрением я уловил персонажа позади меня — узкие спортивные штаны, однотонная толстовка. Персонаж из тех, кто променяли бомбер и варенки, закатанные в омоновские ботинки, на модные аирмаксы и лякокспортивы с фредаками.
«Постой!», я сделал вид, что не расслышал.
«Погоди–ка», я обернулся.
«Ты от Тора?», я промямлил что–то невнятное, понимая к чему идет разговор.
«Так да или нет? Вас видели вчера».
Загнанный эпсилон ответил «Ну да».
Спортсмен ухмыльнулся — «Так ты правый?».
Я осмотрел его с ног до головы — килограмм 85–90, даже в фаерплее я выхвачу пиздюлей, потому я напряг пресс и скулы, в предвкушении сочного удара.
Я сразу понял, что передо мной стоял представитель левого крыла оппозиции, радикально настроенный антифашист, скорее всего быдло–анархист, любитель битдаун–хардкора, возможно неуклюжего белорусского краста, какого–нибудь идейного ой и стрит панка и прочего шаблонного творчества однообразных исполнителей, без конца мусоливших одни и те же темы в своих песнях о «смерть системе», «менты ублюдки», «церковь это бизнес», «у власти диктатор», «выше черный флаг», «семья и юнити», «революция», «свобода равенство братство».
«Нет», он переминался с ноги на ногу.
«А зачем тогда с ним общаешься».
Я подумал было о том, что я ведь тоже по сути окололевый говнарь, читающий Генри Торо и Прудона, Кропоткина и Роккера. Но я уже не успел ничего ответить — плотная струя газа из перцового баллончика едким камшотом оросила мое хмурое опухшее лицо. Я согнулся пополам, а мой собеседник уже удалялся с места происшествия с чувством выполненного долга.
Вероятно Тор, будучи боном в далеком прошлом, да и теперь придерживаясь околофашистских идей, приобрел себе не самую лучшую репутацию среди леворадикалов своего района, но если с ним самим они боялись связываться, то видимо решили отыграться на щуплом дрище вроде меня. Однако в тот момент я об этом не думал вовсе.
В тот момент кожу и глаза мне выедало остервенелым жжением. Довольно неприятное ощущение.
Попытки открыть глаза не увенчались успехом, стереть с лица рукавом пальто также не удавалось. По глупости своей, я, почти вслепую, обливаясь слезами, на ощупь добрался до лужи и начал омывать лицо грязной водой, попутно стряхивая с лица бычки, нечаянно попавшие в лицо вместе с водой. Весь двор наверняка пялился на мои нелепые телодвижения. Откуда же мне было знать, что от воды все только усугубится. Это уже позже я узнал, что смывать это лучше молоком, ну или на крайний случай стирать сухими полотенцами и салфетками, а тогда я чуть не заверещал как побитая шлюха от новой порции едкой маски для лица, раздирающей лицо и выжигающей глаза агонией жара. Я истекал слезами, шмыгал носом, как школьник, выхвативший пиздюлей от старшеклассников, отнявших деньги на обеды, дышал как безумец, постоянно пытаясь рукавом стереть с лица порцию острого скраба. Мне это не удавалось, потому я брел в слепую, пытаясь хоть как–то разлепить глаза и найти место прижать зад и отойти.
Люди шарахались от меня в стороны, я видел это сквозь узкие, залитые слезами, щелочки между веками. Наверняка я выглядел словно бутиратчик, словивший бэд трип, размахивающий хаотично руками, натыкающийся на людей, мычащий и передвигающийся зиг–загами. Никто не спешил помогать. Действительно, зачем?
Хотя напавший на меня антифа–боец по сути прав. Я действительно был его идейным врагом, самым что ни на есть злейшим. Даже во времена моего самого активного позиционирования себя как анархопанка, леворадикала и антифашиста – в глубине души, я всегда понимал, что я самый что ни на есть конченный, ортодоксальный, убежденный и фанатичный фашист. Мало того, что меня с детства привлекала вся атрибутика третьего рейха, весь этот антураж, цвета, помпезность, пафос, подача, весь этот идейно–политический мусор. Так, помимо этого, я всегда делил людей на уберменшей и унтерменшей. Сколько себя помню, всегда проводил четкую грань, между биомусором, которого за людей считать и не стоит вовсе, а только принимать за человеческую единицу, товар на рынке труда и потребления. И также выделял настоящих личностей, интеллектуалов, харизматичных, живых, ну и себя я само собой в эту группу заносил, правда, только время от времени.
У кого–то из Стругацких есть занятное эссе на тему фашизма, где автор доступно разъясняет, что есть фашизм и как определить – фашист ты или нет. Конкретики я не помню, но общая суть такова – как только ты начинаешь делить людей на группы, причем выделять их не просто по какому–то отвлеченному критерию, например рост, вес, цвет глаз, размер ноги, без соотнесения с неким единым стандартом, а начинаешь делить всех по принципу лучше–хуже, выносить какие–то нормы, соотносить всех с ними, грубо говоря, начинаешь делить людей на достойных и недостойных, высшую касту и низшую, плебеев и патрициев ну и прпрпр. – вот тут–то ты и попался на фашизме. Таким образом, выходит, что при любом строе и времени общество в самом своем корню было насквозь фашистским и строилось на дискриминационной иерархии, да и вообще, любая иерархия или система – уже есть не что иное, как фашизм. Даже сейчас, если взглянуть, например, вокруг, есть некий образ успешного человека, некий апофеоз мечтаний всех представителей современного общества – чаще всего это такой Патрик Бэйтман, офисный работник, ползущий к светлому будущему, карьере и успеху, скорее всего менеджер, скорее всего разбирающийся в брендах одежды, имеющий определенный ряд пристрастий и хобби, стиль одежды, набор посещаемых магазинов, предпочитаемых марок, круг общения, ценности, идеи, посещаемые сайты и читаемые журналы, трендовые книги и фильмы, определенная марка телефона, определенная операционная система, марка обуви, форма носка туфлей, подворот джинс, картинка на рабочем столе, жесты, мимика, корпоративный стиль, марка автомобиля, предпочитаемые развлекательные заведения и рестораны/кафе, оформление страниц в социальных сетях, форма и дизайн визитных карточек, любимый сорт кофе, предпочитаемая начинка к блинчикам, темы для разговора – все должно соответствовать. На смену майн кампфу – приходит фурфур.мэг, лукэтми, эскваер и менс хелф, на смену форме СС – корпоративные костюмы, рубашки от Брионии и туфели от Джона Уайта, наушники битс, подключенные к последнему айфону, а в ушах только последние релизы самых трендовых и модных исполнителей в этом сезоне. Это четвертый рейх штурбанфюреров в белых воротничках, со своей идеологией, своим офисно–корпоративным фашизмом, со своей борьбой, своей классификацией, они – арийская раса, мы – скот.
У меня же была своя борьба и свой фашизм. Фашизм на основе интеллекта что ли, элитарности, я всегда смотрел на человека и думал «построй я свое государство, свою утопию, поселил бы я этого персонажа в своем Городе Солнца?». У меня был и есть некий стандарт идеального сверхчеловека, с которым я сравниваю всех и каждого, вынося приговоры, отправляя в страту ниже или выше (Питирим Сорокин – тоже фашист, причем самый что ни на есть откровенный идеолог фашизма).
Прости меня, Оруэлл, но диктатура – единственный разумный режим в этом безумном, безумном, безумном мире. Человечество спасут только массовые репрессии и расстрелы, тотальный надзор и контроль, постоянный страх и муштра. Люди ведь не хотят жить свободными, свобода – это очень страшно, это ответственность, это самостоятельность, для этого нужно быть сильным, нужно превозмогать себя, заставлять себя что–то делать, постоянно себя мотивировать, поднимать зад с дивана. Гораздо проще, когда тебя ебут 24*7, приказным тоном вещая, что, как и когда тебе делать, когда ты никто и ничего не стоишь, гораздо проще проживать жизнь по уже заданным стандартам, по уже выданному техническому заданию и функциональным требованиям. Ничего не нужно решать, ничего придумывать, не нужна фантазия, не нужно сознание, не нужен разум, есть инструкция, есть приказ. Людям нужна диктатура, людям не нужна свобода. Люди рабы, их хлебом не корми, дай подчиняться, пресмыкаться, ползать и раболепствовать. Люди хотят, чтобы их освободили от свободы. «Лучше поработите нас, но накормите нас“. «Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее». Потому 80% людей нужно спасти от этого тяжкого бремени, загнать в загоны, кормить как свиней и содержать в уютных хлевах, целый класс послушных эпсилонов, готовых за уют и жилье выполнять любую работу, люди ведь именно так и хотят жить, на деле так и живут – за квартиру и более–менее приемлемую зарплату человек готов терпеть любые унижения, давления, уничижения, оскорбления, ограничения, этот список можно долго продолжать, любой работодатель затыкает своим работникам рты кляпом купюр. Остальные 20% элиты буду вещать и править, задавать тон и пожинать плоды власти и диктатуры. «Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла». Я не политолог и толков раскидать все это дерьмо не смогу. Скажу одно – хочу, чтобы люди были в подчинении, раболепствовали и пресмыкались, вот и все. И не хуй этим червям свободу давать, ишь чего напридумывали либерализмов всяких.
Хотя, стоит отметить, что я настолько же далек от левого фронта, как и от правого. Помню, будучи малолетним обсосом, лет одиннадцати, я с моим другом и одноклассником собирались у него дома после школы и гоняли на старом кассетном магнитофоне записи Эксплойтед, Оргазма Нострадамуса и Секс Пистолс, а потом на видеомагнитофоне смотрели записанные с МТВ клипы нирваны и подборки Джэкэсс. Позиционировали мы тогда себя как отъявленные панки, у нас даже была одна акустическая гитара на весь моб, на которой играть никто не умел, но каждый считал своим долгом похуярить на открытых струнах и поорать глубокофилософские песни вроде «УБИВАЙ УБИВАЙ УБИВАЙ!». Мы ставили себе модные прически мамиными лаками и муссами, воняли отечественной косметикой, делали напульсники из клепанных ошейников, купленных в зоомагазинах, обвешивались цепями, купленными там же, рвали джинсы на коленях, искали кеды на городском рынке, более–менее напоминающие конверсы, одевали футболки поверх водолазок и рисовали штрихами на портфелях, партах, стенах и дверях кривые значки анархии, абсолютно не подозревая что это за штука такая, но будучи на сто процентов уверенными, что анархия – это нечто безумно охуенное и вообще лучшее, что может случиться с нами в этом мире. А потом однажды старший брат моего друга пришел к нам и дал листовки РНЕ, а его друзья пояснили нам, что во всех бедах человечества виноваты исключительно черномазые, всякие чурки, хачи и жиды, которые «творят незнама че не в своей стране», отнимают рабочие места, насилуют женщин, воруют и торгуют героином. Мы послушали ребят постарше, ведь они знали «за жизнь», и уже через неделю я ходил в омоновских берцах и джинсах с подворотами, на руке у меня была повязана бандана с рунами, а на теле красовалась футболка с черепком и флагом конфедеративных штатов Америки (я знать не знал истории США, но ребята тогда мне объяснили, что это был флаг правильных пацанов, которые в свое время рубили всяких черных ниггеров и тоже чурок не любили и вообще знали толк в расовой верности). Вот так мы и ходили по городу с такими же малолетками, брили друг друга машинкой на кухнях, прыгали на маленьких цыганят во дворе, забирали у нищих азербайджанят в школе деньги на обеды, порой хлестали их по ляжкам цепями из пресловутого зоомагазина, на партах мы теперь рисовали свастоны и значки РНЕ. И так бы оно и продолжалось, если бы мое природное любопытство не заставило меня пойти в библиотеку за книгами, ведь, по сути, я был задротом, маленьким мальчиком, который учился без троек и показывал маме дневник каждый вечер, за тарелкой супа рассказывая ей как провел вечер, травя байки о том, как гонял очередного малолетнего будулая с цепью наперевес в компании друзей из нашего кружка юного националиста. Мама относилась к этому весьма несерьезно, как к детскому баловству и всяким прочим шалостям переходного возраста, и просила разве что не ввязываться в истории и быть аккуратнее. Это к тому, что по сути я был (и остаюсь) паинькой и маменькиным сынком, неожиданно для себя попавшим в маргинальную уличную среду, неизвестно как я на протяжении уже черт знает скольки лет вращающимся среди околобонов, околоанархистов, торчей, токсикоманов, гопоты, говнарей, обрыганов, конченных алкашей, бесперспективных отщепенцев и прпрпр., но судьба распорядилась именно так. И я всегда много читал, потому и поплелся искать пресловутый Майн Кампф в библиотеку, искренне полагая, что раз уж я теперь боец ультраправого фронта, значит, мне необходимо быть подкованным и эрудированным в вопросах политики и идеологии, читать основные труды теоретиков и практиков фашизма и национал–социализма и знать историю. Как же я заблуждался: на самом деле, чтобы быть правым, нужно посмотреть пару фильмов про скинов, например американская история икс и ромпер стомпер, купить имперку, научиться кидать зиги под расово–верных углом, выучить пару лозунгов, желательно нацепить пару шмоток от лонсдэйла и слушать rac (рок эгэйинст коммунизм – такая музыка, хойпанк с элементами национализма, см.коловрат). В библиотеке я само собой не нашел Майн Кампф, зато нашел дневниковые записки лидеров национал–социалистического движения в Германии, например мемуары Альберта Шпеера, личного архитектора Гитлера. Конечно мемуары, написанные в Шпандау, были насквозь пропитаны раскаянием и критикой тоталитаризма и фашистского режима, а также подробным описанием всех бюрократических механизмов тех времен. Начитавшись историй о том, как Геринг, этакая драг–квин третьего рейха, расхаживал по своим роскошным пенатам, отстроенным на казенные деньги, накрасив ногти красным лаком и напялив шелковый халатик, время от времени вмазываясь морфием, или о том, как все партийные лидеры даже в годы самого ожесточенного противостояния и военного кризиса продолжали разворовывать государство, купаясь в роскоши, попутно нашептывая на ухо фюреру различные сказки и россказни друг о друге, пуская слухи, сговариваясь и сбиваясь в маленькие коалиции, и о том, как Борман ловко руководил Гитлером, словно Гримма Гнилоуст, трущийся у трона короля, или о том, как сам фюрер допускал десятки роковых ошибок, вел себя как истеричный дилетант и абсолютный профан от мира политики, я понял в какое же дерьмо я вляпался. Так, в 12–13 лет я отписался от правого движа.
С левацкими идеями история схожая. Типичное начало – от обрыганского панк–рока к не менее обрыганскому анархопанку и красту. Все, как и всегда, начиналось с музыки. Затем Крейг О’хара и Наоми Кляйн, веганство, антикапитализм, сыроедение, вес под 53–55 килограмм, обувь из кожезаменителя, даже в 35 градусный мороз, куртки на искусственном меху, подушки без перьев, леденцы зула с витамином б12, прыщи по всему ебальнику, никакой кока–колы и нью–белансов, промывка мозгов всем друзьям и близким на тему трупоедения, корпоративизма, капитализма, социал–дарвинизма, цивилизации, политики, революциях и прочего никому не интересного мусора (хотя стоит отметить, что с десяток человек я подсадил на вегетарианство благодаря фильму «Земляне»). Зачитывался всякими, уже упоминаемыми, Прудонами, Торо, Качински, Бакуниным, штудировал Оруэлла, Хаксли, все утопии и антиутопии. И дочитался до того, что разочаровался в людях, во всех левых идеях, в ценностях. Вера пропала, социализм — глупость, люди скот, на хуй так жить. Хотя я уже описывал свое отношение к общественному и политическому строю абзацем выше: репрессии, хлева, расстрелы, диктатура. Но, повторюсь: люди не смогут жить в свободе, равенстве и братстве. Люди ненавидят друг друга, ненавидят себя, люди не хотят свободы, люди не равны, с самого рождения, со стартовой точки – равенства уже нет, мы начинаем жить в атмосфере дисгармонии, несправедливости и обоюдной ненависти, зависти, и с годами эта ситуация только усугубляется. Вся суть человека – топтать тех, кто слабее и ниже на лестнице социальной иерархии, делая при этом качественный техничный римминг тем, кто сильнее и выше на этой же самой лестнице. Поэтому все эти анархо–синдикализмы и прочие левачизмы ждет крах и погибель, провал и коллапс, это только в повести у Эрика Фрэнка Рассела люди могли уживаться на целой планете без денег, властей и контроля, в реальности людям нужно доминировать над кем–то, а перед кем–то лебезить – это обязательное условие существования. Я не верю в человечество, я не верю в Город Солнца, я не верю в здравый смысл, не верю в любовь, дружбу и торжество равенства и братства, не верю в людей, ведь как пел еще Егорка Летов: «Ненависть, ненависть, Всех объединяет ненависть, Всех объединяет ненависть, Всех объединяет одно желание. Убивать и насиловать всех иных прочих».
И тут можно подвести черту под этой унылой, несуразной политико–философской размазней и сделать один вывод: политика – это огромная куча дерьма, смердящего букетом разнокалиберной вони; куча разноцветного дерьма, разной консистенции и формы, растекающаяся, перемешивающаяся и живущая своей жизнью. А все эти правые, левые, центристы – стоят у разных краев этой кучи и жадно, ложками нагребают дерьмо и пихают себе в рты, чавкают, истекают слюнями и просят добавки, жадно проглатывая все, что успеют выхватить. При этом каждый считает, что его дерьмо – самое вкусное, самое душистое, самое густое и правильное, а вот у тех ребят, с другого края кучи – дерьмо пресное, пахнет не насыщенно, жиденькое, да и вообще не понятно еще какой свежести. Но суть остается сутью – все они жрут дерьмо. Политика – есть кал, а все кто в ней варится – лобби копрофагов.
Я рухнул костлявыми ягодицами на ступени близлежащего подъезда и молча обтекал выделениями своего организма, словно какая–нибудь заслуженная народная артистка, вроде Белладонны или Саши Грей. А организм неустанно выделял жидкости из всех отверстий моего лица, лишь усугубляя ситуацию. В тот момент я подумал, что перцовые баллончики – самое зловещее и коварное изобретение человечества, ведь что бы я не делал, все приводило лишь к усилению жжения. Потому я просто сидел и терпел, стараясь силой мысли заставить организм выделять меньше слез, соплей и прочих жидкостей.
Из подъезда и в подъезд заходили и выходили люди и косо посматривали на меня, обходили сторонкой. А я косым взглядом, из под собравшихся в кучу надбровных дуг и судорожно дергающихся век глядел на них, всем своим перекошенным лицом, напоминая обсаженного объебоса на отходах.
Минут 20 просидел я на лесенке, пугая матерей, выходивших выгулять своих отпрысков; старух, опасавшихся того, что я наркоман, пришедший выпытать у них похоронные деньги; сновал туда–сюда и прочий человекообразный скам, выползавший на прогулки из своих бетонных коробочек. И, когда, наконец, меня чуть–чуть попустило, и я смог более–менее поднять свои тяжкие, изувеченные перцем веки, я встал, отряхнулся, обтер лицо рукавом, испытав еще один приход жуткого жжения, и направился в сторону расположенного неподалеку крупного кинотеатра, в котором был бесплатный туалет с бумажными полотенцами, водой и зеркалами. А это как раз таки то, что мне в тот момент было необходимо.
Я слегка шатающейся походкой двинул свое и без того измученное тело к кинотеатру, корча нелепые мины, словно кошка в которую брызнули водой, щурился как пиздоглазый азиат и шмыгал носом как школьник, размазывающий сопли по перилам школьных лестниц.
Странно, но я не чувствовал того привычного отчужденного чувства ненависти ко всем прохожим, не было того рваного внутреннего кипения и раздражительности, хотя, надо отметить, настороженных взглядов я ловил гораздо больше обычного. Источников раздражения, казалось бы, было на порядок больше, и, соответственно, я должен был бы быть нервознее и психованнее, но в тот момент меня беспокоило только жжение на лице. Я как пьяный в говно обрыган, не замечающий никого и ничего вокруг, движущийся на автопилоте зигзагами домой, с единственной приоритетной задачей в голове и одним акцентом в жизни: добраться до дома живым и невредимым. Так и я – шел, устремив свой мерцающий, полуослепший взор к зданию кинотеатра, не замечая, ну или не обращая внимания на шептания и смех за спиной, косые взгляды и ухмылки, недоумения и прочие негатив окружающего меня мира. Все, что я видел перед глазами, это раковина с краном, источающим чистую хлорированную воду, кусок мыла и бумажные полотенца, которые спасут меня от этого едкого раствора на лице, надо только добраться.
Доковыляв, наконец, до здания, я вошел внутрь и, пропихнувшись сквозь толпу мудачья с ведрами поп–корна и стаканами колы, стоявшего в очереди за билетами, прямо таки ворвался в гальюн, метнулся к первой попавшейся раковине и, схватив обкусанный, склизкий кусок мыла, стал мочить его и мылить лицо. Жжение не проходило, а скорее усиливалось, но я мыл и мыл, раз за разом, остервенело намыливая и смывая, намыливая и смывая, натирая кожу все сильнее. Наконец устав от ванных процедур, я направился в кабинку, где вымотал метров 20 туалетной бумаги, прикладывая обрывки к лицу. Мне таки полегчало. Я присел на унитаз, схватившись за голову. Устроил своим легким гипервентиляцию, голова закружилась, но стало легче и свежее. Я еще раз промокнул туалетной бумагой глаза и высморкался.
Скомкав все обрывки туалетной бумаги в один огромный ком, я собирался было уже сбросить его в мусорную корзину, как среди измазанных в дерьме перфорированных листочков внезапно увидел две купюры достоинством в 100 рублей и одну в 50. Погребены эти сокровища были под несколькими слоями использованной туалетки, мусора и прочих отходов и проглядывали лишь сквозь сетку мусорной корзины. Не берусь утверждать, откуда эти деньги там появились. Был ли это чей–то розыгрыш, или результат чьего–то спора, а быть может, кого–то попросту прижало, а бумаги под рукой не оказалось. В тот момент меня это беспокоило меньше всего, ведь это были 250 рублей, а в моем кармане были лишь размякшие с прошлой стирки несчастливые билетики, мусор и пыль. Деньги не пахнут. Я просунул руку в корзину и без тени отвращения (какое может быть отвращение, когда тебя с утра пол часа рвало дешевым пивом на баклосановом отходняке, после чего юный боец окатил с перцового баллона и вынудил умывать лицо в луже) начал копошиться в ведре. Когда я, наконец, извлек три смятые купюры, я достал из кармана связку ключей и самым тонким из них стал отскребать самые крупные куски кала в унитаз – я отмывал деньги прямо–таки как какой–то мафиози, правда, отмывал я их в самом наипрямейшем смысле, в отличие от криминальных авторитетов. Приведя купюры в более–менее божеский вид, я скомкал их и запихнул в карман. Вышел из уборной, помыл руки и сполоснул ключи. Решение, на что потратить вырученные нелегким трудом деньги пришло сразу: купить пару банок гликодина, смешать с запрятанным дома терасилом «д», запив грейпфрутовым соком,, поставить фоном атмосферный блэк метал, отправиться в экзистенциальное путешествие по глубинам своей мрачной душонки, кишащей личинками трупных мух.
Я улыбнулся самому себе в зеркало — я уже не казался себе таким безнадежным и омерзительным, ведь в моем кармане лежали деньги. Маленькие деньги давали мне маленькую власть, хотя бы над собой, хотя бы над своим рассудком, над своим сознанием. Мне вспомнился эпизод фильма «Они живут», в котором главный герой впервые взглянул на деньги в своих волшебных очках и обнаружил на них надпись «Это твой Бог!». Но я тут же отбросил эти антикапиталистические мрачные мысли, предвкушая третье плато и незабываемое путешествие по глубинкам своего сознания.
4.3. Казнь вторая. Наказание песьими мухами.
Я, озаренный кривой улыбкой, вышел из уборной. Вокруг сновали дети, верещали, шумели, бегали друг за другом, примеряли очки с 3д эффектом, нудили, выпрашивая у родителей всякие вкусные ништяки в буфете. Кругом кишела жизнь и, по всей видимости, предстоял показ какого–то очередного дебильного детского мультфильма про очередных говорящих животных, ну или, быть может, мультфильм про какого–нибудь русского былинного героя. Это не столь важно. Важно лишь то, что в моем кармане таятся грязные (опять же в самом прямом смысле этого слова) деньги. А еще важнее то, что я намеревался на эти деньги сделать. А намеревался я сказать унылой реальности — «Прощай, до новых встреч, никчемное уебище».
Для начала мне было необходимо несколько отдохнуть, перевести дух, поскольку больно уж насыщенным и богатым до приключений и происшествий оказалось мое утро, а мне, тихоне, паиньке и маменькиному сынку, такое форсированное и остросюжетное развитие событий было не по нраву, я предпочитал более неспешный, даже скорее ленивый и скудный до всплесков ход вещей. Стоит призадуматься, а не потому ли я так несчастен и недоволен своей жизнью? Не потому ли, что сам опасаюсь этой самой жизни, боюсь крутых поворотов, непредсказуемых ходов, внезапностей, тех самых «случайностей, неверностей», в которые был влюблен Бальмонт? Несомненно, это так. Тут даже задумываться не стоит — я так недоволен своим бытием постольку, поскольку оно анорексично и не насыщено, однообразно и рутинно, а рутинно оно потому, что я сам боюсь вносить в него что–то новое и сочное, боюсь «как бы чего не вышло». Моя ссыкливая натура никогда не давала мне жить на широкую ногу, позволять себе безумствовать. Даже напиваясь вдрызг, я, мнительный и опасливый, всегда старался обходить стороной приключения и конфликты, всегда возводил инстинкт самосохранения в Абсолют, не давая чувствам и порывам возобладать над разумом, подавляя свое id своим superego, на выходе получая изодранное в клочки и изувеченное внутренними конфликтами ego. Я — ссыкливое ничто, моя жизнь — одно сплошное избегание и путь в обход. Даже будучи маленьким ребенком, я всегда по пути из школы обходил дворы, где кучковались местные гопники, отжимающие обеденные деньги, брелки, фишки, все, что имело какую–либо ценность, даже шапки, которые можно было потом продать или выменять в ларьке на что–нибудь (лихие 90е). Да что там скрывать, я и сейчас стараюсь стороной обходить лихие шумные компании, даже если это удлиняет мой путь. Я всегда обхожу, избегаю, ухожу от всех мало–мальски значимых и ответственных путей, решений и событий. А потом жалуюсь на то, что в моей жизни ничего не происходит. Нытик и паскуда. В этом моя ссыкливая сущность.
И разговор тут не зря зашел о ссыкливой сущности — не успел я приземлить свои тощие ляжки на мягкое кресло в зале ожидания кинотеатра, как увидел свою уже бывшую благоверную напротив. Я нервно сглотнул, хотя вернее будет сказать, что я имитировал глоток пересохшей глоткой. Она сидела в компании некого сударя, по всей видимости, ее нового избранника, перехватившего эстафетную палочку терпилы и мазохиста этих прокрустовых отношений. Дама таки времени зря не теряла, и я всегда знал об этой ее отличительной особенности — мстительности и взбалмошности.
Казалось бы, все так просто, в таких ситуациях необходимо включать самца, тумблер «режим альфа» задрать вверх и «go on», показывать, у кого тут самый короткий член. Однако Создатель, при проектировании лохмотьев моей душонки несколько просчитался, быть может, пошутил или был с похмелья и просто забыл, не суть, в общем, не было во мне этого модного тумблера решительности и напористости, зато был коротящий разъем мнительности и нерешительности. И вот как раз таки в этот момент он яростно закоротил, засверкал искрами боязни. В свет прожекторов вышла моя ссыкливая сущность, чтобы сыграть свою трагическую роль.
Я, опасаясь как бы меня не заметили раньше времени, стал проигрывать в голове все возможные варианты развития событий, я смерил взглядом моего возможного оппонента, прикинул в голове рост–вес, представил комплекцию, взглянул в лицо, попытался охарактеризовать личность паренька, но не смог — больно типичный, больно стандартный. Слегка волосат, в меру, слегка зауженные джинсы, в меру, не до колгот, который порой натягиваю я, слегка модная куртка, так, чтобы и не сильно выделяться, но при этом и выглядеть довольно прилично и стильно, кроссовки из скейт–шопа, тоже неброские и довольно обычные, но как бы говорящие о принадлежности индивида к модным молодежным течениям, о его осведомленности в тренадах нынешнего поколения. Я анализировал и сканировал, представлял свой подход, представлял, что скажу и что отвечу, думал куда ударю и в какой момент, да так, чтобы в итоге не оказаться на полу с выстегнутыми зубами. Представлял также и напряженную беседу с пассией, возможные ее фразы, возможные мои ответы, возможные претензии обеих сторон, любопытно было и то, за кого же она заступиться, случись сейчас потасовка, что будет кричать и кого поддерживать. Я анализировал, анализировал, анализировал. Но выстраивая все новые и новые проекты и прогнозы, я все больше боялся, ссыкливая сущность росла, как злокачественная опухоль, пульсировала и истекала собственными соками.
Тут стоит заметить, что каждый раз, когда я заводил более–менее серьезные отношения с той или иной особью противоположного пола, я отмечал трех предвестников конца, так сказать, трех всадников апокалипсиса отношений, если можно так выразиться. Если попробовать изложить их вкратце — это всеми любимая фраза «я тебя люблю», местоимение «мы» и общие даты, они же годовщины. Наверняка, следует прояснить ситуацию, предоставив подробную аналитическую записку на каждый из выше обозначенных пунктов.
Начну, пожалуй, с самого банального пункта, а именно со слов «Я тебя люблю». Практически все отношения строятся поначалу на неком подобии симпатии, каком–никаком общении, родстве интересов, ёбле и прочих плотских инстинктах и социальных потребностях. Однако со временем один из партнеров (независимо от половой принадлежности) изрекает эту всеми любимую фразу. Происходит это чаще всего на пике эмоциональной бури, например, после секса (или во время его), в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, романтического настроения, в конце концов. В общем, в моменты эйфорического и аффективного прилива нежности, тепла, комфорта и душевного уюта, в моменты, когда потенциальный раб отношений внезапно для себя осознает, насколько ему комфортно в кандалах, насколько близок ему очаг галер близости и духовного сплетения с его пассией. В эти вот моменты, краткосрочные моменты безумия, индивид чаще всего и изрекает впервые эту эпохальную, культовую и роковую фразу, несомненно, влекущую за собой коллапс и трагедию. И никак иначе. В эти мгновения пассия влюбленца чаще всего слегка негодует и скорее всего отвечает нечто вроде «я тебя тоже», возможно «на отъебись», хотя вполне вероятно и с некой долей искренности, будучи объятым(ой) тем же облаком влюблённости и ласковым тленом безумия. Вот с этого момента и начинаются беды. Ведь обычно, даже по сути и не будучи влюбленными, обреченные, изрекая эту трехсловную околесицу, уверовывают в нее сами, убеждают себя, в искренности своего порыва, сами себе вбивают в голову, в и без того уязвимую и хрупкую подкорку своего сознания, миф любви и вечной эйфории двух начал, двух взаимодополняющих душ, или, как это принято говорить на отечественной эстраде и в статусах страниц социальных сетей, двух половинок одного целого. Все как в песне – «А где–то есть моя, любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная!». Большинство человеческих единиц очень подвержено самовнушению. И вот. Произнеся эту фразу единожды, они начинают повторять ее вновь. И вновь. И вновь. Поначалу робко и неуверенно. Редко, слегка запинаясь и сомневаясь, будто бы осколки разума еще не до конца погибли в этой пылающей Помпее чувств, инстинктов и всякой прочей такой несуразной похоти. Чаще всего у этой фразы лишь один инициатор, так сказать «человек–катализатор соплей» (и не обязательно – девушка, встречаются ведь и ранимые и чуткие юноши, готовые к жесткому фемдому, к разыгрыванию спектаклей по сценариям Барона Фон Захер Мазоха, готовые осыпать любимую лепестками роз и купать в ванной из шампанского/ягуара/блейзера/жигулевского (нужное подчеркнуть) только лишь за то, что данная особа снизошла до его невзрачной персоны, одарила его вниманием и, быть может, плотскими ласками. Такие юноши встречаются сплошь и рядом, обычно их принято называть романтиками). Этот «человек–катализатор соплей» обычно сперва несколько односторонне выражает свою признательность за внимание, получая на свое «я тебя люблю» либо робкие улыбки, либо то самое «я тебя тоже, только отъебись». Однако «человек–катализатор» рано или поздно начнет требовать взаимности, ведь никто не хочет страдать от неразделенной любви, все хотят двухсторонних, взаимодополняющих отношений. И тогда, путем нехитрых манипуляций человек–катализатор катализирует все больше и больше соплей, тем самым привязывая несчастную пассию к своей особе и вот уже и вторая половинка верит в непоколебимость и вечность их священных чувств. Вот так рождается любовь. И вот уже оба обреченных как заведенные повторяют эту мантру погибели «я тебя люблю». Как я уже говорил – сперва редко и неуверенно, а затем все чаще и напористее, будто бы вера их с каждым повторением все крепнет и поднимается на новый уровень, будто бы мантра, написанная на стене в социальной сети делает их чувства все бездонее и глубже, глубже глотки Аннет Шварц или Саши Грей. Но в этом алгоритме повторения мантр можно проследить одну особенность – некую закономерность. Слова эти тождественны обратной параболе или одному витку синусоиды какой–нибудь – ведь сперва они растут, тянутся верх, заявления все громче, слова все чаще, сопли все гуще. И вот однажды они достигают своего пика, своей точки максимума, а затем по той же траектории движутся вниз. И уши обреченных все реже слышат уже вроде бы столь любимые, но настолько приевшиеся и набившие оскомину слова, и это их разочаровывает, дымка мифа, созданного ими же, рассеивается. И тут уже в дело вступает тот, кто сильнее уверовал в эту легенду, в этот сказ о любви до гроба и страсти безумной и дикой навечно и навсегда, со смертью в один день и общим бытом без бытовухи. Срывается, так сказать, следующая печать апокалипсиса отношений и ангелы трубят в очередной раз. Тот, что уверовал сильнее, назовем его человек–лемминг (человек–катализатор и человек–лемминг могут быть одним и тем же человеком) начинает негодовать по поводу спада функции, его не устраивает консистенция соплей, он, словно эксперт передачи контрольная закупка, сравнивает свои отношения в данный момент с отношениями своими же в более ранних контрольных точках, с чужими воспоминаниями и с неким идеалом отношений вообще и приходит к плачевному выводу. Слова о любви произносятся реже, а значит любовь гибнет, и тогда он изрекает еще одну не менее эпохальную и культовую фразу «Ты все реже говоришь, что любишь меня!» или, что звучит еще более трагично – «Ты меня не любишь/разлюбил(а)!». Эти фразы влекут у второй стороны конфликта (а это уже не отношения – это конфликт, внутриличностный и межличностный) нервозность, сомнения, страхи, опасения и тревоги. Это обвинение. А оно пугает, никто не хочет быть обвиняемым, неприятно сидеть на скамье подсудимых. И на помощь приходят различные отмазки, защитные механизмы, старое доброе «отъебись» и прочие попытки сохранить былую пылкость и страсть. Однако обреченные уже обречены на поражение. Можно было бы привести ряд сравнений нелепых, например – бисквитный торт, который по началу сытен, вкусен и невероятно насыщен, но после третьего куска – ты уже блюешь и смотреть на это кремо–бисквитное безумие не можешь. Или сравнить с плотно сидящей на ноге кроссовкой, которая сперва создает иллюзию комфорта и надежного облегания стопы, а потом натирает пару–тройку кровоточащих мозолей и вот ты уже хромоногое ничтожество, а не красавец в модных лаптях. И с фразой этой так же, сперва ее присутствие создает некую бисквитность, придает вкус, дарит комфорт и иллюзию уверенности, а затем провоцирует тошноту и раздирает тебе голову до крови, превращая тебя в немощного, отравленного бисквитом хромоногого калеку эмоций и чувств. Фраза–иллюзия. Фраза–наебалово.
Слово «Мы». И не только «Мы», а все местоимения типа «нам», «у нас» и «наш». Со словом «наше» все обстоит критически строго и максимально опасно, поскольку, как только в обиходе и лексиконе обреченных возникает все чаще что–то «наше» — это есть верный знак приближения погибели. Эти местоимения намекают на наличие некой общности, совместности, двусторонности, а, соответственно, неполноценности и увечности. Ведь как только у обреченных появляются некие общие «Их» идеи, ценности, мечты, планы, вещи, в общем, разного рода материальные и духовные блага – именно тогда у них возникает общий наручник на двоих, который, как и в случае выше, лишь по началу будет казаться комфортным и надежным, со временем лишь сильнее стягивая и впиваясь в запястье. Если в вашей жизни возникает что–то «Наше», значит что–то «Мое» вместе с этим уходит, кусочек свободы уходит с молотка. Это некий коммунизм для двоих, общежитие, двухстороннее раскулачивание. Подобие кругов Эйлера, накладывающихся один на другой, теряющих тем самым кусок своей собственной площади, в обмен на кусочек общей площади. Чаще всего «Наше» является лишь умело навязанным «Моим» одного из обреченных. Ведь, по сути, большинство отношений строятся на взаимном навязывании: навяжи свои вкусы, навяжи свои ценности, навяжи свои планы, свои мечты, взгляды, потребности, установки, свои идеалы, морали, шаблоны жизни, устремления, заставь смотреть на мир через «Твои» линзы и они станут «Вашими». В итоге, все это нагромождение, эта вавилонская башня навязанностей превращается в крепкий узел привязанности или, как принято говорить, крепкие узы отношений, ну или если быть совсем уж наивным – нерушимую любовь. Идеалом в данной ситуации будут два абсолютно тождественных круга Эйлера, которые будет возможно наложить друг на друга, не оставив не одного зазора в площади. Это, наверное, и будет та самая мифическая любовь, но нет необходимости быть именитым психологом, чтобы понять, что это миф, что это невозможно, это все сказки и глупости, существующие лишь в вакууме. На деле же все чаще всего превращается в пресловутый конфликт, конфликт одного «Моего» с другим «Моим», в котором никто не хочет навязанного «Нашего». Хотя, по началу, каждый из обреченных с радостью принимает чужое «Мое» и дарит свое «Мое», добровольно создавая «Наше», но это лишь до поры до времени, до тех пор, пока общая площадь кругов не вырастет настолько, что начнет задевать какие–то личные, интимные, ранее неприкасаемые свободы. Тут рождается протест, отторжение, ссоры, проверки переписок, подозрения, требования, маленькая диктатура, «Тебе есть, что скрывать от меня?». Местоимение погибели, местоимение зависимости, местоимение несвободы, способное скрепить лишь сферическую любовь в вакууме.
И третий всадник – годовщины, совместные праздники. По сути, их можно вписать в пункт выше, ведь каждая вновь образовавшаяся пара обожает отмечать эти похороны, громко заявляя «МЫ вместе уже месяц/пол года/год», как бы обозначая новый этап в создании общей площади кругов Эйлера. Это опасный момент. Не то чтобы я считаю, что совсем нельзя даже помышлять о подобных датах, ведь одно дело, когда ты неосознанно запоминаешь дату и время от времени вспоминаешь о том, сколько времени вы уже вместе, возможно ты даже подсчитываешь в голове, но не придаешь этому особого значения. Но совершенно другая ситуация, когда обреченные целенаправленно отмечают, справляют, планируют, помечают в календаре, делают заметки в телефонах и на рабочих столах, лишь бы не забыть, вспомнить, отдать дань традиции. Опять же, это лишь по началу может несколько забавлять обреченных, которые как будто бы проходят некие чекпоинты в увлекательном квесте, но, учитывая, что каждый из обреченцев верит в нерушимость их союза, данный квест конца не имеет, а чекпоинты будут длиться пока смерть не разлучит их. Кому это может понравиться? Ведь когда человек отсчитывает время, он тем самым дает понять, что уверен, пусть даже где–то в глубине подсознания, что у этого есть конец. Люди отсчитывают время, чтобы узнать, сколько они продержаться под водой без воздуха, сколько смогут простоять на одной ноге, провисеть на перекладине, обойтись без сигарет. Обычно у всего этого есть предел и никто не рассчитывает прожить под водой всю жизнь или стоять на одной ноге вечно, и человек рано или поздно вынырнет на поверхность, чтобы наполнить легкие сладким кислородом, встанет на обе ноги, спрыгнет с перекладины с утомленными мышцами, схватится за сигареты, измучанный рутиной. Так и тут, рано или поздно господа обреченцы спрыгнут со своей перекладины, утомленные и измучанные тем, что так долго отсчитывали. Отмечая даты своих отношений, особи тем самым будто бы говорят всем их окружающим и близким «Смотрите! Смотрите! Как долго мы продержались! Как долго мы терпим друг друга! Мы уже год вместе и еще не устали! Поглядите на наш мазохизм и отчаянное мученичество!», и каждый в отдельности будто бы вопит «Смотрите, я терплю уже такой долгий срок и горжусь этим! Я готов и дальше выдерживать это!». Мученики любви! Это даты мучений, даты истязаний, даты гордости за вымученное («Стерпится – слюбится»).
И так я прокручивал в голове целые рулоны текста, убеждая себя, что любые отношения – есть тлен и не нужно сейчас ни за кем бежать, лучше стерпеть и уйти на встречу свободе, широко расправив плечи (читай: трусливо поджав хвост). Исход подобных душевных стенаний и мук предсказуем — я не решился даже подойти к воркующим голубкам, а всего–навсего опустил взгляд в пол, укутался поглубже в воротник пальто, судорожно перебирая в голове защитные механизмы, как герой какого–нибудь фильма ужасов, перебирающий связку ключей.
Я все рационализировал, убедив себя в том, что все последние события вели именно к такому исходу и иначе ничего сложиться и не могло.
Я все инстинктуировал, найдя положительные стороны в подобном стечении обстоятельств, а именно обретение неких свобод, и возможность вести беспорядочные половые связи.
Я сместил акценты, обвиняя всех вокруг в том, что произошло, находя все новых и новых виновников своих бед.
После чего просто выместил из своего сознания такой элемент как «отношения» и все связанные с ними переживания, просто на просто забыл, что что–то когда–то было.
Затем включил так называемое защитное фантазирование, сперва нарисовав себе глобальные планы на будущее, представив как чудно, гладко и пиздато я буду жить в отсутствии этих тиранизирующих, утомительных, садо–мазохистских, унизительных отношений, как упоительна и свежа станет моя жизнь, без всех тех опостылевших обязанностей, традиций, необходимостей, условностей и прочих правил, которые необходимо соблюдать, лишь постольку, поскольку ты состоишь в отношениях.
Затем я погрузился в более конкретные фантазии, представляя свой вечер на третьем плато гликодинового трипа, выписывая и вырисовывая себе возможные сюжеты предстоящего дня.
В общем, защитные механизмы сложились в один большой элемент построенной из подобных механизмов гигантской защитной конструкции — меня.
Стремительной походкой я направился по диагонали к дверям, пытаясь привлечь как можно меньше внимания к своей персоне. Голубки сидели по правую сторону от траектории моего движения, а потому я уставился в стену слева, надеясь, что мой затылок будет не узнан. Преодолев столь мучительный и, казалось бы, бесконечный промежуток от кресел до выхода, я остановился в ожидании, пока автоматически открывающиеся двери распахнуться передо мной.
Итак, я был снаружи. Не сбавляя темпа я решил завернуть в ближайшую подворотню и скрыться подальше от этого несчастного кинотеатра, про жжение на лице к тому моменту я уже напрочь забыл. Я двигался, словно находясь в вакуумной коробке, не замечая и не слыша ничего происходящего вокруг, как вдруг почувствовал резкий рывок — кто–то схватил меня за плечо и что есть силы развернул.
Я вздрогнул и даже отскочил на шаг назад, устремив испуганный взгляд через плечо. Затем развернулся еще градусов на 60 и увидел перед собой свою благоверную с взглядом кишащим аскаридами ненависти и нематодами презрения. И вот она этими самыми хищными нематодами и аскаридами впилась мне прямо в душу и высасывала страхи и тревоги из всех самых потаенных сосудов моего подсознания. Я наверняка дрожал, как лихорадочный. Ладони сырые и пальцы скользили, соскакивая друг с друга, в попытках зацепиться хоть за что–то. Глаза забегали. А в мыслях было только «Какого хуя ты хочешь от меня, оставь меня в покое скорее и иди к чертям». Она изобразила какую–то до боли знакомую гримасу, но я как будто уже позабыл, что она означает. За эти несколько дней я много чего позабыл, и она сейчас была лишь персонажем из какой–то прошлой жизни, из чужой истории. Она что–то говорила, я не слышал. Наверняка что–то желчное и обидное, в стремлении самоутвердиться, сжечь чувство вины, она наверняка пускала в ход свой излюбленный метод — виктимное поведение, повадки жертвы, пассивной, ни в чем не повинной страдалицы и мученицы. Я не слышал. Я не хотел слушать. Защитные механизмы скопом набросились на меня. Я был в толстой оболочке симбионтов. Я отсутствовал. Режим «в самолете». А она все говорила и говорила, наверное, даже кричала. Губы плясали в каком–то безумном пасодобле, смыкались и презрительно вздергивались, метались рваной раной. Я не силен в описаниях мимики, но выглядело это агрессивно и жутко, однако страх я испытывать перестал, лишь ощущение неизбежности глупого и по сути бессмысленного конфликта (хотя любой конфликт глуп и бессмысленен) пришло ко мне. Я понимал, что мне стоически нужно выдержать всю эту словесную диарею, льющуюся на меня потоками, не опуская взгляда и не вставляя реплик, затем выдать пару–тройку завершающих фраз, исчерпать конфликт и удалиться, не выматывая себе нервы очередной ссорой. Однако чутье мое мне подсказывало, что так просто все не закончиться.
Тревоги не было, тоска и апатия, сходная с эффектом 20–25мг диазепама, я был слишком потаскан и вымотан приключениями последних дней, чтобы злиться и выражать ответную агрессию. Все, что я мог — это молча изображать слушателя, плотной броней своих защитных симбионтов впитывая всю струю ненависти, хлеставшую из глаз и уст моей бывшей избранницы. Голова моя занята была лишь мыслями о моих репликах. Быть может не отвечать, улыбнуться, развернуться и уйти.
Я стоял, потупив взгляд, я не смотрел ей в глаза, я смотрел на ее губы. Мне почему–то хотелось смеяться. Вся эта ситуация казалась мне до жути нелепой: вот он я, стою, на жутких и мучительных отходняках после баклофена и изрядной дозы алкоголя, в моем желудке и кишечнике плещется и переливаться ядовитая жижа разного рода спиртов и медикаментов, мои глаза — разбухшие посиневшие влагалища, скулы вот–вот разрежут исхудавшее лицо, сухие губы, сырой лоб, сальные волосы склизким, омерзительным спрутом облепили мою голову, я грязен, омерзителен сам себе, потерян и абсолютно безразличен ко всему, что происходит внутри и снаружи; и вот стоит она: нарядная, выкрашенная, благоухающая духами от бруно бананни или еще каким приторно сладким запахом из рив гоша, на 12 сантиметровых каблуках, с чрезмерно выштукатуренными глазами, выпрямленными волосами, тональным кремом и прочими бабскими заморочками, такая будто–то бы безупречная, но краснеющая от злости и ненависти, готовая вот–вот кинуться на меня с кулаками — ухоженный той–терьер в нелепом розовом комбинезончике, сорвавшийся с поводка, пискляво лает на ошпаренную кипятком, лишайную дворнягу, мирно бредущую копаться в очередной мусорный бак.
Я уже было совсем закопался в себе, размышляя о том, как наверняка болят икры на таких–то каблучищах, вспоминая истерики из–за этих самых каблуков, якобы одетых для меня, копаясь в голове в поисках возможного развития сценария этого конфликта и дальнейших ее и моих действий. Я вспоминал о заветах дзен саморазрушения, клятве данной мною мне же самому, и столь быстро забытой. И ведь так всегда, я каждый раз обещаю себе стать другим, сломать выдавить из себя раба, вытравить вшей и сломать тварь дрожащую, но каждый раз максимум, на что меня хватало — это несколько дней запоя и ни к чему не приводящие конфликты. Надежды на то, что в этот раз все пойдет по–другому, было мало. Нерешительность, бесхарактерность, бесхребетность, слабоволие. Я тряпичная кукла, пущенная на лоскуты для протирания пыли с полок. И дзен саморазрушения это всего лишь очередной одноразовый защитный механизм, еще одна ненадежная фантомная крепость, уже взятая, захваченная и сожжённая дотла моими трепетами, страстями и комплексами, а изумрудный трон, на который я так величаво взобрался пару дней назад, разбит на осколки стеклотары у пивного ларька.
Помню, в детстве зимой я катался со стихийно возникших неподалеку от такого пивного ларька снежных горок, нагроможденных снегоуборочными машинами. Итог: разорванное осколком стекла колено, шесть швов и я впервые в жизни повидал коленную чашечку, вылезшую наружу. Вот и сейчас я раскроил об осколки все свои внутренности и наблюдаю вылезшую наружу утробу.
Помню, какое презрение к Рокантену я питал, читая строки о его раболепстве пред Анни, о том как он играл в ее садистские игры, плясал под ее дудку, услужливо, словно пес или еще какая ручная зверушка подчинялся всем ее правилам. В этом нет ничего странного – зритель/читатель испытывает больше всего ненависти и презрения к тем персонажам или к тем их чертам, которые он сам в себе, рефлексируя, видит, к тем слабостям, в которых он больше всего боится себе признаться, к тем характеристикам, которые он не хочет в себе видеть и замечать. Так и я не хотел быть Рокантентом, никаких «Now I wanna be your dog». Но был.
Мое спокойствие нарушила хлесткая и резкая пощечина. Показалось, будто пару капель густой слюны слетели с моих губ. Я закрыл глаза и ощутил несколько ярких зигзагообразных вспышек. Я не очень сильно понимал, что происходит. Слишком много нападений за одно утро (или день), я будто бы уже привык и не обратил внимания на эту пощечину, лишь по инерции сделал пару шагов в сторону, упер растерянный взгляд в лицо девушки — она опять что–то кричала. Мне было плевать. Я провел указательным пальцем по разрезу между губ, они по прежнему были сухими, словно пораженные себореей, а значит, губа не была разбита.
Я не испытывал эмоций, я просто констатировал факты, как Клерик из фильма Эквилибриум: я вышел из кинотеатра, меня настигла и насильно вынудила на диалог (монолог) моя бывшая избранница, она кричала, залепила мне пощечину, я испытал легкое сотрясение и пощипывание на коже лица, она продолжила словесные излияния, я, повинуясь инстинкту самосохранения, дабы обезопасить себя от очередной пощечины, отошел на два шага назад, я слушал.
Я постарался вникнуть в льющиеся из ее ротовой полости слова: капали какие–то проржавевшие фразы о любви, отношениях, верности, предательстве, измене, что–то угасло, что–то я должен был помнить, что–то я опять упустил, на что–то мне всегда наплевать, я плохой, я должен был 1, я должен был 2, я должен был 3, я должен был n, невозможно доверять, слабак, нет стержня, нытик, не способен даже, характер, бесхребетный, воля, стремление, ты не знаешь, не понимаешь, кто ты, впустую, зачем, потеряла, потратила, не понимаю как, идиот, кусок, пользовался, проку нет, ненавижу, презираю, сухой, тряпка, готова убить, неужели так трудно, почему ты не 1, почему ты не 2, почему ты не 3, почему ты не n, не мужик, никто, ноль, пустой, тянул на дно, без, не, будет лучше, проваливай, давно пора было, не любишь, не уделяешь, пропал, как ты мог, тебе не кажется, может быть стоило, ошибка, катись, мразь, не хочу знать, столько времени, к чему, зачем, лучше бы, не хочу знать, к чертям, сука.
Еще один сочный удар внахлёст. Какое–то кольцо, быть может одно из подаренных мной (хотя, вероятнее всего, все кольца, подаренные мной, уже давно лежат в скупке ювелирных изделий) чиркнуло за ухом и прошлось косой линией к виску. Кожу зажгло, наверняка она разодрана. Я бросил взгляд на руку — таких колец я не дарил. Наверное, если бы мне разодрали лицо подаренным мною же кольцом — было бы обиднее. Я почувствовал тонкую струйку на своей щеке. Это была кровь. Совсем тонкая и безобидная ранка, я не обратил внимания, лишь обтер рукавом пальто. Последовали еще несколько пощечин, уже менее веские, даже я бил себя сильнее в припадках аутоагрессии, хотя, стоит заметить, она никогда не отличалась тяжелой рукой, а потому меня лишь слегка шатало от ее выпадов.
Я даже не защищал лицо, и тем более не отвечал ударом — еще в детстве я зарекся не бить девочек («они мягкие» — как сказал Скотт Пилигримм), слишком часто я видел, как отчим в состоянии алкогольного опьянения вызывает маму на спарринг, помню, как он разбил ей затылок об угол кровати и мы тогда ушли жить на улицу. Помню, как он приходил замаливать грехи, дарил цветы и умолял вернуться, был плюшевым и милым, а затем все повторялось сначала, помню, как хлестал меня шлангом от душа, а маме пробивал сочные лоу–кики, помню, как применял на ней удушающие приемы, схватив за волосы, разбивал ей лицо об стол и заламывал руки, а потом мы уходили из дома и жили в неотапливаемом пивном ларьке и спали на пластиковых коробках из–под пива. Тогда я ненавидел отчима (как, впрочем, и сейчас) и обещал себе, что когда вырасту, никогда не подниму руку на девушку, хотя, стоит признаться, в этот момент руки чесались безумно.
Она закипала все сильнее, видимо от моего бездействия и пассивности. Один из ударов попал мне в переносицу и я, не задумываясь, устав от жгучей боли на лице и постоянных встрясок, просто толкнул ее ладонью в плечо. Быть может несколько сильнее, чем следовало — она оступилась и упала наземь, не удержав равновесия на каблуках, нелепо взвизгнув и выругавшись матом. Прохожие и прочие зеваки, мгновение назад с упоением наблюдавшие за разыгравшейся перед их глазами сценой, негодующе закачали головами и недовольно зажужжали словно рой мух, облепивших свежий кусок дерьма – на самом деле они именно этого и ждали, зрелищ, конфликтов, открытой ненависти прямо на улице, все люди – эмоциональные вампиры, им нужна ненависть.
Периферийным зрением я уловил приближающийся силуэт. Я поднял голову — мои догадки оказались верны, на помощь поспевал новоиспеченный кавалер. Я не испытывал к нему агрессии, тотальная апатия все еще царила у меня в душонке, но тем не менее я понимал, что если продолжу также бездействовать, то, скорее всего, испытаю на своем лице что–то увесистее пощечины. Я поднял с асфальта пустую бутылку из–под темного жатецкого гуся и, что было сил, запустил в приближающегося ко мне оппонента – он сгруппировался, так, что бутылка днищем угодила ему в плечо, он забавно крякнул и на мгновение растерялся. Этого мгновения мне хватило, что преодолеть пространство в два метра между нами и залепить ему смачного леща тыльной стороной ладони. Он попятился. Я не теряя ни секунды, понимая, что, промедлив, я рискую оказаться на асфальте, униженный и оскорбленный, схватил с земли уже упоминавшуюся бутылку жатецкого гуся и с размаху зарядил им в затылок противника. В жизни не бил людей бутылкой по голове, только лишь видел подобное в крутых боевиках, но мне процесс понравился: бутылка разлетелась вдребезги, оставив в моем кулаке лишь горлышко, а смельчак, ухнув, присел на одно колено. Я отошел на пару шагов назад и с легкого разбега впечатал подошву своего лаптя в его щеку и висок, тот пошатнулся и упал на бок.
Я плохо дерусь, можно даже сказать отвратно и неумело, но в этот раз я был более чем доволен собой. Хотя, победа была по большей части обеспечена тем, что мой противник, по всей видимости, был совсем не искушен в драках. Я сбросил горлышко от бутылки в мусорный бак , огляделся: зеваки наблюдали, пара человек снимали на телефон, у типа с затылка по щеке текла тонкая струйка крови, не вызывавшая опасений. Один из отскочивших осколков оставил ссадину и у меня на щеке. Я рванул за угол, в ту самую подворотню, в которой хотел с самого начала скрыться, избежав всех этих приключений. Мой горбатый субтильный силуэт провожали взглядом, никто не пытался меня остановить, что очень странно, учитывая ситуацию: грязный наркоман напал на невинную девушку, и избил ее молодого человека, когда тот попытался вступиться. Наверняка, со стороны это выглядело примерно так.
Унылые обсосы вроде меня имеют одну странную и мешающую жить особенность. В личной жизни они обладают чрезмерной неразборчивостью. Молодые люди из числа тех, которым в детстве все их окружение намекало (а быть может и говорило в открытую) об их ущербности, некрасоте, уродливости, бесперспективности, унылости и неликвидности, рано или поздно с этой мыслью свыкаются и начинают воспринимать ее как норму. И таких молодых людей уже вовсе не удивляет тот факт, что в любом коллективе, будто то одноклассники, одногруппники или сотрудники, они становятся белыми воронами, аутсайдерами и изгоями, объектами для насмешек и косых взглядов, скверных и плоских шуточек и гнобления. Само собой к подобным персонажам все вокруг с самого детства относятся крайне несерьезно и даже с пренебрежением. Такие ребята вырастают нерешительными и никчемными ноулайферами, непривыкшими к любому, самому малейшему проявлению внимания в их адрес (за исключением насмешек и разного рода подъебок), вплоть до наивности. А именно, вплоть до того, что любого человека, проявляющего к ним хоть малейшую благосклонность, персонаж (назовем его, к примеру, «альбинос») начинает боготворить и в наивном порыве становится готов открыть ему всю свою душу. Любой человек, проявивший малейшую симпатию альбиносу (смайлик :* в сообщении, уменьшительно–ласкательный суффикс в общении, комплимент, милая улыбка, что угодно) рискует стать объектом воздыхания, преданности и влюблённости. А это, в свою очередь, приводит к тому, что альбиносы кидаются на первую попавшуюся особь противоположного пола, снизошедшую до ничтожной, по их мнению, персоны. И вот, альбинос, опьяненный вниманием (быть может, просто доброжелательностью или, что хуже, лицемерием) рисует в голове некий романтический образ, строит красивый и незыблемый идеал, наделяя его всевозможными исключительно положительными чертами и вешая на него мечтательный ореол. Таким образом, альбиносы склонны отдаться в руки первым встречным, выразившим лишь некоторую благосклонность. А затем альбиносы обжигаются. Один раз, другой, третий. После чего замыкаются в себе еще сильнее, доверие пропадает и вера в какой бы то ни было идеал стирается. Альбинос превращается в сухое таксидермическое чучело.
Окружение рождает комплексы, комплексы провоцируют насмешки, насмешки порождают новые комплексы и замкнутость, замкнутость толкает к стремлению раскрыться, стремление раскрыться это шаг к наивности, наивность наталкивает на неразборчивость в связях, а неразборчивость в свою очередь порождает роковые ошибки, ошибки приводят к разочарованиям и провалам, а разочарования к недоверию, укоренению в комплексах, черствости и окончательному замыканию альбиноса в себе. Так было и в этот раз: в силу своей закомплексованности и низких социальных навыков, а следовательно простодушия и доверчивости я вцепился в человека, проявившего мизерный интерес к моей персоне, возвел этого человека в Абсолют, выстроил грандиозный образ, нарисовал мнимые чувства, придумал любовь, заблудился, сделал с десяток промахов, обжегся, разочаровался, почувствовал отторжение, поджав хвост забился в угол от возникших проблем, нутро зачерствело, ссохлось и превратилось в рыхлый, крошащийся гербарий, а сам я окончательно рухнул в вязкую, тягучую хлябь своих комплексов и страхов.
4.4. Станы жаждущего.
Я проскочил несколько дворов, описывать которые нет необходимости, поскольку текст итак кишит довольно большим количеством описаний дворов и улочек, домов и прохожих. И, наконец, я вырулил на одну из центральных улиц моего города, стыдливо оглянулся — за мной никто не шел, моя неряшливая потасовка осталась незамеченной, если не учитывать видео на телефонах тех зевак, которое, наверняка, вот–вот появится в социальных сетях и ютюбах.
Я шел по левой стороне улицы. Левая сторона — была моей по той простой причине, что левая сторона была менее обитаема, прохожих там всегда куда меньше и соответственно дорога куда шире и свободнее, а значит меньше поводов для стресса и раздражения, в то время как на правой стороне расположены в ряд с десяток магазинов, пара аптек, учебное заведение и оживленная автобусная остановка, а соответственно трафик человеческих тел там куда интенсивнее и проходимость на правой стороне ниже. Пробиваться сквозь толпы вышедших покурить студентов, семей, снующих от магазина к магазину, старух, ковыляющих к остановке у меня желания не было. А потому я предпочел левую сторону. В своем внутреннем навигаторе я давно пометил красным все людные и густонаселенные улочки, районы и дворы, стараясь обходить их стороной, изобретая все новые замысловатые маршруты, только лишь для того, чтобы избежать лишнего контакта с людьми.
Ненавижу город. Даже такой провинциально–никчемный как мой. Особенно такой провинциально–никчемный как мой. Весь этот шум, мельтешащая возня, снующие туда сюда люди, снующие не быстро и поспешно, как скажем в каком–нибудь мегаполисе–милионнике, а снующие влачась и переваливаясь мерзкой желеобразной массой старух, детей, рабочего класса, офисных леммингов, продавщиц гастрономов, школьников, бомжей. Все они никуда не спешат — им некуда спешить. В таких захолустьях в принципе некуда спешить, в таких захолустьях у людей нет жизни, в таких захолустьях нет людей, а есть лишь шумная, раздражающе дребезжащая, хаотично движущаяся лавина лиц и обмякших тел, гигантская многоножка, размахивающая своими бесчисленными конечностями, неспешно проползая вдоль улиц. «Они думают о Завтрашнем дне, то есть, попросту говоря, – об очередном сегодня: у городов бывает один — единственный день – каждое утро он возвращается точно таким, каким был накануне.» Обрыдлые тошнотворные лица, подобные моему, сливающиеся в одну большую сонную, ленивую морду города.
По узким, плохо асфальтированным дорогам, изрытым кратерами, словно поверхность Марса, раскатывались туда–сюда автомобили, глядя на которые можно было прочувствовать всю классовую дифференциацию нашего общества: тут тебе и дешевые обшарпанные отечественные ведра с поникшими мертвыми типами возраста за 40, возящими своих ожиревших жен, вульгарно красящих глаза зеленой тушью; малолетние выродки, посрезавшие витки на амортизаторах, раскачивающие свои дребезжащие тазы под однообразные ритмы российского шансон–хопа; дешевые иномарки, а также разные приоры, взятые в кредит с зарождающимися личинками среднего класса; тут и короткоствольные представители буржуазной прослойки предпринимателей и чиновников, разъезжающих на больших черных автомобилях, этакие мещане, дорвавшиеся до денег, жадные до удовольствий, развлечений, пытающиеся всеми возможными способами выделить жирным курсивом свою персону, и, в этом своем стремлении выглядеть роскошнее, становящиеся образцом безвкусицы. Хотя мне ли рассуждать о вкусе. Все эти жестяные коробы, перемешиваясь с маршрутками, мусоровозами и ПАЗами с грохотом проносились по дорогам города гигантской металлической сколопендрой, каждый раз заставляя меня скрежетать своими крошащимися зубами.
В двух шагах впереди шел солидного вида господин: нелепая дорогая кожаная куртка, брюки, скучные дорогие кожаные туфли, нелепая дорогая кожаная кепка, в руке дипломат. Шел он размашисто, уверенно, чеканя каждый шаг, будто бы маршировал, а позади лебезил я, своими короткими, робкими мельтешащими шажками, не отставая и не обгоняя его — я был в тот момент тем, кого я так ненавижу – преследующий прохожий, прохожий паранойи. Мужчина слегка сбавил шаг, зажал одну ноздрю, смачно высморкался, выстрелив дробью зеленоватых соплей на асфальт, сопли врезались в землю и расшиблись омерзительной склизкой кляксой. Он зажал вторую ноздрю и оставил еще одну кляксу а–ля Джексон Поллок на асфальте. Меня передернуло, я мысленно пожелал господину всяческих мук и терзаний (И увидела святая богородица железное дерево, с железными ветвями и сучьями, а на вершине его были железные крюки, а на них множество мужей и жен, подвешенных за ноздри, кишащие червями, сороконожками и змеями. Увидев это, святая заплакала и спросила Михаила: «Кто это и в чем их грехи?» И сказал архистратиг: «Это те несчастные, что сморкались на улицах». И сказала святая, утерев слезы и расхохотавшись: «Ну, так им и надо, уебкам») и обогнав его, двинулся дальше.
Я прошел мимо парочки заведений общепита, громко именуемых кафе и пиццериями. Большие окна, беседующие и жующие рты, между столов мотались официанты с гримасой фальшивой доброжелательности и улыбками. Большие стеклянные аквариумы. Все это напоминало какой–то фарс: люди заказывали невкусную еду, давились, официанты заискивали и улыбались, все, мучаясь, старательно пытались есть роллы палочками, неумело обращались вилкой с ножом. Вместо того, чтобы нормально утолить свой голод, люди превратили обыкновенный прием пищи в ритуал с абсурдными правилами, нелепыми традициями. Довольно глупо — питаться на публике. Люди вообще имеют одну довольно странную особенность: превращать все в ритуал, делать из простых, обыденных вещей какие–то церемонии, все оборачивать в простыню неуклюжих обычаев и несуразных обрядов. Даже в 21 веке. Особенно в 21 веке.
Все, что мне было необходимо на тот момент — найти частные, негосударственные аптеки и купить пару банок сиропа от кашля, содержащего столь любимый юными кайфожорами декстрометорфан — морфиноподобный диссоциатив и психоделик, позволяющий, по словам некоторых «шаманов», испытать разного рода измененные состояния сознания, внетелесный опыт, выйти за рамки своей биологической оболочки. Я же использовал декстрометорфан только ради того, чтобы покопаться в самых темных гадюшниках и забегаловках своих внутренностей, посетить все притоны и кабаки своей души, населенные разного рода персонажами, заботами, страхами, тревогами, нервозами, беспокойствами, бессонницами, кошмарами, опасениями, желаниями, прочей грязью, похотью, мечтами, стремлениями, мыслями и идеями. Все они сидят там вдоль липких, потертых барных стоек, на высоких стульях, обтирая рукавами пальто свежие сырые кольца от стаканов с пивом. Они пьют темное нефильтрованное и никогда не разговаривают друг с другом, а лишь сидят, уставившись на дно стаканов, задрав повыше воротники своих коричневых пальто и напустив на глаза поля шляп, бубнят себе что–то под нос, стуча ногтями по краю стаканов, неспешно прихлебывают и изредка поглядывают по сторонам с опаской, едва поблескивая белесо–тинистыми, тусклыми зрачками. Уродливый бармен в грязном, заляпанной фартуке протирает стаканы серым, пятнистым вафельным полотенцем и ставит их в закопченную, давно нечищенную сушилку. У него залысины, непропорциональные черты лица, грубые, вытесанные неумелой рукой, заплывшие глаза, тупой взгляд, кривые скулы, торчащий подбородок, щетина, редкие светлые с сединой волосы, торчащие уши, он омерзителен. Изредка он улыбается посетителям, обнажая свои редкие, кривые, изломанные подгнившие с желтизной зубы, его пасть зияет щербинками и щелями, словно пробитыми монтировкой, и, наверняка источает жуткий смрад. Улыбаясь, он становится еще более омерзительным. Но на него тут никто не обращает внимания. Посетители расплачиваются потемневшими, изъеденными коррозией монетами, швыряя их через барную стойку к ногам бармена, тот просто ходит по монетам, улыбаясь рваной раной своего рта. Шаркая пятками, он доходит до большой пивной бочки, поворачивает краник и наливает в стакан темную нефильтрованную. Она густой слизью плещется в стекле, булькая и пузырясь словно флегма, время от времени из крана вместе с жидкостью падают шмотки ила или тины. И вот стакан темной, нефильтрованной слизи на стойке. Клиент поудобнее усаживается на скрипящем высоком барном стуле и отхлебывает. За спинами посетителей тьма и пропасть. На другом краю пропасти играет уставший джазовый оркестр. Нескладный и ломанный нуарный джаз. Играют время от времени невпопад, некоторые музыканты отчаиваются и мгновениями просто перестают играть, опуская музыкальные инструменты и обречённо глядя в пол, но тут же ловят на себе свирепый и точеный взгляд бармена и хватаются за свои инструменты, продолжая играть. Тут лишь две тусклых лампочки, свисают петлями из ниоткуда — одна над барменом, едва освещает лица по обе стороны от стойки. Вторая бросает желтоватые отблески на музыкантов оркестра, придавая их гримасам еще более болезненный и уставший вид. Это место висит посреди моей внутренней пустоты как парящий остров. В символике и образах разбирайтесь сами. Пивная бочка – нутро, бармен – внутренний зверь, ID, питающий страхи и тревоги; оркестр – гибнущие лоскутки и мощи живого и человечного. В общем,
Я занырнул в закуток по правую сторону, просочился в арку и вынырнул в очередном дворике. Металлические коробы припаркованных у подъездов машин покрывали двор жидковатой, шелушащейся чешуей. Разбитые детские площадки, одинокие прохожие, мужик в спортивных штанах и пуховике с набитым под завязку мусорным пакетом в одной руке и дымящейся сигаретой в другой.
Где–то тут неподалеку должна была располагаться аптека. Я остановился и огляделся. Чуть поодаль, на первом этаже жилого дома болталась зеленная вывеска «Аптека/Оптика». Я встряхнулся, постарался разгладить верблюжью осанку, протер глаза. Небольшая зарядка перед подвигом. Аптечный ковбой вышел на тропу.
Я двинулся по диагонали сквозь детскую площадку. Детей тут не было: редкий родитель позволит своему ненаглядному чаду резвиться на проржавевших, местами обвалившихся железных прутьях, лишь издали напоминающие пост–апокалиптичные руины, антуражах картин Здислава Бексински. Теперь тут выпивают подростки, курят мужики, бабы сушат белье, выгуливают собак, выбрасывают мусор, когда лень идти до баков.
Миновав площадку, я еще раз перед входом настроил себя на серьезный лад. Я должен выглядеть более–менее презентабельно. Условно–рецептурные препараты надо еще завоевать. Я взглянул на свое отражение в стеклянных дверях аптеки. Терпимо, быть может, сойду за простуженного, температурящего больного.
Далее предстоял маленький маневр. Хитрость. Ну, или просто формальность. Я прошел внутрь. Встал в очередь. Солидного вида дама покупала три теста на беременность за 9 рублей. Очень стеснялась, пыталась говорить тише, но в меру, так, чтобы вокруг не подумали, якобы она стыдится такой покупки и специально говорит тихо. Далее старушка закупалась шампунями и гелями, масками для волос с какими–то лошадиными силами или еще чем–то лошадиным, не суть, но на всех упаковках были изображены кони с вьющимися гривами, а верхом на них улыбающиеся девушки с не менее шелковистыми и пышными шевелюрами. Настала моя очередь.
Пытаясь сдержать дрожь в голосе, я испытал свой маневр: попросил таблетки от кашля, самые дешевые, зеленые в бумажной упаковке, с рвотным противным вкусом. Купил одну упаковку. Обошлась в 2 или 3 рубля. Затем осмотрел стеллаж с сиропами от кашля и как бы невзначай попросил одну упаковку гликодина, не глядя на фармацевта, а копаясь в кармане, всем своим видом изображая занятость и беспечность. Хотя был момент, когда на одной из гласных мой голос неприятно дрогнул, из–за чего я внутренне весь переживал и трясся. А что если попросят рецепт. Со мной такого еще никогда не случалось. Это будет неловкая ситуация, а ведь позади меня уже выстроилась очередь из молодой пары (должно быть за презервативами или тестом) и пожилой женщины. Оправдываться перед фармацевтом — одна беда, оправдываться перед фармацевтом в присутствии публики — куда постыднее и страшнее. И зачем только голос вздрогнул. Секунды после моей просьбы тянулись вечно. Колени подбивало, хотелось сорваться с места и уйти без покупок. Однако фармацевт нагнулась под прилавок, вынула заветную оранжево–черную картонную коробочку, пробила и протянула мне. Я расплатился, выкинул коробку, упаковав бутылек в карман. Таблетки запихнул в задний карман джинс. Отправился искать следующую аптеку.
Двор. Двор. Еще двор. Переполненные баки. Бездомные дворняги, жрущие пакеты с каким–то заплесневелым мусором, матки с колясками, площадки, стрит–арт, теги, неуклюжие куски граффити, все в подтеках, с плохим закрасом, зассаные подворотни. Мусор, мусор, мусор. Полицейские уазики. Коллажи из оборванных объявлений у каждого подъезда. Грязь, грязь, грязь. Люди. Рыхлые тела, высунувшиеся с балконов покурить. Ошивающиеся у домофонов школьники. Они же курящие в арках. Пустые бутылки. Россыпь окурков. Плевки. Детская перчатка. Мелочь. Я присел, собрал около 20 рублей. День неожиданных встреч и приятных находок.
Вот и еще одна аптека. Вход со стороны двора, на углу дома, разбитые ступени, растасканная дверь. Одна из тех частных аптек, где при необходимости и нужном подходе вам продадут тропикамид, трамадол или нурофен плюс без лишних вопросов. А мне всего–навсего нужен был гликодин. Проблем возникнуть не должно было. И они не возникли. Никакого экшна, никаких внезапных поворотов. Это манифест уныния и однообразия.
Нафтизин за 5.90 и еще одна банка гликодина приятно постукивала по моему бедру. Я был весь в предвкушении. Маневры удались и все, что теперь было необходимо – попасть домой, предварительно купив в магазине грейпфрутовый сок.
На пути от аптечных пунктов до продовольственного магазина все оставалось по прежнему: угрюмые люди, грязь, лужи, косые взгляды, неприятные существа, бездомные собаки, семьи, бомжи, беременные, коляски с детьми, контейнеры с мусором. Просто попробуйте выйти из дома и прогуляться до ближайшего ларька или супермаркета и — вуаля!
Супермаркет. Точнее магазин самообслуживания среднего размера — недостаточно большой, чтобы заблудиться или вынести незаметно бутылку Джека Дэниэлса, но позволяющий умыкнуть шоколадку–другую, орешки или еще какую приятную мелочь. Несуразный маркет, один из десятков местной торговой сети, минилента, миниашан, провинциальный «окей».
Я внутри. В утробе потребления, скопления семей, тележек, корзинок, доступных покупок, социальных цен, угрюмых продавцов, немощных охранников и очередей у кассы. Вокруг делают покупки семейные пары, мужчины несут в руках корзинки с продуктами или толкают тележки, женщины держат их под руку или подкидывают очередной товар в корзину. У некоторых тележку венчает детское тело, верещащее, смеющееся, требующее сладостей — маленькая гедонистичная потреблядь. Потные тетки и бабки скупают, казалось бы, все что видят, но это не так, их голова на деле с утра до вечера забита вечерним продуктовым шоппингом: что приготовить, где купить, сколько, где подешевле, опять из заначки придется взять, на стиральную машину ведь откладываем уже четыре месяца, может кредит, не потянем, хлеб есть еще или взять пол буханки, а масло, рублей 400 выйдет, а если не хватит, тысячу придется разменивать, а разменяешь, считай, потерял ее, вроде и ничего не купила, пакет пустой, а денег сколько ушло. В виноводочном отделе юноши и девушки поддерживают государственную программу развития досуга и культурного отдыха в молодежной среде. Мужики покупают чакушечки, кто посостоятельней — коньяку. Хилые охранники с испуганным бегающим взглядом — случись что, они вряд ли смогут оказать действенное сопротивление воришке или еще какому смутьяну. Этак и меня, пожалуй, можно охранником взять. Кассиры выдыхают ненависть и раздражение, суетливо пробивая товары и судорожно отсчитывая сдачу, периферийным зрением пытаясь отследить, насколько длинная очередь выстроилась у ее кассы. Наверняка у них к концу рабочего дня болят сухожилия пальцев. Стеллажи, стеллажи, стеллажи. Я нашел грейпфрутовый сок, выбрал самую экономную ценовую категорию (в удачный день можно приобрести напиток богов — ягуар по промо–цене в 40 рублей за банку). Как бы между делом в рукаве моего пальто оказались два суперсникерса, я не сопротивлялся, когда они случайно рухнули из моей ладони в рукав, да и к тому же голод истязал меня уже не первые сутки, а денег хватало едва–едва на сок. Я не украл, я просто не заметил, а затем забыл оплатить, это была чистая случайность.
Скучая в очереди за кассой, я дал волю своему танатос и раскрошил несколько шоколадных яиц, просто проткнув их пальцем. Наконец подошла моя очередь. Я был немного взволнован, ощущая тяжесть в рукаве, неуклюже отсчитал мелочь, стараясь не опускать рук, в то время как коварная продавщица то и дело норовила заглянуть мне в пальто, наверняка она учуяла шоплифтера по запаху. Запах пота, сырых ладоней, взмокшего лба, запах волнения и страха. Я насыпал мелочью нужную сумму и, схватив сок, стремительно удалился, ожидая визга сигнализации или оклика охранника, хотя прекрасно знал, что «пищалок» в этом магазине нет, да и авантюру с шоколадками я провернул настолько ловко, что ни одна из камер наблюдения (за которыми опять же никто не наблюдает) не выкупила моего подлого и греховного поступка. Прости меня, Отче, я украл.
Глава 5. Диссоциативное сатори.
5.1. Лк.15:24
Я поднимался по лестнице. Двухэтажный деревянный барак с просевшей крышей и облезшей покраской, кучей псов во дворе, сушащимся на леске бельем, тарелками кабельного телевидения, старой коротящей проводкой в подъездах и стабильно пьющими соседскими мужиками. В подъезде запахи человеческой и кошачьей мочи, сырых тряпок, гниющего дерева, готовящейся за дверями еды, перегара, хлорки и сигаретного дыма смешивались в один неповторимый аромат — аромат провинциального экзистенциализма. Скрипящие ступени, повалившаяся известка, черная от пыли и грязи паутина по углам, коричневые перила с выжженными именами, выцарапанными рисунками, свастиками и значками анархии.
Моя квартира на втором этаже. Справа от дверей — зеленая лестница на чердак, слева — две выцарапанных свастики и символ гидроцефалов, он же значок ансамбля «Оргазм Нострадамуса» (крест в квадрате). Звонок прикручен отчимом спьяну и верх ногами, под дверями затертый до дыр коврик, рядом — кастрюля с объедками для соседского голодающего пса.
Я достаю связку ключей, они позвякивают, ударяясь друг об друга, меж ними затесалось серебряное распятие с изображением Иисуса Христа, найденное однажды на полу в столовой, рядом с Христом — брелок с Дартом Вейдером.
Свет в подъезде выключен: старушка, живущая по соседству, экономит на электричестве. В темноте я не с первого раза попадаю в замочную скважину. Каждый раз, шумно водя кончиком ключа вокруг отверстия в замке, я представляю, как по ту сторону дверей моя мама воображает, будто я пьян и лишь по этой причине не могу попасть в скважину. И от того я начинаю испытывать чувство вины и страха, боюсь открыть дверь, боюсь оказаться под подозрением, тем более, что я и вправду был сегодня слегка не в себе, и пару суток уже не появлялся дома. Учитывая, что мой телефон все это время был разряжен, мне следовало ожидать праведного гнева и мое чувство вины и страха были оправданными.
С третьего раза попав в замочную скважину, я дважды провернул в ней ключ и дверь отворилась. Вторая дверь, как водится, была не заперта, и хватило простого толчка ладонью, чтобы открыть ее.
Я вошел внутрь. Никто не встречал меня, только кот, лениво взглянув, лежал на стойке для обуви, он даже не поднял голову, а лишь приоткрыл глаза. Я запер за собой дверь. Стал разуваться. Поскольку удержать равновесие на одной ноге мне было невероятно сложно, а нагибаться к шнуркам мне не позволяла запущенная растяжка и неясно откуда взявшаяся боль в пояснице, я оперся спиной об дверь, словно изрядно выпивший гуляка, и начал стягивать кеды.
Путь в мою комнату лежал непосредственно через зал, в котором расположилась мама и отчим. Они лежали на диване, абсолютно адекватные: отчим разгадывал судоку или очередной японский кроссворд, мама вязала что–то и поглядывала сериал по нтв. Мне было стыдно здороваться, я лишь кинул опасливый взгляд в их сторону: отчим не отрывался от газеты, мама подняла глаза и удостоила меня всего одной фразой: «Из университета звонили». Фраза была брошена, словно кость какому–нибудь лишайному псу: отстраненно и брезгливо, рванным зиг–загом пройдясь по моим ушным перепонкам. Я понимал, что звонок из университета принес далеко не самые благостные вести, и у мамы было уже несколько причин для злости. Скорей всего меня отчислили или как минимум поставили под вопрос мое дальнейшее обучение.
Я кивнул и прошел в свою комнату. Это даже хуже, чем скандал и крики. Нет ничего тяжелее, чем тихая обида и молчаливое разочарование, когда тебя оставляют наедине с гнетущим чувством вины, заставляя бичевать самого себя догадками и подозрениями, раскаянием вперемешку с гордостью. Я готов был прямо сейчас признать свою неправоту и попросить у матери прощения за плохое поведение, словно маленький ребенок, прямо как в детстве, когда я пришел с волосами, в застывшей жженой пластмассе, пропахший сигаретным дымом и дымом костра. От меня и теперь за версту несло дымом — дымом самосожжения, добровольного аутодафе на костре девиантного и саморазрушительного поведения, собственной глупости и грязи, возведенной в благодетель, громко названной Дзен саморазрушения, маргинальность, мизантропия.
Я считал, что я не такой как все, что я — охуительный панкующий парень и трешовый ублюдок. На деле оказалось, что я всего лишь нашкодивший ребенок, слишком далеко зашедший в своих шалостях. Мне было невероятно стыдно. Но я ничего не сделал, чтобы получить прощение или искупить вину, я просто запер свою дверь на шпингалет изнутри, скинул пальто на кресло, переоделся в домашние рванные джинсовые шорты и майку с акриловой надписью «Magrudergrind».
Я выставил перед собой два бутылька гликодина, достал из–за стола еще один терасил д, поставил всех рядом, присоединил к ним упаковку грейпфрутового сока и пару сникерсов. Сфотографировал все это на веб–камеру и выложил в твиттер с подписью «Сегодня на ужин знатные деликатесы».
Быстро справившись с обоими сникерсами, запив их доброй половиной упаковки сока, я влил в первую попавшуюся кружку две банки гликодина (надо отметить, что в моей комнате господствует хаос, и, как следствие, мой стол завален пустыми кружками, стаканами и чашками, тарелками и столовыми приборами, а потому мне не доставило труда найти посудину для отправной точки моего диссоциативного путешествия).
Я зажал обе ноздри одной рукой, попытавшись свести к минимуму все вкусовые и обонятельные сигналы, поступающие в мозг. Второй рукой я опрокинул кружку с сиропом прямо в глотку. Большими глотками я жадно с отвращением уплетал эту густую вязкую жидкость, похожую на машинное масло. Каждый глоток давался с трудом, мятный привкус и морозяще–греющее чувство разлилось по ротовой полости, спустилось к глотке и проследовало вниз по пищеводу, прямиком в желудок. Я будто чувствовал, как сироп медленно и неспешно обволакивает мои внутренности своей тягучей массой. Я словно хлебнул с мятного болота или трясины.
Не разжимая носа, я отхлебнул еще четверть упаковки сока. Оторвавшись от пачки, я разжал нос, посмаковал во рту остатки жидкостей, мерзкий привкус ментола, смешанный с горьковатым грейпфрутом, оставлял не самое приятное послевкусие, порождая едва сдерживаемые рвотные позывы.
Итак, задача выполнена на две трети.
Я уселся за компьютер поудобнее, проверил почтовый ящик: служба доставки Озона сообщила, что новое издание Песни Мальдорора Лотреамона уже отправлено в мой город и прибудет через 5–7 дней; информация о состоянии файла на айфолдере, спам, спам, спам. Ничего интересного. Я открыл несколько вкладок с социальными сетями, заявки, сообщения с приветами, лайки — если судить обо мне по моим страницам и аккаунтам в социальных сетях, можно вполне предположить, что я живу полной, довольно насыщенной жизнью, богатой на коммуникации и знакомства, пользуюсь популярностью у противоположного пола и уважаем в кругу сверстников. Забавная иллюзия. Социальные сети всегда привлекали меня возможностью создать образ, радикально отличный от реального.
Я удалил, не читая, пару гневных сообщений, затем точно так же удалил пару «приветов» от малознакомых или знакомых знакомых. Ответил утвердительно на приглашение «культурно развлечься», листнул новостную ленту, поставил пару–тройку лайков под аватарками более–менее удобоваримых персонажей и еще пару под показавшимися мне интересными постами. Сделал пару репостов, пролистал сотни бессмысленных чужих репостов с бесконечных подписок, сообществ и прочего интернет–скама, все прямо по Паланику: «Ссылка на ссылку к ссылке. Главный вопрос, который теперь задают себе люди, это не «В чем смысл существования?» Главный вопрос — это «Откуда эта цитата?»". Откуда эта Цитата?
Интернет незаметно своровал пол часа моей жизни и вот я снова, зажав ноздри большим и указательным пальцами левой руки, правой рукой поднес ко рту кружку до половины наполненную терасилом д. Еще рывок, три больших глотка сиропчатой трясины, запитой последними каплями грейпфрутового сока, и вот, все что мне осталось делать, так это прилечь в ожидании трипа, создав всю необходимую атмосферу.
Я включил винамп, залил в плейлист альбом посредственного пост–рок ансамбля для разогрева, парочка дарк–эмбиентовых альбомов, атмосферного блэка, немного дрона, затем депрессивно–суицидального блек–метала и призефиренного пост–блэка на десерт. Музыкальное сопровождение для путешествия на дно сознания было готово — отличный саундтрек для диссоциатив–роуд–муви.
Я выключил свет, запустил кислотные плагины в винампе и включил медитативную «лавовую лампу», парафин в которой как раз должен был расплавиться и начать циркулировать забавными цветными шариками к началу трипа. Я был в полной готовности. Ритуал был исполнен в точности как надо (где–то я читал, что появление ритуальности и разного рода традиций перед употреблением психоактивных веществ – ни что иное, как признак серьезной зависимости, но не важно). Я лег и уставился в потолок в ожидании.
Слегка кружило голову, я едва слышал телевизор и разговоры в соседней комнате, лишь дронирующие космические ноты из колонок. Картинка слегка искажалась, мне хотелось спать, вместе с тем под кожей разливалось приятное тепло и расслабленность, в то время как по самой коже поползли чесоточные клопы, они всегда появляются на пороге вхождения, главное перетерпеть чесотку и не акцентировать на ней внимание, иначе есть огромные шансы проснуться на утро с расчесанной в кровь кожей и каростами по всему телу. Я терпел, время от времени непроизвольно подергивая конечности от нестерпимой щекотки. Ощущение прошло и мне стало слегка холодно, я плотнее укутался в одеяло. Холод не отступал. Я закрыл глаза, все кружилось. Я открыл глаза, я забыл холодно мне или жарко, но к тому моменту мне уже было наплевать. Играл темный обволакивающий эмбиент и я завернулся в него.
5.2. Дом. Милый Дхм.
Я закрываю глаза и вижу насекомых: анорексичные богомолы, черные, человекоподобные, с тонкими вытяннутыми тельцами, сухими лапками, огромными пустыми глазами и длинными острыми пальцами, они хаотично перепеолзают внутри меня, их очень много, они просто кишат один на другом. Моя голова похожа на изолированный бокс нарко–диспансера, где заядлые марафонщики переламываются и прогорают на кумарах, вот они — мои внутренние наркоманы, они сгорбленные и высохшие, еле шевелящиеся, переваливающиеся с одного тела на другое, немощно падающие и поднимающиеся вновь, хватающие друг друга за конечности, роняя всех по принципу домино. Под их глазами — синяки. Все их тело — синяк. Внутри моей головы один огромный хаотично движущийся синяк, полный боли и немощи, истощения и слабости. Они скребут своими тоненькими, острыми стилетами пальцев внутреннюю сторону моей черепной коробки, я чувствую, как они раздирают все в приступах агонии, я хочу расчесать свою голову, разодрать ее и достать всех их, вычистить, закапать в глазные яблоки уксусной кислоты или хлорки. Я слышу их шепот и шорох, чувствую массивные удары в висках, раздирающую боль внутри лба и глазных яблок. Им просто страшно. Они — это я. Они — это концентрированный страх. Я — это концентрированный страх. Мы боимся. Не чего–то конкретного. Просто боимся. Вся наша суть — страх. Страх и бессилие. Каждый из черных богомолов — это я.
Я открываю глаза и вижу кружащийся потолок комнаты. Меня тошнит. Я вновь закрываю глаза и больше ничего не вижу, только глубокую вращающуюся пустоту, насекомых больше нет, я просто проваливаюсь в бездну, не имеющую дна. Я проваливаюсь в бездну, а бездна проваливается в меня. И ничего больше нет, мир словно разложился на мельчайшие частицы. Я разложился на мельчайшие частицы. Нет ни мира, ни меня, только пустота. Как в том моем сне, где солнце гаснет и все погибает. Я все уничтожил, тремя банками гликодина. Или нет. Постой. Там было две банки гликодина и один терасил д. Не суть. Я шел по улице вдоль гирлянд вечерних фонарей, празднично мигали датчики сигнализаций в автомобилях, хаотично припаркованных возле подъездов. Я брел, заглядывая в окна этих оцинкованных гробов на колесах, пока мое тело покоилось дома с закрытыми глазами. Я проходил мимо нетрезвых девочек и мальчиков, припоминая текст песни Егора Летова:
Мотив все играл и играл в голове, стеной шума окружая меня. Слова вертелись на языке и щекотали глотку, копошились гельминтами в мозгу между извилинами.
Насколько же нужно быть оптимистичным человеком, чтобы написать такое. Я даже и не рассчитываю скоро умереть, а так хотелось бы. Мои анорексичные богомолы просятся наружу, но мне предстоят еще тысячи и тысячи экзистенциальных страхов и мучений, ямы и овраги, провалы и падения, я буду падать, даже никуда не поднявшись, с одного дна на другое, расшибаться и снова падать, расшибаться и вновь об дно. Какое там «скоро умру», еще совсем не скоро. Еще столько глубин отчуждения нужно покорить, кто, если не я. Кому–то надо.
Я снова был в своей комнате, надпись на моем потолке вращалась в вальсе, я танцевал с ней. Раз–два–три–раз–два–три. Интересно, этим вечером я захлебнусь в своей рвоте, до тошноты вымотав свой вестибулярный аппарат плясками со стихами. Я люблю писать о танцах, о макабрах всяких, о вальсах, о рвоте, о смерти.
Я зажимаю почти пустую пасту от шариковой ручки указательным и большим пальцем. Она больно впивается, вжимается в кожу, оставляя следы. Я начинают выводить на обоях строчки, одну за другой. Какие–то глупости, старые наброски. Все в один котел теперь.
Некрасиво, нескладно, не нравится. Я судорожно тряс рукой, чиркая кончиком пасты по обоям, сдирая их кусками, оставляя ссадины и колото–резаные раны на стенах. Стенам было больно. Наверное.
Никто не придет, да и у меня нет бронхитуссена, да и вены лобковые у меня хер найдешь, да и позу 69 я не очень люблю, какая–то она нелепая и не удобная.
К чему это я?
К чему я?
Я?
Действительно к чему? Я ведь к чему–то в этом мире? Есть ведь предназначение какое–никакое? Господь ведь не мог так проебаться, создав человека без цели, без смысла и без функционала. Или мог. Вполне себе мог, что ему стоит.
Кто Он? Абсолют. Безумный старик. Демиург. Зло.
Корень человека — есть зло. Общество построено на ненависти и эгоизме, зависти и страхе. Самый надежный инструмент сплочения разрозненных индивидов — ненависть. «Всех объединяет ненависть». Привет Егор, ты снова тут. Сама природа человека — есть зло. Абсолют — есть зло. Наверху все это давно поняли. Они там. Те, кто сверху. Религиозные, духовные, политические социальные лидеры. Церковь — тоталитарное сообщество, строгая иерархия, разделение обязанностей, лидеры, свои фюреры, свой штурмбаны, свои боевые единицы, своя идейная политика, своя идеология, своя борьба. Любая религия — фашизм. Любой верующий — фашист. Любой человек — фашист. Каждый стремится вычленить арийскую расу себе подобных. Каждый желает подняться над затылками смертных и ступать по канату надо всеми, словно Заратустра. Вера в то, что избранный – именно Я, мост к сверхчеловеку – именно во мне, живет в каждом. Смысл мира — в войне, противостоянии, борьбе, гневе. Только зло. Зло — есть первооснова и причина жизни и смерти, единственный действенный мотив развития. Зло — корень всего. Зло — есть Бог. Бог — есть Зло. Дьявол создал все вокруг, людей, животных, растения, твердь и небеса. Все создал он, а затем убедил всех в существовании Господа. Ввел всех в заблуждение и хохочет.
Или «Если Дьявол не существует и, стало быть, создал его сам человек, то создал он его по своему образу и подобию… Во всяком человеке, конечно, таится зверь, зверь гневливости, зверь сладострастной распаляемости от криков истязуемой жертвы, зверь без удержу спущенного с цепи, зверь нажитых в разврате болезней, подагр, больных печенок и проч.»
Господь больше не живет в храмах, его там и не было никогда, там живут те, кто «исправили подвиг Его», «взявшие на себя проклятие познания добра и зла». «Завтра сожгу тебя». Там живут великие инквизиторы, познавшие Зверя человека.
Человек — зверь, человек — грязь, человек — паразит. Зло. Мне начинает казаться, что я познал какую–то истину, но это лишь трип. А что, если это и впрямь истина, правда, до которой докапывались лишь безумцы и прокаженные, вдруг я познал те вещи, которых люди боятся, что если меня постигнет кара за мою любознательность. Меня прошиб пот, тело зудело как заживающая, покрывшаяся коростой рана. Человек есть зло. Бог есть зло. Демиург — Дьявол. Корень мира — отвращение, отторжение, злоба. Человек — духовный хищник, ему необходимо доминировать, уничтожать, поглощать. Гуманизм, доброта, эмпатия, альтруизм, любовь, дружба, аттракция, понимание, сочувствие — ложь, вымысел, нехарактерные, несвойственные человеку вещи. Никакого созидания. Нет Эроса. Только разрушение. Танатос. Единственный мотив. Спрятан. Завуалирован ложными социальными ценностями. Но ты всегда желаешь лишь зла себе и всем вокруг. Любовь = похоть, доминирование; семья = управление, фашизм, фундаментальная ячейка тоталитаризма; дружба = корысть; карьера = самоутверждение, презрение, нарциссизм; деньги = власть, алчность. И нет ничего другого, лишь фальшивые оправдания.
Я боюсь. Что, если за мной придут, что если я разворошил осиное гнездо. Нет. Это просто трип. Измененное сознание. Иллюзия. Фантомный катарсис. Заблуждения, возведенные в степень познания истины. Ложное прозрение.
Я следую за черным кроликом.
На мои плечи сугробами стелились коросты перхоти, плотными, белыми хлопьями медленно спускаясь вниз, укрывая белесым покрывалом мои сутулые костлявые плечи, складываясь в причудливый узор из белых рваных точек. Нордические снежные пустыни на моих плечах. Мое тело — храм. Мое тело — лес. Густой, темный лес, сплошь покрытый сугробами из снега, сухими ветками, еловыми иголками, обмороженными телами мертвых животных. Густой непроходимый заснеженный лес. Безжизненный. Я в кровь расчёсывал себе кожу на голове, забивая под неровно обкусанные ногти куски мертвой сухой плоти. Мои ногти — борозды. Я — сознание, я сам себя раздираю самокопанием, я копаю ногтями любопытства плоть собственного разума, я раздираю в кровь плеву защитных механизмов, я ищу под перхотью газоны. Под асфальтом — пляж, под коростами — свежая кожа. Во мне еще должно быть что–то живое. Как в мертвой кошке — кишит жизнь, опарыши в едином макабре танцуют вальс в ее утробе, складываясь в огромный шевелящийся паззл, растекаясь, меняя форму, и кошка уже перестает быть просто кошкой, она становится чем–то большим, она выходит за рамки самой себя, в ней гораздо больше жизни, чем было раньше. Только сейчас она цветет. Мертвая, гниющая кошка — символ движения и жизни. Смерть и тление — есть жизнь и расцвет. Смерть и тление — есть все новое. Цикл в перегное. В перегное — все. Мы — космическая пыль и перегной. Мы — родились из тлена и праха. Мы зачаты и взращены на торфе и трухе. Мы — смерть. Жизнь — смерть. В смерти гораздо больше жизни, чем в жизни, а в жизни одна сплошная смерть и ничего более. Нас обманули. Или я уже слишком глубоко рухнул.
Я очнулся. В моей руке опять была паста. Я снова пачкал обои. Сбиваясь, оставляя прямые линии на бумаге, путая местами слова и буквы. Рисовал глаз, ресницы, длинные, петлеобразные ресницы.
Затем эффект сиропов почти сошел на нет и спутанность сознания отступила, оставив лишь приятное послевкусие. Я смог сложить несколько строк из обломков и руин погибшего трипа, выскоблив их на злополучной стене.
Мои враги — призраки прошлого. Мои враги — фантомы будущего. Мои враги — мечты. Мои враги — надежды. Мои враги — желания, стремления, мотивы, мысли, мысли, планы, перспективы, будущее, настоящее, прошлое. Мои враги — все то, из чего обычные люди (а я разве необычный? Нет) плетут паутинки своих жизней. Все вокруг враг. Мир — враг. Воспоминания гнетут меня, будущее пугает меня, мечты лгут мне, надежды путают меня, мысли отвлекают меня. Будущего нет. Прошлое погибло. Настоящее — вымысел. Мир — вымысел. Господь спит крепким сном и вот–вот проснется, будильник апокалипсиса скоро прозвенит и все погибнут, приняв его за проверку системы городского сигнального оповещения. Все просто исчезнут. Мир — иллюзия. Сон Апполона.
Боль пульсирует расползаясь сеткой по черепной коробке, словно паутина трещины на стекле. Цвета сменяют друг друга в дионисийской пляске. Интересно, а Дионис покровительствует ДХМ–шаманам.
Сон Апполона. Дионисийские пляски. Здравствуй, Фридрих. Эхом прокатилось по моей черепной коробке имя немецкого философа, сифилитика и шизофреника. И я рухнул, словно главный герой клипа широко известной в узких кругах группы avenged sevenfold в клоаку ада. Фридрих говорил, что в каждой душе должна быть клоака, сточная канава, в которую человек мог бы сливать все свои нечистоты, куда я сливал всю свою ненависть, желчь, страхи, обиды, отчаяния, разочарования… Именно в эту клоаку я и вляпался теперь. Я по шею увяз в рвоте своей собственной души. Мое безвольное тело швыряет по сточной канаве течением, прибивая то к одному берегу, то к другому, из крайности в крайность. На мгновение я даже ощутил запах гнили и разложения, тлена и горящей плоти, будто прошелся мимо гнойной перевязочной медпункта Освенцима. Я тонул в дерьме под раскаты Карла Орффа, или это был Вагнер. Здравствуй, Фридрих.
Сперва я понял, что это было всего лишь outro очередного post–black/atmospheric ансамбля. А затем я уснул.
Глава 6. Плюшевый эшафот.
6.1. Лк.15:13
Я проснулся от шума гремящей посуды на кухне за стеной — мир суетился вокруг, пока я лениво моргал, остервенело, пытаясь веками побороть и преодолеть цепкой хваткой схватившего меня Морфея. Пробуждение давалось мне тяжело, словно персонажу Роберта Де Ниро, в одноименном фильме с Робином Уильямсом. Меня стянуло в комок костей, обтянутых тонким, прозрачным слоем мышц и не менее тонким, бледным покровом кожи. Одеяло казалось мне невероятно тяжелым, оно прибило меня словно «три кирпича на грудь» и любые попытки развернуться или выбраться из–под него были обречены на провал, потому я покорно похоронил свое хрупкое тело под слоем ткани.
Я лежал, свернувшись в позе эмбриона, продев руки между коленей. Разносортные мозгоправы поговаривают, что спящий в позе эмбриона «человек инстинктивно стремится вернуться в самые благоприятные для себя условия. Эти люди чаще всего не уверены в себе и в глубине души чувствуют острую необходимость в поддержке и защите». Быть может они правы.
Наконец, словно очнувшаяся от многолетней спячки саблезубая вошь, я распрямил свои лапки, вытянув их вдоль кровати. Головокружение («никто из людей не заслуживает уважения») имело место быть, как и легкая тошнота. Это конечно не сравнимо с тем, что я испытывал накануне после изрядной дозы витамина б (читай — баклофена), или, к примеру, после моего давешнего печального опыта с таблетками под названием Карбамазепин, благодаря которым я двое суток проходил с пустующим взглядом, невероятным головокружением, бешенной зигзагообразной походкой, постоянной едва преодолимой тошнотой и заплетающимся языком, а точнее с отсутствующей напрочь дикцией.
В общем, ДХМ оставил после себя лишь легкое, едва уловимое похмелье и заметные боли в области печени. Впрочем, боли в области печени — следствие наработанного годами опыта аутоагрессивного, зависимого поведения.
Я перечитал стихи на стене: первый едва проглядывал через слой хаотичных чернильных карост и дранные обои, второй, хоть и был написан неразборчиво, но мне не составило труда его прочесть. Второй стих показался мне удачным и вызвал легкую самодовольную ухмылку на лице.
Я решил подняться: тошнота ярким приступом ударила в глотку, головокружение вплоть до потери ориентации в пространстве нанесло мне сокрушительный удар в виски, оставив послевкусием легкие спазмы боли. Я очухался и попытался вспомнить в деталях вчерашний трип.
Чувство вины не покидало меня и теперь, я уверен, оно преследовало меня и во сне. Как мог я, зависимый, сидящий на шее спиногрыз, позволить себе возвести в родительской обители уютный one–man нарко–притон. Это как минимум нагло и неуважительно.
Я выключил лампу. Так–то лучше. Тем не менее, стыд стоял огромным колючим комом где–то в районе мечевидного отростка.
Мне предстояло еще выйти из комнаты и повидаться с мамой. А ведь накануне меня почти досуха выпили призраки вины, страха, детской обиды и стыда перед ней за мое несоответствующее ни возрасту, ни статусу, ни моими перед ней обязательствами, ни положению на эволюционной лестнице… В общем, за мое неподобающее и отвратное поведение мне было не по себе, стыдно перед матерью — перед единственным человеком, перед которым мне не стыдно испытывать стыд, иметь обязательства и, наверное, какой–то сыновий долг (правда я не знаю в чем он заключается, но я уверен, что он есть и состоит как минимум в том, чтобы оправдать ожидания или хотя бы не слишком низко пасть, а я пал уже достаточно низко).
Я поднялся с постели, пол подо мной слегка вращался, будто кто–то хотел закатить меня в лунку, но я, скооперировавшись со своим вестибулярным аппаратом, сопротивлялся этому как мог. И вот я уже прошел сквозь зал, в котором отчим сидел с газетой у работающего телевизора, в той же позе, что и вчера, будто бы и не прекращал разгадывать свои японские головоломки. Он и в этот раз не поднял на меня взгляда, ему в этой жизни уже на многое было плевать, человек, доживший до пенсии, неплохой пенсии, надо сказать, благодаря стажу, вредному производству и так называемым «северным». Он ни о чем не беспокоился, не строил планов и перспектив, о смерти ему тоже было рановато думать, несмотря на два инсульта на почве чрезмерного потребления алкоголя. Он просто проживал дни, один за другим, никуда не торопясь, ни к чему не стремясь, не имея амбиций и фундаментальных замыслов. По сути, он уже умер, как член общества, как индивид, как саморегулирующаяся, саморазвивающаяся система. Он просто доживал, время от времени уходя в запои, скорее всего, от чувства собственной никчемности, отсутствия смысла и любых намеков на динамику и развитие событий в его уже очерченной толстым контуром жизни. В какой–то степени я ему завидовал. Пассивный. Почти Обломов.
То ли дело моя мать — деятельная, всегда стремящаяся и строящая пестрое будущее, имеющая надежды даже в самые темные и бесперспективные периоды существования нашей семьи. Она всегда чем–то занималась, делала ремонт, планировала переезд, пыталась открыть торговую точку, увлекалась то буддизмом, то фэн–шуем, то вязкой, то лепкой, постоянно читала, занималась спортом, ходила летом и осенью в лес и прпрпр. Быть может только в последнее время тот самый провинциальный экзистенциализм, годы и опыт слегка сломили ее, но она всегда была сильной, уверенной в себе женщиной, одной из самых сильных людей, которых я когда–либо встречал. Я всегда и во всем ей подражал, даже мое увлечение книгами и чтением — ее заслуга: я не помню ни одного дня, когда я бы не видел ее с книгой в руках, она всегда что–то читает, будь то третьесортный отечественный детектив, томик Уильяма Берроуза или книга о домоводстве, пчелиных ульях или кришнаизме. И именно этого человека я каждый день подводил и вот — подвел в очередной раз, разочаровал, заставил волноваться, а этого мне бы хотелось меньше всего. Именно это предчувствие, нарастающее ощущение осязаемого недовольства превратило мой путь до кухни в один из самых труднопреодолимых промежутков пространства.
Итог: я на кухне. Запах стряпни, запотевшие окна, шум льющейся струи воды, гам и звон посуды в раковине, своеобразная уютная утренняя суета. На плите несколько кастрюль, на столе разделочная доска, остатки нашинкованных овощей, под ногами крутится кошка, запах средства для мытья посуды, лимонный, бумбокс на холодильнике крутит диск с аудиокнигой Алиена Карра «Как бросить курить» (еще один этап безрезультатной 19летней борьбы с пагубной привычкой).
Я очень хотел пить, меня мучал невообразимый сушняк, но что еще страшнее — в моей глотке прочно засела просто бесчеловечная, испепеляющая горло изжога. Но вот так вот взять и налить себе полный стакан воды и жадно к нему присосаться я не мог, это было бы чересчур нагло и опять же неуважительно. Это было бы так, будто я мало того, что не стыжусь своего аморального образа жизни, так и, как ни в чем не бывало, заявляюсь в святая святых — кухню — и пью из святого источника своими грязными, оскверненными алкоголем и наркотиками губами. Это уже не лезло ни в какие ворота.
Меж тем молчаливая война продолжалась. Увидев меня на кухне, мама опять обронила всего одну фразу, что–то вроде «Опять прогуливаешь?». Я неопределенно мотнул головой, что–то среднее между отрицательным покачиванием и утвердительным кивком, то есть я сперва начал было мотать головой, но потом кивнул, тем самым породив загадочный, невнятный, как и я сам, жест. Ведь на самом деле, я и не знал, прогуливаю я или нет, отчислен я или еще студент. Да впрочем, не важно, мама к тому моменту на меня даже не смотрела.
Чтобы хоть как–то побороть сухость во рту, я сполоснул рот, взял зубную щетку, выдавил скромную горошинку зубной пасты (а всего несколько дней назад я с уверенностью обильно смазывал щетинки пастой, полный уверенности в себе) и начал полировать ротовую полость. Затрудняюсь объяснить почему, но на кумарах, отходняках и с похмелья я очень люблю чистить зубы, быть может, потому, что вкус зубной пасты становится в такие моменты невообразимо приятным и освежающим, словно ливень в пьесе «Гроза». Я словно перерождаюсь и весь очищаюсь, вместе с зубной эмалью, а заодно и впитываю приятный мятный аромат (не в пример омерзительному мятному вкусу сиропов от кашля).
Начав споласкивать ротовую полость, я между делом набрал пару горстей воды и жадно выпил их, стараясь не подавать виду. Затем я быстро помыл голову гелем для душа, побрился, намылив щеки и подбородок простым куском мыла, ополоснул лицо, протер глаза, высушил и причесал волосы. Взглянул на себя в зеркало: я выглядел весьма неплохо, для человека, марафонящего на школьных кайфах и выпивающего уже не первый день.
Я отошел от раковины, уступив место маме. Она продолжила мыть посуду. Я ожидал шквал ругани и разбор полетов, брань, крики, свой собственный стыдливый ступор. Вместо этого мама тяжело вздохнула и, не отрываясь от посуды, сказала вновь всего одну фразу «Когда ты уже повзрослеешь и возьмешься за голову».
У меня внутри все рухнуло. Как дом под снос, который подрывают у фундамента динамитом. Хуже этих слов ничего быть не могло. Уж лучше ругань, мат, злоба, а не горестное материнское переживание. Я просто развернулся и вышел, на глаза наворачивались блядские слезки, но я закусил нижнюю губу, чтобы болью отвлечь мозг от сантиментов и прочих соплей. Я не нашелся, что ответить и просто ушел с кухни, просто в очередной раз сбежал от ответа, от ответственности, от решений, от реальности, от жизни. Я просто съебался в свою комнату, словно испуганный ребенок, разбивший хрустальную вазу. Тут можно было бы кинуть пару банальных пошлых образов о хрустальной вазе материнской души, разбитой таким неблагодарным ублюдком как я. Но опустим это, оставив лишь то, что мне было мучительно стыдно (в который раз это слово мелькает за последние пару страниц) и чудовищно хуево и тяжко на душе, мне хотелось просто исчезнуть, так будто бы меня и не было никогда.
Итак, я сбежал в свою комнату, стянул с себя шорты, натянул черные узкачи и черную толстовку с капюшоном, купленные за гроши в местном сэконде. Встряхнув головой, чтобы слегка осушить волосы, я накинул сверху пальто, укутался в капюшон, пихнул в карман оставшиеся у меня 700 рублей, в другой карман — заряженный телефон. Вышел в прихожую, натянул на ноги кеды, зашнуровал. Зашел в обуви на кухню, сказал маме «Прости», на мгновение мы встретились взглядами, но я пресек очередную сентиментальную хуету словами «Пока» и направился в подъезд.
Только в подъезде мне все вышеописанное показалось странным: я умылся, побрился и одел чистые, только что выстиранные вещи, попросил прощения у матери (читай — попрощался). Я словно самурай перед сэппуку, разве что лицо не напудрил. Это было похоже на прощание и уход в последний путь. Я отмахнулся от странных мыслей, как от последствий принятия ДХМ и выбрался на улицу, не имея представления куда и зачем я вышел.
Вот такая вот короткая глава вышла, прямо как в детских детективах серии «Черная Кошка».
6.2. Ода к руинам.
В очередной раз, я держал путь в никуда. Чувствовал себя как–то совсем подавленно и плохо. Быть может, стоило бы отречься от подобного образа жизни, дать организму передохнуть и взяться за ум, как посоветовала мама, но я же «окружен, но не сломлен» и вместо рационального пути решения своих социальных и психических проблем я избрал путь деструктивный, то есть путь для меня наиболее привычный и приемлемый. В умных книжках подобную модель поведения очень часто обзывают термином «Самосаботаж», то есть контрпродуктивная, нелогичная деятельность, пассивно–агрессивное поведение. И вся эта писанина — тому доказательство: тонны нытья и жалоб, упадническое настроение, сарказм и ирония, шквал самокритики и обвинения в свой адрес и в адрес всего окружающего мира, зависть, агрессия, мат, пустые оправдания, противоречия и десятки защитных механизмов, а как следствие аддиктивное, нерациональное, саморазрушительное поведение, неадекватное восприятие окружающего мира и прочие вещи, характеризующие меня как далеко не самую приятную и благоразумную личность.
Даже сейчас, пронзая своим телом брухлю человеческих масс, движущихся мне навстречу, я злился и обвинял всех и каждого в чем–либо, порой даже не осознанно, я бы даже сказал инстинктивно. Социальная агрессия и раздражительность превратились в условный рефлекс, в котором единственным условием является наличие людей вокруг, хотя даже и оно не необходимо, достаточно просто подумать о людях, чтобы испытать в себе взрыв сверхновой.
Иногда я испытываю жгучее желание порвать со всем цивилизованным миром и очертя голову рвануть в какой–нибудь тибетский монастырь, прийти туда и сказать «Я живу во зле и ненависти, я устал так жить, я устал злиться на всех, устал гневаться, я истощен и ослаблен, но я не могу по–другому, не умею, заберите меня и научите жить». Может приютят, может научат жить правильно, может в компании молчаливых, спокойных монахов я и сам проникнусь этим безмерным блаженством и похуизмом и перестану взрываться от каждого самого малейшего соприкосновения с окружающим меня миром. Я не хочу больше ненавидеть мир.
А ведь как ни странно, складывается впечатление о том, что в молодежных кругах быть социопатом, интровертом и циничным мизантропом, полным пессимизма, отчаяния и горести — очень модно. Внезапно модно стало читать Сартра и Джойса, цитировать Ницше, слушать призефиренный блэк–метал с нотками пост–рока, накладывать мрачные фильтры на фотографии, постить статусы изобилующие тоской и упадничеством, всюду кричать о своем одиночестве и отчуждении, любить фильмы об одиночках и эскапистах. В общем, стало модно все то, на чем я выстраивал свою никчемную линию жизни, можно сказать, закладывал фундамент своего защитного канала, уплотнял свои рубежи. Во все те старательно возведенные воздушные замки, в которых я находил убежище, набежали модные мальчишки и девчонки, пестрящие со страниц интернета своим показным цинизмом и плюшевой социофобией. Не то, чтобы они покусились на элитарность моего эскапизма. Хотя нет, они покусились. Это все какое–то дешевое позерство. Эскапистом и ноулайфером не может быть человек с несколькими тысячами подписчиков в твиттере. И не может судить об экзистенциализме пользователь, выкладывающий еженедельно фотоотчеты со вписок и тотальных пьянок с кучей красивых и стильных мальчонок и девчат. Тревожные колокола и куранты трезвонят и бьют бластбиты.
Вся эта потерянность, отсутствие коммуникативных навыков, замкнутость, отстраненность, легкий аутизм, перманентная раздражительность, тревожность и агрессивность. Глупо, что это становится модным. Очень глупо. Это отвратительно. Ужасно так жить. Быть затворником и социопатом — не здорово. Люди вокруг. Они повсюду. Везде. Снуют. Ходят. Гуляют. Прохаживаются. Они преследуют всюду. Спереди, сзади, справа, слева. На улицах, в магазинах, на работе, на учебе, в очередях. Ты никогда не сможешь остаться наедине сам с собой. Даже в своей собственной квартире. Всегда есть страх, есть вероятность, что к тебе решит зайти сосед, наведается жилищно–коммунальная службы, родственники, знакомые, приставы, почтальон, ошибутся квартирой, попросят отвертку, соль, придут из роскомстата с опросом. Ты никогда не будешь один. Социум никогда не отпустит тебя. Вокруг всегда будут сновать тебеподобные, разговаривать, спорить, дискутировать, отвратительно шутить, отвратительно смеяться, делать неуместные комментарии друг другу и тебе в том числе, заглядывать в твою книгу, в твой телефон, в твой монитор, в твою газету, задавать глупые вопросы, вынюхивать что–то, следить. Ощущение постоянного контроля, наблюдения, надзора, тотальной несвободы. Паранойя. Желание убежать, скрыться, включить громкую музыку в наушниках, уткнуться носом в книгу, выключить свет, замкнуться, закрыться, запереться на крючок, шпингалет, засов, замок, навесной, кодовый, забить все окна и двери. Не видеть, не слышать, не разговаривать. Постоянное ощущение прутьев тесной клетки, впивающихся прямо в конечности. Моя замкнутость — мой вольер, я как те несчастные лисы, что бродят из стороны в сторону, мечутся от угла к углу в своих клетках в зоопарке. Я заперт, но я постоянно на виду. Это никчемно и отвратительно: жить в социуме и быть замкнутым. Буллёзный эпидермолиз. На тебе словно нет кожи и каждое прикосновение, каждый взгляд, каждый контакт с окружающей средой болезненен, неприятен, нежелателен. Постоянное избегание, постоянный уход. Подозрения. Люди на улицах смотрят на тебя недоброжелательно, они видят каждый изъян на твоем теле, каждую черную точку на твоем лице, они знают, чем ты занимаешься, они видят, что у тебя в глазах, твои намерения и грязные мыслишки у всех на виду. Быть может кто–то из них даже умеет читать внутренности твоей глупой головы. В магазинах ты вор, даже если ничего не украл. Все биперы сработают, когда ты будешь выходит с пустыми карманами, просто потому что ты боишься. Продавцы не верят тебе, кондукторы пересчитывают мелочь, не доверяя. Слышишь — смеются. Надо тобой. Никак иначе. Все люди смеются над тобой, пока ты не видишь, за твоей спиной, скрывшись из вида, обсуждают на задних сидениях маршруток твой внешний вид, нелепые одежды, неряшливость, грязные волосы, глупое выражение лица, неуклюжую мимику, неповоротливые жесты, движения. Затем они придут домой и расскажут своим семьям о том, какого нелепого человека они сегодня видели. Охранники точат зуб на тебя. Все. Без исключений. В автобусах кругом воры–карманники, прижми телефон покрепче. Не доверяй никому, избегай взгляда в глаза, это агрессия, на тебя хотят напасть. Ходи проверенными маршрутами, иначе нарвешься на конфликт. Все дворовые собаки мечтают перегрызть тебе глотку. Носи перцовый баллон. Тебе никогда не хватит смелости воспользоваться им, но ты будешь чуточку увереннее себя чувствовать. Ты обязательно упадешь на вон той неровной дороге, обойди ее в ущерб своему времени. Если ты студент или школьник, знай — тебя постоянно хотят отчислить. Без вариантов. В деканате строят козни, ты совсем скоро вылетишь к чертям, держишься на ниточке. Если ты работаешь, знай — вот–вот тебя уволят, в тебе нет необходимости, и работодатель держит тебя лишь до поры до времени, скоро ты потеряешь все. Сотрудники смеются у тебя за спиной. Кругом намеки на твое увольнение. Кругом намеки на твою никчемность. Сама жизнь, ехидно посмеиваясь, подмигивает тебе своими пустыми глазницами. Постоянно. Всегда. 24*7.
Время от времени может накатить чувство собственной элитарности, как раз то самое которое тешит и подпитывает модных хипстерков, решивших напялить на себя маску отчуждения. Якобы я весь такой непонятый, такой особенный у мамы, отвергнутый миром изгой, гений, им просто не понять, я не такой как все, я слишком много прохавал в этой жизни, все понял, все познал, во всем разочаровался. Герой печального ордена. На деле же – всего лишь горстка никчемного, неприспособленного, аутичного дерьма, не способного на активные действия, поглощенного собственной ленью, самолюбованием и самобичеванием.
Пахнет толпой, полиэтиленом, пластиком, пылью. Кругом шум и мельтешащие картинки, будто бы мир вокруг скроили сплошь из 25ых кадров. Какие–то безумные авангардисты снимали этот мир. А я шлепаю по разбитому асфальту. Испачканная обувь и брызги грязи на джинсах почти до самых колен. Мельтешащие перед глазами мамочки с безразмерными колясками, затрудняющие и без того затруднительный путь. Морда провинциального города разбита рытвинами и язвами дыр в дорогах, трещинами и прочими шрамами и увечьями. Повсюду текут весенние ручьи, грязное месиво, фарш из окурков, песка и воды. И это вызывает во мне оголтелую ненависть и ядерный заряд остервенелого раздражения и дискомфорта. Хотя, казалось бы, всего несколько лет назад я был бы безмерно рад подобной погоде, натянул бы свои самые высокие резиновые сапоги и отправился бы со своими дружками измерять глубину луж, строить плотины из картона, пускать корабли из пивных крышек, пенопласта и прочего близлежащего мусора. Буйствовал бы и веселился в сырых носках.
Многие пляшут на костях многократно изнасилованной истории, теплыми воспоминаниями горестно оплакивая расплывшийся, словно капля ртути, советский союз. Я не силен в политике, и мои размышления о правом и левом фланге, изложенные выше, лишь подтверждают мое дилетантство в этой области (как, в принципе и в любой другой), однако с высоты своего крошечного жизненного опыта, я считаю необходимым поблагодарить разрушителей державы за всю ту атмосферу постапокалипсиса и тотальной разрухи, которую они нам подарили. Где еще мы, малолетние нищеброды 90х, могли найти столько плацдармов для своих игрищ, кроме как на заброшенных пост–советских и пост–перестроечных недостройках, забытых в лучшем случае на уровне первого этажа, чаще же всего где–то в области фундамента. Сколько заброшек, полуразрушенных домов культуры, заводов и богом забытых коттеджей было нам даровано. Руины советского союза — идеальное место для игры. Я могу вспомнить тысячу и один эпизод из детства, связанный с ними. Мы носили наимоднейшие пестрые наряды, купленные на китайских рынках, плясали под Army of Lovers, замачивали пивные бутылки в горячей воде, пидорасили их железными щетками, а затем несли их в пункты приема стеклотары, чтобы выменять на пару–тройку тысяч рублей, напокупать жёвиков с переводками и забить свои первые рукава.
Я помню, как долго выпрашивал велосипед. И вот однажды, мой отчим, пешком возвращаясь с молокозавода, где он работал слесарем, брел по трассе вдоль огромной городской свалки. И в куче разноцветных мусорных пакетов, ржавого чермета, тряпок, старой мебели и прочего дерьма он увидел в у смерть ушатанный велосипед «Урал». Он протащил его несколько километров до дома и вручил мне, после чего я закатил дикую истерику, категорически отказываясь кататься на ржавом, разбитом велосипеде с приваренной левой рамой, кривым рулем, отсутствующими спицами в колесах и спущенными камерами. Однако отчим умел ловко осадить непокорного и своенравного ребенка (как милосердный Господь умел совладать с «жестковыйным» израильским народом) - он попросту залепил мне несколько наисочнейших лещей и запер в туалет, предварительно выключив там свет. И когда первые протестные и бунтарские порывы во мне поугасли, и я, тихонько хныча, свернулся калачиком на полу туалета рядышком со стиральной машиной, он открыл мне путь на свободу. Со временем я смирился и даже дал «Уралу» вторую жизнь: поставил спицы, подлатал и накачал камеры, где надо подтянул и смазал, сменил резину, перекрасил раму в ярко синий, поставил катафоты и рассекал по городу на ди–ай–вай велосипеде, которому мог бы позавидовать любой из ныне живущих хипстеров. И это тоже дар смерти советского союза.
Мы забирались в частный сектор, пролазили сквозь решетки и дыры в заборах и нещадно поглощали халявные клубнику, малину и крыжовник, набирали полные карманы стручкового гороха и яблок, да даже простые огурцы вырывали из теплиц. Набирали полные банки жуков–пожарников, устраивая им вечеринку с дождевыми червями, гусеницами и бескрылыми оводами. Слушали на трёхкнопочных кассетных плеерах scooter и перематывали кассеты карандашом, чтобы не сажать батарейки попусту. Читали тайком от родителей «Спид–инфо» и «Эммануэль», смотрели видео–кассеты с немецким поревом. Рубились в «Кворум», в денди и сегу.
Помню, как искал за городской стоматологией шприц для пары торчков, сидящих у моего подъезда, парень и девушка очень просили, чтобы я принес его им. Правда, когда я вернулся с целой горстью использованных шприцов, найденных в канавке неподалеку, ребята уже скрылись в неизвестном направлении. Само собой я рассказал об этом дома и получил еще несколько лещей от отчима и двухнедельный домашний арест.
Мы любили ходить к заброшенному дому культуры «Дружба», где разбивали стекла, ломали пустующий кинозал, разнесли бар в щепки, крушили стулья. И пока ребята постарше парой этажей выше пыжали с пакетов клей, мы пинали спящих бомжей, а потом носились от них по всему дому культуры, как минотавр от Тесея по критскому лабиринту.
Мы шлялись недалеко от шахт и искали цельные куски пирита, тащили его домой и гордились каждый своей коллекцией блестящих камней, искренне веря, что рано или поздно они превратятся в золото. Иногда мы просто пробирались на территорию заброшенных шахт, превращенных в свалки для мусора и сбрасывали в карьер все, что попадалось под руку: холодильники, старую мебель, однажды даже толпой столкнули какой–то ржавый пикап, стоящий на самом краю карьера. Потом мы просто наблюдали, как все это летит на дно. Теперь, кстати, мы сами летим на дно.
Ловили голубей в картонные коробки и тритонов в полторашки, притаскивали домой, где я снова отхватывал лещей от отчима.
Каждый день я шел через район двухэтажных разбитых временем, прогнивших деревянных бараков и наблюдал, как местный барыга простукивал форточки и толкал пакеты с дурью тощим как узники аушвица торчам. Тогда я еще не знал, что это торчи и что этот дядя в кожаной жилетке им протягивает.
Мы жили в бетонной коробке с коврами на стенах, скрипящей железной кроватью и креслом–раскладушкой, укрытым пледом с тиграми, мечтали о видеодвойке и ухищрялись подключать к ламповым телевизорам видеомагнитофоны с приставками, наблюдали родителей, пьющих стеклоочистители и тоники для ванн, ходили гулять в резиновых сапогах выше колена и считали это неимоверно трушным и крутым, гоняли в футболках со Сталлоне, питались просроченным дерьмом из социальных магазинов, дрались за обеденные деньги в школе, пробовали пить и курить, кто–то даже ебашил клей лет с 8. Обои с цветочками, мебель под красное дерево, очередь за молоком с бидонами в 8 утра, шкафы, тумбочки и холодильник «Бирюса» в наклейках, зарплаты галстуками, мебелью, сахаром, конфетами, посудой, чем угодно, кроме денег, игры в прятки на заброшенных строительных объектах. Это все наследие совка и пост–совка. Наверное, это чернуха, но у этой чернухи самая охуительная атмосфера из всех, что окутывали меня когда–либо. В такие моменты я чувствую себя нудящим стариком, вспоминающим лучшие годы своей жизни, только вот я еще совсем не старик и жизни не пожил и в воспоминания мне рановато окунаться.
А теперь я стал обрюзгшим пресыщенным ни в чем ни заинтересованным подростком, ищущим хоть какого–то выхода для тонн своей не затраченной энергии. Я был живым до какого–то возраста, а потом вдруг умер. Та самая социальная некрофилия сожрала меня. Ребенком я вымаливал у матери сладости и радовался каждому прянику, притащенному ею с работы, радовался любому домашнему животному, даже ссаной рыбке – барбус. Специально ходил к маме на работу в детский сад, где она была нянечкой, чтобы сюсюкаться с крысами альбиносами в живом уголке, тогда же я любил бродить по всему городу, исследовать каждый район вдоль и поперек, лазить на детских площадках с утра и до вечера, знакомиться и общаться. Теперь же я абсолютно безразличен к этим маленьким радостям, сладости для меня всего лишь «к чаю», животных не перевариваю, любые домашние любимцы мне в тягость, а каждый раз, когда мне приходится мыть кошачий лоток я крою всеми возможными проклятиями своих котов. И я не люблю гулять, в своих припадках социопатии мне хочется всего лишь запереться дома, забиться в угол и не выходить на улицу никогда, ни за что, потому что там все смотрят и следят, и всем я там не нравлюсь – тут как минимум нужен костюм из коробки от холодильника. Про новые знакомства, пожалуй, стоит и вовсе промолчать – последние несколько десятков моих знакомств произошли в сети интернет и дальше этой сети никуда не вышли. В подростковом возрасте я искал счастья в алкоголе, аптечных кайфах и онанизме. Теперь же и это стало нормой: алкоголь воспринимается как само собой разумеющаяся традиция и не более, привычка, как шабат, который надо беспрекословно соблюдать, аптечные кайфы давно перестали доставлять что–либо кроме жутких отходняков, онанизм – забава, вроде той, детской, когда ты спичкой щекочешь ноздри, чтобы чихать, обычный секс кажется скучным. И вот я возмужал и подрос, эндорфиновая толерантность выросла до невиданных размеров и я уже ни от чего не получаю удовольствия, и все, что я делаю, я делаю для того, чтобы просто забыться и хоть как–то отвлечься.
Когда я начал гнить изнутри и эмоционально истощаться? Когда я начал превращаться в то, чем я являюсь сейчас?
Однажды моя мать задержалась на работе по случаю празднования дня рождения у одной из своих сотрудниц. Отчим в тот день кипел от ярости, скурил за пару часов около пачки примы, ходил из комнаты на кухню и обратно, закрывался в туалете и курил, приходил, ложился на диван, закрывал глаза ладонью и крайне эмоционально шевелил губами, всей мимикой выказывая невероятный заряд агрессии и злости. Затем он снова вставал и снова курил, нервно переключал каналы. Затем подошел ко мне и, отвесив мне тяжелый подзатыльник, приказал убрать игрушки, помыть посуду и ложиться спать. Я заревел. В то время я был жутчайшим плаксой (с тех пор мало что изменилось). Он отвесил мне еще несколько подзатыльников и сказал, что если я не прекращу, он пришибет меня. Я давился своими соплями и убирал игрушки в корзину, затем долго намывал посуду, после чего расправил кровать, укрылся с головой и попытался уснуть. А потом пришла мама, но отчим продумал все заранее и запер дверь изнутри. Когда она не смогла открыть дверь ключом, она стала звонить и стучать в дверь, однако отчим отвечал ей струей отборного мата через дверь, называя «шлюхой», «блядью», посылая туда, откуда она только что вернулась и где «шлялась». Я начал орать на всю квартиру, тогда отчим приказал мне заткнуться, предварительно хлестанув ладонью мне по лицу, я стал тихонько всхлипывать, зарывшись в одеяло. Спустя час перебранка закончилась и мама ушла. На следующий день отчим приказал собирать все свои учебники и проваливать вслед за ней. Так я и сделал. А потом мы три месяца жили в пивном ларьке.
Однажды я, ворочаясь в приступах бессонницы, решил прогуляться до туалета. Мама с отчимом культурно отдыхали тогда. Дойдя до кухни, я увидел спящего за столом его. На полу разбросаны ошметки из соплей, харчи и какого–то мутного зеленовато–желтого густого гноя. Тут стоит отметить, что мой первый отчим имел 25 летний стаж работы на рудниках и в шахтах, а потом легкие его кишели всякой дрянью, от чего он постоянно кашлял и много сплевывал и харкал, трезвый — в раковину, пьяный — на пол. Я решил его не беспокоить, поскольку знал, что это — себе дороже. В туалете со спущенными до щиколоток трусами на унитазе прикорнула мама, я попытался ее разбудить, однако попытки не увенчались успехом. Тогда в туалет ворвался отчим, и с криком «какого хуя ты ей спать мешаешь» схватил меня за шею и вышвырнул в коридор. Я по традиции распустил нюни и начал ныть, но ему этого показалось мало и, взяв шланг от душа и сложив его вдвое, он принялся хлестать меня им по ляжкам. Чуть–чуть выпустив пар, он приказал идти спать, и я последовал его совету.
Однажды мы с мамой и теткой отправились прогуляться по городу, сходили в парк, посидели у берега местной речушки, после чего вернулись домой, где застали отчима, не первую неделю предававшегося культу этилового спирта. Заподозрив неладное в долговременном отсутствии любимой, отчим с порога прописал в торец и маме и тетке, а меня просто отшвырнул в сторонку. Далее я стал свидетелем весьма зрелищной схватки, впечатлившей меня сильнее, нежели, скажем, Монсон против Емельяненко: отчим повалил обеих женщин на пол, маму он душил рукой, попутно зажав между ляжек голову тетки, дамы же тем временем пытались расцарапать как можно большую площадь кожного покрова отчима. В этом время я заревел с криком «Прекратите», однако мои призывы к миру были столь же бесполезными, сколь и аналогичные лозунги кота Леопольда в соответствующем мультфильме. Тогда я ринулся на кухню, схватил самый большой нож и вернулся в коридор с криком «Я его зарежу». Мать, хрипя, сказала что–то вроде «Не смей» и я просто вызвал милицию. Всего через 40 минут защитники правопорядка были на месте, зафиксировали побои и выписали отчиму штраф в размере 23 рублей.
У меня много таких историй. Со временем я перестал пускать слезу, теперь я ною в социальных сетях и жалуюсь на свою жизнь в твиттере, но настоящих эмоций я уже давно не испытывал.
Я не знаю, чего я хотел бы от жизни. Скорее всего — ничего. Штудируя разношерстные религиозные догматы, я наткнулся однажды на такое ответвление христианства как катаризм, один из основных посылов которого в том, что единственно возможный ад – это тот мир, в котором мы с вами живем, и однажды все души будут спасены и вернутся к Творцу. Наверное, я хотел бы вернуться к Творцу, но не как к господину и повелителю, не в качестве раба, а как к практически равному, как сын к отцу. Мне куда больше импонируют буддийские учения, в которых нет идолов как таковых и поклоняться кому–либо нет нужды, а есть лишь стремление оградиться, очиститься от суеты внутренней и внешней, убрать все лишнее и наносное, не иметь необходимости и нужды в чем бы то ни было, даже в жизни. Я бы хотел от жизни научиться в ней не нуждаться, хотел бы научиться умирать, как буддист, уходя во всякие тантры и нирваны, постигая все и вся.
Хотя к чему все эти размышления о Боге и предназначении человека. Ведь вселенная образовалась в результате взрыва. В результате взрыва одного из нейронов в мозгу Господа, а он этого даже и не заметил. Всего лишь один из миллиардов нейронов, прогорел и скоро потухнет и мы вместе с ним. Миллиарды вселенных в Его сознании, а мы лишь одна из форм жизни на одной из планет, расположенных в одной из планетных систем одного из галактических рукавов одной из галактик, составляющих одно из сверхскоплений в одной из бесчисленных вселенных. Какое ему до нас дело? Такое же, как нам до каждой конкретной нервной клетки нашего мозга.
Единственным верным способом справиться со сложившимся безразличием Господа к моей столь важной и центровой персоне я посчитал попытку уничтожить как можно больше вселенных (читай: нейронов) в моем собственном головном мозге, путем возвращения к излюбленному в моей семье, во всем моем окружении, да и во всей стране культу этилового спирта.
Не буду вдаваться в излишние подробности, отмечу лишь то, что перед тем, как отправится домой, я приобрел в ближайшем супермаркете две бутылки водки, что немаловажно – приобрел я их по социальной цене. И это неспроста, ведь наше государство заботится о своем народе и делает все, чтобы деклассированные и малообеспеченные слои населения тоже имели возможность реализовать свое право на деградацию и алкогольную зависимость. Для каждого гражданина, выходцем из какого бы сословия он ни был, найдется своя ценовая категория и потребности каждого будут учтены. Демократия.
6.3. Ночное чаепитие.
Я просыпаюсь посреди ночи, от пота, вертолетов и жуткой тошноты. Я поднимаюсь и иду на кухню. И вот я стою на кухне, кипячу воду в кастрюле, ибо чайник сломался. Стою перед засранной плитой, покрытой слоем гари и копоти. Стою на засранном полу, пыль, песок и сахар впивается мне в пятки, облупленные стены квартиры вокруг. Наливаю в грязную кружку воду, завариваю самый дешевый чай в пакетиках без ярлычка, понимаю, что в кармане почти нет денег, как и каких–либо перспектив, и из днища этого почти никак и никогда не выбраться, и так будет всегда. Всю жизнь от чекпоинта к чекпоинту, на съемных хатах, общежитиях, полупритонах, заводах, среди пост–совковых антуражей с облупленной краской стен и известкой желтой на потолке. От понедельника к субботе, ждать вечеров выходных и влачить свое жалкое тельце сквозь ебаную рутину. Одолевает тоска и жгучее нежелание жить. Надо пораньше умереть, чтобы совсем не окунуться в гнилую мякотку всей этой обрыдлой бытовухи. Посмотреть на большинство представителей поколения за 40. И охуеть. Однушки–двушки, срачи, алкоголизм и семейные неурядицы, скука, однообразие и беспросветный мрак ебаной обывательщины. Как говаривал Мисима, после 40 лет человек теряет возможность умереть красиво. И если сейчас вся эта тоска нищеброда и бесперспективного провинциала выглядит хоть чуточку романтичной, то лет 10–15 спустя все это будет выглядеть абсурдно и ничтожно жалко.
Я прихлебываю чай уже в своей комнате и мотаю страницы интернета.
Все проебано, no hope, no future, no second chance.
Вот я сижу, забившись в угол, абсолютно отстраненный, «замацанный на хуйне» и строю вавилонскую башенку из мыслишек, словно сам ФРАНЦ КАФКА: " как люди сумели изобрести понятие «веселье»; вполне возможно, что они его вычислили лишь теоретически — в противовес печали».
Чеховский «Человек в футляре» тут вбирает в глотку мой маленький болтик. Я «Человек в скафандре», человек в охуительно модном общениеустойчивом скафандре с эмоциоизоляцией. Хуй вы ко мне подберетесь, как говаривал Рой Стрэнг «Я ЧТО ТО ЧУВСТВУЮ, ДА, Я ЧУВСТВУЮ, НО ВЫ, СУКИ, ИДИТЕ НА ХУЙ И НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ, ВАМ НИКОГДА МЕНЯ НЕ ДОСТАТЬ».
«Требуются энергичные, КОММУНИКАБЕЛЬНЫЕ и ОБЩИТЕЛЬНЫЕ люди для работы в ДРУЖНОМ коллективе» — ну да, охуеть теперь, сударь, а не присесть ли вам нахуй.
Отец лжи — Большой Красный Дракон — научил меня лгать. Хотя нет. Я ложь, а он мой отец. Мой папа — Вельзевул, а я большая лужа рвоты. Все когда–нибудь всматривались в рвоту — кусочки пищи и всякие ошметки, сдобренные соусом из желудочного сока и слюной. Если всмотреться в меня — кусочки личности и ошметки мыслей в соусе из чужих идей. Годами отточенное мастерство строить защитные механизмы, зашивать свои ДУШЕВНЫЕ ЦАРАПИНКИ и скулить по углам как ебаная ПСИНА — я любой свой недостаток умею возвести в ранг ЭЛИТАРНОСТИ, заставить себя думать, что все ОКИ, уверять себя в собственной полноценности, хотя на деле оставляю на рабочем столе себе послания в txt формате: «неясно: зачем ты живешь, для кого, ради чего? Ты слишком червь, чтобы быть человеком, но только потому, что ты червь, ты слишком скользок и выскальзываешь из всех петель, свитых тобой же. Продолжай дальше ткать свою паутину защиты и увязнешь в ней же, насекомое, единственная вещь, которая у тебя выходит превосходно – это убеждать себя, что все в порядке, когда на самом деле ты летишь в пропасть».
Личности нет. Как нет и человеческой единицы. Я ноль, зато на меня нельзя делить. Я пазл, собранный из неподходящих друг к другу деталек. И хули толку с того, что я прочитал всего Кафку, могу цитировать Ницше и знаю стихи Байрона наизусть? Толку нет. Хули толку с того, что я пересмотрел сотни фильмов всяких триеров, кроненбергов, линчей, шванкмайеров, кубриков, форманов и джармушей? Толку нет. Хули толку с того, что я выкачал из интернетов тысячи гигабайт самой разной музыки? Толку нет. Это все попытки наполнить внутреннюю пустоту всяким сблёвом. ПСЕВДОИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМ. ПСЕВДОЭСТЕТИЗМ. ПСЕВДОЭЛИТАРИЗМ. ПСЕВДОЛИЧНОСТЬ. ПСЕВДОЧЕЛОВЕК.
Это все «гнилье и параша» в голове моей и на теле моем — всего лишь ненависть к своему телу и к своей неполноценной личности, попытка отвлечь внимание от своей душевной УЩЕРБНОСТИ и тонн загнивающих эмоций в башке.
Если я улыбался — я пиздел, если я был обходителен и мил — я пиздел, если я вел себя застенчиво и скромно — я пиздел, чтобы я не делал — я пиздел, я и сейчас в очередной раз напиздел. ЧЕЛОВЕК–ПИЗДЕЖ. Откровенным я могу быть только будучи упитым в говно или обсаженным баклофеном. А по–другому не получается, по–другому не будет, дальше только так. Хотя и дальше нихуя уже не будет.
Про мою жизнь можно было бы написать нудный экзистенциальный роман по типу «Тошноты» Сартра или «Чумы» Камю, только назывался бы он «Отчуждение» или «Отчаяние» и его бы никто не читал, потому что он был бы жутко скучным и неинтересным. Как эта писанина.
Такой вот МАНИФЕСТ ШЕПОТОМ.
Откровенным я могу быть только будучи упитым в говно или обсаженным баклофеном.
Обсаженным. Баклофеном.
На засранном столе прямо у меня перед глазами лежит упаковка баклофена по 25 мг. Я откупориваю крышку, высыпаю все в рот, делаю глоток горячего чая. Самое лучшее и самое волевое решение в моей жизни. Я даже не дрогнул, слишком давно я этого хотел, слишком часто я об этом думал, слишком детально планировал. Давно пора было переходить от мысли к действию. И вот, ни один мускул не занервничал, гладко. Они уже растворяются в моем желудке, всасываются в кровь, скоро я крепко, очень крепко и надолго, очень надолго засну.
Я закрываю дверь комнаты на шпингалет.
И Ницше нашептал мне о том, что «ходит стародавнее предание, что царь Мидас долгое время гонялся по лесам за мудрым Силеном, спутником Диониса, и не мог изловить его. Когда тот наконец попал к нему в руки, царь спросил, что для человека наилучшее и наипредпочтительнейшее. Упорно и недвижно молчал демон; наконец, принуждаемый царём, он с раскатистым хохотом разразился такими словами: «Злополучный однодневный род, дети случая и нужды, зачем вынуждаешь ты меня сказать тебе то, чего полезнее было бы тебе не слышать? Наилучшее для тебя вполне недостижимо: не родиться, не быть вовсе, быть ничем. А второе по достоинству для тебя — скоро умереть».
Я оставляю вместо предсмертной записки на салфетке пастой стишки, нелепые, некуклюжие стишки:
Я прощаюсь, как–то холодно и плевать, никакого надрыва и плакать не хочется, веки сжимаются, хочется спать, я клюю носом. Дальше мрак.
Outro. Bedlam shake.
Я встаю в 6, мою пол в палате, пью чай с печеньем, которое мне принесла мама. Ленинградское печенье и кипяток с сахаром в железной кружке, из которой до меня пил какой–нибудь бомж с расстройством личности.
Затем я лежу на своей койке и смотрю в желтый потолок или на бегающих по стене тараканов. Раскрываю книжонку, читаю с десяток страниц, затем рисую глаза в блокноте или вписываю сотню–другую строк текста.
В 9 я завтракаю, это обычно размазанная по дну тарелки дриснеподобная каша неопределенного происхождения, два куска невероятно толсто нарезанного черного хлеба, вареное яйцо и кусок масла.
Затем я возвращаюсь в палату и продолжаю смотреть в стены и потолок, читать дневники Франца Кафки или малое собрание сочинений Ницше, которого один из местных постояльцев называет Максимом Горьким. Кстати этот постоялец утверждал мне на днях, будто бы Ленин и Гитлер — это один и тот же человек, просто после того, как Ленин разочаровался в коммунизме, он инициировал свою собственную смерть, а затем по подложным документам мигрировал в Германию и там стал строить новую идеологию. А еще он сказал, что счастья в жизни нет и каждый человек унижен и оскорблен. Правда секундой позднее он выдал фразу «пройдут кислотные дожди, на грядках взойдут водородные бомбы, я их соберу и буду на сковороде жарить с картошкой и луком».
Примерно в полвторого я обедаю. Несоленый суп, или если быть точным вода с несколькими кусками картофеля и капусты, шмоток слипшихся макаронных изделий и холодный чай. Ах да, два куска невероятно толсто нарезанного черного хлеба. И чуточку таблеток.
Потом наступает тихий час. Я сплю. Мой сосед по палате очень громко храпи, а другой иногда разговаривает сам с собой или испускает газы.
После трех я продолжаю заниматься ничем. Местные постояльцы собираются в коридоре у видеодвойки и смотрят дивиди, боевики с Ван Дамом или Лоренцо Ламасом, другие шлифуют тапками едва покрытый остатками коричневой краски пол.
В местных туалетах нет перегородок, а потому, каждый раз справляя нужду, ты оказываешься под пристальным вниманием 5–7 курящих в туалете соседей, а также 1–2 «пахомов», просто пришедших понаблюдать. Кстати о курящих, единственная весомая валюта — сигареты. А также чай и сахар. Но табак имеет наиболее высокий курс, ходят былины о том, что некоторые из наименее ханжествующих и лишенных предрассудков постоялиц за сигарету–другую готовы блеснуть оральным искусством. Однако я не курю и на деле мне не доводилось рассеивать или подтверждать сей миф.
В 5 тут ужинают. Тут есть специальный стол, он называется «бабушкин», за ним сидят пожилые женщины с различными формами старческой деменции, они пускают слюни и сплевывают на скатерть куски пережеванной еды. Я стараюсь не смотреть в сторону этого стола, а просто уминаю очередное насоленное месиво, запить чаем и закусить двумя кусками невероятно толсто нарезанного черного хлеба.
в 7 каждый желающий может воспользоваться кипятком и налить себе чай, также для посетителей открывают запертый шкаф с печеньем и сахаром. А в 9 наступает «час кефира», во время которого на ресепшене раздают железные кружки с кефиром, а также крышечки с таблетками.
Я еще немного читаю, немного пишу и стараюсь уснуть раньше всех, чтобы не выслушивать храп, разговоры и прочие посторонние звуки всю ночь. Но, поскольку уже в первую неделю моего тут пребывания я отоспался на всю жизнь вперед, я редко засыпаю раньше остальных. Я просто наблюдаю за стайками тараканов в углу у моей койки. Я пытался соорудить беруши из ватки, оставшейся после анализа крови, но она оказалась малоэффективной. Рано или поздно я все таки засыпаю.
Затем цикл повторяется.
И снова.
И еще.
И опять.
Уже, наверное, второй месяц.
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, где я оказался после описанных в последней главе событий. И тут у меня было достаточно времени, чтобы отоспаться, многое осмыслить и переосмыслить, сделать выводы и что–то для себя решить, но из всего вышеперечисленного единственное, что я сделал — отоспался. В остальном же я стою на все той же точке невозврата, а мое положение лишь усугубилось, и далеко не в последнюю очередь фактом моего пребывания в этом чудном, пораженческом месте.
Так вот, я уже выше упоминал, что про мою жизнь можно было бы написать нудный экзистенциальный роман по типу «Тошноты» Сартра или «Чумы» Камю, только назывался бы он «Отчуждение» или «Отчаяние» и его бы никто не читал, потому что он был бы жутко скучным и неинтересным.
Невнятная, несуразная, примитивная жизнь – невнятный, несуразный, примитивный роман.
И я его написал.