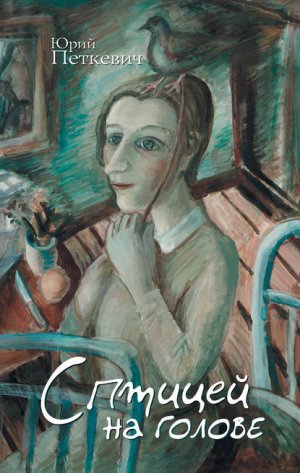
«Ангел поцеловал…»
Я познакомился с живописью Юрия Петкевича года два назад, осенним вечером, когда он пригласил меня в свою мастерскую. Я был поражен — с внешне наивных картин на меня смотрели лики ангелов, которые можно увидеть лишь на иконах. Борясь с волнением, я сказал Юрию, что его искусство «ангел поцеловал». И, думаю, не сильно преувеличил.
Проза Петкевича также изобразительна, только это не живопись грубыми масляными красками, а легкая акварель. Она светится переливами от света к тени, как в гармоничной мелодии незаметен переход от мажора к минору. В его рассказах как будто ничего не происходит. Хотя в каждом из них есть главное событие. Например, умирает отец; маленький мальчик первый раз едет в город с тетей, или герой ищет, кому бы отдать забытую в его доме шляпу человека, который скоропостижно умер. Но главное всегда происходит на втором и даже на третьем плане, и нужно читать очень внимательно, чтобы не упустить из виду нечто важное. В таком повествовании существует обратная перспектива — явление, присущее только изобразительному искусству.
Невозможность любви — вот, пожалуй, сквозное действие многих, если не всех, рассказов Юрия. То есть любовь эта существует, но она не разделена, безответна, не услышана теми, кого любят. Однако этот факт не столь драматичен, как это может показаться на первый взгляд, ведь в любви главным остается не объект, а субъект. Все эти бесконечные Сонечки, Милочки, Надечки, Танечки, Улечки, Дунечки любимы, и, в общем, неважно, что они не могут ответить герою взаимностью, поскольку настоящая любовь, как сказал апостол Павел, «покрывает все» и «не ищет своего». Поэтому печаль рассказов Петкевича светла, в них вы не найдете надрыва, отчаяния и трагедии, хотя действие происходит на фоне вполне узнаваемых реалий нашего времени — повального городского и деревенского пьянства, фатальной неустроенности быта, людской тупости и равнодушия. Но этот хаос не может разрушить то главное, что составляет основу человеческой жизни — любовь к женщине, красоту природы, веру в Бога, и, в общем, надежду, которая остается неизменной и которая ни кого и никогда «не постыжает»…
Не так давно умершая художник-самоучка Любовь Майкова говорила: «Нас двое. Пиросмани и я. Только я лучше». Она была представителем так называемого «наивного реализма». Начала писать картины внезапно, когда ей было уже за семьдесят, дождалась персональных выставок за границей и отошла в мир иной в полной нищете в бурную эпоху «гайдаровских реформ». Теперь можно сказать, что их уже трое.
Искусство Юрия Петкевича будет нужно до тех пор, пока понятие человечности окончательно не похоронят и не сдадут архив. Надеюсь, что это случится не скоро.
Юрий Арабов
На волоске Книга рассказов
Шоколадка
1
Старику Кузькину приснилось, что на месте его дома нет ничего, пусто — голое поле. Утром он поднялся с тяжелым чувством, но к чему этот сон — понять не мог и стал ожидать пожара. Вскоре на улице остановились грузовые машины. На одной из них подъемная башенка с рабочими, и они, как всегда весной, стали обрезать ветки на деревьях у электропроводов. Вокруг собрались люди и начали упрашивать как можно больше спилить, чтобы в домах посветлело. Кузькин тоже выбрался с женой на улицу, и его Варя, пообещав рабочим бутылку, указала на березу рядом с домом. Завизжала бензопила, но старик не мог перечить жене — и совсем приуныл, когда и соседи обратились к рабочим, предлагая им выпить, и рабочие спилили подряд все деревья.
«Следующей весной уже не надо будет им приезжать сюда, — догадался старик, — и, может быть, никогда». Обозревая открывшуюся линию горизонта, Кузькин вспомнил сон про голое поле и побрел домой, и довольная жена следом за ним. Она начала готовить обед, а старик задумался, глядя в окно. После того как пьяные рабочие уехали, заваленная деревьями зеленая улица опустела от зевак. Среди вянущих в пыли, только что распустившихся веток заплакала соседская девочка. У нее была хромая ножка. Старик вышел на улицу, взял на руки девочку и отнес домой.
— Ты не забыл, что у меня сегодня день рождения? — напомнила ему хромоножка.
Старик передал жене слова девочки, но Варя отмахнулась, не желая опозориться с ним в гостях, — и все же Кузькин решил сходить на день рождения и попросил у жены денег на подарок, но она в который раз напомнила ему, что он не получает пенсии. У старика пальцы сами сжались в кулак, и, чтобы не ударить Варю, он выбежал из дома.
Сам не зная, куда идет, — уже давно никто не одалживал ему денег, — он утомился пробираться по заваленной деревьями улице и, отдохнув на последнем бревне, поволокся в соседнюю деревню на другом берегу, где один из его сыновей, женившись, построил дом. Кузькин, идучи, перебирал в мыслях свою жизнь, и дорога показалась ему короткой, а когда пришел к сыну, у него дома были одни дети. «Может, это и к лучшему», — решил старик и попросил у них в долг шоколадку.
Скрепя сердце Костя и Настечка достали из своего тайника шоколадку, и старик поплелся обратно, но жизнь теперь представилась ему бесконечно долгой. К вечеру он все же успел к соседям на праздник и, преподнеся имениннице шоколадку, остался счастлив.
Его усадили за стол, где вовсю шумели гости. Кузькин подлизывался, заискивал перед ними, всячески унижался, блаженно улыбаясь, а соседи не могли понять, почему он так странно последнее время ведет себя. А старик уже думал о своей смерти и поэтому подлизывался перед соседями, чтобы они помогли похоронить его.
Конечно, он напился и за столом заснул — его осторожно толкнули. Он поднял голову и забыл про улыбку. У него спросили, дойдет ли он сам домой. Кузькин кивнул, прикрывавшие лысину седые волосы разлетелись по лицу, и он, не поправляя их, с закрытыми глазами, спустился с крыльца и на улице упал, споткнувшись о лежащую на дороге березу — ту самую, что посадил когда-то, и вспомнил свою молодость.
Назавтра ему было плохо, и на следующий день плохо, и на следующий, — после дня рождения хромоножки он проболел целую неделю, а когда начал поправляться, пришли Костя и Настечка за шоколадкой. Старик решил притвориться пьяным, и дети пожаловались бабушке Варе, что дедушка не отдает шоколадку, но старуха не стала с ними разговаривать, а когда они ушли, начала, как всегда, пилить мужа — вместо того чтобы пожалеть его.
И вот — каждый день Костя и Настечка стали приходить за шоколадкой, а дедушка притворялся пьяным. Дети засовывали старику в нос карандаши, щекотали за пятки, ползали по нему на кровати, поливали из чайника — Кузькин только мычал, будто ни одного слова не может выговорить; наконец дети сообразили: как дедушка может отдать шоколадку, если у него нет паспорта и он не получает пенсию.
Конечно, у них были родственники, которым ничего не стоило сделать паспорт старику, но таких дети обычно не любят и побаиваются; разумеется, и сам дедушка мог обратиться к ним, да ему было стыдно: он не хотел признать, что его все обставили и хуже него никто не живет, — и Костя с Настечкой решили сходить к тете Дусе, которая работала в сельсовете.
Из-за бельма на глазу этой женщине не удалось выйти замуж, и когда дети попросили, чтобы она помогла дедушке получить паспорт, это ее тронуло, бедняжка чуть не заплакала, изнемогая от одиночества. И когда Дуся пришла к старику домой и сама предложила помощь, он, ощущая себя равным ей, таким же несчастным, взаимно растрогался до слез.
И эта Дуся, работая в сельсовете уборщицей, стала ездить в город и обивать там пороги. Как раз время наступило такое, что на Кузькина посмотрели сквозь пальцы, — никто у Дуси не поинтересовался, почему у Кузькина нет паспорта. А старик боялся, не знал, что ответить, если у него спросят, как прожил жизнь, и не мечтал, что все обойдется. Может быть, очень важным оказалось то обстоятельство, что Дуся хоть и работала уборщицей, да не где-нибудь, а в сельсовете, и это определило все. Тем не менее, в стране не хватало бланков паспортов, и Кузькин получил паспорт только осенью.
Как раз должны были состояться выборы. Не имея раньше паспорта и не будучи прописан, старик не участвовал в этих мероприятиях и теперь, когда из почтового ящика вынул приглашение, стал ожидать выборы с нетерпением и попросил жену приготовить лучшую одежду. И старуха поддалась его настроению — ведь долгие годы они жили уныло, и вот сейчас предоставился случай.
Когда долгожданный день наступил, Кузькин взял жену под руку, и они отправились на избирательный участок, однако на улице не встретили ни одного человека — никто не видел их счастья. За годы советской власти эти выборы, когда уже в шесть утра агитаторы палками стучали по стенам, так надоели, что едва людей оставили немного в покое, они, сознавая, что по-прежнему над ними те же фальшь и обман, сидели дома.
На избирательном участке скучали за длинными столами члены комиссии, и, когда появились старики, вышло им развлечение; они обрадовались несчастным и подмигивали друг другу, подхихикивали. Кузькин не мог сообразить: за кого голосовать, куда подойти, как встать, куда бросать бюллютень, а его Варя вообще была женщина темная. И он, и она все сделали, как им сказали, и рады были, довольны собой, что все правильно сделали, как положено, и, вышедши с участка на улицу, побрели по берегу замерзшей реки в гости к Дусе.
Вслед выехали три милиционера на белых лошадях, за ними увязалась крохотная такая же белая собачка — тявкала на лошадей и на милиционеров; те смотрели вдаль, на линию горизонта — все так голо и пустынно, и если бы не комнатная белая собачка на берегу замерзшей реки, — совсем было бы страшно.
Пока Дуся расставляла на столе посуду, смотрели в окно, где посыпался снег, и это было хорошо, прекрасно, и можно было так всю оставшуюся жизнь просмотреть, да только старик на избирательном участке, переволновавшись, вспотел, у реки его продуло, и он поспешил разлить вино. Оно оказалось такое горькое, что даже старик скривился. Дуся где-то вычитала, что вино подливают в чай, и они решили попробовать.
Пока закипал на плите чайник, смотрели, как падает за окном снег. Наконец вода закипела, заварили чай, разлили по кружкам, капнув в них этого отвратительного вина, и напиток получился изысканный.
Как отправились обратно — ветер переменился, опять дул в лицо; вместо снега начался дождь — прежде снег был теплый, а дождь брызгал — холодный, ледяной. Старик еле волочил ноги, почувствовав, что заболевает, и горячий чай с вином не помог.
Дома старик поскорее улегся в постель и позвал жену. Варя потушила свет, разделась и легла рядом с ним, хотя они уже не спали вместе. Кузькин обнял ее и поцеловал, и старуха, счастливая, быстро уснула, а он не мог уснуть, ощущая, как сердце прыгает в груди.
2
Назавтра он получил первую свою пенсию. Обрадовавшись, Кузькин сразу купил бутылочку, затем подумал и спрятал от жены деньги. Но, после того как выпил эту бутылочку, ему опять стало плохо. Когда Костя и Настечка узнали, что старик заболел, они решили, пока не поздно, еще раз сходить к дедушке, потому что если он умрет, никогда они уже не получат свою шоколадку. Конечно, им было очень страшно идти сейчас к нему, да откладывать нельзя, они даже решили прогулять в школе уроки и, когда вышли из своей деревни, услышали на мосту, как в церкви на другом берегу зазвонили в колокольчик, очень бодро, и весело, и настойчиво. Хотя небо висело пасмурное, неподвижное, свежая белизна снега ослепляла, и пелена на небе истончалась, готова была прорваться, и на нем собиралось просиять солнце.
Перед тем как зайти к дедушке на другом берегу, решили сходить в церковку помолиться, чтобы старик вернул шоколадку. Там из распахнувшихся «царских врат» шагнул священник, благословляя, и — шепотом, едва слышно запел. Широкое, бородатое лицо его ярко горело, и на иконах в этой церковке святые раскраснелись — такие же круглолицые. Вдруг слышно стало, как потрескивают свечи, и батюшка продолжал шепотом молиться. И над иконами, над батюшкой, над его слабым простуженным голосом летала в благоухающем дыму от кадила, ожила зимой у алтаря бабочка, трепыхалась в волнующемся воздухе. Между словами батюшки стало тесно, и, не понимая, о чем он поет, дети растерялись. Народу в церковку набилось много, и когда дети выбрались из нее, ослеплены были выпавшим, пока они молились, снежком, который освежил, обновил все вокруг, и у Настечки закружилась голова. Костя поддерживал сестру, чтобы не упала в обморок, и от нее промелькнула к нему отчетливая мысль, что дедушка заболел, как только получил паспорт, и если бы не получил его, остался бы здоров, и зачем они попросили тетю Дусю.
После церковки дети еще сильнее стали бояться, и запели про себя, как бы стыдясь своей слабости, и, вошедши в дом, подошли к кровати, на которой лежал под одеялом старик.
Он похудел, осунулся, под глазами появились синие круги, и взгляд у старика уже направлен был куда-то очень далеко, где ни страха, ни страданий, и — как ужасно это ни оказалось — любопытство перед смертью у детей возрастало. Бабушка ходила от одной стены к другой и посматривала в окно, ожидая врача. В такой обстановке нельзя было напомнить дедушке про шоколадку, еще прошел час, и старуха, переволновавшись, села на стул у окна и, глядя в него, уснула, положив руки на подоконник и на них голову.
— Сразу купил бутылочку, — старик повернулся к внуку и внучке, — а после того как выпил, забыл, где спрятал от бабушки деньги, — пробормотал он. — Теперь придется ожидать следующей пенсии.
Услышав сквозь сон про пенсию, бабушка Варя подхватилась — и во сне ли, наяву увидела ангела. Дети спрятались от нее за шкаф и не увидели этого ангела, которого увидела бабушка. Но она моргнула — и ангел исчез… У старика по щекам пролились слезы, и он, застыдившись их, повернулся к стене.
Выглянув из-за шкафа, дети увидели слезы и выскользнули из дома. Во дворе Костя схватил за руку сестру. Настечка в недоумении оглянулась, а он показал ей на березу у сарая. После того как на улице спилили деревья, эта береза во дворе осталась одна и возвышалась над заснеженными крышами. Девочка подняла голову и ахнула, а Костя вместо слов сжал еще сильнее ей руку. На каждой ветке сидела розовогрудая птичка с хохолком — это были свиристели; они всегда неожиданно появлялись зимой, прилетали целой стаей; при виде их возникала в душе радость и оставалась надолго. Костя с Настечкой задумались, почему свиристели прилетели к старику во двор и уселись на его березе именно в этот час и в этот день?
Дети побрели в свою деревню на другом берегу, молча, глядя в землю; начинало вечереть, небо посинело, нахмурилось, и — они простили старику шоколадку и не вспоминали про нее никогда.
3
После поминок, когда все разошлись, бабушка Варя стащила с себя дырявые сапоги — весь день на ногах, и они промокли насквозь, — поставила сапоги сушиться у печки, сняла чулки и повесила их на веревку, протянутую от печки к стене, а перед тем как лечь в постель, вспомнила: не все еще сделала, что нужно, и, не зная молитв, первый раз в жизни поклонилась перед иконой, даже не зная, кто изображен на ней — круглолицый, румяный и молодой.
Намаявшись за этот тяжелый день, она легла — будто под землю провалилась, а под утро видит сон: въезжает во двор машина с дерьмом и остановилась у сарая. Из машины выпрыгнул мужчина в расцвете сил, но она знает, что это ее старик, только он все время поворачивается спиной, затем открыл сарай и стал что-то искать на полочке у верстака.
Старуха подхватилась, вспомнив из сонника, что «дерьмо — это к деньгам», набросила поверх ночной рубашки пальто и босиком, по снегу, выбежала во двор и в сарае, под полочкой у верстака, нашла пенсию мужа. В доме старуха пересчитала деньги и не могла в себя прийти от радости, и все же надо было как-то дальше жить — она увидела, что не прибрана постель, и стала ее застилать. Тут неизвестный ей святой с иконы сказал, что она не так положила подушку.
— А куда? — она спросила.
Он сказал, и старуха положила туда, куда он сказал. Белая подушка отразилась в зеркале — стало светлей в комнате, и еще стало тепло от этого света и сладко запахло. И при таком счастье она вспомнила про шоколадку, пошла в магазин и купила самую дорогую и еще резиновые сапоги. Она пришла домой, натянула на ноги сапоги, а шоколадку положила на полочку под иконой. Старуха сидела, счастливая, в сапогах, и смотрела на шоколадку, и ей так захотелось попробовать, что она не вытерпела, распаковала и отломила кусочек; после этого отдавать ее детям было стыдно, и она весь день отламывала по кусочку и сама съела шоколадку, а вечером прямо в новых сапогах легла в постель и сладко уснула.
Назавтра она проснулась в слезах. Она вспомнила, как намучилась за жизнь с пьяницей Кузькиным, и не могла забыть его изможденного лица, когда старик болел, и, чтобы развеяться, отправилась к соседям, где застала дома одну девочку хромоножку. О чем разговаривать с ней старухе после похорон мужа? — и она повернула назад, но девочка остановила ее. Хромоножка рассказала, что ей приснился старик — пел веселые песни, и, когда девочка спросила: ну, и как вы сейчас поживаете? — он ответил: ты не представляешь, как мне здесь хорошо!
День рождения папы
Папа сделал вид, будто не замечает Сашу с девушкой, а тетя Маша не знала, что сказать, и захихикала. Саша поставил чемодан и предложил Асе сходить на речку. Они спустились с крыльца, и Саша задумался — на каждом шагу надо было задумываться. Убирая в доме, тетя Маша открывала окна и ведрами выбрасывала через них мусор, и за несколько лет, как папа привел эту женщину после похорон мамы, во дворе образовалась свалка вровень с заборами — и к речке лучше было пройти по саду.
Ася оглядывалась по сторонам и восторгалась.
— Ты знаешь, что есть другая жизнь? — спросила у Саши девушка и, не дожидаясь ответа, начала рассказывать: — Однажды я упала в обморок — и помню: мне было хорошо; там было, как здесь, — она обвела глазами берег, — и я танцевала, и я не одна — вот это и была другая жизнь.
Из деревни послышалась музыка; тишь вокруг такая, что все слова у песни слышны.
— Давай потанцуем, — предложил Саша, оглядываясь.
— На песке? — удивилась Ася. — Если я стану танцевать, — покачала она головой, — это будет уж вообще… Я очень хорошо запомнила другую жизнь, и мне страшно.
— С кем ты там танцевала?
— Я его не встречала в этой жизни — он был только там; я танцевала с ним — и вдруг упала, когда Аля начала меня спасать. Я очнулась от боли, что ударилась.
— Аля — твоя сестра?
— Мы с ней двойняшки, — похвасталась Ася.
С грустью Саша заметил, что песок зарастает травой. В деревне не стало детей, никто здесь не купается, не топчет этот песок — вот он и стал зарастать, тут Саша опомнился, что сам не ходит сюда, и — решил не переставать сюда ходить.
Возвратились уже к вечеру, поужинали; надо было ложиться спать, а кровать в его комнате стояла только одна. Саша спросил у девушки: не полюбила ли она его.
— Я скажу, когда почувствую, — ответила Ася, и — постелили валетом. — Ты ложись, — добавила она, — а я почитаю в саду книжку.
— Уже темнеет, — заметил Саша. — Нет, это ты ложись, а я побуду пока во дворе.
— Нет, — сказала она. — Это ты должен первый заснуть.
— А если я не засну?
— Заснешь.
— А если я проснусь, — сказал он, — когда ты будешь ложиться?
— Я буду так ложиться, — сказала Ася, — что ты не проснешься.
В сарае была розетка. Саша подключил к ней удлинитель и вынес в сад настольную лампу. Ася осталась читать книжку, а он отправился домой спать. Ему приснилось, что в саду печь — бабушка топит ее, ступает в валенках по траве неслышно, и — Саша не услышал, как Ася пришла и легла рядом.
Утром собрались на улице соседи. Они ночью не спали, а наблюдали из окон, как Ася читала в саду под настольной лампой. Соседи знали, какая в сарае электропроводка, и боялись пожара. Папа молча выслушал их упреки, а когда соседи разошлись, спросил у Саши:
— Кто эта девица тебе, что ты привел ее сюда? Я не позволю, чтобы в моем доме… — и старик не находил слов для возмущения.
Тут Саша не выдержал:
— А кто тебе тетя Маша?
Папа заткнулся, не зная, что ответить, а тетя Маша шагнула в сторону — решила удалиться, но наступила на перегоревшую электрическую лампочку, что валялась под ногами вместе с консервными банками и рваными галошами. Лампочка чпокнула, и все оглянулись, а несчастная женщина покраснела — недовольная тем, что привлекла к себе внимание; тут же стояли грабли — она взяла их и смахнула осколки в сторону.
— Можно представить, — прошептала Саше девушка, — что твой папа подумал о нас, но самое ужасное, что и мы то же самое о них думаем. — И она добавила: — А ты пойди, милый, погуляй — там, где вчера; я же чувствую, знаю: ты хочешь побыть один, и — там не неволь себя… Я не буду скучать — лишь бы тебе было лучше.
Саша вернулся в сумерках. В саду настольная лампа освещала девушку. На лице у нее блестели слезы. Она плакала, не зная, что Саша ее видит, и он понял: нельзя ей помешать поплакать. Стараясь, чтобы не скрипнули ступеньки, он поднялся на крыльцо и тихонько притворил за собой дверь. Раздевшись, лег в постель, а когда пришла Ася, на этот раз проснулся и не смог больше уснуть — лежал рядом с девушкой, затаивая дыхание, и всю ночь промучился, боясь пошевелиться. Только под утро заснул и, если бы не гудение на улице, проспал бы до обеда, а так вскочил и выглянул в окно.
Автомобильный кран поднимал над деревьями железную будку с какой-то старой списанной машины, затем начал опускать ее во двор. Саша оделся и, выйдя из дому, поздоровался с дядей Васей. Тот работал начальником цеха на заводе и решил подарить им эту будку.
Сбежались соседи посмеяться над папой — зачем ему она, а Саша, догадываясь, что дядя Вася не знал, куда деть списанную будку, поинтересовался:
— Наверно, она мешала вам на заводе?
— Нет, — ответил дядя, — она простояла бы там до скончания века.
— У нас столько земли, — восхитился Саша с горечью, — что все эти будки могут дожидаться скончания века — и тут, и там…
Кран опустил будку посреди двора — и папа, и тетя Маша начали восторгаться, радоваться ей — с окошками, лесенкой и надписью: люди. Папа открыл дверь, чтобы соседи заглянули. Они поднялись по лесенке, изумляясь, а тетя объявила, что ей сейчас будет где хранить муку и крупу — в железную будку не заберутся мыши. Еще в ней привинчены были к полу скамейки.
— Из них, — решил Саша, — можно устроить кровать.
И он стал в этой будке спать. Все равно в мешках тети Маши завелись мыши. Саша, просыпаясь, слушал, как они попискивают, и думал о девушке, которая не могла его полюбить. Рано утром, когда Ася спала, он уезжал в город, но вечером спешил назад. Девушка ожидала его, и он был рад, что она его ждет. Так прошло лето, и наступила осень. В железной будке стало холодно спать, и Ася, когда отправились подальше на речку, наконец поцеловала его.
— Мне кажется: вот-вот уже, надо немножко подождать. — И вздохнула: — Как трудно ждать!
Назавтра Саша сел на велосипед и поехал по деревне. На лавочках сидели старики, и когда он, останавливаясь, спрашивал у них, где продаются дома, — показывали: и там, и там, и этот, и вот этот тоже. Дома продавались через один, и чем дальше Саша ехал, по другим деревням, — все больше там продавалось домов, и — земля там была зеленее, а небо голубее, чище, звонче; все становилось ярче — как в детстве; он будто въезжал назад, обратно, в свою жизнь, и — удивлялся; становилось все тише и тише — и солнышко грело сильнее. И когда Саша запел — навстречу попался босой мужичок. Саша спросил и у него про дома.
— Пошли, — мужичок нес в руках начищенные сапоги, — как раз я иду в ту сторону. Покажу.
С утра он успел выпить и, может, рассчитывал, что хозяева дома, который продается, еще дадут ему, а может, после нескольких рюмок доброта его переполняла; он готов был услужить каждому. Когда подошли к большому дому с крылечками со всех сторон, с балкончиками, — они сразу же понравились Саше. Вышла хозяйка и показывала комнаты как бы нехотя, с недовольством, и Саша услышал за спиной, как она прошептала босому мужичку:
— Кого ты привел? Кто это на велосипеде приезжает покупать дом, да еще такой? Ты что — совсем уже? — укоряла она его. — Что это за сапоги?
— Купи! — он предложил.
— Разве ты не видишь, — хозяйка его будто не услышала, — что этот не купит.
Мужик сразу же загрустил, и, когда пошли обратно, Саша почувствовал себя виноватым перед ним и, ведя в руках велосипед, пытался разговорить беднягу — только сам перенял грусть; проходили мимо церкви — зашел в нее и поставил свечку.
Когда приехал домой, тетя Маша отдыхала после обеда. Увидев Сашу, она поднялась и сообщила ему:
— Мне приснилась твоя бабушка в светлом платье с мальчиком. Ожидать надо чуда, — добавила тетя, — потому что в светлом платье.
Саша не сказал ей, что поставил в церкви свечку, и спросил у тети:
— Разве вы знали мою бабушку?
— Да, — покраснела тетя Маша. — Твой папа привозил меня, когда еще не познакомился с твоей мамой.
Стало жалко тетю, и Саша подумал вслух:
— Какое в нашей жизни может быть чудо?
Назавтра в город с ним поехал папа. Ему зачем-то понадобилось свидетельство о смерти дедушки, которое потеряли, а может — его никогда и не было, и сразу пошли в загс. Там выстроилась длинная очередь.
— Сынок, — заметил папа, — у меня сегодня день рождения.
Саша догадался, что папа не за свидетельством поехал, а выпросил у тети Маши деньги и решил отпраздновать в городе день рождения. Саша вспомнил сон тети Маши и разгадал, почему бабушка в светлом платье с мальчиком. Папа отлучился на полчаса и вернулся выпивший. Настроение у старика приподнялось, и к тому же между серыми зданиями учреждений выглянуло солнышко. Папа все больше радовался, и Саша рядом радовался. Перед ними в очереди переминались парень с девушкой — решили подать заявление, чтобы пожениться, и, когда парень отлучился — тоже, наверно, за бутылочкой, — Саша дернул девицу за рукав.
— Вот интересно, — заметил он, — мы свидетельство о смерти берем и — радуемся, а вы — вроде бы на такое жизнеутверждающее дело заявление подаете — и загрустили.
Девица очень призадумалась, выслушав Сашу, а когда пришел жених, — оттопырив назад большой палец, она показала за спиной:
— Смотри, эти — свидетельство о смерти берут и — радуются, а мы… — и она уже ничего не могла добавить; как раз их позвали писать заявление.
На улице все ярче сияло солнце, и Саша не удержался — выбежал вздохнуть; пока огляделся — тусклая пелена заволокла небо. Едва не вскрикнул, не ожидая увидеть Асю — она же осталась в деревне, и — обрадовался, шагнул к ней, но девушка испугалась, и он догадался, что это ее сестра-двойняшка.
У него было такое лицо, что эта девушка невольно остановилась. Саша вспомнил, как ее зовут, и прошептал одними губами ее имя. Сначала Аля засмеялась, будто они давно знакомы, и вдруг посерьезнела, поняла: все это не просто так, и внимательно посмотрела на Сашу, а он глаз с нее не сводил, почувствовав, что и она вдруг захотела того, чего он захотел, и ей страшно.
За кирпичными, в несколько этажей, домиками начались деревянные; между ними зарябила в ветреный день река. Еще чуть пройти — и можно оказаться наедине. Сквозь ржавые скелеты автомобилей проросли кудрявые кустики, за ними насыпаны горы битого стекла. На берегу горели костры. Вокруг прокопченные у огня бродяги пили вино, а другие спали, готовые свалиться в воду. Стараясь не смотреть на бродяг, Саша с Алей побежали от костра к костру, но тропинка круто начала подниматься; едва вскарабкались на гору, и — внизу опять костры до самого моста. Ноги с горы запрыгали сами; перебравшись через шоссе, Саша с Алей увидели низкий берег, затопленный водой, и побрели назад. Почувствовав изнеможение, посидели у пыльной дороги, наблюдая за гудящими машинами, когда хотелось сладкой тишины, как на кладбище.
Поднялись и опять пошли, и опять обессилели — как раз у ресторана. Рядом парк, перед рестораном цветник — в нем увядшие астры; дорожки чисто подметены. Саша с девушкой осторожно забрели в ресторан и сели за столик. Оба первый раз в ресторане; раскрыли меню и стали читать — но не так чтобы очень заинтересовавшись, а чтобы убить время — есть совершенно не хотелось, и когда подскочил официант, Саша пробормотал, что еще не выбрали. Официант, конечно, сообразил, кто перед ним, и, ухмыльнувшись, отошел.
— Между прочим, — признался Саша, — у меня нет денег.
— Не волнуйся, — успокоила его девушка, — у меня есть немножко. Что ты будешь?
— Я не могу захотеть, — пожал он плечами.
Вдруг Аля пробормотала ему в ухо:
— Хочу к тебе в деревню…
Когда выбежали из ресторана — так нахмурилось, что не узнать парка, даже в цветниках другие астры. Хлынул дождь. К остановке приближался трамвай; вскочили в него — пустой. Приехали на привокзальную площадь — и там никого, ни одного человека, — так бывает иногда посреди дня в самом оживленном месте.
На вокзале не протолкнуться — от дождя спасались все те бродяги, что у костров пили вино на берегу реки. Они громко разговаривали друг с другом — запотевшие стекла в окнах дребезжали от оживленного гула, и чувствовалась яркая какая-то радость этих проснувшихся людей.
Тут засвистела электричка. Саша с девушкой поспешили на перрон и поехали без билетов. За окнами замелькали голые деревья, а в вагоне летали птички. Саша открыл окно, чтобы они вылетели, но птички не могли вылететь, и от ветра в лицо хотелось хохотать.
— На какой остановке выходить? — поинтересовалась Аля.
— Через одну, — ответил Саша, наблюдая за птичками, и когда девушка, поднявшись, напомнила ему, — вскочил и тут же сел. — Сядь, — и ей пробормотал: — Я забыл, что купил дом. У меня поэтому и нет денег, — пояснил он. — Еще через одну!
Аля слишком была взволнована, чтобы обрадоваться, что он купил дом. Ей хотелось скорее на воздух, где легче вздохнуть. Наконец они приехали. Из всего поезда вместе с ними сошли старичок со старухой. Когда электричка исчезла за поворотом, старухе сделалось плохо. Она легла прямо на перрон, и у нее изо рта поплыли пузыри. Старичок стоял над ней, растерявшись. На другой стороне платформы из будочки, в которой продавали билеты, высунулась кассирша и закричала, что у нее есть валидол. Саша спрыгнул на шпалы и побежал за таблеткой. Ее засунули старухе в рот — больше ничем нельзя было помочь, и Саша тогда решил помолиться. Вскоре старуха пришла в себя — ее подняли, поставили на ноги. Старичок взял жену под руку, и они побрели по платформе, а Саша, глядя им вслед, подумал, что старушка побывала в другой жизни.
Саша привел Алю в новый дом, однако после того как едва не умерла старуха, им уже ничего не хотелось; к тому же в доме становилось видным дыхание. Надо было протопить печку, но дров Саша не успел заготовить. Опять забарабанил по крыше дождь — они выбрали по окну и уставились на голый, мокрый сад.
Под деревьями лежали последние яблоки. Саша взял ведро, выскочил из дому и под проливным дождем выкрутил из колодца воды. Аля нарезала хлеб и колбасу, что догадались взять с собой, зачерпнула кружкой из ведра и включила кипятильник. Они наконец поели, попили чаю, но веселее не стало — разве что немножко; хотелось как можно быстрее отсюда выбраться, да только дождь не переставал.
— Что ты любишь делать в такую погоду? — спросил у девушки Саша.
— Гулять, — вздохнула она, — что еще можно делать в такую погоду?
С потолка закапало, затем полились струи. Саша полез на чердак, а когда спустился вниз, осознав, что хозяева подставили его с крышей, — девушки в доме не оказалось. Сначала он подумал, что Аля гуляет под дождем, но дождь прекратился, начинало темнеть, и Саша понял: она ушла, уехала, и — вздохнул с облегчением, потому что нельзя им остаться здесь вдвоем.
Саша переночевал в новом доме, а назавтра, проснувшись, вскочил — не соображая, где он, — потом глянул в окно. Собираться не надо было; вышедши на дорогу, почувствовал себя уверенней: пока идешь — знаешь, куда идешь; а когда сидишь у окна — не знаешь, зачем живешь. И ему захотелось встретить кого-нибудь, поговорить, но в деревнях поздней осенью лишь кое-где из трубы вьется дымок.
Он пришел домой — старики обрадовались ему, и Ася, смахнув слезы с глаз, воскликнула:
— Как долго я тебя ждала! Где ты пропадал?
И она так на него посмотрела, что Саша все понял, и ей не надо было про любовь говорить — что про нее можно сказать? — но у него на душе было пусто, так пусто, что ему показалось невозможным сказать об этом девушке, — он только старался не смотреть ей в глаза, чтобы не выдать себя.
Они побрели к речке, где песок на берегу.
— Не печалься, — сказала Ася, — что он зарастает. Пошли дальше!
В деревне опять заиграла музыка.
— Это уже было в другой жизни, — оглянувшись, заметил Саша.
— Пусть будет и в этой, — махнула Ася рукой.
Опять накрапывал, начинал дождь. Все было очень голо и одиноко в природе. И Саша подумал: скорее бы пошел снег — будто, если он пойдет, может что-то измениться в нашей жизни…
Дождь на новый год
В одной руке у меня сумка с хлебом, а другой обнимаю Сонечку. Начинает темнеть, а на улице полно детей со светящимися от батареек игрушечными саблями. Сонечка закрыла глаза — и я закрыл; губами чувствую — она улыбается, и я тоже не выдержал, а улыбаясь, не получается целоваться. Открываю глаза, и Сонечка открывает — в ее зрачках искры от светящихся сабель. К остановке подъезжает трамвай. Мы побежали к нему мимо палатки, где продают сабли. Рядом поставили деревянную лошадь, а грива и хвост у нее из лески — и со свистом, будто из настоящего конского волоса, развеваются на ветру. Если бы не спешили на трамвай, купить бы светящуюся саблю, сесть на лошадь и поскакать на ней, махая саблей. Но мы успели вскочить в вагон, и там мальчик с саблей.
— Сколько она стоит? — спрашиваю у папы мальчика и тут же — к Сонечке: — Чего улыбалась?
— Ты что — не заметил? — удивилась она. — Рядом с нами стоял милиционер.
— Не заметил, — и я удивился.
— Его там поставили, — продолжала Сонечка. — Он не мог никуда уйти и нехотя подсматривал.
Я так остро почувствовал счастье, что даже испугался, когда всякий мог подглядеть. Мне казалось — все вокруг смотрят на нас. Я вспомнил, что мы сейчас расстанемся, и загрустил. Глядя на меня, и Сонечка опустила голову. Со лба прядь упала ей на глаза, а Сонечка не замечала, и, когда моргала, ресницы цеплялись за волосы.
— Какие у тебя кудри! — восхитился я, поправляя ей прическу. — Черные, как у вороны крыло.
— Нет, — возразила Сонечка, — темный, очень темный каштан! Присмотрись, — улыбнулась.
— Завтра присмотрюсь, — прошептал я, целуя ее на прощанье.
— У меня сжимается сердце, — вздохнула она, выходя на остановке.
— И у меня, — сказал я.
Трамвай покатился по рельсам среди деревянных домов, как в деревне. На черные голые деревья посыпался снег. Люди выходили, скоро я остался в вагоне один. Ветер гулял в пустом трамвае. Глядя в окно, я увидел, как в церкви мигают свечи. Я вспомнил про счастье, выскочил на остановке и, зайдя в церковь, тоже поставил свечку. Сквозь дырявые окна с каждым порывом ветра залетали снежинки. Пламя от моей свечки заметалось, я опустился на колени и лбом прижался к ледяному полу.
Подойдя к дому, где снимал у дяди Гриши комнату, еще с улицы увидел, как на крыльце, прямо на ступеньках, в снегу сидит мой хозяин. Когда я открыл калитку, увидел возле него собаку.
— Посиди с нами, — сказал дядя Гриша.
Я сел рядом и погладил собаку. За домом не дул ветер, а на улице снежные вихри, сталкиваясь, вдруг рассыпались, и — выскочит между туч звездочка.
— Когда сыпучий снег, — закряхтел дядя Гриша, — к морозу. — Опираясь о перила, он поднялся. — Надо перенести кур в подпол.
Старик побрел к сараю, и я вскочил, отряхнувшись от снега. В сенях ничего не видно, побил веником как попало по ботинкам, а в доме — сразу к печке. Я вспомнил, что так и не договорился с Сонечкой, во сколько встречаемся завтра, и позвонил ей по телефону.
— Ты поужинала?
— Нет еще, — ответила она, и я тут услышал, что плачет ребенок.
Я ничего даже не подумал — мало ли чей может быть ребенок, а он проплакал весь наш разговор. Мы так и не решили, куда завтра пойдем; договорились встретиться с утра.
Пока я разговаривал по телефону, дядя Гриша перенес из сарая в подпол кур, а когда вошел в дом, не успел раздеться, во дворе завыла собака. Он испугался, подскочил к окну и ногтем застучал по стеклу. Я вспомнил, что от старика ушла жена, и пожалел его. Мы поужинали, каждый думая о своем. Затем дядя Гриша поплелся в школу, где работал сторожем, а через минуту позвонила по телефону тетя Маруся и, узнав, что мужа нет дома, притащилась за шубой. Осеннее пальто тетя оставила в шкафу и перед тем, как надеть шубу, напялила на себя пять кофточек. Когда она ушла — только я начал стелить постель, — опять завыла собака. Я догадался постучать ногтем в окно.
Когда еще было совсем темно, я проснулся от «кукареку». Я вновь задремал и не раз сквозь сон слышал в подполе петуха. Наконец дядя Гриша пришел с дежурства и начал укладывать в печке дрова. Даже в теплой постели чувствовалось, что на улице большой мороз; в лучах восходящего солнца окна в узорах заискрились.
Когда потрескивают поленья в печке, уже не так страшно вылезать из-под одеяла. Дядя Гриша поставил чайник, и мы вместе позавтракали. Я не знал — сказать ему про жену или лучше промолчать. А старик полез в шкаф и, я думал, сейчас спросит про шубу, но он вытащил новенькую телогрейку и стал натягивать на себя.
— Куда это принарядились? — поинтересовался я.
— Пойду мириться с женой.
Я тоже оделся, и мы вместе вышли. Вдыхая колючий ледяной воздух, я зажмурился от яркой белизны. С голубого неба не снег сыплется, а сияющая в лучах солнца пыль. В калитке старик обернулся и помахал собаке пальцем. Она, гремя цепью, полезла в будку. Переходя по мостику через речку, я тоже оглянулся — прогибающиеся под снегом ветки не отражаются в черной застывающей воде. Тихо плещут волны, накатывая на ледок у берега. Снег жестко скрипит под ногами, когда ступаешь по промерзлым доскам на мосту. На другом берегу школа — за нами увязались дети с петардами.
— Отстаньте! — оборачивается старик. — А то расскажу директору.
— Лучше не обращайте внимания, — советую, а самому жутко, когда за спиной — как ахнет, но я не оборачиваюсь.
— Поэтому перестал брать с собой собаку, — объясняет дядя Гриша. — Очень боится, когда стреляют… Ладно, — стащил варежку, протягивая руку, — пока…
Он свернул в переулок — мириться с женой, которая жила теперь у дочки, а я через школьный двор попал на большую улицу. Дорогу завалило снегом — ни одной машины; в тишине раздался звоночек приближающегося трамвая. Вскочив в вагон, я осторожно уселся на холодное сиденье, в оледеневшем окне выцарапал кружочек и не мог оторваться. От яркого солнца слезятся глаза. Я увлекся, глядя в кружочек в окне, но что-то он быстро запотевает — не успеваю оттирать; оглянулся — вагон забит народом. Я поднялся, но ни одна женщина не пожелала сесть — отвернулись, а когда на остановке вошла старушка и села на мое место, я обрадовался. Она оттерла «мой кружочек» и воскликнула:
— Ах!..
Выйдя на площади, я не успел замерзнуть, как Сонечка приехала следующим трамваем, и — сразу же:
— Куда?
— В цирк.
— Во сколько представление?
— Не знаю, — пожал я плечами.
— Я хочу тебе что-то сказать.
— Давай сначала займем очередь за билетами.
— Нет, я не хочу в цирк, — передумала Сонечка. — Лучше в театр.
Перешли через площадь.
— Нет, в театре скучно, — говорит, — давай в кино.
— Почему бы и нет, — соглашаюсь.
— Да, — кивнула и тут же: — Нет, я сегодня не завтракала — зайдем в кафе.
Пошлявшись по морозу, приятно очутиться в тепле.
— Где сядем?
— У окна, конечно.
Сели у окна.
— Дует.
Сели за другой столик.
— Я люблю круглые.
Когда сели за круглый — подошла официантка.
— Что будешь? — спрашиваю у Сонечки.
Она взяла меню, начала листать.
— У вас нет обыкновенных сосисок?
— Извините, — пробормотал я официантке. — Мы еще подумаем.
Сонечка вытянула из вязаной кофточки нитку и дер-гает…
— Чего грустишь? — спрашиваю.
— Подслушиваю разговор.
Я оглянулся на парня, который признавался девушке в любви, и мне стало его жалко.
— Зачем подслушивать?
— Я пишу рассказы, — объяснила Сонечка, — и такого не выдумаешь.
Оттого, что она пишет рассказы, у меня помутилось в голове, как от вина. Сначала я хотел сказать, что и я — тоже, но подумал и промолчал.
— Ну, и что ты хотела сказать? — вспомнил я.
— Я хотела сказать… — начала Сонечка и — не говорит.
— Ну и не говори!
— Почему? — встрепенулась она. — Почему ты у меня ничего не спрашиваешь?
— Я никогда ничего не спрашиваю, — объяснил я. — Ни к кому не хочу лезть в душу и не хочу, чтобы ко мне лезли; поэтому не спрашиваю. — А сейчас спросил: — Это твой ребенок плакал, когда вчера разговаривали по телефону?
— А чей же?
— Ну, и хорошо, что у тебя есть ребенок.
— Мне надо было с самого начала все рассказать, — пожалела она, — но я сама не решалась, а ты не спрашивал.
Опять подскочила с блокнотом официантка, приготовилась записывать.
— Уже ничего не хочу, — вздохнула Сонечка.
Мы оделись и вышли на улицу; мороз хватает за щеки, скорее натягиваю перчатки.
— У тебя мальчик или девочка?
— Девочка.
— Ты любишь папу твоей девочки?
— Ненавижу!
— Он часто приходит?
— Очень редко.
— Когда он был в последний раз?
— Летом.
— Тебе не холодно? — пожалел я Сонечку. — Может, вернемся в кафе?
— Нет, — ответила она. — Хочу вспомнить детство — тогда зимы были морозные.
Я тоже вспомнил детство.
— Уже нет мамы и папы, — загрустил я, — но я всегда ощущал их рядом, а сейчас, — признался, — они будто куда-то уехали — и без них очень тяжело стало жить.
Сонечка молча брела, глядя под ноги, чтобы не поскользнуться, — у нее еще жива мама, и не знаю, понимала ли она, о чем я. Одетую легко — ее затрясло, а я продолжал про маму и папу, и меня тоже стало трясти.
— Ты думаешь — я знаю, как жить? — пробормотала Сонечка; тут у нее в сумочке зазвонил телефон.
— Это он? — догадался я.
— Да, — смеется.
Мне слышно, как он спрашивает:
— Почему смеешься?
— Стою за хлебом, — не задумываясь отвечает Сонечка, — анекдот в очереди рассказывают.
Я изумился, как легко она врет и непонятно зачем.
— Почему слышно, как машины ездят? — еще спросил он.
— Я не в магазине, — продолжала Сонечка, — а покупаю в ларьке на улице.
Я отошел в сторону, чтобы не подслушивать, и, отвернувшись, глядя, как по улице едут машины, не видел, как они едут. И не заметил, как Сонечка появилась сзади и не дышит; она погладила меня по плечу, и я еще сильнее загрустил.
— Как он почувствовал! — удивилась Сонечка, пряча телефон в сумочку. — Я ему все рассказала.
— Ну, и чего ты рассказала? — и я удивился. — Ведь ничего и не было.
— Теперь нам лучше расстаться, — пробормотала Сонечка, направляясь к остановке, и я за ней перебежал через улицу.
— Зачем ты рассказала?! — не могу понять. — Он сегодня придет?
— Не придет, — уверенно заявила.
— Почему?
— Потому что в эту ночь встречают Новый год.
— Понятно, — догадался я, — почему он никак не может на Новый год! — И тут же: — Неужели уже Новый год?
— Я не знаю, — пожала она плечами. — Зачем ты спрашиваешь? Ты же никогда ничего не спрашивал, и я за это люблю тебя.
— Что ты сказала? — прошептал я.
— А может, и придет, — чуть не плача добавила она. — Я ничего не знаю. Я у него ничего не спрашиваю.
— И ты его с лета ждешь?
— Я боюсь его ждать!
Сонечка, запрыгнув в трамвай, помахала рукой. Дверки захлопнулись, колеса покатились по рельсам, а я побрел сам не зная куда. Догоняю пожилую женщину, изумляюсь:
— Какой у вас роскошный букет!
— Это не мне, — оправдывается, будто виновата; покраснела, и я невольно подумал — какая и она когда-то была красавица. — Каждый день моей дочке дарит иностранец, — пояснила женщина, — а Маша его не любит.
Я понял, почему ей не жалко цветы в мороз, и повернул обратно. Проходя мимо магазина, увидел запряженную в сани лошадь. На соломе в санях лежало сбитое в ком байковое одеяло. Пьяный мужик взял его и попробовал постелить сверху на солому, но каждый раз, как поднимал, — ветер подхватывал одеяло, а когда опускал, — все равно оно сбивалось в ком. Мужик упал на солому и дернул за вожжи.
Я дождался трамвая, сел в него и поехал. Смотрел в окно и еще раз увидел пьяного мужика в санях. Лошадь бодро бежала по укатанному снегу, но трамвай ехал быстрее. По тротуару шагал счастливый молодой человек и нес елку. Рабочие развешивали на столбах разноцветные флаги, и даже из трамвая слышно, как они хлопают на ветру. Я вспомнил светящиеся сабли и — как утром дети стреляли из петард, а дядя Гриша пошел мириться с женой, — все это подтверждало, что наступает Новый год, но я не мог поверить.
— Извините, — спросил я в трамвае, — неужели в эту ночь Новый год?
На меня так посмотрели, что я больше не спрашивал. Трамвай проезжал мимо церкви, и я вспомнил, как вчера зашел в нее и поставил свечку. Как я вчера был счастлив и разве мог подумать, что произойдет сегодня…
Придя домой, поднимаясь на крыльце по ступенькам, увидел под ногами новую телогрейку дяди Гриши. На ней выгорела такая дыра, будто старику в спину выстрелили из пушки. Крыльцо залито водой, на морозе она замерзла, и я чуть не поскользнулся. От телогрейки еще подымался дымок. Я поднял ее, и, когда нес по двору, вспыхивали на ветерке искорки по краям выгоревшей дыры в вате. Я бросил телогрейку подальше в снег.
В доме помирившиеся дядя Гриша с тетей Марусей накрывали на праздничный стол.
— Что случилось? — не мог я сообразить, пока не вспо-мнил, как утром хохотали нам вслед школьники с петардами. — Я же говорил, — и сам невольно усмехаюсь, — не надо с детьми связываться.
После всего этого хочется уснуть и забыться. Я разделся в своей комнатке и лег, но не могу уснуть. Вдруг потемнело; я удивился, как быстро прошел день, а кажется, совсем недавно в самом лучшем настроении ехал на встречу с Сонечкой. Опять я подумал, что жизнь пошла куда-то не туда, и ее надо изменить. Я стал думать, что же сделать такое, но ничего не мог придумать. Я лежал с закрытыми глазами и все думал, думал, и, когда уже совсем отчаялся, — почудилось, будто дождь посыпался над рекой, зашипел вот так: шшшшшшшшь… На меня словно озарение нашло — я понял, что без этого шшшшшшшь… не могу жить. Я вспомнил покойных папу и маму и осознал: это не они умерли, а это ты, — сказал я себе, — сам не туда поехал — они же остались там, где были.
Я стал вспоминать, когда в последний раз слышал дождь над рекой. Я вспомнил себя мальчишкой в деревне. На улице поднялся ветер и спряталось солнце, а я вышел из дома. Можно еще повернуть обратно, а я, наоборот, ускорил шаг. Вот река, черная, — в ней отражается туча; на другом берегу сверкнула молния и загрохотал гром — купаться в грозу нельзя, но я бросился в воду и поплыл, и тут посыпалось: шшшшшшшшшь…
В доме захлопали двери, раздались голоса — собрались гости встречать Новый год. О том, чтобы заснуть, я уже и не мечтал. Дядя Гриша застучал в стенку — пришлось встать и одеться. Только сели за стол, как под полом пропел петух. Дети на коленях стали ползать по полу, глядя в щели между досками.
— Меня петух чуть в глаз не клюнул! — воскликнул один мальчик. — Ты видела? — толкает сестричку.
— А меня клюнул, — она подбежала ко мне и пальчиком показывает, — вот сюда. Видишь?
— Вижу, — отвечаю с завистью.
Чай в бумажном стаканчике
Сначала Коля доехал с тетей на автобусе до поселка. На железнодорожном вокзале тетя Дуня купила билеты; времени оказалось еще много, и она решила сходить на пристаньку. Спустились по улочке к реке и побрели вдоль берега, где насыпана была гора гравия и на рельсах кран черпал из нее ковшом и загружал баржу. Сразу за пристанькой в одном из дворов стоял в луже стол, накрытый пожелтевшими под солнцем газетами; на них — бутылка водки и тарелки с закуской. Тетя Дуня сказала, что реки сейчас не узнает, вода здесь потекла другая, но дали не изменились. Коля жил в лесной деревеньке и впервые сейчас увидел линию горизонта, а тетя Дуня начала узнавать воду и рябь на реке. Увидев, как ребята постарше купаются, Коля попросил у тети разрешения побродить у берега; разувшись, закатал штанишки и после того, как ступил в воду, почувствовал: она живая, течет, — и так был рад, что, когда вышел на бережок, пробежался от восторга, чувствуя, как колется травка. А тетя Дуня позавидовала ему, сказала, что прошли, идут годы, и — больше ничего не хочется другого, потому что ничего лучшего нет, — только вот трава теперь не та, какой она была когда-то. Жизнь изменяется, — сожалела тетя, — и люди меняются : у нее у самой нет уже ни матери, ни отца — и не у кого попросить разрешения побродить у берега; и — вот сейчас, когда подобные желания так легко исполнить, — заметила она, — приходит время, когда уже не можешь быстро бегать, и тогда хочется хоть немножко кого-то осчастливить рядом.
Пока тетя рассуждала, на небо наползла туча и готов был брызнуть дождь. Они поспешили вернуться на вокзал, но зря спешили — туча рассеялась, когда в зале ожидания посмотрели в окно. На скамейке напротив сидела конопатая женщина в шляпе с пером и с маленькой девочкой на руках. Тетя Дуня стала разговаривать с ней, а Коля понял, почувствовал, что ничего лучшего, чем на реке, уже не будет никогда. Ему все же удалось сохранить восторженное настроение, и — если не мог никого осчастливить, то пожелал хоть кому-нибудь сделать приятное, и — не знал, что сделать такое, и — заявил женщине в шляпе с пером:
— У вас смешная шапка!
— Посмотри на свою, — пробормотала конопатая женщина.
Тетя Дуня поинтересовалась у нее, куда она едет с дочкой.
— Я репетирую, — ответила эта женщина.
— Как это? — не поняла тетя.
— Собираюсь на отдых в Турцию, — начала объяснять конопатая. — Мне надо ехать на одном автобусе, на другом, затем на поезде, и я решила отрепетировать, чтобы не опоздать к самолету. — На лице ее появилось как бы предожидание счастья, и тут же женщина взгрустнула, ощутила, какое в жизни все хрупкое. И она созналась: — Я надеюсь встретить на курорте мужчину, а то у нас в деревне ни одного не осталось.
— Едете в Турцию с девочкой? — еще спросила тетя Дуня.
— Да, — кивнула женщина пером, — мне не с кем ее оставить. Смотрите! — воскликнула она. — Влюбился! — и, показывая на Колю, засмеялась.
Размечтавшись о Турции, мальчик опомнился, что смотрит с завистью на девочку, и покраснел.
— А я еще помню старый вокзал, — неожиданно и с грустью тетя Дуня возвратилась к прежнему разговору, и женщина в шляпе с пером перестала хохотать, вспомнив деревянный вокзал, — конечно, он был лучше нынешнего; тут маленькая девочка у нее на руках засмеялась.
— Что случилось? — удивилась конопатая мама, но ее дочка не могла так сразу перестать хихикать. — Чего ты? — еще раз женщина, недоумевая, спросила у нее, и тогда девочка ответила:
— Смеюсь вслед за тобой.
Наконец объявили посадку на поезд. В зале ожидания все зашевелились, поднялись со скамеек и потянулись к выходу на перрон. Конопатая достала билет, и тетя Дуня посмотрела — у них оказались разные вагоны, и на перроне женщины попрощались. По рельсам катился состав; на подножке рабочий в оранжевой куртке свистел в свисток. Коля начал считать вагоны, но ему почудилось, будто кто-то его позвал, и он сбился, оглянувшись, и еще оглянулся. Поезд остановился, отразившись в окнах вокзала, и в одном из них мальчик едва узнал себя в новом костюмчике.
На перрон шагнул проводник, взял у тети билеты; не успел как следует рассмотреть — вскочил обратно в вагон. Поезд покатился назад; в другой раз проехал мимо рабочий на подножке со свистком. Состав остановился, дернулся, опять приближается, но теперь проехал дальше. Тетя Дуня схватила мальчика за руку и потащила за собой. Проводник вышел из вагона, снова взял билеты, и Коля, запрыгнув за тетей в вагон, почувствовал, как пахнет в нем лошадьми.
Всю дорогу, зажав пальцами нос, мальчик пытался представить себе Турцию, но у него ничего не получалось, а за окном до самого Куксинска тянулся лес — от стволов деревьев и от столбов зарябило в глазах. Город начался с покосившихся заборов; за ними прогнулись крыши. Сквозь одну из них проросло огромное дерево — его нельзя было спилить: падая, оно бы разрушило все вокруг. Поезд загрохотал на мосту — внизу пролегала улица и тут же поворачивала вдоль железной дороги. За этой улицей — еще одна; по ней быстрее поезда мчались автомобили. Коля не успел опомниться, как над вагоном нависла крыша вокзала. На перроне мальчика и тетю Дуню ожидала мама с толстым дяденькой. Тот подал руку и представился:
— Николай Яковлевич.
Мальчик тоже протянул ему ладошку, однако не назвал себя, потому что не знал своего отчества. Затем, устроившись в троллейбусе у окошечка, вытаращил глаза, чтобы успеть ухватить всю суету на улицах, и, когда ему показали школу, где будет учиться, — хотя учиться не хотел, — не мог выразить восторга.
Сразу же Николай Яковлевич решил сводить их в ресторан, и они, стараясь не показывать своего затаенного нетерпения, попали в огромный зал, где расставлены полукругом столики — между ними танцевальная площадка; потолок подпирали колонны — у одной из них ступеньки винтом, и там — наверху, над залом, устроена была музыка в черных ящиках, и — как ударял в них барабан, пол вздрагивал под ногами. Коля растерялся, однако и мама, и даже тетя Дуня ошарашены были великолепным убранством и, когда уселись за один из столиков, не могли слова выговорить. Николай Яковлевич поглядывал на них, довольный, что устроил такое развлечение, и только с появлением официанта женщины пришли в себя и принялись обсуждать, что заказывать. А Коля удивился, что несмотря на всю эту роскошь здесь пахнет, как в вагоне.
Официант поспешил на кухню, а мама, в который раз озираясь, заметила:
— Почему в этом ресторане кроме нас — никого?
— Его не так давно открыли, — пояснил Николай Яковлевич, — не все еще знают. — И шепотом добавил: — Здесь раньше находилась конюшня, а когда ее переоборудовали в ресторан, кто-то распустил слух, якобы тут пахнет лошадьми, но я, например, ничего не чувствую.
Женщины заявили, что это вздор: никакими лошадьми не пахнет, а Николай Яковлевич стал вспоминать свою последнюю поездку в деревню, но тетя Дуня перебила его:
— Давайте говорить о веселом! — И тут же сама начала, какие были в другие времена деревянные вокзалы, и от ее задумчивого голоса повеяло еще большей печалью, а когда вспомнила про дощатые тротуары, стало уж совсем невыносимо.
Николай Яковлевич решил поторопить официанта и направился искать кухню. Воспользовавшись случаем, мама поинтересовалась у тети Дуни про жениха:
— Ну, как он тебе?
— Я не знаю, что и сказать, — пожала тетя плечами. — А кого ты найдешь лучше? — пробормотала она, вспоминая свою неудачную жизнь.
Когда Николай Яковлевич стоял перед какой-то дверью и будто подглядывал в щелку, — даже и не подглядывал, а хотел посмотреть, но не решался, — к столику подскочил официант с подносом и начал расставлять тарелки. Проголодавшись, женщины и мальчик набросились на еду, а Николай Яковлевич по-прежнему стоял в другом конце огромного пустого зала, буквально уткнувшись носом в дверь, и, казалось, сошел с ума. В ресторане выключили музыку, и когда в мертвой тишине мальчик и женщины управились с едой и подняли глаза, — мамин жених все же осмелился войти куда-то, а они даже не услышали, как скрипнула дверь. Без мужчины сделалось жутко среди роскоши, и женщины решили послать за ним мальчика.
Коле очень понравилось это поручение, но когда он, перебежав через танцевальную площадку, приблизился к этой двери, — почувствовал приятный холодок из щели и догадался, почему Николай Яковлевич так долго стоял здесь, и — мальчик понял: если мгновение промедлит, остолбенеет точно так же, как мамин жених, и, не задумываясь, толкнул дверь.
Попасть из ярко освещенного электричеством зала — прямо в ночь, где шелестели в парке листья на деревьях, оказалось изысканным наслаждением. Мальчик направился в глубь парка, и — чем дальше шагал, тем глубже дышал, — и у пруда, под фонарями, догнал Николая Яковлевича. Каждый раз шагнув, тот оглядывался — если уж родился в деревне, то этого из себя не изжить, — и Николай Яковлевич обрадовался мальчику, что не один здесь такой, и завел разговор, как с равным себе; наверно, он слишком был взволнован, чтобы почувствовать разницу в возрасте, и — когда вернулись в ресторан к столику, мама разрешила Коле попробовать вина.
Они еще посидели бы, но тетя Дуня боялась, что перестанут ходить троллейбусы, — ей приспичило ехать в общежитие на другой конец города — вероятно, она решила кого-то осчастливить, — и, посадив тетю на троллейбус, усталые, побрели к Николаю Яковлевичу домой.
Так поздно мальчик еще не ложился — его отправили скорее в постель, но, когда он лег и закрыл глаза, разнообразные впечатления прошедшего дня всплыли перед ним; к тому же он чересчур много ожидал от завтра, чтобы заснуть. В его комнате погасили электричество, и не прошло несколько минут, как мама позвала его.
— Что?! — откликнулся мальчик, но мама почему-то не отвечала, и он опять углубился в свои мечты, как она снова крикнула:
— Ну, Коля!
Мальчик спрыгнул с кровати, позабыв, что маминого жениха так же зовут, как и его, и приоткрыл дверь в соседнюю комнату. Мама раздевалась, а Николай Яковлевич, неловко обнимая, мешал ей, и мальчик увидел свою маму в таком виде, в каком в его возрасте уже нельзя видеть. Она, обернувшись, увидела Колю в дверях и, не раздумывая, хлестанула жениха ладонью изо всей силы по лицу. Тот схватился за вспыхнувшую щеку и отшатнулся, и это все еще ничего — ей как бы необходимо было при сыне сделать некий жест, хотя это было глупо, и что бы она ни сделала — все равно это было бы одинаково глупо, — но у нее в глазах промелькнула такая непонятно откуда взявшаяся ненависть к Николаю Яковлевичу, что в один момент все их отношения, которые могли бы стать достойными всяческого уважения, были разрушены, — и тоска подступила необыкновенная, когда жизнь проходит без любви. Коля понял, что произошло что-то ужасное, бросился в свою постель и закрылся с головой одеялом. Когда мама легла в платье рядом, он тотчас уснул. Ему приснилось, как он вышел из ресторана прямо в Турцию.
Назавтра мама растолкала его чуть свет; она так и не заснула, прислушиваясь, когда пойдет первый троллейбус. Продрогнув на остановке, Коля многое передумал и, когда сели в троллейбус и поехали на вокзал, — жалея маму, посчитал нужным сказать:
— Зачем тебе этот… — и мальчик не находил слов, чтобы описать Николая Яковлевича.
— Не надо так про него говорить, — попросила мама, — он хороший человек.
— А ты красивая, — добавил Коля, — и найдешь себе получше.
Мама только усмехнулась, как он это заявил, лучше бы ему промолчать, и, когда он еще показал, что у нее не завязаны шнурки на туфлях, махнула рукой, не имея ни сил, ни желания привести себя в порядок, и все же признательна осталась сыну за эти слова, которые не всякий взрослый найдет.
На вокзале она купила в кассе билеты и после бессонной ночи перепутала платформы — вместо скорого поезда сели в электричку и, если бы не спросили у людей, поехали бы в другом направлении. Все же они, запыхавшись, успели на поезд, и неудивительно, что Коля не заметил на соседнем месте конопатую женщину с маленькой девочкой на руках, однако, почувствовав на себе пристальный взгляд, вздрогнул.
— Вы отрепетировали? — поинтересовался он.
— Да, — женщина кивнула пером в шляпе.
Когда поезд тронулся, мама завязала шнурки на туфлях, а Коля — чем дальше ехали, все безнадежнее грустил, — он размечтался уже о другой жизни, и вот теперь ему предстоит вернуться назад в деревню, и что он скажет друзьям, и — мальчик решил рассказать им про Турцию, которую увидел во сне, и — можно представить, что ему приснилось.
Проводница предложила чаю, и попить горячего так оказалось кстати, но Коля расплакался. Мама начала его утешать, когда сама едва сдерживала слезы, и ей полегчало, будто и она поплакала. Она даже не задумывалась, почему хнычет Коля, — причина казалась очевидной; тут до мамы дошло, что его слезы вызваны чем-то таким, чего ей не понять. Мальчик разрыдался, почувствовав, что мама не может сообразить, и только плечом передергивал, когда она пыталась приласкать его.
— Как ты не стесняешься реветь при девочке? — не вытерпела мама. — Что она подумает про тебя?
Но Коле было все равно, а девочка умела только смеяться вслед.
— Ты плачешь, — наконец догадалась конопатая женщина, — из-за того, что тебе подали чай не в стеклянном, а в бумажном стаканчике?
Он, конечно, не ответил, но мама поняла, что это так.
— Какой ты еще маленький, — сказала она.
Шляпочка
Владик привел с собой какого-то незнакомца в шляпочке. Тот повесил шляпочку на гвоздь в стене, вытер платочком лоб и поспешил присесть, а я не успел предупредить — и стул под ним развалился. Незнакомец поднялся и тут же ищет, на что ему опять присесть.
— У тебя один стул? — глянул на меня с удивлением Владик. — А если к тебе женщина придет?
— Какая еще женщина? — ухмыляется незнакомец.
«А у самого…» — подумал я.
— Позвони мне завтра на работу, — сказал Владик, — найду тебе пару списанных.
Ставлю на газ чайник и делаю вид, что кроме стульев у меня все хорошо, что я вполне доволен жизнью, а когда делаешь такой вид — это еще хуже, чем если бы я расплакался.
— И что — будем пить чай стоя? — недоумевает Владик. — Не успел рассмотреть твою обстановку, — взглянул на часы, — но теперь знаю, где ты живешь.
— При случае заезжай, — снова я улыбаюсь и, когда они ушли, не бросился к окну и не наблюдал, как Владик развернется на своей шикарной машине, а слушал, как они уедут, и, когда услышал, как они уехали, долго еще скучал; наконец шагнул к окну. В доме напротив открывается дверь на балконе, высовывается кулак, разжался — из него выпорхнула бабочка. От нечего делать я стал перелистывать книги и нашел деньги.
Выбежал на улицу, около почтамта полез в карман и обнаружил дырищу — рука пролазит; в следующий раз нельзя перепутать карманы, и побрел назад — еле тащусь. Дома прилег отдохнуть; однако, лежа, не мог придумать — чем заняться, с чего начать. Поднявшись, опять стал перелистывать книги, но денег больше не нашел и еще обнаружил, что незнакомец забыл шляпочку. Потом в окне вижу — в доме напротив снова открылась на балконе дверь — и кулак снова выпустил бабочку.
Назавтра целый день ремонтировал стул, решил так сразу не звонить Владику и несколько дней пропустил, чтобы он не подумал, что я очень нуждаюсь в его списанных стульях. И, наверно, слишком много времени я пропустил, потому что, когда позвонил ему, Владик не мог вспомнить про стулья.
— Мне сейчас не до этого, — сказал он. — А ты разве не знаешь, что умер Удобоев?
— Я такого не знаю.
— Как не знаешь? — удивился Владик. — Это же он упал у тебя со стула!
— Извини! — вскрикнул я. — Я не знал его фамилии, — как бы оправдываюсь. — Как это — умер?
— Ну, вот взял и умер — завтра похороны, — объявил Владик и объяснил, куда ехать и во сколько.
После этого разговора хожу взад-вперед по комнате; не знаю, зачем так хожу, увидел между рамами бабочку. Как она туда попала — форточка закрыта, да еще вдобавок заделал марлей от мух, а окно заклеено на зиму, и, когда лето уже на исходе, не хочется отдирать бумагу. Открыл форточку, чтобы бабочка вылетела в комнату, и можно тогда поймать ее сачком. Ожидал, пока она вылетит, и, прохаживаясь по квартире, увидел в коридоре на гвозде шляпочку Удобоева. Я не знал, что делать с ней, и, чтобы об этом не думать, вернулся к бабочке. Она уже не билась между стеклами, а успокоилась, сложив крылышки. Чтобы она не истязалась, я поспешил встать на табуретку и, просунув руку между рам, ухватил ее за крылышки. Если стряхнуть пыльцу с крыльев, то бабочка умрет, а она так трепыхалась в моих пальцах, что пыльца, конечно, осыплется. Зажал бабочку в кулаке, и она там щекоталась, пока я выбежал в подъезд и, спустившись на первый этаж, выпустил ее. Бабочка, будто пьяная, закружилась в воздухе.
Поднявшись в квартиру, забыл обо всем, и — первое, что увидел, — опять шляпочку Удобоева. Я не знал, что с ней делать, и, чтобы об этом не думать, решил обратно выйти на улицу — хотя и там неизвестно чем заняться. Провел время бесцельно, а вечером, вернувшись домой, подумал, что и этот день проведен был прекрасно — бродил по улицам и ничего больше. Я лег спать и спал безо всяких снов, но проснулся назавтра с больной головой. Я не собирался ни на какие похороны и к тому же не мог найти деньги в книгах — не помню, как они, деньги, заводятся, — все время думаю о чем-то другом, прекрасном, хотя вроде бы и ни о чем не думаю, но увидел снова шляпочку Удобоева, и не знал, что с ней делать, и решил отдать ее родственникам. Не теребить же шляпочку в руках — я завернул ее в газету и поехал.
День выдался чудесный. Чистое синее небо над головой, и хотя еще август — на больничном дворе у берез желтые листочки, а одна совсем уже осенняя или заболела — и под ней метет дворник. К назначенному времени сошлись люди в черном, но Владик не приехал, и мне не у кого спросить, кому отдать шляпочку. Я начал знакомиться с собравшимися на похороны; среди них не было ни матери, ни отца Удобоева, ни брата, ни сестры, ни жены, ни детей, а если и находились родственники, то они и сами не могли установить своего родства, объяснить, кем приходятся покойнику; все собрались такие, как я, случайно, ненадолго с ним знакомые, и на похороны попали чуть ли не случайно, и я не знал, кому отдать шляпочку.
Я смотрел, как опадают листья с больной березы, — оторвется один, и, пока долетит до земли, за ним другие осыпаются — ветки оголяются насквозь, и пробивается солнце, но вскоре оно скрылось за тучей, и пошел дождь. Никто не вздумал спрятаться в помещении; прежде чем зайти туда — надо заткнуть пальцами нос и не дышать, — лучше под дождем, и мне было легче стоять в сторонке. Газета размокла, и я надел шляпочку на себя. Над крышей больницы зажглась радуга, и дождь перестал. Рядом оказался небритый какой-то мужик и стянул с меня шляпочку.
— После похорон отдам, — раскрыл саквояж и бросил ее внутрь.
Неприятно, когда с тобой обходятся, как с мальчишкой, и я растерялся; однако не из-за шляпки же выяснять отношения, да еще на похоронах, и я обрадовался, что можно уйти. Тут появился из морга работник, а у меня, наверно, оказалось такое лицо, что, разглядывая собравшихся, он остановился на мне.
Я поспешил за ним в здание. Он завел меня в комнату, где стоял гроб, показал на мертвеца и спросил, он ли это. Я не уверен был, что это он; когда нечего сказать, приходится улыбаться, и склонил голову — понимай как хочешь. Работник попросил меня помочь переложить гроб на тележку. Мы приехали в огромный, без окон зал, где уже все выстроились, и зазвучала музыка. Никто не посмел пошевелиться, почесать нос или одной ногой другую — еще очень хочется засмеяться, а это уж совсем непозволительно в такие минуты, и все ожидали, когда можно будет выпить. Вдруг погас электрический свет — и торжественная музыка из заезженного магнитофона, рассчитанная на мерный, тяжелый шаг, — не пошла, а поехала — и куда-то не туда. Когда глаза привыкли к темноте, я обнаружил на лицах в зале совсем другое просветленное выражение, чего раньше не замечал. Открыли двери, похожие больше на ворота, — сразу во двор, откуда хлынули солнечные потоки. Мне опять пришлось взяться за гроб и вместе с другими мужиками перенести его в автобус. Я не собирался ехать на кладбище — теперь было неудобно из автобуса вылезать, а когда поехали, узнал, что едем в другой город. Сидя рядом с замороженным покойником из морга, многие продрогли, и тогда накрыли гроб крышкой, и разрешено было смотреть в окна.
Вскоре мы приехали в город, где находился не то цементный, не то мукомольный завод, и все вокруг было белое — земля, здания, крыши, листва на деревьях. Здесь был какой-то праздник, и все радовались, выпивши, а кто упал, становился белым, и те люди, которые в этом городе ожидали Удобоева, оказались белые, и они возжаждали на своих плечах занести покойника на кладбище.
Они понесли его и роняли несколько раз гроб, а на кладбище наконец выбросили Удобоева на землю, и он тоже стал белым — его такого и похоронили… По дорожкам между могилами разгуливали влюбленные со стаканами в руках и, отпивая по глотку, целовались. Под ногами шуршала листва, так шуршала, что не слышишь того, кто рядом; а если кто упадет — только и слышишь хохот, разве что жалко пролитой водки.
Решили устроить поминки прямо на могиле. К этому времени многие уже и так набрались и не в состоянии были, но не оставлять же водку, да еще на кладбище, а я не мог… потому что мне было грустно из-за шляпочки. Пока допивали водку, прибежали куры на могилу и под венками греблись. В них стали бросать камнями — не уследить, как снова куры шебуршали под траурными лентами. Наконец и меня уговорили на стакан, затем я выпил и еще один. Небритый мужик достал из саквояжа шляпочку и надел, а потом валялся на земле и, как бы не замечая меня, хохотал. Ко мне подошел его сообщник и, подзадоривая, чтобы я подрался, шепнул:
— Еще потеряет, — подтолкнул, — лучше забери.
Наступал уже вечер. От оранжевых лучей все белое вокруг как бы начало таять, и в воздухе запахло сырой штукатуркой. На небе с нахлынувшей тучей вдруг потемнело в черную ночь, и разразилась гроза. Спасаясь от нее, в автобус набились люди, которые гуляли на кладбище, и водку наконец закончили. Можно было ехать, но шофер заявил, что спустило колесо. Никто под дождем проверять не стал; тут будто белые тени промелькнули и заколотили палками по окнам. И все же ночью, на кладбище, никто не испугался, и, когда выбрались из автобуса сражаться с привидениями, оказалось, что это беременные женщины. Они искали своих мужей, и некоторых застукали с любовницами, и начали на все кладбище ругаться.
Я опомнился, что один в автобусе, а рядом с шофером, прилепилась к нему, девчонка, и я догадался: они хотят побыть вдвоем. Мне ничего не оставалось, как выйти вслед за всеми, и я побрел в жуткую ночь на кладбище. Дождь перестал; только когда ветерок, капало с веток, и запахло сладко грибами. Беременные женщины приехали на грузовике, и вот теперь все из автобуса начали взбираться в кузов, а как женщины перетаскивали через борт свои животы — трудно представить, и я поспешил, чтобы посмеяться и самому не остаться, но все они очень быстро, не успел я крикнуть, вскарабкались, и машина уехала, а я только рукой махнул.
Не возвращаться же к влюбленной парочке в автобус, и я побрел по дороге. За кладбищем начался настоящий лес. Я шагал, и от меня в разные стороны звери разбегались; так шагал, пока не начало светать, и увидел вдали другой город, но я разглядел, что это и не тот город, в котором проживаю. Навстречу ковылял веселый человек с костылем и пел веселую песню, а я понял: чем дальше — люди живут смешнее, еще я понял, что иду не в ту сторону, и повернул обратно.
Дорога после грозы размякла, и я возвращался по своим следам. Когда солнце поднялось, я вернулся к кладбищу. У ворот я заметил свежие отпечатки от колес, пошел по одной колее и вскоре прибрел к домику, у которого стоял автобус, но людей на улице — никого, ни звука.
Утро было веселое, но скучное. Солнышко сияло, но все равно пахло в воздухе сырой штукатуркой. Из калиток высунулись мужики с косами. Я попросил у них косу — они и мне нашли. Мы стали косить по росе на берегу речки. После дождя в ней пенилось будто парное молоко. Солнце начало припекать; вскоре косы притупились — трава без росы уже не резалась, а стлалась, шелковистая. Ко мне подошел небритый мужик, что забрал шляпочку; оказывается, он тоже здесь, на лугу, косил.
— Извини, — пробормотал он, — вчера потерял саквояж с твоей шляпкой, — и добавил: — А в нем еще мой паспорт.
— Ерунда какая, — обрадовался я про шляпочку. — Вот паспорт — это другое дело, без него никуда.
— Я куплю тебе другую шляпу, — пообещал он. — Еще лучше этой.
— Почему небритый? — спросил я у него.
— А сам?
Я решил искупаться, а из-под берега выглядывала одна труба мукомольного завода, и я боялся, что без меня уедут, и, когда вылез на берег, увидел около автобуса вчерашних людей. Я поспешил к ним, а они и не заметили ничего, будто я все это время находился рядом с ними и спал где-то там, где и они спали; они так и не узнали, что я ночь бродил по лесу. И все же я обрадовался им; тут подходит ко мне мальчишка — такой, как ангел, и протягивает шляпочку. Он давно искал меня и очень обрадовался, что нашел. И я обрадовался ей, будто это моя. Я был счастлив: не из-за шляпочки, а что так неожиданно все получилось, — и не мог забыть выражения лица мальчика.
И все же шляпочку надо было кому-то отдать, а я не знал кому, и не знал, куда деть ее, и надел на себя. Еще раз я стал расспрашивать собравшихся около автобуса людей, пытаясь найти родственников Удобоева, но все отказывались от него, объясняя, что на похороны попали случайно и что я уже вчера спрашивал, и я растерялся, не зная, кому отдать шляпочку. Тут шофер посылает меня, как мальчишку, за сигаретами.
«Почему все они, — подумал я, идя в магазин, — так со мной обращаются? Неужели я так выгляжу? Надо как-нибудь повнимательнее рассмотреть себя в зеркале». На последние деньги купил сигареты и еще в магазине почувствовал, что они уехали. Действительно, когда выглянул из-за угла — пустая улица, про меня опять забыли, и я остался без денег в незнакомом городе. Я побрел куда глаза глядят и, думая, чем бы себя развлечь, шагал в подавленном, тяжелом настроении, но чувствую: в глубине непомерно счастлив — и тут нашел кошелек. Денег в нем оказалось немного, но, когда их даже немного и все же они имеются — сразу чувствуешь себя великолепно: жизнь представляется не такой, какая она есть, и я не шел, а подпрыгивал, ощущая, как мало нужно для полноты счастья, и, когда я так подпрыгивал, думая о шляпочке, пролетал надо мной голубь и задел крылом по голове.
Нашел в этом городе железнодорожный вокзал — очень хочется отсюда скорее уехать, — попросил в кассе любой билет на ближайший поезд, а кассирша сообщила, что остались билеты только люкс. Я разволновался, будто мне очень срочно надо уехать: если вот сейчас не уеду — неизвестно, что произойдет. Хотел спросить: ну и сколько стоит люкс? — затем вспомнил о своей личной жизни и подумал: а что я буду делать, когда приеду; куда я спешу и зачем? Делать мне там нечего, как и здесь, и я тогда попросил обыкновенный билет на любой поезд, хоть на послезавтра или же в следующем году. Кассирша выдала мне билет — всего несколько часов ожидать, и я пожалел, что так быстро надо уезжать; так всегда бывает. Тут меня осенило: пойти на кладбище и оставить шляпочку Удобоева на его могиле, и я поспешил. Наконец иду — сам знаю куда, а то брожу неизвестно зачем. Еще встречаю похожего на ангелочка мальчика, что принес утром шляпочку, и он спрашивает у меня, куда это я, и я не знаю, что ему ответить…
Как хорошо было бы оставить шляпочку Удобоева у него на могиле, но я не мог ее отыскать, а время поджимало. Поглядывая на часы, я решил оставить шляпочку на какой-нибудь любой могиле; мне показалось: какая разница, это не так важно — ему передадут. Я стал искать какую угодно могилу и все же интересовался, кто здесь похоронен, и каждый раз не мог абы кому оставить шляпочку.
Побежал назад и на привокзальной площади встретил того мужика, который вчера был небрит, а сегодня у него выросла борода. Обрадовавшись мне, он достал из саквояжа бутылку водки. Я не забыл поинтересоваться про паспорт. Бородатый мужик развел руками.
Около памятника Ленину сидела баба и продавала персики. Перед праздником памятник помыли — сколько достали — постамент и ботинки, и оказалось, что у Ленина голубые ботинки, а он сам белый, как и все в городе.
Бородатый подошел к бабе.
— Сколько?
— Дорого.
— Зачем такая роскошь? — поинтересовался я.
— На закуску.
Я приподнял брови, выражая удивление.
— А почему бы и нет, — сказал он.
И я тогда купил два: ему и себе — все же его водка, а я хоть закуску. Мы заскочили в какой-то подъезд и выпили. Эту ночь я не спал, на вчерашних поминках ухватил только хвостик селедочки и опьянел сейчас; одно помню, что персик после водки — это здорово!
Прихожу в себя уже в поезде. Из окна лестница — переход над путями; кто-то поднимается — и голубые ботинки прошагали надо мной. Проводница подносит два стакана чая.
— Зачем два? — удивляюсь.
— Сколько заказал, — отвечает она. — Тебе на следующей остановке выходить.
Я хватаюсь за голову; затем увидел шляпочку — раскачивается на крючке.
— Что потерял? — встревожилась проводница.
— Нет, все на месте, — успокоил я ее. — Испугался, есть ли у меня деньги расплатиться за чай.
— Ты уже расплатился, — усмехнулась она. — Забыл? — И добавила: — Ну и что, если голубь задел крылом по голове? — спросила, как бы продолжая прерванный разговор, а я не помню его и вздохнул с облегчением, когда ушла.
Чай был очень горячий. Я открыл окно и в обеих руках выставил чай на свистящий ветер. Недоумеваю: кому заказал второй стакан, — а стаканы в подстаканниках дребезжали очень весело, и, пока я остужал чай, солнце скрылось за тучами.
После водки с персиком горячий чай пить в раскрытом окне, когда ветер ударял в лицо, — это замечательно! Прихлебывал и тут же остужал, как раз два стакана после выпивки — это было то, что надо; одного было бы мало.
Пока допил чай, тучи затянули небо и пошел дождь. Ехал и смотрел в окошко на дождь, а когда начался город, увидел на асфальте лужи; дождь здесь уже давно всем надоел. Я не забыл шляпочку и, когда поезд остановился, дернул в тамбуре проводницу за косичку, и ей понравилось.
Под дождем побежал по пустому городу. Так опустошен он никогда не бывал ни под каким дождем. Я не мог догадаться, пока не увидел на площади толпу перед трибуной — и здесь какой-то праздник, разве что не все пьяные, и не знаю: обрадоваться ли мне или опечалиться. Иду, не протолкнуться среди зонтиков, того и гляди — глаза выколют спицами.
На трибуну поднялся оратор. Выступать с речью под зонтиком не годится, засмеют; он, как и я, под дождем. Один лысый подскочил к оратору и зонтик над ним держит — сам мокнет, но счастлив. Я оглядываюсь: никому не интересно, о чем речь, и все же многие приятно взволнованы. Когда лысый сам начал читать с бумажки, какой-то подхалим выскочил из толпы, чтобы подержать над докладчиком зонт; сам мокнет, но и этот счастлив — еще потому, что довелось побывать на трибуне. Тут вижу Владика — машет мне рукой.
— Ты уже вернулся? — спросил, когда я пробрался к нему. — Как прошли похороны?
Не зная, что ответить, с восхищением подбираю слова:
— Замечательно, как нельзя лучше!..
— Почему без зонта?
— Не имею такой бабской привычки, — отвечаю.
— Не бабской, а дамской, — поправляет.
— Мы вышли в люди из другой категории, — напоминаю ему.
— Действительно, мужчине не подобает, — согласился Владик, — попробуй представить своего отца с зонтиком.
— Ну, отца еще можно, — сказал я, — но дедушку — никак не представляю.
— И я не представляю своего, — задумался Владик. — Ах, как верно ты заметил — жизнь пошла наперекосяк на наших отцах; и что нам делать, не знаю. Поехали на дачу.
— Ты купил новую машину? — разглядывая, я обошел ее со всех сторон.
— Купить тебе такую же?
— Нет, не надо, — отвечаю. — Я тебе сиденье не намочу? — еще спрашиваю, когда сажусь рядом. — А ты куда зонтик? В багажник?
— Да, в багажник, — отвечает. — А куда же еще?
И вот тут, как часто бывает, когда ни о чем не думаешь — ни о какой шляпочке, меня обрадовала догадка: возможно, что ближайших родственников у Удобоева не осталось, но любимая женщина должна же была у него быть, хоть какая, хоть когда-то… Я уже хотел спросить об этом Владика, но преуспевающие люди не внушают доверия; когда много приобретаешь — еще больше теряешь; с ними не о чем становится разговаривать, и я попросил Владика остановить машину.
Я долго звонил в квартиру к N., отчетливо представляя, что ему, как и мне, делать нечего, а в такую погоду только и поспать. Наконец он открыл, с всклокоченными волосами и помятым лицом, не удержался, чтобы не выразить недовольства, и, когда я показал шляпочку Удобоева, закричал:
— Выбрось ее!
— Куда?
— В мусорное ведро, на свалку, куда угодно! Давай выброшу сейчас с пятого этажа! — Я готов был отдать ему шляпочку, но что-то во мне дрогнуло, и он заметил — в нем тоже что-то дрогнуло, и N. пробормотал: — А ты знаешь, в этом что-то есть, что ты говоришь…
И когда я спросил, была ли у Удобоева любимая женщина, он достал старую записную книжку и вырвал из нее листочек.
Я побрел с этим листочком на окраину города, на улицу, где давно не был, узнавал деревянные домишки, и, когда отыскал нужный номер, от излишнего волнения мне стало нехорошо. Едва я приоткрыл калитку, распахнулось в доме окошко и выглянуло знакомое личико.
— Давно я тебя не видела! — изумилась Надечка.
Она пригласила к себе и накрыла стол. После обеда да еще не спал ночью — глаза у меня начали слипаться. Надечка постелила и, когда я лег, спросила:
— Можно я с тобой полежу рядом, как когда-то, будто не прошли эти годы?
Я сказал:
— Ну что ж…
— Мы ничего не будем, — прошептала Надечка. — Это сейчас не нужно, это будет не совсем то, что было, и лучше этого не надо… Как ты живешь?
— Бывает такое бестолковое время, — я ей ответил, — когда что-то в нас вырастает, взращивается — без чего дальше не жить, и ожидать этого неизвестно чего может позволить себе далеко не каждый.
Когда я проснулся, дождь за окном перестал и ненадолго выглянуло на закате солнце. Надечка предложила поехать, как когда-то, искупаться. Она выкатила из гаража мотоцикл. Это был все тот же мотоцикл ее отца, и жив ли он — я не осмелился спросить. Я сел за руль, как когда-то, и мы поехали на речку. Вскоре стемнело, а в мотоцикле фара не горела, и я не знаю, как доехал. Мы сбросили с себя одежду и попрыгали в воду. Я быстро замерз, а Надя немного растолстела за это время, как мы не виделись, и накупалась всласть. Мы вылезли на берег, насобирали сырых дров в мокром после дождя лесу и, когда, намучившись, зажгли костер, увидели в нескольких метрах от мотоцикла каток от асфальтоукладчика на проселочной дороге, где никакого асфальта не предвидится. Если бы еще немного — мы бы убились, и мы обрадовались, что живы и что звезды в небе и на реке.
Когда я согрелся у огня, пришел пьяный пастух и стал умолять, чтобы не жгли костер. Я сказал, что сегодня прошел дождь и высохшая за лето трава не будет гореть, но пастух не поверил мне, что был дождь. Дальше зажглись еще костры — он поспешил туда, и в ночной тишине за полкилометра вскоре послышалось, как льется водка в стаканы.
Приехали домой, когда начало светать. На кухне у Надечки лежал на кушетке какой-то старик. Он проснулся, открыл мутные пьяные глаза и сказал престранные, прекрасные слова:
— Солнце встанет — веник расцветет… — и опять заснул.
— Кто это? — спросил я у Надечки. — Муж?
Она кивнула.
— Что же ты вышла за… — я никак не мог подобрать слов, — за такого, что намного старше тебя?
— Он раньше не был такой, — обиделась Надечка.
— А дети у вас есть?
— Дочки вышли замуж, а сын женился.
— Какая длинная наша жизнь, — удивился я, и так получилось, что увидел в эту минуту себя в зеркале, и не узнал себя после нескольких бессонных ночей, небритого, но счастливого, и не стал дожидаться, когда Надин муж проснется; перед тем как уйти, еще раз посмотрелся в зеркало, еще раз захотелось посмотреть, проверить, — на этот раз узнал себя и понял, почему так выгляжу, что с меня снимают шляпочку и посылают за сигаретами, как мальчишку.
Мы поцеловались, и я ушел — так ничего и не сказал ей, чтобы не опечалить лишний раз, на улице проверил шляпочку в кармане, машинально так проверил, как удостоверяются, на месте ли деньги.
Упросить улететь
После школы прошло много лет, но Яша почувствовал, будто его вызвали к доске, и растерялся: просто так сейчас нельзя — необходимо сказать что-то особенное, нежное, — однако всегда таких слов стеснялись, и вот, когда их надо произнести, их не оказалось, может, их и не было, и, сознавая свое бессилие, он, как на уроке когда-то, посмотрел в окно.
— Ну, скажите хоть что-нибудь… — повторил отец.
В комнате заметно посветлело, и, удивляясь необыкновенной тишине в эту минуту, Яша пробормотал:
— На улице идет снег…
— Не говорите мне про снег, — простонал отец, лежа на подушках, а мама рядом словно ослепла и качала головой.
Когда стемнело, отец заснул, а Яша сел за стол и задумался. В щелке между шторами светился в черном небе фонарь, и в его серебряном ореоле стремительно проносились снежинки. Под настольной лампой белый лист резал глаза. Обжегшись о лампочку, упала на бумагу мошка и тут же ожила, а Яша, начиная письмо, узнал эту мошку и вспомнил, как познакомился с Таей.
Он уже давно проживал отдельно от родителей в другом городе, и в этих городах так часто бывает грустно, особенно когда дождь, — идти некуда. Однажды пошел гулять и промок. Увидел: стоит девушка под деревом и читает книгу; на улице никого. Яша подошел ближе — девушка отвернулась; он заглянул ей через плечо — на страницах книги расплывались капли.
— У вас по руке ползет мошка, — заметил Яша.
Девушка рассердилась:
— Ну так уберите ее!
Чтобы ухватить мошку, пришлось бы дотронуться до незнакомки, а это было недопустимо, невозможно, и Яша, нагнувшись, попытался сдуть с ее руки мошку. У мошки на кончиках лапок загибались коготки; она будто крючками зацепилась за кожу. Девушка захныкала. Яша стал утешать ее, спрашивать, что случилось, а она заметила сквозь слезы:
— Даже мошку не можешь… — И, не находя слов, совсем уж поникла, но все же ей удалось найти их: — Упросить улететь.
И вот сейчас, зимой, точно такая же мошка откуда-то прилетела на яркий свет настольной лампы. Яша, начиная к Тае письмо, тут же нарисовал крылышки, брюшко, лапки, но шариковой ручкой получилось грубо. Он стал искать точилку для карандаша и прислушался: в соседней комнате заплакала мама, и Яша, подошедши к ней, забыл о письме.
Старушка стала молиться перед иконами, а когда устала, протянула молитвенник сыну, и Яша читал дальше. Она опустилась на колени и часто крестилась; Яша положил руку ей на плечо, чтобы та внутренняя дрожь, которая овладела им, передалась через прикосновение. Когда голос устал, Яша снова отдал молитвенник маме, и она продолжала молиться, не вставая с колен. Яша не видел сбоку ее лица — лишь одну круглую и пухлую, как у ребенка, щечку, и, по-прежнему не убирая руки с ее плеча, ожидал чуда, затем другой рукой взял со стола холодную вареную картофелину — держал осторожно, чтобы не рассыпалась; на полуслове мать оглянулась, еще быстрее стала читать — и вдруг умолкла. Яше пришлось опуститься на колени, чтобы посмотреть ей в лицо. Она закрыла глаза и отщипнула картошки из его ладони, только до рта не донесла — по щекам потекли слезы.
Назавтра отец долго не просыпался, но болезненный румянец на его щеках угасал. Яша с матерью ходили вокруг на цыпочках, радуясь выздоровлению; однако, когда и на следующий день он не проснулся, старуха решила мужа побудить.
— Не надо его будить, — робко произнес Яша.
— Он же второй день ничего не ел! — воскликнула мама. — И что, — с изумлением, со страшной догадкой, прошептала, — что, он уже не проснется?
Яша вышел из дому и побрел по переулочкам, стараясь выбирать безлюдные. У развалин монастыря дети катались с обледеневшего холма на куске фанеры. И вот здесь, на окраине города, Яша встретил свою первую любовь, которую не видел много лет.
— Расскажи о себе, — попросила его Аня.
— Ты знаешь, — задумался Яша, — рассказать как есть — не хочу тебя огорчать, и мне остается развлечь тебя, что-нибудь припомнить, но в такое хмурое утро и это не хочется.
— Не молчать же, — заметила она.
— Нет, почему, можно и помолчать — почему бы и нет? Это даже лучше! — И Яша улыбнулся ей такой чистой робкой улыбкой после всего пережитого, о чем Аня не знала, что и она попробовала улыбнуться. Они поцеловались и после этого не совсем обыкновенного поцелуя действительно замолчали, и Яша не осмелился расспросить Аню про ее жизнь.
Черные засохшие стебли торчали из снега у стен монастыря и шуршали на ветру. Яша предложил слазить на колокольню, как раньше. Пробираясь сквозь бурьян, они прошли по собору, где вместо крыши сияло небо над головой, и, нашедши в стене щель, Яша протиснулся в нее, а Аня, растолстев, не смогла и расстроилась, но виду не подала и как бы между прочим заявила, что не желает испачкаться и обождет внизу.
По скользким, вылизанным подошвами ступенькам Яша поднялся на колокольню. Там уставились на него дети; рядом, под ногами, в куче валялись ранцы. Яша узнал тех ребят, которые катались с горки, а увидев взрослых, спрятались на колокольне.
— Что? Прогуливаете уроки? — начал Яша, и дети еще сильнее насупились. — Не бойтесь, — тогда прошептал он, — я сам был такой! — Ребятишки переглянулись между собой, подмигивая, а у Яши невзначай вырвалось: — Вы не представляете, как я хочу покататься на фанере!
Один из школьников, указав на него, покрутил пальцем у виска. Яша по ступенькам запрыгал вниз, и, пока выбрался из бурьяна на дорогу, Аня успела скрыться за поворотом. Снег на асфальте растаял, по нему расплывались радужные разводы от бензина, и Яше сквозь слезы показалось, будто перед глазами вертятся мыльные пузыри.
Яша не стал догонять свою первую любовь — все равно прошлого не вернуть, — потихоньку побрел вслед, невольно вспоминая, как много лет назад они расстались. С годами воспоминания должны становиться слаще, но этого не произошло, наоборот, от постоянного их неусыпного присутствия жизнь обнажалась, выворачивалась наизнанку, что предсказано было, когда приснился накануне последнего свидания ангел.
Сколько мальчик ни звонил Ане, ее мама отвечала, что она в ванне; после одиннадцати отец Яши заметил, что так поздно нельзя звонить, и поинтересовался, сделал ли сын уроки. Яша не ответил — не потому, что не сделал их, а потому, что не хотел выдать отчаянного волнения внутри, какое скрывал, конечно, от родителей; впрочем, уже давно с ними разговаривать было не о чем: когда приходит первая любовь — со взрослыми становится не о чем разговаривать.
— Почему ты все время молчишь? — спросил отец.
Надо было что-то сказать, и Яша пробормотал:
— Потому что завтра выпадет снег.
— Куда ты будешь поступать после школы? — поинтересовался отец, пытаясь вызвать сына на серьезный разговор, при этом сам нечаянно улыбнулся.
— На клоуна, — не задумываясь ответил Яша, побежал скорее в свою комнату, разделся и лег, но уснуть не мог.
И все же под утро мальчика сморило. Ему приснился райский сад; от гудения пчел не слышно, как едет на самокате ангел, запыхался — огромный, толстый, в джинсовых шортах и при галстуке; одной рукой держит руль, в другой эмалированное ведро, с которым бабушка ходила доить корову. Ангел стремительно и бесшумно, как по воздуху, подъезжает, бросил ведро на землю и помахал затекшей рукой. «Здесь на всех хватит!» — пообещал. Яша узнал в ангеле президента, которого каждый день показывают по телевизору, и даже не удивился — будто каждый день общался с ним, когда этих президентов, как и ангелов, просто так, в жизни, никто ни разу не встречал. Лицо у президента как бы подсвечивалось снизу, мальчик опустил глаза — в эмалированном ведре снег и бриллианты! От восхищения Яша проснулся. Посмотрел на будильник: в темноте на циферблате не видно стрелок; взял часы — и в руке заведенный механизм прозвенел.
Мать уже суетилась на кухне, приготавливая завтрак. На плите закипал чайник. Отец тщательно брился перед зеркалом. Умываясь, Яша чуть не подпрыгивал, предчувствуя какую-то радость, но, глядя на родителей, на их озабоченные лица, спросонку не мог осознать, что это такое может быть. Он надел самую лучшую рубаху, новые брюки и натер до блеска ботинки, затем отодвинул штору и выглянул в окно, но снег ночью не выпал, чего мальчик ожидал с нетерпением.
Он сел за стол и за завтраком вдруг вспомнил про свою любовь. Как только родители ушли на работу, бросился к телефону и стал набирать номер.
— А, это ты, — подняла Аня трубку, — обожди, я чищу зубы. — Он слышал, как шумит вода, рядом с трубкой тикали часы; мальчик приложил к уху свои на руке и тоже послушал; вот зашлепали тапочки — она не шла, а бежала к телефону. — Как хорошо, что ты позвонил! Давай встретимся не в десять, а в одиннадцать…
После того как услышал ее, Яша не мог доесть завтрак и уже не мог оставаться дома. В школу не пошел, а шлялся по городу, то и дело поглядывая на часы, но время остановилось, и мальчик догадался: вот-вот пойдет снег.
Они встречались на остановке трамвая. Над путями на колоннах громоздилась, закрывала небо крыша; у колонн они и встречались. Яша приехал очень рано и решил пройтись по парку. У ручья лес не шелохнулся — в природе все обмерло, как бывает поздней осенью. Яша вдруг отчетливо почувствовал, что в последний раз здесь, и его радость куда-то подевалась. С деревьев последние листья слетели, под ногами замерзшие колеи на дороге и соломенного цвета трава по сторонам, а дали сизые, далекие. Нужно уже было поворачивать, и он побрел назад.
Еще долго торчал у колонн, наблюдая, как из трамваев одни пассажиры выходят, а другие толкаются, спешат занять места. Скоро наступило полдвенадцатого. Яша уже не надеялся, что его любовь приедет, но оглядывался на каждую девушку. Он оглядывался и не заметил, как Аня неожиданно появилась перед ним. Лицо у нее так густо было намазано кремом и напудрено, что за этой маской, которая сладко, приторно пахла, в разрезах жирно подведенных век с ресницами, как колючая проволока, — померкли глаза.
— Я не узнал тебя, — вздрогнул Яша.
Из-за туч показалось солнце, и небо засияло предзимней звонкой голубизной, снег так и не выпал, на подстриженных газонах зеленела трава, и с Аней хорошо было идти, ощущая в руке ее ладошку. Они направились по дорожке к парку, и Яша хотел уже рассказать, что приснился ангел; тут Аня заплакала и выдернула руку, чтобы смахнуть слезы.
— Не плачь, — сказал Яша. — Тебе хорошо гулять со мной?
— Да, — ответила она.
— Ну и не надо ни о чем думать, — сказал он. — Посмотри, какой сегодня день!
— Да, — подтвердила Аня, вытирая слезы, — день прекрасный, только мне еще тяжелее, чем тебе, поверь.
— Ты всегда можешь сказать, что тебе не хочется со мной гулять.
— Но я не хочу этого говорить.
Тут Яша стал целовать ее сладкое под кремом лицо.
— На нас смотрят, — оглядывалась Аня.
Целуя ее, Яша прошептал:
— Хорошая.
Аня опустила глаза.
— Не такая я и хорошая.
Яша сразу обо всем догадался, но что же ему тут было делать?
— Я хочу поговорить с тобой, — начала Аня.
— Ну говори скорее! — взмолился Яша.
Но она молчала. Тогда Яша сказал:
— Не надо ничего говорить — и так все понятно.
— Ну что, пошли назад, — проговорила Аня.
Яша схватил ее за руку.
— Дай же хоть насмотрюсь на тебя!
— Сейчас я опять заплачу, — пролепетала Аня, и Яша догадался: она весь вечер вчера прорыдала в ванной, а сегодня утром, чтобы скрыть следы слез, замешала на лице эту отвратительную розовую маску.
Яша не выдержал и снова обнял ее, но едва обнял — и Аня его обняла, — понял, что так будет еще больнее, и они отодвинулись друг от друга.
— Ну, вот мы и попрощались, — вздохнула Аня.
Медленно побрели обратно, очень медленно; решили разъехаться в разные стороны, и на остановке предстояло еще раз попрощаться. Сразу пришел трамвай — и так сразу это уж было чересчур, и Яша сказал:
— Этот не считается, а когда придет следующий, тогда…
— Ну и куда ты сейчас пойдешь? — спросила Аня.
— Я не знаю, — сказал он. — А ты куда поедешь?
Следующий подкатил Яшин трамвай, и, вскочив в него, мальчик обернулся, чтобы помахать рукой напоследок. На остановке никого не увидел — ни одного человека, и вот это оказалось страшно; нельзя было понять, куда Аня подевалась, а когда непонятно, то вдвойне страшно. В самое последнее мгновение выглянуло солнце — от колонн упали тени, и от Ани, спрятавшейся за одной из колонн, тоже проскользнула легкая тень. Яша догадался — Аня спряталась, чтобы не видеть, как он уедет. Двери захлопнулись, трамвай с грохотом покатился, и колонны промелькнули одна за другой.
В трамвае рядом с мальчиком читал газету старик. Яша заглянул ему через плечо и увидел в газете карикатуру на президента. Сразу же вспомнил, как приснился ему сегодня этот президент в виде ангела на самокате в райском саду, и — почувствовал, будто над ним кто-то жестоко надсмехается. Яше стало невыносимо больно, и он понял, что такое первая любовь. За тучами скрылось солнце, нахмурилось — пошел снег, повалил; проезжали мимо какого-то длинного-длинного здания из мутно-красного кирпича, на окнах чугунные решетки, перед домом березы — на одной из них сохранилась желтая листва, и она сияла ярче снега.
После того как встретил первую любовь, Яша хотел разорвать неоконченное письмо к Тае, но все-таки перечитал и стал продолжать — другим почерком, в других выражениях, невольно прислушиваясь к дыханию отца в соседней комнате. И если вчера он писал одно, то сейчас начал другое, когда так ощутимо, явственно всплыла первая любовь, которую не забыть; и он не захотел Таю обманывать. Прямо в письме Яша сделал Тае предложение, сознавая: она, безусловно, откажет, разобравшись, что написано между строк, и ему не надо будет объясняться.
После бессонных ночей рано улеглись; Яша заткнул пальцами уши, чтобы не слышать, как хрипит отец, и сумел забыться, но посреди ночи вскочил. Старик дышал спокойнее, и Яша зажег в спальне свет, посмотрел на отца, потом на часы и опять лег; уши не затыкал, но все равно уснул, кажется, на одну минутку, не больше, а очнулся от какой-то непривычной мертвой тишины.
Яша разбудил мать и осторожно, словно крадучись, вошел в спальню. Тут старик в последний раз с силой выдохнул из себя воздух, и от ужаса перед смертью у Яши онемело все внутри.
Мама налила в тазик воды, приготовила мочалку, полотенца; достала из шкафа отдельно хранившиеся белье, белую сорочку и черный костюм. Только крестик, который старик, не веруя, не носил, она не могла найти, а нашла какой-то, неизвестно чей, на ниточке. Потом этот крестик на ниточке и надели на покойника.
Утром Яша отправился на вокзал, чтобы ехать в деревню — на родину, где отца решили похоронить. Яша не замечал ни прохожих, ни машин на улицах; брел, как по пустыне, и видел один снег. Жуткая его белизна слепила после бессонной ночи. У развалин монастыря опять дети катались на куске фанеры. Вчера Яша встретил здесь Аню, которую не видел много лет, и сейчас, когда умер отец, задумался — какое счастье выпало увидеть ее; не мог до конца осознать, к чему эта встреча, но, вспомнив первую любовь, легче пережить горе. Он еле поднимал ноги; ботинки скребли по снегу. И, когда шел мимо почты, вспомнил про письмо к Тае, вынул из кармана конверт и опустил его в ящик.
Скоро Яша сидел в вагоне и пялился в окошко, где мелькали зимние, голые деревья. Сначала он не обратил внимания на балалаечную музыку из репродуктора, но деревья мелькали, музыка играла, и Яша почувствовал себя неожиданно легко и ощутил радость. После тяжелой болезни отца, когда все закончилось и, оказавшись в другой обстановке, может, так и должно быть, но Яша догадался, что старик рядом, и ему весело от этой бойкой музыки, и он тоже едет на родину.
От железнодорожной станции пришлось идти пешком. Хотя небо затянули плотно тучи, далеко в поле Яша заметил смутный отблеск, какое-то бледное сияние. Его можно было сравнить с тем нездешним светом, что возникал иногда перед глазами после чтения Евангелия. Яша миновал озеро с вздутым после оттепели льдом и, когда взобрался на гору, увидел с нее родную деревню. Тут подул сильный ветер, прямо в лицо засек колючий мелкий снег — за ним не стало видно и того света. Из движущейся навстречу снежной коловерти выпал пьяный мужик. Яша поднял его и рассказал о смерти отца.
— Эх, — пьяница заплакал, — хороший был человек: все песни пел и улыбался!
И Яша вспомнил неизменную у родителя улыбочку, на которую раньше не обращал внимания, и сейчас душа переполнилась ею, весь лед в ней и снег в одну минуту растаяли, и эта живая вода, за которой летят перелетные птицы, хлынула к сердцу.
Перед деревней спряталось в лесу кладбище. Протоптанная в снегу широкая дорога разделилась на несколько тропинок. Яша ступил на одну из них, но вскоре она превратилась в едва различимые следы. Сначала Яша посетил могилы родных и, ощущая на плече дорожную сумку, наконец осознал, зачем он здесь и что его привело сюда. У косогора, где из снега торчали последние кресты, Яша остановился. За соснами светилась голая белая пустошь. Весной она затоплялась водами, а когда река входила в берега, яркими красками луг покрывали цветы, и сейчас, в долгую бесконечную зиму, со страстью захотелось какой-то неизведанной небесной любви.
Читая письмо, краем глаза Тая заметила, как за окном неуловимо что-то изменилось. Она глянула на улицу и не могла оторваться. На противоположной стороне все дома серые, а один из красного кирпича, и только на красном заметно, что идет снег, — поблескивает на солнце. Еще из окна виден балкон. Внизу гудит машина, скрылась за перилами, а на перилах снег, под ним полоска черного железа, и на черном Тая увидела, будто на проявленной фотопленке, негатив проезжающей машины, потом — другой, третьей. И еще увидела у красного дома Чикина, который смотрел в ее окно. Чуть ли не каждый день он приходил и стоял внизу, и сегодня девушка разорвала на мелкие кусочки лист с нарисованной мошкой и, набросив пальто, выбежала на улицу.
Чикин сказал ей, что она великолепно выглядит, а Тае казалось: она с ума сейчас сойдет.
— Чего стоишь? — спросила Тая у него. — Пошли!
— Куда? — не понял Чикин.
— К тебе домой, что ли… — пробормотала девушка.
Чикин готов был выполнить любой ее каприз, однако не ожидал это услышать, испугался, а она, заметив, готова была отхлестать его по щекам, но, когда пришли к нему, вдруг обессилела и, не снимая пальто, опустилась скорее на стул.
— Почему так холодно? — спросила, и Чикин бросился за дровами.
Разглядывая обстановку в полуразвалившемся деревянном доме, предназначенном на снос, девушка подумала: где еще может быть так голо и одиноко? Решила, что в монастыре, ей захотелось туда, лучше туда, и, пока Чикин растапливал печку, мечты ее одолевали; она не заметила, как потемнело. Едва Чикин задернул шторы и зажег свет — в окно постучали, и Тая опомнилась.
— Пересядь, пожалуйста, — попросил ее Чикин.
Не понимая, в чем дело, Тая отодвинулась, а он потянул за штору. На столбе горел фонарь, в его холодных лучах, замотавшись на ветках берез, поблескивали магнитофонные ленты, сброшенные с верхних этажей соседних зданий. Ленты, развеваясь, шелестели на ветру. Тут же Чикин обратно зашторил окно. Отвечая на недоуменный взгляд Таи и указывая на часы на стене, он объяснил:
— Иногда бездомные стучат, чтобы узнать время. Бывает, и ночью стучат, приходится зажигать свет, если не горит фонарь.
Она села у печки погреться, рядом примостился Чикин и стал шевелить поленья кочергой, затем бросил ее с грохотом на оббитый жестью пол и обнял девушку. Тая посмотрела на него, будто после долгой разлуки не узнавая, и тогда Чикин прильнул к ее горячим от огня, с растаявшей помадой губам…
Она проснулась оттого, что разваливалась голова; было еще темно и совершенно непонятно, сколько времени. Тая приподнялась и посмотрела на часы на стене, стрелок не увидела, только качались отраженные в стекле ветки за окном. Она встала и, схватившись за больную голову, оглянулась, но Чикин спал, отвернувшись к стене. Она подошла к окну, раздвинула шире шторы, чтобы под фонарем одеться. На дороге ветер перелистывал газету — страница за страницей; наконец ее унесло по грязному снегу, на котором, казалось, тоже отпечатаны буквы. Одеваясь, она обнаружила: Чикин вчера так спешил, что не закрыл в печке дверку, а юшку задраил, и стало ясно, отчего болит голова. Тая поднялась на цыпочки, чтобы отодвинуть юшку, потом, нагнувшись, стала завязывать шнурки на ботиночках и едва не потеряла сознание.
На улице она вспомнила, что так и не знает, сколько времени; но не успела обернуться, как притворявшийся спящим Чикин вскочил с постели и дернул за клетчатую занавеску — ни одной складки не оставил. Снаружи представлялось, что на окне решетка. Вскоре в домах начали зажигаться огни, небо на востоке зарумянилось. Тае сначала показалось, что на свежем воздухе ей легче, однако голову на морозе сжало еще сильнее, и каждый шаг по ледяному тротуару отдавался в висках. Она уже ни о чем не думала; единственно стремилась помягче ступать — при малейшем сотрясении голова готова была расколоться. Тая обхватила капюшон пальто руками и так шагала, но, заметив, что прохожие оборачиваются, опустила руки. Все же на людях не такая тоска, и невольно Тая выбирала свой путь в толпу, где больше суеты, и не удивилась, когда в подземном переходе около вокзала столкнулась с Яшей.
— Ты получила мое письмо? — поинтересовался он.
— Не пойду я за тебя, — прошептала Тая, — ни за кого не пойду. — И добавила: — Я собираюсь в монастырь. — Яша молчал, и она осторожно подняла глаза: — Что с тобой? На тебе лица нет, — испугалась девушка. — Давай скорее выйдем наверх, на свежий воздух!
Вдоль перехода установлена была дощатая перегородка; за ней под землей горел электрический свет, по одежде проходивших мимо людей и по чемоданам мелькали щели между досками. Яша споткнулся, осознав, как искусно подделал сожаление, когда все в нем отупело после похорон.
Они выбрались из перехода на яркий свет зимнего дня, где снег, как зеркало, отражал сияние в небесах, и Тая спросила:
— Как чувствует себя твой отец?
— Он умер, — ответил Яша.
— Вы успели попрощаться? — задала она странный, наивный вопрос.
Яша не мог вспомнить, опустил глаза и пробормотал:
— Да, попрощались.
— Да, да, — закивала Тая, догадываясь, как это все непросто. — Все это я знаю. Моей мамы давно уже нет, и лишь сейчас я начинаю сознавать, что она умерла. К сожалению, это доходит через годы.
И ее слова успокоили Яшу. Он понял, что радость встречи можно только предчувствовать, а ожидать ее придется всю жизнь. С облегчением вздохнул, когда Тая поспешила на вокзал, но в последний момент она обернулась, готовая броситься назад, — тут Яшу догнали две девочки.
— Как пройти на Пожарную улицу?
— Идемте со мной, — подмигнул он, сворачивая в переулок, хотя девчонкам надо в другую сторону. Поинтересовался, как их зовут, одной прошептал в ухо, что она похожа на свою бабушку, другой прокричал — на дедушку, и они не рады были, что к нему обратились. Тогда он сказал той, которая ему меньше нравилась, но у которой на пальчике поверх перчатки надето было колечко: — Вы не бойтесь, у меня такая профессия — портить людям настроение.
И эта девочка с колечком догадалась:
— Ты клоун?
— Да, — сказал он. — Разве по мне не видно?
Выбежав на платформу, Тая увидела последний вагон электрички и отправилась пешком. За городом ее подобрала попутка. В кабине Тая капюшон с головы не снимала, опять обхватила руками виски и внимательно смотрела вперед, чтобы не пропустить поворот. Узнав дорогие знакомые холмы у развилки дорог, она попросила шофера остановиться и протянула ему несколько монет. Шофер заглянул ей в лицо и отказался от денег, пожалев девушку, догадываясь, что с ней произошло, и Тая, расчувствовавшись, потопала дальше, вытирая слезы. Вскоре она добралась до деревни, и, когда, поднявшись на крылечко, перешагнула через порог бабушкиного дома, ей удалось, как и Яше, подделать свои чувства, только наоборот — она притворилась веселой, и бабушка ничего не заметила. После обеда глаза у Таи начали слипаться, и, укрывшись тулупом, она прилегла на кушетку, ощущая, как угар понемногу отступает и от него остается сладкая истома. Уже через минуту ей показалось, что береза под окном не голая, и под неутомимый радостный шелест листвы Тая крепко уснула.
Весы, на которых взвешивают коров
1
Сначала папа привел Танечку, а на следующий день украл в колхозе котел.
— Зачем ты его привез? — удивилась Танечка. — Как из него кормить коз — он слишком большой.
Чтобы показать свою власть над этой женщиной, папа нехорошо обозвал ее, и она заплакала, тогда он попросил меня помочь вынести из дома стол. Танечка тоже взялась, а у нее с каждым днем вырастал живот, и папа сказал ей, чтобы открывала двери. Еле вытащили из дома старинный, еще дедушкин стол. Папа прикрутил к столу мясорубку, и Танечка стала крутить яблоки в капроновый чулок, который выжимала над тазиком. На земле вокруг валялись яблоки, а когда я взял одно, Танечка показала папе. В это время подошла коза и стала жевать чулок, привязанный к мясорубке. Прогнав козу, Танечка опять стала крутить за ручку мясорубку, но помешал дождь. Мы решили перенести стол в сарай. После того как умерла мама, земля во дворе от мусора и навоза поднялась, и, чтобы войти в сарай, я взял лопату и стал откапывать дверь. Стол внесли под крышу, и Танечка дальше стала крутить мясорубку, чтобы из яблок понаделать вина. А я спустился к реке, но вода уже осенняя, и я поспешил по дороге, чтобы перейти по мосту на другой берег.
На закате выглянуло солнце. Я бросил плащ в траву, опустился на него и, лежа навзничь, следил за ярко вспыхнувшими на небе облаками. Услышав топот, я вскочил. Мимо прогоняли стадо, когда на дороге появилась Маша. Она боялась коров и спряталась за деревьями. Две женщины, одна пожилая, в телогрейке, а другая помоложе, в платьице с короткими рукавами и босая, брели с хворостинами за коровами и заметили Машу. Та, что помоложе, подмигнула мне, а старуха улыбнулась невесело. Когда коров прогнали, Маша перебежала через дорогу, и мы не успели поздороваться, как эти женщины с хворостинами запели. А вы же знаете, как гладко плывут вечером по воде голоса, и мы смотрели на воду, сколько слышали песню, а потом стыдно друг на друга взглянуть. Маша покраснела и поспешила уйти. А я будто на крыльях полетел — никто в сумерках не видел, что я улыбаюсь, не зная, как сердце удержать в себе, а дома, улегшись в постель и засыпая, с нетерпением ожидал завтрашнего дня, когда увижу Машу.
Утром меня разбудил папа, попросил помочь погрузить котел на телегу. Сразу из постели не хочется во двор, где ветер срывает с деревьев желтые листья, и, если бы не заунывный скрип, с которым папа открыл ворота, я опять бы заснул. Выйдя на крыльцо, увидел в распахнутых воротах лошадь с телегой на резиновых колесах.
— Выпить хочешь? — папа показал бутылку и тотчас спрятал — выбежала Танечка в одной ночной сорочке и поинтересовалась, зачем раскрыли ворота. — Разве тебе не нужны деньги? — нашелся что ответить папа.
Танечка поспешила в постель досыпать. По доске мы закатили котел на телегу. Папа допил из бутылки, сел на телегу и дернул за вожжи. Резиновые колеса зашуршали по гравию на дороге. Со свистом дунуло, за поднявшейся пылью раздалось: дзиньк, — я не сразу догадался, что это вместе с пылью попал в котел камушек, — и лошадь понесла. Пьяный папа свалился под телегу, и колеса проехали по нему. Я подбежал, не зная, жив ли папа, а он вскочил на ноги, и вдруг все то, что у него накопилось ко мне за жизнь, выплеснулось во взгляде, и папа закричал на меня: байстрюк!
Я побрел назад и, войдя к себе в комнату, уставился в зеркало, а за стеной Танечка застонала. Никогда таких стонов я не слышал и догадался: у нее начинается. Я забыл, что папа обо мне сказал, выбежал за ним, но на улице никого, только шуршащий листьями сухой ветер, как перед болезнью.
Я поспешил в колхозную контору, вызвал по телефону «скорую» и — обратно к Танечке. Она разметалась на кровати, будто ей очень жарко. На ее живот я боялся посмотреть, а глаза у нее голубые, притягательные, — я не смог оторваться.
— Потуши свет, — прошептала Танечка, — а то глаза режет.
Я сказал, что взошло солнце, затем понял: ей режет глаза от моего взгляда. Ожидая «скорую», я выглянул в окно — там пьяного папу шатало с одной стороны улицы на другую. Кое-как он добрался до калитки и, взбираясь на крыльцо, сломал перила и на ступеньках заснул. Я дотащил его до кровати и стянул с ног сапоги. Как Танечке ни было тяжело, она поднялась и при мне, не стесняясь, вывернула у папы карманы, но денег не нашла. Тут приехала «скорая», и Таньку увезли, а папа, сразу протрезвев, вскочил, схватившись за голову.
Он сделал вид, будто не замечает меня; кажется, он уже давно не принадлежал себе — ему словно кто-то нашептывал на ухо, чтобы только об одном думал: от него забеременела Танечка или не от него, а я, попадаясь на глаза, напоминал о маме, которая его не любила, но почему-то вышла замуж, и ему жутко было осознать, что он всю жизнь в дураках.
Иногда папа спохватывался и готов был меня, как маленького, поцеловать. Как же он не мог догадаться — кто упрашивал его поцеловать меня? Но едва этот неизвестно кто отступал на шаг, тут же появлялся другой голос — чего только не шептал, наговаривал на ухо, — и, чтобы не видеть меня, папа как уходил утром в колхоз, так к ночи возвращался, всякий раз навеселе, и, когда сообщили, что Танечка родила, не знал: обрадоваться или же напиться до бесчувствия.
Он боялся — как повезет Танечку из роддома, будут над ним смеяться и пальцами показывать, и отправил меня. Когда я в больнице взял на руки ребенка, невольно подумал: а что, если это мой братец, — стал вглядываться в его личико, но Танька поспешила забрать от меня младенчика. И когда мы потом ехали на такси, надо было сказать ей что-нибудь приятное, но ничего не мог придумать, и я ужаснулся: а что же папа скажет? Но его дома не оказалось — только вечером приехал, привез на тракторе весы, на которых коров взвешивают. Собрались соседи и по доскам опустили весы с прицепа, загородили весь двор. Танечка вышла с ребеночком и закричала на папу: зачем их привез, кому эти весы нужны?! Папа не смог удержаться и опять обозвал Танечку. Она поспешила с ребеночком удалиться, даже не заплакала — только большими глазами смотрела. Загодя она понаделала из яблок вина, чтобы отпраздновать, когда родится ребенок, но ей было сейчас не до вина, и тогда стала его дешево продавать мне.
2
Осенними вечерами поднимался над рекой туман. В воздухе летали невидимые, как ангелы, птицы. Такая тишина, что жутко; только слышно: свистят крылья, и Маша спросила:
— Чего молчишь?
— Как тебя увижу, — ответил я, — забываю, что хотел сказать.
— А ты записывай.
И я стал писать Маше письма, а когда встречались, отдавал листочек. При мне, конечно, она не читала; назавтра я заглядывал ей в лицо, надеясь найти в глазах ответ. Маша прятала от меня глаза, а я уже протягивал следующее письмо. Каждый вечер оказывался лучше другого, но когда таких вечеров насобиралось — я будто списал душу на бумагу. А может, так всегда — не заметишь, как наступила осень, и уже вся листва под ногами…
Однажды я пришел на берег и долго ожидал Машу. Никогда она раньше не опаздывала. Хорошо, что я привык глядеть на реку, как заходит солнце и уплывает. Когда начинает смеркаться, конечно, очень грустно, и я уже не ожидал Машу, как она пришла. На другом берегу заунывный взвизг — это у нас заскрипели ворота. Я подумал, кому могли понадобиться весы, на которых коров взвешивают, а потом решил — папа еще один котел украл в колхозе, и я не расслышал, что сказала Маша. Ей пришлось еще раз повторить, а у меня будто ноги отнялись. Так и не расслышав, что она одними губами прошептала, — я догадался, и меня будто током ударило. Я почувствовал, как люблю ее, и ноги сами за ней побежали.
Когда я назавтра проснулся, Маша еще спала. Я поднялся и на цыпочках подошел к окну. Увидел белый двор, заборы, деревья, на которых от выпавшего первого снега прогнулись ветки, тут я услышал, как Маша заплакала. Я подбежал к ней, погладил по вздрагивающим плечам.
— Чего плачешь?
— Я плачу оттого, — пробормотала она, — что ты сейчас уйдешь.
Я лег под одеяло и обнял ее, и Маша меня обняла, а я целовал слезы на ее лице. Маша закрыла глаза, и я закрыл, чтобы все было как ночью. Проснулись, когда уже смеркалось, — в синих окнах падал снег. Я вспомнил, что вчера не выпили Танечкино вино. Наложили дров в печку, подожгли, а потом сидели рядышком на скамеечке у огня и пили вино, передавая бутылочку друг другу и отодвигаясь от печки — жаром обдавало все сильнее. Целовались, а губы от огня горячие; выпили бутылочку и почувствовали счастье. Дрова выгорели, закрыли печку, и очень захотелось есть. Когда чистили картошку, счастье ощущали по-прежнему, и, когда ели, были счастливы, и, целуясь, поспешили в постель понаслаждаться; заснули обнявшись, не зная большего счастья, а назавтра я проснулся оттого, что Маша плачет.
— Чего ты? — удивился я после того, что произошло между нами.
— Я боюсь, что ты уйдешь, — опять прошептала она. — Не уходи.
— А я никуда не собираюсь, — сказал я. — Разве что на работу.
— А ты и на работу не иди.
— Я тебя понимаю, только не плачь, — попросил я Машу, — а что потом — не будем задумываться.
Мы обнялись и — вот так, обнявшись, стали жить. Я любил посидеть у окна, выглянуть, когда идет снег и так чисто и свежо, что на душе просветление. Маша садилась рядом или же на колени мне, и мы смотрели на дорогу. У столба стояла лавочка. Всегда в одно и то же время шла в магазин очень толстая тетка — туда с пустой сумкой, а обратно с полной, — на этой лавочке счищала снег, чтобы передохнуть, садилась и смотрела, куда уходят столбы. Там строился многоэтажный дом из блоков. Построили три этажа, а дальше блоков не хватило или забыли про этот дом, и сквозь оконные проемы без рам видна замерзающая река — от воды поднимался пар.
За рекой жил папа с Танечкой и с младенчиком, и Маша не хотела, чтобы я туда смотрел. Она не знала, что я не хочу к ним возвращаться, — я просто так смотрел на толстую тетку, как она смотрит на столбы, и я за ней вижу сквозь недостроенный дом застывающую реку… Конечно, я чувствовал себя перед папой нехорошо — все-таки нужно сходить домой и рассказать, где я, чтобы он не волновался, но не хотелось никому, тем более — папе, объяснять, что со мной, и все же я вспоминал его каждый день, каждый час по несколько раз. Часто мне чудился визг наших открывающихся ворот, будто папа еще что-то украл и привез, и я стеснялся спросить у Маши — это мне чудится или она тоже слышит.
И вот, никуда я не ухожу, но почему в самые, кажется, счастливые моменты появлялись у нее слезы. Я не мог этого понять, к слезам привыкнуть нельзя, и они стали меня пробирать. Я попытался выяснить у Маши, почему она плачет, — что-то же должно быть такое, и она тогда сказала:
— Сходи в магазин за хлебом.
Я вышел во двор, взял лопату и расчистил снег, чтобы выбраться на улицу. Все эти дни, обнимаясь с Машей, я никого, кроме толстой тетки, из окна не видел, и теперь идти по улице было боязно; я находил все вокруг не таким, как всегда, и мне радостно было дышать свежим воздухом. Я разглядывал любой прутик, торчащий из-под снега, будто никогда не замечал. Такое состояние бывает после болезни — выйдешь на улицу, и тебя еще шатает, неуверенно ступаешь и радуешься всему на свете, только почему-то пугают люди, и сейчас, шагая по пустынной улочке, боялся встретить прохожих, но, вышедши на большую улицу, где ездили машины, увидел сразу много людей и вдруг почувствовал, как соскучился по ним.
Перед магазином отдыхал прямо на снегу пьяный мужик. Устраиваясь — будто дома на перине, он провалился в снег локтем и подпер ладонью щеку, и так, полулежа, внимательно посмотрел на меня. Я поспешил в магазин и там задумался, что же еще кроме хлеба купить Маше, чтобы она не плакала, чем ее обрадовать. И я ничего не мог придумать, как купить бутылочку вина. Выйдя из магазина, едва не споткнулся о пьяного мужика под ногами. Поднимаясь, он спросил: как папа? Я не знал, что ему ответить, и дал рубль. Пьяница остался мне благодарен, а я спиной чувствовал его взгляд, пока не свернул в улочку.
Затопили печку, выпили вино — и все опять стало хорошо, можно лечь в постель, еще одна ночь прошла в объятиях, а когда утром я проснулся — Маша плачет. Я уже не знал, что подумать, в отчаянии закричал на нее — сам испугался, — и стал ее обнимать, как раньше не обнимал, и овладеть ею, в слезах, после того, что она мне сказала, оказалось слаще всего, так хорошо нам еще не было, и я забыл, что она мне сказала, но прошло несколько дней, когда все так же было очень хорошо, она, проснувшись, опять сказала: уходи …
Я оделся и сам едва не заплакал. Маша бросилась мне на шею, как ненормальная, и стала целовать — я даже растерялся. После этого много раз говорила: уходи, — каждый раз заканчивалось, что я не уходил, а, наоборот, все слаще и слаще любовь — так она перерастала в муку, без которой настоящая любовь не настоящая, и вот тогда хочется смотреть вдаль, куда уходят столбы. Однажды, выглянув в окно, я увидел в недостроенном доме рабочих, услышал, как они стучат и весело переругиваются, и позавидовал им. Маша подошла сзади и закрыла мне ладонями глаза.
— Ты разве не видишь, какой этот дом уродина, и к тому же он заслоняет вид на реку. А эти рабочие несчастные, — добавила Маша, — пока они здесь — их жены с другими, разве ты не понимаешь, почему они так безобразно ругаются.
Целуя ей руки, я губами почувствовал, как она вся дрожит и сейчас заплачет. Я повернулся к ней. Сквозь слезы она посмотрела на меня, а я поспешил отвести в сторону глаза, когда до чертиков все это надоело, и выдал себя. Маша поняла, что я не женюсь на ней, — я никак не могу найти удобного момента, чтобы уйти без ее слез. После этого мне нельзя уже оставаться, я набросил на себя пальто и выскочил на улицу.
Под мотающимися на ветру проводами побежал, минуя столбы, но чем дальше шагал, тем нестерпимее становилось на душе. Наконец стало так больно, что я повернулся, будто что-то забыл, и поспешил обратно, затем побежал — еще быстрее, чем сначала, — тут навстречу толстая тетка. Она взглянула на меня, но я не успел разглядеть ее лица. Она дальше побрела с пустой сумкой в магазин, а я, оглянувшись, увидел черный платок — от него повеяло смертью. Когда я вернулся, Маша еще плакала; мне показалось — она как-то по-другому плачет, и — действительно, вытерла слезы, достала из шкафа свою рубашку и протянула, чтобы я надел ее. Затем отрезала у себя волосы и подала их вместе с письмами, которые я ей писал.
3
На мосту дул сильный ветер. Я давился им, поворачивался спиной, чтобы вздохнуть. В деревне затишье среди домов — легче идти, и я наконец увидел, что снег осел и почернел, на дороге лужи, и я осознал, что пришла весна. Я сначала не понял, почему посреди улицы идут люди и машины останавливаются, — вдруг подумалось о самом ужасном, я решил — папу хоронят. Я спрятался за дерево, ожидая, когда похороны подойдут и я пристроюсь к ним. Но когда они подошли, папу не увидел, а увидел Танечку с маленьким гробиком под мышкой. Я не мог знать, кем приходится мне Танечкин ребенок, и только сейчас онемевшим сердцем почувствовал, кем он мне приходится.
Когда наступила весна, снег на дороге превратился в лед — по нему осторожно, парами — как в детском саду, с бумажными цветочками в руках, боясь поскользнуться, брели дети. Их выпроводили родители, не упустив такого подходящего случая для воспитания, а сами побежали на работу в колхоз, где бригадир не отпускал на похороны грудного младенца. Как всегда, дети подражали взрослым — надули щеки, в одной руке букетик, а другую прижимали к груди, выражая чувства от всего сердца. Девочки платочками вытирали слезы, но были и такие мальчики, что хихикали и подставляли девочкам ножки — и потекли настоящие слезы. Эти мальчики заметили меня за деревом и показывали пальцем, не забывая при этом толкать других мальчиков и девочек, — и все они стали на меня показывать, а я, не зная, куда деться от их пальчиков, когда ужасно скорбел по своем братце, представил себя среди детей в процессии — не заметишь, как вымажут спину мелом или сажей или еще чего придумают, — вот этого я забоялся и поспешил домой, надеясь увидеть папу. Я понимаю, почему папа не пошел на похороны, — он тоже боялся детей.
Подошедши к дому, я увидел распахнутые ворота и елочки, разбросанные по льду. Из окна выглянул папа, и я, еще недавно думая, что он умер, обрадовался ему. Когда я вошел к нему в комнату, он, как бы оправдываясь, объявил, что сейчас должны приехать за весами, на которых коров взвешивают, и поэтому никак не мог пойти на похороны. Наконец спрашивает у меня:
— Где ты был?
Я не знал, что ему ответить, а папа, все понимая, положил мне руку на плечо. И, когда он пожалел меня, я стал рассказывать:
— Один день Маша меня любила, а другой ненавидела, — передернул я плечом, все еще ничего не понимая, — и так жить оказалось очень тяжело. И если бы не было настоящей любви, я сразу бы ушел, а так терпел, сколько мог.
— А ты ду-умал, — протянул папа, — это же жизнь, жизнь, — повторил. — Вот теперь Танечка заспала ребенка… Как это могло случиться, зачем?
Я сразу не понял этого выражения.
— Как это заспала?!
Папа развел руками. Я вспомнил, как покойный дедушка точно так же разводил руками, и я еще вспомнил невольно, как дедушка при мне обозвал папу «байстрюком» и папа, не зная, что ответить своему папе, выскочил пулей из дома. И я теперь — по рукам, по одному жесту, узнал в папе дедушку, и — вспомнилось времечко, когда вообще ничего не понимал в жизни, и, может, поэтому голубее неба и ярче солнышка не помню.
На улице загрохотал трактор, остановился у раскрытых ворот. Папа побежал за соседями, и я тоже вышел во двор. Железные весы за зиму примерзли к земле. Соседи принесли лом, по очереди долбили землю, пока кто-то не догадался отливать весы кипятком. Я стал выкручивать из колодца воду, кипятили ее, да не одно ведро, — и охватывали весы. Когда у всех промокли ноги, наконец удалось оторвать весы от земли. Соседи положили на тракторный прицеп две доски, по ним мы затащили весы наверх, закрыли борт, и, с ухмылкой в бороде, румяный мужичина, которому понадобились эти весы для коров, рассчитался с папой, как обычно, водкой. Папа пригласил соседей, они спрятались от жен в сарае и на дедушкином столе, к которому еще с лета прикручена мясорубка, стали отмечать поминки, а меня забыли, и я закрыл ворота — в сырую погоду, когда таял снег, они не проскрипели.
Я вошел в дом, надеясь побыть один, но уже вернулась с кладбища Танечка — никто и не заметил. Она собирала чемоданы и не услышала, как я тихо вошел.
Я пожалел ее.
— Уезжаешь?
— Когда загорится дом, — обернулась она, чтобы пояснить про чемоданы, — знать за что хвататься.
Я увидел, какие у нее голубые и безумные глаза после того, как похоронила ребенка, и поспешил в свою комнату. Я сбросил мокрую одежду и раскрыл шкаф, чтобы переодеться. На внутренней стороне створки шкафа каждый год бабушка писала химическим карандашом, когда «бегала» корова, и я вспомнил эти страшные дни, а переодевшись, нашел бабушкину тетрадку с молитвами, написанными тем же химическим карандашом. Как раз соседи привели пьяного папу, но я не мог помолиться, когда за стенкой он ругался, и — сейчас заметил мешки с зерном. Я стал перетаскивать их от одной стены к другой, чтобы добраться до кровати. Снизу мешки прогрызли мыши, и зерно высыпалось под ноги. Я лег и сразу заснул — и так тяжело, что во сне хочешь проснуться, но не можешь. Наверно, так можно умереть, и, если бы меня утром, протрезвев, не разбудил папа, может, я и не проснулся бы, но папа разбудил, и я еще ухватился за обрывки сна, но, как ни старался удержать его в памяти, только руками развел.
— Где ты был? — Папа подсел ко мне на краешек постели. — Я зимой волновался, думая о тебе.
— Я вчера все рассказал, — отмахнулся я. — Неужели не помнишь?
Папа удивился, что забыл, как со мной вчера разговаривал, и тут же, спохватившись, сделал вид, что помнит. Сконфузившись, он поспешил уйти. Надевая рубашку, я невольно вспомнил Машу, и вот сейчас из всего мучительного сна, ускользнувшего от меня, всплыло — будто вижу Машу с «моим» животом, а она идет под ручку с ухмыляющимся новым хозяином весов, на которых коров взвешивают. И я так отчетливо увидел, что услышал, как у него сапоги скрипят. Я не мог пуговицы застегнуть, кое-как оделся и вспомнил о письмах, которые вернула Маша. Я испугался, что папа с Танечкой найдут их и прочитают — будут рассказывать по деревне, и все будут смеяться. Я вздохнул, когда нашел письма, но Машины волосы потерял, не смог отыскать после того, как Танька перевернула полдома, собирая чемоданы, а в чемоданы под Танечкину кровать я не полезу. Я стал перебирать свои письма к Маше. Из них выпал листочек, и это был не мой листочек, поэтому и выпал. Я нагнулся за ним и, как он лежал на полу, прочитал: ты мое сердце. У меня голова закружилась, и я прямо сел на пол, на зерно, что вчера рассыпал. Я решил — это Маша написала мне перед тем, как отдать письма при расставании, потом вижу — не ее почерк, и тогда догадался, что это ей кто-то написал, а она хранила этот листочек вместе с моими письмами. Теперь я понял, почему она плакала, когда я целовал ее. Чего только ей не писал, а до этих простых слов про сердце не догадался, и мне стыдно стало вспомнить, что ей писал.
Когда я вышел во двор, папа успел выпить и сделал вид, будто не замечает меня. День тихий, теплый, и ветки на деревьях запахли весной. Папа решил выпустить из сарая коз, но не мог вместе с Танечкой справиться с ними или же специально выпускал в сад — может, радуясь засыхающим яблоням, которые посадила мама. Я пытался выгнать коз, но заборы в саду поломаны, и, когда я стал чинить их, Танька заявила, что это не мои заборы. Чтобы разобраться, чьи они, на это надо жизнь положить; жалко жизни — я проходил мимо, будто не замечая, как козы обгрызали кору на стволах, — при этом сердце кровью обливалось.
В зоопарке
Пока оденется утром, она стала так уставать, что опять ляжет, а когда все же поднимется — голову катит по стене, затем ноги переставляет. Еле добрела до соседей и попросила их сообщить сыну в город. Через несколько дней приехал Гоша, и старухе сразу полегчало. Он пробыл неделю, и мать выздоровела, но когда Гоша достал чемодан, в глазах у нее появилась прежняя грусть.
— Поехали со мной, — предложил ей Гоша.
Старуха вспомнила про огород, и Гоша понял: если его не посадить — мать будет думать о нем днем и ночью. Гоша пошел на почту и позвонил жене, что задержится, пока посадит огород, но Любочка озабочена была чем-то другим.
— Что с тобой? — встревожился Гоша.
Она чуть не заплакала:
— Мне приснился страшный сон!
— Ну, это ерунда, — усмехнулся Гоша и, выйдя на улицу, забыл о телефонном разговоре, направляясь в колхозную контору, чтобы выписать лошадь.
Весна была поздняя — в лесу еще полно снега, и никто огородов не пахал. В ласковую погоду, когда вытянулась на лугу зелененькая нежная травка, работалось в охотку, хотя заболели с непривычки руки и спина, но заныли приятно. Гоша наслаждался, не зная, будет ли он еще когда-нибудь возить на коляске навоз и разбрасывать его по своему огороду.
Назавтра с утра морозик, и, когда шагал на конюшню, подмерзла на дороге корочка и лужи застыли; затем, когда привел лошадь, поднялось яркое солнце, земля оттаяла, и, когда Гоша начал пахать, а соседские бабы стали за ним садить картошку, никто представить не мог, что вернется зима.
Огород расположен на косогоре, внизу еще топко, и земля там тяжелая — лошадь начинала бежать, затем прыгала, выскакивая на луг. От копыт в траве оставались глубокие следы, на глазах они заполнялись водой. Выдернув из земли плуг, Гоша бежал за лошадью, поворачивая ее назад, а у самого сапоги утопали, и — когда начинал новую борозду, — выйдя на сухое, лошадь останавливалась, чтобы передохнуть. Ожидая, пока она успокоится, Гоша счищал с сапог налипшую грязь; поднял голову — на горке у ворот увидел сгорбившуюся мать с палочкой. И, пройдя еще круг, останавливался, а мама, опираясь на палочку, так и простояла до обеда на горочке.
На небе незаметно потускнело, и после того, как управились с огородом, Гоша пригласил баб обедать. Сели за стол — за окном повалил хлопьями мокрый снег, а к вечеру лег на посаженную картошку.
Назавтра собрали чемодан и сумочку с едой, посидели на дорогу, заперли дом и вышли за калитку к остановке. Дожидаясь автобуса, старуха не выдержала, заплакала, а Гоша, едва сам удерживаясь от слез, отвернулся и посмотрел вдаль.
На станции сели в поезд, и, когда колеса застучали на стыках рельсов, Гоша забрался на верхнюю полку и оттуда лежа смотрел в окно — смотрел сколько можно было, пока не начало смеркаться, и наконец уставился на себя в черном стекле. Закрыл глаза и долго не мог уснуть. И — не уснул как следует, а только забылся. Утром пробежала по коридору проводница — через простыню почувствовал ветер и очнулся. Начинало светать; из вагона, где еще не отключили электричество, — снег за окном и небо были синие. Гоша слез с полки и удивился, что мама давно поднялась и смотрит на снег и дальше в небо.
— Уже немного осталось, — сказал он, пытаясь ее приободрить. — Ну как — поспала?
— Голова на колесе, — вздыхая, ответила старуха.
Поезд замедлил ход и остановился на какой-то маленькой станции. Проводница в тамбуре открыла дверь, и в вагон ворвались с ветром крики петухов. На соседнем пути остановилась пустая электричка. В ней ярко светились голые окна, и синева вокруг уплотнилась. Маленький человечек в длинной, до пят, шубе влез в электричку. Она понеслась дальше — и стало жутко, как этот человечек в шубе трясется один во всех вагонах. И, как часто бывает, показалось, что не электричка движется, а поезд, в котором Гоша с матерью смотрели в окно, и, когда она умчалась, открылся снежный чистый пейзаж. Незаметно продолжало рассветать; вдруг сделалось совсем видно — будто приехали на станцию, где начинается другая страна. В окна слепила белизна — пассажиры начали изнывать, вышли на перрон покурить, вернее, не вышли, а выпрыгнули — вагон был последний, и перрона здесь не было. Гоша решил тоже подышать свежим воздухом, вышел в тамбур и выпрыгнул в снег. Оказавшись на краю обрыва, увидел внизу забор, распахнутые ворота; возле костра рабочие раздумывали, как бы опохмелиться. Гоша почувствовал, как им эта бель режет глаза, а от морозного свежего воздуха мутит. Ветерок сносил дым от костра на деревья за забором, которые едва проступали из тумана. Застывшие вдали, они походили на столбы этого же сизого дыма, клубами поднимающегося вверх.
Из вагона мать постучала в окно, и Гоша побежал назад.
— Ты забоялась, — спросил у нее, вернувшись, — что уедешь без меня? А я смотрел на семафор, там и сейчас красный свет.
— Там будет то же самое, — объявила старуха, и Гоша не сразу понял, где там, но, когда понял, — не стало страшно, и, удивляясь, переспросил:
— Неужели то же самое?
Он выглянул в окно и опять начал рассматривать столбы, заборы, будто их не увидит никогда, если они везде, и позавидовал пьяным рабочим, которые все еще сидели, задумавшись, на корточках у костра. Поезд наконец покатился; дым от костра и деревья вдали одно за другим исчезли за зданием вокзала. Когда окна на фасаде совпали с окнами на противоположной стене, — сквозь них еще раз промелькнули деревья и снег. Проехали поселок, а за ним поезд загрохотал на железном мосту. Внизу бурлила черная вода в снежных чистых берегах.
За рекой потянулся лес, в просеках ему конца не было видно — так ехали несколько часов, затем начал просматриваться горизонт и открылось голое поле, где торчали домики с дымящимися трубами. Вокруг все те же столбы и заборы — за ними показались многоэтажные здания большого города, но до вокзала еще далеко, и лишь тогда, когда поезд второй раз прогремел по мосту через реку, пассажиры засуетились.
Выйдя из поезда на перрон, Гоша с матерью побрели к метро и спустились в него. У Гоши в одной руке чемодан, за другую вцепилась мать, и, когда в набитом людьми вагоне их прижали друг к другу, он почувствовал, как на матери каждая жилочка трясется. Вдруг ее рука ослабела, пальцы разжались, и Гоша едва успел подхватить старушку. На следующей остановке он вытащил мать из вагона и дотянул до эскалатора. Наверху старухе полегчало, и Гоша обошел с ней вокруг станции метро, но ни одной скамейки не увидел. Дальше находился зоопарк, и Гоша вспомнил, как, познакомившись со своей Любочкой, пригласил ее в зоопарк — и они там сидели на лавочке. Гоша купил билеты и повел маму в зоопарк. Заметив, как посетители зоопарка оглядываются на них, улыбнулся, когда можно было заплакать. Лавочку, на которой сидел с будущей женой, заменили на другую, новую, но Гоша не обратил внимания, пытаясь вспомнить, о чем тогда разговаривал с Любочкой. Он усадил маму на лавочку и поспешил назад, чтобы «поймать» на улице машину.
Старуха, оглядевшись, увидела клетки со зверями — и понять не могла, зачем Гоша привез ее сюда. На какую-то минуту она почувствовала себя легко, болезнь ее отпустила, и старуха вздохнула. Люди, конечно, не услышали, а звери в клетках насторожили уши и загрустили сильнее. Вскоре к воротам подъехала машина. Гоша подбежал к матери и помог ей подняться. Таксист недоумевал, глядя, как Гоша вывел старуху из зоопарка и усадил в машину. Гоша решил ничего не объяснять — посматривал на мать, но при чужом человеке не спрашивал, как она себя чувствует, и — чем ближе подъезжали к дому — все больше думал про жену, как та встретит старуху.
Расплатившись с таксистом, Гоша взял чемодан — в другую руку снова вцепилась мать. Они взобрались по ступенькам в подъезд, и Гоша заметил, что почтовый ящик забит газетами. Когда он открыл квартиру — на окнах шторы, и воздух застоялся, будто давно здесь никто не живет. Гоша поспешил раздернуть шторы и открыл форточки, потом обнаружил записку от жены. Не желая объясняться и воспользовавшись случаем, когда муж уехал в деревню, Любочка написала, что ушла.
Гоша стал варить кашу и накормил мать, затем наложил себе, но каша в рот не полезла. Тогда он вспомнил про почтовый ящик, спустился вниз и нашел среди газет письмо, которое написал из деревни жене, и обрадовался ему. Поднявшись в квартиру, Гоша распечатал письмо и стал читать с того места, куда попал взгляд:
Я не помню: в связи с чем писал в первом письме о душе. Так что я, может, не о том сейчас пишу, но где логика, связь между местом, где болит душа, и идеей сверхчеловека. Хотя, может, пока дойдет письмо, ты уже сама забудешь, что написала, как и я. Когда многое утрачено, и — малое драгоценно либо совершенно бесполезно. Как для кого! В конечном счете, мы все разбазариваем, и далее делится на 2, на 3, и т. д., и люди привыкают ко всему; а может, не делится, а повторяется. Какие могут быть мелочные обиды, если мы созданы для любви. Еще мне подумалось, что маленькая разлука — это для того, чтобы отлежалось в душе. Снятся сны с тобой, а сегодня приснилось, что ты беременная и должна скоро рожать. И мне было очень страшно. Мама поднялась в полседьмого и спросила, куда девать сено? Я ей сказал, что еще не начинала расти трава. С самого утра дождь, после обеда выглянуло солнце, и с мокрых крыш начал подниматься пар. Если бы не было веселой желтизны, а немного бурого, — вечер смахивал бы на сентябрьский, совсем как тот, когда мы познакомились, и почему-то вспомнился Кизляков. Он будто не мог понять, что мы полюбили друг друга, и привязался за нами. Я разговаривал с тобой глазами, а когда он заметил — как раз хлынул дождь, и Кизляков убежал, будто спрятаться, а мы целовались под дождем, и я никогда не был так счастлив…
Как раз зазвонил телефон, и Гоша догадался, к кому ушла его жена. Он взял трубку, почувствовав, что голос у него звучит не изнутри, а извне, будто он не здесь, а там — в каком-то другом месте и другом времени, — и ему тут сообщили, что Любочка находится в психиатрической больнице.
Он пошел на кухню и стал есть холодную кашу. Затем помыл тарелки и кастрюлю и, собираясь в больницу, увидел, какое лицо у матери.
— Ну, все же хорошо, — сказал он ей. — Наконец добрались. Чего загрустила?
— Скучаю по тебе, — ответила старуха.
— Как это скучаешь, — удивился Гоша, — если я перед тобой?
— Скучаю по тебе — маленькому, — пояснила мама. — Я хотела бы подержать тебя на руках, как когда-то, — с грустью добавила она.
Гоша вышел на улицу и сел на трамвай. Трамвай проезжал через кладбище. Сейчас оно завалено снегом — ни души, только собака пробиралась между могилами. Гоша подумал, что ей нужно на кладбище, и собака оглянулась. Сразу за кладбищем находился пруд — на другой стороне парк, и здесь — ни души. Опять повалил снег. Давно ему надо растаять, но снег все сыпал и сыпал, и весну выдавали одни дали. Если посмотреть на другую сторону пруда, заметно, как деревья уже иначе чернеют, а еще дальше все сливается в густую синеву, чересчур яркую для зимы.
На следующей остановке Гоша вышел. Однажды летом он приезжал сюда вместе с Любочкой, когда Кизляков заболел непонятной болезнью и лечился здесь. День выдался тогда чудный; вдоль дорожек цветники — подобных Гоша даже при церквях не видел, а теперь одни сугробы, и под деревьями снег изрешечен каплями. Гоша еще вспомнил: ему кто-то рассказывал, что психические болезни заразные и необходимо остерегаться людей со странностями. Ничего такого с Кизляковым не происходило, разве что он почувствовал внутри себя огненный шар. Гоша этому не верил, усмехался, а сейчас испугался, и ему открылась тайная жизнь его жены. И вот тут, только вспомнив Кизлякова, Гоша встретил его. Навестив любимую женщину, Кизляков, задумавшись, шагал навстречу и, глядя прямо в лицо Гоше, не увидел, а тот не стал окликать его и отвернулся. Два мальчика в синих пижамах — из тех, кто прикидывается, чтобы не идти в армию, несли на носилках старуху. Мальчики положили на снег носилки и встряхивали руками, чтобы размять онемевшие пальцы.
Гоша поднялся в больнице на второй этаж и нажал на кнопку перед железной дверью. В окошечко сбоку выглядывали по очереди глаза, и, когда медсестра открыла, Гошу обступили женщины — стали подмигивать, хихикать. Гоша растерялся, но тут увидел жену в больничном халате и поспешил к ней. У Любочки брызнули слезы на грудь Гоше, и он сквозь рубашку почувствовал, какие они горячие. Гоша стал гладить жену по вздрагивающим плечам, успокаивать и, когда она взглянула на него, спросил, вытирая платочком ей щеки:
— Что случилось?
Любочка заметила, как и у него изменилось лицо.
— А что с тобой? — пролепетала.
Гоша попробовал улыбнуться и поцеловал ее.
— Ты не рада мне?
— Почему же?
— Я рад, что ты рада, — сказал он с грустью, глядя в окно, где опять пошел снег. — Когда она закончится? — вздохнул.
— Зима? — переспросила Любочка. — В этом году очень длинная зима, и поэтому мне стали сниться страшные сны.
— Я понял, — сказал Гоша, — у сумасшедших сны наяву.
— Откуда ты знаешь? — удивилась Любочка. — Когда растает снег, — заявила, — я выздоровлю. Хочется сбросить больничный халат и пройтись по улице в прозрачном платьице, чтобы мужчины оборачивались.
— Как тебя лечат? — спросил Гоша. — Таблетками?
— Мне от них, — пожаловалась Любочка, — втягивает внутрь лоб с хрустом.
Когда он уходил, опять из палат сбежались женщины, с серыми лицами после долгой затяжной зимы, и, заглядывая в лицо, улыбались, беззубые, страшные, — все больше старухи, и даже девушки, похожие на старух, и Гоша даже не помнил, как с Любочкой попрощался.
Выходя из больницы, Гоша услышал, будто мама позвала его и что-то сказала. Как раз он проходил через арку — звуки в ней были гулкие, и Гоша подумал: ему почудилось. Бредя дальше по улице, едва не столкнулся с Кизляковым, вышедшим из винно-водочного магазина. Тут мама в другой раз позвала Гошу, и он даже оглянулся. Он, конечно, не увидел ее, но голос услышал отчетливо. Мама сказала: чувствую себя, как в зоопарке, — и Гоша понял, что произошло, зачем, почему она позвала его и где она сейчас. А Кизляков не ожидал встретить Гошу и испугался. Он забыл поздороваться и показал бутылку вина, но Гоша отказался, сославшись на то, что его позвала мама.
— А я не услышал, — изумился Кизляков.
— Ты не услышал, — пояснил ему Гоша, — потому что она не твоя мама, и если я услышал, а ты не услышал, это еще ничего не означает.
Он побежал к остановке и вдруг почувствовал, будто у него спичкой чиркнули в груди. Гоша понял, что и он заразился огненным шаром и спешить теперь некуда и незачем. Он вспомнил, как утречком в поезде мама сказала: там будет все то же самое, что и здесь, — и успокоился, вздохнул. Еще он вспомнил — когда летом навещал с женой Кизлякова, — сбежались из палат мужчины посмотреть на Любочку. И где она сейчас, — подумал Гоша и, после того как сегодня сбежались женщины посмотреть на него, испугался: а где же я буду завтра?..
Рояль
1
На скамейке напротив сидела девушка — за букетом ее лица не видно. В вагоне сильнее, чем цветами, запахло рыбой — сразу за переездом рыбный магазин, дальше улица опускалась к реке.
— Ты любишь город? — спросила у Павлушки девушка с букетом.
— Когда жил в нем — не любил, — признался мальчик, — а сейчас полюбил.
— А где ты теперь живешь?
— Мама развелась с папой, и мы переехали к бабушке в деревню.
— Сейчас едешь к папе?
— Нет, папа женился — у его новой жены рыжая девочка, — сказал Павлушка, — и я не хочу видеть, как она играет на моем пианино.
— Почему же ты не забрал пианино в деревню?
— Я перестал на нем играть.
— Почему?
Мальчик не ответил. У вокзала поезд остановился. Пассажиры выбрались из вагона на перрон и разошлись кто куда. Павлушка побежал, свернул в переулок — навстречу стадо коров; за ними брели, спотыкаясь, пастухи. Они опохмелились и уже никуда не спешили. Мальчик опять побежал, вскоре остановился, чтобы отдышаться, но, разволновавшись, не мог отдышаться. Приоткрыл у Куркиных калитку и заглянул во двор. Как раз мама Ольки поливала из лейки цветы у крыльца.
— Олька спит, — сказала мама.
— А когда проснется?
— Она только что пришла.
Павлушка побрел дальше, зазвонили в церкви, а куда еще можно пойти в воскресенье утром — и он обрадовался.
Идти в церковь надо мимо отеческого дома — нельзя не зайти, но Павлушка боялся увидеть девочку, которая играет на его пианино. Сквозь тучи пробилось солнце и ударило в окна. Одно было распахнуто, и в нем от мух сетка. Раньше этой сеткой накрывали ящик с цыплятами. У Павлушки защемило сердце, он не выдержал и поднялся в дом. Когда папа увидел его, смахнул со щеки слезу и, не зная, куда деть глаза, уставился в сетку на окне. Впрочем, это не сетка, а кусок жести, в котором папа пробил гвоздем дырочек, чтобы цыплята в ящике не задохнулись. На солнце надвинулась туча, зашуршал по крыше дождь, и опять зазвонили в церкви.
— Как мама? — спросил папа.
Тут в сенях стукнула дверь, но прежде новой жены папы вбежала Жучка.
— Сбегай, Мотя, в магазин, — сказал папа, когда жена вошла. — И не забудь бутылочку вина.
Тетя Мотя оглянулась на Павлушку.
— Ты не видишь, что он уже взрослый? — добавил папа.
— Ничего не хочу! — заявил Павлушка. — Только посмотреть на пианино.
Он вошел в бывшую свою комнату. На кроватке спала девочка. Почувствовав на себе взгляд, она открыла глаза и сразу не могла понять, где она. Наконец вспомнила, на лице ее выразилось отчаяние — куда она попала, и Павлушка выбежал.
Во дворе чуть не упал, наступив на шнурок; присел, чтобы завязать его, а Жучка, выскочив вслед и виляя хвостом, попала по лицу. Отгоняя Жучку, Павлушка увидел девочку в окне и скорее шагнул за калитку.
Дождь закончился, выглянуло солнце, и мальчик прошел мимо церкви к стадиону. Ворота с чугунной решеткой распахнуты. Тень от решетки падает на лужи и на постамент с гипсовой скульптурой. Дальше еще постаменты, аккуратно побелены, но скульптур уже нет. За воротами шелестят деревья перед некошеным зеленым футбольным полем. Павлушка зашел за трибуны; над головой деревянные скамеечки и лучи солнца. Мальчик пролез в дырку в заборе, идет по глинистой скользкой после дождя дорожке, боится поскользнуться в белой рубашке. Пока не выбрался на улицу — над белой рубашкой каркает ворона.
У рыбного магазина лошадь. На телеге воняет рыба в бочках. За магазином железнодорожный переезд, где Павлушка проезжал утром. Закрывается шлагбаум, можно успеть перебежать, но Павлушка смотрит на лошадь, затем на вагоны один за другим. В открытом окне рука женщины. Накрашенные ногти сверкнули на солнце электричеством. Поезд прогрохотал, и мальчик, переходя на другую сторону путей, услышал, как гудят рельсы.
Дальше улица спускается вниз, между домами проплывает труба парохода. Павлушка бежит, за спиной развевается рубаха. На берегу трактор распахивает зарастающий травой пляж. Там уже собрались папины друзья, а пьяный Куркин, подойдя к Павлушке, спросил:
— Как Алешка?
— На облаках, — ответил мальчик.
— Как это — на облаках? — не понял Куркин.
Павлушка бросился назад. Ветер с реки подталкивает в спину. У церкви мальчик оглянулся, как внизу у переезда идет поезд, и как плывет по большой реке пароход, и как впадает в нее маленькая речка, а дальше — горы. Там выпал снег и на солнце блестит — больно глазам. Навстречу поезду показался другой поезд, и — другой пароход, а потом можно ждать еще и еще… Птички вьются, от их порхания ветер; кажется, вот-вот самая юркая заденет крылышком по щеке — жарко, воздух густеет и застилает дальний берег синью, от которой становится тревожно.
Все же осмелился зайти в церковь. Пробравшись к самой большой золотой иконе, чуть не опрокинул вазу и узнал букет девушки, с которой ехал утром в поезде. Поставил свечку и скорее на улицу, а там идет рыжая тетя Мотя с дочкой.
— В магазин? — догадался Павлушка.
— Да, — кивнула тетя. — Пусть лучше твой папа выпьет дома, чем пойдет на пляж с друзьями; еще утонет, когда после обеда вода становится ледяная.
— Они уже там, — доложил мальчик, — а Куркин так напился, что забыл, где сейчас Алешка.
— Почему после обеда, — спросила девочка, — ледяная?
— Когда припечет солнце, — объяснил Павлушка, — в горах начинает таять снег.
2
Чтобы пройти на кухню, пролез под веревкой; они и во дворе, и на крыльце у Куркиных, а Олька у плиты вздрогнула — никак не ожидала его увидеть.
— Как ты вырос, — изумилась она, — и как ты похож на Алешку!
Мальчик показал, недоумевая:
— Что это за веревки?
— Бабушка стала плохо видеть, — начала объяснять Олька, — и поэтому везде протянули, чтобы она могла ходить, как в больших городах троллейбусы.
— А что, если я подарю ей иконку? — спросил Павлушка.
— Бабушка будет очень рада.
Пройдя вслед за Олькой, мальчик увидел у окна старушку в очках с толстыми стеклами. У нее так тряслись руки, что она не могла взять иконку.
— Паркинсон замучил, — как бы оправдываясь, сказала она. — Кто это?
— Бог, — ответила Олька, устанавливая иконку на подоконнике перед бабушкой.
— Не похож, — пробормотала, вглядываясь, старуха, и Павлушка подумал, что ей видней.
Олька убежала на кухню, а мальчик огляделся. Половину комнаты занимал рояль. Уже давно Павлушка не хотел, не мог играть на своем пианино, но рояль — это РОЯЛЬ, — и у мальчика сквозь загар вспыхнули щеки. Олька принесла бабушке обед, а Павлушка выскочил на крыльцо. Опять небо заволакивало, солнце потускнело, и стало душно. Олька вернулась на кухоньку — тут раздался визг поросенка. Павлушка выглянул в коридор и через открытую дверь увидел, как на кухне бьется в окно птичка. Олька распахнула окно, и птичка выпорхнула.
— Влетела через форточку, — объяснила Олька и приложила руку к сердцу, стараясь его успокоить. — Как я испугалась!
— А откуда поросенок?
— Это я так завизжала! — засмеялась она. — Хочешь вина?
— Давай возьмем бутылочку, — предложил Павлушка, — и пойдем на большую реку.
— После того как утонул твой брат, — пробормотала Олька, — я не хожу на реку.
— А я не могу играть на пианино, — подхватил мальчик, — потому что это Алешка научил меня играть. — И еще прошептал: — Пошли тогда в лес.
— Не могу, — покачала она головой. — Я выхожу замуж.
У нее из пальцев выскользнул стакан, но не разбился на коврике на полу, и Олька заплакала. Павлушка сначала даже не понял, почему она плачет; потом догадался: не от пролитого же вина плачет — а оттого, что стакан не разбился и ей счастья, выйдя замуж, не видать.
— Не надо об этом думать, — сказал Павлушка.
— А о чем?
— О чем-нибудь другом.
— Когда у бабушки начинают трястись руки, — начала Олька, — иногда я не выдерживаю, сжимаю их изо всех сил, пока не почувствую, что они уже не трясутся, и только тогда могу думать о другом, — и она опять расплакалась.
— Перестань, — попросил Павлушка, не зная, как ей помочь.
— Я стала некрасивая? — вытирая слезы, всхлипнула Олька.
— С чего ты взяла?
— Растолстела.
— Для меня ты какая была, такая и осталась. — Павлушка не знал, что ей ответить.
— Не надо об этом.
— Ты сама первая начала, — сказал мальчик.
Она улыбнулась с грустью:
— Я рада, что ты меня не забываешь.
— Как я могу тебя забыть? — удивился Павлушка и тоже загрустил.
— Можно я полежу? — Олька будто попросила разрешения и прилегла на диванчик. — Я поняла, — добавила, — с чего начинается старость.
— Ну, и с чего?
— Когда из жизни уходят мечтания, — вздохнула Олька. — Я сегодня, — пробормотала, оправдываясь, — очень рано поднялась…
Павлушка догадался — она сегодня и не ложилась, но не успел опомниться, как Олька закрыла глаза и уснула. Павлушка присел, посмотрел на часы, а его поезд ушел, и что ему сейчас делать, но уйти, когда Олька заснула, не попрощаться, было нехорошо. Мальчик вспомнил, как раньше носил ей каждый день записки от старшего брата, задумался и вздрогнул, когда послышались шаги. Павлушка сначала подумал, что это Олькина мама, затем увидел бабушку. Нащупывая веревку, протянутую вдоль коридора, старуха выбралась на крыльцо и на свежем воздухе глубоко вздохнула. Павлушка поднялся и, выйдя на цыпочках из кухни, заглянул в комнату старухи. Когда старший брат на облаках — а это он научил Павлушку играть, — ясно, почему мальчик перестал играть на пианино, но, подойдя к РОЯЛЮ, не мог сдержать себя и загорелся. Павлушка открыл крышку и заиграл тихонько, но как можно тихонько играть?! Вдруг воздух стал вязкий, тяжелый, — рук не опустить на клавиши. Павлушка обернулся и увидел пузатого какого-то краснорожего мужчину, вытирающего пот со лба. Павлушка догадался, что это жених Ольки, и выбежал из комнаты.
Еще было светло, но на улице ни души, и туча обкладывала небо. Листья на деревьях зашелестели, когда посыпался дождь. Павлушка побрел домой, позабыв, что мама развелась с папой, и папа женился. Загремел гром, ночь в грозу наступила раньше, и сделалось очень грустно, что скоро осень и опять в школу.
3
Сначала мальчика разбудил папа — поцеловал, уходя на работу, — затем тетя Мотя распахнула окошко, вставила от мух сетку, которой раньше накрывали цыплят, и в спальне сразу посвежело. Через дырочки, которые папа пробил гвоздем в куске жести, струились лучики солнца и тянул свежий воздух. На другой стороне улицы ржавая крыша из таких же кусков жести, за ней береза под небо — из окна не видно верхушки.
Выйдя на кухню, Павлушка увидел за столом девочку. Тетя Мотя налила молока, а сама ушла. Поднеся ко рту кружку, Павлушка заметил на большом пальце гусеницу и невольно махнул от себя рукой с кружкой, чтобы сбросить гусеницу, — расплескал молоко по столу, а девочка засмеялась. Павлушка сконфузился, не знал, что сказать, но девочка так смеялась, что и он засмеялся.
Вернулась тетя Мотя — и сразу же на дочку:
— Что ты наделала?!
— Это я, — признался Павлушка и, выходя, дернул за косичку девочку, а на улице вспомнил, что забыл, не попрощался с пианино, но возвращаться не стал.
Поднявшись на горку, мальчик оглянулся, как всегда оглядывался, чтобы посмотреть так — будто никогда не увидишь больше свой дом, и, если так глянешь, — обязательно вернешься. Он оглядывался всегда с отчаянием на лице, а сейчас, когда девочка в окне махала ему и улыбалась, оглянулся с еще большим отчаянием.
Небо синее, бездонное, ни одной тучки; солнце пекло — и Павлушка решил искупаться, пока в горах не начал таять снег. Мальчик повернул к пляжу. После грозы и не подумаешь, что его вчера распахали на тракторе. Земля крепко прибита дождем, но уже на солнце подсыхала, и там, где подсохла, песок под ногами рассыпался.
Павлушка не заметил, как отплыл далеко от берега, и — когда не думал переплывать на другую сторону, — поплыл, не оглядываясь. Он не знал, как сдержать восторг посреди большой реки; затем показалось, что река не такая и большая. Его снесло вниз по течению; выбравшись на другой берег, Павлушка побрел вверх, но начал дрожать и, чтобы не замерзнуть, опять бросился в воду. Опять не заметил, как доплыл до середины, — впереди буксир тащил баржу, и Павлушка испугался волны. Сильное течение проносило мимо пляжа, а за ним низкий берег зарос лозняком, где не выбраться. Плыть все тяжелее — вода сделалась вязкая, как воздух, когда вчера играл на рояле. Буксир давно протащил баржу, а Павлушка все ожидал волну — она никак не приходила, и он понял, что на большой реке волна не дойдет. Его снесло за пляж и за низкий берег, поросший лозняком; дальше река повернула, и ветки дуба нависли над водой.
Выбравшись на берег, Павлушка обогнул лозняки, затем ему пришлось тащиться через пляж — только слышал, как бьется все еще ожидавшее волны сердце, но когда добрел до своей одежды и упал в горячий песок, почувствовал, как замерз в ледяной воде — затрясся, и даже зубы застучали. На берег наползала от облака тень; Павлушка лег на спину, глядя в небо и ожидая, когда появится солнце. А когда оно появилось, все равно дрожал. Песок под ним остывал — Павлушка переполз на другое горячее место, дрожал и думал о маленькой девочке, которая играет на его пианино, чувствуя к ней еще детскую свою последнюю любовь, и не хотел с ней расстаться.
Ваня и Ворыпаев
Глава первая: перепутал
Дома никого не было, и Ваня решил сходить к бабушке через дорогу, а Коля остался с Ваниной невестой. Увидев у бабушки младшую сестричку Алю, Ваня обрадовался. Бабушка сказала, что мама в парикмахерской, и послала за ней Алю. Когда девочка выбежала на горку, мама вышла из парикмахерской, и Аля повернула обратно.
— Идет? — спросила бабушка.
Аля ничего не ответила и спряталась в спальне за швейной машиной. Затопали тяжелые шаги — и все ближе, затем стена в доме вздрогнула. Аля догадалась, что мама села рядом с бабушкой на лавочку и прислонилась к стене. Девочка взобралась на швейную машину и, выглянув в окно, увидела пышную прическу, которую сделали маме в парикмахерской.
— Совсем плохо стало, — пожаловалась Ване мама. — Сегодня еще проживу, а завтра не знаю…
На улице остановилась грузовая машина. Из кабины вылез пьяный папа.
— Зачем тебе прическа, — закричал он маме, — если…
Мама поднялась и побрела с Ваней домой, а шофер открыл борт. Папа бросился ему помогать; они вытащили из кузова гроб и понесли к сараю, но пьяный папа споткнулся и уронил гроб. Раздался гулкий грохот, как с того света.
— Решил подготовиться заранее, — оправдываясь, сказал папа, — чтобы потом не суетиться.
Увидев будущую невестку, мама расплакалась. Ее уложили в постель, и мама закрыла глаза, чтобы не текли слезы. Затем приволокся папа; он слишком был пьян, чтобы поговорить с Ксюхой. В доме накопился тяжелый воздух, и у нее закружилась голова. Ксюха вышла во двор; там голова закружилась сильнее, и, чтобы не упасть, девушка прилегла прямо на траву. К ней подпрыгнул петух, и Ксюха вскочила, испугавшись. Тогда Ваня отправился к бабушке и попросил ее постелить для невесты постель.
— Все ложитесь у меня, — сказала бабушка, — вам надо хорошо выспаться после дороги, — и переставили кроватку Али в кухню около печи, а в спальне положили на полу матрасы.
Проснувшись назавтра, Ваня увидел, как его брат целует Ксюху, которую положили посередине. Выйдя из дома, он пошел осенью по улице в трусах и майке, не зная, куда идет и зачем.
За деревней начинался лес. В лесу текла речка, и он побрел вдоль берега. Вскоре взошло солнце; раздалось щелканье бича. Эхо раскатывалось по лесу, и, кажется, тени от стволов деревьев вздрагивали. Выбравшись на луг, Ваня зажмурился от яркого солнца и не сразу заметил, как рядом с пастухом сидит под кустиком на бревнышке папа. К ним подошла женщина, достала бутылку и налила в стаканы.
— Господи! — воскликнул папа, прежде чем выпить, — прости меня за то, что я обижал покойницу!
Его стало жалко, и Ваня отвел взгляд, чтобы папа не поперхнулся, но вспомнил, как он издевался над мамой, и — тогда, еще ничего не соображая, повернул назад и поплелся нехотя, а потом все быстрее и быстрее. Вдруг он осознал, что мама умерла. Когда он прибежал домой, бабушка уже сама начала распоряжаться — в то время как папа пил водку на лугу. Ваня увидел брата и вспомнил про невесту, но они ничего друг на друга не заимели, когда умерла мама.
Аля проснулась, почувствовав, что ее оставили одну, и открыла глаза. По выступу на печи гуськом ползли одна за другой только что родившиеся мыши, какие-то облезлые, мокрые, гадкие, но девочка не испугалась, а, наоборот, обрадовалась. Тут появилась тетя Зина, взяла метлу и смела мышей на совок.
— Хочешь со мной на поле? — спросила она у Али и, не дожидаясь ответа, поторопила: — Одевайся скорее!
Девочка не могла быстро собраться, но тетя терпеливо дожидалась. Пока они добрели до поля, солнце спряталось в облаках. Женщины, выбирая свеклу, очищали ее от земли и отрезали стебли. Затем приехал грузовик, который вчера привез гроб. Бросая в кузов свеклу, женщины волновались, что не услышат гудок лесозавода.
Когда набросали полную машину, раздался гудок, и, задумавшись о вечной жизни, женщины поспешили на похороны, и на лицах у них разгладились морщины.
Аля была еще маленькая, и ей можно было не идти на похороны. Тетя отвела ее к бабушке, а сама скорее переоделась в лучшую одежду. На улице остановилась машина председателя колхоза, который тоже по гудку спешил на похороны. Аля боялась его и, когда Сургачев вошел в дом, спряталась за швейную машину.
— А я вижу тебя в зеркале, — заявил он Але и попросил тетю Зину положить от него венок на могилу мамы. И, подавая венок, рука его задрожала.
— Какой неприятный человек, — сказала тетя, когда он вышел, — но и он не может забыть первую любовь.
Тут председатель колхоза вернулся. Пока он разговаривал с тетей, улица заполнилась людьми, и ему нельзя было проехать на машине. Тетя Зина с венком ушла на похороны, а Аля осталась одна с Сургачевым.
— Что там, в окне? — председатель посмотрел на часы, потом на Алю в зеркале.
— Туча, — вздохнула девочка.
— А ты видишь меня в зеркале? — спросил Сургачев.
— Да, — кивнула Аля.
Улица все плотнее заполнялась людьми в черной одежде, и, может, поэтому в доме стало сумрачно, будто вечером. Пришли даже из дальних хуторов, и собрались певчие. Когда церковь закрыли, им негде было попеть, и сейчас, когда все очень жалели покойную маму, над которой пьяный папа поиздевался всласть за жизнь, — церковный хор собрался весь, как на праздник, а их насчитывалось больше, чем сто пятьдесят человек из разных деревень. Тут в один голос они запели молитву, и Аля догадалась: гроб с мамой выносят из дома. Девочка, оглянувшись, заметила в зеркале, что Сургачев так же боится ее маму, как и она, — поэтому и передал венок тете Зине. Председатель колхоза даже вспотел, затаившись. На его лице появилась странная улыбка, и от нее девочке стало совсем жутко.
Голоса певчих удалялись вниз по улице; вдруг на одну минуточку сделалось очень тихо, как перед рассветом, пока не забарабанили по крыше капли и всходился ветер, который опять принес молитву. Сургачев осторожно вышел на улицу, и, когда рассматривал в тени под кленом стрелки на часах, подбежала какая-то собака и укусила его за ногу. Сургачев поспешил сесть в машину и уехал. Загремел гром, молодые тонкие деревца отчаянно гнулись, а на старых деревьях оставшаяся листва вмиг слетела. Еще раз треснуло над головой; небо будто раскололи, как полено топором. Все вокруг гудело и стонало, но дождь никак не собирался. На стекла брызнули несколько капель; пейзаж за окном сразу же размылся. Потом хлестануло, да только на минутку. Опять сделалось тихо, тучу пронесло, и на небе посветлело. Во дворах перекликались петухи, уже готово было просиять солнце, когда на крыльце появилась вымокшая невеста Вани, о которой все забыли. Она пряталась в кустах за огородом, не зная, как посмотреть жениху в глаза, и теперь обрадовалась, что в доме одна девочка.
— Горит, горит! — закричали на улице и побежали на пожар от молнии, и еще раз проехал на машине Сургачев.
Ксюха схватила свою сумочку и тоже побежала как бы на пожар, думая о том, чтобы скорее добраться до станции и уехать на поезде в город. Аля поспешила вслед за ней, но бежать далеко — дым повалил в той стороне, где колхозное гумно, и вскоре маленькая девочка оказалась на улице совсем одна. Она побрела, глядя на небо, где в вышине рассеивались клочья дыма, и наткнулась на гроб, который бросили посреди улицы, когда увидели, что горит гумно. И когда рядом никого не было, девочка осмелилась глянуть на маму, и, заметив на ее лице незнакомое ей выражение, какого ни у одного живого человека не встречала, она не испугалась, а, наоборот, шагнула ближе…
Назавтра с самого утра отправились на кладбище «будить» маму, и бабушка взяла с собой Алю. Из собравшихся родственников и соседей никто не помнил молитв и не умел петь, и они стали пить на могиле водку. Аля попросила у бабушки разрешения спуститься к озеру и сбежала вниз по дорожке между памятников и крестов за оградами. На берегу в бурьяне сидел рыбак с удочкой. Вода в озере после дождя была мутная; чего только в ней не плавало — бутылки, доски, даже оконные рамы. На другом берегу лепились сараи, а за ними строили новую колхозную контору. Ветерок поднимал рябь на озере; бурьян и оставшиеся листья на деревьях шелестели. Солнце заволоклось дымкой, на сердце легла тень, а ветерок все повевал и повевал — рябь на мутной воде пробегала шире, и разрасталась в душе тревога. Услышав голоса старших братьев, Аля оглянулась. Они, спускаясь к озеру, заметили в кустах сестру, но подумали, что маленькая девочка ничего не понимает. Когда умерла мама — не из-за Ксюхи же выяснять отношения, и братьям хотелось обняться и расплакаться, да стыдно перед сестричкой. Она же все почувствовала и скрылась в зарослях, никак не могла выбраться на дорожку и опеклась в крапиве. Едва сдерживая слезы, нашла другую дорожку и направилась вдоль кладбищенского забора, однако дырки в нем не обнаружила. Ей следовало бы вернуться, но девочка обогнула кладбище и с другой стороны подбежала к распахнутым воротам.
Из разговора взрослых Аля узнала, что вчера на пожаре председатель колхоза испугался, и его парализовало вместо ее папы, который пьяный издевался над мамой; и — возвращаясь с кладбища, без конца повторяли: перепутал, перепутал, — а девочка еще не понимала, о Ком так говорят. И, когда проходили мимо дома Сургачева, решили зайти к нему. Председатель лежал в постели, и его жена принесла еще одну подушку. Ее подложили Сургачеву под спину, чтобы он мог сидеть. Председатель колхоза обрадовался, что с бабушкой пришла Аля, и улыбнулся, а девочка уже не боялась его.
Глава вторая: слышишь, светает…
Выйдя из вагона, Ксюха направилась куда все — на набережную. Сильный ветер раскачивал на реке синие волны с барашками, и Ксюха схватилась за поля на шляпе. Два мальчика ехали на велосипеде, упали и засмеялись. Ксюха подумала: с нее смеются, и поспешила пройти мимо. Один из мальчишек поднялся и решил, что мало повалялся; еще упал — лишь бы посмеяться, а у другого локти в крови. Тут Ксюхе стало как-то странно нехорошо — и она увидела распахнутую дверь в церкви. Никогда Ксюха в церковь не ходила, а сейчас зашла. Она знала: в церквях ставят свечи, купила одну. Служба закончилась, народ расходился, и Ксюха оказалась одна перед алтарем, зажгла свечку и поставила. Опять ей стало нехорошо, и она подумала, что в церкви и должно быть так странно нехорошо. Ее затошнило, закружилась голова, и Ксюха вдруг догадалась, что забеременела. Если бы она это почувствовала где-нибудь в другом месте, наверняка испугалась бы и не знала, что такое с собой сделать, но оттого, что в этот момент находилась в церкви, осознала свое счастье, когда ей нельзя было в глаза Ване посмотреть. Она вышла из церкви, дальше еще собор, колонны в два ряда и ступеньки. Она стала подниматься по ступенькам, и все было как во сне. Тут же старый парк, где в бурю вывернуло с корнями деревья, и сразу за собором с колоннами обнажился памятник Ленину, а за ним открылись дали.
Начинало смеркаться, но там, где упали деревья на провода, не зажглись фонари, и Ксюха повернула туда, где зажглись. Под фонарями еще скверик — в нем росли цветы, но засохли осенью, и осталась трава. Ксюха разглядывала траву, словно цветы, и заметила: трава здесь точно такая же, как в деревне рядом с коровником, и она подумала о том времени, когда будет рожать, когда все будет другое — трава вырастет новая и высокая и будет свистеть на ветру, как лоза.
Сзади что-то стало поскрипывать, она оглянулась. Между колонн старушка и старичок катили коляску с ребеночком. Подойдя, Ксюха спросила:
— У вас мальчик или девочка?
Ей ответили:
— Девочка.
Ксюха поняла: у нее тоже будет девочка; еще спросила, как ее зовут, чтобы и свою дочку так назвать. Она не помнила себя и не знала, куда идет, и, оказавшись перед витриной магазина, как в зеркале, увидела себя и остановилась. Мимо шагал какой-то чудик, заметил, как она себя рассматривает, и помахал ей. По небу тучей пролетели вороны, и она воскликнула:
— Сколько их и куда они?!
Прикрывая лысину газетой, этот чудик показал на упавшие в бурю деревья.
— На них были гнезда. — И пояснил: — А теперь вороны не знают, куда перебраться.
Ксюха опять обернулась к зеркальной витрине, не узнавая в ней себя, и внимательно оглядела свой животик — ей показалось, будто он округлился; тут девушка вздрогнула — лысый этот все еще стоит, не ушел, и она тоже помахала ему, но, когда он шагнул к ней, чуть не заплакала.
— Видишь, я тоже машу, — пролепетала. — Как тебя зовут?
Ворыпаев достал из кармана паспорт и показал ей.
— Ну так что? — пошатываясь, к нему подошел краснорожий мужик. — Извините, обознался, — оглянулся на Ксюху.
— Почему к тебе постоянно пьяные привязываются? — спросила она у этого Ворыпаева.
— Откуда ты знаешь, — удивился он, — если мы едва познакомились?
На лавочке играли на аккордеоне по очереди два мальчика, и тот, который отдыхал, спрятал руки под себя, под попу, чтобы отогреть пальчики, и улыбался. Ворыпаев бросил в шапку на земле несколько монет.
— Страшно здесь?
— Наоборот, — ответила Ксюха, — я хожу сюда успокаиваться. Давай зайдем!
Чем дальше они пробирались по аллее — тем осторожнее шорохи, — будто листья падают, но деревья уже давно голые; эти шорохи только на кладбище услышишь, когда начинает смеркаться.
— Сегодня боюсь, — призналась Ксюха.
— Ну так пошли назад, — вздохнул Ворыпаев, прежде нее сам поворачивая.
Выйдя из ворот, Ксюха шагнула в сторону, но Ворыпаев заметил: вытирает с губ помаду.
— Пошли ко мне домой, — обернувшись, она так посмотрела, что все сразу понятно, — твоя жена ничего не узнает.
— У меня нет жены, — пробормотал он.
— Ну, так в чем дело?
— Давай завтра.
— А почему не сегодня?
— Мама будет волноваться, если задержусь, — объяснил Ворыпаев. — Давай завтра!
— Завтра, может быть, я не осмелюсь…
— Страшно?
— Да. — Ксюха прислушалась к себе: — Как в первый раз… Ну, тогда проводи меня.
Они зашагали вдоль кирпичного забора, повернули на другую улицу, но, когда оказались во дворе дома, где жила Ксюха, опять увидели этот забор и поспешили войти в подъезд.
— Ну пошли! — Ворыпаев обнял ее и стал целовать.
Лицо у Ксюхи вытянулось, будто ей очень больно. Она застонала и закрыла глаза, а перед тем как открыть, неожиданно улыбнулась; у нее была улыбочка — до ушей…
— Пошли? — переспросила.
Ему так и не удалось заснуть, а когда начало светать, Ворыпаев осторожно приподнялся, стараясь не разбудить Ксюху, и посмотрел в окно. За кладбищем торчали заводские трубы. Из них валил черный дым, очень черный на фоне все ярче разгорающегося неба. Ворыпаев снова прилег, невольно прикоснувшись губами к голому плечу Ксюхи, которое с каждой минутой все отчетливей белело. Планочки на спинке кровати у изголовья обрели деревянный цвет, а красное платье рядом на стуле разалелось, и, глядя, как оно меняет цвет, Ворыпаев догадался, что взошло солнце. Вдруг Ксюха, будто испугавшись, вскочила.
— Ты забыла про меня? — радуясь, что она проснулась, спросил Ворыпаев.
— Я почувствовала, — созналась она, — что не одна.
Ворыпаев обнял ее и поцеловал. Лицо у Ксюхи вытянулось; опять улыбочка — до ушей, на щеках румянец пылает, и тут же, на стене, протеплились лучи солнца.
— Вчера, когда ложились спать, — вспомнила она, — я боялась утра, а вышло как раз наоборот.
Она взяла расческу, но волосы за ночь так переплелись, что больно их было расчесать. Осторожно перебирая пальцами, Ворыпаев стал помогать Ксюхе, отделяя одну прядь от другой, и у него получалось не хуже, чем расческой. Тут Ксюхе позвонила подруга по телефону, спросила — почему вчера и позавчера не могла дозвониться. Пока Ксюха очень гладко врала, Ворыпаев распутал ей волосы и, неловко повернувшись на узкой койке, нечаянно попал локтем по глазу.
— Больно?
— Не столько больно, как будет синяк. — Ксюха взяла на стуле рядом с телефоном часы Ворыпаева и приложила стеклышком к веку, а другим глазом заметила: — Исцарапал локти и колени.
— У тебя льняная простыня, — пояснил Ворыпаев, — с узелками.
— Простыня тут ни при чем, — сказала Ксюха, прижимая часы к глазу. — У тебя острые локти и колени. — Согнула ногу и дотронулась до Ворыпаева. — Давай сравним! Ну как?
— Никогда не видел такого красивого колена!
Он поднялся и стал одеваться.
— Побудь еще немного, — попросила Ксюха. — Не уходи так быстро.
Ворыпаев открыл балконную дверь и оперся о перила. За забором из красного кирпича растопырили корявые ветки старые деревья. Над ними поднялось солнце; его лучи били прямо в глаза. На верхушках деревьев, где остались листочки, появилось бледное пятнышко и — как бы повернулось, промелькнуло. Ксюха, выйдя на балкон, подала тарелку с яичницей. Ворыпаев стал завтракать, глядя на черные против солнца деревья. По ним опять замелькали «зайчики». Ворыпаев догадался, что и на другие балконы в доме, на всех этажах, то и дело входят и выходят, раскрываются и закрываются двери, сверкая стеклами.
— Ты знаешь, — пробормотала Ксюха, заметно волнуясь. — Я хочу тебе сказать… а может, не говорить?.. — Она глубоко вздохнула, поглядев на Ворыпаева; тот в недоумении пожал плечами. Наконец Ксюха решилась: — Я беременная, — прошептала. — Конечно, — добавила она, — еще не поздно избавиться от ребенка, но я не хочу этого делать.
— Об этом нельзя даже думать, — поспешил заявить Ворыпаев, и нетрудно догадаться, что испытывал он сейчас, только вчера познакомившись с Ксюхой.
— Я никогда так хорошо не выглядела, — чуть не расплакалась она, — но ты не представляешь, чего это мне стоит и как мне трудно…
— После того, что произошло между нами, — перевел дыхание Ворыпаев, — уже ничто не может изменить…
— Что такое? — испугалась Ксюха, заметив, как он сморщился.
— Зуб.
— У меня есть капли, — засуетилась она. — Принести?
Ворыпаев обнял ее и стал целовать.
— Очень кружится голова, — Ксюха зажмурилась. — Мы сейчас упадем!
Ворыпаев ногой открыл дверь в комнату; тут же стояла кровать, и он, опустив Ксюху на постель, расстегнул у нее пуговички на халате, но, пока сам разделся, то состояние, что овладело им, прошло, и надо было начинать все сначала.
Ксюха открыла глаза, ожидая его слишком долго.
— Что со мной? — не мог понять Ворыпаев.
— О чем ты думаешь? — догадалась Ксюха.
— О нашей будущей жизни.
Ворыпаев стал целовать ей ноги, а Ксюха погладила его по голове, и он был счастлив, почувствовав, будто у него на лысине от ее прикосновения волосы растут, как трава. Вдруг, откинувшись навзничь, он увидел над собой люстру на потолке.
— А я думаю, — усмехнулся Ворыпаев, — почему не смог ночью уснуть. Давай передвинем кровать. — Поднявшись, он показал на заваленный книгами стол: — Что за учебники?
— Я изучаю французский язык, — почему-то смутилась Ксюха.
Передвинув кровать, они опять легли, но только обнялись, как у кровати отвалилась ножка. Пришлось еще раз подниматься, привинчивать ножку, но, когда улеглись, все равно у Ворыпаева ничего не получалось.
— Ты не выспался, — сказала Ксюха, — давай попробуем заснуть, — и сама повернулась к стене. — Обними меня, — попросила. — Мой Ваня сзади обнимал меня, и мы так засыпали.
Ворыпаев не послушал ее: не потому, что она так спала со своим Ваней, и не потому, что сейчас опозорился и ему было стыдно, а потому, что сам так спал раньше с женой.
— Так трудно будет уснуть, — пробормотал он. — Лучше отвернуться. — И еще спросил: — Почему Ваня бросил тебя?
Ксюха не знала, что ему ответить, и решила лучше обмануть.
— Полюбил другую, — зевнула, засыпая.
А Ворыпаев все равно не мог уснуть и смотрел в окно, наблюдая, как меркнет короткий осенний день. И так, глядя в окно, задремал и спохватился, когда было уже темно, и дым из труб при прожекторах клубился белый, как вата.
Ксюха тоже поднялась.
— Ты сейчас уйдешь?
— Да, — кивнул Ворыпаев, одеваясь. — Надо съездить к маме, чтобы не волновалась. — Он подошел к Ксюхе и обнял ее. — Не грусти, завтра встретимся.
— Не обнимай так сильно, — попросила она, — а то тяжело будет расставаться. — И сама, прижавшись к Ворыпаеву, закрыла глаза, а когда их открыла, изумилась: — Мы перепутали утро с вечером! Слышишь, светает…
— Слышу, — ответил он. — Давай гулять, раз дождались утра!
Перешли по мосту через речку, затем свернули к лесу, и вот здесь, на опушке, вбиты в землю были колышки и на веревках между ними мотались красные флажки.
— Наверное, охотились на волков, — решила Ксюха.
— Разве здесь могут быть волки? — ухмыльнулся Ворыпаев и показал на флажки: — Их вырезали из бывших лозунгов. Видишь буквы?
Ворыпаев наклонился, чтобы поцеловать Ксюху, — вдруг она отвернулась.
— Давай не будем завтра встречаться, — пробормотала девушка, глядя в сторону, на реку. — Я не могу забыть Ваню, я люблю его, и если бы ты не полюбил меня, так ладно, но ты, вижу, полюбил, и я не хочу вводить тебя в заблуждение.
— Откуда ты знаешь, что я полюбил? — удивился Ворыпаев.
Он посмотрел на Ксюху, на черные круги у нее под глазами, и решил: после того как Ваня бросил ее, беременную, ей так тяжело, что она готова к любому встречному кинуться на шею, а сейчас опомнилась.
— Я понял, — обрадовался Ворыпаев, — зачем здесь флажки. Они для людей! Видишь сцену, трибуну? Здесь проводятся разные мероприятия — и для нас, как для волков, развешивают флажки, чтобы не шли куда не положено ходить.
Берег дальше опускался, и речка залила луг, как весной. Смотреть на воду, как она течет, — нельзя оторваться, но что за чувства теснятся осенью в груди, когда глядишь вдаль?
— Ну что ж, — сказал Ворыпаев, — надо поворачивать.
Они побрели назад. По обеим сторонам дороги росли голые черные дубы. У леса виднелась сбитая из досок выкрашенная голубой краской сцена. Под открытым небом доски сгнили, и сцена в нескольких местах провалилась. Среди бурой травы, когда еще не выпал снег, увидеть эту сцену, лавочки, футбольные ворота, столбы — все голубое, яркое — и можно сойти с ума. Нечаянно выглянуло солнце и осветило пятнышко на лугу. От дубов упали тени. Река засеребрилась. По дороге ехала женщина на велосипеде, затем повела его в руках, свернув вдоль опушки, мимо провалившейся голубой сцены, которая ожила на солнце — и еще, может, оттого что рядом женщина.
— Это моя мама, — прошептал Ворыпаев. — Давай спрячемся! Куда она идет? — подумал он вслух. — Там разлилась речка — не пойдет же она по воде…
— Ты — ребенок! — изумилась Ксюха, глядя, как перемещаются по земле солнечные поляны, и голубые — по небу, по разлившейся воде, когда кажется, что весна. — Ты ничего не понимаешь в жизни! Тебе будто шесть лет. Шесть, — повторила, — а может, и пять, если не меньше.
— А, я знаю, — воскликнул Ворыпаев, — куда мама идет!
Она поставила велосипед у одной из двух голубых будочек сразу за сценой.
— Ты не любишь свою маму, — добавила Ксюха. — Прежде чем ухаживать за женщинами, тебе надо полюбить маму.
— Как можно сразу за сценой построить туалет?!
— Да ты и любишь ее, — продолжала Ксюха, — как шестилетний ребенок.
— Ты же только сказала, что я не люблю ее, — заметил Ворыпаев. — Кстати, с чем можно сравнить любовь шестилетнего мальчика к своей маме? — начал он рассуждать и тут же, когда мама спряталась в будочке, не удержался: — Подкрасться бы незаметно да украсть велосипед.
— Зачем? — не могла понять Ксюха. — Зачем тебе велосипед?
— А зачем тебе, беременной, французский язык?
— Действительно, — хихикнула она. — Как только я забеременела, почувствовала, что глупею с каждым днем. Все-таки рассмешил, — Ксюха потрепала Ворыпаева по плечу, и он приободрился, шел и подпрыгивал.
Когда вернулись в город, начало смеркаться. Ворыпаев вскочил на остановке в автобус и сел у окна, глядя, как Ксюха поспешила на кладбище, чтобы успокоиться. Над дорогой раскачивалось красное полотнище с лозунгом. Его вчера повесили перед празднованием годовщины революции, а когда оно истреплется, его разрежут на флажки для охоты на волков. Проезжая по метавшейся от красного полотнища тени, на мгновение машины исчезали — и сверкали опять, мелькали — туда и обратно, и у Ворыпаева едва «крыша не поехала», когда после вчерашних объятий и поцелуев все внутри раскачивалось, и не сразу он обнаружил, что сел не в тот автобус и едет не к маме, домой, а к бывшей жене. И тут у него так разболелся зуб, что от каждого камушка под колесами вспыхивали искры перед глазами, и не помнил, как добрался до поликлиники, где сам не зная почему смеялся, когда врачиха ковырялась у него во рту, и ей, наверно, очень трудно было с таким пациентом, но Ворыпаев не мог удержать себя и, когда она закончила, спросил:
— Наверно, я у вас первый такой?
— Нет, — ответила она, — были, что тоже смеялись.
Веночек
Взял чемоданчик — еще папин чемоданчик, выхожу во двор — мама на коленях в цветнике.
— Что ты делаешь? — не понимаю.
— Собираю лепестки с пола, — объясняет. — Ты вчера заходил к папе?
— Заходил, — отвечаю, когда не заходил. — У него такие же цветы распустились.
— Подойди, — мама поднялась с колен, — я тебя поцелую.
Я подошел к ней, она меня поцеловала, и я вышел с чемоданчиком на улицу. На остановке дядя Вася, который уже на пенсии, спрашивает:
— Как мама?
Я не успел ответить — подъехал автобус; мы сели в него, и всю дорогу до города дядя Вася вспоминал молодые годы и какая была тогда моя мама, а я не мог представить, какая она была. Дядя Вася еще не раз спрашивал про маму, и я догадался — он хочет на ней жениться.
— Разве вы не знаете, — удивился я, — какая она стала теперь?
— Какая? — спросил дядя Вася.
— Я не знаю, куда уехать от нее.
— Почему?
— Я устал от ее поцелуев.
— Ты не говори об этом никому, — только и посоветовал. — Ну, и куда ты едешь?
— К брату.
В городе у забора на автостанции стоял веночек из бумажных цветов. Рядом никого; мимо — не по асфальту, а по траве, прошел с автобуса мужик в сапогах. Приехав в город, он «почистил» в траве сапоги, чтобы не запачкать асфальт. Я тоже по траве прошел мимо веночка и догадался: недавно была радоница, и кто-то, дожидаясь автобуса, наверно, выпил и забыл у забора веночек.
Навстречу по мосту две женщины; одна старуха в черном платке, а другая молодая. Она тащила в рулонах обои, перевязанные веревочкой.
— Снится? — спросила у нее старуха.
— Не снится, — ответила женщина с обоями и почему-то покраснела, а что еще пробормотала — я не услышал; мы разминулись, и от этих подслушанных случайных слов закружилась на мосту голова. Когда я оглянулся, молодая женщина положила рулоны на перила и отдыхает; тоже оглянулась, и я поспешил дальше.
На другом берегу двухэтажные дома, выкрашенные белой краской, но она облупилась и проступила голубая. Все они одинаковые, и в каком из них живет Митя — не могу вспомнить. Идет назад старушка в черном платке — одна, улыбается; чему она улыбается в черном платке, — подумал я; только рот раскрыл, чтобы спросить, старушка говорит: тебе сюда, и я пошел, а потом думаю: откуда она знает?
Поднимаюсь на второй этаж, звоню — долго никто не открывает; уже думаю — ошибся, как послышались шаги. Открывая, Митя вздыхает за дверью.
— Ну, как ты? — спросил и, не дожидаясь, что я отвечу, бормочет: — И я тоже…
— Что тоже?..
— Ничего, — машет рукой. — Целый день тебя жду, а ты так долго ехал, что я заснул, — оправдывается. — Хочется крепкого чаю, чтобы проснуться, но лучше погулять; пошли скорее, — натягивает туфли.
— Куда?
— Ты что, забыл? — удивился Митя. — Когда завязываю шнурки, не могу ни о чем думать.
— Забыл, — загрустил я.
Он завязал шнурки, и мы вышли из подъезда.
— Сейчас придет жена, — добавил шепотом Митя, — а я хочу поговорить с тобой наедине. Как мама? — спросил и, не дожидаясь, что я отвечу, еще: — Летаешь ли ты во сне?
— Разве ты не знаешь, — соврал я, — никогда не вижу сны, — и вспомнил, как женщина на мосту покраснела, когда сказала: не снится.
Митя будто не услышал — улыбается.
— В твоем возрасте я летал высоко, а теперь…
— Часто падаешь? — догадался я.
— Откуда ты знаешь? — прошептал Митя. — Ладно, как мама? — спохватился, а я не знаю, что ответить, и он тогда еще: — У тебя есть девочка?
Я кивнул.
— Ну и как?
— Разве ты не знаешь, что об этом не спрашивают? — заметил я.
— Почему?
— Не знаю, — пожал я плечами. — После того как узнала мама, я боюсь — все пройдет, — вздохнул. — Ты меня понимаешь?
— Не совсем, — пробормотал Митя, — но немножко понимаю.
— Немножко, — обрадовался я, — это очень много.
Рядом с магазином киоск, где продают мороженое. Митя шагнул к окошку в киоске.
— Если ты мне, — сказал я, — то я не хочу.
— Почему? — спросил старший брат. — Ты обиделся? Почему? Про какую девочку ты говорил? — продолжает. — Это ты про соседскую Машу?
— Ну да, — киваю.
— Она же старше тебя на десять лет…
— На восемь, — поправляю.
— И еще, — тут он совсем уж разошелся, — эта Маша в каждом классе сидела по два года, и ее исключили из школы!
— Ну да, — промямлил я. — Когда папе исполнилось сорок дней.
— Как быстро летит время! — ахнул, качает головой Митя. — Не валяй дурака — найди себе хорошую девочку…
— Мне сейчас не до этого, — говорю. — Я уже не маленький — и так надо мной все смеются, когда мама меня целует. Я так устал от ее поцелуев, что не знаю, куда уехать, а кроме как к тебе некуда.
Начинает темнеть, но мы идем дальше. Зажигается в окнах свет, а небо еще пылает. Надвигается туча, усиливается ветер. С каждым порывом громче смех. Птиц в небе сносит ветром. Смех все отчаянней! Митя оглядывается, и я оглядываюсь.
— Я тебя, — говорит Митя, — отведу к своей любимой женщине. А то, — начал объяснять, — если положить тебя в моей комнате, тогда мне придется спать с женой, а я не хочу с ней спать, понимаешь?
— Понимаю, — сказал я, когда на самом деле ничего не понимаю.
— И я тебя понимаю. — Он похлопал меня по плечу.
Туча затянула небо, стал накрапывать дождик. На улице с огородами, как в деревне, мигает единственный фонарь — остальные разбиты. Я вошел за Митей в дом, который сразу за фонарем. На кухне у газовой плиты суетилась женщина, и мне показалось, что я где-то видел ее. Я заметил, как она посмотрела на моего брата и еще раз глянула, и я увидел, как и он посмотрел на нее.
— Я думала, ты сегодня не придешь, — обрадовалась женщина.
— Аня, — брат начал вполголоса, затем перешел на шепот, объясняя ей, как я устал от маминых поцелуев; наконец он весело крикнул: — А где Натка?!
Появилась девчонка и тут же отвернулась.
— А ты чего стоишь? — толкнула меня Аня; накладывает на тарелки картошку, налила кислого молока в стаканы.
— А сама? — спросил у нее Митя.
— Я и так, — покраснела она, — растолстела.
— Не растолстела, а расцвела, — поправил ее брат.
Я посмотрел на Аню и увидел, что она действительно расцвела. Митя съел несколько картошек и собрался уходить. Аня взяла салфетку и вытерла у него с носа ободок от стакана с кислым молоком. Когда Митя ушел, я еще раз посмотрел, как она расцвела.
— Почему не слушаешься маму? — спросила Аня.
— И вы меня не понимаете, — загрустил я.
— Ну что ж, — начала она оправдываться, — я даже свою дочку не могу понять.
— Мама, перестань! — закричала Натка.
Назавтра я проснулся от страшного сна и вскочил, жмурясь от яркого в окне солнца. Мне приснилось, будто я на кладбище у папы — у него такие же цветы, как у мамы в саду распустились, а я прошел дальше и ставлю два надгробных памятника. Надписей на камнях нет, но я тут сердцем почувствовал, что один из них поставил самому себе; у меня все внутри онемело, а потом еще подумал — кому же второй памятник?..
Оделся и скорее на кухню. На газовой плите из чайника струя пара под потолок. Прежде чем подбежала Натка, я повернул краник на плите. В окне качаются голые деревья — на улице гуляет ветер. У соседей на огороде еще с осени стоит бурьян, высох и на ветру звенит — слышно через двойные рамы. За бурьяном кирпичный дом с трещиной в стене, и окно разбито.
— Кто там живет? — удивляюсь.
— Кто там живет? — переспросила Натка. — Папа мой там живет! Папа!
Я перешел к другому окну. Из этого видна в бурьяне стежка, а в заборе дырка.
— Извини, — пробормотал я, отходя и от этого окна.
— А чего ты извиняешься? — спросила Натка.
— Извини, — повторил я.
— Не знаешь, куда еще глянуть, — заметила она. — Посмотри лучше на меня.
Я опустил глаза, а у нее на джинсах дырочки.
— У тебя дырочки специально?
— Да, — кивнула она, — чтобы развивалось твое воображение. — И по-прежнему, не глядя, прошептала: — Увези меня отсюда, милый…
А я понимаю — она любому, каждому, вот так скажет: милый, — и мне стало страшно.
— Куда?
— Если бы я знала — куда! — Она засмеялась и наконец посмотрела на меня: — Какой ты еще зелененький!
У меня тут вырвалось:
— Хочешь, расскажу, как влюбился?
— Нет, наверное — не надо, — пробормотала она, и, когда только что было весело, вдруг стало ужасно грустно.
Я вспомнил страшный сон, от которого проснулся, и сейчас подумал: если на памятниках на кладбище ничего не написано — значит, еще неизвестно, когда умру, пока буду жить — и я вздохнул, а потом еще раз задумался: кому же все-таки второй памятник?.. И тут я разгадал сон, догадался, что поставил второй памятник соседской Маше и что сон этот означает любовь до гроба — когда мы умрем, нас похоронят, как всяких мужа и жену, рядом, — и сон, оказывается, не страшный, а, наоборот, счастливый…
Я опять посмотрел в окно, увидел Аню — идет по улице с сумкой и улыбается, а я знаю, чего она улыбается. Натка, когда увидела маму, сразу догадалась, что та думает о моем брате, и выскочила из дома. Пролезла через дырку в заборе и поспешила к папе по стежке в бурьяне, а я вышел встречать Аню.
— Мне приснилось, что ты плакал! — обрадовалась она, войдя на кухню, и поспешила добавить: — Но я тебя — там — утешила. — Выглянув в окно, Аня заметила, куда побежала дочка, и загрустила. — Купила клей, — начала распаковывать сумку. — Сейчас будем спальню клеить.
Тут я увидел рулоны «вчерашних» обоев, перевязанные веревочкой, и вспомнил, где видел раньше Аню, и еще вспомнил старуху в черном платке, которая показала дом, где живет Митя.
— Это ваша мама, — пробормотал я, — вчера на мосту спросила: не снится? Кто у вас умер?
— Мама носит черный платок всю жизнь, — объяснила Аня. — Куда ты? — спросила она, глядя, как я набрасываю куртку и берусь за чемоданчик.
— Соскучился по своей маме!
На улице сильный ветер, а лучи солнца ослепляют; смотрю под ноги, куда они ведут меня. Когда ветер, нагонит опять дождь — все тогда оживет, позеленеет, а пока тоска — лужи за утро выдуло и несется пыль; а может, утихомирится, припечет солнце — и все равно без дождя зазеленеет…
Идет навстречу Натка под руку со своим папой, будто взрослая, и сделала вид, что не узнала меня. Я задумался и, когда ее папа сказал нехорошее слово, — не услышал, но Натка так ему шикнула: тише! — что я, оглянувшись, догадался…
— Этот? — показал на меня бедный ее папа — вытер слезы, размахнулся и сейчас ударит, и я тогда тоже размахнулся, а он испугался и отступил, но перед Наткой захихикал: — Да этот еще и не так, как я, умеет!
На сердце у меня холодок, а между автовокзалом и хлебным магазином ветра нет, и сильнее пригревает солнце. Иду вдоль забора и — увидел «вчерашний» веночек. Он — как стоял, так и стоит, — и я удивился, что никто его не взял, не украл этот веночек, когда воров полон город. Бумажные розы будто живые. Радость проникла до глубины сердца. Я прошел мимо веночка, когда прикатил из рейса автобус. Из него стали выходить пассажиры. Они мешали мне нести в сердце веночек, а я смотрел вдаль и вдруг прямо перед собой увидел Машу. Я вспомнил сон про любовь до гроба и после веночка испугался, не знал, что Маше сказать. А она всегда мне улыбалась, но сейчас, глядя, как я испугался, посмотрела на меня так, как никогда не смотрела, и прошла мимо.
Не позавтракав, я зашел в хлебный магазин.
— Ты приходи к нам каждый день, — подмигнула продавщица.
— Почему?
— Потому что улыбаешься.
— А другие что — не улыбаются? — удивился я.
Я еще долго радовался — забыл, где нахожусь и куда еду, пока не опомнился — купил билет на автобус и вскочил в него. Шофер завел двигатель, начал разворачиваться, и я, вспомнив, что еду к маме, опять увидел из окна веночек у забора.
Счастье
Выписываясь из больницы, Ильюша поинтересовался — на что ему надеяться. На лице у врача появилось странное выражение. Он недавно закончил институт и еще не научился, как надо отвечать. Ильюша все понял и больше не стал спрашивать.
Выйдя на улицу, будто поплыл по воздуху, не чувствуя ногами земли. Пока лежал в больнице, наступила весна. Глаза еще не привыкли к яркой зелени, и закружилась голова, а когда неожиданно наткнулся среди прохожих на Улечку, чтобы не упасть, схватился за забор.
— Давно я с тобой не встречался, — пробормотал Ильюша.
— А ты словно помолодел, — Улечка погладила его по плечу. — Как ты?
Ильюша почувствовал ее руку не на плече у себя, а на сердце, и промолчал, что он из больницы и поэтому так странно выглядит, и предложил:
— Давай встретимся, как раньше…
Раньше они встречались на горочке у реки и каждый раз выпивали бутылочку вина — не могли придумать какого-нибудь другого радостного развлечения. Улечка таскала всюду за собой подружку Мышку и часто посылала ее за второй бутылочкой, а сама обнималась с Ильюшей на горочке. Эта Мышка имела такой росточек, что в магазине ей приходилось показывать паспорт, а однажды и паспорту не поверили, но Ильюше с Улечкой и без второй бутылочки было хорошо.
А мама не хотела, чтобы Ильюша встречался с Улечкой.
— Она тебе не пара, — плакала. — Лучше женись на Мышке.
После смерти мамы Ильюша как-то зашел в церковь поставить свечку, а выйдя на площадь — рядом озеро и на берегу остановка автобуса, — не сразу заметил в сторонке Мышку с букетиком желтых одуванчиков, которые тут же росли у озера. Она подошла к одному мужчине, к другому; знала: женщины в цветах разбираются — не купят, а мужчины всякие бывают. Подошла и к Ильюше.
— Купи.
Ильюша отвернулся. Улицу перебегал перед машиной мужик с сигаретой в зубах. Веточки на деревьях не колыхнутся, и от сигареты через дорогу струйка дыма.
— Купи! — Мышка бросилась к этому мужику.
— Зачем?
Она посмотрела на одуванчики и придумала:
— В банку поставишь.
Тут показался автобус, а Ильюша вспомнил, что мама говорила про Мышку, и его будто кто-то подтолкнул к ней.
— Поехали со мной…
Назавтра проснулся от стука в калитку, вскочил, а Мышка уже оделась и смотрит в окно. Ильюша натянул штаны и выбежал на крыльцо. Тот мужик, который вчера у остановки перебегал дорогу, спрашивает:
— Вам двадцать лампочек по три рубля не надо?
— Мама умерла, — сказал Ильюша, — а я не знаю.
Мужик пошел дальше, постучал к соседям, а Ильюша, вернувшись, видит — Мышки нет и окошко распахнуто. Оставшись один, он вспомнил об Улечке и схватился за голову, что изменил ей. Хотя очень многим и не такое попускается, как, например, Ваське Коломейцеву, но Ильюша почувствовал, что ему это не сойдет, и Улечка, которую он так любил, не достанется ему, и назавтра встретил ее в городе в обнимочку с Васькой. Улечка отвернулась и, будто перед зеркалом, глядя в витрину магазина, стала поправлять прическу. Ильюша помахал ее отражению в витрине, а когда пришел домой, смотрит — стоят на столе в банке желтые одуванчики…
Вспоминая молодость, Ильюша не заметил, как приехал на автобусе в поселок. Дома открыл окна — в саду расцвели яблони, смотрел до вечера — не мог насмотреться; и почему, когда видишь на земле рай, начинает болеть сердце, но ему сразу стало легче, только вспомнил, что договорился завтра встретиться с Улечкой.
Ильюша попил чаю, постелил и лег, пропел сам себе колыбельную, но не мог заснуть. Он знал, что Улечка так и не вышла замуж, и подумал — сейчас она пойдет за него, и он выздоровеет, если женится. Всю ночь Ильюша размышлял — с чего начнет, как сделает Улечке предложение; а под утро вздремнул немного и спохватился от солнца в глаза — погода чудная, и задумал пойти в город пешком, как и раньше любил пройтись, — через овраг в лесу.
Вышел из дома и даже забыл оглянуться, как всегда оглядывался. В лесу на каждой веточке сидела птичка и с отчаянной радостью пела. Навстречу ехала машина и остановилась. Из нее вылез председатель колхоза и, не узнав Ильюшу с помолодевшим после больницы лицом, спросил:
— Кто ты такой?
— Человек, — ответил Ильюша и почему-то обрадовался.
— Понятно, что не корова, — загрустил председатель, сел в машину и поехал дальше.
Ильюша боялся, что опоздает, поглядывал на часы, но пришел в город слишком рано. Улечка не захотела, как раньше, встречаться на горочке у реки, и Ильюша, прохаживаясь туда-сюда по бульвару, где договорились у фонтана, еще раз отрепетировал, что скажет Улечке, но, когда увидел ее, помрачнел, по одной ее походке определил, что ничего не выйдет. Это уже не та была Улечка, с которой он когда-то встречался, и стало понятно, почему она не вышла замуж. Вчера, после больницы, когда закружилась голова на свежем воздухе, что он мог увидеть, — а может, она вчера не была такой толстой, как сегодня. Ильюша не знал, что с собой сделать, чтобы не показать на лице нахлынувшей тоски. Надо было что-то сказать, хотя бы по-здороваться, а он не находил слов.
Они побрели вдоль забора, за которым строили новый корпус спиртзавода. В щелочку Ильюша заметил — кто-то подслушивает, как они молчат. Изнутри всегда что-то выпорхнет, словно птичка из клетки, и он заговорил, как на похоронах, шепотом. Уже не ощущая в себе той любви, от которой когда-то с ума сходил, Ильюша почувствовал перед Улечкой вину и, чтобы сгладить ее, купил самую лучшую коробку конфет; затем зашли в парфюмерный магазин — и купил французские духи. И вот так не мог остановиться — заходили во все подряд магазины, пока, обвешанные покупками, не спустились к реке и присели на берегу.
По воде скользили тени от облаков. С другого берега отражался сосновый лес. Буксир протащил баржу. Ильюша смотрел, как бегут волны, и мысли бежали, как волны, не оставляя следа.
Хотя врачи запретили ему пить, Ильюша достал бутылочку и воскликнул:
— Как хорошо!
— А мне все равно, — махнула Улечка рукой, глядя на веселую молодую зелень вокруг и не чувствуя радости.
Ильюша очень был доволен, что не выдал своей тоски, но сейчас загрустил, не зная, как сказать про распустившиеся листочки, чтобы Улечка обрадовалась.
Тут она оглянулась.
— Кто-то за нами подглядывает, — показала, — вот за этим деревом.
— Никого там нет, — удивился Ильюша.
— Пошли отсюда, — прошептала Улечка, — мне страшно.
Проводив ее, на прощание хотел сказать что-то обнадеживающее и договорился с Улечкой встретиться в следующее воскресенье. Ильюша добрел до остановки у церкви, как вдруг кто-то вскрикнул у озера, и в его больном сердце отозвалось. Оглянувшись, увидел на мостике девушку, склонившуюся над водой. Она заметила, что Ильюша смотрит на нее, поднялась с колен. После вина Ильюше стало нехорошо, а идти больше некуда, как к озеру. Девушка зашагала навстречу, к остановке, и, когда подошла ближе, Ильюша увидел у нее ярко накрашенные губы. У воды сердце отпустило, когда он подумал — умрет сейчас, — поэтому отошел в сторонку. Не то что стало легче, но сделалось по-другому. Ильюша понял, что теперь каждый день будет по-другому, а он подумал — уже все. Решил умыться, но рукой с мостика до воды не достать. Внизу плавала губная помада. Ильюша догадался, что девушка, как в зеркало, гляделась в воду и красила губы, а когда уронила помаду, вскрикнула. Наконец показался автобус, Ильюша поспешил назад. По лицу девушки пробежала словно по озеру рябь, и глаза приобрели странное выражение — точно такое, как у врача, у которого Ильюша, выписываясь из больницы, спросил — на что ему надеяться. Автобус подъехал, но Ильюше нужен был другой маршрут. Люди на остановке стали заходить в автобус, затем открылась дверка в кабину водителя, и девушка прыгнула к нему. Парень за рулем так обнял ее, что девушка не удержалась на ногах, и он с ней упал, чтобы за перегородкой в автобусе не увидели, как он ее целует, — один Ильюша невольно подсмотрел. Дверка перед ним захлопнулась, автобус поехал дальше, и, глядя вслед, Ильюша удивился, как быстро прошла жизнь…
В воскресенье целый час прождал Улечку у фонтана на бульваре, но она не пришла, и он почувствовал на душе облегчение. Побрел на остановку — деревянный забор у спиртзавода разобрали — за ним оказалась стена нового корпуса из железобетонных блоков. Как землю ни перерыли — уже вымахала трава с одуванчиками. Желтые отцвели, началась пора пушистых; ветер дунет — и нет их.
Из-за угла выскочил Васька Коломейцев.
— Почему ты вчера не был на похоронах?
— А кто умер? — спросил Ильюша и тут же догадался, почему Улечка сегодня не пришла. — Мне не сообщили, — развел он руками и подумал, что про него никто даже не вспомнил, когда умерла Улечка.
Ильюша загрустил не оттого, что она умерла, а оттого, что внутри у него ничего не пошевелилось. Но он знал — так всегда бывает; надо, чтобы время прошло, пока дойдет до сердца; годы прошли, как умерла мама, а Ильюша только сейчас начал осознавать, что она умерла.
— Пошли выпьем! — Васька показал бутылку.
У Ильюши было больное сердце, но он не мог отказаться от бутылочки винца.
— Минуточку, — попросил он Ваську, — я зайду к Мышке, а ты подождешь.
Они свернули в переулок. Пришлось посторониться, пропустить машину; прижались к забору, а она остановилась — не проехать, дальше еще машины, из них выбирались празднично одетые люди с букетами. Ильюша изумился: неужели в особняке за кирпичным забором, выстроенном на месте прежнего маленького домика, и живет Мышка, и странно было подумать, что она когда-то продавала одуванчики.
Если бы не Васька, он повернул бы назад, не осмелился бы идти вслед за этими господами с букетами, но побоялся, что Коломейцев, как всегда, будет смеяться над ним, и шагнул в калитку, а во дворе глаза разбежались. И дело не в том, как ухожено все вокруг, какой порядочек, а что за всей этой чистотой чувствовалось счастье. В саду на свежем воздухе стояли праздничные столы под тенью отцветающих яблонь. Невеста так была похожа на ту девушку, которая когда-то была на побегушках у Улечки, что Ильюша вздрогнул. К ней подошел жених и, чтобы поцеловать, нагнулся. Ильюша увидел старшего сына Мышки с женой и других дочерей с мужьями; вокруг мельтешили детишки, от присутствия которых вся жизнь меняется, и, отвыкший от маленьких ребят, Ильюша не сразу вспо-мнил, зачем пришел, когда перед ним появилась Мышка с мужем. Ильюша выпялился на ее мужа, который смог так все обустроить вокруг, но тут же понял — если бы не Мышка… — и перевел взгляд на нее.
— Как я некстати…
— Я догадываюсь, зачем ты пришел, — сказала Мышка и, когда муж вернулся к гостям, улыбнулась — столько лет прошло, но разве можно забыть своего первого. — Какое нужно сердце, — вздохнула она, рассказывая об Улечке, — чтобы выдержать все эти ваши бутылочки? Не надо об этом лучше… — Мышка еще раз вздохнула и как-то нехотя добавила: — А перед смертью показывала на ангелов…
Ильюша вспомнил, как неделю назад у реки на горочке Улечка испугалась, будто кто-то подглядывает из-за дерева, и он ходил проверять — никого там не было, а сейчас догадался — за ними подглядывал ангел.
— При чем тут бутылочки? — усмехнулся он, понимая, что и у него начинается другая жизнь, и эту жизнь, пока она не подступит, немыслимо представить; и он сейчас обрадовался, словно встретил Улечку.
Ильюша еще вспомнил — кто-то подглядывал в щелочку забора у спиртзавода, и это не Улечка заметила, а он сам, и сейчас не знал, что подумать. Нельзя, чтобы Мышка заметила, как он обрадовался, — она не смогла бы понять, и Ильюша принялся расспрашивать Мышку про ее жизнь, хотя она вся была перед глазами. Мышка стала рассказывать про квартиры детям, машины, гаражи, дачи, но после ангелов Ильюша не понимал, о чем она, и лишь тогда, когда Мышка начала о самых маленьких своих внуках и внучках и показала на коляски под тенью в саду, уже мог не скрывать на лице радость и почувствовал — кто-то опять подсматривает за ним.
— Ну, а ты как? — наконец спросила его Мышка и, заметив в приоткрытой калитке Ваську с бутылкой, сама не рада была, что спросила, а Ильюша поспешил попрощаться, не зная, о чем ей рассказать.
Он пришел с Васькой к реке, на ту горочку, где встречался с Улечкой. Вовсю уже зазеленели вокруг деревья, и на каждой веточке пела птичка. Васька откупорил бутылку, и они выпили. Ильюша загляделся вдаль, а Васька опустил глаза, задумавшись о жизни.
— Может, у тебя есть старые туфли в хлев ходить? — спросил он у Ильюши. — А то в этих жалко; есть еще одни совсем новые, а старых нет.
Ильюша пожалел Ваську, а потом и себя пожалел.
— У меня то же самое, — пробормотал он. — Старых нет, только новые; вот — купил недавно, — показал, — а уже подошва отклеилась; может, доживу в этих, а может, еще придется покупать.
Снова выпили, и Васька бросил пустую бутылку в кусты.
— Пошли ко мне домой, — стал упрашивать Ильюшу, — я покажу, какая у меня выросла свинья!
Может, Васька и упросил бы его пойти смотреть свинью — Ильюша уже поднялся, но после вина отказали ноги — шагу не мог ступить и опять опустился на зелененькую травку. Туча наплывала на солнце, в одном пиджачке стало у воды зябко, но так было хорошо смотреть, как она течет, что Ильюша забыл про свое сердце.
Когда выглянуло солнце, Ильюша пригрелся и прилег на бережку. Его сморило, и он сладко заснул. Васька ушел, птички распелись, будто никого нет вокруг, и вдруг все умолкли. Ильюша проснулся и не мог вспомнить, где он, пока опять не запели птички. Ильюша почувствовал себя легко, как в детстве, когда болел и мама отвозила его к бабушке в деревню; он захотел сейчас в деревню и — спать, спать при открытом окне, где сладкий воздух колышет занавески, — пока не выздоровеешь, а выздоровеешь, еще охота поваляться, бабушка принесет парного молочка, и будешь его пить, пить, — и он боялся глубоко вздохнуть, боялся, если пальцем пошевелит, все исчезнет…
На радоницу
Мама приехала, достала из чемодана яркий цветастый халат — ему столько лет, сколько мне, и, когда я опять увидел этот халат, мне стало так — лучше бы его не видеть, — а она, переодевшись, взяла топор и сказала:
— Пойду на кладбище.
— Зачем топор? — удивился я.
Назавтра мама надела в церковь цветастое платье и на голову повязала цветастый платок; ей же не скажешь, что на радоницу так не одеваются, и я представил, как в церкви будут оглядываться на нее, а я должен рядом стоять, и я тогда сказал: не пойду — лучше буду в окно смотреть. И после церкви на кладбище не пошел — я вообще привык всюду один и не хочу вместе с ней, когда она в цветастом платье и в цветастом платке.
Смотрел в окно, надеясь увидеть Тасю, как она будет идти на кладбище или с кладбища, — тут загремел гром. Я подумал — послышалось, но снова громыхнуло — надо отнести маме зонтик. Я вышел на улицу, еще издали увидел Тасю с детьми и не знаю, как спрятать улыбку. Дети сбежали по обрыву к речке, вытащили чей-то сапог — из дыры в нем выливалась вода, а я, облокотившись о перила, подождал на мостике Тасю и, не удержавшись, поцеловал ее.
— Увидят дети, — прошептала Тася, шагнув с мостика, и я за ней. Глядя, что я не отстаю, она заявила: — Мне кажется, ты чего-то от меня ждешь…
— О чем ты? — не понял я, а она прямо в глаза посмотрела — когда так пристально, сердце начинает вздрагивать; что можно тут сказать, и я сказал, будто люблю ее, как сестру. — А так можно, даже если ты замужем, — поцеловал еще, как раздался над головой страшный треск, и я увидел в небе черную тучу. — Побегу, — спохватившись, показал зонтик. — Отнесу маме…
— Опять приехала? — удивилась Тася.
— Не понимаю ее, — пожал я плечами. — Когда жил папа — видеть его не могла, а теперь всегда приезжает на радоницу. Ты помнишь, — у меня изменился голос, — как мама собиралась с сестрой в город — приехала машина, а мама с папой не успели распилить пополам шкаф?
— Да, — кивнула Тася, — в детстве мы не расставались; почему же ты, когда подрос, вместо того чтобы ухаживать, перестал меня замечать, а сейчас опомнился?
— Мне нравились галифе, в которых папа служил в армии, — сознался я, — и, когда галифе наконец подошли, каждый день стал их носить, а тебе купили сережки, ты начала наряжаться, и это не я, а ты перестала меня замечать.
Закапали первые тяжелые капли. Я перебежал по мостику — вода в речке словно закипела, а когда я оглянулся, надеясь увидеть Тасю, — за косыми струями не отличить неба от земли. Распахнул зонтик, тут же пришлось собрать, а то не пролезу в дырку в заборе. Сразу за забором папина могила, но мамы около нее не было. Подойдя ближе, я заметил вбитые в землю колышки. Я понял, зачем маме вчера понадобился топор.
Догадавшись, что батюшка уже освятил папину могилку, я поспешил к могилам бабушки и дедушки, но мамы и тут не оказалось. В промокшей насквозь одежде у оград сгорбились люди, ожидая священника. И когда сверху льется как из ведра — будто с того света послышалось пение. За памятниками мелькнуло черное одеяние батюшки, следом за ним брели женщины из церковного хора. Летом, когда листва густая, сюда не пробраться, а сейчас еще прозрачно. Наконец батюшка направился ко мне. Я показал ему на могилы бабушки и дедушки; он брызнул на них метелочкой, когда с неба проливались потоки. Вдруг что-то яркое надо мной стало резать глаза — на зонтике вспыхнули мамины цветы. Я собрал зонтик и увидел снопы света в разрывах между туч. Побежал домой и вернулся раньше мамы, успел переодеться, как она пришла.
— А папа, — с обидой высказала она мне, — принес бы на кладбище зонтик!
Мама заплакала. Я вышел на цыпочках на крыльцо, чтобы вздохнуть. После грозы зелень на деревьях поникла. Небо оставалось грязным, накрапывал мелкий дождик. Я ожидал солнца и радуги, как гром стал возвращаться. Тучу повернуло назад, сделалось темно и вечером очень страшно. Я вспомнил — надо закрыть сарай, подобрал около забора деревянную лопату, которой снег расчищал, а зима уже не вернется, подумал и, чтобы лопата не мокла зря, бросил в угол, где как будто стекло разбилось. По крыше забарабанило, я закрыл дверь и под хлынувшим ливнем побежал назад, а в доме, в темном коридоре, ударился лбом в зеркало, испугался и еще больше испугался, когда вспыхнула молния.
Мама прилегла отдохнуть и всхлипывала, отвернувшись к стене. Я залез под одеяло с головой, чтобы не слышать, как мама плачет. Молнии ослепляли и под одеялом, а когда гроза начала отдаляться, я заснул, и за окном неспешный дождь зашуршал по листве на всю ночь…
Через речку перевозят на тракторах солому, на каждом прицепе по две катушки. На берегу загорает из колхозной бухгалтерии Сорокина, записывает — сколько проехало тракторов. Стаскиваю с ног сапоги, разматываю портянки, расстегиваю пуговицы на ширинке и развязываю шнурки в разрезах у щиколоток — наконец стягиваю с себя галифе. Приятно пошевелить сопревшими пальцами ног в шелковой прохладной траве, затем сбрасываю рубашку. У меня такие же трусы, как у Сорокиной, — ей тоже моя бабушка пошила, и если бы бухгалтерша не была папиной знакомой, я и трусы бы снял.
После купания иду с папой в лесозавод. Под дырявым навесом скрипит транспортер, на нем ворохами набросаны доски. К вечеру приехал на тракторе дядя Веня. Он отцепил прицеп и поехал домой спать. Кто-то специально для нас останавливает транспортер. Я залезаю с папой на него, отбираем доски получше — из них построим забор. Бросаем доски на прицеп, пока под ногами не поехала лента на транспортере. Мы прыгаем на землю, оттуда взбираемся на прицеп сложить доски. Затем ожидаем, когда опять остановят транспортер; я оглядываюсь — не заметил, как под навесом зажглись лампочки, а вокруг жуткая ночь.
Наконец мы загрузили прицеп и пошли домой. Таская доски, я разогрелся, а сейчас продрог в одной рубашечке; рядом с папой дрожал, глядя, как с августовского неба падают звезды. У дома дяди Вени стоял трактор, папа постучал в окно, а я заметил у забора за деревом Тасю в обнимку со своим будущим мужем. Они тут же спрятались за другое дерево. Ну а мне совсем безразлично было — с кем она гуляет; я вообще в то время об этом не думал.
Мы не стали дожидаться, пока дядя Веня встанет, побрели дальше, а звезды продолжали чиркать по небу. Придя домой, я, не раздеваясь, упал в постель. Когда папа разбудил меня — слипаются от солнца глаза, а на одеяле тень от шуршащей листвы за окном. Вдруг мне стало ужасно грустно, как бывало в детстве, когда разрыдаешься сам не знаешь из-за чего. Может быть, так мне стало из-за того, что я проспал, не услышал трактора, как дядя Веня поднял гидравликой прицеп — и доски шухнули на землю.
Носим их и складываем за сараем, чтобы с улицы не позавидовали, как нам удалось вместо дров привезти досок на забор. Когда бабушка стала подметать улицу, папа послал меня в магазин; я поднял голову — солнце уже после обеда. Я привез папе вина, а он, замаявшись, уснул, и я на велосипеде поехал купаться. Посреди дороги катушка соломы. Объехал ее, кручу педали дальше. Сорокина машет рукой, чтобы остановился. Сквозь мокрые майку и трусы все на ней отчетливо видно, а она никак не может отдышаться, взобравшись по откосу на дорогу, и, когда вздыхала, грудь у нее так выпячивалась — я обалдел и не сразу унюхал, как от бухгалтерши водкой несет на полкилометра. Она попросила сигарету. Я ответил: не курю, немного проехал и обернулся. Сорокина шатается на дороге. Прежде чем «загнать» пару катушек, трактористы напоили ее и сами, конечно, выпили, затем покупались с бухгалтершей в речке, и они сейчас, пьяные, возят солому, поэтому катушка и упала на дорогу.
Я искупался, а когда приехал домой, и папа уже веселый. Наступил вечер, бабушка включила свет, но электричества не было, и она сказала папе:
— Иди, толкни столб!
Папа посылает меня:
— Иди, Кеша, толкни!
— А почему я? — отвечаю. — Я не умею.
Папа взял бутылку, выходя на улицу, и я за ним.
— Держи стакан, — папа сел на лавочке и налил мне, не жалея.
Я выпил, в голове разгорелся пожар, и где было пусто на сердце, там наполнилось весельем. Папа закурил, и я попросил у него сигарету, почувствовав себя взрослым.
— Знаешь, как выбирать невесту? — спросил папа. — Сначала присмотрись к ее мамаше — очень скоро красота у девушки, как загар, сойдет, и она приобретет такую же фигуру, как у матери, и с этой фигурой тебе придется жить…
Выслушав его, я хотел спросить, как он выбрал мою маму; еще захотел спросить, что же такое произошло — из-за чего они развелись, как поделили между собой меня и сестру и распилили пополам шкаф, но подумал — зачем сейчас, на лавочке, когда так хорошо, вспоминать это, если ничего не изменить. Мы допили вино, и папа заснул сидя. Я растолкал его, отвел домой и уложил в постель, а сам вернулся посидеть на лавочке.
Я курил одну за другой сигареты, глядя, как падают звезды, а из клуба после танцев тащились парочки; я не мог понять, что за интерес целую ночь бродить туда и сюда — никак не могли расстаться.
Я накурился на всю будущую жизнь, а утром проснулся, прислушиваясь к сердцу, но почувствовать не могу, как оно бьется; как ни прислушивался — сердца у меня нет; тут слышу — после тихого дождичка поднялся ужасный ветер; выглянул в окно — от цвета каштана земля белая, как зимой.
После того как мама вчера расплакалась, не мог найти для нее слов, вспомнил про стекло, которое перед грозой разбил, закрывая сарай, и сейчас обрадовался — будет чем заняться. Пошел в сарай и за досками нашел картину с голой женщиной. Я ее нарисовал, когда еще носил галифе. Хотя бабушке картина не понравилась, папа сделал раму под стекло и повесил ее на стену.
— Она же не совсем голая, — заметил папа, на что бабушка проворчала:
— Лучше бы голая, чем в таких трусах и майке.
— Они точно такие, — ответил я ей, — как ты мне пошила.
Когда дома никого не было, бабушка спрятала картину, и вот теперь она нашлась, даже стекло не разбилось, как я вчера подумал. Я обрадовался, взял тряпку, чтобы смахнуть пыль, но за годы она окаменела, и я пошел на речку. Я держал картину за раму — и так крепко взялся пальцами, что почувствовал, как бьется жилка — не на руке у меня, а будто деревянная папина рама живая.
После грозы речка разлилась — к воде трудно подойти. Нашедши бережок, я затаил дыхание, протирая мокрой тряпкой стекло. На хранившейся в сырости картине вырос мох — жалко не картину, а ушедшее время, и я решил повторить ее. Когда-то я нарисовал голую женщину играючи за полчаса, а сегодня, измучившись, закончил к вечеру. Пока я вымыл кисточки, прибежала в сумерках, как всегда, поиграть в дурачка дочка бухгалтерши Сорокиной. Я нажал на выключатель — нет света.
— А у нас есть, — удивилась Дуня и с сожалением, что не удалось сыграть, ушла.
— Иди, — выправила меня мама, — толкни столб.
Я вышел и, задумавшись, сел на лавочке, опустив глаза на белую от каштанового цвета улицу. Обычно после грозы дети шлепают босиком по лужам, а сейчас — ожидай снега, когда цветут сады. Я услышал с горки шаги и, подняв голову, увидел Тасю.
— Зачем, — остановилась она, — ты меня подкарауливаешь?
Распахнулось окошко, из него выглянула мама.
— Толкнул?
— Толкнул.
— Еще раз толкни! — настаивала мама и едва стекла не разбила, закрывая окно.
— Мне кажется, — сказала Тася, — ты от меня чего-то ждешь.
— Ты уже спрашивала, — заметил я.
— Не помню.
— На радоницу, — напомнил я, — ты с детьми — с кладбища, а я на кладбище — и у нас получился очень хороший разговор, помнишь?
Тася пожала плечами.
— Не помнишь? — удивился я. — Когда мы попали в грозу!
— Грозу помню.
— Неужели не помнишь, — продолжал я удивляться, — что говорил тебе?
— Почему ты за мной не ухаживал, — едва слышно прошептала Тася, — прежде чем я познакомилась с мужем?
— Ты это вчера тоже спрашивала, — загрустил я. — Разве я к тебе когда-нибудь приставал? Я ничего не жду от тебя, — развел руками, но повторить про сестру другой раз, так же волнуясь, нельзя, и на сердце, которое ей на радоницу открыл, было пусто. — Помнишь, как из дырки в сапоге хлестала вода?
— Из какого еще сапога?! — вскричала Тася. — После грозы у меня заболели дети, а когда они болеют, забываешь обо всем. У тебя нет детей, и ты не можешь меня понять.
— Почему у тебя часто болеют дети? — спросил я и заткнулся, понял: из-за того, что люблю Тасю, у нее и болеют дети, но я не могу с собой ничего поделать.
— Тебе надо жениться, — сказала Тася. — И все, что выдумал обо мне, уйдет, а когда появятся дети, ты даже не вспомнишь обо мне.
В доме зажегся электрический свет. От окон пролегли растворяющиеся во тьме, будто задымленные коридоры; в одном из них взъерошенная на пол-улицы прическа мамы. Тася поспешила дальше, а я — в калитку и, войдя в дом, зажмурился. Спать ложиться еще рано, молча поужинали, и я вспомнил о маминых колышках рядом с папиной могилой. Ночью не мог уснуть, распухла голова от мыслей, и назавтра не знал, куда деться от них, пока не вспомнил про картину. Еще сохранился гвоздь на стене, где прежде она висела, и я повесил новую. Мама не уезжала, а я не спрашивал, когда уедет; каждый день ходил смотреть на большую после грозы воду, в сумерках возвращался, но дочка бухгалтерши перестала приходить играть в дурачка. Я понял, если мама не уедет, Дуня больше не придет, а я же не могу маме сказать, чтобы уезжала. Мама сидела впотьмах, и я догадался — она не зажигает электричества, чтобы не видеть голую женщину на стене. Я не мог представить, о чем, заняв на кладбище место рядом с папой, мама думает, если бы она не начала о своем детстве. Всю жизнь нам нечего было сказать друг другу, теперь я узнал — у нее все то же на душе, что и у меня, — может, у всех людей одно и то же, а мы не хотим признаться.
— Неужели нет в жизни ничего лучшего, — изумился я, — как бросать в речку камешки?
Назавтра, забеспокоившись, что мама не возвращается, приехала сестра.
— Что случилось? — спросила она у мамы. — Как ты себя чувствуешь?
Мама ей ответила:
— В деревне мне голова не мешает, как в городе.
Я глянул в окно — не Тася ли идет, но это не она, а Дунечка со своей мамой куда-то пробрели мимо. И когда я увидел их вдвоем, вспомнил, как папа советовал мне выбирать жену, и я загрустил, ужаснувшись, как растолстела бухгалтерша. Ветер раскачивал тонкие деревца, высаженные вдоль улицы; повалил среди зелени мокрый снег, и — так густо, что за дорогой не стало домов.
— Отойди от окна, — попросила сестра, — затемняешь.
Она уставилась на голую женщину на стене, и, следя за ее выражением на лице, я схватился за вспыхнувшие щеки.
— Разве это та? — пробормотала сестра и, глядя на меня, сделала вид, что узнала прежнюю картину, вздохнула: — Это я уже другая…
Я понимаю — каждый раз, как она выходит замуж, становится другой; еще понял, почему не удалось повторить картину — после смерти бабушки и папы разучился рисовать. Я стал думать, как вернуться в то время, когда все были живы и я ходил в галифе и в кирзовых сапогах. Снег так же неожиданно, как начался, перестал; дорога после него мокрая и черная. К вечеру на западе облака истончились, солнце так и не пробилось сквозь них, но на крышах будто солому постелили. Случайный луч попал на березу во дворе — отчетливей на ней затрепетали листочки, и по стенам в комнате пробежал теплый ветерок. Вдруг небо как бы шторой задернули, но закат все еще пробивался сквозь нее, а в доме, не успели опомниться, уже ночь. Зажгли электричество, сразу же в черном окне ничего не видно. Сестра, опечалившись, все еще смотрела на меня — белки ее глаз в тени от абажура засветились будто фосфорные, вобрав в себя холодный свет выпавшего днем снега.
Мне приснилась зима, и я иду на кладбище. У ворот толстая женщина в ватном пальто продает цветы. У нее в руках много букетов под марлей, чтобы цветы не замерзли. Солнце сияет, снег сверкает и под ногами скрипит, когда женщина переступает с ноги на ногу, а над головой ясное синее небо. За цветами не видно у продавщицы лица, подхожу ближе — глаза у нее закрыты, но я узнал маму Дунечки. Не я один, еще шаги на снегу. Бухгалтерша открывает глаза, откидывает марлю и продает цветы. Люди бегут с букетами живых цветов на морозе, скорее, чтобы успеть их донести живыми, и на лицах их неподдельная, неописуемая радость, будто они сейчас увидят своих дорогих родных. Я ищу в карманах, но денег нет, и у меня не может быть радости без цветов. Иду среди каких-то людей — перед нами несут гроб. На кладбище ведутся ремонтные работы — вместо дорожки вырыта канава, прокладывают под землей непонятно зачем трубы. Процессия сворачивает в сторону, приходится идти согнувшись в три погибели под нависшими, тяжелыми от снега ветками, а каково мужикам, которые несут гроб, и я вижу в нем свою маму. Но я знаю — под снегом все живое, он вдруг растаивает, и на ветках — листья. Гроб проносят под деревьями, а освободившиеся от снега ветки раскачиваются, и мужики, выпрямившись, обмакнули в мокрые листья лицо мамы. Так она в последний раз простилась с жизнью — вот уже вырыта могила, и сейчас на гроб положат крышку и заколотят гвозди…
Тут я просыпаюсь и никак не могу понять, где я, на каком свете, и как мне жить — и понимаю: самое главное, чтобы были деньги на цветы. Наконец вижу маму — она тоже проснулась, натягивает на себя цветастый халат. Не успел я обрадоваться, что она жива и все, что я увидел на кладбище, — это сон, — вспомнил, как мама отметила колышками место рядом с папой… Пришла с кухни сестра, взглянула на меня, а я в одних трусах, еще в тех, что пошила бабушка, вылезаю из постели.
— Тебе надо жениться, — сказала сестра, отворачиваясь. — На Дунечке. Разве ты не понимаешь, зачем она приходит?
— Поиграть в дурачка, — улыбнулся я.
Крик
Как обычно, мама отвела Нюрочку через дорогу к бабушке, а сама побежала на автобус. Вскоре и бабушка Люба ушла на сенокос в колхоз, а Нюрочка осталась с дедушкой. Погода ясная, и дедушка Яша решил выбраться на свежий воздух. На улице пылища, старик устроился за кустом сирени у крыльца и выглядывал через забор. Подготавливая дорогу, чтобы проложить асфальт, ревел бульдозер, и, стараясь его перекричать, ругались рабочие. Им помешали липы и клены у церкви, и завизжала бензопила. Дедушка Яша не мог смотреть, как пилят деревья, с которыми он вместе вырос, но и не смотреть не мог. Он дождался, когда последнюю липу спилили, и поспешил в дом, чтобы выпить рюмочку. Дедушка налил водки и выпил, глядя в окно на голую церковь, и еще налил. Тут ноги у него подкосились, и старик упал.
— Спасай меня, Нюрочка! — закричал он.
Возвращаясь вечером с колхозного луга на низком берегу, бабушка Люба увидела издали церковь как никогда ясно и обрадовалась. Земля глинистая, дорожка сбитая, будто ток на гумне, — босые ноги звучно шлепают, и старуха забыла, сколько ей лет. Дома ее встретила Нюрочка, доложила, что дедушка напился, и бабушка Люба почувствовала, как устала за жизнь. Старик все еще лежал на полу и пытался подняться, но не мог.
— Все… — пробормотал он.
— Что — все? — не поняла бабушка Люба и тут же догадалась.
Она дотащила мужа до кровати, уложила в постель, а сама помыла ноги, обула новые туфельки, переоделась в платье получше и повязала чистый платок.
— Куда мы? — спросила Нюрочка, выйдя с бабушкой на улицу.
Старуха не ответила, подняла голову и удивилась:
— Что-то сегодня облаков много!
— Да, — повторила Нюрочка, — что-то неба много…
Бабушка вспомнила, как, возвращаясь с луга на низком берегу, ясно увидела церковь, и сейчас, когда глазам не могла поверить, что спилили деревья, поняла, как обманулась — издали обрадовавшись. К остановке подкатил автобус — из него вышла мама Нюрочки, но не одна, а с дядей Веней. Бабушка Люба не стала с невесткой при дяде Вене разговаривать, потянула Нюрочку дальше.
Батюшка жил рядом с церковью и, заметив старуху с внучкой, вышел из дома. По улице с пастбища гнали коров. В другом конце еще грохотал асфальтоукладчик. Старуха прослезилась перед священником, не забывая оглядываться на свежие пни. На закате они ярко блестели от выступившей влаги, которую впитывали из земли живые корни. Поговорив со священником, бабушка Люба вытерла слезы и побрела назад с внучкой. Солнышко садилось, его последние лучи гасли на облаках в небе и на земле под ногами, и, когда все в природе успокаивалось, дядя Веня взял топор и начал колоть дрова.
Бабушка Люба поспешила к больному мужу, а Нюрочка, когда приезжал дядя Веня, оставалась у бабушки и ожидала теперь корову. Девочка заранее подготавливала для нее кусочек хлеба, а сегодня забыла. Корова потянулась за хлебом, но Нюрочка погнала ее в хлев и спряталась, когда пришел батюшка в черной рясе. Бабушка Люба, встречая на крыльце священника, заметила внучку за забором.
— Пойди, Нюрочка, домой, — приказала она, — и попроси дядю Веню, чтобы не стучал.
Размахивая топором, дядя Веня увлекся и не сразу заметил девочку.
— Перестань стучать, — прошептала она.
— Почему? — не сразу дядя Веня догадался, но вспомнил, как только что по разрытой улице, глядя не под ноги, а в открывшееся небо, прошел батюшка с Евангелием и с крестом в одной руке и с золотой чашей в другой.
Надвигалась туча, и уже не видно, как дрова колоть. Дяде Вене показалось, будто голуби, взлетая стаей, захлопали крыльями, — а это по широким листьям яблони в саду зашлепали первые крупные капли дождя. Дядя Веня, жалея Нюрочку, мокнул с ней под дождем. Сегодня на каждом столбе повесили фонарь, и — не так страшно, когда они зажглись, — а когда батюшка зашагал назад по улице, дядя Веня взял за руку девочку и отвел к бабушке.
Бабушка Люба уложила внучку в кроватку и спела колыбельную, а у самой не осталось сил раздеться — залезла под одеяло в лучшем платье. У сельсовета прокладывали асфальт, и, несмотря на то что уже ночь и дождь не перестает, грохот асфальтоукладчика не прекращался. Бабушка Люба, как легла, так сразу и забылась, но, когда асфальтоукладчик оказался под окном и стекла задребезжали, — спохватилась и уже не смогла больше заснуть; заныли бока — старуха поднялась и у постели больного мужа просидела до рассвета. Проснувшись, дедушка Яша увидел склонившуюся над ним жену и заметил на ней платье, которое она надевала по праздникам.
— Люба, — спросил он приподымаясь, — помнишь, в каком ты была платье, когда я пришел из тюрьмы?
— В белый горошек, — сразу вспомнила про платье старуха, радуясь, что мужу лучше, но он тут же забыл, о чем начал, и бабушка Люба засмеялась: — А ты сам помнишь?
Старик опять упал на подушку и, когда жена еще смеялась, — не ей, а кому-то за ее спиной попытался улыбнуться. Испугавшись, как меняется у него взгляд, бабушка Люба выбежала на улицу и заколотила к невестке в окно.
Вскочив из постели, Юлька не знала, что на себя набросить, и пятками на холодном полу обо всем догадалась.
— Слышал? — она затормошила дядю Веню. — Вставай!
Тот поднялся, нехотя стал одеваться и вышел с Юлькой на улицу. От проложенного ночью асфальта поднимался пар, как от реки. Дядя Веня поплелся за Юлькой в дом к покойнику, где уже собирались соседи. Дедушка Яша лежал на кровати, и казалось, что спит. Бабушка Люба перекрестилась и накрыла его одеялом с головой, а дядя Веня подглядывал у порога, не осмеливаясь подойти. Юлька вспомнила про дочку, шагнула к кроватке, и все оглянулись. Нюрочка крепко спала и не проснулась, когда женщины рыдали. Юлька вытащила ее из кроватки и попросила дядю Веню, чтобы отнес Нюрочку домой. Дядя Веня ни разу не держал маленьких детей на руках и осторожно взял Нюрочку. Он отнес ее домой и уложил в постель, а потом заметил, как дрожат у него руки, и испугался.
Несмотря на столь ранний час, из города привезли рабочих в оранжевых жилетах. Нюрочка, проснувшись, выглянула в окно и ахнула. Жилетов было столько, что за ними не видно черного асфальта. Девочка выскочила в сени, но дверь закрыта на замок. Нюрочка вернулась и попробовала открыть окно, но оно не поддавалось. Стала перебирать другие, и то окно, в которое бабушка Люба утром стучала, распахнулось. Нюрочка залезла на подоконник, чтобы выпрыгнуть, — ее заметили рабочие, один из них снял рукавицы и подхватил девочку.
Как раз бабушка Люба выглянула из калитки, взяла внучку за руку и побрела мимо церкви. Еще вчера рабочие вывезли спиленные деревья, разрезав их на бревна, а сегодня сгребали ветки в кучи. Затем привезли новые железные ворота, установили их перед правлением колхоза и покрасили. У сельсовета, почты, колхозной конторы суетились женщины, посыпая дорожки песочком; рядом устраивали цветники — в чернозем закопали горшки с цветами, будто всегда они тут растут. Кругом подмазывали, чистили, белили, подметали, и бабушка Люба догадалась — кого-то очень важного ждут, если столько народу собрали. Она поднялась по ступенькам в сельсовет, а Нюрочка осторожно подкралась к забору, за которым на школьном дворе вымахала трава и на ветру шелестела до края земли. Из школы вышел сторож и засвистел косой. Нюрочка вспомнила, что осенью ее отведут сюда учиться, и захныкала.
Когда бабушка Люба осторожно спустилась по ступенькам, читая на ходу бумажку, которую выдали в сельсовете, — школьный сторож к этому времени много сбрил травы, но ему тут косить одному до осени. Нюрочка вытерла слезы и подбежала к бабушке. Они встретили дядю Свечкина. Бабушка спросила у него, куда идти с этой бумажкой, чтобы получить пособие на похороны. Дядя Свечкин уже похоронил свою жену и все знал. Он взял бумажку и сказал, что сам пойдет. Еще он сообщил — у колхозной конторы раздают на каждый дом по банке краски, чтобы покрасили заборы. Как раз дядя Веня вместе с Юлькой вышел на улицу. Когда Юльку бросил муж, дядя Свечкин пытался за ней ухаживать, но она нашла помоложе — дядю Веню из поселка. И поэтому дяде Свечкину сделалось больно, когда увидел своего соперника с Юлькой, — он скорее поспешил за пособием на похороны.
Дядя Веня взял за руку Нюрочку и пошел к конторе. У новых ворот собрался народ за краской. Дяде Вене выдали две банки, он поставил их одна на другую и понес перед собой. На крыльце у Юльки откупорил банки, перемешал палочкой краску. Она оказалась самая дешевая — водоэмульсионная; если покрасить заборы — до первого дождя. Юлька нашла квач, которым белили печи; дядя Веня принялся красить забор, а за стеной в доме причитала бабушка Люба.
— На кого ты меня, Яша, оставляешь?! — заливалась она слезами. — Почему же ты не отвечаешь?..
Мимо дяди Вени, красившего забор, ходили без конца мужики и бабы наведывать покойника, а затем, возвращаясь, удивлялись — сколько раз бабушка Люба бегала по хатам и пряталась от пьяного мужа, а сейчас все забыла. Кто-то еще вспомнил, что дедушка Яша сидел раньше в тюрьме, а дядя Веня не знал и теперь понял, почему ему стало так страшно, когда старик умер.
К вечеру дядя Веня покрасил Юлькин забор и забор бабушки Любы. Отдыхая, дядя Веня залюбовался закатом. Асфальтоукладчик далеко проложил асфальт; к ночи меньше на улице шагов, рабочие разъехались, глубже тишина и все страшнее. Дядя Веня взял за руку Нюрочку и гулял с ней, пока не начало смеркаться. После жаркого дня Нюрочка задрожала все еще в ночной рубашке, и дядю Веню охватил озноб. Когда фонари освещают дома и дорогу, небо кажется чернее, чем на самом деле; звезды не такие яркие, и не видно, что спилили деревья, но оттого что листья не шелестят — мороз пробирает по коже, будто зимой.
Все окна в доме у бабушки Любы горели. На крыльце курили пьяные мужики, ожидавшие чего бы помочь за рюмочку, а в доме полно народу, что не протолкнуться. Дядя Веня решил не толкаться, а Нюрочка позвала маму. Тут пришел с чемоданом какой-то незнакомый дядя.
— Ванька приехал! — заорали пьяницы.
Ванька открыл чемодан, достал из него конфет и протянул Нюрочке.
— Ты знаешь, кто это? — спросили у девочки. — Это твой папа.
Перед ним все расступились, и он прошел внутрь дома к своему покойному родителю, а дядя Веня, неслышно ступая, спустился с крыльца и зашагал сам не зная куда. Черная полоса асфальта пролегла к небу, а пустошь между ним и речкой вспахивал при свете фар трактор. Однако дядя Веня не удивился и побрел дальше. Как и вчера, закапал дождь, а потом все сильнее; дорога совсем близко у речки — дядя Веня заметил на берегу стог сена, зарылся в него и заснул.
Здесь, в этой глуши, сохранился обычай переносить на ночь покойника в церковь, и, когда дедушку Яшу положили в гроб и вынесли на улицу — над церковными воротами, где на перекладине висели три колокольчика — побольше, поменьше и — самый маленький, — зазвонили в этот самый маленький тоненький колокольчик. От его щемящего дзинь-дзинь дядя Веня проснулся в стогу у речки. Он не знал, что это покойника заносят в церковь, но у него заныло сердце. Всю ночь промучился дядя Веня в стогу и под утро заснул, однако лучи солнца, пробившись сквозь сено, разбудили его. После того как переночевал в стогу, искупаться было радостно. А когда вылез из воды — в церкви зазвонили сразу во все три колокольчика, и стало еще радостней.
Дядя Веня узнал — дзинь-дзинь — самого маленького, от которого ночью защемило сердце, но сейчас, когда они все вместе, — это дзинь-дзинь перекликалось с другими дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, — и радость перерастала в ликующую — да еще когда мокрая после дождя трава под ногами и листья на кустах и деревьях сверкают в лучах солнца, и, если зацепишь плечом ветку, — обдаст брызгами.
С асфальта свернула к речке грузовая машина. Из нее выпрыгнули рабочие и развернули на берегу, начали устанавливать огромную, с окошками, армейскую палатку, а дальше все еще распахивал пустошь трактор. Глядя на палатку, дядя Веня не заметил, как рядом остановилась милицейская машина. Из нее вышли милиционеры и поинтересовались у дяди Вени, что он тут делает. А он не знал, что им ответить. У него попросили документы. Бедняга полез в карман и схватился за сердце. Он понял, что потерял паспорт в стогу сена. Милиционеры не стали разбираться, посадили несчастного дядю Веню в машину и увезли.
А в церкви собирался народ. По старинному обычаю родственники должны были исповедаться и причаститься у гроба, потом совершалась панихида. Церковный хор, чтобы никто не подслушал чужие грехи, запел рыдания. Уже не мотались перед окнами ветки деревьев, только в одном уцелела кудрявая береза у речки. Ветер заворачивал на березе матовые с изнанки листья, и, глядя на них, становилось легче на душе. Чтобы вздохнуть после исповеди, многие выходили на свежий воздух. На церковном дворе стояли качели. Нюрочка каталась на них. После того как спилили деревья, открылось небо, и на горе, на которой стояла церковь, казалось, что летаешь под облаками. Все больше собиралось народу возле качелей. Незаметно солнышко поднялось высоко. Когда исповедь закончилась, Нюрочка осталась одна во дворе кататься, а взрослые поспешили на литургию. Нюрочка ничего лучшего не знала, как кататься на качелях около церкви. Нюрочка каталась и пела. Время пролетало на качелях незаметно. Перед «Верую» и «Отче наш» выходил к воротам дядя Свечкин и, когда начинали молитвы, — звонил во все три колокольчика, а к «Отче наш» собрались к воротам пьяницы. Увидев среди них дядю Володю, Нюрочка обрадовалась. Еще до того, как появился дядя Веня, этот дядя Володя часто приходил к маме и играл с Нюрочкой, но любил выпить, а мама расстраивалась. Он и сегодня, чтобы солнце засияло ярче, с утра выпил и приволокся с друзьями на похороны, предвкушая поминки. Тут вышла из церкви мама и позвала Нюрочку, когда приехал колхозный бригадир и стал умолять пьяниц выйти на сенокос. Нюрочка спрыгнула с качелей — мама взяла ее за руку и ввела в церковь.
Перед причастием все засуетились, и сделалось страшно. Дедушка Яша еще дальше вытянулся в гробу. Нюрочка подошла к гробу и стала ожидать, когда старик оживет. И сейчас она поняла — для того чтобы дедушка ожил, его надо сначала похоронить. Нюрочка хотела закричать и заплакать, когда мама подвела ее причаститься, но не закричала и не заплакала — и этот крик остался у нее внутри жить. После причастия дали попить водички. Нюрочка закашлялась. Мама увидела у нее на лице этот крик и испугалась. Она вывела дочку на свежий воздух. Бригадир все еще уговаривал пьяниц выехать на сенокос. Подъехала из колхоза бортовая машина. Мама подошла с Нюрочкой к пьяницам и попросила дядю Володю, чтобы тот побыл с девочкой во время похорон. Дядя Володя сказал, что они едут на сенокос.
— Может, ты, Нюрочка, — подхватила мама, — поедешь с дядей Володей?
Нюрочка боялась, что закричит на кладбище, и решила поехать на сенокос. Пьяницы перелезли через борт в кузов — дядя Володя передал наверх Нюрочку, а потом сам залез. Девочка села на коленях у него, и машина поехала. По новому асфальту она катила очень быстро — ледяной ветер захлестал в лицо, и дядя Володя укрыл Нюрочку пиджаком. Дядя Володя улыбался — чем больше он пил, тем становился добрее, и девочке рядом с ним было хорошо.
Машина свернула с асфальта и бродом переехала через речку. Здесь был другой пьяный воздух и другое сияло солнце. Дядя Володя спрыгнул с борта вниз, и ему подали Нюрочку. У воды росли цветы, и девочка стала их собирать. На этом низком топком лугу увязла бы современная техника, и пьяницы взяли косы. Дядя Володя только размахнулся, как за речкой опять зазвонили в самый маленький тоненький колокольчик — дедушку Яшу вынесли из церкви. Мужики, не выпуская из рук косы, оглянулись на голую церковь — и так стояли, пока за речкой звонили в колокольчик. Это жалостливое дзинь-дзинь надрывало душу, и подступали слезы к горлу, а каково же тем, которые шли за гробом?..
Процессия вышла на лоснящийся новый асфальт, и — колокольчик отзвонил по дедушке Яше. Поднялся ветер, небо заволокло тучами, и, когда в разрывах между ними падали снопами во все стороны лучи солнца, становилось нестерпимо жарко, а потом пробирал озноб от надвигающихся мрачных теней. На кладбище батюшка еще помолился, затем гроб заколотили и опустили в могилу. Ветер развеивал с лопат песок и сыпал в глаза. Наконец поставили крест — как на сельских кладбищах ставят — в ногах. Бабушка Люба упала на холмик над могилой и напоследок всласть поплакала. Дядя Свечкин поднял ее и повел домой. И, ведя ее, чувствуя, как старуха, оставшаяся одна, прилепилась к нему, вспомнил про молодую Юльку, которую безответно любил, и горько усмехнулся над собой, понимая, что ему теперь только на бабушке Любе жениться.
Дядя Свечкин привел ее на поминки; после молитвы все засуетились за столом, будто обрадовались, похоронив дедушку Яшу. Распахнули окна — как раз начался дождь и запахло прибитой пылью, но дождь ненадолго — едва побрызгал, тучи разошлись, и — опять солнце. Дяде Свечкину наложили в тарелку еды и рюмочку налили. Он вспомнил про Юльку и выпил, не выдержал и посмотрел на нее, затем — на Ваньку, ее мужа. Они рядом не сидели, но дядя Свечкин заметил, как Ванька оглянулся на жену, а потом еще раз оглянулся. Дяде Свечкину налили вторую рюмочку, и он, когда целый день не ел, еще выпил, не закусывая.
После поминок он еле выбрался на улицу. Навстречу показались машины; впереди милицейская, и когда дядя Свечкин упал, из громкоговорителя — так что и на лугу за речкой услышали — раздалось:
— Товарищ, немедленно подымитесь!.. Товарищ!!!
Но дядя Свечкин не мог подняться, и никто ему не помог — выйдя с поминок, с изумлением все вытаращились на проносящиеся мимо черные машины с черными стеклами. Теперь понятно, зачем согнали на дорогу столько рабочих, и стало ясно, что асфальт проложили только для того, чтобы эти машины проехали. Когда все смотрели, не дыша, на них, Ванька оглянулся и взял за руку Юльку. Она вспомнила лучшее свое время с Ванькой и, не спрашивая, где он был, простила его и побежала за ним в кусты, куда он не раздумывая повлек ее, чтобы остаться наедине.
Черные машины, одна за другой, свернули с асфальта к речке и остановились возле армейской палатки с окошками. Из машин вылезли дяди в черных костюмах и стали смотреть на небо. На другом берегу пьяницы замахали усерднее косами, а бригадир подгонял их и тоже посматривал в небо. Солнце пекло нещадно. Нюрочка рвала цветы, а весь луг в цветах — девочка очень устала и расплакалась. Затарахтел над головой вертолет — его тень промелькнула через речку, и на воде от кружащихся лопастей поднялись волны. Из вертолета выбрались какие-то дяди, сразу прошли в палатку, а за ними те — из черных машин. Нюрочка все еще плакала. Она не знала, сколько проплакала, а когда дяди выбрались из палатки, один из них услышал, как девочка плачет, подошел к берегу и через речку помахал рукой. Нюрочка догадалась, что это самый главный дядя. И вот тут крик, который у нее жил внутри, вырвался наружу. Она так закричала, что личико побагровело и жилы на шейке вздулись: аааааааааа!!! Но дядя этот напился похлеще мужиков на лугу, шатался и не мог понять, чего кричит Нюрочка. Услышав, как она кричит, дядя Володя воткнул косу косьем в землю и зашагал к девочке. Самый главный на другом берегу все еще махал Нюрочке рукой, но другие дяди увели его и посадили в вертолет — никому не было дела, чего кричит маленькая девочка. Закачались кусты, и полегла трава, опять волны поднялись на речке…
Майский снег
1
С самого утра пришла Маруся.
— Вчера забыла на речке платок — боюсь одна сходить.
— А дядя Вася?
— Мы поругались, — отмахнулась Маруся. — Да я и не хотела про платок ему говорить, потому что это он его мне подарил.
Издали, свернув с асфальта на проселочную дорогу, услышали моторную лодку. Когда сбежали вниз — по реке еще расходились волны. У машины с будкой стояли на дороге какие-то люди.
— Они и вчера здесь стояли, — сказала Маруся. — Пошли дальше.
— Вчера был чудный день, — вспомнил я.
— Но войдешь в воду, и страшно окунуться.
— Зато, когда вылезешь на берег, будто заново родился!
— Да, — подтвердила Маруся. — Но дядя Вася этого не понимает. Сидел на берегу и смотрел, как я купаюсь, а сам в воду не полез. Нет, пошли дальше. Туда, на песочек. Я очень люблю это место, хотя, когда купалась здесь с тобой прошлым летом, у меня украли кошелек…
Дальше разросся ивняк на берегу. Пробравшись по тропинке между кустами, мы оказались на песочке, намываемом здесь в паводок, а домов и дороги не видно за горкой.
— Да, — говорит. — Вот здесь. Очень люблю это местечко. Вчера все с себя сбросила и искупалась, а потом, когда одевалась, оглянулась — вот на той горке, — показала, — стоит какой-то мужчина и улыбается.
— И что — он видел, как ты голая купалась?
— Не знаю, — пожала плечами Маруся. — Ну и что, если и видел?
— А дядя Вася?
— И он его не сразу заметил, потому что на одну меня смотрел. «Когда я пришел из армии, — начал рассказывать, — ты, Маруся, была еще совсем маленькой. Как не иду по деревне — всегда выглядывала из калитки. Ты выглядывала, и выбегала на улицу, и, когда падала, плакала. Ты была совсем еще маленькая и плакала». И почему надо об этом вспоминать?
— Не знаю, — пробормотал я. — Ну, а ты?
— Я взяла палочку и на песке стала его рисовать в погонах. Наступил вечер, пока дядя Вася рассказывал, как я маленькая плакала, а мужчина на горке не уходил, смотрел на меня и улыбался.
— А потом?
— После того как искупалась — так было хорошо на песочке, что я заснула. Может, я одну минуту поспала, а может — с час. Я подхватилась — дяди Васи рядом не было. Я совсем забыла про мужчину на горке и, когда опять увидела его, хотела закричать, позвать дядю, но, повернувшись к реке, увидела — дядя Вася, как ребенок, чего-то возился у самой воды на корточках; все было хорошо, тихо, но вдруг он зарыдал. Я бросилась к нему: что с тобой? Но он не отвечал. Он закрыл ладонями лицо и уткнулся им в песок.
— А тот мужчина на горке?
— Стоял и улыбался.
— Ну а ты?
— Когда дядя Вася успокоился, я набросила на себя куртку — и мы побрели вдоль берега. И неудивительно, что я забыла вот на этой ветке платок, но его сейчас нет.
Я обошел вокруг дерева. Под ногами увидел нарисованную палочкой на песке фигурку дяди Васи в погонах и рядом еще одну женскую фигурку.
— Это ты?
— Ну а кто же еще, — вздохнула Маруся. — Смотри! А там дальше он себя нарисовал.
Смотрю, куда она показывает, и вижу еще одну фигурку на песке; от нее стрелочка с пронзенным сердцем, а что написано — я уже не стал читать.
— Теперь я понимаю, — пробормотала смущенная Маруся и пояснила мне, показывая на третью фигурку. — Это он, когда мы ушли вчера, нарисовал меня, а потом — себя, и это он, конечно, забрал платок. Он знал, что я приду за платком, и поэтому я боялась одна идти; теперь понимаешь?
— Может, это тот самый, кто украл у тебя кошелек? — спросил я у Маруси, а она покачала головой:
— Тот, кто украл, так долго не улыбался бы.
Ветер треплет ее черные кудрявые волосы. Маруся отбрасывает их назад — лицо у нее никогда не загорает, и на такой белой коже всегда очень яркий румянец.
— Какая ты все-таки красавица! — не удержался я.
— Еще немножко и — все, — вздохнула она.
— Ты совсем не изменилась, — и я улыбнулся, разглядывая ее. — Разве что немножко располнела.
— Помолчи, — попросила Маруся.
Брызнул дождь, и мы повернули назад. Возле машины с будкой столпились на берегу какие-то люди. Еще ниже, у самой воды, возились у моторной лодки. Я вспомнил, как позавчера ходил на речку купаться. День был очень хороший — не то что сегодня, и народу на берегу гуляло много. А я не люблю, когда много народу; и, когда плыл и смотрел на облака в небе, испугался голоса на берегу: не нашли ли мальчика? Только сейчас я понял, что произошло и кого уже несколько дней ищут на моторной лодке. Проходя мимо машины, я заметил в стороне, по другую сторону от дороги, отдалившихся от всех мужчину и женщину. Подойдя ближе, я поднял голову. У них что-то одно написано было на лицах — у мужа и жены после долгой совместной жизни появляется какое-то такое сходство, какого не бывает у брата и сестры. Но эти лица сейчас будто только что были умыты и светились какой-то пронзительной чистотой и ясностью. С них будто вся их прежняя жизнь стерлась. Невольно я взглянул на них и скорее опустил глаза. Потому что на эти лица нельзя было смотреть. А Маруся занята была собой, своей жизнью и счастьем, и родителей утонувшего мальчика не заметила, когда лица их светились на берегу в этот мрачный пасмурный день, но увидела на берегу горшок с комнатными цветами.
— Зачем он здесь? — не могла понять, а я не стал объяснять и, чтобы отвлечь ее, спросил:
— Ну, так чего же рыдал дядя Вася?
— Не знаю.
— А потом не спрашивала? — допытывался я. — Что было потом, когда пришли домой?
— За ужином поругались.
— Из-за чего?
— Как всегда, из-за какой-то ерунды, — махнула Маруся рукой, — даже не помню. Да, дядя опять стал вспоминать деревню, а я ему: «Ну сколько можно?»
Я оглянулся на светящиеся от горя лица родителей утонувшего мальчика, а потом посмотрел на Марусю, увидел, как она счастлива, как ветер треплет ее мокрые волосы и она, улыбаясь, кусает их, и я пожалел дядю Васю.
— Не понимаю, — проговорил я, — зачем ты выходишь за него замуж, если вы ругаетесь каждый день, а что будет потом?
Маруся пожала плечами, будто и она не понимает; будто удивилась самой себе, подняла на меня глаза и тут же опустила. В тени от упавших со лба кудрей ее глаза казались черными, как сливы, но просияло из-за туч солнце, и в его лучах, когда Маруся взглянула на меня, зрачки ее сузились, а за ними рыжая бездна.
— Не понимаю, — повторил я, — как можно выйти за старика?
— Кстати, и я уже не та, — взгрустнула Маруся. — Ты забыл, Гриня, что мне скоро на пенсию?
— У тебя ни одного седого волоса, — заметил я. — Ты могла бы выбрать кого и получше — хотя бы того, кто забрал на речке твой платок.
— Не хочу об этом вспоминать! — встрепенулась Маруся, когда совсем недавно с восторгом рассказывала.
— Все равно, — подхватил я ее кричащий тон, — не могу понять, зачем выходишь за дядю Васю?!
— Куда ты спешишь?! — взмолилась Маруся и, когда я споткнулся на гладком асфальте, прошептала мне в ухо: — Я забеременела.
Я не знал, что ей ответить; тут раздался за деревьями душераздирающий крик: аааааааааа! Этот крик раздался еще прежде, чем Маруся зашептала мне в ухо: забеременела; и, когда рядом: аааааа, — я едва разобрал, что она прошептала, и даже подумал — почудилось.
— Кто это кричит? — оглянулась Маруся.
Я перебежал через дорогу и увидел на другой стороне железнодорожных путей на крыльце магазина какого-то человечка, который и начал: ааааа, но не мог остановиться. Сначала я подумал, что ему плохо, что у него что-то с сердцем; вот-вот он упадет с высокого крыльца магазина, со ступенек, но бедняга все тянул: ааааа… Только сейчас я заметил, как тучи вдруг разошлись и вовсю сияет солнце, и я догадался — выйдя из магазина, человечек этот огляделся, и душа у него запела: аааааааа!!!
— Эй, ты! — запрыгал через рельсы милиционер: — Что — ааааа?! Опять?
— Что там такое? — догнала меня Маруся.
— Пьяный, — объяснил я, глядя, как несчастного свели с крыльца.
— Ладно, я домой, — сказала Маруся. — А ты?
— В магазин.
Я поспешил через переезд на железной дороге и у магазина наткнулся на дядю Васю. Я сразу понял, что он не просто так здесь. Увидев меня, он вздрогнул, хотел отвернуться, но было поздно.
— Вы ищете Марусю? — спросил я у него. — Пришла ко мне утром и попросила сходить с ней на речку за платком.
— Нашла?
— Не нашла, — пробормотал я. — Кстати, давно вы у нас дома не были, и мама часто спрашивает о вас. Может, зайдете?
— В следующий раз, — пообещал дядя Вася, а я, когда посмотрел ему в глаза, невольно вспомнил, как он рыдал вчера, и опять пожалел дядю. И он на меня посмотрел, увидел, что я пожалел его, и вдруг, открывая сердце, начал: — Поехал в деревню, встретил женщину — она меня знает, а я ее не могу узнать. Но она вспомнила про тебя, Гриня, и я сразу же узнал Марусю и не поверил глазам, как она расцвела…
Дядя Вася не это хотел сказать, но не находил слов.
— И Маруся мне проболталась, как встретила вас в деревне, — брякнул я, лишь бы не молчать. — Что было потом — не знаю, но я вас поздравляю!
Я сказал это и подумал, зачем еще брякнул: поздравляю! И добавил:
— Ничего не понял, когда она проговорилась, но сейчас, конечно, все понимаю. А вон Маруся идет, — удивляюсь, что возвращается, — наверно, и она вас ищет.
Дядя Вася поспешил к ней навстречу, а я, заскочив в магазин, обнаружил, что не взял деньги. Я повернул обратно и на крыльце решил обождать, пока дядя Вася с Марусей завернут за угол. Магазин на горе — с крыльца видна река; я удивился, какая она сегодня синяя-синяя. Вдруг я осознал, что стою на том самом крыльце, откуда кричал несчастный пьяница: ааааа! И я догадался — выйдя из магазина, он тоже увидел синюю-синюю реку, удивился и заорал: рекааа, но не мог остановиться — и вышло: ааааа! Я так ударил кулаком по перилам, что многие у магазина на площади оглянулись, но только не Маруся с дядей Васей, которые заняты были только собой и своим счастьем. Я успел заметить, как Маруся ухватилась за дядю Васю, и они под руку направились вниз по улице. И, когда они заворачивали за угол, еще успел подсмотреть, как Маруся дяде Васе в глаза заглядывает.
Вернувшись домой, я поинтересовался у мамы:
— Сколько Марусе лет?
— Ей уже скоро на пенсию.
— Разве может женщина в таком возрасте забеременеть? — удивился я и тут же добавил: — Впрочем, у нее ни одного седого волоса и кожа на теле гладкая, как у девушки…
Мама не изумилась, что Маруся забеременела, но осторожно спросила:
— Откуда ты знаешь, что у нее кожа на теле, как у девушки?
— Мы же вместе ходили купаться, — ответил я, — когда у нее украли кошелек.
— Ладно, — махнула рукой мама. — Там кто-то пришел — иди посмотри!
— Никого нет, — прислушался я.
— Ты собирался в деревню, — вспомнила мама. — Купил краску?
— Забыл деньги, — спохватился я. — А какого цвета купить?
— Ты разве не помнишь, каким цветом папа красил?
— А почему голубым? — задумался я.
— Небесным, — пояснила мама. — Иди посмотри — там кто-то пришел!
Хотя в доме ни малейшего звука, я выбежал на кухню и увидел в приоткрытых дверях цыганку. Выпроводив ее, выглянул в окно. Она пошла дальше по улице, пока опять не завернула к кому-то в калитку. Я опомнился и стал собираться в магазин, но цыганка не выходила у меня из головы. Если я не услышал, как она прокралась, то разве могла услышать мама, которая не раз жаловалась, что у нее уши онемели. И я сейчас догадался — мама не услышала, а почувствовала, что кто-то вошел в дом. У меня очень тихо стало в душе, когда я это понял.
Я побрел обратно в магазин и встретил дочку дяди Васи.
— Нашли платок? — спросила она.
— Откуда ты, Улечка, знаешь про платок?
— Мне, — говорит, — через стенку все слышно…
— А-а-а, — покачал я головой, глядя на Улечку, — ты не можешь смириться с тем, что твой папа собирается жениться на Марусе, но он же с ней счастлив. Постарайся и ты полюбить ее. Она же тебя, маленькую, на саночках катала.
— Откуда ты знаешь, что Маруся меня на саночках катала, если тебя тогда на свете еще не было? Зачем она это тебе рассказала? — удивилась Улечка и заглянула мне в глаза: — А что у тебя было с ней?
— А что у меня может быть с ней? — рассердился я. — Разве ты не знаешь, насколько она меня старше?
— Тогда почему же она к тебе ходит?
— Она не ко мне ходит, а к маме, — объяснил я. — Марусина мама и моя дружили с детства, и я тут ни при чем…
2
На крыльце, прямо над дверью, какая-то птичка свила гнездо и, когда я открыл дверь, вспорхнула над головой. После яркого на улице солнца в доме сумрачно — в окнах стена высохшего на корню бурьяна. Я сбросил с плеч рюкзак, поспешил распахнуть окна и выскочил на крыльцо, чтобы вздохнуть. Уже забыл о птичке, которая свила над дверью гнездо, и она опять вспорхнула над головой. Я вздохнул на крыльце и вернулся в дом. Уже давно в нем никто не живет; воздух затхлый, но из раскрытых окон повеяло пьяной, одуряющей свежестью. Я достал из рюкзака банку с краской, кисти; переложил в старую сумку и снова на улицу.
Посередине улицы прошлогодняя трава по пояс, лишь возле покосившихся заборов протоптаны тропинки. Я выбрался со своего краю на тропинку и побрел на кладбище. Родные упокоившиеся лежали все рядом. Я сразу к папе, помолчал у его могилы — никак не могу свыкнуться, что он здесь. Недавно, перед радоницей, я приезжал сюда; тогда все было вокруг голо и грустно, а сейчас начинает зацветать черемуха и уже весело. Я покрасил ограды и бабушкины и дедушкины цементные памятники в небесный цвет; не успел оглянуться — уже солнце заходит.
За кладбищем — озеро; сел на берегу и стал смотреть на закат. В последних лучах на горке церковь — ниже уже тень и в траве роса. Еще до войны, когда начали организовывать колхозы, с церкви сбросили луковку с крестом — и за эти годы на ее стенах выросли березки. Вспомнив про луковку, я перекрестился. Поднявшись с берега, направился к церкви и вдруг почувствовал, что не один здесь; обмер, прислушиваясь, — ни звука, и, никого не видя вокруг, испугался. Я побрел вдоль берега и вернулся домой огородами, зарастающими лесом.
Назавтра я проснулся оттого, что бешено колотилось в груди сердце. Сквозь стену прошлогоднего бурьяна за окнами пробивались первые лучи солнца. Выйдя на крыльцо, совсем забыл о птичке, которая свила над дверью гнездо, и, когда она вспорхнула над головой, вспомнил, что мне приснилось. Я приехал в деревню — и все, кто на кладбище, живы. У калитки я поцеловался с папой, и вот, когда целовался с ним, — проснулся оттого, что очень сильно забилось сердце.
Я вернулся в дом и только теперь почувствовал, как замерз. Дунул — изо рта пар. Я посмотрел на часы и заторопился. Оделся, собрал рюкзак и вышел на крыльцо попрощаться с птичкой. Я вздыхал и вздыхал, а вокруг так хорошо, что растерялся; не знал, куда шагнуть, и опять прямо с крыльца в бурьян, белый от инея. Уходить не хотелось; я оглядывался и оглядывался, вздыхал и вздыхал — лучше бы вернуться, но завтра два года по папе — и я с мамой собрался пойти в городе в церковь.
Я боялся опоздать на автобус, а до шоссе двенадцать километров. Сначала разогрелся, даже вспотел, но, когда ногам надоело быстро идти, начал пробирать озноб. Я вспомнил про свитер в рюкзаке, достал его; хотя на мне и так один свитер, натянул на себя и этот, но все равно не мог согреться.
За лесом поле. Сквозь мглу тихо светило солнце и, как зимой, не грело. В поле далеко видно, и я увидел одинокую фигурку девочки в красном пальтишке. Она наломала черемухи. За полем деревня, а за деревней уже шоссе. Я прошел через деревню к автобусной остановке. В этой деревне еще жили люди. На остановке стоял в задумчивости мужчина; его провожала жена с пятью детьми. Старшая дочка уже догнала ростом мать, другая девочка в красном пальтишке — поменьше, и еще одна — еще поменьше, а потом мальчик, и еще один совсем маленький мальчик — не отходит от отцовского чемодана. А у отца в руках букет черемухи. Понятно, когда дочка преподнесла ему цветущей черемухи перед разлукой, тот был растроган до слез. Я посмотрел на девочку в красном пальтишке; она как раз оглянулась на самого маленького своего братика, и я оглянулся — глаз не мог от него оторвать, и потом не один раз оглядывался.
Вскоре подъехал автобус. За мной в него вскочил нахмурившийся мужчина с букетом черемухи и с чемоданом. Оставшаяся с детьми женщина перекрестила своего мужа и заодно всех людей в автобусе, потом старшая дочка перекрестила, и — другие дети, но, когда самый маленький мальчик перекрестил меня, — я, расчувствовавшись, едва не разрыдался и теперь понял, почему на него нельзя не оглядываться.
3
Когда папе исполнилось два года после смерти, я пошел с мамой в церковь. Только начал молиться — в голову лезут самые разные мысли, от которых очень трудно ногам выстоять; невольно вспомнил, как поцеловался во сне с папой, — и у меня опять так забилось сердце, что я испугался. Я захотел, будто маленький ребенок, увидеть папу; увидеть его невозможно, но я понял — можно его почувствовать, как мама через стену почувствовала, что кто-то вошел в дом, а тот свет и этот еще ближе, чем через стену, — я это знаю, но для того, чтобы почувствовать, надо, чтобы и во мне чего-нибудь онемело, как у мамы уши. И я огорчился, что у меня еще ничего не онемело, хотя очень тяжело было в церкви стоять. Мне стало легче, когда из окон около самого купола упали столбы солнечного света, и в них в струящемся от свечей воздухе замелькали тени пролетавших над церковью голубей. Сердце успокаивалось; тут лучи солнца в окнах померкли — и я не поверил глазам, когда посыпался снег.
Каждый день с грустью ощущаю, что жизнь пролетает, как птица; не ухватиться за нее — и я обрадовался вернувшейся зиме. Выйдя из церкви, зажмурился от сияющей вокруг белизны и на минуту почувствовал себя ребенком. Тут я увидел родителей утонувшего мальчика. Когда все выходили из церкви, они отчаянно спешили в нее зайти. При выпавшем снеге их лица светились еще сильнее. Невольно я оглянулся, а мама заметила и укоризненно покачала головой. Я сначала не понял, почему она покачала головой, а потом увидел выходящую из церкви девушку и догадался — мама подумала, что я на эту девушку оглядываюсь. Красотка шагала, потупив взор, с румянцем на щеках, подняла на меня глаза — еще сильнее вспыхнула и, выйдя из церковных ворот, сняла с головы платок и поспешила по улице с распущенными волосами; впрочем, многие девушки и женщины, выходя из церкви, тоже снимали платки, хотя было холодно, дул ветер и кружился снег.
— А я-то думаю — что такое, — сказал я маме, — познакомишься с девушкой — сегодня улыбается, а завтра такое начнет; сразу видно — чик-чик, — покрутил я пальцем у виска, — и у них у всех так, потому что без платков ходят. Надует в голову, а потом — чик-чик …
— Может, это у тебя — чик-чик?
Недалеко больница; никогда не обращал внимания, а когда выпал в мае снег, я заметил у ворот тонкую рябинку; к ней гвоздем прибита дощечка, на которой через трафарет отпечатано: Просьба на территорию больницы со свадебными церемониями не заезжать.
Я показал на дощечку маме.
— Неужели заезжают?
— Если бы не заезжали, — заметила она, — не написали бы.
— Зачем им заезжать? — не мог я понять.
— После венчания едут из церкви, — объяснила мама, — рядом кладбище; первым делом на кладбище, а потом, если у кого в больнице родственники, заезжают навестить, чтобы и их порадовать.
Я подумал о своем счастье, но скоро устал думать, когда на тротуаре под ногами снежная каша. Зелень в снегу начинает еще сильнее благоухать, и у меня голова закружилась. Идти тяжело — мама часто останавливалась передохнуть, а у вокзала я оглянулся — догоняет Улечка.
— Из деревни? — догадался я.
— Ага, — кивнула дочка дяди Васи, а я по глазам ее увидел — она не знает, кому высказать переполнявшую ее радость. — Отпросилась в пятницу с работы, — начала Улечка. — Успела еще засветло добраться до деревни, подошла к церкви — на закате ветра нет, но березки на ее стенах прошелестели, а потом опять ни один листик не колыхнется — и в эту мертвую тишину я почувствовала, что не одна.
И я вспомнил, как в пятницу, возвращаясь с кладбища, тоже почувствовал, что не один; вероятно, с разных сторон подойдя к деревенской церкви, мы не могли увидеть за ее стенами друг друга. Я не успел об этом сказать, как Улечка продолжила:
— Никого не видно — и я сразу же догадалась, что это ангелы служат всенощную…
Услышав про ангелов, я уже не стал говорить Улечке, что и я ездил в деревню. Я вспомнил, как мама, у которой уши онемели, почувствовала в доме цыганку, и теперь, когда сам в деревне почувствовал около церкви, что не один, осознал сейчас — и во мне уже что-то онемело, и обрадовался.
Тут опять закрутило, и стеной повалил снег.
— А каково сейчас в поле? — вспомнила мама про прежнюю жизнь. — А ты не боишься, Улечка, одна ездить в деревню?
— На выходные очень тяжело оставаться дома, — созналась та. — Не могу смотреть, как папа с Марусей обнимаются.
— Тебе пора замуж…
— И вы об этом? — обиделась Улечка; ей, может, каждый день об этом напоминают, и у меня сжалось сердце.
— Пошли с нами пообедаем, — предложил я ей. — Как раз сегодня по моему папе два года отмечаем.
— Ноги мокрые, — вздохнула она. — Сбегаю переобуюсь, а потом к вам, — обрадовалась, что есть куда пойти.
Придя домой, мама накрыла на стол. Мы сели за него и, ожидая Улечку, смотрели в окно. Снег перестал сыпать. Так мы скучали и смотрели в окно, когда выглянуло солнце. Я никогда не видел, чтобы на ветках распустившихся деревьев лежал снег; под майским солнцем он сразу начал таять. Комья снега беспрерывно то тут, то там падали с деревьев, и поникшие ветки, выпрямляясь, раскачивались. Выпавший снег должен был быстро растаять на солнце, но опять тучи и опять метель. И в эту метель по улице проехала машина с будкой, а наверху моторная лодка.
Мы долго прождали Улечку и решили, что в метель она не придет; пообедали без нее, вспомнили папу, но мама на всякий случай решила со стола не убирать, и, когда уже под вечер еще раз сели за стол, очень тихо стало в доме и страшно.
— Женись на Улечке, — вдруг начала мама. — На троюродной разрешают жениться. Такую, как она, сейчас не найдешь.
— Почему?
— Ей хоть бы за кого выйти — и она будет счастлива, а с такой и ты будешь счастлив.
— Да, — задумался я. — Не раз замечал — идет по улице навстречу девушка, увидит меня — и переходит на другую сторону. И почему они переходят на другую сторону?
После этого разговора в доме еще тише стало. Невольно я вспомнил, как у нас собирались гости, когда жив был папа, а дядя Вася пел за столом.
— А почему дядя Вася, — спросил я у мамы, — когда пел, закрывал рукой одно ухо?
— Рядом с ним за столом сидела Улечка; ей было стыдно, что отец напился, и она шептала ему, чтобы не пел, и с какой стороны от него Улечка сидела, с той стороны он и закрывал от нее ухо, — объяснила мама. — И кто мог подумать, что он забудет свою покойную Антонину Ивановну и женится на Марусе?
— Не надо об этом! — взмолился я. — Ну сколько можно? Лучше посмотри, — протянул руку к окну, — какой выпал снег!
— А вон идет Улечка! — обрадовалась мама. — Увидела нас в окне, только почему она машет у калитки и не заходит?
Я выскочил в одной рубашке. Солнце выбралось из-за тучи и сияло ярко. В его лучах каждая веточка на кусте сирени, на который лилось с крыши, блестела будто стеклянная. На улице я спросил у Улечки:
— Почему не заходишь в дом?
Она как была в мокрых ботинках — так и не переобула их. Улечка шагнула ко мне, обняла — никогда она раньше меня не обнимала; я даже растерялся. У нее было такое бледное, белое лицо, что я сразу вспомнил родителей утонувшего мальчика. И я обнял Улечку, а она зашептала мне на ухо… Я скорее побежал домой за курткой и шапкой.
— Куда ты? — спросила мама. — Что с тобой?
Я посмотрел на себя в зеркало и не узнал себя.
— Я же вижу, — повторила мама, — что-то случилось.
— Еще сам не знаю, что случилось, — ответил я, выбегая на крыльцо.
Я догнал Улечку у магазина, откуда видно реку. Среди покрытых снегом берегов она, синяя-синяя, казалась черной-черной. Волны накатывали такие, что издали видны были барашки.
— Чего оглядываешься? — спросила Улечка.
— Мама смотрит в окно, — еще раз я оглянулся. — А ты куда? Разве не пойдешь со мной в больницу?
— Я только оттуда, — ответила Улечка. — А теперь к папе…
Линию электропередачи провели через лес, где просека до горизонта, а за дорогой кладбище с церковью, в которую я сегодня ходил с мамой. К вечеру подморозило, и снег под ногами захрустел. Пока я добрался до больницы — уже смеркается; не видно памятников и крестов, но завтра утром, когда взойдет солнце, они вспыхнут в его первых лучах — и зачем надо больницу строить рядом с кладбищем?
У больничных ворот сидели старухи в толстых ватных пальто и продавали цветы. Букеты обвязаны от мороза в марлю, а у некоторых предприимчивых старух стояли столики, где под стеклянными колпаками горели свечи, чтобы цветы не замерзли. Наткнувшись на старух, я подумал — не купить ли цветов, но вовремя одумался.
В больнице поднялся на самый последний этаж, позвонил в железную дверь. Когда мне открыли — пробормотал, к кому я. Медсестра показала на одну из палат, и я осторожно вошел в нее.
— Маруся! — зову.
В больничном синем халате она лежала под одеялом, а голова закутана, как у старухи, в шерстяной платок. Она, кажется, не дышала. Очень робко и чуть ли не с ужасом я дотронулся до нее, не зная — живая ли она; еще раз шепотом позвал — Маруся скорее почувствовала, чем услышала меня, раскрыла глаза и ответила виноватой слабой улыбкой.
— Сейчас встану, — пролепетала. — Мне нельзя резко подниматься. А ты, Гриня, присаживайся. Ты знаешь, — говорит, — я родила мальчика. Подожди, скоро медсестра принесет его…
Нельзя же ей сказать, что она сошла с ума, и я спросил:
— Когда ты родила?
— После того как пошел снег. — Она едва шевелила губами, а на измученном лице опять улыбка. — Возьми стул и сядь. Не стой.
Маруся стаскивает с себя одеяло и тоже садится на кровати. Замечает, что я смотрю с содроганием на ее забинтованные руки, и протягивает их ко мне.
— Зачем ты била стекла? — спрашиваю.
— Знаешь, какой я слышала колокольный звон!
— Ах, да, — спохватился я и достал из сумки продукты.
— Спасибо, — поблагодарила она и улыбнулась кому-то за моей спиной. Я оглянулся. В палате появилась девочка в больничном халате. Маруся протянула ей мою шоколадку. — Угощайся…
— Кто это? — показала на меня девочка.
— Это мой любимый, — прошептала Маруся, и я испугался ее слов.
— Не буду вам мешать. — Девочка с шоколадкой поспешила уйти.
— Я договорилась с ней петь по вечерам в туалете, — шепчет мне на ухо Маруся, и я обнял ее.
— Не обнимай меня, — говорит. — Я как воздушный шар.
Я вспомнил, как ходил с Марусей на речку искать платок, а потом, когда возвращались, она прошептала мне на ухо, что забеременела. И я сейчас ужаснулся, что у нее уже давно что-то с головой, но никто не догадывался. И про мужчину, который подсмотрел, как она голая купалась, а потом на горке улыбался, она выдумала, и про то, как дядя Вася рыдал; но она так об этом рассказывала, что невозможно было не поверить. Тут я вспомнил нарисованные на песке фигурки, которые я сам видел, и — стрелочку с пронзенным сердцем; впрочем, она сама это и нарисовала — решил я.
В палату вдруг вошел дядя Вася. Заметив меня, он не знал, что сказать Марусе; как раз вернулась девочка. Она принесла наклеенную на картонку дешевую бумажную икону из церковной лавки. Девочка подходила к каждой койке и давала поцеловать эту икону — и Маруся, и дядя Вася приложились; самому последнему она поднесла мне. Я увидел, что руки Божьей Матери, которые держат Младенца, вымазаны моим шоколадом, и я, растрогавшись, тоже поцеловал.
Когда девочка убежала, Маруся что-то прошептала на ухо дяде Васе, и я догадался — что; затем она показала на меня.
— Это он — папа!
Дядя Вася оглянулся, а я опустил глаза.
— Как я устала, — вздохнула Маруся и легла в постель. — Мне нельзя так радоваться и волноваться. Как я счастлива!
Улыбаясь, она заснула. Я вышел из палаты вслед за дядей Васей и опомнился на лестничной площадке, когда за нами захлопнули железную дверь и повернули в ней ключом. Мы стали спускаться по лестнице вниз.
— Она выдумала, — сказал я дяде Васе про Марусю. — У меня с ней ничего не было.
И тут я улыбнулся. Не знаю, что обо мне подумал дядя, глядя на мою улыбку до ушей, но я не мог сдержать ее. Навстречу, поднимаясь по лестнице, медсестра несет младенца. Это вот так совпало — мало ли детей в больнице, однако в голове у меня что-то поехало, перевернулось ; чувствую — и я схожу с ума, и, глядя на меня, медсестра показала на ребенка:
— Это — твой?
Я выбежал за дядей Васей на больничный двор, и у меня мороз по коже, когда дядя закрыл рукой одно ухо и запел. Вокруг уже темнотища, за воротами ярко горят свечи под стеклянными колпаками с цветами. Не зря старухи здесь сидят — кто идет в родильное отделение, обязательно покупает цветы. И я вздохнул: как хорошо, что не купил Марусе цветы, а потом подумал: может, и зря, надо было ей купить их…
Пяточка
Из дому папа выходил очень редко после похорон мамы, обычно лежал на кровати или сидел на стульчике, а когда приезжал Костя, говорил ему: иди, возьми чего-нибудь в шкафчике и поешь, но сегодня на папиной кровати постелено было другое покрывало. Костя сразу догадался, что папа умер, а старший брат Гришка не сказал: возьми и поешь, — когда появилась какая-то женщина в мамином платье.
— Что у тебя, Варька, на лице, — показал ей братец. — Иди помойся.
Лицо у нее было чистое, но зеркало вчера разбили, и Варька не могла посмотреться, а умывальник висел во дворе на заборе, и, когда она вышла, братец достал из-за шкафчика бутылку, налил одному себе и выпил. Костя вспомнил, что мама не раз говорила: вот я умру — и всем вам будет плохо, — и он подумал сейчас — она и представить не могла, как будет.
Костя еще раз захотел увидеть мамино платье и вышел вслед за Варькой, но ее во дворе уже не было, а на заборе умывальник не висел. Этой ночью его украли, и Варька пошла умываться на речку. Костя огляделся, и у него заболело сердце, когда узнавал каждую доску на заборе; однако после того, как умер папа, они почернели и поросли мхом. Подмечая все это, когда сердце кровью обливалось, Костя на речку не пошел за маминым платьем и отправился на кладбище.
Пройдя в распахнутые ворота, он сразу не мог сообразить, куда попал, и остановился, не веря глазам. Кладбище находилось в сосновом лесу, но деревья теперь спилили, и у Кости закружилась голова, а может, он сегодня не завтракал и не обедал. Когда все неузнаваемо изменилось, он не смог отыскать родные могилы и, отчаявшись, еще раз вспомнил, что мама говорила, и сейчас его осенило: почему не догадался у нее спросить, как все-таки нужно жить, чтобы не было плохо, и наверняка она подсказала бы.
За кладбищем раньше добывали известь, а потом в заброшенный котлован начали свозить мусор, будто другого места не могли найти. У обрыва засыхали деревья — за голыми ветками просияла радуга, а куда ни глянь, везде свалка, и — сыпануло пылью в глаза. Ветер подул сильнее, над головой пронеслись исписанные школьниками тетрадки. Костя подхватил одну из них, а остальные, как голуби, закувыркались в небе. Он раскрыл тетрадку — в ней написаны были молитвы.
Шагая по краю обрыва, Костя обогнул котлован и, оказавшись возле железной дороги, нашел тропинку и побрел на станцию. Он решил домой не возвращаться, чтобы не видеть Варьку в мамином платье. Купил в кассе билет, но еще оставалось много времени до поезда. Сразу за вокзалом стоял одноэтажный жилой дом для служащих железной дороги. Крыльцо его выходило прямо на перрон. Во дворе каталась девочка на качелях. Она спрыгнула, когда Костя подошел.
— А мне можно? — спросил он у нее.
Девочка не удивилась, что такой большой дядя и тоже захотел покататься.
— Ожидаешь поезда? — догадалась она.
Из окна в доме выглянула старуха и, увидев на качелях Костю, задернула штору. А он, катаясь, начал выпытывать у девочки, сколько у нее женихов. У пивного бара остановился автобус. Среди приехавших из деревни Костя едва узнал соседку. Она ужасно вдруг раздалась спереди и сзади и держала за руку мальчика.
— Тоже мой жених! — показала на него девочка.
Мальчик переменился лицом, когда увидел ее, и рядом с толстой мамой отпечатывал шаг, как на параде.
— Ты приехал или уезжаешь? — спросила у Кости соседка. — Давай выпьем пива.
Он не знал, что ей ответить, и пожал плечами. Не останавливаясь на этой станции, промчался скорый поезд. Катаясь на качелях, невозможно было прочитать таблички на вагонах — откуда они едут и куда. Отдернув штору, снова выглянула из окна старуха и постучала ногтем по стеклу. Девочка, опустив глаза в землю, зашаркала тапочками, а на крыльце, обернувшись, показала язык. Костя спрыгнул с качелей и решил пройтись по улице.
За последними домами голубело поле. Вдали маячила одинокая фигурка — и быстро стала приближаться. Костя увидел такого же растрепанного, как сам, дядю; рубашка у него вылезла из брюк и на ветру развевалась. Подбежав, он без всякого повода начал махать кулаками, а Костя вдруг страшно разозлился. Когда этот ненормальный подсунулся ближе, Костя здорово ему заехал. Ожидая, что его будут пинать ногами, бедняга скорчился на земле, поджав колени к подбородку. Из носа у него потекла кровь, и он заплакал.
Костя, испугавшись, бросился отсюда, и, только когда промочил ноги в болоте, остановился, чтобы перевести дыхание, и заметил, какой чудный вечер. Солнце еще было яркое, от жгучих лучей струился по лицу пот. Костя вспомнил, что купил билет на поезд, только нестерпимо захотелось домой, и он забыл про Варьку в мамином платье. Выбравшись из болота, стал спотыкаться — никак не мог привыкнуть к асфальту после кочек, а в деревне решил сначала зайти к соседке — может, она попила пива и вернулась, но в доме оказался один маленький Ваня.
— А где мама? — спросил у него Костя.
Мальчик рисовал в альбоме и невозмутимо ответил:
— Ищет мне другого папу.
— Дай посмотреть.
Но мальчик поспешил спрятать альбом, а Костя сказал:
— Я все равно знаю, кого ты рисуешь.
— У меня просто не получается, — покраснел Ваня.
— Что не получается?
— Трава.
Костя пожал плечами: при чем тут трава?
— Невеста лежит на лугу, — пояснил мальчик, — а на лугу растет трава. — И он еще раз вздохнул: — Труднее всего оказалось нарисовать траву.
— Невесте на лугу не полагается лежать, — заметил Костя.
— А где? — спросил Ваня. — Допустим, она загорает, — ухмыльнулся мальчишка и тут же опустил уголки рта и приподнял брови, вспоминая, как было на самом деле. — Нет, она упала!
— Как упала?!
— Бежала на речку купаться, а я подставил ножку.
— Как ты мог?
Ваня взял чистый листочек и протянул Косте.
— Рисуй, — сказал мальчик, зная, что у Кости умерли мама и папа. — Когда я рисую, забываю про все. — И еще признался: — Это не я ей подставил ножку, а Федька.
У Кости не было невесты, а так он бы нарисовал ее, и тоже — на лугу. Потом он вспомнил, что на кладбище спилили сосновый лес, и еще сильнее загрустил, но, когда одна печаль легла на другую, ему стало лучше. Костечка вышел от соседей и, не разбирая дороги, перелез через забор в свой огород, а затем — еще через один забор и поднялся по крыльцу в дом. На кухне сидел у окна Гришка.
— Помнишь, — спросил его Костя, присаживаясь рядом на лавочку, — мы так сидели, а мама сказала: вот я умру — и вам будет плохо…
— Нет, — перебил его братец, — она сказала: я умру — и без меня вам будет хорошо! Давай поужинаем; сколько можно про это вспоминать? — И он открыл шкафчик, а на голых полочках одни цветочки на клеенке. — Варька!
Когда из-за перегородки показалась жена, уже в другом мамином платье, Гришка сказал ей, что нет хлеба.
— Ну так пойди и купи! — закричала она.
— Чего ты орешь?! — братец едва не ударил Варьку, потом руки у него опустились, и он заявил, что какая-то глупая, дурацкая любовь испортила ему жизнь, и глянул на часы. — Магазин уже закрыт, одолжи у соседей, — тихо попросил жену и, когда Варька ушла, прошептал Косте на ухо: — Эта женщина хочет нас разлучить. — И показал ему, чтобы ложился на папину кровать. — А я с этой стервой за стенкой буду, — пробормотал, — ты уж извини.
Костя зажег в папиной каморке свет и вспомнил про тот листочек, что дал ему соседский мальчик, и обрадовался, оказавшись наедине с собой. Нашел свои детские цветные карандаши, и еще вспомнил ту недавнюю минуту, когда одна печаль легла на другую, и понял, что хочет нарисовать. Он разволновался, доставая из коробочки карандаши, стал рисовать и так увлекся, что не слышал, как за стенкой всю ночь топал по комнате братец, ожидая Варьку, а когда та пришла под утро, начали они снова ругаться.
Костя лег в постель, но скоро проснулся от колокольного звона и успел сохранить в памяти странный, тревожный сон: папа и мама не могли ночью уснуть и жгли костры во дворе, переживая за больных мальчика и девочку. Костя задумался, что это за дети, и осознал: родители скорбели о Грише и его жене. Косте стало обидно, что папа и мама даже не вспомнили о нем. Он скорее оделся и побежал в церковь. Стоять он там спокойно не мог, переминался с ноги на ногу, а когда служба закончилась, подошел к священнику и осмелился развернуть перед ним свой рисунок. Сзади собрались любопытствующие, и батюшка оглянулся.
— Ты видишь, — показал он Косте на них. — Ну, и чего ты хочешь от меня?
А они едва сдерживались, чтобы не засмеяться, пожимали плечами, недоумевая, и даже священник ухмыльнулся. И вот тут одна Дуся заметила, какое белое лицо стало у Кости; эта девушка начала разглядывать его рисунок, выискивая хоть что-то, чему можно обрадоваться, и воскликнула:
— Посмотрите, как гладко нарисована пяточка у Младенца!
Но ее никто не услышал и не обратил внимания на пяточку. Костя поспешил спрятать листочек и вышел из церкви. Он так благодарен был Дусе за ее слова, что не знал, как выразить свою признательность. Выйдя из церкви, все поспешили в магазин, куда в это время как раз привезли батоны. Костя догнал девушку и прошептал: можно ли ему рядом пойти, и она кивнула, только попросила: быстрее, чтобы не разобрали батоны. Тогда они побежали, но у магазина Костя сказал Дусе, что обождет ее. После разговора с батюшкой он слишком был взволнован и с рисунком не мог стоять в очереди. Он стоял, ожидал ее и ни о чем не думал. По улице босиком шел ангел и, когда наступал на острые камешки, поджимал пальчики на ногах, морщась от боли, но был очень счастлив и, когда добрался до луга, побежал по траве к речке. В знойный день все в природе замерло, не дышало, и при необыкновенной тишине раздался вдруг необычайный шум. Костя вздрогнул, испугался, не понимая, что это такое, и не сразу увидел, что далеко в поле стоит деревце, и листочки на нем трепещут. Непонятно откуда взявшийся ветер, когда все продолжало оставаться бездыханным, закружился вокруг деревца, и Костя почувствовал радость, будто стая птичек пролетела, крылышками вот так: фрррррр-рр… — и опять ни звука.
Дуся, выйдя из магазина, взяла прутик и начала чертить на песке, а Костя оглянулся.
— Что ты рисуешь?
— Подсчитываю, — объяснила она, — на сколько меня обманули.
— Надо вернуться, — посоветовал Костя, — и потребовать от продавщицы, чтобы пересчитала сдачу.
— Ладно уж, — махнула девушка.
И тогда он сказал ей, что тоже так всегда машет рукой, как она, и Дуся обрадовалась, хотя чему тут радоваться, и посмотрела на Костю, как бы испугавшись, и он точно так же, с изумлением, посмотрел, и после того, как взгляды их встретились, — пошли дальше под руку.
— Что батюшка мог объяснить тебе, — удивилась Дуся, — если не различает красного и зеленого цветов — ему даже не разрешили водить машину, а я вообще не представляю, как он это все видит, — девушка показала на траву, цветы в ней, деревья в саду, речку и небо. — Ты не переживай.
— Я не переживаю, — сказал Костя. — Принести тебе яблок?
— Принести.
Он побежал в глубь сада, выбирая яблоню, и тряханул самую лучшую. Посыпались в траву яблоки, и, когда Костя стал собирать их, появился какой-то болван в очках и с лицом в веснушках и потребовал паспорт. Костя растерялся, не ожидая, что в саду попросят документы. Сразу же он вспомнил про того ненормального парня, который набросился на него вчера с кулаками, и подумал сейчас, что убил его. Чего не приходит в голову, когда собираешь яблоки в саду, и вдруг требуют паспорт. А у этого конопатого под очками веснушки вспотели, он объявил, что разрешается собирать яблоки только колхозникам, и продолжал выяснять насчет паспорта. Костя выбросил из карманов яблоки и сделал вид, что ищет паспорт, сожалея, как все глупо получается, и почувствовал, что счастье буквально уплывает у него из рук. Тут еще один жлоб подошел, грызя яблоко. Увидев, что Костечка готов расплакаться, он подмигнул конопатому.
— Иди, — тот похлопал Костю по плечу, — но больше чтобы не попадался, а то…
Выбравшись из сада, наш герой не заметил улыбочки на лице у Дуси.
— А яблоки? — спросила она, и Костя начал объяснять, что потребовали паспорт. — Смотри, они смеются над тобой, — показала девушка, — и машут, чтобы вернулся. — Но Костечка не мог головы поднять и побрел дальше. — Они кричат, что пошутили, — Дуся догнала его. — Иди, принеси яблок!
На этот раз, сворачивая с дорожки в сад, Костя опять вспомнил сон, где папа и мама жгли во дворе ночью костры. Опять ему стало больно и обидно, что родители забыли про него, и наконец догадался, почему забыли, — потому что он познакомился с хорошей девушкой и у него все будет с ней хорошо, но Костя захотел, чтобы папа и мама, собравшись с родственниками во дворе, и о нем так поскорбели, как и о его братце с Варькой.
Он принес девушке яблок, а Дуся жила в другой деревне, и они обрадовались, что еще долго идти. Костя захотел обнять девушку, но никак не решался — и, когда услышали в лесу петухов, лишь тогда осмелился, бросил сумку с батонами на землю и обнял Дусю.
— Жалко сумку, — сказала девушка. — Подыми. — Но он ее не слушал. — Не надо сейчас, — попросила она, — меня ждет мама. Если хочешь, я познакомлю тебя с ней.
Костя поднял сумку, вздыхая.
— Ты только не бойся, — сказала ему девушка, ведя к себе домой огородами.
Они поднялись по крылечку в самую маленькую хатку в деревне, и в ней в самой маленькой комнатке лежала в детской кроватке старушка. Увидев Костю, она улыбнулась и, желая что-то сказать, протянула руку, но не могла найти слов и, смущаясь, провела ладонью по голому плечу. На одеяло посыпалась с ее омертвелой кожи шелуха, и старушка тогда сказала, будто оправдываясь:
— Это не грязь, а пыль.
Осенью
Опять приснилась мама — едет на телеге и что-то кричит мне, а я иду рядом и будто от кого прячусь за лошадью. На озере женщины полощут в воде какие-то бумажки. На них написаны имена. Буквы расплылись, как на промокашках. Читаю эти имена и — проснулся. Посреди ночи я встал, зажег свет и записал все имена. Снова лег, приснилось дальше: у нас в доме потолка нет и крыши — черное беззвездное, словно в тучах, небо, но туч, как и потолка, нет — оттуда дыхание летней, теплой ночи; слышу наверху шаги, когда чердака нет. И опять мама что-то кричит… Я иду в сени, где дырка на чердак, там стоит лестница; лезу по ней, жуткая темнота, ничего не вижу — лестнице нет конца. Я срываюсь и падаю — не лечу, а падаю — и просыпаюсь. В комнате дует ветер, как на улице, а я спал у окна, и в голове ветер.
Я скорее оделся, сел на мотоцикл и поехал. Когда свернул с асфальта — все больше покосившихся домов с забитыми окнами, с проваленными крышами. Все чаще попадались сгоревшие деревни с одними печами и трубами, еще угадывались зарастающие лесом поля, и, чем дальше я ехал, осторожнее билось сердце.
Сестра косила на улице, когда я приехал, и, вместо того чтобы поздороваться, робко улыбнулась. Возле брошенных домов вырос бурьян выше человеческого роста; от полынного запаха закружилась голова, и я не сразу сообразил, что сестра выкашивает мне в бурьяне дорогу — ожидать ей больше некого. Я зашел с Машей в дом, где родился, чтобы поскорбеть. Нельзя сейчас представить, как свежо здесь было и чисто, когда жила мама и все мы были счастливы. В сенях к стене приставлена лестница на чердак; заметив, как светится небо в дырявой крыше, я вспомнил страшный сон, когда ночью полез на чердак и упал с неба, и предложил сестре:
— Давай починим крышу.
— Зачем? — удивилась Маша.
Глаза у нее заблестели от слез, а я позавидовал сестре. Оставшись в отеческом доме, она не могла осознать — какое это счастье. Я сам чуть не заплакал и тихонько вздохнул, чтобы Маша не услышала. Я не знал, о чем еще заговорить, и хорошо было помолчать, но сестра спросила:
— Как твоя Дуня?
— Откуда ты знаешь про нее?! — воскликнул я и вспомнил, что летом сам, не удержавшись, рассказал, как познакомился с Дуней, и сейчас пожалел, что рассказал, сильно пожалел. Чтобы перевести разговор на другую тему, я спросил у сестры: — У тебя не найдется платка?
— Зачем тебе платок?
— Надуло ночью из окна, — объяснил я, — а спать в вязаной шапочке жарко.
Сестра перерыла весь дом и развела руками. Я огляделся — из маминой одежды ни ниточки не осталось, а Маша, сама без платка, в рваной телогрейке, наброшенной прямо на ночную сорочку, пробормотала:
— Не могу найти даже кружку, чтобы напоить тебя чаем.
— А ты как пьешь?
— Из чайника.
— Ладно, — вздохнул я. — Поеду дальше.
— Куда? — не поняла Маша.
— Куда же еще дальше, — усмехнулся я.
— На кладбище? — догадалась сестра. — Надо взять лодку.
— Зачем?
Маша не ответила и начала вспоминать детство, когда папа посылал ее на озеро узнать, откуда ветер.
— Что-то не помню, — сказал я.
— Тебя еще тогда не было, — хихикнула сестра.
Я притворился, будто ничего не понимаю, но сообразил — папа посылал ее на озеро, чтобы остаться наедине с мамой.
— Уже давно берег голый, — загрустила Маша, — а раньше над озером наклонялись деревья.
— Не помню, — пожал я плечами.
Мост через речку развалился, и на кладбище можно добраться только на лодке. Я взял лодку и переплыл на другой берег. Все здесь собрались; даже те, которые умирали в городе, завещали похоронить себя на родине и возвращались в гробах, и на кладбище было веселее, чем в деревне. Я преклонился у родительских могил и вспомнил сегодняшний страшный сон, в котором мама что-то закричала мне, а я, проснувшись, забыл. У меня до сих пор от ее крика ветер в голове.
— Как ты там? — спросил я у мамы. — Чего же ты кричала? Ну скажи хоть что-нибудь! — взмолился, но она молчала.
Поздно вечером я вернулся в город. У соседей одолжил кусочек хлеба и поужинал, задумавшись над жизнью, как она пролетает с каждым днем быстрее; не успеешь оглянуться — уже осень. Вспомнил про Дуню и еще сильнее загрустил. Решил сходить завтра к чудотворной иконе, и, когда лег спать, опять приснилась мама.
Я увидел во сне наклонившиеся над озером деревья, о которых рассказывала сестра. Они росли на берегу, когда я еще не родился. Одно уже упало в воду. Свистит ветер — мама снова закричала мне в ухо, а женщины показывают расплывшиеся имена на промокашках — и я проснулся. Из дырявого окна дует, как на улице, и у меня в голове опять ветер. Я надел вязаную шапочку и вспомнил, что вчера уже видел этот сон. Я стал искать тетрадку, в которой записал имена, но не нашел. Я понял, что мне приснилось, будто я их записал. В шапочке жарко, я снял ее, и ветер задул сильнее. У кого бы попросить платок, — подумал я и вспомнил имя, которое не мог забыть. Дождавшись утра, позвонил Фросе и попросил у нее платок.
— Приезжай, — сказала она и тут же спохватилась: — Что это у тебя за голос такой?
— Какой?
— Тебе больно?
— Очень.
— В кого ты влюбился? — сразу же догадалась Фрося.
Я не мог найти слов и ответил:
— Она просто ангел.
— Ну, и почему тогда больно?
— Не знаю.
— Молись, — посоветовала Фрося.
— Ты думаешь — я не молюсь?
— Молись, — повторила она. — Знаешь, — вздохнула, — сколько лет я вымаливала своих детей?
Я стал подсчитывать, сколько лет она их вымаливала. Затем купил пряников и пошел посмотреть на вымоленных детей. Вытащил из пакета пряник, на ходу жевал, а потом вытащил еще один. У сахарного завода перебрался по мостику над железнодорожными путями, затем спустился по ступенькам вниз и свернул в улочку. Рядом ползет товарный поезд. Еще один мостик, и я поднялся на другую большую улицу. На домах нет номеров; за пустырем стройка, вместо забора надувается ветром полотнище — внизу щель, и видно, как сапоги ходят. Я был у Фроси на новой квартире лишь однажды, да еще зимой — когда все другое, белое, — и растерялся. Пока я раздумывал, куда свернуть, поезд будто растаял в тумане. Прохожу мимо аптеки, почты, — на горочке церковь; сразу за воротами выстроилась очередь к чудотворной иконе — и я поспешил.
Сначала я стоял на солнце, потом очередь ушла в тень. Подул ветер, и стало холодно. Очередь двигалась медленно, быстрее перемещалась тень от церкви. Мне дали молитвенник, но я вскоре замерз — так дрожал, что буквы запрыгали перед глазами. Очередь все же продвигалась, однако тень от церкви незаметно глазу следовала за нами — я никак не мог выйти на солнышко, а ветер дул ледяной. Наконец, шажок за шажком, мы завернули за угол, и я зажмурился от лучей солнца. Я немножко согрелся, но только немножко. Лишь зайдя в церковь, где стояли плечом к плечу и дышали друг другу в затылок, я перестал дрожать. Один особенно страдающий в хоре голос срывался зачастую на стон, на какой-то пронзительный взвизг, а потом другой срывался, и еще один, и, когда они все вместе, — заныли зубы. В отчаянной тишине между молитвами регент шепотом спросил у певчих:
— Кто ел пряники?
Я увидел, как батюшка, принимающий исповедь, сострадая, приложил ладонь к щеке плачущей женщины. Мне бы, как она, расплакаться — да нет слез, и я стал мечтать о них. Тут я осознал, что все люди вокруг дожидаются исповеди. Я испугался, почувствовав, как продрогло мое сердце. Теперь я понял, почему так медленно мы продвигаемся. Когда же я шагнул к батюшке — не знал, растерявшись, в чем покаяться, только и сказал, что ел пряники. Батюшка посмотрел на мои кости и кожу, спросил, как звать, накрыл епитрахилью и, помолившись, отпустил грехи, а потом, когда я попросил благословения, разрешил причаститься — несмотря на то что я ел утром пряники.
Люди, все еще мающиеся в очереди на исповедь, переживали — успеют ли к причастию, однако столько народу в церкви скрестили на груди руки, что можно было не волноваться. Я забыл про свое продрогшее сердце, но, подходя к Чаше, когда запела рядом какая-то девушка, а я не смел оглянуться на нее, только тогда, когда она запела мне прямо в ухо небесным райским голосом, почувствовал, как подступают к горлу горячие слезы. Я все же сдержался, чтобы не показать их, и, причастившись, не помню, сколько еще отстоял, пока приложился к чудотворной иконе. Она почернела от времени, и я не сразу разглядел у Богородицы на руках Младенца. Рядом корзина цветов; каждому ожидающему чуда монашенка протягивала по цветку. Растрогавшись, я взял цветок, а на улице вижу Фросю, и у меня снова заскребло в горле.
— Вышла навстречу, — сказала Фрося, когда я подбежал к ней и, передавая цветок, поцеловал в щечку. — Опаздываю, давай скорее…
— Куда?
— Забрать после уроков детей.
Мы свернули в переулок, дальше скверик — под ногами шуршат желтые листья.
— Ну, и почему — больно? — еще раз спросила Фрося.
— Мы перестали встречаться.
— Почему?
— Не знаю, — развел я руками. — Я звоню: давай встретимся ; Дуня отвечает: сегодня не могу — позвони завтра. И вот так каждый день…
— Может, у нее появился другой кавалер?
— Нет у нее никого, — пробормотал я, — она на самом деле ангел.
Мы перешли через скверик. Всех первоклассников уже забрали родители, на школьном дворе остались Фросины дети. Они скучали на лавочке и, увидев маму, вскочили. Это были близнецы — мальчик худенький и бледненький, а у девочки румянец на щеках. Когда дети подбежали — я сразу увидел, что они вымоленные. Их имена были написаны у них на личиках, будто на промокашках во сне. Я не опомнился, как пришли к Фросе домой. Под потолком на кухне летала канарейка. Она села к мальчику на ладонь, а потом перелетела к девочке.
Я тоже протянул руку, но канарейка отлетела подальше.
— Еще не привыкла к тебе, — заметила Фрося.
— Она чувствует, что у меня с Дуней, — догадался я.
— Если твоя Дуня, как ангел, — загрустила Фрося, — найди лучше другую девушку.
— Что же делать, — вздохнул я, — если полюбил ее?
— Зачем тебе ангел? — удивилась Фрося и добавила: — Ты еще на земле, а не на небе. Подумай лучше о чем-нибудь другом…
Я напомнил про платок.
— Ах, да! — спохватилась Фрося, подает мне из шкафа платочек, и я, узнав его, обомлел.
Когда-то Фрося попросила привезти из деревни платок. Мама уже умерла, но жил еще папа. Мне стыдно у него было просить, и я украл мамин платок для своей любимой девушки. Фрося ожидала, что я привезу из деревни рукотворный старинный платок, а я привез фабричный, купленный в магазине, и она разочаровалась, но я только потом все понял. Вскоре Фрося вышла замуж. Я очень любил ее и переживал, что она вышла за другого, и напрочь забыл про платок, но сейчас, спустя многие годы, сразу узнал его.
— Смотри, смотри! — закричали дети.
Рядом с клеткой купалась в ванночке, трепеща крылышками, канарейка.
— Это она показывает, как рада тебе, — объяснила мне Фрося.
Глядя, как птичка вспархивает над ванночкой и ныряет, я вспомнил Дуню. Когда мы ездили летом на озеро, она барахталась в воде с таким же восторгом, как эта канарейка. Я вытащил из кармана телефон и позвонил Дуне; когда я предложил встретиться — она согласилась встретиться прямо сейчас.
— Значит, не все так безнадежно, — подбодрила меня Фрося и, жалея, погладила по плечу, а я не знал: можно ли при детях поцеловать ее на прощанье, и не помню — поцеловал ли.
Я прошел мимо школы к церкви, затем аптека и почта; под мостом опять товарный поезд. Я успел вскочить в автобус, ехал и смотрел в окно: листва на деревьях казалась золотой; в ярких лучах солнца все на земле радовалось, как и я радовался. Выходя на остановке, я взялся за железный поручень, и отдернул руку, и потом, к чему ни прикасался металлическому, отдергивал, — я был электрический!
На бульваре я вышел, огляделся — никого. Небо заволокло тучами, и на сердце стало грустно. Я уже встречался здесь с Дуней; однажды она приехала раньше и зашла в парфюмерный магазин. Я заглянул сейчас в него и сразу увидел Дуню. Она выбирала духи и как никогда оказалась похожа на ангела. Мне сделалось страшно. Я сразу понял, что она сегодня скажет. Я подождал, пока она купит духи, а когда мы вышли на улицу, начался дождь. Мы поспешили спрятаться в кафе. В этом кафе мы тоже не один раз были. На стене висела табличка: просьба не курить сигары, трубки, ароматизированные сигареты. Чтобы не молчать, я прочитал вслух, и я так волновался, что вместо «ароматизированные» произнес «автоматизированные».
Только сели за столик, Дуня поднялась:
— Душно!
Мы выбрались на открытую площадку под навес и сели за другой столик. Летом, приходя в это кафе, мы сидели за этим столиком под навесом и были счастливы. Я протягивал через столик руку — ладонью вверх, как Фросины дети канарейке. Дуня подавала мне свою ладошку, и мы боялись пошевелиться. Дуня опускала глаза и, как бы удивляясь, приподымала брови, а я ожидал на ее лице улыбки. Я не мог сейчас понять, что произошло, что могло произойти, почему она не улыбается, как раньше. Может быть, потому что уже осень… Я вспомнил про пряники, которые забыл отдать детям Фроси, и вытащил пакет. Подскочила официантка и заявила, что нельзя приносить с собой.
— Спрячь в сумочку, — передал я Дуне пряники.
— А то меня, — начала оправдываться официантка, — будут ругать.
Мы заказали чай из ромашки, и, когда официантка ушла, я спросил у Дуни:
— Ты получила мое письмо?
— Да, — кивнула Дуня. — Почему ты не слышишь меня по телефону, когда я молчу? — едва не плача, прошептала она. — Я не могу с тобой встречаться.
— Почему?
— Я совсем не ангел, — призналась Дуня. — Я сама раньше писала такие письма. Теперь мне стыдно за них — я хочу их забыть, а ты повторил все мои слова, и я уже не могу с тобой встречаться. Понимаешь?
Хотя мы сидели на открытой площадке и дождь хлестал по навесу, мне стало жарко; я снял куртку и повесил на спинку стула. Когда земля ускользает из-под ног — на душе становится легко, как в детстве.
— Понимаешь? — переспросила Дуня и, увидев, что я не понимаю, испугалась: — Что с тобой?
— Вспомнил, — пробормотал я, — как мама накрывала корзину фартуком, а я ловил цыплят и бросал под фартук.
— Зачем?
— На ночь корзину с цыплятами ставили на печь.
— Почему ты это сейчас вспомнил?
Я не стал объяснять. Официантка принесла кружки с чаем из ромашки. Мы ожидали, когда он остынет. Из кружек поднимался пар — запахло сеном и солнцем, а по навесу барабанил холодный осенний дождь.
— Когда ты был в деревне? — спросила Дуня.
— Вчера, — ответил я. — Ездил на кладбище.
— Не надо про кладбище.
— На кладбище было хорошо, — вздохнул я, — и возвращаться не хотелось.
— Почему?
Я решил — лучше промолчать, не отвечать.
— Где ты еще был?
— И все же, — сказал я, не узнавая своего голоса, — давай не будем навсегда расставаться! Не надо спешить, миленькая, расставаться, — добавил, — потому что даже для тех, кто счастливы в любви, все равно приходит время расставаться навсегда.
— Это когда же? — не сразу сообразила Дуня.
— Пока мы живы, — умолял я, — не надо расставаться.
— Даже тогда, когда умирают, — прошептала она, — не расстаются навсегда.
— Ты хочешь сказать, что там …
— Мы не знаем, что будет там, — заметила Дуня, — однако умершие снятся нам, будто они вовсе не умерли.
— Извини, не подумал, — пробормотал я и ахнул, как часто снится мама, но почему же она так страшно всегда кричит?..
— Где ты еще был сегодня?
Я вспомнил, как ходил к чудотворной иконе; надо теперь ожидать чуда, а произошло все наоборот — я потерял последнюю надежду на счастье. Когда стало окончательно ясно, что ничего у меня с Дуней не выйдет, я наконец вспомнил, что нашелся мамин платок. Побывав вчера дома, где от мамы ни ниточки не осталось на память, я тихо догадался, что это и есть чудо, когда нашелся ее платок.
Я достал его из кармана и развернул перед Дуней. Когда я рассказывал, как он нашелся, у меня голос истончился. А потом, когда заговорил о первой несбывшейся любви, сам себя не слышал.
— А теперь, — сознался, — только и живу, что вспоминаю маму и себя ребенком рядом с ней, когда за деревней гоготали на лугу гуси.
— Разве они сейчас не гогочут? — спросила Дуня.
— Не гогочут.
— А почему?
— Потому что их свели, — объяснил я. — И — лошадей, а сколько осталось коров — можно пересчитать по пальцам.
— Почему их свели?
Горячий ком в горле, подступивший еще в церкви, когда перед причастием девушка запела мне прямо в ухо, не растаял, а оказался в сердце. В церкви я сдержался, а как хорошо было бы разрыдаться, но только сейчас, когда я снова вспомнил о нашедшемся мамином платке, — что тут такого, если вся жизнь потеряна, — но я умилился и наконец заплакал, как ребенок. Когда все так безутешно, скорбно, я почувствовал в слезах радость, и эта радость передалась Дуне — лицо у нее начало оттаивать, и я обрадовался ее прежней летней улыбке.
— Как ты шел за платком?! — изумилась Дуня. — Около железной дороги? И я только что, — прошептала она, — возле сахарного завода перебралась по мостику, спустилась по ступенькам на улочку вдоль путей, затем поднялась на другой мостик и, когда свернула у аптеки к церкви, позвонил ты.
Дождь забарабанил сильнее. С деревьев посыпались желтые листья. Мы вспомнили про чай, а он уже остыл. Тут я почувствовал; каждый раз встречаясь с Дуней, чувствую, что мама не умерла, а где-то совсем рядом, и — оглянулся.
— Кого ты увидел? — и Дуня оглянулась. — Не кажется ли тебе странным, что мы прошли друг за другом по одним и тем же улицам?
— Вспомни, — умоляя, вздохнул я, — как летом было хорошо вместе! Разве не так?
— Да, так, — кивнула Дуня, — летом все было необыкновенно.
— И я не понимаю, — еще сильнее я загрустил, — что случилось потом…
— Я тоже не понимаю.
— Пусть все будет, как и было, — тогда сказал я, и Дуня молча согласилась.
Я протянул через стол руку.
— Смотри, как она дрожит, — удивился, а потом почувствовал, что и рука Дуни вздрагивает в моей. — Давай, — предложил, — обнимемся. — Я еще раз оглянулся и добавил: — Как лошади…
— Шеями?
Мы поднялись, и я поцеловал Дуню за то, что сразу догадалась. После того как мы обнялись, я взял куртку — она насквозь была мокрая. Оказалось, я сидел на самом краю под навесом, а на куртку на спинке стула струями стекала вода.
И меня поцелуй…
1
На прогулке не с кем поиграть, и маленькая Олечка вздохнула:
— Хочу братика!
— Откуда же мне взять его, — сказала дочке Рая Костелева, когда от нее ушел муж.
Незаметно небо затянуло тучами, и вдруг хлынул дождь. Рая раскрыла зонтик и побежала вместе с дочкой домой. Струи дождя с таким шумом разбивались об землю, что Олечка не услышала, как маму кто-то окликнул, но, выскочив из-под зонтика, девочка оглянулась. К маме шагнул какой-то маленький дядя на коротких ногах.
— Давай, Рая, зайдем на вокзале в буфет.
— Ах, это ты, Геня, — начала Рая, не скрывая разочарования, но продолжала другим голосом: — Ты знаешь, что от меня ушел Костелев? Пошли ко мне домой…
— А я хочу на вокзал! — закричала Олечка.
Свернули в еще голый сквер. Запахло сопревшими прошлогодними листьями и промокшей насквозь липовой кожей. Под деревьями дождь не так шумел и, казалось, утих, но, когда вышли из сквера на площадь, вместе с порывом ветра так брызнуло в лицо, что Рае надо было отвернуться, чтобы вздохнуть.
— А потом — ко мне?
Рая едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. Уже не надеясь, что Костелев вернется, она понимала, как трудно с дочкой выйти второй раз замуж, но, каждый день слыша от Олечки про братика, сама стала мечтать о ребенке. Но она никак не могла привыкнуть к маленьким ногам Гени и не могла на него смотреть сверху вниз, а потом ей стало страшно.
— А вдруг, когда ты придешь ко мне, вернется Костелев, — испугалась Рая. — Почему ты молчишь?
— Разве ты не знаешь, что его посадили в тюрьму? — сказал Геня.
На вокзале он взял в буфете чаю с баранками, и присели за столиком у окна. За голыми деревьями между тучами пробились последние лучи солнца, но по железной дороге загрохотали одна за другой черные цистерны с нефтью, каждый раз заслоняя алую полоску на горизонте, а когда прогрохотала последняя — закат уже погас.
— Я очень хочу, — опять повторила Олечка, — чтобы у меня был маленький братец и чтобы мы возили его на прогулку, и, если он заплачет, я буду качать его в коляске, а потом я хочу, чтобы он научился ходить, и я его бы водила за ручку…
В буфете стали оглядываться, когда Рая заплакала.
— Чего ты? — удивился Геня.
Рая вскочила со стула и едва не упала, поскользнувшись в мокрых туфельках на кафельных плитках пола. Оставшись с незнакомым страшным мужчиной с короткими ногами, Олечка тут же выбежала за мамой из вокзала. Когда зажглись фонари, дождь перестал, но Рая, не замечая, продолжала идти с открытым зонтиком. Она услышала впереди, как цокают каблучки, и, когда подумала о Клаве, ради которой Костелев ушел из семьи, узнала эти каблучки; ей показалось, что это Клава так шагает. Рая поспешила вслед, побежала с Олечкой и догнала беременную женщину. Рая заглянула ей в лицо и обрадовалась, что обозналась. На выхваченном из мрака лице под фонарем сразу же бросалось в глаза отчаянное выражение, которое бывает у женщин, когда они не хотят ребенка.
— Что? — спросила она, будто Рая ей что-то сказала.
Но Рая с дочкой поспешили дальше.
— Куда ты? — едва догнал ее Геня на своих коротких ногах.
— Сейчас, когда узнала, что Костелев в тюрьме, — сказала Рая, — я поняла, что все еще люблю его.
Придя домой и уложив дочку спать, Рая сама легла, но не могла заснуть и, вспомнив про беременную женщину под фонарем, ахнула — все же это была Клава. Работая бухгалтером, Костелев взялся за разные махинации, чтобы вскружить ей голову дорогими подарками, и обещал жениться, а когда его посадили в тюрьму, Клава разочаровалась в нем, но избавиться от ребенка уже было поздно. В голове у нее крутились одни и те же безумные мысли, отразившиеся на лице, — и сразу вся ее красота, от которой Костелев отвести глаз не мог, увяла, и не случайно Рая не узнала сразу Клаву. Рае стало так больно, как никогда еще не было больно после того, как ушел муж, и она вспомнила о братике для Олечки.
Назавтра Рая решила сходить к Клаве. Опять с неба закапало, когда Рая вышла с Олечкой. Улица до края земли пустынна; деревянные заборы, дома от дождя почернели, но трава начинала нежно зеленеть. Даже в городе весенний воздух кружил голову. У дома, где жила Клава, Рая попросила Олечку подождать ее, пока она поговорит с тетей. Олечка не хотела в дождь оставаться одна на улице, но тут выглянуло солнце и просияла над домами радуга.
— Нам ли эта радуга или кому другому? — спросила Рая у дочки.
— А кому же еще, — не задумываясь ответила Олечка, — как не нам…
2
Вернувшись от Клавы домой, Рая сшила подушечку и привязала к животу, затем обмотала вокруг полотенцами и, одевшись, посмотрелась в зеркало. Она обрадовалась, будто на самом деле забеременела, и у нее вся жизнь переменилась. Каждую неделю Рая подкладывала ваты в подушечку, вскоре на работе и по соседству заметили — начали за ее спиной шушукаться. Наконец и дочка обнаружила, что у мамы вырос живот.
— Ты же хотела братика, — напомнила ей Рая.
— И что — он у тебя в животе?
Конечно, маленькая девочка ничего не понимала, но глубоко задумалась. Большой живот мамы впечатлил ее, и Олечка поверила про братца. И, когда она поверила, Рая, которая даже спала одетая и с подушечкой, решила отвезти дочку в деревню к бабушке.
Когда они вышли с чемоданом из дома, девочка запела. Уже давно наступило лето, но озабоченная Рая не замечала солнца на небе и удивилась:
— О чем ты поешь?
— Ни о чем, — ответила Олечка и продолжала: — Траля-ля-траля-ля!.. — И вдруг замолкла…
— Чего ты дальше не поешь? — спохватилась Рая и пожалела, что вмешалась; если бы не спросила — дочка продолжала бы не задумываясь: траля-ля, — и так идти можно, не уставая, очень долго.
На вокзале Рая столкнулась с Геней. Он невольно вытаращился на ее живот. С подушкой на животе Рае было жарко — да еще вокруг намотаны полотенца, а поверх платья она натянула кофточку, чтобы нельзя было за всеми этими покровами разглядеть обмана. У Раи вспыхнул на щеках румянец, а Геня и румянец заметил. Рая увидела, что ему очень больно, и ей стало жалко его. Она увидела, что Геня любит ее, и, хотя ей не нужна была эта любовь, однако не могла же Рая объяснить про подушечку на животе. Так и не находя никаких слов, Рая прошла мимо, даже не поздоровавшись, а он остолбенел, глядя на нее.
Рая скрывала от своей мамы, что Костелев бросил ее, а сейчас, когда он попал в тюрьму, не могла уже дальше притворяться и, приехав в деревню, отправила дочку на улицу и рассказала все маме, но про подушечку на животе не знала, как рассказать, и, вытирая слезы, отвернулась к окну.
— Поплачь, поплачь, — начала утешать ее старушка, глядя, как запотело от дыхания Раи стекло, и положила свою руку на ее руку на подоконнике, жалея дочку, когда все осуждали за то, что она, оставшись без мужа, нагуляла ребенка.
Олечка на улице оглянулась на маму в окне и увидела еще бабушку, которая перекрестила ее, и девочка побрела дальше. Над головой в синем небе сияло солнце, и в его обжигающих лучах трепетали листья на деревьях. Около заброшенной мельницы Олечка свернула к ручью. Сандалии звонко шлепали по сбитой глине на тропинке. Олечка поднялась на железобетонную плиту, которую положили через ручей, и увидела на другом берегу грузовую машину с опущенными бортами. На дороге разбросаны еловые ветки, а на лавочке перед домом сидели старики, сложив на коленях руки. Олечка догадалась, почему у машины опущены борта и зачем разбросаны веточки, и хотела повернуть назад, но ноги шагали сами, и она, уставившись на стариков на скамейке, не заметила, как перебралась на другой берег. Старики сидели на лавочке и ничего не ответили Олечке, когда она поздоровалась с ними, даже не кивнули. У них на лицах не мигали какие-то колючие, у всех одинаковые от горя глаза. Солнце здесь пекло сильнее и сияло ярче; песок под сандалиями нестерпимо накалился, и камешки прокалывали подошвы. Олечка не дыша прошла мимо. У одного из последних домов на улице еще разбросаны елочки и калитка распахнута, но здесь — ни души. Девочка побежала с обрыва вниз по горячему песку и на лугу успокоилась, забыла про стариков на лавочке и про елочки, собирала цветы и, выйдя к реке, робко улыбнулась.
Увидев из окна, как Олечка повернула за мельницей к ручью, Рая выскочила на улицу и поспешила вслед. Еще издали она заметила машину с опущенными бортами и почувствовала, что не все еще выплакала слезы. Подойдя к машине, Рая поздоровалась со стариками на лавочке и хотела спросить, проходила ли здесь ее девочка, но, увидев, что старики от горя ослепли и оглохли, побежала босиком по елочкам и острым камешкам к реке.
— Что ты здесь делаешь? — спросила у Олечки на берегу мама.
— Мечтаю о братике, — ответила девочка, все еще улыбаясь, когда посвистывал вокруг ветерок, нагоняя на воде рябь, на которую не уставали смотреть глаза.
3
Вернувшись в город, Рая узнала, как далеко отправили Костелева, села в поезд и поехала к мужу на свидание. В городе У. надо было делать пересадку. Рая зашла в подъезд какого-то дома, развязала под платьем тесемки, стащила с живота подушку и положила ее в вещмешок, забросила на плечи, а в руках несла сумки с едой и одеждой для мужа. Рая дождалась другого поезда и поехала дальше, обдумывая в дороге, что ответить Костелеву, если он спросит о Клаве.
Когда Рая вышла из поезда, моросил дождик; после спертого воздуха в вагоне захотелось глубоко вздохнуть, но она вспомнила, куда едет, и глубоко вздохнуть не получилось. Ей рассказали, на каком автобусе доехать до тюрьмы. Рая нашла остановку и оглянулась на брезентовый шатер цирка на колесах. Там играла веселая музыка, но она играла не для Раи. В небе кричали чайки с огромными страшными крыльями. Отвлекшись на чаек, прилетевших с реки кормиться на городские мусорки, Рая не заметила, как подошел автобус. Она втиснулась в него; рядом оказался прапорщик с будкой вместо лица. Рая догадалась, что этот прапорщик тоже едет — куда и она, и ей надо держаться его в незнакомом городе. Вскоре прапорщик вышел на остановке, и Рая за ним. Прапорщик поднялся на мост над железнодорожными путями, и Рая, запыхавшись, поднялась. Под мостом стояли столбы с электропроводами — один выше, а другой ниже — к реке; под дождем по проводам сверху вниз съезжали одна за другой капли, и Рая увидела тюрьму за забором с колючей проволокой.
Рая едва узнала своего мужа, когда Костелев вошел в помещение для свиданий, и догадалась, что ни о какой Клаве он в тюрьме не вспоминает. На его лицо с промелькнувшей черной тенью страшно было взглянуть. Рая подала мужу сумки с едой и одеждой, но он сказал:
— Не надо.
— Почему? — испугалась Рая.
— Это ты? — не мог поверить он.
Не представляя, как Рая могла простить его, Костелев удивился ее любви. Нужно радоваться, когда наступает прозрение, но здесь, в тюрьме, невозможно больно на это смотреть. А Рая уже все забыла, будто муж и не уходил из семьи, и подсовывала сумки.
— Почему — не надо?
— Когда ты приедешь домой, — прошептал он, — меня уже не будет…
— А где ты будешь?
Еще ничего не понимая, Рая бросилась к мужу на шею и обняла его. Они стояли, прижавшись друг к другу и не смея пошевелиться, а Костелев чего-то шептал Рае на ухо, но она ничего не понимала и не слышала, когда любовь поднялась из сердца к горлу.
— Заканчивайте! — не зная, куда отвести глаза, глянул на часы караульный солдатик.
Костелев оттолкнул жену и скорее, чтобы спрятать слезы, повернулся спиной. За ним хлопнула дверь, а Рая не знала, куда идти; ей показали коридор — она побрела по нему и пришла в себя уже в поезде, совсем не помня, как добралась до железнодорожной станции, как покупала в кассе билет и как села в поезд.
Рая доехала до города У., где надо было пересаживаться. Опять она, как во сне, стояла в кассе, чтобы купить другой билет, искала платформу, ожидала поезда, села в него и, когда поезд тронулся, вспомнила про подушечку, которую нужно привязать к животу.
Рая схватилась за вещмешок и, не обнаружив в нем подушечку, испугалась. Рая так привыкла к ней, что уже не чувствовала ее на себе, но, опустив глаза, увидела большой живот и, не показывая в поезде, как она испугалась, неслышно вздохнула. Но она совсем не помнила, где раздевалась и как привязывала к животу подушку. Можно так сойти с ума — Рае показалось, что все в вагоне смотрят на ее живот, и она отвернулась к окну. На землю не глядела — только на небо, на закат. А когда солнце спряталось, легла и закрыла глаза. Она уже засыпала, но вспомнила, как обнимал ее Костелев. Рая еще вспомнила, что муж чего-то шептал ей на ухо, но она не услышала, а сейчас, засыпая, услышала — и у нее зашелестели волосы на голове.
Лучше было бы ей не приезжать; когда Костелев увидел Раю — еще тяжелее ему стало. Он не мог больше выдержать в тюрьме. Их водили на работу по мосту над железнодорожными путями, а внизу стояли столбы с элек-тропроводами, и он еще весной задумал броситься на провода, а сейчас, глядя на жену, вспомнил о былом счастье, и ему стало совсем невыносимо. О своем ужасном намерении Костелев и нашептал Рае на ухо на свидании, но она только в поезде услышала и осознала его слова: когда ты приедешь домой — меня уже не будет.
На остановке, когда все вокруг засуетились, у Раи страшно забилось, запрыгало в груди сердце. Многие пассажиры вышли размять ноги на перроне, и Рая поднялась с полки. Под одеждами, скрывающими подушку на животе, Рая должна была обливаться потом, но тело было сухое и очень горячее; все внутри было такое же сухое и горячее, и дыхание такое, и, выйдя из вагона на перрон, в ночь, на свежий ветерок, она почувствовала озноб и затряслась.
Вагон был последний — в кустах пели соловьи; фонари далеко — какое у Раи выражение на лице, никто не видел, и — подушку на животе. Она постояла одна, в стороне, и, кажется, перестала дрожать, хотя лицо покрылось росой, как трава и листья на деревьях. С неба осыпалась черная мгла, а Рая вздыхала и вздыхала, и у нее угас внутри жар, но сердце трепетало по-прежнему. Когда проводница попросила подняться в вагон, Рая едва вскарабкалась по ступенькам в тамбур, добрела до своей полки и — как упала на нее, так больше не поднималась.
Из неплотно закрытого окна дуло, но Рая не могла встать и задвинуть его. Во всех своих кофточках она замерзла под простыней, хотя рядом лежало байковое одеяло. В этом мучительном полусне, когда хочешь поднять руку, но не можешь, Рая вспомнила, как, ожидая мужа в тюрьме, выглянула в окно. На подоконнике в помещении для свиданий стояли комнатные цветы в горшке, и со второго этажа виден был обшарпанный какой-то дом с железной ржавой крышей, а за домом березы. Разгоняя тучи с дождем, поднялся ветер, и при яростных порывах, когда сильнее загибались верхушки деревьев, можно было увидеть вдали полоску реки. На душе сразу стало легче, когда Рая увидела цветок в горшке, а за окном между березами заблестевшую на солнце реку. Тут опять зашелестела на ветру листва, но это кто-то пробежал по вагону — и Рая проснулась. Через минуту, а может, через час она снова задремала. По вагону туда-сюда беспрестанно сновали всякие проходимцы, и при малейшем шорохе Рая вздрагивала. А когда в незакрытое окно ударяла со страшной силой волна ледяного воздуха перед встречным поездом, Рая просыпалась всякий раз и подхватывалась, ожидая, что стекло сейчас вылетит. Но и подхватываясь, она не могла проснуться и взять одеяло и опять забывалась. Вдруг раздался гудок парохода. Тут же Рая вновь оказалась в тюремном помещении для свиданий и бросилась к окну. Ни берез, ни дома с железной крышей, ни цветка в горшке — кругом вода, и на ней рябь пробегает бороздами до горизонта. Если Рае недавно стало легче на душе от узкой полоски реки вдали, то можно представить, что она испытала сейчас, когда волны под окном. Рая догадалась, что река разлилась. А когда показался сверкающий на солнце пароход — она готова была, как маленькая, захлопать в ладоши. Еще раз пароход загудел, но это на самом деле загудел встречный поезд, и волна ледяного воздуха, ударив в окно, едва не вышибла стекла.
Рая вспомнила, что сейчас лето, а не весна, и с детским восторгом удивилась паводку. Не пытаясь разгадать этот сон, а только восхищаясь им, Рая опять забылась и наконец крепко и спокойно уснула. Неизвестно, сколько она проспала, как вдруг открыла глаза и увидела перед собой светящийся шар. С ужасом осознав — если он еще немного от нее отдалится, то она умрет, — Рая стала звать этот шар вернуться. Она протянула к нему руки и так пошевелила пальцами — будто звала к себе ребенка. Но как этот шар вернулся, когда, — ничего не помнила и проснулась на рассвете.
Вот-вот должно было взойти солнце. Спросонку Рая ничего не соображала, но вскоре вспомнила, как обрадовалась во сне разлившейся реке и пароходу. Опять на сердце полегчало и тут же будто камнем придавило — Рая поняла, какие сны видел в тюрьме Костелев и отчего он задумал броситься на электропровода. Рая посмотрела на разгорающееся небо над горизонтом и попросила солнце не вставать, чтобы не наступил этот день, когда ее муж, не имея уже сил выдержать тюремную жизнь, решился на самое страшное, что только может быть. Еще попросила и поезд остановиться, но поезд шел и шел, а из-за горизонта появился брызжущий светом алый круг солнца. На глазах он разгорался и все ярче сиял, но туман, стелющийся по земле, поднялся в небо и затмил солнце.
Когда поезд остановился у вокзала, Рая не хотела выходить — она хотела ехать дальше, ехать всю оставшуюся жизнь, но поезд дальше не шел. Пассажиры выбрались из вагона, и, выйдя последней на перрон, Рая всем своим нутром ощутила, что ее мужа уже больше нет на белом свете. Она думала — не переживет, что осознала, и, если бы не подушка на животе, не пережила бы, а так — вернувшись домой, догадалась в подушку положить мячик и побрела в церковь, осторожно неся перед собой выросший живот, а соседи ухмылялись ей вслед.
Она пришла в церковь и, невольно оглянувшись, когда ей показалось, что все смотрят на нее, едва узнала рядом инвалида Геню на маленьких ногах. У него в церкви, как и у всех, изменилось лицо, и, когда он увидел Раю, еще раз переменилось. Если бы Рая не постанывала при каждом вздохе — как никогда в жизни не вздыхала, — она бы так не обрадовалась. И даже удивилась, что в таком горе, как у нее, можно обрадоваться знакомому лицу в толпе.
4
Разогнувшись в поле, бабушка посмотрела на дорогу. Копаясь рядом в земле, Олечка не увидела Геню, как он показался на горочке — куда смотрела бабушка, а когда он подошел — почувствовала его взгляд и обернулась. Ни разу за все лето в деревне Олечка не вспоминала его, но сейчас, только увидев, сразу догадалась — зачем он приехал, вскочила и, путаясь ногами в бабушкином плаще, подбежав к Гене, обняла его. И он был очень тронут, как она обняла его. Это было так неожиданно, что он растерялся. Тут и бабушка сообразила, зачем приехал Геня, но решила, что не надо при внучке разговаривать; сказала это Гене одними глазами, и он понял, а Олечка не могла сдержать чувств.
Они побрели с поля домой. И — по тому, с какой радостью встретила Геню девочка, старуха обманулась и решила, что он теперь будет папой Олечки, затем и приехал за ней. Олечка сбежала с горки, а Геня, оставшись со старухой, начал заикаться и не сразу выговорил, что у Раи родился мальчик. Геня должен был сообщить, что мальчик родился ненормальный, больной, но язык не поворачивался сказать об этом. И Геня всего лишь добавил, что Рая назвала его Алешей.
Хотя Геня со старухой разговаривали шепотом, но в безветрие в поле застыла такая тишина, что Олечка услышала про Алешу. Геня присел, чтобы завязать шнурок на ботинке, а старуха спустилась по дороге вниз к дожидавшейся ее внучке. Они взобрались на следующую горку, с которой видна уже деревня, и, оглянувшись, увидели, что Геня еще сидит, задумавшись, на своей горочке. Бабушка и внучка тоже присели на своей и, стараясь понять, что же Геня увидел, повернулись в ту сторону, куда он смотрел.
Из леса вышел старик и направился по дороге к горочке, где задумался Геня. Листва на березах едва начинала желтеть, и, если бы не осеннее поле, можно обмануться, что все еще лето, но ясное небо было глубокое и ледяное, птицы давно уже не пели, и почему-то на душе сделалось очень грустно, хотя все равно необыкновенно и так светло, как никогда не бывает в самые лучшие летние дни.
Старик еле брел, шморгал туфлями по песку, не имея сил поднимать ноги, меленькими-меленькими шажочками, но все же часто-часто переступал ногами, не глядя вниз, а куда-то далеко впереди себя. Можно уже было увидеть, как у него на солнце разрумянились щеки, а в руке он держит дырявый мешок, из которого выпирают еловые веточки. Вспомнив про младенца Алешу, Геня хотел побыть один, чтобы успокоить сердце, и ожидал, может, несколько часов, пока старик пройдет мимо горочки, но тот шморгал, казалось, на одном и том же месте. Сердце у Гени продолжало беспокойно биться, и он наконец поднялся, догадавшись, что оно уже будет так биться всю жизнь. Мама Раи с Олечкой тоже встали и, дождавшись Геню, все вместе поспешили домой.
Когда собрали Олечку в дорогу — и бабушка решила поехать к дочке посмотреть на родившегося младенца. Она стала собираться, а Геня ожидал во дворе на лавочке, посматривая на часы. Олечка в нарядном платьице бегала по улице, не зная, как выразить восторг; ей не терпелось скорее увидеть братца. Каждую минуту девочка забегала в дом и просила бабушку, чтобы та скорее собиралась. Гене показалось, что его часы на руке стоят; он вернулся в дом, чтобы посмотреть на другие часы, но время тянулось очень медленно. Так мучительно еще прошло несколько часов, и, выглянув из окна, Геня увидел дотащившегося до деревни, еле передвигающего ноги старика с еловыми веточками. Уже позабыв о нем, Олечка обрадовалась, что есть еще кому открыть душу, и закричала на всю улицу:
— У меня родился братец!
Старик устал, на нем все дрожало; он ни о чем сейчас не думал — только о том, как дойти до дома, и еще — какой тяжелый мешок с еловыми лапками. Старик повернулся к девочке, но забыл улыбнуться. Геня наблюдал из окна и скорбел, глядя на все часы в доме. Пока старик прошморгал мимо окна по улице — еще минуло полчаса. А мама Раи, собираясь в город, наряжалась за перегородкой у зеркала. Она вспомнила молодость, и перемеряла все свои наряды, и заплакала. Вытерев слезы, старуха опять натянула на себя платье, которое каждый день носила, и завязала самый скромный платок с увядающими цветами. Старуха еще раз посмотрела на себя в зеркало и скорее отвернулась, но, когда выбралась из-за перегородки, Геня удивился ее помолодевшему лицу.
Она слишком долго возилась, и, когда прибежали на станцию, поезд уже ушел, и поехали на автобусе. Бабушка села у окна и взяла на колени Олечку. Гене не досталось места, и он стоял; народу ехало много — и все одни старики и старухи. Проезжая через деревню и оглянувшись на последний дом, совсем уж развалившийся, но с железной решеткой на окнах, бабушка стала вспоминать про веселую жизнь раньше.
— А почему она была веселая? — спросила Олечка.
— Много было детей, — начала объяснять старуха, — это редко у кого в семье — пять-шесть, все больше — по десять-двенадцать; если из каждого дома выйдут дети погулять, а часто бывало, что в одном доме жило несколько семей, то — посчитай, сколько детей будет на улице, — поэтому и жизнь была веселая. — И бабушка вздохнула: — А тебе даже летом не с кем было поиграть.
Олечка загрустила о прошедшем лете и уставилась в окно. Небо заволокло тучами, и заморосил дождь. В городе, когда приехали, выглянуло из-за туч жалкое вечернее солнце и заблестели на асфальте лужи. На остановках начали выходить из автобуса, и Геня сел на освободившееся место, не решаясь посмотреть на красивую девушку рядом.
— Кто выходит у военкомата? — спросила кондукторша, но в автобусе молчали, и она повторила: — Кто выходит у военкомата?
— Не хочет никто выходить у военкомата, — ответила ей девушка, вынимая из сумочки зеркальце и любуясь собой.
Автобус проехал мимо, но тут кто-то проснулся и закричал шоферу, чтобы остановился.
— Два раза спросила, — проворчала кондукторша. — Сколько можно повторять?
— Смотри! — невольно изумляясь, показал Геня девушке на просиявшую радугу в окне. — Кому, — добавил он, загрустив, — нам ли эта радуга?
— Нам, нам! — обрадовалась девушка, пряча зеркальце.
На следующей остановке ей выходить; когда сидела — не так было заметно, а когда поднялась — у нее оказался такой же маленький росточек, как и у Гени. Только сейчас Геня осмелился посмотреть ей в лицо и удивился голубым глазам, но, когда она вышла, уже забыл о ней и, чтобы лучше разглядеть радугу, протер запотевшее окно. И увидел, что девушка машет ему с тротуара. Геня догадался: когда он вытирал окно ладонью туда-сюда по стеклу — девушка подумала, что это он ей машет. И Геня по-настоящему ей помахал, и она ему еще помахала.
Когда улыбающуюся Олечку подвели к Алешиной кроватке — девочка вздрогнула, глядя на братца. И бабушка, и мама ожидали, что Олечка, столь долго мечтавшая о братике, горько расплачется, но девочка содрогнулась, жалея его, и, если бы Алеша был здоров, так не полюбила бы, как она полюбила. Рая стала кормить Алешу молоком из бутылочки с соской, и у нее задрожала рука. Геня не мог видеть, как у нее дрожит рука, — заторопился уйти, а старуха поняла, что обманулась, решив, будто это он виновен в рождении ребенка, — мало ли что он с Раей, когда учился в школе, сидел за одной партой. Глядя, как у Раи дрожит рука, старуха схватилась за сердце — и этим болящим сердцем она почувствовала, какая в душе у дочки любовь, и, заметив в ребенке черты бедного Костелева, осознала, что Алеша приходится Олечке самым настоящим братцем.
Когда он подрос и научился улыбаться, Олечка носила его на руках, а Алеша гладил ее своей ладошкой по щеке. Улыбался он не переставая и даже спал улыбаясь. Понятно, почему Алеша родился больной, когда его мать не хотела его, но откуда эта улыбка — нельзя было понять. Невольно Рая начала отвечать улыбкой на его улыбку, и ее лицо приобрело со временем такое же странное выражение, как и у Алеши, и теперь никто не сомневался, кто его настоящая мама. Как не ощущаешь бьющегося в груди сердца — точно так же Рая не чувствовала, что улыбается. Она укладывала мальчика в коляску и на прогулке улыбалась вместе с дочкой всем прохожим. Люди, которые на них смотрели со стороны, не могли их понять, отворачиваясь. У каждого может родиться больной ребенок — и это страшно, но ведь бывают среди них и такие, у которых в душе одна тихая радость, — и по улыбке Алеши можно представить, как улыбаются ангелы; это тоже страшно, и не зря случайные прохожие спешили, не глядя, мимо.
Алеша долго не мог научиться ходить, и, когда научился, Рая с Олечкой вывели его на прогулку, о чем девочка мечтала, в парк около вокзала, и встретили там Геню с такою же маленькой женщиной, как сам, даже еще меньше, и с одного взгляда было видно — они созданы друг для друга и счастливы, что нашлись. Увидев Раю с дочкой и уже бодро ковыляющего Алешу, Геня обрадовался, и Рая с Олечкой обрадовались, а маленькая женщина, не зная, чего они так радуются, тоже очень обрадовалась. Геня шагнул к Рае и поцеловал ее, а его маленькая женщина еще раз обрадовалась — потому что надо было видеть, как он ее поцеловал. Алеша, глядя, как Геня поцеловал его маму, показал ему, улыбаясь, на свою щечку — и меня поцелуй …
Геня и его поцеловал, улыбаясь.
С птицей на голове
1
— Помнишь, — спросил я у сестры, собирая чемодан, — как мы зимой шли по улице в Брошке, а ты набрала варежкой снег и ела его?
— Когда это было? — удивилась Юля.
— Когда я был маленький, а ты уже ходила в школу. Даже помню, — продолжал я, — на тебе было клетчатое пальто с деревянными пуговицами, и мы шли у кирпичного завода.
— Почему ты это вспомнил?
— Наверно, потому, — задумался я, — что ты была чем-то расстроена — тебе очень хотелось пить, и ты всю дорогу ела снег.
— Ты хочешь сказать, что я и сейчас расстроена, — догадалась сестра. И оттого что я проговорился о кирпичном заводе, за которым мы купили дом, и где сейчас одна мама, Юля еще сильнее опечалилась. — Проведу тебя, — сказала она, когда я собрался, и, обуваясь, спросила: — А ты помнишь мамины немецкие туфли из рыбьей кожи?
— Сейчас, когда в жизни только и осталось что вспоминать детство в Брошке, — сказал я Юле, выходя на улицу, — начинаю сознавать, как любил бабушку; без нее с каждым годом труднее жить, и уже не могу полюбить маму, как бабушку, — вздохнул я. — И опять мама будет плакать, когда приеду.
Я не могу понять, как мама вышла замуж за моего папу из Брошки. Мама закончила педучилище и носила туфли из рыбьей кожи, и как она могла в этих туфлях поехать за папой в деревню, не знаю. И не представляю, как она ужилась в одном доме с бабушкой и с дядей Сеней, который пил водку, но мама видела, что папа ее любит, и каждый день объясняла ему, почему из деревни уезжают. Однако потребовались годы, чтобы накопить денег, и, выплатив первый взнос за кооперативную квартиру, родители переехали в город.
Когда на меня в первом классе надели черные шелковые нарукавники и посадили за парту, я не выдержал и расплакался. Мама не могла понять моей тоски, а папа, если в молодости был веселый, то с годами загрустил и наконец заболел, но улыбка осталась у него на лице. Чем больше проходит времени после того, как он умер, все сильнее люблю его и жалею за эту не сходящую с лица улыбочку. Я догадываюсь, что папа, как и я, только об одном думал — как бы вернуться в Брошку, но скрывал от мамы и, может, поэтому заболел.
— Чего грустишь? — спросила на вокзале сестра, спускаясь со мной в подземном переходе к электричке. — Что еще вспомнил?
— Как улыбался папа, приехав в последний раз в Брошку, — ответил я. — Надеясь выздороветь, вышел он в резиновых галошах во двор подышать воздухом и радовался весне, когда начал таять снег. — И я оглянулся: — Смотри!
На ящике из-под водки сидел чудной какой-то толстяк и всем поднимающимся из подземного перехода желал счастья и любви — и мне с сестрой пожелал, и, когда он так пожелал, я вспомнил про Анечку, пробежал с чемоданом мимо, но тут же вернулся.
— Ах, — поглядев на часы, пожаловался толстяк, — еще два часа осталось здесь сидеть. — И, спохватившись, другим голосом, кому-то вслед: — И вам счастья и любви!
Сначала я подумал, что бедняга просит милостыню, но он не просил милостыни и не ожидал поезда, а специально пришел на вокзал, где всегда много народу, чтобы пожелать счастья и любви. И по тому, как он вздохнул, я догадался, что толстячок этот не сам пришел, а его кто-то послал, словно на работу, но все равно — несмотря на то что его кто-то послал, он желал счастья и любви от чистого сердца.
Однажды я не выдержал и проговорился Юле про свою любовь, но только начал — почувствовал, что у меня с Анечкой ничего не выйдет. Нельзя самым дорогим своим близким рассказывать о любви, и вообще не надо про нее никому рассказывать — ни одному человеку, тем более — сестре, и действительно, сколько лет прошло, как видел Анечку в последний раз, и я не знал, чего подумать.
— Иди домой, — сказал я Юле.
— Чего ты сердишься?
— Зачем ты уговорила меня купить дом у кирпичного завода? — не выдержал я. — Не зря мне стал сниться папа, и он начал сниться, кстати, после того, как ты рассказала, что он тебе приснился.
Я зашел в вагон, а сестра не уходила с перрона, хотя я махнул ей из окна рукой. Всегда в день отъезда грустно, но, когда я увидел на лице у Юли слезы, невольно вспомнил, как после смерти бабушки дядя Сеня женился и привез в Брошку Ляльку. Она оказалась такая несчастная и некрасивая, что на нее надо было осмелиться поглядеть. А дядя Сеня целыми днями лежал на кровати и только поднимался, чтобы сбегать за бутылкой. Лялька одна не могла управиться по хозяйству, не подметала и не мыла полов, и дядя Сеня, догадавшись, почему никто из родственников не приезжает, уже специально объедки со столов смахивал на пол, чтобы жить одному с Лялькой, а потом они привыкли и так заросли грязью, что никто в дом не мог зайти, и только я один приехал и стал жить в самой маленькой комнатке, в которой раньше жила бабушка, и я рад был жить в ее комнатке.
Вскоре мама вышла на пенсию и ужаснулась, как я живу в одном доме с пьяницей дядей Сеней и с его Лялькой. Мама знала, что я не послушаю ее, а сестру послушаю, и — попросила Юлю поговорить со мной. Юля приехала ко мне в Брошку и ангельским своим голоском начала о том, чтобы я купил себе дом. Из самых чистых побуждений она предложила мне денег, и, когда за перегородкой дядя Сеня ругался с Лялькой, я задумался о счастье в жизни.
Как раз продавался дом у кирпичного завода, за которым мой любимый высокий берег, и мы купили этот дом. А мама не захотела на пенсии жить в городе и, когда папу похоронили на родине, решила поселиться поближе к нему и переехала в новый дом. Вот уже много лет я жил отдельно и сейчас оказался опять с мамой. Дети уходят от родителей гораздо раньше, чем они на самом деле уходят, и я как убежал от мамы в пять лет, так и остался для нее маленьким ребенком. Сколько раз мама плакала, когда я ее в детстве не слушал и ей надо было просить бабушку, чтобы та надела на меня теплый свитер. Но сейчас, когда бабушка умерла, мама сама начала умолять меня съесть манную кашу и надеть свитер, и я не знал, куда убежать от мамы, однако без Брошки не мог жить и вот, в который раз, возвращался.
Сестра все еще стояла под окном вагона. Так долго расставаться очень тяжело; только я подумал, чтобы скорее отправился поезд, — из подземного перехода поднялась старушка с птицей на голове. Не спеша, она будто проплыла по перрону и вошла в электричку, но не в мой вагон, а в следующий, и я сожалел, что не в мой; тут двери закрылись, и электричка понеслась. Я не успел в последний раз помахать сестре и не знаю, успела ли Юля увидеть птицу на голове.
Опять я затосковал и опомнился, когда за окном замелькали столбы. За ними поля с голубыми далями. Как ни бывает на душе тяжело — от этих далей грусть становится светлей и легче дышать.
— Что ты там увидел? — спросила сидящая напротив красотка. — Куда едешь?
Я подумал и ответил:
— Домой.
— Нет, — покачала она головой. — Ты не домой едешь; хочешь, поехали со мной.
Я стал рассказывать ей про Анечку, а красотка эта, ухмыляясь, перебила:
— Не выдумывай, нет у тебя никакой Анечки — я по глазам твоим вижу, — и я опустил глаза.
2
Приехав в Брошку, я сразу же спросил у мамы про дядю Сеню.
— После операции ему стало лучше, — ответила мама. — Но ты не ходи к нему, а то сердце заболит. Лучше поешь и приляг после дороги.
Я послушал маму, прилег — и мне приснилась Анечка, когда она уже очень давно, несколько лет не снилась. Я вскочил и вышел во двор. В небе сияло слепящее солнце, но и на траву под ногами, где каждый стебелек отражал яркие его лучи, больно было смотреть. Глядя вокруг, я ахнул, вспомнив приснившуюся Анечку. Лицо у нее во сне сияло и выражало точно такую же радость, с которой тянулась к солнцу каждая травинка, и поэтому я ахнул.
Я захотел посидеть на лавочке, но увидел, что мама покрасила ее. Краска уже давно высохла, но я не мог на этой лавочке посидеть, потому что хотел посидеть, как в детстве, а тогда не красили лавочек. Только что был здоров, и вот — заболел, вздрогнул от озноба и натянул пиджак, и этот пиджак надавил на плечи, как зимнее пальто. Такое со мной не в первый раз, но, едва уезжаю из Брошки, проходит, я забываю об этом, потом хочется приехать, искупаться в речке, а когда приеду — мама опять чего-нибудь покрасит, и сразу так сделается, что можно умереть. И я запел; когда поешь — из головы уходят черные мысли. И, когда вышел на луг и посмотрел вдаль, — заулыбался, но я очень скоро устал улыбаться, и устал петь, и вспомнил, как в детстве никогда не уставал улыбаться и петь.
Раздевшись, бросился в речку, и рыбы серебряными стрелами метнулись в глубину. Сентябрьская вода пробирала до костей, но я не мог забыть, что мама покрасила лавочку. Однако, если долго плыть, — можно забыть обо всем, и, когда я выбрался на берег и, чтобы согреться, побежал, как в детстве, вприпрыжку, дрожал и радовался, словно другими глазами глядя вокруг. Я упал на горячий песок и разомлел на солнце. Веял ветерок, и я вспоминал, как он веял в детстве. Еще тогда я любил приходить на этот высокий берег за кирпичным заводом, где лежал сейчас на солнышке. Я забыл, что бабушка и дедушка давно умерли и что папа умер; целый день провалялся на песке и сквозь цветы на берегу смотрел на волны.
А назавтра запахло осенью. С самого утра небо заволокло мутной пеленой, бледное солнце едва проглядывало через нее, а ветер нагонял дождь. Я затосковал оттого, что не только лето прошло, но и жизнь моя прошла, а я так и не погрелся на солнышке. Я опять поспешил на высокий берег. Желтые листья кружились на ветру и уплывали по реке вниз по течению. Пелена на небе сгущалась, надвигаясь со всех сторон, и вдруг развеялась. Появилось яркое, как вчера, солнце; можно было обмануться и радоваться, как вчера, но тут же я спохватился. Глядя на выжженную траву, вспомнил, как совсем недавно она была зелененькой, а я гулял на речке и молился, чтобы дядя Сеня выздоровел. Когда ему сейчас стало лучше, я осознал, что это от моих молитв ему лучше, — разумеется, не только от моих молитв, но и от моих в том числе, — и, подумав об этом, затаил дыхание; вдруг раздалось рядом: фр-рр-р!
Я подскочил от страшного топота на другом берегу и, оглянувшись, увидел за речкой коров. Испугавшись этого неожиданного фр-рр-р, коровы шарахнулись и побежали по берегу. С шумом, подобным внезапному порыву ветра, за стадом вспорхнула стая каких-то мелких птичек: фр-рр-р, но их было так много, что, перелетая через речку, они закрыли небо, будто черная туча.
Когда я вечером вернулся домой, на улице и за огородами жгли мусор — не столько огня, сколько дыма. Он устлал небо; я не мог оторваться, глядя, как солнце в дыму садится, словно в тучу. Кузнечики под окном застрекотали еще громче, и я долго не мог уснуть.
Утром, поднявшись из постели, — сразу же к окну. Раздергивая гардины, карманом куртки зацепил носик чайника на столе и едва не опрокинул. Я почувствовал — больше не могу и сказал маме, что уезжаю.
— Чего выдумываешь? — заплакала мама, когда я стал объяснять, и я уже не знал, как ее утешить.
— Все люди ходят на работу и зарабатывают деньги, — нашел я что сказать. — А почему я должен с тобой сидеть у окна?
— Зачем тебе деньги? — удивилась мама.
Пока я поставил на плиту чайник, забарабанил по крыше дождь. Кучи мусора в конце улицы еще дымились — за ночь все небо заволокло, и сейчас, когда начался дождь, прибитый к земле дым нагонял жуткую тоску; тут же затаилось в душе какое-то жалкое предчувствие, будто еще что-то в жизни произойдет; подумалось о любви, и, когда так подумалось, — в доме посветлело, сделалось страшно тихо, а мама прошептала: распогаживается.
Я поспешил на крыльцо; с крыши капало редкими большими каплями, а с той стороны, откуда ветер, в прорехах между туч засквозило голубое небо — и еще острее запахло дымом. И уже не хотелось, чтобы выглянуло солнце; хотелось, чтобы тучи повернуло назад, закружило, — пусть станет еще тяжелее на душе, но в безветрие небо висело над головой — и как-то совсем уж невыносимо долго, так и не сойдя с крыльца, вспоминать детство. Я вернулся, чтобы надеть сапоги и куртку, но пока натянул на ноги сапоги, опять забарабанило по крыше. Больной, я сошел с крыльца и, едва ступив на мокрую траву, почувствовал сквозь сапоги, какая она мокрая.
Казалось, дождь зарядил на неделю, но вскоре перестал. Опять появилось между облаками солнце. Уже не было больше сил ожидать от жизни счастья. Захотелось уйти, чтобы никого вокруг, и разрыдаться, как в детстве, но, когда я уходил из дома, — куда бы ни уходил — на речке, в поле, в лесу, всегда было так хорошо, что я забывал о слезах. Опять черная туча; пока не начался дождь — я поспешил на речку, шагал скорее и оглядывался. Бывает, услышу, а может, почудится вдали крик — и, кажется, — кто-то зовет с того света…
3
Выйдя за калитку, я обернулся. Мама на крыльце все еще стояла и пристально смотрела мне вслед. Я вздохнул и пошел не оглядываясь. Сильный ветер дул навстречу. Он разогнал тучи, и показалось солнце. Обрадовавшись ясному небу, я свернул с асфальта на нашу улочку. Уезжая, я решил навестить дядю Сеню. Еще издали, когда увидел за озером наш дом, где прожил много лет, у меня защемило сердце. Я открыл калитку, отмахиваясь от собак. Мушка виляла хвостом, а ее Бельчик, который родился после того, как я переехал в новый дом, готов был цапнуть за ногу. Я поспешил взобраться на крыльцо. Сразу за порогом, на полу в сенях, громоздились горы грязных тарелок с кружками и ложками. Все двери настежь. Отыскивая место для каждого шага, я прошел в дом. Дядя Сеня выпрашивал у жены деньги на выпивку, а Лялька не давала ему. Не помня себя, он заорал, и Лялька закричала, а я неосторожно повернулся — тут же с грохотом упала на пол со стола крышка от кастрюли и завертелась юлой под ногами. Лялька, оглянувшись, покраснела. Она достала кошелек, бросила мужу несколько бумажек и с плачем выскочила из дома.
Дядя Сеня подхватил деньги и долго не мог успокоиться. Я сразу же увидел по успевшему загореть после больницы лицу, что дядя выздоравливает, и невольно вспомнил, какие у него были потухшие глаза, когда навещал его в последний раз. Однако на сердце у дяди, как и всю жизнь, было тяжело, и, протягивая деньги, вырванные у Ляльки, он попросил:
— Сходи, пожалуйста, за бутылкой.
Меня тронула его дрожь в голосе. Уже давно между нами не было такого сердечного откровения. Он разговаривал со мной, будто я маленький ребенок, но как это было давно, когда он так разговаривал.
— Если пойду сам, — объяснил дядя, — то обязательно встречу друзей и напьюсь, а так один буду из этой бутылочки потягивать целый день — никто и не заметит.
Я вспомнил детство, когда дядя еще не спился. Он часто брал меня с Юлей на речку и ловил руками рыбу. Он выбрасывал ее на берег, а я с сестрой бегал босиком по траве. Каждый день дядя Сеня приносил домой ведро рыбы, однако в любви ему не везло, жизнь не складывалась, и он пристрастился к водке. Дядя часто посылал меня в магазин. Не было случая, чтобы мне, ребенку, не отпустили бы бутылку водки; продавщица, конечно, догадывалась, кому я ее покупаю. Я приносил дяде бутылку, чтобы никто не увидел. Он прятался за сараем, а возвращался навеселе — и я его такого еще больше любил; он спешил открыть душу, и я ему открывал свою.
Но сколько лет прошло с тех пор!.. Я взял у дяди деньги и вышел на улицу. Оглянувшись, как всегда оглядывался на наш дом, я поднялся на горочку. На свежем воздухе так было хорошо, и мне стало так легко, что я снял рубашку. Дядя Сеня открыл окно и вслед крикнул:
— Тебе не жалко своего белого тела?!
Солнце поднялось высоко и обжигало, как летом. Я посмотрел на себя, и мне стало жалко себя. И, когда я принес дяде Сене из магазина бутылку, не выдержал и начал:
— Уже больше не могу! Каждую минуту чувствую, что мама думает обо мне, и ухожу на речку, но если каждый день дождь, а бывает, дождь на целый день или зарядит на неделю, становится невыносимо дома, когда мама, сидя в дождь у окна, только и думает обо мне — и я гуляю, больной, под проливным дождем и купаюсь в сентябре в речке. Это трудно понять, — добавил я, — но, может быть, ты поймешь…
— Неужели, — перебил меня дядя Сеня, — мама желает тебе плохого?
— Нет, — прошептал я, — она желает только самого лучшего, но она так сильно этого желает, что невозможно рассказать, как плохо мне становится, и я еле ноги волочу…
— А ты думаешь — другие живут иначе? — удивился дядя. — Все так живут, и я тоже уже много лет еле ноги волочу.
— Купайся чаще в речке, — посоветовал я. — Когда вылезешь из воды — всякий раз будто родился.
— Речка сильно обмелела, — пробормотал дядя Сеня, наливая из бутылки в стаканчик. — Хочешь?
— Не хочу, — отказался я.
Я ожидал, что после больницы дядя Сеня вспомнит, как ловил руками рыбу, а я бегал с Юлей босиком по берегу, но дядя выпил водки и с одного стаканчика осоловел. Я посмотрел ему в глаза, а дядя отвел их, отвернулся — как отвернулся, когда я приехал в наш дом и стал жить в бабушкиной комнатке. Я это забыл и сейчас, глядя на его будто поросшее мхом, мрачное лицо, почувствовал, как страшно пусто стало в моей душе, когда летом, вспоминая счастливое детство на речке, каждый день молился, чтобы дядя Сеня выздоровел, и он выздоровел.
Я поспешил попрощаться, но прежде чем уйти, заглянул в свою комнатку — бабушкину комнатку, в которой раньше жил, посмотрел в окно — и не узнал нашего двора. Под окном еще с весны Лялька забыла коляску с черноземом — и на нем за лето трава выросла. Я открыл окно и погладил эту траву. На ветерке она шелестела и щекотала ладони, и, гладя ее, я понял, что могу жить только в нашем старом доме, и при всей здесь заброшенности почувствовал, что моя радость, с которой я жил всегда и которая, казалось, покинула меня, — моя радость осталась со мной; она осталась светлой, сияющей, и хотя, конечно, здесь тоже больно, но это везде больно, даже в святых местах будет больно и страшно, потому что мы еще на этом свете, а что будет на том — не знаем.
4
Все то, что происходит, не сразу доходит до сознания, а немного спустя, и я в электричке еще раз вспомнил, как разочаровался, посетив дядю. Я ожидал, что и он вспомнит, чего я вспоминал, когда молился о нем, а дядя выпил водки и вместо того, чтобы открыть сердце, отвернулся. Когда дядя Сеня заболел и когда я молился о нем — между нами натянулась словно нить какая-то, и сейчас она оборвалась; я почувствовал, что дядя очень скоро умрет.
— О чем задумался? — услышал я и поднял голову.
Все красотки на одно лицо — и я испугался, а она подмигивает. Сейчас я за любой бы побежал, а когда у этой девушки голубые глаза и льняные волосы до пояса, у меня дыхание перехватило — я забыл про дядю, но тут в вагон вошла старушка с птицей на голове.
— Это у нее голубь? — спросила девушка, но что это была за птица, никто не обратил внимания, потому что все в вагоне смотрели на простое, открытое лицо старушки с румянцем на щеках.
Старушка продавала свечки, и, когда я покупал у нее свечку, раздался надо мной какой-то странный невнятный звук, исходящий из груди птицы, и я ответил девушке:
— Ну не ворона же…
Приехал к сестре ночью; не мог открыть дверь в подъезд — нашел в кармане монетку и метнул ее в железобетонную стену на втором этаже. Монетка зазвенела, и стена зазвенела — тут же зажегся в окне свет, и через минуту выскочила Юля.
— Как мама?
Я не знал, что ответить сестре; лучше не рассказывать, как мама плакала, и поспешил сам спросить:
— А как ты?
— Если бы мама ходила в церковь, — сказала Юля, поднимаясь в подъезде и не под ноги глядя, а мне в лицо, — тебе бы не было так, как сейчас, когда она все время думает о тебе.
— А почему она не думает о тебе?
— Она думает и обо мне, — загрустила сестра, — но я не знаю, почему она все же больше думает о тебе; наверно, потому что ты младше.
— Но как маме сказать, чтобы пошла в церковь, — вздохнул я. — Впрочем, об этом не говорят. Она сама должна пойти, и что же такое должно произойти, чтобы она пошла, не представляю. Ладно, — махнул рукой, — лучше расскажи, как ты… — Как всегда, Юля замялась, бросилась накрывать на стол; я никогда не расспрашивал, а сейчас не выдержал: — Почему не выйдешь замуж — у тебя же есть кавалер, который любит тебя; или ты его не любишь?
Сестра отвернулась, но я успел заметить, как она покраснела, и больше не стал ничего спрашивать.
— А сам? — спохватилась она, и я, вспомнив про Анечку, пробормотал:
— Давай лучше спать…
Под утро мне приснилось: на улице в Брошке загудела машина — из нее вылез папа. Поднялся на крыльцо и заглянул в наш старый дом, но наступили сумерки, и папа меня не увидел, возвращается. Я догоняю его, окликнул, но он меня не замечает либо делает вид, что не замечает, открывает ворота и въезжает во двор на машине, а перед ней чужие какие-то незнакомые дети тащат длинную железную рельсу. Вдруг меня какой-то ангельский голос зовет; я скорее домой — а там два гроба. Кто был в первом — не помню, а во втором гробу сестра. Я схватил ее за плечи и начал трясти, не веря, что она умерла. И тут из меня, из моей души, из самой глубины, когда я осознал, что Юля умерла, что-то такое поднялось — что-то такое, такое острое, будто вся жизнь сжалась в одну минуту; в это мгновение будто электрическая лампочка мигнула — сестра раскрыла глаза и поднялась из гроба, и я очнулся от этого страшного сна.
Только встал — и Юля проснулась в своей комнате.
— Доброе утро, — сказал я ей.
Она ответила:
— Доброе утро. — Прошла по коридору к ванной и опять говорит: — Доброе утро! — А потом спрашивает: — Почему не отвечаешь?
Зазвонил телефон, а она не слышит.
— Телефон звонит, — говорю ей; она бросилась в комнату, где телефон, взяла трубку и назад.
— Это у соседей, — объяснила. — Слышно через форточку.
Тут по-настоящему зазвонил телефон, и опять Юля повернула обратно. Пока она разговаривала по телефону, я умылся, и, когда вышел из ванной, сестра выглянула из своей комнаты, шагнула ко мне, еще в ночной сорочке, с каким-то странным выражением на лице, хотела что-то сказать и вдруг отвернулась, как-то странно, изнутри «ворконув» по-голубиному. От этого звука, вырвавшегося откуда-то из-под сердца, я будто только сейчас проснулся и, чтобы не смущать сестру, тоже отвернулся и посмотрел в окно.
К мусорному контейнеру подошла женщина с сумкой, стала доставать из нее старые газеты и бросала их в контейнер; осталась последняя — посвежее, побелее; женщина поднесла ее к глазам, просмотрела — тоже выбросила, махнула рукой и пошла дальше. Тут же ветер подхватил газеты и понес по улице. Солнце еще низко над горизонтом, а рядом аэродром — взлетает самолет, — и, когда он закрыл на мгновение солнце, — показалось, будто оно мигнуло, как электрическая лампочка, — и, если бы солнце не мигнуло, я не вспомнил бы, какой мне приснился страшный сон.
Я едва услышал сзади шаги Юли и, повернувшись к ней, спросил:
— Это мама звонила? — Вдруг я вспомнил, кто лежал во сне в первом гробу, и догадался: — Умер дядя Сеня?
Юля ничего не ответила, но опять у нее что-то вырвалось из груди птичье, и я вспомнил, как вчера голубь на голове старушки в электричке издал точно такой же невнятный странный звук.
И я еще вспомнил, что поднялось у меня из бездны души, когда тряс приснившуюся умершей сестру. И если это есть в душе у меня — так это есть и в каждом человеке, хотя я никогда в жизни не сознавал этого и лишь во сне узнал, но от ощущения в себе какой-то невероятной силы, способ-ной воскрешать мертвых, корнями волос на голове я почувствовал, как прикасаюсь к какой-то страшной тайне.
— Не могу поверить, что дядя Сеня умер, — сказал я и невольно подумал: если бы не разочаровался вчера у дяди, он и сейчас бы жил, и зачем я зашел к нему — ведь мог и мимо пройти… — Ладно, — спохватился, — чтобы не ехать на перекладных электричках, поеду на вокзал и куплю билеты на скорый поезд…
У подземного перехода на вокзале скучал все тот же толстый чудак, желал прохожим счастья и любви — и мне пожелал, и я, собираясь на похороны, не знал, как отнестись к его словам. Я купил в кассе билеты на вечерний поезд и, возвращаясь мимо несчастного толстяка, встретил Анечку, когда уже не надеялся ее увидеть. В одной руке она несла сумку с яблоками, а другой держала за воротник мальчика, который катил за собой деревянную лошадку на колесиках. К спине лошадки привинчены были пластмассовые крылья. Увидев меня, Анечка улыбнулась; лицо у нее засияло такой же ликующей радостью, с какой еще в сентябре тянулась к солнцу каждая травинка. Глядя на ее улыбку, я догадался:
— Ты ездила к бабушке?
— Откуда ты знаешь? — удивилась Анечка. — Ну, миленький, — не могла удержать она мальчика с крылатой лошадью. — Подожди, Ваня, мне хочется поговорить с этим дядей…
— Это твой сын? — спросил я. — Надо же было сообщить, что ты вышла замуж, и я не надеялся бы. Но это ничего не меняет, — добавил, — никогда не смогу тебя разлюбить, и мне даже видеть тебя не надо, а знать, что ты есть, и оттого, что ты есть, — я сам делаюсь чище и лучше…
— Нет, это мой братик, — перебила Анечка; в голове у меня все перевернулось, а потом стало ясно и легко.
Уже не помню, сколько лет прошло, когда мы встречались в последний раз; наверно, столько — сколько сейчас Ване. Я смотрел на Анечку, узнавал и не узнавал, и она посмотрела на меня, отвела глаза и тут же опять их подняла; смотрит своим ангельским взором — и я вспомнил сестру, которая тоже как ангел и которая может только своего брата полюбить.
Анечка вдруг спохватилась, и я заметил рядом ее маму с мешком яблок от бабушки. То, что я еще хотел сказать, нельзя при маме, и я прошептал:
— А я видел вчера старушку с птицей на голове!
— И мы тоже видели в электричке эту старушку, — подхватила Анечка, и я не могу высказать, как обрадовался от того, что и они увидели птицу на голове.
Но мы не могли больше говорить при маме, и Ваня с крылатой лошадью утаскивал за собой Анечку; не знаю, увижу ли ее еще когда-нибудь, но расставаться не было больно, потому что при случайной встрече слишком много радости…
Я вернулся к сестре домой, а Юля оставила записку: пошла за венком дяде Сене. Я достал из чемодана свечку, которую купил у старушки с птицей на голове, и отправился в церковь. Ближайшая церковь стояла на крутой горе; подниматься тяжело, но, глядя на лица спускающихся вниз, уже не чувствуешь ног. Все равно запыхался и, ожидая, когда успокоится сердце, смотрел, не мигая, в глубокое осеннее небо — как будто заснул с открытыми глазами. И когда я забыл про сердце, опомнился и, перекрестившись, протиснулся в церковь. Жался среди людей и почувствовал из толпы взгляд сестры. Увидел краем глаза, как она радуется, что и я не миновал церкви. Рядом с Юлей я заметил ее ухажера и пожалел его. И я вздохнул: как трудно с ангелами! Увидев меня, Юля не думала о своем счастье. Она устремилась ко мне, а я хотел сосредоточиться, чтобы поставить свечку, и скорбел.
Шитый оклад с бисером сполз на глаза Богородице; к иконе приложился старик с румянцем на щеках, сразу видно — из деревни, и я невольно подслушал, как он, показывая кому-то на Богородицу, изумился: у Нее на лике, — но не мог подыскать слов, и я ожидал, пока он прошептал: у Нее написано на лике лошадиное чутье… Я не сразу догадался, о чем он, но, когда заметил на глазах у него слезы, вспомнил, как папа плакал, глядя на лошадей, и я понял, что хотел сказать этот старик.
На волоске
Навстречу гонят стадо коров, и автобус на мосту остановился. А я опаздывал и, переживая, что Нюся не дождется меня и уйдет, посматривал на часы. Когда стадо прогнали, автобус переехал по мосту через речку, и я увидел из окна Нюсю. Я выскочил на остановке и, подбежав к Нюсе, поцеловал ее.
— Как долго ты ехал, — вздохнула она. — А у меня сейчас урок.
Мы зашли в чайную и сели у окна, чтобы услышать звонок в школе, где Нюся работала учительницей.
— Очень хочу пить, — опять вздохнула она, и я заказал ей два стакана, себе — один, и — по булочке, а потом спрашиваю:
— Как ты?
— Этой ночью — опять…
Я не стал расспрашивать, но поинтересовался:
— Что тебе приснилось?
Тут официантка несет два стакана чая.
— А где еще один? — спрашиваю.
— У меня только две руки, — отвечает. — А булочки еще не привезли.
— Ну, хоть что-то помнишь? — снова спрашиваю у Нюси. — Расскажи…
— Не хочу рассказывать.
— Почему?
— Не хочу.
Я взял стакан, обнял его ладонями и греюсь. Выгля-нул в окно — не везут ли булочки, и вздрогнул от звонка в школе.
— Чего молчишь? — спросила Нюся.
— Если стану говорить — сама попросишь, чтобы замолчал, — объяснил я. — Сколько раз так было.
— Потому что, — заметила она, — говоришь одно и то же. Ну сколько можно?
Официантка принесла еще один стакан чая. Из этого, третьего стакана Нюся отлила мне; а мой чай остыл, и я обрадовался горячему.
В школе опять зазвонили.
— Уже не могу больше, — в который раз Нюся посмотрела на часы. — Не понимаю, зачем мы встречаемся.
Я поспешил расплатиться, и мы вышли на улицу.
— Что ты сказала? — переспросил я.
Дождавшись, пока она пролезет в дырку в школьном заборе, я побрел на остановку. Тут Нюся что-то еще сказала мне вслед из дырки.
— Что? — я оглянулся и, подбежав к ней, обнял ее.
— Ты разве не понял? — повторила Нюся, а я не выдержал и стал целовать ее. — Нет! — сказала она. — На нас смотрят, — спохватилась и опять в дырку.
Я перебежал через дорогу и успел вскочить на остановке в автобус. Люди в нем, конечно, видели, как я целовал Нюсю, и я, чувствуя на себе любопытные взгляды, уставился в окно. Автобус проехал по мосту через реку, а на другом берегу на городском пляже, когда осенью остыла вода и никто не купается, лежали коровы. Стал накрапывать дождик; по реке поплыли расходящиеся круги от капель — и все больше, и все чаще. Город на крутых холмах — автобус то вниз, то едва ползет в гору. Возле почты улицу так и не заасфальтировали; автобус едва не опрокинулся в яме, и многие из пассажиров вскрикнули.
Мне очень тяжело было среди этих людей, которые видели, как я целовал Нюсю, и я вышел на площади. Я не мог о Нюсе не думать и, чтобы о ней не думать, смотрел по сторонам — и увидел все вокруг таким, каким никогда не видел. Мне показалось, что в городе тихо, как в детстве в деревне, и я, чтобы никто не услышал, вздохнул. Так и Нюся начала в последнее время затаенно вздыхать. Куда я ни смотрел, все напоминало о ней — не было в городе места, где бы мы не встречались, и мне стало невыносимо больно. Я шел по улице и не понимал, куда и зачем иду, но с неба опять закапало, и мне стало легче на душе. Тихо начался дождь. Я опять вспомнил детство в деревне, вспомнил такой же тихий день, как сегодня, с таким же серым небом. Я узнал его. Ноги у меня сами куда-то шагали, а дождь все сильнее. И я, проходя мимо церкви, зашел в нее.
В церкви не протолкнуться и нечем дышать. Когда я, перекрестившись, поклонился, снизу мне в лицо заглянул маленький мальчик и потом, сколько я ни кланялся, заглядывал в глаза. Он ехал вместе со мной в автобусе, и видел, как я целовал Нюсю, и, выйдя сейчас с мамой на площади, спрятался в церкви от дождя. Но вдруг он не на меня посмотрел, а на девушку рядом в черном платке. Она прислонилась к стене и вдруг начала съезжать вниз, но я успел подхватить ее и помог выйти на свежий воздух. Ее маленькая грудь часто вздымалась и опускалась, будто девушка очень долго бежала — и сейчас никак не могла отдышаться. Она села на каменную ступеньку на крыльце и, когда из-за туч появилось солнце, попросила пить. Я помог девушке сойти с крыльца в тень под яблоню.
— Подожди, пока сбегаю за водой, — сказал я.
— Уже не надо, — опустилась девушка прямо на мокрую траву. — Не бьется сердце… нет, опять забилось. Опять не бьется…
Я, растерявшись, забыл про воду, но молитвенных слов не забыл; не в первый раз молюсь над прохожими, которым стало плохо на улице, — и девушка тут же прошептала:
— Снова забилось.
— Как тебя звать?
— Милочка.
Из церкви после службы выходили люди и оглядывались на нас под яблоней в саду. Здесь было хорошо, разве что за забором гудели машины. Милочке вскоре стало лучше, и она поднялась с травы.
— У меня слабое сердечко, — объяснила, — маленькое, как кулачок у пятилетнего ребенка.
— Откуда ты знаешь?
— Чувствую его в себе. — Она замерла, прислушиваясь: — Колокольчик!
— Не слышу, — пожал я плечами. — Давай проведу тебя домой.
На улице встречаем дядю Митю на костылях. Он помахал мне пальцем.
— Ты смотри у меня!
— Да чего ты, — я развел руками, а дядя все машет:
— Ты смотри!
— Да у меня и в мыслях ничего нет, — оправдываюсь.
— А я по себе сужу, — шепнул дядя. — Посмотришь на такую, — показал на Милочку, — и невольно всякие мысли появляются.
Глядя, как дядя Митя с одной ногой поседел и постарел, я удивился, что у него такие мысли в голове. Я догнал Милочку и после того, что дядя сказал, заметил, как на нее все оборачиваются.
— Слышишь теперь? — спросила она.
Сам не зная — почему, я вздрогнул от далекого колокольчика, прорывающегося сквозь железный грохот машин на улице, и, глядя на черный платок Милочки, поинтересовался:
— Кто у тебя умер?
— Дедушка, — ответила она. — Вчера приехала с похорон с мамой.
— Сейчас опять хлынет, — поднял я голову к небу, где за тучей спряталось солнце.
— А мы уже пришли, — показала Милочка на свой дом и, когда загремел гром, закричала мне в ухо: — Побежали!
Я за ней в калитку, заскочил на крыльцо, а потом и в дом. Милочка сразу же бросилась к окну, и я за ней. Она, улыбаясь, смотрела на запенившиеся с горки ручьи, затем шагнула к плите и поставила чайник. После того как она пробежала под дождем, лицо ее разрумянилось, и я не мог на нее наглядеться. Милочка опустила глаза — тут же их подняла, а я опять к окну. Черную тучу пронесло, но дождь все сыпал. Я приоткрыл окно, и Милочка за моей спиной вздохнула. Она так же затаенно вздохнула, как Нюся начала вздыхать. Я не выдержал и опять посмотрел на Милочку, которая, кажется, уже не замечала моего взгляда, а я сделал вид, будто не услышал, как она вздохнула. Мне захотелось взять ее за руку — что тут такого, но я почувствовал — если возьму ее за руку, то Милочка будет моей. Я так отчетливо это почувствовал, что мне стало страшно; я испугался, что не в силах себя остановить. Одета она была в какой-то детский сарафан; такие носили когда-то в далекие голодные годы — вероятно, это бабушка ей пошила. И этот детский сарафан на узеньких плечах еще больше подчеркивал ее хрупкость и беззащитность — и то, что я почувствовал, будто Милочка будет моей, достаточно взять ее за руку, вскружило мне голову. И, когда у меня появились такие мысли, я вспомнил дядю Митю и понял сейчас, почему он махал пальцем: ты смотри у меня; и, если бы он не помахал пальцем, может, я и не остановился бы. И тут я еще вспомнил про ее сердце, как кулачок у пятилетнего ребенка.
— Все, дождь закончился, — поспешил я выглянуть в окно, желая уйти скорее, чтобы совладеть с охватившим меня соблазном.
— Не уходи, — суетилась Милочка у плиты, где закипал чайник. — Постели на стол салфетки, — подала их. — Чего испугался?
— А ты заметила?
Я сел за стол. Милочка нарезала медовой коврижки, поднесла мне кружку с чаем и сама села напротив. Она по-прежнему улыбалась, будто все еще смотрела на ручьи с горки. И я улыбнулся — и тут же опять испугался. Я решил рассказать ей про Нюсю. Я смотрел на Милочку и волновался, не зная, с чего начать.
— Мы опять стали встречаться, — наконец начал я. — И, когда все было хорошо, все было очень хорошо, я шел вчера по улице, спешил, потому что мы договорились встретиться. Еще было далеко до того места, где мы договорились встретиться, и я спешил к ней, потому что знал, что она уже там и она ждет меня. И я спешил — а она пошла навстречу. Я не ожидал, что она пойдет навстречу, а она не знала, с какой стороны я буду идти. У нее еще было много времени, и она не знала, куда его деть, и она просто так шагала по улице. Она не знала, что я буду идти по этой улице; она думала, что я буду идти по другой улице. Ей надо было убить время, пока я приду. И вот я шел, а она — навстречу по улице. Я ее увидел, а она меня не видела; она шла задумавшись. Она думала о чем-то; я не знаю, о чем она думала, — но я увидел, как она несчастна. У нее было такое лицо, какого я никогда не видел, и я ни у кого не видел такого лица. И оно у Нюси тут же переменилось, едва я подбежал к ней. Мы пошли туда, где договорились встретиться, и она стала мне улыбаться, как всегда.
Рассказывая, краем глаза я заметил в окне, как что-то черное мелькнуло на улице. Стукнула калитка, раздались на крыльце шаги, и в дом вошла женщина, у которой, как у Милочки, повязан был черный платок.
— Чем ты, мама, недовольна? — спросила Милочка.
— Селедкой, — ответила женщина, вынимая из сумки продукты, затем повернулась ко мне: — А ты не обращай на меня внимания, продолжай…
— И вот вчера вечером, — пробормотал я, — мы были счастливы, как в тот день, когда познакомились. Мы зашли в чайную и сели напротив друг друга, как я сейчас с тобой, — улыбнулся я Милочке. — Я поднялся из-за стола, чтобы поцеловать Нюсю, а она сидела, и я ей прошептал: «Получается тебя поцеловать только на коленях».
— И ты при людях, в чайной?.. — изумилась Милочка.
— Я никого не видел, кроме нее, — признался я. — А потом Нюся проговорилась, что она лунатичка и что ее мама в коридоре перед дверью ставит на ночь таз с водой…
— Так вот и эта такая, — мама Милочки не выдержала и показала на дочку: — И эта встает, встала сегодня, я думаю — в туалет. Чего-то ходит по комнате — глаза раскрыты. «Чего ходишь?» — спрашиваю.
— По-прежнему снятся детские сны, — перебила маму Милочка, — в них так все ярко, как в жизни не ощущаешь. И я так крепко сплю, что встаю и начинаю делать то, что делала во сне. Этой ночью приснилось — плыву на лодке, гребу — и вдруг не оказалось в руке одного весла. Я встала, пошла на кухню, взяла большую деревянную ложку, — Милочка открыла шкафчик и показала эту ложку, — и проснулась утром с ней в руке.
Я испугался за Милочку. Сказал про Нюсю, что она несчастная, и сейчас так вышло, будто и Милочка такая же, но она улыбалась, словно глядя на ручьи с горки, и я успокоился.
— Куда ты? — спросила она у мамы, когда та опять надела плащ.
Прежде чем уйти, мама Милочки оглянулась, и я понял — не надо ей никуда уходить. Она хочет счастья для своей бедной Милочки — поэтому и решила оставить нас вдвоем, но насколько она хочет для дочки счастья, настолько пожалела меня. И я поспешил продолжить про Нюсю, чтобы успеть Милочке наедине сказать все то, ради чего, собственно, я это и начал.
— А сегодня утром никак не ожидал услышать от Нюси: нет, — пробормотал я. — Не понимаю, что могло произойти за ночь. И это уже в который раз повторяется. Она и раньше вот так же вдруг говорила мне: нет; куда-то пропадала, и дозвониться ей было невозможно. Но потом объявлялась сама. И мы опять встречались. Но, когда Нюся проговорилась, что она лунатичка, я осознал: все это повторяется, потому что она лунатичка…
Милочка тут же сообразила:
— Твоей Нюсе что-то приснилось, после чего она сказала: нет.
— Ну, и что такого ей могло присниться? — задумался я. — Она вчера так улыбалась мне, что не знаю, как жить дальше. Но сейчас понял, — осторожно я добавил, — кого еще смогу полюбить.
— Кого?
— А ты не догадываешься?
— Откуда я могу знать? — пожала плечами Милочка.
Я удивился ее чистоте. Милочка поднялась из-за стола, подошла к окну и стала в него смотреть. Я тоже поднялся и подошел к ней. И тоже стал смотреть в окно. И тут моя рука сама нашла ее руку, когда я смотрел не на улицу, а куда-то далеко-далеко, но рука Милочки выскользнула из моей.
— Слышишь?
Я хотел повернуть разговор к тому, ради чего я это все затеял, но, увидев на улице бродягу с обрубками вместо рук и с колокольчиком на шее, быстрее отодвинулся от окна, и Милочка спряталась. Хотел уши заткнуть пальцами, но перед девушкой не посмел — и только тогда опомнился, когда загрохотал гром; за одну минуту на кухне страшно потемнело, и ярче вспыхнули лучи заходящего солнца из окон в другой комнате. Еще долго звенел колокольчик, и, когда наступила тишина, как обычно перед грозой, мы затаились, каждый думая о своем, и я едва услышал Милочку.
— Когда умирал дедушка, — прошептала она, — я держала его одной рукой за голову, а другой гладила по плечу. Глаза его были открыты; он как бы искал глазами кого-то, но, конечно, находился в беспамятстве; было видно, как мечется его душа. Он хотел что-то сказать — губы его шевелились, однако нельзя было понять, чего он хочет сказать. Из раскрытого окна солнце пробивало занавеску с ярко вспыхнувшими алыми мальвами, и, когда ветерок колыхал занавеску, эти мальвы оживали на лице у дедушки, пока солнце не зашло, как сейчас, и я вдруг почувствовала, что мои руки на дедушке оледенели.
— Не надо об этом, — попросил я.
— Почему?
— Не надо, — повторил я. — Давай лучше о другом.
— О чем? — разрумянившись, догадалась Милочка. — Ты же знаешь, что у меня сердце, как кулачок у пятилетнего ребенка, — пролепетала она и снова о дедушке: — Уже давно он болел, но еще летом, в сенокос, отбил мне косу. Он лучше всех в деревне отбивал косы, и некому теперь будет отбить мне косу.
Случайные земные черты на лице у Милочки растворились в сумерках — и проступили небесные; мы так и сидели, сумерничая, пока не вернулась мама. Она включила свет, затем, нагнувшись, собрала в кулак край подола мокрого до нитки платья и выжала. Глядя, как я заторопился, мама Милочки остановила меня.
— Подожди, пока дождь не закончится.
— Он на всю ночь, — пробормотал я и, выходя, спохватился. — Буду молиться за тебя, — прошептал я Милочке и едва услышал вслед ее: благодарю.
Когда я вышел из круга последнего фонаря, глаза не могли привыкнуть к темноте; впереди зашаркали шаги и — все скорее, чтобы не замочил дождь. Обыкновенно разговариваешь сам с собой, а пока поднялся на горку — ни слова; кажется, сейчас сердце оборвется, и в темноте можно не задумываться, какое выражение на лице.
Было уже поздно; моя хозяйка, в чьем доме снимаю комнатку, уже закрыла дверь на засов. Мне пришлось стучать, и хозяйка, когда открыла, спросила: что с тобой? Она каждый день у меня это спрашивает. Я отвечаю: все хорошо, но она пристально заглядывает в лицо, и приходится улыбаться — будто все хорошо. Оттого что я часто пытаюсь улыбаться, когда не улыбается, на лице остаются морщины, и даже потом, когда не улыбаюсь, не могу на себя посмотреть в зеркало; мне кажется — все равно я улыбаюсь.
— Что у тебя на руке? — заметила хозяйка, и я невольно руку сжал в кулак.
А назавтра, только проснулся, увидел у себя на ладони начирканный впопыхах шариковой ручкой телефон Милочки и — скорее одеваться, но оторвалась пуговица. Не раздумывая, стал набирать Милочкин номер, тут вырубился телефон; сколько я ни пытался его включить — ничего не получалось. Кажется — что такого, но если каждое утро начинается с оторванной пуговицы, а сегодня еще сломался телефон, — тогда хочется расплакаться, как ребенку. Пока хозяйка на кухне, поспешил выскочить на крыльцо, чтобы не услышать ее: что с тобой? Сквозь вчерашние тучи едва пробивалось солнце. В такое смутное утро очень тяжело на чужом крыльце. Меня потянуло на улицу. Ничего нельзя проще выдумать, как сходить в магазин за хлебом. На улице догнал дядю Митю на костылях.
— Вчера не получилось поговорить, — сказал я. — Как ты?
— Чешется пятка.
Я с недоумением глянул на то место, где должна быть его нога.
— Ну, и что ты делаешь, когда чешется пятка?
Он на меня так посмотрел, что я скорей в магазин. Там очередь. Махая крылышками, какая-то птичка трепыхалась над окном, заглядывая в него, а очередь длинная, и, пока я стоял, несколько раз птичка прилетала. Нависла черная туча, затем другая — туча на туче; в магазине включили электрический свет, потому что кассирша не могла в темноте считать деньги. Когда я вышел из магазина, дунул ветер, и я будто проснулся, обсыпанный с деревьев каплями вчерашнего дождя. Вдруг тучи на небе развеялись. И, когда просияло солнце, когда все вокруг в его лучах возликовало, — тут я почувствовал, что жизнь моя висит, как на ниточке.
А когда, вернувшись домой, закрылся в своей комнатке, подумал, что у других — канаты, железные канаты, но потом осознал — у всех ниточка, иначе быть не может; смысл жизни в паутинной ничтожности этой ниточки. Я представил, сколько ниточек спускается с неба! И чем сильнее веруешь, тем утончается эта ниточка, и я испугался, но в душе все больше разрасталась радость, когда радоваться, кажется, нечему. Тут я вспомнил Милочку. Я вспомнил о ее сердце, как кулачок у пятилетнего ребенка, и сейчас догадался, что «кулачок» можно «опустить». Изумившись, что у этой девушки невинное ребячье сердечко, я с неземной радостью осознал, к чему вчера прикоснулся. И вот тут, когда я был далеко-далеко, зазвонил сломанный телефон. От мысли, что никак не мог телефон сам собой включиться и зазвонить, я онемел и не удивился Нюсе, когда та сказала: у меня опять сегодня «форточка». Чего молчишь? Но я сразу же опомнился, когда голова закружилась.
На этот раз доехал быстро — коровы уже на пляже. Когда выскочил на остановке из автобуса, Нюся, как и вчера, стояла у чайной и ожидала меня. Мы опять сели за тот же столик у окна, и я не выдержал:
— Не могу больше так!
В этот момент хлопнула дверь на пружине за вошедшими в чайную, и я не расслышал, что мне ответила Нюся, но по губам ее и поспешно опущенным глазам догадался, что она ответила не так, как вчера. Каждый раз она другая, и надо теперь опять начинать все сначала, будто ничего раньше и не было. Я вспомнил, как Нюся сказала мне «нет», и спросил:
— Что же все-таки тебе приснилось вчера?
— Посмотри на эту парочку, — показала Нюся, — вон за тем столиком.
— Расскажи, что приснилось.
— Посмотри на них.
— Чего мне на них смотреть? — я оглянулся на мужчину и женщину, которые хлопнули дверью. — Расскажи…
— Ты опять? — вздохнула Нюся. — Не хочу рассказывать.
— Почему?
— Не хочу.
— Но почему? — не мог я понять, как она вдруг начала:
— Привязаны люди…
— К чему?
— К какому-то дерьму, — простонала Нюся. — И на них сверху дождь!
— Не надо дальше.
— Я же говорила.
— Вчера зашел в церковь, — вспомнил я.
— Посмотри на эту парочку, — не могла успокоиться Нюся. — За все это время они не произнесли ни одного слова, и даже не было слышно, как мужчина заказывал официантке.
— Уже не могу больше так, — пробормотал я, оглядываясь.
— Посмотри на них.
— В церкви стояла девушка, — продолжал я. — Она стала падать в обмороке; я подхватил ее и вывел на воздух. У нее оказалось сердце, как кулачок у пятилетнего ребенка.
— Откуда ты знаешь? — спросила Нюся. — Откуда ты это можешь знать?
— Я ее провел домой, и начался дождь.
— И ты остался у нее?
— Да, — я кивнул. — И я ей рассказал про тебя.
— Не хочу это слышать.
— Потом пришла ее мама, — не смотря ни на что продолжал я. — И, когда я обмолвился, что ты лунатичка, ее мама не выдержала: и эта такая же, — показала на дочку.
— Зачем ты всем рассказываешь, что я лунатичка?
— Не в этом дело, — пробормотал я. — Я совсем не об этом. Я о том разговоре с Милочкой потом, когда ее мама ушла.
— Не хочу слышать, — повторила Нюся.
— Почему?
— Уже должен быть звонок в школе, — Нюся посмотрела на часы, затем в окно, — но почему не звонят? Как медленно тянется время!
Я глубоко вздохнул перед тем, как начать про то, ради чего все это затеял, но еще раз как-то совсем по-другому затаенно вздохнул, когда понял, что про это невозможно рассказать.
— Ну что такое, — повернулась ко мне Нюся. — Слушаю тебя.
— Сначала о другом, — не знал я, с чего начать. — А об этом, может быть, удастся потом, после того, что сейчас расскажу.
— Устала слушать! — взмолилась Нюся. — Ты все время говоришь одно и то же, и я устала. Сколько можно?! Я от тебя ожидаю совсем другое.
— Ладно, — махнул я рукой и наконец осмелился: — После того, как я Милочке про любовь, а она напомнила о своем сердце, мне стало стыдно; тут она говорит: ты не видишь, что я как ребенок. Но, если будешь со мной как с ребенком, выйду за тебя замуж. А я, когда думал про любовь, забывал про ее сердце. И, когда я опять взял за руку Милочку, она спросила: ты забыл, что со мной случилось в церкви? Нужно видеть ее, чтобы понять, что я почувствовал, и я рядом с Милочкой ощутил в себе силу жениться на ней не так, как все женятся…
Я ожидал, что Нюся скажет «не верю». Наконец я начал о том, о чем вчера Милочка рассказала, когда солнце зашло. Снова я подумал — Нюся скажет «не верю», но она прошептала:
— И я тоже сама себя видела. — И еще добавила: — Чего это ты?
Сжимаю и разжимаю перед собой пальцы; сам не могу понять, что делаю, пока не осознал, не вспомнил, чего Милочка рассказывала про то, как едва не умерла; можно сказать — и умерла; и, когда она умерла, — увидела сама себя, и — что у нее губы посинели, и рядом расплакавшуюся маму. Я вспомнил, как Милочка вчера, рассказывая об этом, протянула ко мне свои руки ладонями вверх, сжимая и разжимая пальцы, а я не мог понять, что она делает, пока Милочка не повторила: когда пожалела маму, сначала почувствовала на руках пальцы, а уже потом забилось сердце — и я опять начала дышать…
Тут я опомнился и спросил у Нюси:
— Ну, а ты как сама себя видела?
— Посмотри на них, — в который раз прошептала она.
— Вероятно, — я оглянулся, — между ними этой ночью что-то произошло…
Мужчина сидел спиной ко мне, а молодая пышная женщина в цветастой кофточке подняла на меня глаза и тут же опустила. Я повернулся к Нюсе.
— Как же ты сама себя увидела?
— Клеила с мамой обои…
— И я же вам помогал, — перебил я. — Это еще было в то лето, — обрадовался и тут же загрустил, — когда мы начали встречаться.
— Да, и ты с нами клеил, — тоже загрустила Нюся. — Я очень устала, а мама подгоняет: скорее, — и вот, когда я нагнулась в углу за бабушкиной кроватью, что-то произошло со мной…
— Бабушка лежала на кровати?
— Она уже умерла, — нахмурилась Нюся. — Ты что — не помнишь, как мы передвигали пустую кровать?
— Нет, — заспорил я, — мы передвигали кровать вместе с бабушкой.
— А когда закончили клеить, — не слушая, продолжала Нюся, — мама посылает меня на речку помыть таз. Я говорю: завтра помою, а она: помой сегодня, а то завтра засохнет. Ты уже ушел, а я одна на речку. У всех, когда устанут, болят руки-ноги, а у меня еще глаза разболелись. И, когда, казалось, я не смогу больше выдержать и упаду сейчас, вдруг мне стало легко-легко, и я увидела себя, как мою на речке этот таз.
Тут за окном затрезвонил в школе звонок.
— Так что же произошло с тобой в углу за бабушкиной кроватью? — спросил я, однако Нюся не ответила, побежала на урок, а я понял, что про это невозможно рассказать, как и про мою радость после встречи с Милочкой.
Расплатившись с официанткой, я вспомнил про мужчину и женщину за соседним столиком, оглянулся, но их уже не было в чайной; увлекшись разговором с Нюсей, я не заметил, как они прокрались мимо, будто на цыпочках. Выйдя на улицу, я изумился сияющему солнцу на бездонном небе без облачка. Овладевшие мной беспокойные мысли сразу же развеялись. На деревьях ни листочек не колыхнется; все замерло, но в бездыханном небе заблестели на солнце, полетели осенние паутинки. Одна налепилась мне на лицо; как раз показался автобус. Я побежал на остановку, и уже в автобусе, словно умываясь, протер лицо, и, оглянувшись, заметил среди пассажиров ту молодую, в цветастой кофточке, женщину из чайной, но мужчины с ней не было. Она тоже заметила меня и тут же — в окно. И я — в окно. Автобус переехал через мост. Вдруг послышался вчерашний колокольчик. Чтобы не увидеть бродягу с обрубками вместо рук, я не знал, куда деть глаза, и, позабыв про женщину из чайной, посмотрел на нее как раз в тот момент, когда и она на меня посмотрела. Едва взгляды наши встретились, я первый отвернулся, но потом не выдержал и снова тайком на нее. Прядь распущенных ее кудрявых волос упала на глаза; женщина встряхнула головой и, поправляя прическу, чувствуя, что я смотрю на нее, не выдержала и так стрельнула глазами на меня, что я скорее отвел взгляд в сторону. Колокольчик уже отдалялся, и я уставился в окно. По тротуару спешил куда-то дядя Митя на костылях. Когда он заболел раком, все думали, что дядя скоро умрет, но у него от закупорки вен на ноге началась гангрена, и, когда ногу отрезали, дядя Митя перестал думать о раке, а начал думать о ноге; его раковая опухоль исчезла, и дядя выздоровел. И он сейчас, хоть с одной ногой, но радовался жизни. Тут я почувствовал, что кудрявая красавица в цветастой кофточке пристально смотрит на меня, а я, увидев дядю Митю, вспомнил Милочку, невольно сжимая и разжимая перед собой пальцы, как она вчера показывала, и уже потом оглянулся. Красавица, когда я посмотрел на нее, не отвела взгляд, как прежде; она задумалась — и не на меня смотрела, а куда-то далеко. Наконец увидела меня, и я стал пробираться к ней в забитом людьми автобусе. В толкучке никто не обратил внимания, как я обнял ее, и она не возмутилась, будто мы давно знакомы, разве что у нее лицо изменилось. Когда я обнял ее, у меня из-под ног земля стала уходить. За стеклами в окнах брызги. Я вспомнил про яму возле почты, где автобус вчера едва не перевернулся, и догадался, что эта яма после проливного дождя — как море. Все в автобусе закричали, и я не услышал, чего эта женщина лепечет, но, обнимая, ладонью ощутил дрожь ее голоса на спине, между лопатками, где врачи слушают сердце. И я тут почувствовал, что моя жизнь на волоске, — не потому что автобус перевернулся, а потому что я оказался рядом с этой женщиной, как бывает, впрочем, и с любой другой.
Одному в пустыне
Рассказ первый: Не так, как вчера
Я проснулся от звонка. Сбросил с себя скомканное солнце на одеяле и выбежал в коридор, вспоминая оборванный сон: я плыл, загребал и ухватился в воде за ногу женщины, за пятку, — и поднял телефонную трубку — такого же цвета, как пятка, и такую же гладкую.
Звонила Фрося; спросонку одно помню — попросила купить сливок. Только положил трубку, опять звонок, поднимаю.
— Что еще? — спрашиваю.
Наверно, я сказал «что еще» таким тоном, что полминутки никто не отвечал, затем скороговоркой:
— У нас в отделении почтальоны в отпусках, — выпалила. — Придите получите телеграмму, в пятое окошечко. — Потом опомнилась: — Да, это вы Иванов?
— Да, — отвечаю. — Вроде бы.
— Отвечайте серьезно, — говорит.
— Как вас звать, девушка? — спрашиваю.
Положила трубку. Выхожу на улицу и услышал будильник. Он прозвенел глухо, как из-под земли, и я не пальцем нажал на кнопку, а наступил на нее ногой, туфлей. На улице ни души — рань несусветная, и — приятная в сентябре прохлада. Проехал две остановки и зашел в магазин «24 часа». По нему шаталась пьяная женщина. Одета она была как у себя на кухне, однако — туфельки изящные, узкие, на маленьких ногах. Ступая по полу из мраморных плиток, несколько раз, пьяная, поскользнулась и едва не упала, со сладостью выругавшись.
Я подошел к молочному отделу, постучал по стеклу на витрине, заглянул в открытую дверь служебного помещения, спросил у продавщицы из мясного отдела: где эта?
— Сейчас подойдет, — лениво ответила продавщица.
— Этот не выспался, — показала на меня пьяная, и опять едва не поскользнулась, и рассмеялась; чтобы не упасть — ухватила продавщицу из мясного отдела за рукав.
Я показал на открытую дверь и попросил продавщицу:
— Позовите из молочного.
Продавщица не пошевелилась, а пьяная женщина в узких туфельках исчезла за дверью — там был деревянный пол — каблучки за стеной застучали иначе, снова послышался смех, только — приглушенный, задыхающийся, и тут же она вернулась.
— Завтракает, — сообщила и, увидев, что я недоволен, что по-прежнему пальцы дрожат на стекле, пьяная, прошептала: — Пускай покушает спокойно — потом хлынет народ. — Она еще ближе шагнула и поправила у меня воротничок. — Куда ты спешишь?
— Иди домой, — подтолкнула ее появившаяся продавщица из молочного отдела. На ходу она жевала.
— Пакет сливок, — показал я, — не этот, а большой за двадцать два рубля, — и протянул деньги.
В одной руке огрызок яблока, другой продавщица взяла деньги, пересчитала одними пальцами, как карты, и подала маленький пакет, но я ничего не сказал, взял сливки, поглядел пьяной женщине в глаза, окунулся в ее растравленную тоску и выскочил из магазина.
За это время солнечные лучи обрели силу — светили ярко и горячо. Я перебежал улицу, прошел мимо цветочных клумб и, очутившись в тени под деревьями, вдохнул сохранившуюся тут прохладу. Шагал неторопливо, словно ленясь, но утро было такое свежее, что сердце, после того как перебежал улицу, продолжало восторженно биться еще долго.
И когда позвонил в квартиру Фроси, не мог отдышаться, волновался и радовался. Но Фрося не открывала. Еще раз позвонил. За дверью ни звука. Нажал и пальца не отнимал от кнопки звонка. Отпустил ее и прислушался. Затем вышел из подъезда — солнце сияло по-прежнему, все осталось как несколько минут назад: чистое небо, зеленые деревья, девушка с книгой на лавочке и мохнатая собака у ее ног, — однако на сердце холодок и снова думаешь о жизни с горечью.
Обогнул дом, за ним простиралась тень. Листья на кустах и деревцах покрыты были росой. Пробирался между ними, и капли осыпались с листьев и оставляли на рубашке расплывчатые пятна, как на промокашке. Ухватился за решетку на первом этаже и подтянулся. Окно оказалось распахнуто. Увидел на кухне над столом бумажный абажур на длинном проводе с потолка: круглый белый шар среди серых стен. Подтянулся к другому окну. Еще один белый шар. Хотел было крикнуть, позвать, но услышал тишину такую, что нарушить ее не решился. Опять обогнул дом. Собака залаяла на меня, и девушка оторвалась от книги.
Я перебежал улицу, но те деревья, под которыми шел пятнадцать минут назад, оказались уже совсем другими, и от этого стало жутковато, хотя, может быть, я просто не заметил, как в душе разрастается тоска, я свыкся с ней и часто не замечал ее появления — она надвигалась всегда незаметно, подобно тени от облака, — и сейчас, когда увидел деревья другими, осознал в себе ее. Осознал и, сжав зубы, шагал и ни о чем не думал, по сторонам не озирался, взор обратил внутрь себя и опомнился, когда застрял среди людей.
Увидел красотку, к ней подвели лошадь; самая задрипанная лошадь элегантней любой женщины, а эта наверняка из цирка, — и я подошел поближе, конечно, к лошади; в это время красотка повернулась ко мне и посмотрела вскользь. В ее голубых глазах застыли слезы. Шагает навстречу; шуршит длиннющее платье, белое, в лиловых цветах, и с голой спиной, прошуршало; прошуршала, обеими руками поддерживала платье, чтобы не наступить на край; я заметил даже опавший лист, прилипший к подошве туфельки. Красотка подошла к толстому мужчине с бородой. В бороде у него крошки, жует бутерброд. Дальше кинокамера на тележке. Оператор смотрит в нее, а тележку толкают по рельсам рабочие; один из них без рубашки. Одной рукой толкал, другой сжимал бутылку пива. Под оранжевым стеклом пузырями пена.
— Стой! — скомандовал оператор, вытирая со лба пот.
Рабочий поднял бутылку над головой, выпятил губы и закрыл глаза.
— Сначала поскачешь на камеру, — начал объяснять красотке бородатый режиссер. — Затем надо повернуть…
— В этой сцене разве не будет моего крупного плана? — перебила его актриса.
Молодой человек с узким лицом и бесцветными глазами равнодушно глядел вдаль и держал лошадь под уздцы. Из-под хвоста лошади на дорожку зашлепали пахучие катышки.
— Где метелка?! — закричала полная растрепанная женщина; у нее на груди мотаются на шнурке от ботинка очки в серебряной оправе. На лоснящейся от пота шее черные полосы от шнурка.
Я засмеялся; смеешься от самых простых вещей, и от этого настроение переменилось, поехало куда-то дальше по косогору.
— Здесь нужна лопата, — сказал я ей и — вижу: идет навстречу Фрося, подошла и расплакалась.
— Что случилось? — спрашиваю.
— Как я опозорилась, — хнычет.
— В чем дело?
— Я забыла по телефону сказать, чтобы ты купил кофе, и выбежала к магазину, но ты к магазину не пришел, к этому магазину, за углом, около прачечной.
— Да, — сказал я, — я проехал две остановки и зашел в «24 часа».
— А я не думала, что ты зайдешь в «24 часа».
— Ну и что, что я зашел туда?
— Я, — говорит, — ждала тебя здесь, и не было сил ждать, и так захотела кофе, что попросила в магазине, чтобы мне дали в долг маленькую пачечку…
— И — дали?
— Нет, не дали, — опять расхныкалась. — Как я опозорилась!
— Не плачь, — утешаю. — Мы сейчас вернемся и в этом магазинчике, за углом, купим кофе.
— Да, — говорит, — в этом … чтобы они увидели.
Заворачиваем за угол, тут она передумала:
— Нет, лучше пошли в овощной, его уже должны открыть.
— Нет, — говорю, — именно сюда зайдем, чтобы у тебя не осталось чувства, будто ты опозорилась. Кстати, — интересуюсь, — ты получаешь пенсию, почему у тебя нет денег?
— Я их не взяла с собой, просто не взяла, потому что думала: встречу тебя.
Заходим в этот магазин, за углом.
— Слушай, — обнимает меня, — купи сосисок. Кофе не надо. Расхотелось уже. А сосисок очень хочется!
— И кофе, — обещаю, — куплю… — Тут же обращаюсь к продавщице: — Пожалуйста, сосисок.
— Я хочу развесных, — заявила Фрося. — Какие я брала здесь в прошлый раз.
— Развесных нет, — говорит продавщица. — Только в упаковках.
— Тогда пошли в овощной, — тянет меня, — раз у них нет!
— В овощном, — уточняю, — разве есть мясной отдел?
— Да, — утверждает. — Там есть разные отделы.
Подходим к овощному магазину. Дергаю за дверь — еще закрыто. На двери табличка, смотрю на часы — еще минут десять ожидать.
— Что случилось? — наконец спрашиваю. — Зачем ты мне позвонила в такую рань?
— Да, случилось, — объявляет она и не рассказывает, молчит.
— Пока есть время, рассказывай, — говорю.
— Я расскажу дома.
— Потом не будет времени, — говорю. — А пока…
— Нет, — говорит. — Это очень важно — то, что я хочу сказать, и — у этих вонючих баков с мусором, у этого столба я буду лучше молчать…
— Пока есть несколько минут, — вспомнил, — давай зайдем на почту, мне надо получить телеграмму.
— От кого?
— Откуда я знаю, от кого?
— Пошли, — говорит.
Тут я передумал.
— Ладно, — говорю. — По пути на работу зайду.
— От кого, — спрашивает, — телеграмма?
— Не могу знать, — развожу руками. — Ты сама подумай!
— Я вот и думаю, — говорит.
Купил развесных сосисок, кофе — конечно; еще бананов; пришли к ней домой; я все это достаю из пакета и — достал сливки, которые купил в «24 часа», — она увидела маленький пакет, и настроение ее опять переменилось.
— В который раз прошу не покупать маленький пакет, — протянула с разочарованием. — Слушай, Юра, что делать с котятами?
— Это по этому поводу ты меня разбудила?
— Нет, — вздохнула Фрося. — Я делаю тебе предложение, — объявила невозмутимо. — Если ты скажешь «да» — тут же иду стелить постель.
Сумел унять дрожь пальцев, шагнул к окну, головой задел бумажный абажур, еще шаг, и лбом уперся в железную решетку, а руки протянул к деревцам, под которыми недавно пробирался, но сейчас до листвы не дотянулся.
— Вечно ты головой — в абажур, — сказала с грустью Фрося и пальчиками придержала раскачивающийся белый шар. — Позвоню в церковь.
— Зачем? — я вынул руки из решетки.
Она сосредоточенно набирала номер. Меня внезапно затрясло от озноба; хотя я вида не показывал, что волнуюсь, и, наверно, в этом преуспевал, однако в одну минуту устал до изнеможения.
— Можно кого-нибудь из батюшек? — попросила Фрося. — Еще нет никого? — удивилась. — Извините, а с кем я разговариваю? Сторож? В таком случае, может быть, вы подскажете, что делать с котятами?
Сосредоточенно она слушала, хотя что можно ответить на такой простой вопрос, и невольно я усмехнулся, а Фрося кивнула несколько раз сторожу, поблагодарила и положила трубку.
К этому времени закипел чайник. Фрося достала чашки, но я поспешил объявить, что мне на работу.
— К скольки?
— К девяти.
— Успеешь.
— Я и так опаздываю, а еще на почту заскочить.
— Ну и что, если опоздаешь?
— У меня начальник — женщина, — тогда говорю. — А с женщинами трудно.
— Да, с женщинами тяжело, — согласилась Фрося. — Я предпочитаю иметь дело с мужчинами.
Прохожу в коридор и обуваюсь. Фрося поднесла мне кружку с булочкой и исчезла в спальне. Осторожно глотаю горячий кофе и отщипнул от сладкой булочки — тут же захотелось спать, и я зевнул, когда Фрося поднесла котенка.
— Что это значит? — удивляюсь — и нехотя принял его к себе на руки.
— Это ничего не значит, — язвительно замечает.
Прихожу на почту, в пятом окошечке подают телеграмму, читаю: Вы уволены с работы. Иван Антонович. Изображаю улыбку. Работница почтового отделения тоже улыбнулась и показывает:
— Какая у него хорошая шкурка!
Отцепляю когти от рубашки и протягиваю котенка.
— Возьмите себе на шапку.
— Что вы, что вы? — машет руками.
Выхожу из почты, тут же на ступеньках встречаю девушек: одна в шляпе, у другой — короткая стрижка.
— Предлагаю котенка, — скашиваю глаза, показываю.
— Какая прелесть! — восхищается девушка с короткой стрижкой.
Другая гладит его — изогнутым краем поля шляпы касается моего лица.
— Очень милый, — сказала, — только нам до обеда мотаться по магазинам, потом уезжаем в Воронеж.
Я даже разволновался, не ожидал, что так просто может получиться.
— Поднесу его к поезду, скажите: во сколько и какой вагон.
— Будем очень признательны, — говорит девушка с короткой стрижкой и достает из кармана билет, потом очки: — 195-й поезд, отправляется в 14:40, шестой вагон. Очень милый, — повторяет…
Иду дальше, тень от тучки промелькнула слишком быстро, чересчур мимолетно, вскользь, — настроение вдруг превосходное. Подхожу к своему подъезду, спиной ко мне сидит на лавочке соседка Клава, смотрит вверх. Услышала шаги, обернулась. Даже не поздоровалась. Опять подняла голову:
— Сашка!
Поднимаюсь к себе на второй этаж. И здесь слышно:
— Сашка!
Наливаю в блюдечко молока и тычу в него мордочкой котенка. Уже умеет лакать. Я наконец завалился в постель, однако не могу уснуть, думаю, как бы не проспать 195-й поезд, тогда встал, взял будильник, накручиваю его на полвторого.
— Сашка! — кричит за окном Клава. — Принеси зажигалку, ручку, яблоко и кроссворд! Что?
— Я не могу открыть дверь! — раздается сверху детский голосок.
— На замке такая штучка! — кричит. — Вправо два оборота, — объясняет, — не влево, а вправо!
— Это как? — спрашивает.
— Что же это ты такой?
— Какой?
— Будто из деревни.
Выглядываю в окно — показывает, где право, лево, и — снова:
— Зажигалку, ручку, яблоко и кроссворд!
Опять ложусь в постель и с наслаждением закрываю глаза, не успел закрыть, слышу, как царапается рядом…
— Что я тебе — мама? — спрашиваю и чувствую на одеяле маленький живой комочек, чувствовать его на себе приятно и трогательно, и с этим ощущением начинаю засыпать, тут снова:
— Зажигалку, ручку, яблоко и кроссворд!
Осторожно стаскиваю с себя одеяло с котенком и выглядываю в форточку.
— Клава! — зову.
Она поднимается с лавочки, цокает каблучками по асфальту.
— И кроссворд!..
Подхожу к двери, только отодвинул задвижку — звонит телефон. Поднимаю трубку.
— Юра, доброе утро! — узнаю голос секретарши. — Иван Антонович просил, чтобы ты явился через полчаса.
— Пятнадцать минут назад я получил телеграмму, — отвечаю.
— Ничего не знаю, — положила трубку.
Чувствую что-то за шиворотом. Поворачиваюсь. Клава отдернула руку с травинкой.
— Как ты быстро, — швыряю трубку не глядя и обнимаю Клаву.
— Ух ты, — вздыхает она. — Я не закрыла дверь. — На ее платье сзади на шее пуговичка, я расстегнул, еще какая-то тесемка. Дергаю за тесемку, и узелок на платье развязывается. Клава опять вздыхает и щекочет мне ухо шершавыми губами: — На нас смотрят. — На ее губах горький вкус травинки.
Еще звонок. Подхожу к аппарату. Опять секретарша:
— Иван Антонович просил, чтобы ты по дороге купил курицу.
— Какую?
— Минуточку… — Переспрашивает у Ивана Антоновича: — Какую?
Приоткрывается дверь — несмело и со скрипом. Заглядывает мальчик с ручкой, зажигалкой, яблоком и газетой с кроссвордом.
— Закрой дверь, — шепчет Клава ему.
— Копченую, — уточнила секретарша.
— Хорошо, — отвечаю и — положил трубку, а потом вспомнил, что на курицу не осталось денег.
— Извини, — говорю Клаве, — ты не одолжишь мне двадцать пять рублей?
Она взгрустнула и вышла, шаркает по ступенькам на четвертый этаж, очень медленно поднимается, с голой спиной. Кто-то сверху опускается, слышу шаги. Я не стал дожидаться…
На улице ужасно душно, невыносимо, жутко… По-прежнему ни облачка. Листья на деревьях пахнут пылью. Туфли прилипают к асфальту. Нагибаюсь — поднял, сколько просил. Вдруг, в одну минуту, очень захотелось есть. Посмотрел на часы, толкаю перед собой дверь — вижу красивую официантку в передничке, за ней — зеркало. Чтобы не видеть себя, листаю меню на стойке бара.
— Вы можете сесть за столик, — предлагает официантка.
— Можно я постою с вами?
— Конечно, — улыбается. — А я устала стоять.
Посмотрел на нее, опять увидел в зеркале себя. Листаю дальше меню, показал:
— Суп из свежих овощей.
— Чай, кофе?
— Ничего, — говорю, — один суп и хлеб.
Сажусь за столик. Соль, перец в баночках и зубочистки. За соседним столиком спиной ко мне сидит дама в шляпе — больше никого. Официантка ушла. Другая появилась и тоже ушла. Беру зубочистки и метаю их одну за другой даме в шляпу. Если бы зубочисток было много, у дамы сидел бы ежик на голове. Появляется официантка, несет даме пиво в бокале. Разумеется, увидела. Посмотрела на меня с удивлением — ничего не сказала. Отошла к стойке и оглянулась. Нет, не на меня, а на даму. Дама пьет пиво. Еще вынула сигаретку. Тоненькую. Закурила. Глоток пива — и сладко затягивается. Котенок мяукает у меня на плече. Дама оглядывается. Я улыбаюсь ей, и она улыбается мне. Или котенку? Нет, котенку! Впрочем, я ее понимаю. Смотрю на часы: как долго! Зачем я сюда зашел? Наверняка только поставили варить суп. Нет, несет. Тарелочку с двумя кусочками белого и двумя кусочками черного хлеба. А ты рассчитывал на полбуханки? Я задумался и нахмурил лоб. На деньги, сколько стоит этот суп, можно купить восемь буханок хлеба и жить четыре дня. Жалею денег, поднял руку и у себя на плече глажу шкурку котика. В кафе заходит еще дама и с ней — две девушки. Садятся. Одна сбрасывает с себя пиджак. Какая белая рука! И какая тонкая и гладкая! Официантка, которая устала стоять, несет чай. Я махаю, что мне не чай, а суп. Она невозмутимо подходит, подносит ближе чашку, ставит ее на столик, — и я вижу: ошибся. Все-таки это суп. Я продолжаю кивать, будто благодарю. Беру ложку и смотрю на часы, потом как-то механически на зубочистки в шляпе, окурок в пепельнице, остатки в бокале и так дальше; другая дама поворачивается ко мне:
— Разве можно так хлебать?
— Извините, — говорю, — очень вкусно и очень спешу.
В шляпе — допила пиво и тоже обернулась:
— Если хотите, могу отдать вам остатки мяса.
— Буду очень рад.
Она поднимается, подходит с тарелкой к моему столику. Наклонила голову, смотрит на котенка, еще нагнулась, чтобы поставить тарелку на стол. Я испугался, подумал: сейчас как посыплются. Упала только одна мне в суп. Она даже не заметила. Заметила девушка с голыми руками. Расхохоталась. Я сначала хотел поставить тарелку с остатками мяса на пол, но подумал и — котенка с плеча на салфетку, к ее тарелке. Нюхает. Довольная дама ушла. Я достал зубочистку из супа и облизал. Смотрю на часы. Съел черный хлеб, принялся за белый. В супе кусочки моркови, свеклы; выловил, осталась жирная вода. Прислушиваюсь: странный звук. Урчит. А, он в первый раз ест мясо. Опять смотрю на часы, подхожу к стойке. Появляется официантка. Отдаю ей деньги. Только сейчас обратил внимание:
— У вас рыжие волосы.
Она отвечает:
— Спасибо.
Беру котенка вместе с кусочком мяса в когтях и сажаю на плечо. Урчит рядом с моим ухом. Выхожу на улицу. Сразу не замечаю, что небо заволокло тучами. Все-таки жирная вода с белым хлебом — это смешно в животе, а потом больно. Кусочек мяса упал на тротуар. Я сначала даже не разобрался, отчего хромаю. Иду по мосту. Перила железные и острые. Поскользнешься — голова с плеч. Поднял ногу и подошвой туфли по перилам. Ласточки над водой. Она течет. Иду, а подо мной гулко. Перешел мост — сверкнула молния. Осветила все, что под мостом. Может быть, и под водой. Не знаю, но догадываюсь. Вокруг трех-, четырехэтажные кирпичные домики. Так потемнело, что в окнах зажигается электрический свет. Улица разрыта. Заглядываю с котенком в яму. В ней черные трубы, облитые смолой. Слышу: шь-шь-шь-шь… — вдали. Поднял голову и догадался, что это на тополе у вокзала листва зашелестела… Шь-шь-шь-шь-шь… Здание вокзала будто в тумане, и над ним хлещет в косую линейку. Сразу же сообразил и побежал назад вдоль рва с трубами. Прохожие смотрят как на идиота. Затем повернул к мосту, но все равно не успел. Как сыпануло с неба белым горохом! Те, которые смеялись надо мной, — сами побежали. Юркнул под мост, над головой свист и шорох дождя, топот — будто не люди, а лошади. Еще проехала машина с каким-то электрическим дребезгом, давила колесами градинки — тысячи их, с таким звуком, словно нож с хрустом рвет полотно. По щетине на щеке — наждачная бумага. Вспомнил про котенка. Лижет меня и дрожит. Ветром сносит на нас водяную пыль. Посмотрел на часы, но стрелок не разглядеть. Чтобы выйти к краю — пришлось потолкаться. Чем ближе к дождю, тем столпившиеся под мостом чаще дышат. Гляжу снова на часы — как раз солнце из-за тучи! Рядом мужчина в очках, снял их и протирает галстуком. Затем смахнул слезы.
Я выбираюсь из-под моста, опять иду вдоль рва с черными трубами. Они сделались еще чернее — лежат в белом. Над крышами радуга. Озон пахнет бензином и снегом. Вижу через яму две доски. На противоположной стороне собака. Иду по доскам. Они подо мной качаются. Сначала одна, потом другая. Собака гавкнула. Нет, не на меня. Оглядываюсь — мужик тянет корову за веревку на рогах. Копыта скользят над ямой. Понятно, что собака гавкает не на котика, а на корову, — испугалась и убежала. Навстречу пьяница. После дождя мокрые штаны с него упали, а он не может их поднять, потому что ведет в руках велосипед.
Поворачиваю за угол — на привокзальной площади столпотворение, играет оркестр. Вижу дальше трибуну, вчера сбитую из позавчера распиленных желтеньких досок. Появляется представительный мужчина при галстуке. Оркестр смолкает, раздаются аплодисменты; еще слышу, как у меня булькает в животе. Представительный мужчина достал бумажку, шуршит, что многократно усилено микрофоном. Аплодисменты заглохли, раздался зычный голос, его подхватило эхо. Вижу аккуратно подстриженные газоны, яркие вывески, росу после дождя, лужи на асфальте, и еще раз увидел лошадь, которую утром снимали в кино. Опять кучи на асфальте ! Протискиваюсь среди плащей. На меня оглядываются с изумлением. Я сухой, а они мокрые. Им наверняка пришлось в грозу слушать выступление докладчика. Как интересно! И я жалею о том, что пропустил. Я завидую им, а они завидуют мне.
Подхожу к вокзалу.
— Туда нельзя, — показывает милиционер и — другому милиционеру: — …с коровой по газону — корова тут ни при чем, но я как дал ему по рогам.
— Мне, — говорю, — к поезду на 14:40.
— Движение поездов остановлено, — докладывает другой.
— А к буфету можно?
— Можно, — сказал, глядя в сторону.
Посмотрел и я — пчела в соломенных волосах. Их обладательница оглянулась не на меня, а на милиционера, потом на котенка. Выхожу на перрон — много народу шляется — с цветами, пивом, целуются; мальчишки прыгают, собака с колокольчиком.
Подхожу к телефону-автомату. Набираю номер и очень долго ожидаю.
— Это ты? — наконец поднимает трубку Фрося.
— Да, я, — говорю. — А ты — как?
— Спала.
— Я тебя разбудил?
— Нет.
— Ну, извини.
— Когда ты придешь? — спрашивает, и слышу: зевает.
— У меня проблемы на работе, — говорю. — Вечером освобожусь.
— А где ты сейчас?
— На вокзале.
— Что ты делаешь?
— Начальник попросил купить курицу.
— У тебя же женщина начальник, — вспомнила Фрося.
— Это начальник начальницы, — выкрутился я.
Подходит милиционер и хлопает меня по плечу:
— Нельзя звонить по телефону.
— Почему? — спрашиваю с недоумением.
— Что? — спрашивает Фрося.
— Потому, — говорит милиционер и нажал на рычажок.
Не знаю, что делать. Всегда так, когда спешишь, а потом неизвестно чем заняться. Собираю камешки. Под ногами их много. Подхожу к рельсам. Выбираю гайку на рельсе и бросаю в нее камешки. Ни разу не попал. Опять собираю. Опять ни разу не попал. Люди на меня оглядываются. Камешки отскакивают от рельса в разные стороны. Оглядываюсь по сторонам. Речь закончилась. Под аплодисменты снова захотел есть. Подхожу к бу-фету.
— Булочку.
Продавщица подает бутылку водки.
— Я просил, — говорю, — булочку.
— Ах, — засмеялась, — а я услышала: водочки. Такие, как ты, подходят и только водочки просят, еще ты так одет…
— Как я одет? — интересуюсь.
— Нормально, — говорит, — как все.
Жую и собираю камешки. В левой руке булочка, а правой собираю. Наконец один раз попал. Подходит в который раз милиционер.
— Что вы делаете?
— Бросаю камешки, — бубню с набитым ртом. — А что — нельзя?
— Нельзя.
— Почему?
Не ответил. Жую булочку и смотрю на часы. Опять заиграл оркестр. Толпа расступается: проходят представительные дяди. Я забываю жевать. Они смотрят прямо перед собой, но ничего не видят. Как раз на самого важного — сверху! Охранник подскочил и улыбается с почтением. Начальник достал из кармана носовой платок и пытается глянуть через плечо, но шея у него короткая и толстая. Другие из его сопровождения остановились и задрали головы. С высоченного тополя над ними взлетели вороны, целая стая, и по площади промелькнула, как сетка, тень. Начальник сделал указание; пошли дальше. Им открывают дверки автомобилей. Шикарных черных автомобилей с зеркалами вместо стекол. С зеркалами для меня, для нас. Один за другим автомобили разъезжаются.
Спешу наконец на вокзал. И на вокзале — буфет. Увидел курицу и вспомнил про Ивана Антоновича. По громкоговорителю объявляют, что 195-й поезд отправится через пять минут с третьего пути от второй платформы. Бегу в подземный переход. Через две ступеньки вниз, а потом — вверх. По перрону на второй платформе идет офицер. За ним бибикает машина. Отхожу в сторону. На колесах железная будка с окошечком. На окошке решетка. За ней лицо с раскосыми глазами. Смотрит на меня. И я смотрю на него. Машина проезжает мимо. За ней два солдата с автоматами. Останавливаюсь у шестого вагона. Девчонки увидели меня первые. С короткой стрижкой — отодрала когти котенка от моей рубашки, а с шляпой — протягивает двадцать пять рублей.
Возвращаюсь на вокзал и покупаю курицу; подходит молодая обаятельная женщина.
— Извините, у меня не очень хорошее зрение, — сокрушается. — Во сколько прибывает утренний поезд из Жухович; вторая строчка сверху в расписании — не вижу отчетливо: не то в 6:45, не то в 8:45?
— У тебя глаза цвета асфальта, — вырвалось.
— Ладно, — говорит.
— Ты обиделась? — Я испугался.
Но она не обиделась, а наоборот — оценила, сочла за комплимент, хотя на лице это не отразилось — я заметил только, как края ее губ приятно изогнулись:
— Ладно!
— Кого встречаешь?
— Ребенка.
— Один едет? — и, не дожидаясь ответа, я нашел вторую строчку сверху в расписании: — Тебе придется встать завтра очень рано, — говорю. — Поезд прибывает в 6:45.
— Спасибо, — поблагодарила. — Да, один едет, — добавила, — бабушка, то есть моя мама, посадит сегодня вечером Павлика на поезд, а я его здесь встречу утром.
— Да, это очень важно, — говорю, — если встречаешь одного ребенка — не опоздать.
Над головой: фрр-рр-р-р… — стремительно, потом дверь стукнула, забыл придержать. Испугался и не сразу сообразил, что это птичка выпорхнула из подъезда, и я глубоко вздохнул, когда нажал на кнопку звонка.
— Проходи, — сказала Фрося, открывая, — а я немножко полежу, досплю; оттого что резко вскочила — голова кружится.
И она легла обратно в постель, накрывшись одеялом, и веки ее сомкнулись. Я присел рядом. На столе лежала газета, я развернул ее, но читать не смог. Вскоре Фрося открыла глаза; если бы она не открыла, я бы тихонечко поднялся и ушел, и все сложилось, может быть, иначе, но вижу: она просыпается, и я решил ее не подгонять. Рядом с газетой лежала ручка, я взял ее и начал обводить заголовки статей, просто черкать что-то, рисовать на фотографиях женщинам усы. Тут зазвонил телефон. Фрося нехотя поднялась и прошла в другую комнату, подняла трубку, ничего не спрашивала, а отвечала немногословно:
— Да, нет, да, нет, нет, да…
Потом направилась в ванную — слышу, как умывается; наконец вернулась в комнату — я бросил газету и поднялся:
— Извини, у меня нет сегодня времени.
Она как-то странно молчала, при этом на лице — никакого выражения. Я посмотрел на часы и еще присел, решил еще побыть с ней, совсем немножко, а она достала из тумбочки помаду, коробочку с тенями, осторожно — кисточкой по ресницам, затем будто вспомнила обо мне, подошла, взяла карандаш из моей руки и на полях газеты стала писать, написала: 17 июля умерла моя мама. Положила карандаш на газету и назад — к зеркалу, взяла помаду и провела ею по губам и все же вздрогнула, когда опять по межгороду затрезвонил телефон.
Продолжаю рисовать женщинам усы и слышу снова:
— Да, нет, да, нет, нет, да…
На этот раз Фрося сразу же после разговора объявила:
— Она забыла сказать, что ее мама умерла 16 июля.
— Кто — она?
— ОНА.
— Твоя родственница?
— Нет, — покачала головой. — Чужой человек.
— А почему? — удивляюсь, — родные не сообщили тебе, ведь прошло уже два с половиной месяца, и если бы не чужой человек …
— Она еще сказала, что папа хочет приехать ко мне.
— Иди позвони ему, — говорю, — сейчас же.
— Там нет телефона, — разводит руками.
— Дай телеграмму, — говорю. — Напиши письмо хотя бы.
— Может, ты напишешь?
— Хорошо, я напишу, — соглашаюсь. — Только не сейчас.
— И ты такой же, как остальные, — говорит.
— Меня ждут, — оправдываюсь.
— Кто? — с насмешкой интересуется.
— Она болела? — расспрашиваю про Фросину маму. — Как она умерла?
— Нет, она совсем не болела. Она подошла к окну, посмотрела в него, упала и умерла. Что это ты рисуешь? — показывает. — Нарисовал?..
— Где?
— На газете.
— Это? — сам себе удивляюсь. — Вот труба, а это дым из трубы.
— На полгазеты, — говорит.
— Ну и что?
— Рисуешь, как маленький ребенок, — усмехается. — Дым колечками.
Решительно поднимаюсь и объявляю, что мне надо идти.
— И я с тобой, — говорит. — Я уже готова. Почти готова. Только еще на щеках румянец положить.
— Куда со мной?
— Куда угодно, — говорит. — Мне безразлично.
— А мне не безразлично.
— Я тебя не узнаю, — протянула.
— Скоро я вернусь, — обещаю. — Подожди.
— Я тебя ждала всю жизнь, — заявляет. — И я уже не могу больше ждать.
— Меня ожидает женщина, — говорю. — Если ты хочешь знать…
— Не хочу, — говорит. И добавила: — Я не верю, что тебя может ожидать женщина.
— Почему? — удивляюсь.
Она не отвечает.
— Я прошу тебя, — говорю. — Послушай меня. В моем отношении к тебе ничего не изменилось и не может перемениться, однако ты можешь помешать моему счастью, — объясняю. — Давай не будем ругаться. Останься, — говорю. — А я потом ей расскажу о тебе. Это же длинная история. И так сразу нельзя. Послушай меня хоть на этот раз.
Надела белый плащ и на ноги белые туфельки.
— Как? — спрашивает. — Идет?
— Ладно, — говорю. — Пошли. Только скорее.
Закрыла квартиру. Выходим из подъезда. Но ее нет. Я туда, сюда — нигде нет. Не знаю, что подумать.
Фрося показывает:
— Смотри, какое небо.
А я смотрю в землю.
— Подыми голову, — говорит.
— Отстань, — прошу.
— Нет, посмотри, — настаивает.
Посмотрел.
— Ну и что? — спрашиваю.
— Ты не переживай, — продолжает. — Небритый, — погладила по щеке. — Ни одна женщина. Ни одна…
— Нет, — говорю.
— Поверь мне, — говорит. — Только я.
Иду, с каждым шагом быстрее. Она за мной побежала, стучит каблучками. Я повернулся.
— Может, все-таки ты осталась бы дома, — говорю.
— Какой ты жестокосердный, — говорит. — Теперь, когда я получила известие, со мной так обращаешься…
Иду очень быстро и уже не слышу каблучков за собой. На остановке обошел всех ожидающих и каждому — даже мужчинам — посмотрел в лицо. Не могу стоять, тогда отправился пешком. Прошел две остановки, и — когда шагал у другой — догоняет автобус, из него выходит Фрося.
— Ну что? — спрашивает.
Я пожал плечами.
— Ты думаешь, она у тебя дома, — говорит. — Чего ей там делать?
Подхожу к подъезду.
— Я подожду тебя здесь, — говорит.
Поднимаюсь по ступенькам. Навстречу сосед с третьего этажа.
— Нашей соседке с четвертого, — докладывает, — муж поставил «бланш».
— Что это такое? — спрашиваю.
— Показать?
— Не надо, — говорю. — Вроде он не пил вчера.
— Она пила, — ухмыляется.
С замиранием поднимаюсь на лестничную площадку. Впрочем, ключа у нее нет. Зачем ей стоять под дверью? Может, оставила записку? Никакой записки. Зачем я пришел сюда, не знаю. Что делать? Ну не поворачивать же сразу назад. Вынул из кармана ключ, открыл дверь и вошел в квартиру. Постель так и осталась не прибрана, на трельяже она забыла заколку для волос, потом я обнаружил на полу бланк телеграммы. Я поднял ее, на ней отпечатан узкий след туфельки.
Вернулись, когда стемнело.
— Душно, — сказала Фрося, — не хватает воздуха, — и одно за другим распахнула все окна в квартире.
— Что ты делаешь? — изумляюсь. — Сейчас налетят комары, хотя бы следует выключить электричество.
— Пускай летят, — говорит. — А то умру — в этой квартире не хватает воздуха.
Нажал на выключатель; тут же она включила:
— На том свете будет темно, а пока на этом…
— Делай что хочешь, — говорю.
Звонят в квартиру.
— Открой, — просит. — Я переодеваюсь.
Открываю.
— Я — как мог — вытер, — шамкает беззубым ртом старик. — Снял с себя рубашку и вытер. Но все равно течет. А если я крепко засну? — приподымает большие мохнатые брови. Весь сам маленький, по пояс мне, и — детские ножки в выцветших дырявых штанах «трико», еще маленькие небесной голубизны глаза, как у ребенка, а вот брови разрослись на пол-лица. — Я плохо слышу, поэтому не буду закрывать на ночь дверь; если потечет — вы сможете подняться и разбудить меня, а я не спать не могу. Я тоже, — говорит, — человек. И так, — говорит, — сколько раз приходилось вскакивать посреди ночи. Спишь, как на иголочках!
— Что такое? — спрашивает Фрося, когда я закрыл дверь.
— Сосед сверху.
— Понятно, — усмехается она, стучит окном и задергивает штору. — Действительно, — говорит, — налетели.
Я поднимаю голову: комары вьются перед глазами, как в лесу. Фрося выкатывает пылесос. Включила, ловит длинной трубой комара на потолке.
— А что, если их сюда засасывает, а оттуда они вылетают, — показываю на дыру в пылесосе — из нее по ногам горячий воздух.
— Я заткнула.
— Чем?
Посмотрела, говорит:
— Затычка выпала, найди ее и заткни.
— Твоя затычка, ты и ищи, — говорю. — Откуда я знаю, какая она?
— Тряпочка; нет, — говорит, — просто скомканная газета, поищи на полу.
Смотрю, как она на цыпочках опять тянется к потолку, забрал у нее пылесос.
— Иди приготовь ужин.
Алюминиевой трубой к бумажному абажуру — белый светящийся этот шар летит надо мной, ко мне, выше, комары вспархивают с него, и я успеваю отвести шланг, а то абажур присосало бы к жерлу и свистящим потоком воздуха разорвало бумагу, и так на шару дыры: одна, две, три, четыре, — из которых лампочка бьет по глазам. Шар раскачивается, еще долго будет раскачиваться, а я придумал занятие: считаю пойманных комаров. Сквозь рев пылесоса доносится со двора чей-то голос — как труба, а Фросю не услышал, пока она в ухо не закричала. Выключил пылесос, и опять за окнами — труба, но слов не разобрать.
— Я подогрела тебе суп, — повторяет Фрося.
— Супа на ночь не хочу.
— Ты же сам попросил, — посмотрела на меня с удивлением, и тут же еще спросила, чуть ли не по слогам: — Ты мне ска-зал: вы-клю-чить хо-ло-диль-ник.
— Нет, — говорю. — Ты опять слы-шишь го-ло-са? — спрашиваю… тоже по слогам.
— Да.
Иду на кухню; действительно, отключила холодильник — вилка с проводом на полу; потянул за провод, вилку — в розетку, — холодильник дернулся и снова загудел.
— Ладно, — говорю, — если подогрела, поем, — беру тарелку, ложку.
Ем и глотаю из окна трубу, надо мной звенят комары, взял газету, где я нарисовал раньше другую трубу и дым, машу над собой левой рукой, в тарелке рябь — как на озере, собираю ложкой и ем ее.
— Что это он кричит там? — спрашиваю. — Кто это?
— А ты не слышишь? — криво она усмехается. — И о чем другие разговаривают между собой.
— Другие меня не интересуют, — говорю. — А у этого…
— Они все говорят, — утверждает, — одно и то же, и этот…
— Им нет до тебя никакого дела, — схватил ее за руку и кричу: — Это тебе только кажется так! Им всем — и на тебя, и на меня — с высокой колокольни!..
— Неправда, — плачет, руками закрыла лицо, и слезы текут между пальцев. — Неправда!
— Правда! — утверждаю. — Вот сейчас — какие-то — прошли; я разобрал только: куда ты в лужу? — Это, наверно, ребенку, женщина, слышишь, а вот и ребенка голос: не хочу. А сейчас шаги навстречу. Слышишь? Смеются еще…
Она посмотрела на меня с удивлением, с непомерным, всевозрастающим удивлением, и на глазах ее заблестели слезы.
— Они смеются, — проговорила изумленно, — над тем, что умерла моя мама. Да?
— Нет, — мотаю головой. — Они просто смеются. Они ничего не знают, не могут знать.
— А мне кажется: они все знают.
— Нет! — кричу. — Это тебе кажется.
Опять шаги и голоса…
— Ты не думай, — стараюсь быть спокойным, — о чем кто говорит, лучше поешь, — попросил Фросю. — Ешь, пока горячее, а я пойду, — хлопаю себя по лбу и тут же по щеке, — включу пылесос…
Досчитал до семисот сорока трех — и услышал, как она рыдает на кухне. Выключил пылесос и тихонько подошел к Фросе, погладил по голове, и от этого прикосновения, которое, казалось, должно немножко утешить ее, она разрыдалась сильнее. Вижу — тарелка супа нетронутая на столе, а в руке у бедняжки дрожит ложка. Я обнял Фросю, и ложка у нее выпала из руки.
— Как мне теперь жить? — всхлипывая, она запричитала: — Я целый год, каждый день, собиралась написать маме письмо — и не успела. Аяяяя-я-й, моя хорошая! Прости меня, пожалуйста, мамочка!
Я опустился перед Фросей на колени и поднял ложку, горячие ее слезы капали мне на руку, — а я хочу уйти, уехать домой, но опять за окнами голос, что труба, и мне страшно становится выйти в ночь.
Помыл ложку, вытер полотенцем и подаю обратно.
— Может, еще раз подогреть суп?
— Да, — кивает, — подогрей.
Зажег газ, тут она успокоилась и говорит:
— Не надо. Я буду холодный.
— Ладно, — выключил газ, — я устал, — я действительно устал, — останусь у тебя, — обращаюсь к Фросе, — постели мне.
— Будто ты не знаешь, где постель, — замечает она. — Не притворяйся.
Я прохожу в большую комнату, затем возвращаюсь:
— На диване мне ложиться или на софе?
— Где хочешь, — говорит с ложкой холодного супа в руке.
Открываю шкаф и достаю простыню. Стелю ее с краю софы — у стены лежат в стопках книги. Нашел одеяло и подушку. Разделся, потушил свет в этой комнате и лег, и еще зажал пальцами уши, чтобы не слышать, как за окном труба и ветер… Только стал засыпать, Фрося включила электричество и стала переносить книги с софы на стол. Я глаз не открываю, а она все перекладывает и перекладывает. Сначала я подумал, что Фрося убирает книги ради моего удобства, потом догадался: она их перекладывает, чтобы лечь со мною рядом.
Когда Фрося потушила свет и легла со мной, я обнял ее, как раньше.
— Ой! — вскрикнула она. — Не обнимай меня так сильно, — попросила. — Мне очень больно. Они били меня по ребрам.
И я стал проводить руками, не касаясь ее тела.
— Вот так? — спрашиваю.
— Да, — отвечает, — вот так мне очень хорошо…
И в этот момент за окном полилась вода — кто-то сверху вылил ее, как-то странно вылил; вода — будто камешки застучали по железной решетке и по листьям на кустах. Я догадался, что это старик со второго этажа снял с себя рубашку и вытер лужу в ванной комнате, где нет ванны и течет кран, а под ним стоит дырявое ведро; но так как выкрутить рубашку не над чем, то он открыл окно и в окне выкрутил ее — поэтому вода и полилась странно. Мне стало почти смешно, и опять голос — как труба, и почему до сих пор, до глубокой ночи, играют во дворе, смеются и кричат маленькие дети, и лупят без конца по резиновому мячу, и время от времени кто-то из них постарше — со всей силы — в кирпичную стену.
Не помню, как уснул; просыпаюсь от бряцанья ключей, поднимаю голову — в коридоре Фрося открывает дверь.
— Куда ты?
— Мне послышалось: ты позвал меня, — заявляет, и у нее такой вид, будто она хотела что-то украсть и я застукал ее.
— Я здесь, — говорю. — Закрой дверь и ложись спать.
Закрыла дверь, безучастно прошла по коридору в комнату, и опять голос — как труба, — перелезла через меня к стене, и в одежде забралась под одеяло, и тут же уснула. А я не мог заснуть — начало светать, я тихонько встал и оделся.
Отдернул на кухне штору; сейчас, когда забрезжил свет нового дня, думаешь о жизни не так, как вчера. На столе увидел тарелку холодного супа. Взял ложку и стал хлебать и смотрел в окно. Вижу — по дорожке идет с палочкой старичок и держит перед собой букетик астр. В утренней тишине откуда-то сверху, из дома напротив, раздается голос женщины.
— Иди домой, пьяный дурак, — кричит она, — сколько можно людям спать не давать?!
— Иду! Иду!
А, это у него голос трубы! Как неожиданно! И опять думаешь о жизни иначе, каждую минуту по-другому. Но этот букетик в руках у старичка заставил мое сердце вздрогнуть. Заглядываю в комнату к Фросе: она сидит на софе, локти на коленках и крепко ладонями сжала уши. Я посмотрел на часы, и Фрося оглянулась:
— Тебе надо уходить? Да?
Бросаю камешки в столб на перроне. Когда рядом проходят, пересчитываю камешки в руке. Так пересчитывал, и вдруг осенило: камешки — из ладони — в карман проплывающей мимо расфуфыренной тети. Оглянулся — никто не заметил; наконец показался поезд. Опять собираю камешки; тепловоз гудит — трясется земля; подымаю голову — первый вагон, за ним сразу двенадцатый, тринадцатый, потом пятый, шестой, седьмой, бегу за седьмым, потому что мне надо восьмой, а поезд еще идет, быстро, — бегу и бросаю камешки: в столб, в мусорное ведро, столб, мусорное ведро, пустое, камешек по жести, слышно звонче, чем перестукивают колеса; вслед за седьмым вагоном пятнадцатый, я останавливаюсь, шестнадцатый, двадцать третий, двадцать четвертый; поезд останавливается на двадцать пятом вагоне передо мной, я бегу дальше; сразу же за двадцать пятым — восьмой.
Проводница открывает дверь, и стала тряпкой протирать металлический поручень, и — отдернула руку, раздался такой звук: дзыньк! — и камешек отскочил от поручня.
— Ты что, с ума сошел?! — кричит мне.
Шлю ей воздушный поцелуй кулаком, потом увидел мальчика, и кулак у меня разжался — посыпались на асфальт камешки: все вместе они прозвучали, будто стеклянные, — от неожиданности я улыбнулся и вздрогнул.
— Павлик! — кричу, и в эту минуту кто-то из сумасшедших, которые — одни — спешили в голову поезда, другие — в хвост, — здорово толкнул его, и он — весь внимание — едва не упал, на глазах слезы; мальчик повернулся к тому, кто его толкнул, но тут с другой стороны — зацепили еще чемоданом, и растерянность на его лице выразилась прекрасно в мечущейся по перрону толпе.
— Павлик? — подбегаю.
— А где мама? — сразу же он спросил.
— Ах да, — не знаю, что ответить.
— Вы — дядя Жора?
— Нет, — отвечаю, вымучив улыбку, и — улыбнувшись, сумел показать на лице прежнюю беспечность и уверенность.
— А где мама? — еще раз спрашивает Павлик.
Через минуту перрон опустел. Даже те обезумевшие, что шныряли по перрону, пытаясь разобраться в нумерации вагонов, наконец заняли свои места и выглядывали из окон. Из двадцать пятого вагона после восьмого полилось на землю. Один из милиционеров, вышедших на перрон, заорал проводнице:
— Почему не закрыла туалет?!
— Сломалась ручка в двери!
— А то, — вопит, — здесь санитарная зона!
— Кто-то не выдержал, — оправдывается проводница. — Санитарная зона сорок пять километров и стоянка десять минут.
Подбегает большая мохнатая собака и лает на проводницу. Та замахала:
— Иди дальше, туда…
— А то напишем бумагу! — не унимается милиционер.
— Извините, спасибо, — благодарит его проводница.
Собака продолжает гавкать.
— Она просит, чтобы ее впустили в вагон, — подсказываю проводнице. — Тоже хочет ехать.
— Дальше, дальше, — показывает собаке проводница. — Неужели ты не понимаешь?
Раздался свисток тепловоза. Милиционеры направились к вокзалу. Собака наконец сообразила и побежала дальше. Из вагона-ресторана ей выбросили кости. Тут же объявились другие собаки. Павлик забыл про маму и смотрел, как они грызут кости.
Рассказ второй: Дорога к желтому дому
Когда я была почти готова, раздался звонок в дверь; теперь ничего не страшно — открыла, не заглядывая в глазок. Соседка попросила яйцо и соли. Смотрю на нее с недоумением.
— Яйцо и соли, — повторила.
— Зачем яйцо и соли?
— Яйцо и соли. Я делаю салат. Все приготовила: рыбу, картошку сварила, лука, моркови — и забыла, спохватилась, яйцо купить и соль забыла.
— У меня нет, — говорю. — И никогда не было.
— Не может этого быть. Соли, — говорит, — неохота в магазин идти.
— Посмотри, — говорю, — сама в холодильнике.
— Хто это соль в холодильнике держит?
— Я.
— Зачем?
— Какая разница, — сказала, а хочется просто расплакаться, не понимаю, чего она от меня хочет. — Я, — говорю, — есть не хочу, — раскрыла холодильник. Даже бананы. И сахар. В морозильнике хлеб и печенье.
— Зачем у тебя, Фрося, в морозильнике картошка? — спрашивает.
— Он сказал, — говорю. — А вот — на… — протягиваю ей кофе, — насовсем. Я уже никогда больше не захочу кофе. Вместо соли, — говорю. Тут увидела соль.
— Вот, — говорит, — видишь.
— Не вижу, — говорю.
— Вот.
— Если видишь, бери.
— А яиц у тебя нет? — опять спрашивает.
— Тебе лучше знать.
— Слушай, — говорит, — что это у тебя за запах?
— Из холодильника?
Понюхала, закрыла холодильник.
— Нет, запах не холодный, а летний.
— Какой?
— Как летом, когда тепло и хорошо. А почему ты в черном???
— Потому что запах, — говорю.
Она сама прошла в комнату, без приглашения. В одной руке соль, в другой кофе.
— Отсюда идет. Какой приятный!
— Да, — говорю, — приятный, действительно.
— Это от цветов, — говорит.
— Нет, не от цветов. От цветов зимний запах. Да и у меня нет цветов — разве не видишь пустые вазы?
— А еще от чего может быть? — удивилась, уходя.
— Действительно, — согласилась с ней, — от чего может быть еще … — и поспешила вслед, а дверь оставила открытой, чтобы благоухание благоухало для всех.
Оборачиваются. У женщин на головах не платки, а мужские сапоги с навозом на подошвах — и запах. Еще они посмотрели на меня, я испугалась; не знаю, от кого убегаю, куда бегу. Прибежала ночью. Во мраке зажегся огонек, потом пропал, опять зажегся, исчез, появились два огонька, потухли, опять загорелись… А, это фары и дорога горками! Проехал мимо лысый мужик на машине. Я его не знаю, но мне сказали, что это Иван Антонович. Нет, задний ход, вернулся. Я сажусь к нему в машину, въезжаем внутрь церкви. Через окна сияет солнце — в его лучах воздух, как пшенная каша; молящиеся крестятся; каша над ними шипит и брызгает, словно на огне. Выходит священник с золотым крестом, тут из-под колеса курица — перья разлетаются фейерверком; еще вижу, как от креста золотые зайчики мечутся по стенам. Появляется очень толстая и высокая баба, прикладывается к иконам на стене — все лампады по очереди у нее на меховой шапке; звенят, позвякивают медные кольца на цепях, но масло не вылилось никому на головы, и… вот — за стеной сигналят без умолку, с остервенением подхватили собаки. Выбегаю из церкви — неизвестно откуда взялся Иванов и схватил меня за руку, другой — держит какого-то мальчика… Не обращая внимания на сливающиеся воедино тревожные гудки автомобилей, шатаясь, перебирался через дорогу пьяный; при этом он держал руки в карманах и курил на ходу сигарету. Иванов закричал, позвал его:
— Эдик! Эдик!..
И я не расспрашивал ее ни о чем, и губами видел в темноте, как Фрося закрыла глаза и улыбается, проводил руками по ней — над нею, не касаясь ее. И только раз она проговорилась:
— Они хотели меня изнасиловать, но я молилась, и у них ничего не получалось, и, может, поэтому было очень страшно, еще страшнее…
А я молчал, только обнимал ее, по-прежнему обнимал, и уже руки над ней, в воздухе, сделались тяжелые, будто чугунные; вдруг Фрося спросила:
— Умерла ли моя мама?
Я молчал, но почувствовал, как Фрося открыла глаза, и тогда сказал:
— Да!
И она замолчала, надолго замолчала, и лежала с открытыми глазами, не мигая, и уже мои руки перестали быть крылатыми, они опустились на нее, и Фрося сказала:
— Какие они тяжелые, раньше не замечала.
И — вот — полилось со второго этажа, словно камешки застучали по решетке, как несколько дней назад, и я осознал, остро почувствовал бездну времени, будто прошли годы, и от этого ощущения стало жутко, и сейчас я понял Фросю после того, как ее били по ребрам…
— Ты не хочешь со мной, — решила она, — потому что думаешь, что меня изнасиловали. Нет, — прошептала, — у них ничего не получалось, не получилось — поэтому и били по ребрам.
А я сказал:
— Ничего я не думаю, это не может иметь, не имеет никакого значения: так или этак.
— Для мужчины имеет, — заявила она. — Для вас все имеет значение. И ты еще, может, боишься заразиться чем-нибудь. Ведь правда, да?
— Да, — тогда сказал я, чтобы отвязалась.
Фрося еще прошептала в ухо:
— Ты не хочешь со мной, потому что я… — и не закончила: сумасшедшая ; но я понял и сказал:
— Да, — а потом: — Нет!
Она вздохнула:
— Конечно, я постарела и со мной совсем не интересно, но как мне жить тогда, если я хочу, если я могу быть только с тобой, и пускай у тебя будут девушки, сколько угодно, но я хочу быть с тобой, и ты встречайся с ними, а я буду рядом…
Приснилось: я — женщина. Я в театре на сцене. Вернее, не совсем на сцене, а за кулисами, но все равно на сцене. В декорациях деревня, ветхие домишки, столбы, заборы, поросшие мхом, — и ни души. Наконец появляется почему-то японец, и я от него удаляюсь, прохожу по какому-то коридору, за мной шаги, вижу дальше по сторонам кусты, за ними начался лес. На ветках — колокольчики; их так много, будто листьев, ветер подует — они стрекочут, как кузнечики — до безумной головной боли. В лесу — кладбище, и я иду между крестов с желтой подушечкой в руке. Оглянулся, оглянулась : где японец? И, оглянувшись, я сразу — в своей деревне, дома, — лихорадочно собираю вещи, спешу на электричку и понимаю: сюда не вернусь. В окна всякая дрянь лезет, рожи; среди рухляди, тряпья нахожу гипсовую маску женского лица — такие делают после смерти, и — узнаю себя. Она падает у меня из рук и разбивается на четыре части. Одну четвертинку аккуратно укладываю в чемодан, в этот момент заходят две девочки в белом. Они запели, и я открыл глаза, нажал на кнопку будильника, и все сразу смолкло. Позвал Фросю — она не отзывалась; пройдя по квартире, я задумался, что означает желтая подушечка.
Куда говорил он, туда и поворачивала. Но говорил: то — туда, повозка, то — обратно, повозки с зерном, то — вперед, стога сена, то — назад, соломы, то — вправо, солома с колючей проволокой. Зачем столько ржавчины в городе? То — влево ! Навоз, и я выбилась из сил, зачем в городе навоз? А еще рогатые автомобили… В фургонах коровы, гудят мне. За решетками их морды, и все они едут так быстро — и им диктует, а я думала: он только мне, но его голос мучительней, чем их все голоса, взятые вместе. Какая я дура! Мука рассеивается по ветру. Он же всем! Мешок упал с машины, но как он может всем успеть? И с телеги. А у меня вперед : в глаза пыль, и в зубах скрежет. И у него мука в воздухе. Потому что я кручу педалями — вперед, как кровь в воде развеивается, а вот этот автобус назад… Арбузы и черепа. И трамвай ! В одном, ах да, он же не может развернуться, фургоне, в этом месте, а где кости? Правила дорожного движения, направо ? Как хорошо, что я еду из города! Прямо ? Только он так безнадежно кричит, налево, а потом направо. Чем дальше, тем он дальше, и я не успеваю. Поворот кругом. За его голосом. Еще раз. Потому что он летит в том самолете. Кружится голова. Улетел — а я не знаю. Очень кружится. Куда дальше? Голубой забор.
Прямо. Голубой. Прямо. Голубой. Прямо.
— А как велосипед? — спрашиваю.
Забор. Бросила велосипед, только взяла сумочку с молитвенником и перелезла через ГОЛУБОЙ забор на кладбище. Зачем-то. Я умираю. Зачем голубой? Страшно и прекрасно. Я сейчас. Ветка по лицу. Умираю.
— Где?
— Здесь, где? Здесссь.
— Где?
Бегу. Ветки по лицу. Бегу. Остановилась, сняла туфельки и носки и побежала босиком, а потом пожалела, что босиком . Туфельки в руках, а молитвенник под мышкой. Все ближе и ближе, но только подбегу — дальше… И опять ближе. А сердце мое под ногами. Бегу, а оно подо мной бьется, трепещет. То холодное, ледяное, то раскаленное, как сковорода, и железная, железное. Хватаюсь за сердце и за кресты, за камни. Они на солнце нагрелись и пахнут бензином. Почему бензином и почему под ногами СЕРДЦЕ? И почему оно такое большое?
— Здесь.
Бросила туфельки.
— Скорее.
— Сейчас.
— Скорее.
— Только сниму кофточку.
— Она белая?
— Нет, черная.
— Почему?
— Не задавай глупых вопросов.
— Скорее. Если не успеешь …
Я слышу, что рядом с его сердцем мое. Вернее, рядом с моим его. И я копаю свое сердце, чтобы из-под него — его голос из-под всего: я умер. Копаю, руки по локоть, а его уже нет, потому что умер, и умер в моем сердце. ТУТ ПРОЛЕТЕЛ НАДО МНОЙ АНГЕЛ С ЖЕЛТОЙ ПОДУШКОЙ. Почему желтой ? Очень страшно, что желтой, и еще страшнее, что с подушкой. По кладбищу. Так страшно, что бросилась убегать, выбежала за ворота и увидела дорогу, и уже не было так страшно, и вспомнила, что оставила у чьей-то, интересно — чьей, могилы молитвенник и кофточку, но туфелька одна была на ноге, а где другая? Еще вспомнила про велосипед, но возвращаться на кладбище за молитвенником было страшно, и — за кофточкой, искать туфельку. Пошла вдоль голубого забора. Голубокого . ГЛУБОКОГО забора. Долго падала, брела полдня или полтора дня, тут поджидает меня милиционер и — поцеловал в щечку, а потом ничего не помню. Опять вернулась к воротам — только с другой стороны, — но велосипеда не нашла.
— Так, — говорит баба. — Вон там, — показывает, — на рынке. — Кто тебе на кладбище даст штаны? Разве у них что-нибудь найдется, — и подтолкнула.
Разгружают мешки с картошкой. Молчу. Эти стараются не смотреть на меня, но один посмотрел и закричал, как все кричали, и я пошла дальше; захотела выйти отсюда, только чем дальше иду — тем больше народу. Тогда закрыла глаза и стала молиться, а меня беспрерывно толкали, и ни один из них не вздумал извиниться, но кто-то взял за руку, и я открыла глаза — подают мне штаны. И на том месте, в самой сутолоке, где молилась, стала надевать их, надела, потом провела руками — обнаружила, что сзади они порваны, — почувствовала себя в этих штанах еще хуже, чем без штанов, и разрыдалась, кто-то сунул в руку кусок белого хлеба, тогда я быстрей в сторонку, идя задом вперед, почему-то так, чтобы не видели дырки — те, кто сзади, или спереди, и присела на землю у деревца около забора. Сидела и жевала, а после того, как съела этот очень вкусный хлеб, рука так и осталась — ладонью к небу, вдруг листик с дерева упал мне в ладонь. Я улыбнулась, тут подул ветер — листочек улетел, и я еще раз улыбнулась. Удивилась, а потом просто так сидела, зажав пальцами уши, и смотрела туда, очень далеко…
Вдруг будто он позвал за забором, и, перекрестившись, подхватилась, сумела перелезть и спрыгнула на другую сторону. Там у забора росли лопухи — я вырвала один, просунула внутрь штанов, закрыла дырку и оглянулась. По шумной улице проносились автомобили. Дул порывами ветер, кружились листья, в небе кувыркались птицы и неслись клочьями облака, а я брела по улице и без конца оглядывалась. Если прохожие оказывались сзади, ожидала, пока пройдут.
Дорога пахнет бензином. И машины пахнут бензином. А чем пахну я? Смотрю на руки. Черные они. Понюхала черные. Чем? Не знаю. Чем? Но это кто-то другой. Кто? Я поняла: смертью. Земля пахнет мертвыми, а из нее потом все рождается.
— Когда?
— Потом.
— Когда потом?
— Не знаю.
— Чего ты хочешь?
— Помыть руки.
— Ну так иди и помой.
— Можно?
— Да.
— Я не верю.
Вот остановка трамвая. Конечная остановка за городом у кладбища и у рынка.
— Жди здесь.
Как здесь красиво! Какие яркие цветы, но они тоже пахнут бензином. Ему — как и всем. Украла цветок и села в трамвай с ним. Оглянулась, на меня смотрят с удивлением. Я слышу все, что про меня говорят, хотя трамвай стоял долго, наконец поехал, и я еду долго, но все слышу, что они про меня говорят. Они говорят: сука, сука, сука !..
— Да, я сука, — сказала этому.
Он сразу отвернулся.
— Отвернулся от суки, — говорю.
Отвернулись от меня все в трамвае. Только те, которые заходят, поглядывают. Им тоже говорю:
— Я сука.
Мне так надоело плакать, и сейчас я понимаю, что лучше смеяться. Посмеялась немного, совсем немного, и осознала: неправда, лучше плакать, чем смеяться; лучше рыдать… И теперь хохочу. На меня опять смотрят. Оборачиваются и смотрят. Исподтишка, долго-долго. И я проехала с хохотом в трамвае. Кто-то мне говорит:
— Смотри не проедь свою остановку.
Я говорю:
— Спасибо, — и вижу у этого человека в кармане нож. — Можно мне руку в ваш карман?
— А что вам нужно? — спрашивает.
— Ничего.
— Ну, так в чем дело? — говорит.
— Я ничего не сделаю вашему карману.
Он достал из кармана билетик, деньги, ключи, сигареты и спички. И одну бумажку мне подает. А нож скрыл.
— Деньги мне не надо, — говорю, — конечно, надо, но не надо. — Можно? — еще раз спрашиваю.
— У вас просто рука грязная, — говорит.
Тут я опомнилась:
— Моя остановка, извините.
Пропускает меня, однако кто-то схватил за локоть. Оборачиваюсь — это Иванов! Трамвай задребезжал дальше, когда захохотали хором. Потом трамвай сделал кольцо, и мы поехали обратно с другими людьми; я посмотрела на Юру — у него на глазах слезы.
— А куда, Фрося, дальше?
— Не помню, — говорит. — Поменялся маршрут, — она разводит руками. — Ладно, Юра, пойдем за тем мужчиной.
— Вы не подскажете, — догоняю его. — Поменялся маршрут трамвая…
— Я, — говорит, — езжу только на машине. Понятия не имею. Иду в гараж.
— А что там дальше? — показываю. — За гаражами.
— Ничего, — говорит. — Один лес.
— Лес нам и надо, — обрадовалась Фрося и хлопает в ладоши.
Идем за мужчиной к гаражам. Перед ним раскрываются железные ворота — он проходит в них, а мы поворачиваем вдоль забора. Дорога сужается в тропинку. Чавкает грязь под ногами, я стараюсь забирать вбок, где бурьян; колючки цепляются за меня, а Фрося — в рваных тапочках и с каждым шагом раздумывает, как ступить.
Навстречу бежит по тропинке собака.
— Осторожно, — показываю. — Наверняка бродячая.
— Не бойся, — говорит. — Она сама боится.
Идем вперед, а собака остановилась — вероятно, она бежала и ничего не думала — теперь задумалась; мы прошли мимо, немного спустя я оглянулся — собака свернула с тропинки и понеслась куда-то скачками: то пропадая в бурьяне, то выпрыгивая из него.
Наконец выбрались к мосту, и Фрося узнала дорогу.
— Да, раньше конечная остановка была вон там, — показывает, — за деревьями, и я выходила сразу к мосту.
— Я узнаю, — сказал, и стало грустно от узнавания.
По откосу взобрались на мост, и мост — горбатый, скоро оказались высоко, почти в небе, увидели далеко, и Фрося показала на голубой забор на кладбище.
Затем вошли в лес. Пригревало солнце, и в его лучах листья на березах отливали золотом. Дорога продолжала оставаться пустынной. Фрося прижалась ко мне — мы пошли рядом, под руку; сзади послышался треск мотоцикла, она тут же отстранилась от меня, но я ухватил ее пальчики и повел рядом, словно ребенка. По самому краю асфальта, усыпанному листвой, промчались мальчишки на мотоцикле — при этом тот, который сидел сзади, отставил в сторону ногу и шаркал ею по асфальту, а листья шуршали, разлетаясь по всей дороге.
Вот за деревьями дома, обыкновенные дома, но Фрося догадалась:
— Я не пойду.
— Ты мне веришь? — спросил я ее, сжимая за руку.
— Теперь и тебе не верю.
Молчу. Тропинка между кустов, вдоль обшарпанной стены; на душе голо и пусто. Подул ветер. Ветки качаются, и от них тени прыгают под ногами. Незаметно стена превращается в здание; на окнах решетки. Из железной двери выходят женщины с мужскими никакими лицами — с глазами навыкате, стеклянными глазами, не мигают. Дверь хлопает, каждый раз из нее сизый табачный дым.
Презирая меня, Фрося отвернулась.
— Невыносимо болит сердце, — прошептала. — Не бойся, — через плечо сказала мне. — Я умею его держать в руках. Сейчас пройдет. Пусти меня! — И, не успело оно пройти, только я отпустил ее, — бросилась назад. Я догнал ее и потащил обратно, она переставляла за мной свои ноги, как деревянные. Они не гнулись — скользили, будто на шарнирах по льду.
Наконец Фрося взмолилась:
— Пусти!
Я не отпустил, но остановился, чтобы перевести дыхание, и она заявила:
— У меня болит вместо сердца рука, — и показала там, где я держал ее, и сердце мое сжалось… — Впрочем, — добавила Фрося, — в любом деле надо искать свои выгоды. Мне кажется: затем я и здесь, чтобы исправить кое-какие записи в личном деле…
Я вынул ей из пакета банан, она жевала и плакала, а я маялся с нею рядом, считал оставшиеся листья на дереве у крыльца, но их было еще так много, что несколько раз сбивался со счету, приходилось начинать сначала, когда они опадали на глазах — часто охапками.
После того как отвел Фросю в больницу, ноги при каждом шаге стали подниматься выше, они сделались неожиданно легкими, и — руки, и — голова. Меня выталкивала кверху какая-то сила — будто я деревянный и погружен в воду; и ноги еще куда ни шло, а руки висели по сторонам, как у пугала. Ветерок распоряжался мной, будто соломинкой, и я готов был засмеяться. Не мог придумать, как жить дальше, только подмигивал всем подряд женщинам. Проходил мимо хлебного ларька — вспомнил, что за целый день во рту ни крошки. Полез в карман за деньгами, не успел достать — продавщица сообщает:
— Весь хлеб кончился, извините.
Если бы я не глянул на нее — шагнул бы дальше, а так поинтересовался:
— Зачем вы тогда не закрываете?
— Купи конфет, — предлагает.
— А как тебя звать? — спрашиваю.
— Если купите, скажу…
Она взвесила самых лучших — такая приятная, с ямочками на щеках блондиночка — и стала бросать конфеты в сумку, что пошила когда-то мама. Материя порвалась, желтые мелкие цветки вылиняли на голубом.
— Маша, — говорит.
И я сказал:
— Что же ты, Маша, в мешочек конфеты не упаковала, а по одной бросаешь? У меня дырки в сумке — еще потеряю… — и я улыбнулся девушке, и она мне тоже улыбнулась, вся растаяла, — как просто все оказывается, только надо ждать случая.
Рассказ третий: Одному в пустыне
— Подожди меня, Павлик, — сказал.
Сажусь на чемодан и смотрю, как дядя с каждым шагом исчезает в темноте.
— Нет! Мне скучно, — кричу, — я пойду с тобой!
— Ладно, — соглашается, — если никому не расскажешь…
— Странный ты какой, дядя Эдик, — удивляюсь.
Пробираюсь за ним в бурьяне. Дядя внимательно посмотрел на меня:
— Зря, — говорит. — Выпачкаешься.
— Пусть, — говорю.
— Ладно.
За кустами достает из пиджака бутылку. Я отвернулся. Слышу, как булькает у него в горле. Знаю: она горькая, но понимаю его, иногда я понимаю. Поворачиваюсь, когда он грызет корочку.
Я говорю:
— В чемодане есть курица.
— А, — машет рукой.
Я говорю ему:
— Напьешься.
— А, — машет.
— А мне, — напоминаю, — опять к бабушке.
— Много ты, Павлик, рассуждаешь, — говорит.
Переходим на другую сторону железной дороги. Впереди прожектора, и, может, поэтому — здесь, где мы переступаем через рельсы, темнота сгущается, а дальше, за прожекторами, — совсем густо, черно.
— Смотри под ноги, — напоминает дядя.
А сам все больше — по сторонам, и я — хотя не двигаю головой, — но глаза у меня, как у зайца. За заборами стена. В окнах электрический свет и ходят люди. Что-то говорят между собой — не слышно. Идем от одного окна к другому. Я здороваюсь с теми, кто в окнах. И вот тени — от нас, с каждым шагом вырисовываются ярче. Еще прожектор. Я зажмуриваюсь от яркого света в глаза, вдруг он меркнет и вырастает синева шатром над головой.
— Ты хоть знаешь свою фамилию? — интересуется дядя Эдик.
— Да, — отвечаю, потом: — Нет!
— Тебя не поймешь, как и их всех, — говорит.
— Да, — тогда говорю.
— Надо еще выпить, — останавливается.
— Тебе нельзя пить, — говорю. — Ты уже шатаешься.
— Это от вчерашнего, — объясняет, — расшатало.
— Ты совсем медленно идешь, — говорю. — Мы не успеем на поезд.
— Иди быстрей, — подталкивает, — и занимай очередь.
Я побежал. Уже светло, и я теперь не боюсь. У вокзала оглянулся. Дядя Эдик стоит у забора. Нет, все-таки идет! Как он шатается! Только почему без моего чемодана? А вон еще кто-то рядом, с чемоданом. Лучше ничего не думать и не оглядываться!
На вокзале полно народу. Подхожу к кассе. Очередь быстро продвигается. Без конца хлопают дверями, и я каждый раз оглядываюсь. Вынул деньги и считаю. Женщина сзади заглядывает, наклонилась:
— Мальчик, ты тоже за билетом?
— Да.
— У такого маленького — такие деньги? — изумляется.
— Я большой, — говорю, но она отвлекла меня; я сбился со счета и готов был расплакаться — тут увидел незнакомого мужчину с моим чемоданом.
— Не в эту кассу стоишь, — сказал незнакомец.
— Почему?
— Здесь на электричку.
В другой кассе ни одного человека. Наконец и дядя Эдик приплелся. И сразу — к другой.
— Детский — на 7:35. — Машет мне: — Давай деньги.
— Один детский? — переспросила продавщица.
— Один, — повторил дядя Эдик. — А что?
— Ничего, — сказала, потом объявила: — 49-й на 7:35 отменили.
— Отменили? — не поверил. — А следующий?
Вышли из вокзала на другую сторону. На перроне уже светло. Ожидающие электрички выстроились на самом краю платформы. Их лица — серые; я заглядывал в них, в каждое из них, — по очереди люди поворачивались ко мне и тут же устремляли глаза дальше. Над горизонтом появился алый полукруг солнца, а когда оно выкатилось, — глаза у людей заблестели ярче. Я глубоко вздохнул — так вздохнул, что незнакомец с чемоданом остановился и обождал меня. И дядя Эдик внимательно глянул мутными слезящимися глазами.
Мы еще немного прошли, и я увидел на земле спиленный тополь. Я попытался представить необыкновенную пилу, которой спилили огромное дерево, но не мог представить. Внутри ствола зияла пустота, как ночь. Обрубленные ветки свалены были в кучу и успели завянуть. Ранним утром пронзительно запахло терпким запахом умирающего дерева, и мне стало жалко его, себя жалко и еще маму.
— Давно его надо было спилить, — пробурчал дядя Эдик.
— Да, — поддакнул незнакомец, — пассажиры жаловались…
— А кому дерево мешало? — поинтересовался я.
— На нем было много вороньих гнезд, — начал объяснять незнакомец, оглядываясь.
С той стороны, где солнце, показался электропоезд. Стремительно он приближался; наконец затормозил и остановился — двери в вагонах раскрылись, и перрон за одну минуту опустел.
— Ну и что? — не понимаю.
— Короче, — сказал дядя Эдик, — вороны летали и какали на пассажиров, и мне, — вспомнил, — однажды насрали на шляпу.
— Когда это ты носил шляпу? — удивился незнакомец.
— Носил, — подтвердил дядя Эдик, достал из кармана бутылку и передал незнакомцу. — Шел в туалет, как и сейчас.
Подошли к домику с распахнутой настежь дверью, над которой буква «М».
— Лучше было бы, — сказал я, — чтобы они какали, — и я ощутил, чего не хватает этим утром, а если привык к чему-то — уже внимания не обращаешь и, когда это перестает быть, а все на свете когда-нибудь перестает быть, — сразу этого не замечаешь, только чувствуешь грусть и пустоту внутри себя. Потому что внутри — то, что снаружи.
Так я думал, а незнакомец пил из бутылки. Двери в электричке закрылись, и она засвистела, набирая скорость. Я наблюдал, как мелькают окна, и видел в них пассажиров, которые завидовали, конечно, этому с бутылкой.
Когда дядя Эдик вышел из туалета, на ходу застегивая ширинку, рельсы еще гудели.
— Эх, присосался, — сказал он незнакомцу, наступая с хрустом на обрубленные ветки. — Оставь немного.
Незнакомец передал ему бутылку и засмеялся. Как быстро он опьянел, подумал я, а дядя Эдик поднес бутылку к глазам и через стекло посмотрел на солнце, потом губами обнял горлышко, задрал голову и одним глотком прикончил.
— Чего смеешься? — спросил он у незнакомца и насадил пустую бутылку горлышком на обрубок сука.
Вдруг незнакомец будто опомнился — лицо у него осунулось и почернело при поднимающемся все выше солнце, и тени от предметов на земле отбрасывались короче и чернее, или синее, — и, не попрощавшись с нами, он пошел дальше.
— На самом деле, — говорю, — не надо унывать.
— Ты так думаешь? — ухмыляется дядя Эдик.
Прогулялись по пустому перрону, вошли в одну дверь вокзала, а в другую вышли, перебрались через рельсы и оказались на той самой дорожке, по которой шагали час назад. Теперь при ярких солнечных лучах все переменилось, и у людей, что встречались на пути, были не чайники на плечах, а лица: у каждого — свое, и с каждым я здоровался. Один из них, без глаза, остановился и протянул руку. Я тоже протянул свою. Потом одноглазый поздоровался с дядей Эдиком.
— Это твой сын? — показал глазом на меня.
Дядя Эдик нагнулся и обломал высохшую на корню стеблинку, засунул в рот и, откусывая от нее, по кусочку выплевывал.
— Да.
Одноглазый выпялился на меня, и я осторожно посмотрел ему в глаз, потом в сторону — на прохожего.
— Зачем это мы, — сказал одноглазый, — загородили дорогу, — и свернул прямо в бурьян, оглянулся: — Чего стоите, веселее, — и я вслед за ним шагнул, но тут загрохотал поезд, и дядя Эдик закричал:
— Дура! Ай-я-яй, что за дура!
Глядя, как мелькают вагоны, я вертел головой и думал, почему дядя кричит поезду: дура!
— Веселее! — звал из кустов одноглазый, но дядя Эдик орал всякие нехорошие слова, и когда поезд прогрохотал дальше, повернулся ко мне:
— Это наш поезд, — объяснил. — Кассирша — дура!
Поезд у вокзала остановился. И я смотрел на поезд, на котором должен был уехать, а я — тут, издали наблюдаю, недоумеваю, но не грущу, только не понимаю многих чувств, которые появились сейчас во мне.
— Можно я пройду к забору? — спросил у дяди, почувствовав, что хочу побыть наедине с собой.
— Иди, — разрешил он, глядя, как мой поезд тронулся с места и стал удаляться, и тогда сам шагнул к одноглазому.
Тот вопил:
— Веселее! — доставая из саквояжа бутылку.
Я начал подниматься по откосу, мимо куч с мусором, и — чем выше поднимался — становилось радостнее жить, и, когда я ухватился за забор и оглянулся с высоты, — подумал о маме — и чуть не заплакал, не знаю почему. Рядом, у забора, стояли старые липы и клены — они устремились в небо и шелестели над головой. За железной дорогой шумели другие деревья; дальше находилось озеро, на нем поднялись волны такого яркого цвета, что я навсегда запомнил это утро — синее не бывает. Еще подумал, что мог уехать на поезде, который недавно ушел, — а я околачиваюсь на горе под старыми липами и кленами у забора, внизу дядя с одноглазым пьют вино; и — подумал еще, что, если бы уехал, — этого всего не было; и я подумал: хорошо, что так получилось — получилась непонятно почему радость, почувствовал себя так, будто умер — и ожил. Я осознал: когда люди умирают — они вовсе не умирают, просто уезжают опять к бабушке, а я по какому-то недоразумению, может, действительно, кассирша — дура, как кричал дядя вслед поезду, и только по этой причине, я живу там, где должен был умереть. Я обрадовался и тихонько засмеялся. Испугался, что засмеялся, и уже сожалел об этом, не хотел смеяться, но дядя Эдик услышал внизу и позвал меня. Я не хотел откликаться; он еще раз крикнул мне, потом я увидел, как дядя Эдик ударил одноглазого и тот схватился рукой за лицо. Дядя стал подниматься к забору. Издали я услышал тяжелое его дыхание, он еще что-то бормотал, и, когда поднялся по откосу, я разобрал:
— Ай-я-яй! Какая дура!..
Вдруг дядя почувствовал мое присутствие и поднял голову. Я не знал, что сказать ему, и тогда улыбнулся, когда на лице его одно было выражено отчаяние. И я сказал ему:
— Ты забыл чемодан.
— Ах да, — опомнился дядя Эдик и с прежним выражением на лице начал спускаться вниз — и никак не мог отдышаться.
А я ждал, пока он спустится к железной дороге и поднимется обратно с чемоданом. Дядя наконец поднялся и сумел улыбнуться:
— Дай, пожалуйста, еще пятьдесят рублей.
Несмотря на жалкую ухмылку, в нем проскользнуло то, что увидел я в самом чистом виде, без улыбочки, когда он поднимался после того, как ударил одноглазого и кричал самому себе: дура! Я достал из кармана деньги, но мелочью пятьдесят рублей не набралось, протянул ему сто рублей.
Мы прошли вдоль забора, через дырку оказались в саду, и я набил карманы яблоками, а за яблонями стоял ржавый комбайн. Дядя Эдик зашел за него, расстегивая ширинку. Пока он писал, я съел несколько яблок. Потом он первый, а я за ним направились по стежке к железным воротам, которые никогда не закрывались.
Сразу за воротами — шоссе; напротив — магазин. На ступеньках — ведро с черной водой и тряпкой; рядом уборщица разговаривала с мужчиной в рваной телогрейке. Мы поднялись на крыльцо. Дядя Эдик пропустил меня вперед — в магазине пахло только что вымытым цементным полом; мне расхотелось идти по нему, и я повернул обратно.
На крыльце ни ведра, ни уборщицы уже не оказалось, и я один ел яблоки. Потом заметил мужчину в рваной телогрейке. Околачивается у железных ворот напротив и смотрит на меня. А когда я посмотрел на него — отвернулся. Едва дядя Эдик вышел из магазина, этот мужчина подскочил к нему. Дядя Эдик поставил чемодан и вынул из кармана сдачу… Когда мы немного отошли от магазина подальше, дядя, оправдываясь, признался:
— Я ему должен…
— У нас еще много денег, — говорю. — Ты не беспокойся.
— Я не беспокоюсь, — пробормотал он.
— Что это за круги? — спрашиваю.
Он посмотрел на чемодан.
— Эти? — показал. — На него ставили бутылку. — Рукой — по кругам, но они засохли, плюнул на них, еще потер, только размазал. — Ладно, потом вытру, — руку — о штаны. — Так ты говоришь: мама не встретила.
— Да, — говорю, — то есть не совсем так.
— Понятно, — говорит. — Но ты хоть знаешь адрес дяди Жоры?
— Нет, — отвечаю. — Бабушка посылала маме телеграмму до востребования.
— Да-а-а-а, — протянул.
— А чего ты берешь в голову? — интересуюсь.
— Я как раз не беру, — отвечает. — Я просто хочу разобраться.
— Так чего лезешь ко мне в душу, — говорю. — Разве ты не знаешь, что я опять еду к бабушке?
— Ах, какое прекрасное место! — воскликнул дядя Эдик. — Разве можно пройти мимо? — свернул к реке, и я за ним. На другой стороне — многоэтажные дома, трубы и набережная. — С этой стороны нас не видно за кустами, — объясняет. — А с той — если милиция и заметит — только через мост, а это слишком большой крюк, — и дядя достал бутылку из чемодана и помахал ею другой стороне, засмеялся — иногда и я так смеюсь, потом спохватился: — Я тебе конфету купил, — протягивает.
Разворачиваю ее, но после кислых яблок от конфеты заныли зубы. Правда, быстро перестали, потому что здорово находиться рядом с дядей, когда он в таких прекрасных местах пьет водку.
Я говорю ему:
— Закусывай.
Он машет:
— Ладно, — но все же открывает чемодан и отламывает хлеба.
— Не ладно, — говорю, — после водки надо хорошо закусить.
Дядя Эдик еще выпил из горла, а я не смотрю, чтобы он не поперхнулся, смотрю на реку — и ничего лучшего нет, чем наблюдать, как течет вода в погожий день; когда оглянулся — жует.
— Вот так, — говорю, — а то попробуй потащи тебя.
Он усмехается и с набитым ртом спрашивает:
— А ты?
— Не хочу.
— Это же твоя курица.
— Она такая же моя, как и твоя, — говорю.
— Нет, — кусает. — Ее купили для тебя, а я съем.
— Пока не хочу есть, — говорю, — а захочу — купим. Деньги есть, — проверил в кармане, — ешь. — А я после конфеты мясо не хочу, — повторяю.
Дядя Эдик спустился к воде, моет жирные руки, еще жует:
— Когда я не хочу думать, что будет потом, я пью водку.
— Это твое дело, — говорю. — Я же тебе не запрещаю!
— Да ты и не можешь мне запретить, — возвращается; остатки еды положил в чемодан и закрыл его.
— Никто не может никому запретить, — объявляю. — И мне — ехать туда и обратно!
— Да, — говорит. — Ты это понимаешь, а они этого никак не могут понять.
— Они просто думают о себе, — говорю. — Они слишком много думают о себе, даже когда думают обо мне, и ты — тоже; все вы — все равно думаете о себе. Куда ты? — удивляюсь.
Дядя Эдик с чемоданом спускается к воде, плещет ею на засохшие круги от бутылки, трет пальцами, и вода скатывается с кожи крупными каплями на камни у берега. Потом поднимается и смотрит на часы, а вымытый бок чемодана блестит на солнце, как стеклянный.
Переходим по мосту через реку. У перил нагнулся рыбак с удочкой. Дядя Эдик останавливается.
— Дай мне половить, — попросил.
— Пошли. — Я тяну его.
— Нет, Павлик, я хочу угостить тебя рыбой, — говорит заплетающимся языком. — Дай удочку, — продолжает.
— Пошли, — я говорю и сам иду — надеюсь, что дядя Эдик пойдет за мной, — иду по мосту один, но шагов сзади не слышу и, когда перешел на другую сторону речки, оглянулся: дядя все еще разговаривает с рыбаком — о чем, конечно, не разобрать; тогда я заорал: — Скорее! — и себе: — Как ты мне такой надоел!
А он выхватил у рыбака удочку, переломал ее на колене и швырнул в воду. Я отвернулся, чтобы не видеть, как его сейчас сбросят с моста, и заплакал. Сквозь слезы вижу: идет навстречу мама под ручку с каким-то дядей, но я почувствовал, что и этот дядя — не тот, за которого она собирается замуж. Тут я услышал сзади шаги дяди Эдика и перестал плакать, а мама выдернула свою руку и что-то сказала этому человеку — он повернулся и стал переходить через дорогу на другую сторону. Мама подбежала ко мне.
— Почему ты не уехал к бабушке? — удивилась. И тут же: — Ладно! — И другим голосом спросила у подошедшего дяди Эдика: — Что случилось, почему Павлик плачет?
Дядя не стал отвечать — засмеялся, обнял ее и стал целовать, а я отвернулся к мосту, но рыбака не увидел и решил, что тот спрыгнул за удочкой.
— Почему… плачет!.. — опять повторила мама, уклоняясь от поцелуев, но все же не отталкивая дядю Эдика, и получалось, будто она подставляла под его губы то одну, то другую щеку. — Довольно, — сказала она хмурясь, заметив, что я смотрю неотрывно на нее. — Хватит! — и повела плечом так, что дядя чуть не упал.
Тем не менее дядя Эдик был очень доволен собой и не заметил, как она его оттолкнула.
— Старик, — обратился он ко мне в самом что ни есть наилучшем настроении. — Давай эту бабу сводим в кабак. Тут рядом есть один… — продолжал дядя Эдик, подмигивая мне. — На втором этаже, если найдутся места, очень хорошо будет, — сказал. — А в такое время места должны быть…
Через несколько минут мы сидели втроем за одним из столиков на плоской крыше какого-то сарая, может быть, даже гаража, скорее всего — бывшей столовой или пивной, но теперь это заведение называлось рестораном, внизу играла музыка; конечно, тут произведен был ремонт, но все равно чувствовалось, что здесь было раньше, и пахло собаками.
Дядя Эдик взял в руки меню, полистал его и передал мне.
— Тебе интересно будет в нем разобраться, — сказал, не сводя глаз с моей мамы.
Дядя хотел что-то ей сказать, но, видимо, не находил слов и молчал, только смотрел на нее восторженно, и она не вынесла его взгляда, пауза слишком затянулась, официант не подходил, и мама сказала вроде бы обычные слова: хорошая погода, но, действительно, погода — хорошая, и лучше слов не найти, когда требуется что-то сказать.
Я держал в руках меню, отпечатанное на глянцевой толстой бумаге, и, когда переворачивал страницу — на солнце она сверкала, так что больно было глазам.
Мама заметила, что можно пересесть за другой столик под зонт, но дядя решил:
— Не будем д-д-д-дергаться, — начал заикаться, но справился с собой и продолжил, глядя на маму, а потом в небо: — Да, сегодня день… — едва выговорил: — Великолепный! — Но все же выговорил и еще раз повторил без запинки.
Тут подошла официантка, я передал дяде меню, но он не стал в него смотреть, а спросил у мамы:
— Будешь вино или водку?
— Вино.
— Какое? — начала выяснять официантка.
— У вас есть бужоле? — спросила мама.
— Нет.
— А бордо?
— Извините.
— Зина! — посмотрел на маму с укоризной дядя и тут же — официантке: — Принесите ей стакан — чего есть, что-нибудь подешевле, мне сто пятьдесят грамм водки, а ему, — показал на меня, — тоже чего-нибудь…
Официантка повернулась ко мне:
— Что будете пить?
Первый раз в жизни ко мне так обратились — на «вы», именно в этот день, действительно, день был не из обыкновенных, это чувствовалось во всем, даже в этом, и я ответил:
— Водку.
Официантка будто не услышала.
— Чай, кофе, сок, минеральную воду? — перечисляет.
— В таком случае — ничего, — отвечаю.
Официантка пометила у себя в блокноте и еще спросила:
— Какие закуски?
— Павел, — сказал дядя, — ты выбрал? — и опять швырнул глянцевую бумагу.
Все смотрели на меня; долго не думая, я ткнул пальцем и прочитал.
— Что? — удивилась официантка, а мама засмеялась.
Я повторил. Мама засмеялась громче, и люди, которые только что поднялись на крышу, мужчина и женщина, не зная причины, тоже нехотя улыбнулись; лишь дядя Эдик нахмурил брови, а я готов был расплакаться.
— Виноград с селедкой? — переспросила официантка.
— Что? — удивился я и наконец понял. — Нет, — прошептал, — не виноград, а винегрет.
— Что еще?
Я молчал. С меня было достаточно. Дядя Эдик сказал хрипло:
— А на закуску, — наморщил лоб, — на двоих нас, — показал на маму, — на двоих плавленый сырок.
Официантка не удивилась и спросила:
— Какой? У нас несколько видов.
— Самый дешевый, — сказал.
— Все? — спросила официантка и, не дожидаясь ответа, перешла к другому столику.
— Что еще скажешь, Эдик? — спросила его мама.
— Что? — не понял он ее.
— Ладно, — сказала она.
— Зина, — сказал дядя и сразу одним ее именем выразил очень много, после чего не нужно вспоминать прошлое.
Я опять подумал, как хорошо сейчас, но так долго нельзя думать, и улыбка на лице у мамы растаяла — ее лицо вытянулось, и она вздохнула, повернувшись ко мне.
— Не молчи, пожалуйста, — попросила. — Скажи хоть что-нибудь…
Я, конечно, смутился — особенно от ее «хоть что-нибудь», и не знал, куда девать руки.
— Опять еду к бабушке, — начал я и не знал, как продолжить, взял тогда со стола соломенную тарелку, предназначенную для хлеба, но хлеба в ней не оказалось, и я надел тарелку на голову вместо шляпы.
В это время пришла другая официантка с подносом, я смутился еще сильнее, почувствовал, что покраснел, горю, и снял с головы тарелку, опустил ее опять на стол и стряхнул крошки с волос на скатерть.
Официантка подала винегрет с селедкой, дяде Эдику — стакан с водкой, маме — бокал вина и еще плавленый сырок, затем положила в соломенную тарелку несколько кусочков хлеба.
Дядя взял стакан и, откинув голову назад, так что волосы взметнулись, выплеснул содержимое себе в глотку, а когда официантка спустилась на первый этаж, открыл чемодан, где хранилась недопитая бутылка, налил еще и вытащил курицу.
Тут появилась другая официантка, подошла к зонту, под которым целовались мужчина и женщина, и начала с подноса выставлять на стол тарелки, рюмки, стаканы, — наконец подошла к нам и заявила, что нельзя приходить со своими продуктами.
Дядя Эдик ел курицу и с полным ртом пробубнил официантке:
— Хорошо.
Она возмутилась:
— Не хорошо, а я позову директора!
— Отлично, — повторил дядя и опрокинул еще рюмку, затем выбросил кости в сторону не глядя.
Я прислушался и поднялся. Подошел к краю крыши, взялся за перила одной рукой и с куриной ножкой в другой склонился и вниз головой продолжал ее грызть, потом швырнул вниз… Вернулся: у столика стоит мужчина с табличкой на пиджаке, говорит что-то задумчиво маме, и я вижу: дядя Эдик заснул сидя: голова откинута и рот раскрыт.
— Это вы ему скажите, — показывает на дядю мама. — Я здесь ни при чем. И мальчик — ни при чем, — повернулась ко мне. — Что там? — спрашивает.
— Собаки, — говорю.
Мужчина подошел к дяде Эдику и потряс его за плечо:
— Товарищ.
Из горла дяди стал доноситься легкий, едва уловимый свист.
— Товарищ! — обратился мужчина погромче, но дядя Эдик даже не пошевелился.
Мама прошептала мне в ухо:
— Поплачь, пожалуйста.
И я заплакал. Тогда мужчина ушел, а она, когда я еще ревел, специально, чтобы я перестал, спросила:
— Ты любишь собак?
— Да, — не открывая глаз, пробормотал дядя Эдик; солнце сияло ему прямо в лицо, и сквозь ресницы блестели слезы.
Я вскочил и зацепился ногой за ножку стула.
— Куда ты? — испугалась мама.
Стул упал, а я сбежал по ступенькам со второго этажа вниз, к выходу, выскочил на улицу и повернул сразу в переулок. Навстречу какая-то задрипанная корова среди роскошных особняков. На боках у нее кора и — на хвосте. Прошла, даже глаз не скосила. Почему — одна и куда — одна? Зачем? Ну и жара здесь. Вытер пот со лба и дальше бегом. Ни одного человека, только дворцы, а вот — последний.
— Куда ты? Назад! Иди назад! — кричит мама вдогонку.
Оглянулся. Мама отстала. А, испугалась коровы. За последним особняком ни одного дерева дальше. Ни одного камня. Ни ручья, ни лужи. Ничего.
Бежит за мной — не она, а тот мужчина, с которым она шагала на мосту под ручку, и я понял, что ошибся: это и есть дядя Жора. И он не понимает, как хочется побыть ОДНОМУ В ПУСТЫНЕ, как важно остаться одному пусть на минутку. Я скатился с холма и лежу, смотрю в небо. Небо блекло-голубое, и на нем белое солнце, а земля желтая и от солнца раскалена; боюсь, что одежда моя сгорит.
Встал и повернул назад. Дядя Жора на холме у последнего дома. Увидел меня, остановился. Поднимаюсь к нему. Что-то надо сказать. Говорю:
— Почему она одна и куда пошла?
— Мама? — спрашивает.
— Корова, — говорю.
Эпилог: Бессонница
Выпал снег, но совсем немножко — на тротуарах его растоптали, остались одни следы от сапог и ботинок, след на следе, и так несколько раз — и от снега ничего; только там, где не ходят и не ездят, он сверкает на солнце.
— Сегодня приснились, — начала Фрося, — мордовороты. На скамеечке, — показывает, — вот здесь. — Подходим к ларьку. — Очень хочу куриную ножку, а в этом ларьке продают копченых кур. Даже деньги есть, — открывает кошелек.
— Ты успела получить пенсию? — спрашиваю.
— А как же, — говорит, — я тебя сегодня угощаю, а то у тебя, Юра, никогда нет денег. Одну курицу, пожалуйста, — достает из кошелька деньги.
— Через полчаса будет готова, — говорят из ларька. — Будете ожидать?
— Через полчаса… — с разочарованием протянула. — Не будем, холодно ведь, а что еще у вас есть?
— Пицца с грибами, пицца с сыром, пицца с ветчиной… На витрине смотрите.
— Гамбургер — это вкусно?
— Очень вкусно, попробуйте, можно одну порцию на двоих.
— Да, пожалуйста, одну, — говорит. — Попробуем, только разрежьте пополам.
— Обязательно. — Продавщица берет нож.
— Мордовороты приснились… — продолжает Фрося. — А с неба опускают лестницу…
— Кто опускает? — спрашиваю.
— Одиннадцать рублей, — говорит продавщица.
Фрося подала сто, ей обратно продавщица протягивает восемьдесят девять — по рублю; Фрося пересчитала сдачу и спрятала кошелек в сумочку. Из окошечка на картоночках подают две половинки порции. Не люблю, когда все перемешано, а она любит.
Попробовала.
— Вкусно, Юра, — говорит.
И я откусил. Когда есть хочу, все вкусно.
— Продолжай, — прошу Фросю.
— …Лестницу, — повторяет она, — а на скамейке с краю оставалось место. Я присела — рядом самый большой и страшный мордоворот; обняла его, а ты усмехнулся.
— Куда ты идешь? — спрашиваю.
— Переходим дорогу, — удивляется Фрося.
— Ты не видишь, что милиционер на автобусной остановке у всех подряд проверяет документы?
— Ну и что? — говорит. — Я их не боюсь. Потом ты дал мне банан, я начала есть…
— Ну так я боюсь! — хотел прошептать, но так получилось, что заорал — и побрел по улице наискосок.
Канаву, на дне которой черные трубы, уже засыпали, но асфальт не положили. Мороз сковал грязь в колеях; иду, спотыкаясь о замерзшие комья глины. Откусывал от гамбургера и жевал, с каждым шагом оглядывался, пока Фрося не догнала меня.
— Но это был не банан, а дым ; когда я распечатала шкурки, он буквально повалил, и я его ела, ела, торопилась съесть — он ускользал изо рта. Я ела его и заплакала, а ты украдкой смеялся и катался на качелях на дереве. Листья с деревьев осыпались охапками, а за ними опускали с неба лестницу. Я съела дым, и меня раздуло; тогда ты взял меня за руку, мы вошли по ступенькам в загс; я и оттуда из окна увидела, как лестница раскачивается, как качели…
На морозе гамбургер остывал, и пальцы озябли, я быстро его съел, а Фрося, позабыв про свою половинку, продолжала:
— У меня загорелся лоб, я его — к бетонному полу. Ты скорее на второй этаж в женский туалет, а я сбросила туфли, чтобы ты не услышал, как ухожу; на цыпочках к выходу — едва разминулась с двуглавым орлом…
Я не вытерпел и говорю:
— Ешь, холодный — невкусно, а у тебя сегодня праздник.
— Да, — согласилась она, и — с набитым ртом: — Очень хотела есть и укусила двуглавого орла — теперь знаю, что у них куриные ножки…
— Ешь, ешь, — повторяю.
А она еще:
— Как больно было взбираться босиком по железной лестнице! Потом встретила очень галантных кавалеров в синих халатах и сверху еще помахала тебе.
— А вот, — показываю, — и фонтан, подожди меня, — смотрю на часы, — здесь.
— Ладно, — заметно погрустнела.
— Ешь, — говорю.
Перехожу на другую сторону улицы. Один фонтан солидный, а два — поменьше; я заглянул: немножко снега на донышках, как в вазочках мороженое. Прошелся по кругу и оглядываюсь на Фросю. Стоит и держит перед собой гамбургер. Показываю ей зубы — сам будто ем. Она меня поняла и — откусила, а я вздохнул, прохаживаясь вокруг большого фонтана.
Не могу стоять на месте. В который раз смотрю на часы. На другой стороне улицы Фрося жует холодный гамбургер. Холодный, наверно, совсем невкусно. Прыгаю. Перед фонтаном ступеньки. Одни — скользкие, лакированные; выбираю те, которые выщерблены. Пока прыгал — небо затуманилось, посыпался снег, и Фрося съела гамбургер, смотрит на меня — и я невольно смотрю на нее; по выражению ее лица вижу: какое у меня лицо — и отворачиваюсь. Навстречу дует, на глазах от ветра слезы — тут за моей спиной Фрося поскользнулась на лакированной ступеньке.
— Что случилось? — оглядываюсь.
— Все на меня смотрят, — показывает на прохожих, — они копируют все мои жесты, каждое движение, потом интерпретируют: каждый по-своему, и в меня эти «копии» возвращают.
— А ты не смотри на них, — говорю, — смотри на меня.
— На тебя больно смотреть.
— Пусть будет так, — загрустил, — но это лучше, чем на них.
Побрела назад; только я оглянулся — уже затерялась в толпе; небо приобретает странный серо-буро-малиновый оттенок, и снег начинает сыпаться разноцветный, искрится и сверкает, — когда мне кажется, что они, все они видят, какое у меня лицо, и я не знаю, куда его деть.
Отвернулся от них; тут Маша замахала мне издали — с той стороны, откуда не ожидал, и я спешу к ней навстречу. Она прижала руки к груди и рассыпалась в извинениях, затем выхватила зеркальце — от зеркальца зайчик задрожал на ее лице.
— Все на месте, — говорю, — можешь, Маша, не сомневаться.
— Нет! — Щеточкой по ресницам.
— Да! — утверждаю.
— Я проспала, — объясняет.
Смотрю на часы и удивляюсь:
— Ты поздно ложишься?
— Нет, — отвечает, — ложусь нормально, но долго не могу уснуть.
— Я, — вспоминаю, — тоже сегодня никак не мог уснуть.
— Даже не позавтракала, — жалуется. — Давай чего-нибудь перекусим.
Перешли на другую сторону площади, к вокзалу.
— Зайдем на минутку — погреемся, — говорит.
— Почему у тебя одна рукавичка? — спрашиваю.
Сначала приятно было в помещении погреться, потом пришел поезд — в одну минуту пассажиры нанесли снега, он растаял, на полу под ногами замешалась грязная каша, а под нею блестели мраморные плитки, на которых легко можно поскользнуться.
Вышли из вокзала, Маша увидела в киоске булочку.
— Хоть раз укусить… — и она так улыбнулась мне, как тогда, когда я покупал конфеты и сказал про дырку в сумке, и — опять у Маши ямочки на щеках.
Я наклонился, чтобы поцеловать ее, — прядь со лба упала на глаза, и я подул на волосы — успел увидеть, как Маша робко посмотрела на меня, и одного этого взгляда оказалось достаточно, чтобы сердце забилось иначе.
— Выбирай, — говорю, — тут разные.
— С орехами.
— Что будешь пить?
Не глядя, она ткнула пальцем.
— Томатный сок?
— Что угодно, — говорит. — А ты?
— Есть не хочу, — я вспомнил половинку гамбургера. — Не так давно перекусил.
Отошли в сторону, к забору, и тут я увидел среди прибывших пассажиров Зинаиду с мальчиком. Она в модном пальто с норковым воротником и в норковой шапке тащила все тот же чемодан, а Павлик повернулся ко мне, но взгляд его проскользнул дальше. Я не сразу понял: куда? Маша жевала булочку; вдруг зазвучала труба. Сидел на снегу нищий и дудел. Тут подъезжает шикарный автомобиль, у которого вместо стекол зеркала. Из него выходит в костюме с иголочки какой-то важный господин, подхватывает у Зины чемодан и целует ее в щечку. Я еще раз увидел, как Павлик оглядывается на трубу. Она от времени потеряла блеск и приобрела матовый цвет пасхального яйца. Когда Маша цедила из соломинки сок, совсем рядом прошла Фрося, остановилась около нищего с трубой и бросила ему в шляпу монетку…
Ветер
1
После полудня лучи солнца обжигают, но воздух ледяной. На уровне верхушек деревьев стены у зданий, кажется, обрезаны ножницами; обрезаны неровно, будто ребенком; иногда отхвачены и верхушки — приходится переступать через завядшие ветки, которые остро и терпко пахнут на горячем асфальте.
— Осторожно, — Ребров тянет Риту за рукав, — не видишь? Пьяный за рулем!
По улочке мчится ярко-рыжий фургон с длинной кабиной в два ряда сидений, и Ребров с Ритой едва успели вскочить на выступ в кирпичном заборе. Тут же фургон, развернувшись, проехал обратно.
— Где же Лиза? — вздыхает Ребров. — Сколько можно ее ожидать?
Поднявшись на цыпочки, Рита заглядывает с забора на другую сторону, где гудят на шоссе автомобили. Вдруг они затормозили, съезжают на обочину и остановились; оторваться от этого зрелища невозможно — почему все сразу, зачем? Стало тихо — только в улочке все еще тарахтит фургон с пьяным шофером за рулем, а когда этот фургон скрылся за поворотом, наступила тишина мертвая — в ней отчетливо прозвучал неприятный ноющий звук, подобный жужжанию осы; непонятно откуда он приближается — со всех сторон одновременно, — пока не сузился в точку; затем по шоссе пронеслась милицейская машина с сиреной, и где-то в деревне за лесом завыли собаки.
Вдоль забора женщина тянет шланг. Из него хлещет вода — на сером асфальте вслед черная полоса, а выше косые лучи обагрянивали стены домов и верхушки деревьев, которые еще не подрезали. Между домами гуляет ветер; парусом надулась на веревке простыня — наискосок перерезана тенью от стены, а другая половина — розовая.
Наконец идет Лиза. Ее каблучки глухо стучат по асфальту, как капли воды по ржавой прогнившей жести. Ребров спрыгивает с забора, издали машет — и Лиза ему помахала. Ребров подбегает к Лизе и целует ее в щечку. Тут же Лиза оглянулась на мальчишку на дребезжащем велосипеде.
— Отстань, — говорит она Реброву, отстраняясь с кислой ухмылкой. — Забыла запить таблетку — присохла к языку. — И совсем другим голосом подруге на заборе: — Ты сегодня Вера или Соня?
— Нет, Рита, — отвечает та, глядя, как по шоссе мчится за эскортом мотоциклистов длиннющий черный автомобиль и за ним сразу еще один.
— Что у тебя болит? — с нарочито преувеличенным вниманием спрашивает у Лизы Ребров.
— Эй, Сережка! — кричит она мальчику на велосипеде. — Езжай за нами!
— Сейчас не могу! — отвечает Сережка. — А куда вы?
— Сначала к роднику, — зовет Лиза и тут же — Реброву: — Я запью таблетку — что-то с головой не в порядке.
— Почему-то у всех именно там не в порядке, — ворчит тот.
— У кого, — выясняет Лиза, — у всех?
— У очень многих, — пробормотал Ребров себе под нос.
— Ну, не у всех же.
— У всех вас, — уточняет он.
— Понятно.
На фоне синего неба кирпичный забор кажется картонным; в нем проломана дыра. Втроем они идут вдоль забора, затем пролезают по очереди в дыру. Движение автомобилей на шоссе возобновилось, гул — невообразимый, и лучше помолчать.
Перейдя по мосту на другую сторону, Лиза нагнулась и сорвала цветок. Щеки у нее разрумянились — может, оттого что нагнулась и кровь прилила к лицу; тут же отчаянно побледнела, почувствовав на себе пристальный взгляд Реброва.
— А я, — говорит он, — решил, что ты не придешь!
— Я проспала. — Лиза бросает цветок и достает из кармана яблоко. — Совсем забыла. Можно яблоком заесть таблетку, — откусывает. — На, — подает его Рите.
— Не хочу, — отказывается та.
— У тебя красивые туфельки, — Ребров замечает, как Лиза ковыляет на высоких каблуках по изрытому кротами полю. — Раньше не видел.
— Вчера купила.
— И платье новое, — продолжает Ребров. — Только почему черное?
— Может быть, — говорит Лиза, — мне идет черный цвет. Возьми, — протягивает Реброву яблоко. — Целый день в кармане болтается!
— Пусть будет тебе.
— Когда таблетка во рту, яблока совсем не хочется.
— Сначала запьешь таблетку из родника-а-а, — растягивает Ребров слова, наблюдая за Лизой. Она смотрит в сторону, где за деревьями все громче голоса. — Потом съешь яблоко.
— Оно кислое.
Ребров берет яблоко. Лиза поглядела на часики.
— Что — у нас мало времени? — Ребров откусывает от яблока.
— Нет, — покачала головой Лиза, — времени полно, неизвестно куда его деть.
— Ты со мной встречаешься, — догадывается он, — потому что тебе надо убить время, да?
— Да, — кивает Лиза.
— А я и смотрю, что это ты вырядилась для прогулки в лесу, — заметил Ребров.
— А ты?! Ты не знаешь, — вспыхнула Лиза, — что я…
— Ну и что ты?
— Ничего…
— Ты что-то хотела сказать, — ухмыльнулся Ребров.
— Да, я хочу тебе сказать, — снова начала Лиза, — что я… — и, запнувшись, прикусила губу, но опять: — Ты знаешь, кажется, я…
— Ну и чего? — пробормотал Ребров, когда ему уже это все надоело.
— Я забеременела, — брякнула Лиза. — Ах, не притворяйся, — вдруг она закричала, — ты все прекрасно понимаешь, ты всегда понимал меня с полуслова! Я забеременела, — пролепетала. — И не от тебя! Чего же ты молчишь?
Ребров захохотал. Наконец вздохнул.
— Я очень рад, — объявил он. Тем не менее на лице его оставалась растерянность. — Как я рад, — повторил дрожащим голосом и хватал воздух, подобно рыбе на берегу.
Лиза осторожно спускается по обрывистому берегу. Из кустарника выглядывают березы. Горячие лучи весеннего солнца пробиваются сквозь резную клейкую листву и становятся бархатными; расплывчатые тени скользят под ногами. Внизу струится из жестяного желоба ручеек, дальше ветер поднимает на озере рябь. Лиза осторожно переступает по бревнышку, затем прыгает на камень и нагибается к желобу.
Ребров смотрит на пышную фигуру девушки и замечает из-под нового очень короткого ее платьица трусики — переводит взгляд на другой берег, где воздвигаются шикарные особняки. Там что-то визжит, стучит, и время от времени бухает, словно пушечный выстрел, железная дверь, и спустя вздох отзывается гулкое эхо в огромных пустых помещениях. Величественные постройки отвлекают Реброва, и, когда он снова замечает черную склонившуюся фигурку у желоба — и трусики светятся в сгущающейся тени под березами, — невольно опять думает о девушке, а Лиза, кажется, читает его мысли и так кричит, что слышат рабочие на дачах:
— Я не знаю, зачем морочу тебе голову! Рита! — зовет. — Где ты?! Давай съездим к твоей бабушке в Бекачин!
2
Дорога в голом поле приводит к мосту. Под мостом шоссе. Лиза спускается вниз, к шоссе, и поднимает руку. Все машины мимо. Лиза растопырила пальцы и нетерпеливо машет. Наконец тормозит фургон с длиннющей кабиной в два ряда сидений. Он такого же огненного цвета, как волосы у девушки. Сразу фургон не может остановиться. Лиза бежит за ним. Волосатая ручища открывает дверку в кабине. Рита едва успевает за подругой, чуть не упала, вспомнила, как этот фургон едва не сбил ее с Ребровым, кричит, но Лиза даже не оглядывается. Она запрыгивает на сиденье — короткое платьице задралось до трусиков, и тогда увидела: в кабине одни мужчины и так пялятся на нее — здоровые, краснорожие, — что все тут сразу ясно, и — невольно слезы на глазах, но уже поздно.
Мужчины все в отутюженных костюмах, некоторые при галстуках, а один даже в шляпе, только шофер в рваных цветастых трусах и в грязной майке. Едут молча, с серьезными лицами. Несмотря на свистящий из окон свежий воздух, в кабине пахнет шкафом. Лиза удивляется старомодным костюмам на мужчинах. От этой «пронафталиненной» дедовской одежды и белых воротничков возникает ощущение праздника.
— Рита, ты здесь? — наконец Лиза вспомнила про подругу, а та от испуга отвечает одним взглядом.
По обе стороны шоссе — тополя. С них летит пух и на солнце блестит, как снег. На сизом асфальте он загрязнился и свалялся в клочья ваты, что пролетают за каждой машиной.
— Мне кажется, — сказал самый солидный мужчина в шляпе, — что мы не туда едем. Девушка, — спрашивает, — мы попадем в Бекачин?
Лиза подняла плечи и опустила.
— Рыжая, — восхищается шофер. — Наверно, я не там свернул, — сокрушается. — Девушка, почему ты молчишь?
Лиза наклонила голову, якобы дремлет; в это время неуклюжие толстые пальцы пытаются расстегнуть пуговичку у нее на платье. Не открывая глаз, Лиза хлещет ладонью по широкой потной щеке.
— С ума сошла?! — просыпается толстяк. — Это Анатолий! — показывает на мужчину в шляпе.
— Разберись сначала, — Анатолий пихает толстяка. — Может, это Петрович? Посмотрите, как он ухмыляется…
— Дядя! — возмутилась Лиза, чувствуя у себя на бедре скользкую руку. — Ну что это вы? Ну дядя!
А на Риту никто не обращает внимания, и она, завидуя подруге, ее пышной красоте, заплакала. Мужчины внимательно посмотрели друг на друга.
— Вытрите ей слезы, — зашевелились они. — Петрович, вытри ей скорее слезы!
Анатолий подал салфетку Рите. Девушка вытерла слезы, но они еще пуще полились.
— Мне страшно, — пролепетала Рита на ухо Лизе.
— Чего ты боишься? — удивилась та.
— Разве ты не понимаешь, — Рита оглянулась, — что эти мордовороты могут с нами сделать?
— Ну и что такое они могут с нами сделать? — ухмыльнулась Лиза. — Разве что вот этот, — показала на худенького, бледненького паренька в очках. Его звали Феденькой. Он читал толстую книжку и не обращал внимания на девушек. Затем, отложив книгу, размечтался, как маленький ребенок, а когда опомнился, наконец увидел, что Рита грустит и какие у нее большие глаза. Ему стало жаль ее. Рита по-прежнему мяла в руках салфетку и не забывала вытирать слезы. Феденька вздумал сдувать с ее лица бумажные крошки, а она не могла понять, что он делает, и умоляюще прошептала:
— Прекратите!
Тут фургон съехал с шоссе, и сейчас не только Рита, но и Лиза испугалась.
— Куда вы?! — закричала она. — Не надо!
Фургон остановился у речки. Берег высокий, с ласточкиными гнездами. Выбравшись из кабины, мужчины разделись и бросились в воду, а Петрович достал бутылку водки, нарезал колбасы и разжег костер. Шофер вылез из речки помогать, волочит к огню жердь, наступает на нее, а рукой ухватил за другой конец. Жердь трещит, но не поддается; шофер бросает ее и подходит к девушкам. Те захохотали, глядя на рваные трусы. Шофер потребовал, чтобы ему налили; выпил и, разбежавшись с берега, опять в воду.
В речке отражается туча. В зеленых берегах она надвигалась, черная, а когда загрохотал гром, мужчины в одних трусах собрались у костра. Не успели разлить водку в стаканы — с неба хлынуло как из ведра. Выпили и, закусывая на ходу, поспешили в кабину. В суете чьи-то пальцы расстегнули у Риты застежку на бюстгальтере, и за одну минуту наступила ночь.
— Ха-ха-ха, — смеется Анатолий.
— Ну что, поехали? — шофер осветил фарами мокрые газеты на траве и дымящийся костер.
— А где Лиза?! — завопила Рита.
Казимир ущипнул ее, приоткрывая дверку, и позвал Лизу, но там, во мраке, так шумело и гудело, что слов его нельзя было расслышать. С полминуты сидели молча, дождь барабанил по жестяной крыше кабины. Рита опять заплакала. Мужчины посмотрели друг на друга.
— Вытрите ей слезы, — засуетились они. — Петрович, где салфетка?
Анатолий подал другую салфетку. Рита вытерла слезы, но сейчас, когда подруги не было рядом и мужчины наконец обратили на нее внимание, она ревела, осознав, что им все равно с кем. Это ее горько возмутило, и салфетка быстро намокла.
— Феденька! — закричал Петрович. — Ну сколько можно?!
Дождь вскоре перестал, но ручьи еще бежали по дороге. Листва беспокойно шумела на березах, и с каждым порывом ветра на землю осыпались буйные капли.
— Ну сколько можно?! — опять закричал Петрович и, когда Феденька наконец вернулся с Лизой, не выдержал: — Ты что, сынок, — вообще? Забыл, куда едем? Совсем еще ничего не понимаешь в жизни… Поехали, Васька! — скомандовал шоферу. — Скорее!
Фургон занырял по ямам и буграм, словно поплавок на волнах, и захотелось выпить опять.
Петрович напомнил шоферу:
— Ты забыл, кого везешь?
Васька засмеялся в ответ.
— Нельзя смеяться! — возмущается Казимир.
— Если думать единственно об этом, — Анатолий сдвинул шляпу на затылок, — можно свихнуться.
— Все можно, — заявил Петрович, — при одном условии.
— И — каком? — интересуется шофер Васька.
— Пусть она скажет, — показал на Лизу толстяк.
— Я не знаю, о чем речь, — изумилась она.
— Скажи, пожалуйста!
— Я не знаю, что сказать.
Толстяк полез к ней обниматься и забыл, о чем разговор, но повторял:
— Врешь, врешь…
Лиза снова залепила ему пощечину.
— Правильно! — раздались голоса. — Так ему. Пусть знает, как распускать руки. — А сами распускали еще откровеннее, ухмыляясь при этом в глаза. — Так ему… Вот так, так!
— Куда ты, Лиза, меня затащила? — в который раз расплакалась Рита. — Ты же знаешь — у меня нет никакой бабушки в Бекачине.
Наконец выехали на шоссе; под колесами зашелестел мокрый асфальт. Пьяный Васька повел фургон с бешеной скоростью, и невольно девушки вцепились в сиденья. На повороте фары высвечивают заброшенный дом с березами на кирпичных стенах, затем он пропадает во мраке, но соловья слышно еще долго.
— Опять я не там свернул, — сокрушается Васька и сигналит парочке у обочины.
Сопливый кавалер с фонарем под глазом, оглянувшись, поцеловал такую же, как он, барышню. Мокрое платье облепило ее тельце, и кажется, что она голая. Отвернувшись от яркого света фар, девчонка ответила на поцелуй своего ухажера, сцепив руки у него на шее.
— Все-таки куда мы едем? — спрашивает у Лизы Васька.
— Откуда я знаю? — недоумевает она.
— Если бы ты могла знать, — качает головой Казимир и тут же: — Раз, два, три, четыре… — пересчитывает у Лизы ребра. — Чего смеешься?
— Щекотно.
Васька останавливает фургон и шлепает босиком по мокрому асфальту. Мальчишка подбегает, а девочка осталась во мраке смутным, тонким силуэтом, который, как травинка, колеблется и вдруг исчезает.
— Давай назад, — растолковывает Ваське этот сопляк. — Не доезжая до города — сворачива-а-ай… — У него перехватило дыхание, когда увидел в кабине распущенные рыжие волосы Лизы. — Вот это да!
Васька заскакивает на подножку и хлопает дверкой.
— Действительно, — выворачивает руль, — не туда едем.
Фарами освещается туманная даль, воздух, кудрявая трава с заснувшими цветами. Еще раз увидели мальчишку с фингалом.
— Катька! — крикнул он, заметавшись один на дороге. — Куда ты?
3
Едва переступив порог, устроились, где попало, и уснули; впрочем, девушек положили отдельно на диван и укрыли ватным одеялом. Петрович проголодался, нашел перловой крупы и кастрюлю и, прежде чем варить кашу, отправил Ваську на фургоне за самогонкой.
Начинало светать, про электрическую лампочку на потолке забыли — ее жалкий свет потерялся в розовом сиянии, а из разбитых стеклышек веяло острым, жгучим холодком, и, проснувшись, увидели за окнами яркую зелень, вплотную приступавшую к дому.
Трава вокруг по колено; если выйти — возвратишься в мокрых от росы штанах, а после того как поели каши — в чугунных, словно ядра, головах образовалась гулкая пустота, и, когда появился незнакомец с шарфиком на шее и в кепочке, в рваном под мышками клетчатом пиджаке, никто не обратил на него внимания, пока он не зацепился за чьи-то ноги на полу в спальне и не упал.
Анатолий заглянул в комнату.
— Тише, пускай девчонки поспят! — И ему понравилась на стене сабля.
Долго маялись в ожидании выпивки, а когда брызнули первые лучи солнца, приехал с трехлитровой банкой Васька. Здесь щеголяли в праздничной одежде, и — если бы не дыры под мышками — незнакомца не заметили бы. А он выпил сто грамм и вместо того, чтобы закусить, выключил горевшую зря лампочку. Тогда им тюкнуло, что вернулся хозяин.
— Извини, — сказал ему Казимир, — мы тебе замок сломали.
— Я рад случаю познакомиться с вами, — пролепетал этот человечек. — Вы не похожи на других. После подобных посещений у меня всякий раз чего-то недостает, а вы…
— Мы даже посуду за собой помыли, — добавил Анатолий и, в одну минуту окосев, вдруг упал, а поднявшись, не мог согнуть ногу.
И все же уезжать отсюда, где перекантовались пару часов, оказалось тягостно — будто прожили здесь жизнь, будто навсегда покидали отеческий дом… Пошли будить девчонок; на диване — одна Лиза.
— Поднимайся скорее, — потрогал ее Казимир, ощущая под одеялом млеющее в тепле роскошное тело. — А где твоя подруга?
Лиза, не открывая глаза, попросила:
— Еще немножко.
Казимир опять потянул одеяло.
— Пришел хозяин, неудобно.
Лиза не сразу сообразила, где находится, однако, если бы Казимир не упомянул о хозяине, так быстро девушка не вскочила бы.
— А где Рита?
Тут выяснилось — куда-то исчез и Феденька. Мужчины стали искать парнишку; вместе с ними хозяин вышел из дома и заглянул в сарай:
— Федя, Феденька! Отзовись!
За сараем еще один сарайчик; хозяин открыл дверь и сразу же наткнулся на Феденьку с Ритой. Феденька оглянулся и так посмотрел на этого маленького человечка в пиджаке с дырками под мышками, что тот поспешил закрыть дверь и никому ничего не сказал.
Солнце поднималось, от его горячего блеска становилось муторно после сна на полу и от выпитой самогонки, и, помяв траву возле дома, мужчины решили ехать дальше.
— Ах, — вспомнил Анатолий, — забыл шляпу. — И, не сгибая ногу, волоча ее, будто специально показывая, поднялся по ступенькам на крыльцо и через минуту вернулся из дома в шляпе на бровях, заковылял к автобусу, еще сильнее прихрамывая, и едва взобрался в кабину.
Когда отъехали немного от деревни, Анатолий рассмеялся. Его товарищи, с непричесанными волосами и небритые, с трудом повернули тяжелые головы. Анатолий расстегивает брюки, а Лизе уже все равно — разве что ей очень тоскливо стало, и, ослепленная вязкими лучами за толстым стеклом в окне, не смогла даже отодвинуться. Наконец Анатолий вытаскивает из штанины саблю.
— Зачем она тебе? — изумился Петрович.
— А хозяину зачем?
Стараясь не выдать своей тоски, Лиза прошептала:
— Дайте мне подержать.
Анатолий медленно, с наслаждением, вынул саблю из ножен. Сталь сверкнула на солнце — по потолку кабины промелькнул зайчик. Тут же Анатолий вогнал саблю со звучным стуком обратно, причмокнув языком от восторга, — никакого внимания на девушку, что она тоже хочет подержать, и Лиза снова уставилась в окно.
Она будто задремала наяву. Впрочем, и шофер за рулем не переставая протирал глаза кулаками. Дорога запетляла среди полей, лишь на горизонте синели леса рваной узорной каемкой. Мужчины начали перекликаться между собой ничем не примечательными фразами, а дышали так, будто воздуха не хватало; слова из их уст выплевывались без окончаний, и хотя бы это указывало, что подъезжают к Бекачину. Все больше попадалось построек, столбов, и больше машин ехало туда и назад по дороге. Становилось как-то торжественно — у мужчин заныли сердца в груди, их томление и Лизе невольно передалось. И вот тут праздник почувствовался особенно отчетливо, но захотелось тишины и покоя. Как только показались вдали дома в пепельно-бурой дымке, Лиза попросила шофера Ваську остановиться. Ее слова прозвучали среди хриплого шепота мужчин — будто что-то порвалось, затрещала какая-то материя, и никто у девушки не поинтересовался, почему она выходит — именно здесь, в поле, где еще нет ничего.
Шофер остановил машину, и Лиза выскочила из кабины.
— Посмотрю, все ли в порядке, — Анатолий выбрался вслед за Лизой, и Васька выпрыгнул.
Лиза не ожидала, что и они вылезут, и растерялась. Шофер Васька открыл сзади дверки в фургоне. Лиза увидела внутри гроб. Анатолий взобрался по лесенке, и Васька — за ним; вдвоем они сняли с гроба крышку. Шляпа Анатолия зацепилась за крюк на потолке фургона и упала в гроб. Анатолий поднял ее, но на голову не нацепил, повертел в руках и зажал между коленями. Лиза отвернулась от гроба и поспешила вдоль изгороди, за которой земля истоптана в черную вязкую жижу; в отпечатанных на ней копытах блестело солнце. К девушке тянулись морды, жевали и глядели с тоской. Лиза спряталась за стадом и вздохнула с облегчением. По изъеденным до крови бокам щелкали хвосты, и мелькали вокруг ожесточенные злые слепни. Она зажмурилась и, сосредоточившись невольно на одних заунывных звуках, стала напевать, сама не зная что, повинуясь сердцу — и не своему, а какому-то чужому, далекому, — очень тихо, не своим голосом, пропела колыбельную, — не осмеливаясь открыть глаза, пока фургон с покойником не уехал; тут к ней подошла женщина с ребенком на руках.
— Что? — задумавшись, не расслышала Лиза. — Давайте подержу, — взяла ребенка.
Женщина перелезла через забор, и Лиза передала малыша на другую сторону. Ребеночек проснулся и заплакал. Женщина стала успокаивать его:
— Чего плачешь; что-то страшное приснилось? Да?
Карапуз разрыдался сильнее.
— Да? Страшное приснилось? — повторяла женщина, унося ребенка с собой. — Да? Может, пойдешь ножками? Нет? Расскажи, что тебе приснилось. Голыш? — переспросила. — Огромный?!
— Да, оглемьный, — повторил ребенок, обливаясь слезами.
Лиза уже побрела к шоссе, но вернулась.
— Что это за «голыш»?
— Голая кукла, — объяснила женщина и улыбнулась: — Представляешь, как страшно! Огромная голая кукла!!
Лиза опять побежала к шоссе. Несется такси. В нем Лиза узнала Феденьку — он почему-то без очков, будто и он вытирал слезы; его лицо промелькнуло так быстро, что девушка усомнилась — он ли? Перебегая шоссе, Лиза необыкновенно остро почувствовала ускользающую жизнь, когда на сизом асфальте под ногами разжигалась на ветру сигарета, которую выбросили из такси.
4
Под ногами не асфальт, а зыбучий песок. Улица спускается к реке. На другом берегу коровы. Лиза повернула назад. Опять появился асфальт. Лиза сняла одну за другой туфельки и выбила песок. Навстречу старуха, и Лиза ей обрадовалась.
— Что это за деревня?
— Это город.
— Какой город? — спросила Лиза и тут же догадалась: — Это и есть Бекачин? Как пройти к вокзалу?
— Что? — не расслышала старуха.
— К вокзалу! Хожу с самого утра, — вздохнула девушка, — а теперь повернула и не знаю, как обратно. Где я нахожусь?
— Ты из вытрезвителя?
— Из какого еще вытрезвителя?
— Вот — вытрезвитель, — показала старуха, — утром всех выпускают — они ходят и спрашивают, где находятся.
Лиза махнула рукой и побрела дальше. Еще издали увидела толпу перед магазином. Многие поглядывали на часы. Лиза посмотрела на свои — остановились.
— Сколько сейчас времени?
— Пять минут десятого, — буркнул один из толпы, дернул за дверь и постучал.
Наконец магазин открыли, и все, толкаясь, поспешили за покупками. Лиза осталась на тротуаре одна. Перевела стрелки на часах и завела ход, а потом тоже в магазин. Рядом с рыбой почему-то продавали ювелирные изделия. Лиза нагнулась над стеклом в витрине, затем огляделась.
— Хочу посмотреть кулон!
— Сейчас подойдет Маша, — пообещала продавщица из рыбного отдела.
— А вы не можете показать?
— Не могу.
— Почему?
— Я работаю в другом отделе.
— Ну и что?
За одну минуту Лиза ощупала и перебрала множество платьев, и одно из них ей очень понравилось. Лиза примерила его и не смогла снять. Оно было простенькое — в меленький голубой цветочек, однако великолепно подчеркивало фигуру. Уже в новом платье Лиза вернулась к ювелирному отделу.
— Еще Маша не пришла?
Продавщица из рыбного отдела посмотрела на часы и пожала плечами.
— Наверно, проспала.
— А почему рыбный отдел находится рядом с ювелирным? — еще поинтересовалась Лиза.
— Это от меня не зависит, — ответила продавщица.
Лиза вышла из магазина в каком-то неопределенном, необъяснимом состоянии; одновременно грустно было и весело; хотелось — не смеяться, а хохотать — и тут же разрыдаться. Лиза шагала все быстрее. Вдруг остановилась и оглянулась. Малюсенькая девчурка оказалась рядом, ковыряла в носу и очень серьезно посмотрела на Лизу. Не выдержав ее взгляда, Лиза опустила глаза. На земле лежали кирпичи. Лиза подняла один. Улица была совершенно пустынна. На столбе реклама: человек с поднятой рукой. К ладони приклеена бумажка, и на ветру кажется, что он машет рукой. Лиза размахнулась и бросила кирпич в окно ближайшего дома. Оттуда выбежала растрепанная женщина.
— Туда побежали! — показала Лиза в переулок.
Женщина скрылась за углом. С ее плеч упал платок. Девочка по-прежнему невозмутимо смотрела на Лизу и ковыряла в носу. По улице проехал шикарный автомобиль. Платок понесло вместе с пылью за машиной. Лиза зашагала дальше. Ей сделалось весело, обыкновенно весело. Машина остановилась и дала задний ход. Назад она ехала быстрее, чем тогда, когда двигалась вперед. Или казалось, что быстрее. Около Лизы автомобиль остановился. В нем сидел мужчина в белом костюме.
— Я хочу с вами познакомиться, — сказал он Лизе.
— А я не хочу, — отвернулась она.
— Какая ты грубиянка!
— Разве? — обернулась Лиза, и от ее пленительной улыбки мужчина совсем растаял и выбрался из автомо-биля.
— Я хочу сделать тебе п-предложение… — начал он заикаться.
— Да, — все еще улыбаясь, ответила Лиза.
— П-п-пппрокатиться на машине…
Лиза нисколько не смутилась.
— Да, — повторила она.
Из-за угла появилась запыхавшаяся женщина и подняла платок. Встряхнула его — на солнце каждая пылинка засверкала.
— Не догналя? — не моргнув, спросила девчурка у мамы. — На одном мальчике быля клясная любашка, а длюгой с веснюшками.
— Поди умойся! — прикрикнула женщина.
— А у того, с веснюшками, еще зелетые зюбы, — добавила девочка, оглядываясь на Лизу.
— У мальчишки — золотые зубы?
— Это быль взлеслий мальчишка, — продолжала девочка, ковыряя в носу.
— Поди умойся, — повторила мать.
Лиза села в машину и хлопнула дверкой. Машина проехала мимо растрепанной женщины с дочкой. Мужчина за рулем вытер пот с лица.
— Куда поедем? — спросил он у Лизы. — Сразу ко мне домой?
— На вокзал, — ответила она. — Нет, — достала из сумочки конверт. — По этому адресу.
Мужчина глянул на конверт и ухмыльнулся.
— К Иванову?
— Ты его знаешь? — испугалась Лиза. — Тогда лучше на вокзал.
Мужчина развернул машину и поехал обратно. Опять проезжали мимо девочки, а ее мать бросила горстью песка в окно машины.
— Вот это да! — удивился мужчина за рулем. — Отчего она?
— Наверно, у нее нет мужа, — догадалась Лиза.
— Рядом же дочка.
— Девочка есть, а мужа нет.
— Все равно, — сказал мужчина в белом костюме, поворачивая к вокзалу. — Зачем бросаться песком?
В поезде Лиза взобралась на полку и сразу же уснула. На следующей станции в этот вагон заскочила Рита; проходила мимо, выбирая место, — даже не успела разбудить подругу, как та, почувствовав на себе ее взгляд, очнулась ото сна.
— Я, ты и мой друг идем вдоль кирпичного забора; за ним что-то гудит, — начала Лиза рассказывать, что ей приснилось. — Там, где верхушки деревьев, стены у зданий будто обрезаны ножницами. В окнах верхних этажей — не потолки, а небо. После полудня палящее солнце. В тени от домов лежат огромные собаки со вспоротыми животами. Кровь из них не льется — ее просто не существует. Собаки судорожно дышат, высунув языки, — очень жарко, даже в тени. В заборе проломана дыра; мы пролезаем по очереди в нее. За забором в голом поле никого — и не понять, что это гудит.
— Ветер, — догадалась Рита, прислушавшись.
Куда ты спешишь?
Подшипник полетел
— Где здесь свинарник? — спрашиваю.
— Ты неправильно едешь, — говорит. — Совсем не в ту сторону. Езжай за мной.
Я развернулся. Оказывается — у него горб. Кручу педали и смотрю на его вздернутый на горбе плащ. Кручу изо всех сил, но у горбуна велосипед новый, а у меня трещит — того и гляди развалится.
Взошло солнце; косые лучи растворяются в сыром воздухе. Солнце поднимается выше — от вертящихся передо мной колес и развевающегося плаща падает тень на обочину, на заблестевшую от росы траву, и тут же растаяла в сгустившемся полумраке — горбун въехал по дороге в еловый лес — и я за ним.
— Стой! — кричу ему. — Стой! — и сам остановился, слез с велосипеда. — Я вспомнил — перед лесом надо сворачивать.
Не оглядываясь и по-прежнему крутя педали, горбун проговорил отчетливо в тишине:
— Можно и перед самой железной дорогой…
Опять взбираюсь на велосипед; только крутанул, как цепь слетела. Горбун скрылся за поворотом. Пока я провозился с цепью — поднимаю голову: ко мне идут навстречу два амбала; один — в армейском ватнике. Расстегивает пуговицы и орет мне: стой! — хотя я и так стою.
Я поехал навстречу.
— Стой! — кричит и протягивает ватник: — Купи!
— Мне не надо, — говорю. — Да и откуда деньги в лесу? Да и вообще…
— А почему ты улыбаешься? — спрашивает другой — у него глаза, налитые кровью после вчерашнего.
— Разве я улыбаюсь? — говорю и улыбаюсь.
— Не надо улыбаться, — этот говорит и — дернул меня за усы.
Больно! Я крутанул — цепь не слетела.
— Всего за двадцать пять рублей! — закричал вдогонку тот, что с ватником.
Я не оглядываюсь и жму на педали. А вот и железная дорога. За лесом опять поле. Солнце — еще выше, сияет, и поднявшийся туман над полем блестит, слепит глаза. Смотреть вперед невозможно больно, но увидел горбуна. Он стоит, ожидает. Увидел меня — и опять поехал. Я стараюсь его догнать, кручу изо всех сил, но дорога буграми, рытвинами, — колеса прыгают, руль скрутился — вертится как ему вздумается. С горы я еще съехал, а дальше, по песку, надо велосипед тянуть. Горбун оглянулся и подождал. Пока я тащил велосипед — туман поднялся и солнце пропало.
— Ты даже вспотел, — заметил горбун.
— Ничего не поделаешь, — вздохнул я. — Допотопная рухлядь.
— Все же лучше, чем идти, — сказал он и добавил: — Штанины вытри.
Я глянул на ноги и обнаружил, что у щиколоток штаны ржавые.
— Нечего вам из-за меня мокнуть, — говорю, когда пырскнул дождь. — Расскажите, где поле за свинарником…
Горбун начал объяснять, а я пытался закрепить руль.
— …За той горкой, — закончил горбун. Он немного отъехал и остановился — закричал визгливым, петушиным голоском: — Скоро их должны кормить. Услышишь!
Я побрел вслед уехавшему горбуну. За горкой показалась деревня. Я протащил велосипед по пустынной улице, а за деревней посреди поля скучают женщины и девица. Подойдя к ним, я оглянулся. За мной наблюдает из деревни старуха. От старухи я перевел взгляд на девицу и улыбнулся. Она отвела от меня глаза. Выражение их растерянное и ускользающее. Ангельское лицо, но я знаю, что у таких в мыслях.
Поправляет прядь золотых волос. А одета в грязную, с дырками на локтях, куртку. Впрочем, как одеваться, если заставляют копать картошку! У ее матери седые волосы, выбиваются из-под шляпы. В поле — и шляпа! Облезлая, поля опущены.
Опять дождик. Ветер усиливается, пронизывает, хотя на мне много одежды. Я бросил велосипед на землю и стал раздеваться.
— Что за звуки? — спрашиваю.
— Вспотел? Не стой голый — заболеешь, — сказала тетя Лида — та, что в шляпе.
— Не заболеет, — говорит тетя Фрося, которая сидит на ведре, перевернутом вверх дном. Щеки у нее румяные. И красный платок.
Майка — хоть выжимай, завязал ее узлом на руль. Свитер, а затем пиджак опять натянул на себя.
— Что это за звуки? — еще раз спрашиваю и тут соображаю, что в длинном сарае за полем кормят свиней.
Они визжат, будто их сразу всех режут. За лесом гудит поезд. Гляжу вдаль. И все посмотрели. На горизонте показались вагончики. И от этого присутствия какой-то другой — наверняка счастливой, кажущейся отсюда счастливой жизни, — здесь, в поле, становится невообразимо грустно. А ведь совсем недавно я сам ехал в таком поезде и не задумывался ни о чем.
Будто с неба свалился дядя Женя. И солнце показалось. Свиньи еще кричат — никак их не накормят.
— Уфф! — говорит дядя Женя. — Устал.
Сел на камень.
— Где тебя носит? — спрашивает тетя Лида.
— Приехал? — спрашивает у меня дядя Женя.
— Да, — отвечаю. — У тебя на шапке паутина.
Сидя на камне, дядя Женя снял шапку, смахнул паутину, бросил шапку на колено, из кармана пиджака достал бутылку, вытащил пробку, положил аккуратно ее на шапку, отпил несколько глотков, заткнул обратно пробку, надел шапку на голову и поднялся.
— А погода хорошая, — говорит, — устанавливается. Эх, — махнул рукой, — подшипник полетел.
— Хоть покажи, — говорит ему тетя Лида, — где твой участок?
— Семь грядок отсчитать.
— Откуда?
— А как ты думаешь, — вдруг обращается дядя Женя ко мне, — есть ли тот свет или нет?
На глазах у меня дядя пьянеет.
— Ладно, — говорю, — раз подшипник полетел — поеду домой.
— Поедешь? — удивилась тетя Фрося.
— Нет, поведу велосипед.
А девица в рваной куртке поправляет прядь золотых волос и смеется:
— Куда ты идешь?
— А что?
— Вот по этой дороге прямее выйдет, — показывает дядя Женя.
Наконец свиньи перестали пищать — дождались своего часа. Я решил с горочки съехать с болтающимся рулем. Только оттолкнулся — навстречу допотопные «Жигули». Шофер машет рукой. Так и не съехал я. Он спрашивает:
— Копалка не приезжала?
— Подшипник полетел, — говорю.
— Чего такой руль?
— Ну, такой, — говорю.
— Убьешься!
И я тут вспомнил, что когда-то, ребенком, видел эти поля горочками, поезд вдали, только лес вырос за годы; неожиданно стало радостно — и еще отчего-то очень радостно, но пока не соображу. Вся хмарь улетучилась с неба. Оно глубокое, и солнце со дна его. Навстречу едет гусеничный трактор по пашне. За трактором лист жести. На жести лежат камни и стоит человек. Все серое, ослепительно-серое; у мужчины лицо бронзовое.
Барабан
— Какую? — спросила из киоска продавщица.
— Любую, — я ответил. — Все равно их не читаю.
Она посмотрела на меня удивленно. Я пересек площадь. Не успел сесть за свободный столик в кафе и развернуть газету — появилась Катя. Я улыбнулся — не ей, а себе.
— Кроссворд на всю полосу, а твоя рубаха в кружочках, — сказала она.
Я складываю газету.
— Ну и что?
— Кроссворд в квадратах, — поясняет, — а на твоей рубахе рисунок в кружочках.
— Спасибо за наблюдение.
— Я думаю, лучше будет на воздухе, — продолжает Катя.
— Тебе не будет холодно в короткой юбке? — спрашиваю. — Вчера была в куртке и в шляпе, а вчера было теплее.
— После обеда будет жарко.
Мы поднимаемся и выходим из кафе — туда, где стоят столики под зонтами. Пестрые полотнища трещат и хлопают на ветру. Садимся в плетеные кресла. Тут же я поднимаюсь.
— Что взять?
— Я хочу только пить.
— Вино будешь?
— Лучше чаю.
— Может, сок?
— Можно.
— Какой любишь?
— Никакой, — и тут же другим голосом: — Возьми-ка пива.
Я положил газету на столик. Тут же ее подхватило, и она, перелистываемая ветром, прошелестела над площадью. Я направился под крышу.
— Какое у вас пиво?
— «Экстра» и «Жигулевское».
— Два бокала, — прошу.
— Какого?
— А какое лучше? — спрашиваю. — Вы не слышите барабан?
— Нет.
— Прислушайтесь, пожалуйста.
Она прислушалась и, не понимая, в чем дело, улыбнулась мне.
— Где? В какой стороне?
— Там, — я показал.
— Невозможно прислушаться. Здесь шумят.
— Извините, значит, это внутри меня.
Пришлось открыть дверь ногой, и с двумя бокалами в руках я вышел из кафе. Сразу же ветер сдул пену с пива, и она белыми хлопьями упала под колеса проезжающей машины. За столиком рядом с Катей молодой человек чиркает спичками, пытаясь закурить.
— Это мой однокурсник, — представила его Катя, — случайно мимо проходил.
Я поставил бокалы на столик.
— Наверно, я помешал, — сказал молодой человек.
— Нет, нисколько, — ответил я. — Пойду еще бокал возьму.
— Не надо, — говорит однокурсник Кати. — Я не употребляю спиртного.
В этот момент подходит пьяный мужчина при галстуке.
— Извините, у вас не найдется ручки?
Я пошарил по карманам и протянул пьяному. Он сел за соседним столиком, вынул блокнот и что-то стал лихорадочно писать.
— Мне кажется, — проговорила Катя, потягивая из бокала пиво, — не стоит, Алик, придавать этому значение.
Ее однокурсник засмеялся и ответил, не вынимая изо рта сигареты:
— Возможно.
— Кто тебе не дает поступать так, как хочется? — спросила Катя.
— Не кто, а что, — поправил ее Алик и пояснил: — Обстоятельства.
— Какие?
— Их много.
Алику наконец удалось прикурить, и дым понесло на меня, но он так быстро растворялся в потоках воздуха, что я не успевал вдохнуть его — лишь тени мелькали на салфетках на столике.
— Если обстоятельств много, — сказала спокойно Катя, — значит, дело не в них.
— А в чем?
— В тебе самом.
— А как бы ты поступила на моем месте? — спросил Алик.
— Если бы я была мужчиной, я бы ответила.
Я допил пиво, поставил бокал на столик.
— Извините, увидел знакомого.
Поднялся и приблизился к двоим, которые выходили из кафе. Пена слетела с их бокалов, и сизый асфальт покрылся чернильными кляксами. Я протянул одному из них руку.
— Здравствуйте.
Он поглядел на меня удивленно, но руку подал.
— Мы познакомились, — напоминаю, — вчера на поминках. Как вы сегодня чувствуете себя?
Он не ответил и, проходя мимо, сказал приятелю:
— Здравствуйте, разве можно в таком деле доверять женщине?! Я почему против…
Но приятель оборвал его:
— И ты не почувствуешь даже, как…
— Как ты можешь помнить меня, — проговорил я мужчине вслед, — если ты заснул на поминальном столе, и, для того чтобы тебя разбудить, мне пришлось протрубить из горна.
Проходя около столика, за которым что-то писал моей ручкой пьяный, я заглянул в его блокнот.
— Он пишет стихи, — шепнул я Кате.
— У тебя мало времени? — спросил Алик у Кати, заметив, что она глянула на часы.
— Еще есть.
— Расслабься, — сказал я ей.
— Я устала, — Катя отодвинула от себя бокал с пивом и, поднявшись, добавила: — Пиво невкусное.
— Куда ты? — спросил ее Алик.
— Позвоню — отменю следующую встречу.
На ее ляжках отпечаталось плетеное кресло. Она перебежала через площадь, подошла к телефону-автомату у киоска, где я покупал газету, и стала набирать номер. Я отвернулся и наблюдаю, как лихорадочно пишутся стихи. Алик выбросил окурок и спросил еще раз:
— Может, я помешал?
— Нисколько.
Появляется уборщица, метет. Поднялась пыль — и на нас. Я засмеялся. Потом принесла ведро и швабру и стала протирать ступени у входа в кафе. Запахло хлоркой.
— Чему вы смеетесь? — спросил у меня Алик.
— Трудно объяснить, — задумался я. — Просто я очень был рад тому, что…
— Я вас понимаю, — посочувствовал Алик и обратился к уборщице: — А вы не могли помыть потом?
— А? — спросила, выпрямившись, она.
— А как вы считаете: этично ли спать с тещей? — спросил он, повернувшись ко мне.
Уборщица поняла и убралась. Один господин зааплодировал, кивая Алику.
— А что — вы переспали? — поинтересовался я.
— Я не женат, — ответил он.
— В таком случае почему это вас так волнует?
Вернулась Катя.
— Вполне, — ответил я самым серьезным тоном, — с тещей…
— Что? — спросила она.
— Ничего.
— К сожалению, вынужден вас покинуть, — театрально объявил Алик и поднялся с озабоченным лицом.
— Пока! — бросила ему вслед Катя.
Я смотрел на нее, а Катя наблюдала, как он уходит. Вдруг она сморщила нос и повертела головой:
— Что это за запах?
— Ну, так вот, — говорю.
— Чего? — не расслышала она из-за шума проезжающей машины и прошептала: — Вчера потеряла крестик.
— Ну и что?
Никого не стесняясь, задрала вверх ногу, как балерина.
— Видишь?
— Что?
— Синяк! И не знаю, где посадила.
Я говорю:
— Это случайность; совокупность случайностей.
— Я так не думаю. Это все неспроста, — объявляет. — И крестик потеряла, и синяк посадила — сразу после того, как мы вчера познакомились.
— Извините, — вернулся Алик. — Я забыл о самом главном!
— Ах! — воскликнул я.
— Что случилось? — испугалась Катя.
— Ушел и унес мою ручку, — напомнил я про пьяного поэта.
— Не надо из-за пустяка расстраиваться.
— Может, он пересел на другое место, — оглянулся Алик.
— Ладно, — махнул я рукой, — лишь бы стихи были хорошие.
— Пойду позвоню, — сказала Катя, — все-таки договорюсь о встрече на полвторого, — и снова перебежала через площадь.
— Может, он действительно куда-нибудь за угол зашел, — проговорил я и прошелся взад-вперед у кафе, а потом зашагал, не оборачиваясь.
Ветер доносит до меня барабан или даже несколько. Прохожу мимо церкви из красного кирпича с золотой луковкой. Ни души. Иду навстречу барабану, и барабаны движутся навстречу мне. Под ногами колышутся тени — от деревьев, сбрасывающих листья, — на глазах становящиеся прозрачней, голубей. За церковью пруд. Он покрыт блистающим на солнце ледком. Ветер срывает с дерева ветку и уносит на лед. По ветру она — как парус — скользит легко к другому берегу.
Иду вдоль забора с чугунной решеткой. Барабан все страшнее. Наконец вижу через решетку, как под барабанную дробь — строем — по квадрату — маршируют — в военной форме — мальчики. Я иду дальше. Слышу зычный голос начальника: «Налево шагом марш! — и тут же — не по уставу, с угрозой: — Я неясно выразился?» Я не хочу видеть его морду и не могу видеть их невыспавшиеся лица — будто вылепленные из пластилина непослушными пальчиками в детском саду. Вижу черную материю, красные лампасы и золотые пуговицы. Иду не спеша, хотя следует поторопиться — но я так иду, будто у меня много времени и я не знаю, куда его деть. Мальчики нагоняют меня, печатая шаг. И я заметил, как они прячут от начальника свои еще детские улыбки. И я иду быстрей — даже иду очень быстро, даже очень-очень быстро, но вскоре не выдержал и оглянулся.
С помпонами
Чтобы согреться, хожу взад и вперед, но не согрелся и тогда стал упорно глядеть вдаль, где смыкаются рельсы. Наконец опустил голову и увидел, что вымазал туфлю. Отошел в сторону и в измятой жухлой траве зашаркал ногой. Огляделся. После того как брызнул дождь, коровьи лепешки похожи на вылущенные подсолнухи. Неожиданно совсем рядом звенит трамвай, когда я устал его ждать.
Я присел в трамвае около молодой женщины в куртке с двумя помпонами из искусственного меха на тесемках и в шляпе с помпоном. Напротив нее глядит в окно мальчик. Рядом дремлет старик. Он открыл глаза, когда мальчик перебрался на колени к матери. И в трамвае холодно, очень холодно; прижавшись к маме, мальчик согревается.
— У тебя хорошая куртка, — сказал он ей, уткнув нос в меховой помпон, — когда вырасту, я своей жене куплю такую же.
По-прежнему он смотрит в окно. Там простирается голое поле.
— Не стучи ногой, — говорит женщина.
Мальчик перестал, но скоро опять застучал.
— Перестань!
Тогда он стал специально стучать. Мать дала ему подзатыльник и столкнула с колен. Мальчик сел напротив, продолжает:
— Холодно!
— Надо было спокойно сидеть, — говорит женщина.
У меня зонтик с изогнутой ручкой, и я вешаю его на поручень над головой. Мальчик достает из кармана мятые бумажки и — улыбнулся.
— Что это? рисунки? — спрашиваю я, пытаясь ответить ему тоже улыбкой. — Покажи.
Мальчик протягивает.
— Это мама? — спрашиваю.
— Нет, это тетя.
— А я думал, мама.
Мальчик по-прежнему улыбается. Мало того, он глядит на кончик носа, повернувшись к матери.
— Не кривляйся, — говорит она.
Трамвай поворачивает все еще в поле. Зонтик раскачивается у меня перед глазами. Я снял его с поручня и спросил у мальчика:
— Ты учительнице тоже так улыбаешься?
Мальчик промолчал. Мать отворачивается от него и смотрит в окно. Старик опять сидя заснул. В окне показались коровы.
— Посмотрите, какое у него выражение лица! — воскликнула женщина, обращаясь будто бы ко мне.
Я глянул в окно и увидел пастуха. Он стоит у края оврага и точно так же кривляется, как мальчик; затем я понял, что он не кривляется и не улыбается — а у него всегда такое лицо. Трамвай проехал мимо. Пастуха уже не видно. Только чахлые кустики. Неожиданно среди них вырастает котельная, из железной трубы валит черный дым.
— В школу сегодня не пойдешь? — спрашиваю, повернувшись к мальчику.
— Пойду.
— А тебе во сколько?
— К двум.
— Не успеешь.
Мальчик ничего не ответил. Я вернул рисунки и повторил:
— Никак не успеешь. Сейчас уже полвторого, — сказал, поглядев на часы.
— Сегодня не пойду? — с надеждой спрашивает мальчик у матери.
— Не стучи, — говорит она.
Он опять специально застучал.
— Получишь, — сказала мама.
— Не успею, — сказал мальчик. — Еще надо домой за портфелем зайти.
— Пойдешь ко второму уроку.
Мальчик вновь занялся рисунками. Прослюнявив их с обратной стороны, начал обклеивать ими лицо дедушки. Тот раскрыл глаза, но не двигался и покорно сидел, не шелохнувшись, как мумия, за все время не проронив ни слова. Женщина с помпонами закричала на сына:
— Что ты делаешь?!
Мальчик глянул на меня.
— Тетя вверх ногами, — заметил я.
Старик дрожащей рукой смахнул рисунки с лица. На щеках у него остались какие-то линии. Стараясь разгадать эти линии, я задумался и задремал.
Приснилось: река течет не вдоль берегов, а от одного берега к другому; вода очень прозрачная — на дне растет клубника. Я даже заметил гнилые ягоды. Протянул руку и проснулся.
Трамвай грохочет по городу. Я увидел в окне котлован, у кромки его — гору черепов и тут же несколько пустых бутылок из-под водки. Трамвай остановился. Я спохватился и вышел.
Не успевшая пожелтеть листва осыпается охапками. Облака на небе — словно клубки мускулов. Ветер сумасшедший. Все чаще выглядывает солнце. Я перешел с теневой стороны улицы на солнечную и, оглянувшись, увидел: какая синь — там, где я только что шагал. Над крышами небо уже обнаженное, яркое, цвета небесной крови.
Вдруг из-за угла прямо на меня выскакивает пожилой мужчина с синяками на розовом и пухлом лице. Я сделал шаг в сторону и направился дальше, но мужчина бросился за мной с некоторым даже нахальством, казалось бы, совсем не свойственным его интеллигентному виду и ясной улыбке.
— Извините! — воскликнул мужчина. — У вас не найдется два целлофановых мешочка?
— А одного вам мало? — спрашиваю; тут я заметил, что мужчина босой.
Он пояснил:
— А то меня домой не пустят.
— Пакетов у меня нет, — говорю резко и — смягчился: — Можно зайти в магазин и купить. У вас есть деньги?
— Как раз денег у меня нет.
— Давайте зайдем в магазин — мне все равно надо, — говорю. — Я вам куплю.
— Буду очень благодарен, — раскланялся незнакомец.
Я открыл перед ним дверь, и мы вошли в магазин.
— Вы хороший человек, — продолжал незнакомец. — Я как увидел ваше лицо, так и бросился к вам. У вас на лице написано…
Я молчу, хмурясь. Мы поднимаемся по скользким, вылизанным ступеням.
— Наверно, вам очень холодно по ним подниматься, — говорю.
— Нет, ничего, — отвечает незнакомец.
Он шлепает очень звонко по бетону. На втором этаже продавщица закричала на нас:
— Вы что, не видите — обед!
Мы поворачиваемся — и стали спускаться — так же торжественно…
— Извините, что я в таком виде и без рубля в кармане, но к завтрашнему дню… — пробормотал незнакомец.
— Я сегодня уезжаю, — говорю.
— Ах, как жаль, — огорчился мужчина. — А как далеко вы уезжаете?
— В Америку, — говорю, чтобы отвязался.
Наверх поднимается девочка с сеткой. Гулкое помещение наполнилось звоном пустых бутылок.
— Еще обед, — говорю девочке, но она на мои слова не обратила внимания и продолжает подниматься.
— В Америку?! — с отчаянием закричал незнакомец, когда мы вышли на улицу.
— Если пройти в ту сторону — должен еще быть магазин, и обед там с трех до четырех, — говорю. — Надо поторопиться…
Мы спешим по улице. Прохожие оборачиваются на нас, поражаясь не столько босым ногам, сколько несоответствием моим и моего спутника во всех отношениях. Я замечаю: на нас обращают внимание все подряд, и это меня развлекает. Плохое настроение, которое с самого утра тяготило меня, сменилось самым превосходным. Я шел и посвистывал.
— Жалко, что вы уезжаете, — сказал незнакомец, — вы хоть адрес оставьте.
— В Америке?
— Да.
— Я не знаю в Америке адреса, — говорю.
— Тогда вы оттуда напишите мне, — попросил он. — Запишите адрес.
— У вас есть чем писать?
— Нет, но вы легко можете запомнить.
— У меня плохая память, — говорю, махая зонтиком.
На лбу у незнакомца образовалась глубокая складка. Она приподнялась, а все лицо опустилось.
Я заметил, как бедняга переживает, и поспешил:
— Говорите, говорите, я обязательно запомню!
Теперь я посочувствовал по-настоящему, и у меня появилось желание помочь ему ощутимее, чем просто купить целлофановые мешки на ноги, но тут увидел женщину в куртке с помпонами из искусственного меха и в шляпе с помпоном. Она уже, видно, отправила мальчика в школу. Она брела навстречу, глядя вниз. Помпон вздрагивал при каждом шаге над самой переносицей. Ему же место было немного сбоку. Незнакомец рядом что-то кричит, какие-то цифры, будто из них складывается счастье. Я подошел к женщине и поправил на ней шляпу. Женщина подняла голову, и я увидел, что обознался. Но она не стала возмущаться — на ее лице просквозила благодарность. Я понял: за всю жизнь никто к ней — как я — не подошел — и не поправил шляпу.
Куда ты спешишь?
Отправился сначала к Анарееву — у него дома никого, тогда — к Филе.
— Ушел от Любы, — объяснил я ему. — Можно, оставлю чемодан?
— Оставляй, — сказал Филя и добавил: — А у меня все наоборот.
— Что такое?
— Ушла жена.
Зазвонил телефон, и Филя передает мне трубку.
— Кто это? — удивляюсь.
— Сам знаешь — кто, — усмехнулся Филя. — Как она чувствует, где ты!
Услышав знакомый голос, я приуныл.
— Анареев приглашает нас в ресторан, — залепетала по телефону Люба, — а я не хочу, чтобы он знал, что мы уже не живем вместе.
— Не ходи с ней, — прошептал Филя, но Люба так настаивала, что я согласился.
— Дурак! — сказал мне Филя.
В ресторане вместе с Любой меня ожидала Ася, а ее Анареев, как всегда, опаздывал. Электричество здесь не включали — в зеркалах отражались фонари на улице. Молоденькая официантка зажгла у нас на столе свечу на подсвечнике. Я не мог оторваться от голубых глаз официанточки. В полумраке они светились, вобрав в себя огни от всех фонарей и свечек. Официантка повернулась ко мне, умоляя, чтобы я так не пялился на нее, и я посмотрел в окно. Прохожие стали оглядываться — уж не знаю, куда смотреть, — решил размять ноги… Выйдя из туалета, не мог при свечах найти Асю и Любу; ходил от одного столика к другому, заглядывал в лица дамам, пока не увидел голубоглазую официантку, и я бросился к ней.
Выяснилось, что в ресторане два зала, — между ними туалет, и я из туалета вышел в другой зал, перепутал дверь, как всегда. Я так растерялся, что официанточка не могла удержаться, чтобы не захихикать, и, если бы я специально захотел познакомиться — ничего бы не вышло, а так ничего не стоило взять у нее телефон.
Когда я вернулся, Люба спрашивает:
— Ну что — познакомился?
— С кем?
— Сам знаешь — с кем!
— С кем я мог познакомиться в мужском туалете?
— Я не знаю, где ты был, — заявила Люба, — но у тебя на лице написано, с кем ты сейчас познакомился…
Наконец прибежал Анареев.
— Почему вы, Ася, опоздали?! — запыхавшись, закричал на жену — да еще на «вы», в то время как сам опоздал на полтора часа.
Рубашка у него на спине и под мышками взмокла, и он платочком вытирал пот со лба.
— Что будем пить: водку или самогонку?
— Конечно, самогонку.
— Ездил на выходные в деревню, — Анареев, присаживаясь за столик, достал из портфеля бутылку. — Чем это пахнет? — покрутил недовольно носом. — Как в парикмахерской! А, это пахнет цветами, — догадался он и, размахивая руками, едва не опрокинул со столика вазу.
Проходила мимо официантка и оглянулась. И я оглянулся на нее, а Люба заметила. Подхватившись, она размахнулась, чтобы закатить мне пощечину, но ей помешал стол, заставленный тарелками, еще ваза с цветами, и Люба попала не в меня, а в Анареева, который сидел рядом.
Он выпучил глаза, ничего не соображая, и я поспешил ему разъяснить, что пощечина предназначалась мне, но Люба промахнулась. Весь вечер был испорчен. Люба расплакалась и долго не могла успокоиться. На нас оглядывались. Анареев поспешил расплатиться и, выходя из ресторана, спросил у меня:
— Почему твои женщины всегда плачут?
— Люблю плакс, — ответил я.
Любу нельзя было оставить, и мне пришлось провожать ее. Всю дорогу она прохныкала, но потом успокоилась и пожелала погулять вокруг дома.
— Мне еще ехать, — напомнил я, сам не зная, куда поеду.
— Куда ты ночью? — сказала она. — Ляжем спать в разных комнатах.
Никак я не мог уснуть. Долго ворочался и, когда под утро задремал, увидел сон: ночь и плеск волн. Я плыву по какому-то каналу. Рядом еще люди с узлами на плечах, и мы будто пересекаем какую-то границу. Канал суживается, так что можно проплыть только по одному, а по сторонам сваи. Волны плещут о сваи. Тут я проснулся и поднял голову. Я не мог понять, что это капает, и — закапало быстрее; кажется, сейчас польется струей. Не сразу я сообразил — это не капает, а часы тикают.
Я глянул на стрелки на часах и вскочил. Поспешил умыться и одеться, но Люба, наплакавшись вчера, еще не встала, а мне неудобно было, не попрощавшись, уйти. Слоняясь из угла в угол, я обрадовался, когда она позвала меня. Она еще лежала в постели и, глядя в потолок, спросила:
— Почему у нас не получилась жизнь?
— Кто-то у тебя был такой, — стараясь не обидеть Любу, начал я, — кого ты очень любила, и ты хотела, чтобы и я был такой, но я не такой. Наверно, я оказался самый никудышный.
— Почему ты так думаешь? — сказала она, поднимаясь из постели и обнимая меня. — Другие еще бестолковее! Если бы ты знал, как с Анареевым…
— Ну и как?
— Да никак.
— Когда ты успела с ним? — удивился я.
— Когда ты был в деревне, — ответила Люба, невинно улыбаясь.
— Ладно, мне надо ехать, — прошептал я, гладя ее, теплую, из постели. — Ну что еще… — Звонит телефон, а она в меня вцепилась, не отпускает. — Ладно, — освобождаюсь из ее объятий, — надо подойти к телефону, мало ли кто, — и, услышав Анареева, обрадовался: — А мы только что тебя вспоминали.
— Как вчера доехали? — спросил он и, не дожидаясь, что я отвечу, добавил: — Почему ты так одеваешься?
— Как — так?
— На тебя в ресторане все оборачивались, — сказал Анареев. — Купи себе приличный костюм — и у тебя пойдет по-другому жизнь. У тебя есть деньги?
Выйдя от Любы, хотя денег не было, я поспешил в магазин, чтобы выяснить, как сейчас одеваются. Чего я ни перемерил — всякий раз боялся в зеркало посмотреть, костюмы с иголочки висели на мне, как на пугале, и я понял: дело не в одежде…
Продавщица спросила, какой я хочу костюм, а я не мог объяснить, пока не сообразил:
— Не такой, в каком хоронят…
— Вам лучше зайти в другой магазин, — посоветовала она, но не сказала — в какой, и я вышел на улицу.
Опять снег, когда давно уже по календарю весна. В голове одни неприятные мысли, и тут я вспомнил, что познакомился вчера с официанточкой. Позвонил ей из автомата и договорился завтра встретиться — настроение сразу подскочило. Я не туда повернул и попал в какое-то пустынное место. Я люблю такие места и люблю идти куда-то дальше и чего-то ожидая. Я не заметил, как снег перестал падать. Вокруг так бело, что больно глазам, и если так изо дня в день больно, и небо такой же ровной серой пеленой со всех сторон, то сам не знаешь, какой хочется душе костюм.
Я прибрел к железнодорожным путям. Стежка вдоль них угадывалась под навалившим снегом, и я направился к вокзалу. Как хорошо сейчас выпить и как будет тогда радостно среди этого белого со всех сторон. И эта тоска, когда снежная чистота сливается с небесной, превращается, если выпьешь, в сердечное веселье, и будешь падать в снег, как в детстве, катаясь на санках с горки. Я так размечтался, что зашатался, будто пьяный, и мне стало радостно брести по снегу, как начал накрапывать весенний дождик.
Я пришел за чемоданом к Филе. Он не заметил моего прекрасного настроения, однако вспомнил про ресторан:
— Как вчера погуляли?
Я весь мокрый, дрожу, а этой ночью долго не мог заснуть, и глаза слипаются, будто действительно хорошо вчера погуляли.
— Да, — говорю, — погуляли. Можно я полежу на диване?
Только лег — зазвонил телефон. Филя поднял трубку и позвал меня.
— Люба? — спросил я.
— А кто же еще, — ухмыльнулся Филя.
— Я хочу, — сказала Люба по телефону, — чтобы ты приехал ко мне.
— Ты не представляешь, как я устал, — вздохнул я, слыша, как барабанит дождь по жести за окном.
— Тогда я приеду к тебе.
Я повернулся к Филе.
— Ты не против, если приедет Люба?
— Пускай приезжает, — сказал Филя, — и поможет помыть пол.
— Я тоже могу помыть пол, — раздался из кухни женский голос.
Филя подмигнул мне, и я прошел за ним на кухню, где женщина с распущенными рыжими волосами жарила рыбу.
— Будешь в муке валять? — спросил Филя у нее.
— Не буду.
— Ты же раньше валяла.
— А сейчас не валяю.
— Почему ты сейчас, Нина, не валяешь?
— Ну, вот раньше валяла, — отвечает, — а сейчас не валяю.
— Ты что, Филя, не понимаешь; одно и то же всю жизнь надоедает, — поясняю, — и надо хотя бы в мелочах добиваться разнообразия.
— Но и это по существу ничего не меняет, — заметила Нина.
— А перевернуть всю жизнь по существу невозможно.
— Почему?
— Невозможно повернуть вспять реку.
— Перестаньте молоть чепуху, — сказал Филя.
— Почему? — обиделась Нина.
Только сели обедать, звонит в дверь Люба. Филя открыл и пригласил Любу к столу, а она, поздоровавшись с рыжей Ниной, восхитилась:
— Какие у вас красивые волосы!
— Я их сегодня покрасила, — похвасталась Нина.
— Я тоже хотела бы покрасить.
— Могу вас научить.
— Не надо, — сказал я.
— Научите, — лишь бы мне наперекор попросила Люба. — Я хотела бы еще подкоротить волосы, а то здесь, — она показала на затылок, — так греет, что иногда дурно становится, а вам греет?
— Иногда, — задумавшись, ответила Нина. — Поехали ко мне, — предложила, — я тебя подстригу и покрашу волосы.
— Я хочу еще рыжее, чем у тебя! — подхватилась Люба, также перейдя на «ты», и я вышел с Филей, чтобы подать женщинам пальто.
Когда дверь за ними захлопнулась, я вздохнул, а вслед за мной и Филя вздохнул, и я поинтересовался, что это за Нина.
— Моя первая любовь, — ответил Филя.
Вспомнив, что от него ушла жена, я посоветовал:
— Тебе сейчас первая любовь ни к чему, найди какую-нибудь легкомысленную девчонку.
— Я думаю, — сказал Филя, — лучше выпить.
Он стал собираться в магазин, а я, когда вышли из квартиры, оглянулся с чемоданом.
— Украли номер!
— Какой еще номер?
— С двери, — показываю.
Филя махнул рукой; когда ушла жена — не жалко номера, и мы скорее выбрались на улицу.
— Кому-то стало жарко, — показываю на пальто в снегу у ворот больницы.
— Странно, что никто не поднял, — удивился Филя.
— Наверно, только брошено. Мы, — говорю, — первые…
— Нет, уже давно лежит, — возразил он. — Я, когда ходил за рыбой, уже валялось. И еще — вон! — костыли — обрати внимание…
— Тогда все понятно!
— А я не понимаю, — пожимает плечами.
— Произошло чудо, — говорю. — Мы свидетели.
Филя — в магазин, а я поспешил с чемоданом к Анарееву. На остановке долго ожидал автобуса; собралась толпа — и я столкнулся со своей первой любовью; она тут же отвернулась от меня к пьяненькому мужу. Если бы я женился на ней — может, и я стал бы таким. Никогда не чувствовал, а сейчас почувствовал себя счастливым, что так живу, как я живу.
Пришел к Анарееву — дома одна Ася.
— Чего ты такой?
— А ты заметила? — удивился я. — Встретил сейчас на остановке свою первую любовь, — как ни в чем не бывало говорю, — сделал такое лицо, будто вижу ее впервые, и отвернулся.
— Почему?
— Она наверняка бы спросила про мои дела, а что я бы ей ответил?
— Чего ты прибедняешься? — ухмыльнулась Ася. — Тебя сегодня видели, как ты выбирал костюм в одном из самых дорогих магазинов, куда даже мой муж не заглядывает.
— Кто же это мог видеть меня там, если даже твой Анареев туда не заглядывает? — сказал я, удивляясь, какой у нее появился любовник, и Ася прикусила язык — как легко можно проговориться.
Мне не дал погрустить Анареев — явился в новом пальто.
— Ну как? — спросил, поворачиваясь перед зеркалом.
— Отлично! — восхитился я, и Ася подхватила: — Очень хорошо!
— И я тоже так думаю, — еще раз он поглядел на себя в зеркале и захохотал. Анареев так хохотал, что слезы вытирал с лица. — Фу, устал, — вздохнул, а я по себе знаю, если так смеяться, конечно…
— Что такое?
— Устал, — повторил Анареев; у него на лице появилось выражение, какое бывало, когда он работал дворником на кладбище. И вдруг прошептал мне на ухо: — Слушай, а та официантка вчера — она ничего!
Я чуть не сказал ему: спасибо, что напомнил; уже забыл, что договорился встретиться. Я посмотрел на себя в зеркало и сделал холодное лицо, чтобы не потерять голову перед встречей с официанточкой; кажется — ты еще мальчишка и все впереди. Снял с вешалки куртку и тут же уронил, затем шапка на полу.
— Куда ты спешишь? — спросил Анареев.
На улице опять метет, как зимой. Я прибрел к пустырю у железной дороги. Вокруг так бело, что хочется выпить. На привокзальной площади никого — кажется, что я в поле, и вокзала за метелью не различить. Вдруг стихло — надолго ли; как будто глубокий вздох слышу; обернулся — среди снега огненного цвета волосы. Люба машет рукой; с короткой стрижкой она будто помолодела и счастлива.
Птичка
Поезд остановился среди поля. Вдруг сделалось очень тихо, так тихо, что в ушах зазвонил телефон, много телефонов. Я открыл окно. Сильный ветер. Яркое солнце на синем небе. Что-то еще свистит.
— Юрр, — позвала.
— Тише, — прислушиваюсь.
— Я приготовила.
— Что — приготовила? Прошу тебя — помолчи.
Наконец сообразил. Рядом с железной дорогой — шоссе. Под ним проложена в ложбине бетонная труба — и это ветер свистит в ней. По ту сторону шоссе на железной цепи лошадь. Зевает.
— А теперь — можно? — спрашивает Даша.
— Что — можно?
— Ничего, — рассердилась. — Кушать подано!
— Никогда не видел, — присаживаюсь к столику, — как кобыла зевает, — и сам зеваю.
Открываю бутылку вина.
— Чего мы стоим? — спрашивает. — В поле…
— А куда нам спешить? — налил и ей.
Даша подняла стакан и выпила. Тут вагон так дернуло, что у меня из полного пролилось.
— Не надо много рассуждать, — говорит.
Голый пейзаж за окном поплыл. И я выпил.
— Какая гадость, — скривился.
— Закрой окно, дует, — попросила Даша.
— Минуточку, — закусываю.
— Как хорошо, что взяли общий вагон, — сказала Даша.
— Закусывай, — говорю ей.
— Холодно.
Я закрыл окно.
— Закусывай, — повторяю.
— Есть не хочу. Еще выпить.
Налил ей, не успел — себе, Даша уже выпила. Глаза ее делаются прозрачней, ангельское лицо бледнеет.
— А я проголодался, — будто оправдываясь, наворачиваю.
— Хорошо, что взяли общий вагон, — повторяет.
— Почему?
— Одни в вагоне.
— Это случайность. Обыкновенно на третьих полках спят.
— Почему ты все время улыбаешься? — спрашивает Даша и сама себе наливает.
— Ты что-то много себе позволяешь, — говорю.
— А ты же меня не знаешь, — говорит.
— Я — тебя? — усмехаюсь.
— Так — почему?
— Что? — не понял.
— Что за чертовская улыбочка? — прошептала и обольстительно улыбнулась сама.
— Привычка.
— Странная привычка. Когда вот этот глаз косой и еще улыбка — у тебя получается не лицо, а свиное рыло. И — с каким выражением, если бы ты знал!
— С каким?
Она молчит.
— Чего не отвечаешь?
— Слов не нахожу. Но я тебя не боюсь. Слышишь?!
— Слышу.
— Мне тебя жалко.
— И какой еще глаз косой? — спрашиваю.
— Вот этот — когда выпьешь.
Я встал, иду, дернул за ручку — проводник выглянул из своего купе.
— Открыто в том конце.
Иду назад; когда проходил мимо Даши, она проговорила:
— Дурак…
Иду дальше. На скамье лежит девица. Поднимает голову. Волосы спутанные, и взгляд испуганный. Оказывается, не одни мы в вагоне. Действительно, открыто. Захожу. Окно замазано белой краской. В щелку врывается ветер. Я посмотрел на себя в зеркало. Нормальные глаза. Чего она выдумала? А где же улыбочка? Пожалуйста. Ничего с собой не поделаешь.
— Уже приехали, выходим! — Даша стучит кулаком в дверь.
Я бегу за ней по вагону в другой конец, где выход. За окнами замелькали стены и столбы. Столбы дыма. На солнце дым сверкает, как стекло.
Даша показывает:
— Смотри, твой папа!
Поезд остановился у вокзала. Совсем рядом по перрону прошел папа под руку с девушкой. Я посмотрел на нее и сразу вспомнил о лошади на железной цепи. Лошадь была похожа на нее, или, вернее, она была похожа на лошадь, которая зевала.
Я вышел с Дашей из поезда. По перрону едет на велосипеде мужчина в клетчатом пиджаке и держит на поводке большую черную собаку. Она бежит рядом чинно… Вдруг выскочили три дворняжки. Мужчина в клетчатом пиджаке успел отпустить поводок. По мосту над путями идут солдаты. Как по команде оглянулись на собачий визг. Мужчина слез с велосипеда. Черная собака вернулась к нему. Поводок по асфальту — как колокольчик. Что-то на нем металлическое. Блестит. Колечко. Велосипедист в клетчатом пиджаке нагнулся за колечком и поехал дальше. Большая черная собака еще несколько раз гавкнула. Черная пасть. Солдаты спустились с мостика на второй путь. Сержант скомандовал: «Стой! Раз-два». Кто-то еще топнул. Сержант внимательно… У него на деревянном лице собачьи глаза. А у солдат за спинами в мешках лебединые крылья; никто, конечно, не видит, а я знаю. Вот и папа идет с бананом около дворняжек. Они еще рычат и смотрят в сторону удаляющегося велосипедиста. Глаза у них у всех голубые, как у солдат. У папы на лице слезы. Нехорошо подсматривать, но так получилось. Я взял за руку Дашу и пошел вслед за папой.
— Ты плачешь? — спросила у него девушка.
— Это от ветра, — сказал папа.
— Я бананы не ем, — продолжает девушка. — Ты позвонил?
— Да.
— Неприятная новость?
— Да, — кивнул папа, — то есть — нет.
— Я же вижу.
— Успокойся, — пробормотал папа.
— Мне-то что, — говорит девушка. — Я бананы не ем, — повторяет, — не ем.
— Почему?
— Не люблю.
— Почему?
— У них вкус мыла.
— Кто тебе сказал? — и тогда папа сам откусил. — Было еще мороженое, но сегодня и так холодно. Что же тебе купить?
— Колечко.
Они подошли к магазину — уже закрыт. Повернули на пустынную улицу, папа выбросил в кусты шкурки от банана и поцеловал девушку. По улице проскрежетал мотоциклист.
— Ах! — вскрикнула девушка.
Она выбежала на дорогу, присела на корточки, затем вернулась с птичкой в руке.
— Отнеси ее и положи подальше в кусты, — сказал папа. — Может, оживет.
Девушка понесла птичку, а я смотрел на закат. Очень мне тревожно становилось, глядя на пылкие краски. Они разгорались все ярче, притягивали взор — и оторваться от этого прекрасного каждый вечер зрелища не было сил. Деревья в парке почернели, а подстриженная трава приобрела очень яркий, неестественный для живого холодный, даже ледяной оттенок.
— Ах! — поморщился я.
— Что? — спросила Даша.
— Мошка в глаз попала.
— Не три, — сказала Даша, — дай посмотреть.
Достала носовой платочек и тоненькими пальчиками оттянула мне веко. Я замер, еле сдерживал себя, чтобы не взмахнуть крыльями… затем проговорил:
— Холодно, не иначе снег пойдет, а мошкара кружится.
— Готово, — показала Даша на платочке.
— Наверно, та птичка ловила мошек, — догадался я.
— Она умерла, — пробормотала, вернувшись к моему папе, девушка. — Потянулась, закрыла глазки, затрепетала и умерла.
— Как жалко! — воскликнул папа.
Счастье
— Нажимаю на клавиши, будто клопов давлю, — вздохнула Соня, играя на пианино, а я упал перед ней на колени, уткнулся лицом в юбку и закрыл глаза, обнимая.
И, когда я ее обнимал и не дышал, она еще раз вздохнула.
— Ты что, не видишь — мне неудобно играть, — прошептала. — У тебя голова тяжелая, как гиря. Встань! — Опустила крышку пианино и сама поднялась со стула. — Давай хоть немножко поспим.
Не раздеваясь, легла лицом в подушку, а я целовал ее волосы.
— Пусти, — пробормотала Соня, слезая с кровати. — Закрой глаза.
Я услышал, как она за шкафом раздевается, и у меня так застучало сердце, как никогда не стучало, и я не мог расстегнуть пуговицы. Когда я открыл глаза, Соня, в ночной рубашке, нажала на выключатель, но было утро, а не вечер, и она свет не выключила, а включила.
— Автоматом, — пробормотала она, поспешила выключить электричество и легла рядом со мной.
Я осмелился дотронуться до нее.
— Какой ты горячий, — изумилась Соня.
— Ах! — не вытерпел я.
— Не переживай, — пожалела она меня.
— Я очень долго тебя ждал, — объяснил я.
— Еще успеешь, — улыбнулась Соня. — Давай спать!..
Она закрыла глаза и, казалось, уснула. Я тоже закрыл глаза, но заснуть не мог. Через минуту почувствовал, как ее реснички царапают мне щеку, и открыл глаза.
— Ты не спишь?
— Я уже выспалась, — ответила Соня. — А ты поспал?
— Не могу уснуть, — говорю. — Пошли гулять…
Солнце, высоко поднявшись, начало припекать. По улице слонялись куры с разинутыми клювами. На жаре после бессонной ночи совсем разморило. Голова моя была тяжелая, как гиря. Я взял Соню под руку, а идти вместе — у нас ноги переплетались. Подойдя к речке, мы легли в траву и обнялись, не волнуясь — видит ли нас кто или не видит. Солнце жгло невыносимо, а на голом берегу ни одного деревца, чтобы укрыться в тени.
— Давай, — предложила Соня, — искупаемся.
— Еще усну в воде, — испугался я.
Мы поднялись и побрели дальше по берегу. Под мостом Соня сбросила с себя кофточку, затем и лифчик. Над нами проезжает машина, бревнышки перестукивают под колесами одно за другим, а я ухватился за Сонины груди, словно за какие-то мешки, словно кули какие-то, и почувствовал, будто у меня на голове не волосы, а бревна…
— Ох! — вздохнула Соня.
— Чего? — спрашиваю.
— Ноги, — отвечает, — не держат.
Когда мы потом взобрались на мост, опять едет грузовик. Из кузова зерно сыплется. Тут же голуби кружат. На перила села маленькая птичка, глянула на меня бусинкой и вспорхнула. Соня достала из сумочки зеркальце и поправила прическу.
— Куда пойдем?
Я не помню, как мы очутились за вокзалом у заброшенного фонтана. По перрону, ожидая поезда, снуют люди с чемоданами. Мужчина несет ребенка на плечах, остановился — на ботинке развязался шнурок. Жена нагнулась и завязывает ему шнурок, а этот мужчина оглянулся на Соню, и я обнял ее.
— О чем ты думаешь?
— Я, — отвечает, — думаю о том, о чем и ты думаешь.
Я не смог удержаться, поцеловал Соню и засмеялся. Скрипит на велосипеде старик, объезжает вокруг фонтана. Одной рукой держит руль, а другой — держится за сердце. За стариком бежит мальчик — нехотя подглядел, как я поцеловал Соню. Тощий и бледный, он опустил глаза и побрел дальше, затем еще раз оглянулся — не на Соню, а на меня, — и я почувствовал, как горят щеки; мне стало стыдно перед этим бедным мальчиком за свое счастье. Я зашагал быстрее.
— Куда ты? — догоняет Соня.
На привокзальной площади рядом с автостанцией столики под зонтами. Я зашел в кафе, и Соня за мной, но тут же повернула назад.
— Душно, — сказала она. — В жару лучше на воздухе.
От стены падала серая тень. Мы сели за один из столиков в тени и заказали по тарелке борща. Люди после поезда разошлись, разъехались, и площадь перед вокзалом опустела.
— Чего ты молчишь? — спросила Соня.
— Не знаю, что сказать, — ответил я.
Вскоре подоспел официант с подносом и поставил перед нами тарелки. Поднялся ветер, зонтик захлопал над головой — столик покачнулся, и борщ из тарелок пролился. Мы схватились за столик.
— Терпеть не могу, — пробурчал официант, — подавать на эти столики.
— Надо поставить нормальные столики, — сказала Соня.
— Это не мне говорите, — заявил официант и ушел.
Ветер усилился; столик стоял на одной ножке, сплюснутой как у рюмки внизу, и, чтобы он не качался, нам пришлось придерживать ногами эту ножку — и так вот ели, а зонтик надувался парусом.
— Куда ты смотришь? — заметил я.
На дедушкином велосипеде едет назад тот мальчик, который подглядел, как я поцеловал Соню. Ветер дунул сильнее и перевернул один из столиков — выбежали рабочие и унесли под крышу остальные. Мальчик проехал мимо, но развернулся и у кафе остановился.
— Почему он так смотрит на тебя? — удивилась Соня. — Не улыбайся!
— Разве я улыбаюсь?
— Посмотри, — достала из сумочки зеркальце.
Я посмотрел на себя в зеркальце и пожал плечами.
— Не знаю, — говорю, — почему он так смотрит на меня.
Рабочие ожидали в дверях, когда мы уйдем, чтобы убрать и наш столик. А мы еще хотели здесь побыть, но очень тяжело сидеть, когда над тобой стоят, и мы ничего уже не могли сказать друг другу.
— Позовите официанта! — попросил я рабочих.
Они стояли рядом с мальчиком, а тот по-прежнему не сводил с меня глаз. Соня наконец догадалась, почему он так смотрит на меня, и тоже так посмотрела. Наконец подошел официант, и я поспешил расплатиться, кожей ощущая, как все смотрят на меня. Соня вдруг вскочила и побежала.
— Куда ты? — догнал я ее.
На проводах над перекрестком светофор. Не помню, на какой цвет надо переходить улицу. Перебежали, идем дальше, к следующему перекрестку. Еще один светофор. Непонятно, зачем они висят. Пока прошли от одного светофора к другому — не проехала ни одна машина и не показался ни один человек.
— Только не молчи! — взмолилась Соня. — Смотри!
Едет грузовик. В кузове стоит лошадь — проехала рядом со светофором; еще чуть-чуть — и светофором по морде. Мы свернули в переулок, где не асфальт, а песок. У заборов крапива исторгала такие резкие, острые запахи, как от бродяг на вокзале. Я вошел за Соней в калитку, поднялся по крыльцу в дом и, закрыв за собой дверь, услышал, как сердце не умещается в груди, а Соня схватила меня за руку и подтащила к зеркалу.
— Не отворачивайся! — попросила.
Смотрю на себя и улыбаюсь, а она вдруг размахнувшись ударила меня, ударила больно, но больше я был удивлен. Соня расплакалась; я гладил ее по вздрагивающей спине, целовал, а потом, когда она успокоилась, спросил:
— За что же ты меня ударила?
Опять у Сони слезы; я шагнул к зеркалу — и тут же отвернулся от расплывающейся от счастья улыбки…
Возвращение на родину
Хроника
Когда у моего дяди умерла жена, бедняга сильно переживал, так что места себе не находил. Невозможно было равнодушно смотреть на его страдания. Зная про редкую любовь между ним и покойной и предполагая, что участь его облегчится, если дяде мысленно перенестись в иные времена, когда любимая женщина находилась рядом, — я предложил ему написать воспоминания о чудной возвышенной любви. Дядя с восторгом откликнулся на мое предложение. Ему нужно было некое дело, которое отвлекло бы от сегодняшнего дня. С вдохновением принялся он за писание. Однако, нацарапав с десяток страниц, — задумался. Начал он с того дня, когда впервые увидел умилившую его сердце, но затем понял, что воспоминания следует начинать с давних времен — еще до появления себя на свет, так как осознал, что ничего случайного в жизни не бывает, а все происходящие в ней события служат для возникновения любви. Снова взялся дядя за свои воспоминания — уже с лет, предшествующих его рождению, но, написав несколько страниц, опять приуныл. «Какие, дядя, появились новые трудности?» — спросил я, имея определенный литературный опыт. «Описываю события, происшедшие до моего рождения, по рассказам родителей и старших братьев, но часто одни родственники рассказывали одно, а другие другое про одно и то же…» — «Так в чем дело? — рассмеялся я. — Записывайте так, как вам покажется вернее и… прекраснее». — «Печальнее? — переспросил дядя, не расслышав или понимая прекрасное — как печальное или печальное — как прекрасное. — И еще: часто мои родные совершали поступки дурные, например — хотя бы и твой отец смолоду, — дядя опустил глаза, застыдившись меня, будто сам был виноват во всем… — и другие твои дядья, и мне неловко писать нехорошее как про умерших, так и про живых…» — «Из этого положения можно выйти, — подумал я и предложил дяде изменить реальные имена на вымышленные… — И вообще, можете написать свою повесть от третьего лица; вы почувствуете себя свободнее, когда захочется выразить чувства сокровенные…»
Дядя умер, так и не окончив воспоминаний. Смерть застала его в ту минуту, когда он описывал впервые увиденную свою будущую супругу. Наверное, мой дядя разволновался, припоминая встречу, до такой степени, что сердце его не выдержало. Я чувствую значительную вину в его смерти и теперь сожалею о том, что предложил дяде взяться за перо, хотя, может быть, воспоминания и продлили его жизнь. Впрочем — кто знает…
После похорон я собрал драгоценные для меня дядины каракули, разбросанные в беспорядке по всем его комнатам. Видимо, для покойника листы исписанные ценности не имели, и дядя не заботился об их сохранности. Для того чтобы вникнуть в содержание каждого листка, потребовались время и усилия, и, лишь переписав их и отделив черновики от чистовиков, я взялся раскладывать рукопись в той очередности, в которой, как мне показалось, дядя писал свои воспоминания. Кроме незначительных деталей я старался ничего не изменять в дядиной повести, лишь для удобства при чтении пришлось разделить ее на главы.
Глава первая
В унылый предосенний день, самый обыкновенный, братьев Вани, когда его самого еще не было на свете, подняли в жуткую рань, умыли, одели, вывели во двор и посадили на телегу, в которую уже оказалась запряжена печальная лошадь, и объявили им, что они отправляются жить в город Октябрь.
Было еще прохладно, но солнце все сильнее и сильнее сверкало за деревьями и пробивалось золотыми потоками сквозь не дышащую в тишине листву. За огородами около речки собирался туман: только большие серые стога плыли над лугом. Ворковал где-то, словно кукушка, дикий голубь, а самой кукушки уже давно не слышали — пора ее миновала. Из трубы родного дома струился дым и рассеивался, и пахнуло на собравшихся у ворот. Ребятишки, опомнившись, соскочили с телеги и стали подбирать опадки под яблоней; старшие еще потрясли ее — вразнобой застучали об землю сладкие плоды, и роса окропила одежду; тихая и ласковая бабушка, прослезившись, натолкала внукам яблок в карманы новых непривычных костюмчиков и забросила еще в телегу, когда они уселись окончательно. Родители мальчиков, Марфа Ивановна и Митрофан Афанасьевич, налегке, только прихватив с собой сумку с обедом, водрузились рядом на телеге, в голос с благодарностью вспоминая несчастного брата Марфы Ивановны — Якова, которому во многом и обязаны были переездом. Митрофан Афанасьевич взял разрыдавшуюся жену за руку и при детях поцеловал мокрые соленые пальчики; слезы Марфы Ивановны полились еще пуще, но, когда она успокоилась, глаза ее просветлели. Старый отец ее, провожающий семейство дочери, давно дожидавшийся, пока внуки усядутся, дернул за вожжи, ничего не говоря лошади от слабости в голосе; лошадь тронулась, колеса заскрипели.
Ребята поехали по улице Гробова с каким-то новым чувством, с ощущением неизвестного чудного начала, и поэтому с волнением и трепетом рассматривали окрестности, будто видели их в первый раз. Выехав на простор, где серебряные травы горели на солнце бесчисленным множеством миниатюрных радуг в каждой росинке, Митрофан Афанасьевич запел тихо задумчивую песню, а Марфа Ивановна заснула, раскрасневшись, и под горячими лучами отяжелели головы их детей, с усилиями вглядывающихся вокруг, чтобы запомнить все картины и впечатления. Еще не понимая тогда: зачем так важно им запечатлеть это путешествие, братья только предчувствовали, что после совсем забудут детство в Гробове, а если что и останется у них в памяти, то непонятно, из какой жизни: их самих, или из рассказов родителей, или, может, других родственников, или даже, может быть, не существовавшей вовсе выдумки, — но это путешествие, как потрясающий обман, они будут вспоминать всю последующую жизнь.
Лошадь сбежала с горы, и путешественники, задумчивые и восторженные одновременно, очутились как бы в ватном облаке, солнце превратилось в маленький оловянный круг, по которому плыли белесые клочья, пока совершенно не закрыли его, и дети взирали из телеги мутными от слез глазами. Холодный дым — а по мере того как лошадь опускалась по дороге ниже, он становился все гуще и белее — окружал переселенцев. Мокрое курево вокруг, как отрава, проникало в рот и в горло и пробиралось внутри даже до живота. Братья ехали, стуча зубами от промозглой сырости, а когда лошадь встряхивала головой и ржала, влажный воздух вокруг колыхался. По сторонам, когда седые космы вдруг неслышно уплывали, за ними появлялись разросшиеся лозы на лугу и на бугорках кривые березки. Но бесшумно и почти внезапно опускались сверху новые воздушные перины, и становилось тяжелее дышать, и даже заплаканная Марфа Ивановна проснулась и удивилась. Тут отчетливо, как в бочке, послышались шаги лошади, и под находящимися в телеге по-особому загрохотали колеса, и сбоку проплыли перила моста, и пахнуло теплотой еще не остывшей после вчерашнего жаркого дня воды, даже не воды, а парного молока. Но стук копыт и гром колес как внезапно возникли, так и смолкли. За насыпью дороги, внизу у самой воды, в окружении старых верб, показался маленький ветхий домик, где жили другие дедушка и бабушка братьев — родители Митрофана Афанасьевича, а далее на другом высоком берегу речки Сосны находилась невидимая за туманом деревня, откуда путешественники сейчас выехали вкруговую по дороге. Можно было крикнуть и попрощаться с родиной, и ребята раскрыли даже рты, но голоса их пропали от волнения, только кто-то вымолвил слова прощания, а телега катилась и катилась, и никто из близкого ветхого домика не услышал их и не вышел; да еще кто-то из детей, как во сне, смог преодолеть чары неумолимого движения, очутившись в лесу, во мраке которого вскоре оказались, — проговорив свои слова в грибном теплом воздухе.
Переволновавшись, еще недалеко отъехав от Гробова, дети захотели пописать; дедушка остановил лошадь, и ребятишки побежали в таинственный и сумрачный лес, который на вершинах деревьев освещался солнечными лучами. Внизу же на травах и по кустикам протянулись невидимые днем серебряные паутины, и такое множество, что земля вокруг сделалась седая. И на этих серебряных сетях висели огромные чистые шары росы!
Детей у Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича родилось столько, и все — мальчики, что, когда отправились дальше, одного ребенка забыли. Увидев догоняющего их по дороге красавчика в мокрых от росы новых штанишках, Марфа Ивановна удивилась и подумала: откуда барское дитя взялось в лесу? Митрофан же Афанасьевич, оглянувшись, узнал свою кровь. Лошадь остановили, и раскрасневшийся мальчик, подбежав к родным, всплакнул, а потом рассмеялся.
В суете не заметили, как сделалось веселее в лесу, солнце проникло до самых потаенных мест, и серебряная паутина незаметно пропала, и о ней забыли: земля позеленела. Наконец добрались до поселка Киреи и поехали по пыльной улице, покуда не оказались перед столбами с натянутыми меж ними проводами и перед бесконечной лестницей на земле из дерева и железа. Дедушка братьев слез с телеги и привязал лошадь за вожжи к столбу, непоправимо постарев в одну минуту. Провода над головами путешественников гудели. Жара здесь ощущалась сильнее. Митрофан Афанасьевич объявил, что это и есть железная дорога. Марфа Ивановна испугалась и вместе с детьми спряталась на вокзале, похожем на большое каменное гумно. Митрофан Афанасьевич последовал за ними и купил в кассе билеты. Издали раздавались грохот и пыхканье; приближаясь, эти звуки превратились в такой чудовищный гул, что стены вокзала затряслись. Ожидающие поезда засуетились между колонн по клетчатому скользкому полу; эхо от шагов и голосов, оказавшееся пронзительнее свистка паровоза, забилось под купол с окошками. Множество маленьких мутных стекол задребезжали; сквозь них виднелось небо, правда, без цвета, с облаками, такими же, как на родине в Гробове. От увиденных через грязное стекло облаков сделалось очень грустно. Марфа Ивановна почувствовала судьбу свою и своих детей, но деваться было уже некуда. Несчастные переселенцы, вышедши из вокзала, расцеловались с провожавшим их стариком и сели в вагон. А садились в него с таким чувством, будто это было их спасение, будто — если бы они замешкались и остались — произошло бы нечто страшное, и поэтому все они лезли вверх по ступенькам, внутрь железного чудища — лихорадочно, понимая рассудком и ощущая душой, что незачем совершенно им ехать, но нечто неумолимое двигало ими, и — наверное, уже весь мир существовал по этому закону. Через некоторое время поезд торжественно тронулся; по земле поплыли тени от клубов дыма из паровоза. Застучали похоронно колеса. Каменное гумно отползло медленно от окон. Братья ощутили праздник и самое значительное событие в своих жалких жизнях и рассматривали проплывающую перед глазами незнакомую местность.
В Октябре Митрофан Афанасьевич нанял двух извозчиков, так как вся семья его не могла уместиться на одном, и поехали к дому, который купили. Город представлял собой как бы продолжение железной дороги, и ничто больше мальчиков не могло так поразить, как железная дорога и поезд, и, устав от впечатлений, они ели гробовские яблоки в извозчичьих колясках и разбрасывали по сторонам огрызки. Проехали несколько улиц со зданиями каменными, чаще всего одноэтажными, а потом пошли хаты, как в деревне, только более скученные, окруженные небольшими садиками. Оказалось, что в городе начинали опадать листья с деревьев, и прохожие, ступая, шуршали. На душе у переселенцев сделалось скучно и тяжело, а краски вокруг от духоты никли блеклые. Наконец извозчики подкатили друг за другом к самому большому в Октябре деревянному дому. Оттуда раздавался прекрасный грохот. Испуганных детей ввели в трясущийся, как им показалось, дом, в котором будто кто-то беспрерывно разбивал стеклянные шары; братья обошли восемь комнат с барской мебелью, приобретенной у прежнего хозяина, и — наполненных вещами, доставленными ранее из Гробова. В самой большой комнате стояло нечто черное, подобное, быть может, только паровозу, но деревянное. «Это рояль!» — с воодушевлением зашептал в ухо изумленной Марфе Ивановне Митрофан Афанасьевич и сжал добела ей руку. Спиной к вошедшим сидел бывший владелец дома и неистово ударял по белым и черным клавишам. В зеркале на стене он увидел приехавших, и люди из Гробова удивились, что он заметил их, но продолжал ударять. Сначала музыка показалась детям веселой, но потом тоска, как большое мягкое животное, навалилась на их души, и некоторые неженки заплакали, а самый маленький ребенок, которого поставили на табуретку, упал. Но человек за лакированным черным роялем с открытой на нем кверху дверью с подпоркой — не обращал внимания на плачущих и продолжал играть; измученные мальчики выбежали из дома в сад и, выросшие на природе, успокоились среди вялой теплой зелени, за которой — и за заборами — видно осталось только небо. Пока находились они в доме и слушали музыку, солнце скрылось за серыми тучами, и сад братья ощутили как тюрьму. Тут концерт за стенами завершился, но долго еще дети слышали, как рояль, что лес, гудел. Наконец грузчики приехали за инструментом. С любопытством мальчики наблюдали, как пьяные рабочие выволокли из дома уже безногий рояль, похожий на гроб, и спустили его с крыльца, и положили на телегу. На лакированной поверхности отражались перевернутые дом, небо, ворота и человеческие размытые лица. Митрофан Афанасьевич вынес отвинченные от рояля ноги и помог их пристроить к инструменту. Пьяные грузчики и бывший хозяин дома, сопровождая черную громадину, под которой и телеги оказалось не видно, тронулись как за покойником в сторону железнодорожной станции — владелец рояля переезжал в Ленинград. И теперь, когда ворота закрылись, после того как эта печальная праздничная процессия исчезла, повернув на другую улицу, без необыкновенного этого музыканта, братьям сделалось одиноко и стало жалко, что они не подружились с ним. Музыкант, а может быть, исполненное произведение показались им причастными к их долгой дороге из деревни в Октябрь, и, каким-то образом они музыку соединили с памятью о Гробове, и, как несчастный уехал, теперь им открылось, что ничто их не связывает уже с родиной. И вот наступил таинственный для маленьких Гробовых вечер, но они до тех пор оставались в помрачневшем саду, пока в доме не зажгли электрический свет и ночь вдруг предстала для детей во всем своем ужасе. Когда они поднялись в дом — в самой большой комнате, где стоял ранее рояль, мать накрывала на стол. Скоро дети сидели за ним и, проголодавшиеся, занятые едой, на какое-то время забыли о печали. Но Митрофан Афанасьевич открыл бутылку вина, налил по рюмочке себе и жене и напомнил всей семье о происшедшем, вслух помянув с благодарностью несчастного брата Марфы Ивановны — Якова.
Глава вторая
1
Марфа Ивановна в детстве плохо кушала и росла очень худенькая, и ее — хотя дома приготавливалось обилие разнообразных яств — водили через луг, напрямки, по двум бревнышкам над речкой Сосной — в многодетную семью несчастных со страшной фамилией, которую имели все в Гробове; и у девочки появлялся аппетит, когда она видела, как едят бедные дети и хватают руками горячее прямо из чугунков. Старшему брату ее Якову часто приходилось сопровождать сестру на обед к соседям, и, провожая маленькую Марфу Ивановну на другой берег, несчастный брат с ужасом задумывался о своей судьбе, так как родители собирались оженить его на богатой невесте, у которой имелось по шесть пальцев: и на руках и на ногах. Приводя сестричку на другой берег, Яков подружился со своими сверстниками — старшими из соседских детей — Георгием и Ксенофонтом, которые мечтали уехать в Америку, и решил присоединиться к ним.
Однажды молодые люди отправились в ближайший к Гробову город Снов и разыскали в нем евреев-агентов, которые вербовали народ в Америку, и после, возвратившись домой, ожидая от евреев известий, Яков не опечаливался, вспоминая про шестипалую невесту. И, когда пришло время свадьбы, эта церемония не показалась ему так страшна и невозможна, как он представлял. И пиршество, и соблюдение обрядов увиделись ему очень скучными, так что Яков даже не вникал в смысл того, что от него требовалось, пьяных лиц вокруг не замечал, а слышал только смех гармоники. Единственное, что его поразило, — как напоили лошадь, расщемив ей зубы и опорожнив в глотку бутылку самогонки, и животное потом танцевало, веселое. И вот именно в этот день к жениху приблизились испуганные от возможности осуществления мечты старшие ребята с низкого берега: огромный Георгий с длинными, почти до колен руками, с кулаками, как человеческие головы, со звериным лицом и с необыкновенно большими задумчивыми глазами, и — маленький, тщедушный и добрый Ксенофонт, и с разных сторон защекотали ему уши словами. От музыки и удалых голосов подвыпивших мужичков, от нелепой лошади в цветах, с хвостом, узлом подвязанным, которую распрягли и отпустили на луг, и — более всего — от давно ожидаемого известия Яков почувствовал себя увереннее и в первый раз пристально посмотрел на невесту. Она, казалось, не дышала и старалась не смотреть на него, глядела прямо перед собой, шестые пальцы — мягкие, бескостные — держа в кулачках. Целовались жених и невеста, когда требовалось, еле-еле прикасаясь устами к устам. Наконец пришло время и их оставили одних в темной каморке, а пиршество и пляски продолжались при множестве керосиновых ламп, собранных со всей деревни, но жених и невеста так и не прикоснулись друг к другу, лежа на одной постели, и утром ответили старшим в одно дыхание, словно договорившись, что «не могут… если рядом за стеной столько людей не угомонилось, а когда гулянье стихло, сделалось светло». В следующий же праздничный вечер, после того как народ разошелся, их снова оставили одних в печальной темной спальне, и вот тогда кулачки невесты разжались, она обняла жениха, лучше — дотронулась до его мрачной души, а не прикоснулась к дрожащему телу, и Яков почувствовал ее шестые пальцы словно лепестки необыкновенных цветов, и он тут забылся и, как всякий мужчина, сделал свое чудовищное дело…
После совершенного Яков оделся и вышел на воздух, чувствуя собственное ничтожество; ему хотелось в одно и то же время одиночества и общества, но общества людей незнакомых, которые его ни о чем бы не спрашивали и ни к чему не обязывали. Он вышел к задним воротам и увидел во мраке, поглотившем все очертания, огонек у речки. Когда он приблизился к костру, в темноте и после случившегося совершая нелепые огромные шаги, будто пьяный, его приветствовали, искажая русские слова, голоса — словно не людей, а воды. Бродячие китайцы, у которых на родине свирепствовал голод, часто появлявшиеся в те времена в Гробове у отца Якова, где всегда находили ночлег, грелись у огня. Яков прилег между огнем и речкой Сосной, а спиной прислонился к дереву, ощущая несравненное спокойствие в душе, которая полгода жила в напряжении и которую теперь будто облили парным молоком. Все члены его роскошествовали. И ему очень приятно было с китайцами, не мигая, глядеть на пламя, лежать в вялой траве и слышать журчание воды, словом — почувствовать покойную радость того, на что он часто внимания не обращал. Дышалось сладко. Китайцы проживали не в доме, а в сарае, где ловили крыс, и теперь сварили их в железном котелке и ели. Подаренная хозяевами в честь свадьбы сына початая бутылка вонючей жидкости, мигая, краснела от огня. С умилением пытаясь объясниться на чужом для них языке, китайцы налили Якову стаканчик, и — как всякому после наслаждения хочется гибели — он выпил, желая забыться: если не навечно, то хоть нанемного, и заговорил о сущей ерунде с сидящими за костром и поедающими крыс, — чтобы им было понятней — так же, как они, коверкая слова, словно сам чужеземец. Костер потухал, только мерцали угольки, и тем лучше становилось видно вокруг, и звезды над головой между кронами деревьев разгорались ярче. Самый старый и добрый китаец сильно захмелел и отправился, шатаясь, на ночлег в сарай, но пустился не в ту сторону и заблудился. Задумавшиеся соплеменники его зашумели у дымящегося костра. Яков, как младший, вскочил на затекшие ноги и побежал вслед за стариком, сам качаясь от неизвестной ему прежде сладости. Китаец повалился на меже, скрывшись в зарослях осеннего в ту пору огорода, но Яков поднял упавшего и помог ему дойти до ночлега, в то время как пьяный лепетал какие-то слова, неуловимые, как вода. Затем Яков вернулся к костру, а когда китайцы один за другим ушли, прободрствовал в печали до утра, пока не заструился туман и не взошло солнце…
Наконец все вокруг по-особенному и одновременно буднично осветилось, и вдруг этот большой молодой человек зарыдал, как ребенок, подумав о том, что на следующее утро и наверняка уже никогда он не увидит всего этого, что окружало сейчас. Он внимательно огляделся по сторонам: каждая мелочь, каждый жалкий кустик напоминали ему о счастливых, минувших днях — с оттенком сладкой горечи. Но минута слабости прошла; Яков, нахмурившись и вытерев слезы, поднялся и отправился домой, а там обнаружил необыкновенное оживление и кутерьму, которые подняли в комнатах всю пыль, засверкавшую в первых косых лучах. Младшая любимая его сестра в первый раз собиралась в школу. Родители девочку одевали, как куклу, а она так волновалась, что слова не могла выговорить, и руки ее дрожали, и зубы стучали. Чистота чувств от девочки передалась к ее брату, и легкое сомнение зародилось в тяжелой бессонной душе Якова, и он чуть не упал перед родителями на колени и едва не раскаялся в своих намерениях, и если не полюбил несчастную шестипалую женщину, то сильно пожалел. Но он и тут превозмог себя, оделся потеплее и, когда родители с сестрой отправились в школу, исчез из дома, прихватив с собой приготовленное заранее, даже не взглянув на жену, которая после любви безмятежно отдыхала за перегородкой, и вскоре шагал вместе с Георгием и Ксенофонтом на железнодорожную станцию, ощущая в своей измученной душе освобождение от шестипалой женщины и торжествуя…
2
В первый же день возвратившись из школы, маленькая Марфа Ивановна расплакалась, потому что ей, по ее понятию, не удалось одолеть грамоты. Девочка ожидала, что за один день она сразу же научится и читать, и писать, но не научилась ничему. Переступив родной порог, она заревела так, что не слышала ни звука, и сквозь пелену, застлавшую глаза, мало что видела, и с каждым очередным взрыдом усиливала свои потуги хотя бы для того, чтобы ее пожалели. Слезы залили праздничную ее одежду. Наконец, когда маленькая Марфа Ивановна захотела еще чувствительнее зарыдать, то сильнее уже не могла, и смолкла. Девочка вытерла слезы и увидела посреди комнаты полуголую шестипалую, которая рвала на себе волосы, и вокруг нее сильно огорченных родителей, которые не знали, как подступиться к невестке, и пытались одеть ее. Вдруг бедная шестипалая подбежала к Марфе Ивановне и обняла ее. Девочке сразу же сделалось несравненно легче, и другие — благодарственные — ручьи потекли по ее лицу. И — шестипалая расплакалась, длинными волосами прикрыла слезы на лице и выскочила, как была — полуголая, на улицу, и поспешила к своим родителям, желая, чтобы и ее пожалели, как маленькую. Маленькая же Марфа Ивановна, хныкая, стала рассказывать отцу и матери, как ей тяжело оказалось в школе. Когда девочка успокоилась, отец ее, как хозяин зажиточный, обращаясь к жене, воскликнул: «Что! Я не смогу содержать единственную дочку, а когда она выйдет замуж, да и всю ее семью, — зачем ей эта мука?» И добрые родители Марфы Ивановны решили избавить доченьку от напрасных, как им представлялось, трудностей и назавтра не пустили в школу.
Как каждое звено событий неизбежно перекликается с другим, так и любое живое существо таинственно соединяется в своей душе с некой избранной душою — если даже одна из них почувствует странную незримую связь, основанную, наверное, на грядущей любви. И на следующий день маленький Митрофан Афанасьевич, которого учитель посадил за одну парту с девочкой, очень расстроился, оставшись без соседки. Придя после школы домой, он забросил сумку в угол, сел отрешенно за стол, где его ожидал обед, но есть не стал, что свидетельствовало о крайнем случае, и объявил матери, что желает отправиться в Америку — вслед за старшими братьями. Когда же его мать — Химка, в чье семейство приводили кушать маленькую Марфу Ивановну, узнала о печали сына, то не стала утешать школьника, а взялась приучать его с самых ранних лет к мысли о женитьбе на богатой невесте, так и отговорив от Америки и внушив надежду.
Однако у родителей Марфы Ивановны были другие планы. Отец и мать ее поставили посреди дома очень большой сундук, куда решили складывать шелка, приобретаемые в приданое любимой дочери у бродячих китайцев, и без конца восторгались своей девочкой, пышные формы которой под одеждами округлялись с каждым годом все великолепней. Часто, по праздникам, родители наряжали доченьку, восхищаясь чудными кофточками, платками, сарафанами и шубами, меняя облачения на Марфе Ивановне до тех пор, пока одежды не надоедали и счастливая обладательница их не уставала, разрумянившись, а зрители замирали, потрясенные той красотой, которую сразу часто не рассмотришь и не разгадаешь, да которая и не требует особых убранств, правда — и утонченной роскошью ее не испортишь…
Глаза Марфы Ивановны обычно никли долу и грустили, если же она их подымала, то всегда как-то удивленно, а на уголках губ появлялась задумчивая улыбка. Круглые щеки, маленький носик и даже лоб покрыты были ласковым пушком, который придавал чертам Марфы Ивановны особую нежность. Маленькие изящные руки всегда были аккуратно сложены перед собой замочком, сидела она или стояла. Всей своей внешностью она как будто смущалась от очарования, производимого ею на людей, как бы оправдываясь, что она тут ни при чем — она не виновна в том, что даровано ей свыше, в этом нет никакой ее особой заслуги, чтобы ею восхищались. И при всей этой невероятной скромности и внутренней тишине в фигуре ее присутствовала царственная осанка — подчеркнутая небольшим росточком вместе с высокой грудью и длинными, пышными, когда они бывали распущены, шелковистыми волосами, — что особенно привораживало глаз и изумляло всякого.
И когда пришло время, юной красавице разыскали жениха: не из простых — а дворянского происхождения, и выдали драгоценность за него замуж. Супруг Марфы Ивановны оказался моложе отца ее всего на несколько лет. Волосы его посеребрила седина, а некогда голубые глаза поблекли; ростом он был высок, а телом очень худ, но жилист; лицо его всегда выражало благородство, при этом взгляд устремлен к небесам или же внутрь себя, даже когда дворянин разговаривал с кем-нибудь, правда — только не с Марфой Ивановной, заполучить расположение которой он стремился изо всех сил. Тогда усталый взор его преображался и наполнялся вниманием. И Марфа Ивановна прониклась самыми восторженными чувствами к своему мужу; кстати, она влюбилась в него изначально, еще не зная его, уже тогда, когда родители рассказали ей про намечавшегося жениха; но, увидев его впервые, полюбила еще более — за то, что он носил очки в серебряной оправе; а потом, когда глядела, как он читает книги, — особенно обожала его.
Для Марфы Ивановны, так и не ходившей в школу и оставшейся безграмотной, все связанное с непостижимым ей печатным словом вызывало благоговейное поклонение, и она, чтобы служить мужу интересной собеседницей, пожелала все-таки научиться читать. Муж ее нанял учителя, который несколько раз в неделю появлялся в усадьбе недалеко от Гробова и давал молодой хозяйке уроки. Но грамота давалась бедняжке с таким трудом, что после трех лет упорных занятий Марфа Ивановна не могла различить, где в газете верх, а где низ, если в ней не было фотографий. В конце концов отчаявшийся учитель отказался давать великовозрастной ученице уроки, осмелившись пошутить, что в Гробове ходят слухи о его романе с Марфой Ивановной, которые действительно начали распространяться… Тем не менее, несмотря на неудачу, наичувствительнейшую для молодой женщины, Марфа Ивановна едва огорчилась, так как обильные слезы по этому поводу были выплаканы в детстве, а может, просто потому, что была счастлива.
После этой конфузии Марфа Ивановна усерднее стала заниматься хозяйством, которое у мужа ее оказалось немалое, и благоговела все более перед ставшими ей дорогими сединами… Ничто, казалось, не предвещало беды. Но в те времена по лесам бродили разбойники. Однажды они заявились на усадьбу в праздничный день, когда работники разошлись по семьям, вывели дворянина из дома и на глазах юной жены застрелили.
Как только бандиты скрылись в лесу, бедная Марфа Ивановна, оставшись одна с мертвецом, ужаснулась и побежала прочь, не оглядываясь, а яркий солнечный день показался ей ночью: солнце над головой испускало таинственный свет, как луна. Молодая женщина к этому времени находилась в положении, и в дороге у нее начались жуткие боли в животе, с каждым приступом все невероятнее. Когда она выбежала на большую дорогу, ведущую в Гробово, ей стало легче: и вдруг солнечный свет явился ее взору, и, услышав звон колокольчиков, Марфа Ивановна оглянулась и увидела приближающегося к ней городского извозчика, может быть, впервые катившего в Гробово. В коляске сидел огромный человек, и по мере того, как извозчик подъезжал к Марфе Ивановне, она узнавала в коляске полузабытого соседа Георгия, в сюртуке и в цилиндре — возвращающегося из Америки, и вот! — лицо его преобразилось: он узнал ее. Тут несчастная охнула, и села на землю, и затрещала песком на зубах, схватилась руками за шевелящееся внутри нее и закричала так, что Георгий Афанасьевич почувствовал в своем возвращении ужас: от этого крика волосы поднялись у него под цилиндром и мир для «американца» почернел, как серебро. Марфа Ивановна только ощутила сильные руки, которые ее подняли, а затем — струи свистящего воздуха, что овевали ее горячее лицо. Появившийся было вслед еще один извозчик, которого успела заметить Марфа Ивановна, раздваивался в ее глазах, полных слез, и в коляске один сосед Ксенофонт сидел, а другой Ксенофонт стоял, и — исчезли за облаками пыли…
3
Доставив Марфу Ивановну к ее родителям и выйдя из их дома, Георгий Афанасьевич огляделся по сторонам: деревенская улица оказалась пустынна, никто в Гробове не видел его и не изумился его облику и возвращению. Вдохновившись, огромный Георгий Афанасьевич со звериным своим печальным лицом возжаждал необыкновенного и торжественного. Он, еще не зная, что предпримет далее, всыпал извозчику в карман горсть золотых монет и решительно, жарко прошептал ему, так что тот полуоглох и скорее испугался, чем обрадовался, получив команду как можно громче кричать. Извозчик затрубил пронзительным голосом: «Эй, едет! Выходи!» — и поехал по деревне. Народ повалил из хат. Георгий Афанасьевич доставал из карманов золотые монеты и разбрасывал их по улице. Мужики, всем телом — чтобы больше золота захватить себе — падали на очень пыльную в ту пору дорогу. Драгоценные монеты тонули, как в воде, в пыли; скрежеща зубами, люди рылись в песке, выхватывая из рук друг у друга золото, и снова спешили за извозчиком, и опять падали всем телом на пыльную улицу. Толпа сопровождала извозчика, покуда тот не выехал обратно из деревни и не оказался на мосту через речку Сосну, и за ним — повернул с насыпной дороги в сторону бедной лачужки на другом берегу. Гробовские мужики еще долго стояли недвижимо у воды, остывая на ветерке от необыкновенных страстей, приходя в себя и осмысливая скудным умом своим то, что произошло, и — усмиренные, опечаленные и готовые обратиться к чему-то совершенно иному — увидели, как навстречу им приближался на другом извозчике маленький брат Георгия Афанасьевича, Ксенофонт, ужасно легкомысленный, хотя от трепета возвращения все внутри у него замирало.
В отличие от старшего брата Ксенофонт Афанасьевич не пожелал отличиться перед всем Гробовом и, не доезжая моста через речку Сосну, приказал извозчику свернуть с дороги к единственному на этом низком берегу ветхому домику, окруженному старыми вербами. Незадолго до отъезда на родину он заказал живописцу свой портрет в натуральный рост и теперь вез в коляске — напоказ — огромную картину в позолоченной раме, и получалось: один Ксенофонт сидел и ощущал превращение приобретенной им красоты в печаль, а другой Ксенофонт, неизменно улыбающийся, стоял. И — портрет в натуральный рост в позолоченной раме в руках возвращающегося на родину оказался как парус; и на просторе, от ветра, трудно его было удержать в руках. Тут навстречу затарахтел извозчик, доставивший домой Георгия Афанасьевича и уже катящий назад в город; сильно задумавшись, но вдруг спохватившись и сделав веселую гримасу, стегнул он лошадь и просвистал мимо, одарив и пылью, и скукой и затянув протяжную песню. Вот — Ксенофонт Афанасьевич подъехал к отеческому дому с раскрытыми окошками, заполненному собравшимися многочисленными родственниками, а оставшиеся на воздухе восхитились неотразимой картиной в сверкающей позолотой раме и оценили ее, подняв шум, на который все из домика выбежали как на пожар. Среди множества лиц выделялось огромное звериное лицо Георгия Афанасьевича, поразившее Ксенофонта переменой: старший брат не ликовал, а был растерян, и даже более того — странная, нехорошая печать читалась в его потухшем взоре. Родственники разахались и зарыдали: видимо, Георгий Афанасьевич не удосужился рассказать им, что маленький брат едет следом, — и стали целовать заплаканного и заспанного от длинной скучной дороги Ксенофонта Афанасьевича, и восторгаться им, и его сюртуком, и огромными, как шкафы, чемоданами, которые тут же стащили с извозчичьей коляски на траву. Ксенофонт Афанасьевич с беспорядочными ощущениями в душе стал открывать ключиками американские чемоданы, куда женские платья укладывались сразу во весь рост, а когда принялся раздавать подарки, разрыдался, как ребенок, и сквозь слезы наконец увидел, что попал на свадьбу, — затуманенный взор его нашел жениха с невестой; и хотя все вокруг радовались и смеялись, он тут же, как и Георгий Афанасьевич, догадался, что жизнь имеет свой порядок и оборачивается к началам своим; все перевернулось у него в голове, и нехорошее предчувствие омрачило его сознание: самый младший брат его Тимофей в праздничном костюме обнимал оставленную Яковом женщину и целовал ее шестые пальчики. Но другие родственники не замечали ничего и ничего не предчувствовали. Наоборот, только для них мелькали разноцветные бабочки и стрекозы; переливались золотые отражения волн на стволах верб; как лодочки — опавшие листочки уплывали по течению речки Сосны; под старыми деревьями скользили ласковые тени; и от нагретого дерева заборов и лачужки исходил особый старинный теплый запах, — когда в это время для наиболее чутких, находящихся в особом состоянии возвратившихся на родину раздавались в отдалении ужасные стоны, исходившие из деревни на другом высоком берегу, где бедная Марфа Ивановна рожала, и наконец «американцы» услышали плач ее первенца Филарета.
4
И вот когда с Марфой Ивановной в первом замужестве произошло вышеописанное несчастье и добрые родители ее стали искать любимой доченьке другого мужа, соседка Химка с низкого берега, которая медовые пряники пекла только для себя и целыми днями ела их, а детей своих многочисленных не глядела и нисколько не расстраивалась оттого, что большая половина из них поумирала во младенчестве, тут воспрянула всем своим беспечным духом и вновь самым рьяным образом стала возбуждать у сына Митрофана мысли о женитьбе на выгодной невесте. И в результате Митрофан Афанасьевич решился жениться на Марфе Ивановне, хотя у него было красное лицо в рябинах, красные волосы и красные глаза, как у вареного рака, так что ни одна девушка в деревне не обращала на него внимания. Вдобавок бедняга пас скотину в Гробове, а какое отношение женщин к пастухам — известно, и он научился в отместку не замечать их, но странное влечение к соседке осталось с детства, и когда он видел ее, красный, — вспыхивал, как огонь, и скорее скрывался с ее глаз. Митрофан Афанасьевич очень переживал из-за своей внешности, но после случившегося с Марфой Ивановной надеялся, что она обрадуется ему и такому (и так и оказалось), поскольку ей уже трудно было выйти замуж другой раз с ребенком; а тут и женихов в Гробове выпал недостаток — многих к этому времени забрали на начавшуюся войну. (Митрофан же Афанасьевич вместе с братьями-«американцами» поехал в город, и они там купили справки, что больны туберкулезом, а самый младший Тимофей предпочел судьбы не избегать, но и ему повезло — он в армии служил писарем.)
Так вот — после тихой свадьбы добрая матушка Марфы Ивановны вытерла слезы и приготовила только ей известную особую мазь и передала горшок с ней любимой дочери. Марфа Ивановна помазала своему другому мужу красное лицо в рябинах. Ночь и утро Митрофан Афанасьевич не спал, все его лицо пылало, кожа вздулась и покрылась волдырями. Он не мог выйти неделю на улицу и обдирал шкурки с лица. Когда у мужа Марфы Ивановны сошла старая кожа и лицо сделалось как у младенца, а рябины перешли на спину, и он прошелся по Гробову, принаряженный женой, то односельчане смотрели на него и спрашивали: «Кто это? Что за красавец?» Все девицы и женщины глаз от него не могли оторвать и ходили гужом за ним. Митрофан же Афанасьевич чувствовал себя будто в другой раз родившимся на белый свет, и поверить он никак долгое время не мог, что осуществились его мечты о Марфе Ивановне, и что у него новое красивое лицо, и что он будет проживать в усадьбе, как помещик.
Хозяином Митрофан Афанасьевич оказался не хуже первого мужа Марфы Ивановны, а вскоре и превзошел того во многом, хотя бы в умении выждать момент и продать свой товар подороже; вдобавок с неудержным азартом взялся он за самые разнообразные начинания: занялся новыми прибыльными ремеслами, например, гончарным производством, также решил разводить пчел, к чему проявил особое усердие, и Марфа Ивановна нашла в себе любовь для преобразившегося Митрофана Афанасьевича, оценив его всевозможные способности. Впоследствии и родители ее остались довольны другим мужем любимой дочери и согласились с тем, что и среди нищеты может затеряться умный человек, которого бы только приодеть, и он в любом обществе найдет себе место и в разговоре на любую тему не выдаст своего происхождения. Таким образом, родители Марфы Ивановны нарадоваться не могли всяческому благополучию, воцарившемуся в новом семействе бесценной их дочери, и вновь для них и их красавицы жизнь стала представляться в самых светлых и приятных оттенках, а о седом дворянине как-то позабыли, и даже его сын не чувствовал себя нисколечки обделенным по сравнению с другими детьми, появлявшимися в семье, а отчима, который к нему относился особенно благосклонно, почитал как отца. Однако сам Митрофан Афанасьевич вспоминал своего предшественника — если можно так выразиться — каждый день, сознавая, что подобное и с ним может случиться, и это предчувствие постоянно нависало над ним как скала, готовая в каждую минуту обрушиться.
Между тем шли годы, и обостренное чувство времени у Митрофана Афанасьевича развилось до невероятности в постоянных заботах о потомстве. А тут царь оставил престол или его вынудили отказаться от него, и скоро к власти пришла партия, о деяниях которой разумные люди старались не распространяться. И Митрофан Афанасьевич ощутил большие перемены в жизни и сообразил, что, пока не поздно, за любые, даже ничтожные деньги следует продать усадьбу первого мужа Марфы Ивановны, и посоветовал своему тестю избавиться от его немалых земельных владений, то же предложил и братьям Георгию и Ксенофонту, которые купили очень много земли — приехав из Америки. Отец Марфы Ивановны внял наставлениям Митрофана Афанасьевича, а братья его не смогли отказаться от сбывшейся мечты, ради осуществления которой они в Америке много лет работали по восемнадцать часов в сутки и питались в столовой для бедных, куда свозились объедки из более приличных заведений. Впоследствии «американцам» довольно жестоко пришлось поплатиться за тогдашнюю свою слепоту; а Митрофан же Афанасьевич, освободившись от усадьбы, переехал вместе с семьей обратно на жительство в Гробово, где в большом доме скучали тесть и теща без любимой дочери и в котором у него с Марфой Ивановной продолжали рождаться дети.
И вот теперь, когда накопилось много денег за проданную землю, почтальон однажды принес извещение о смерти Якова. Выяснилось, что, сбежав от шестипалой жены в Америку, он завербовался в армию и погиб на войне; однако перед тем как наняться в армию, несчастный застраховал свою жизнь на большую сумму денег на имя сестры. Таким образом, Марфа Ивановна стала получать из Америки от страховой компании какие-то немыслимые деньги в долларах. Денег собралось столько, а время уже наступало — предсказанное Митрофаном Афанасьевичем, — что, посовещавшись с тестем, провидец надумал уехать из Гробова и купить дом в городе и стал решать: в какой из столиц жить его семье — в старой или в новой, но затем рассудил, что не следует уезжать далеко от родины, и в один ненастный день вместе с тестем отправился в ближайший к Гробову город Снов, который как раз переименовали в Октябрь, и купил там самый большой деревянный дом вместе с мебелью, и купил бы и рояль, но хозяин его был сам музыкант и инструмент не продал.
Глава третья
1
Брату Митрофана Афанасьевича — Тимофею, к этому времени вернувшемуся со службы в армии, шестипалая его жена каждый год приносила по ребенку. И — как переехал Митрофан Афанасьевич с семьей в Октябрь, брат его стал по очереди возить детей в городскую больницу отрезать им шестые пальцы и каждый раз останавливался у родных.
Тимофей Афанасьевич был человек необычайно добрый, говорил всегда тихонько, а обращался к супруге только так: «моя красоточка». Он считал, что жена его осчастливила. На ее приданое и при помощи богатых братьев Тимофей Афанасьевич построил самый большой дом в Гробове, но из-за обилия душ и простоты сердечной хозяина бедность обитала там. Детей же он любил беззаветно, хотя стеснялся чувства выражать на людях, и поэтому, если замечал своего ребеночка в каком-нибудь укромном месте, тихонько звал его: «Иди поближе, моя прелесть!» — и брал на руки или сажал к себе на колени — и замирал.
Для мальчиков Гробовых в Октябре приезд дяди с ребенком превращался в самый настоящий праздник; взволнованные братья узнавали гробовскую печать на лицах приехавших — от свежего их румянца веяло воздухом милой родины. Небесная благодать снисходила на город Октябрь в такие дни: в любую пору года приезд гостей свершался при чистом небе и ярком солнце, подчеркивающем красоту в мире, хотя, может, и сам Тимофей Афанасьевич выбирал день наичудеснее, чтобы деткам своим подарить сон и чтобы они запомнили его на всю жизнь. Благословение свыше облекало круговорот времени в прекрасную и непостижимую, без начала и конца, вечную великую музыку, смысл которой можно было уразуметь в рождении детей. И стоило Марфе Ивановне в день приезда родственников, проснувшись рано утром, выйти во двор или в сад и обрадоваться сияющему солнцу, удивившись особенно великолепному дню, как тут странное предчувствие вдруг начинало мучить ее… и странные звуки — доноситься до внутреннего ее слуха, и она тогда наверняка знала, что Тимофей Афанасьевич с очередной «радостью своей» выехал из Гробова, и душа его так поет, что отзвуки его ликования по неким неизъяснимым каналам доходят и до ее сердца… А мальчики Марфы Ивановны рассматривали и сами шестые пальцы двоюродных братьев и сестер, и их отрезания — как нечто прекрасное.
Действительно, во вторую половину благодатного дня, когда солнце начинало уходить из дома в сад, являлись Тимофей Афанасьевич с ребенком, и дитя его, уже позабывшее черты Марфы Ивановны или даже никогда не видевшее ее, взирало на нее с такой любовью, какова может быть только у ребенка, и в минуты наисчастливейшие. Очередному созданию Тимофея Афанасьевича Марфа Ивановна дарила что-либо из одежды, которой был полон дом, и полные карманы насыпала конфет в блестящих обертках — подобных в Гробове никто не видел никогда. Счастливое всем существом дитя от восторга блаженствовало в восхитительных одеждах, шестые свои пальчики — мягенькие, бескостные — держа в кулачках. На следующий день Тимофей Афанасьевич брал обожаемого ребенка за кулачок, и они отправлялись в удивительное путешествие по Октябрю, а мальчики Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича провожали их, выглядывая из калитки и завидуя несчастному двоюродному брату или сестре, — хотя замечали, как родственное им шестипалое маленькое существо начинает дрожать от страха, наверняка еще не зная, сколько пальцев должно быть у человека, и, может, вообще не умея считать. Тимофей Афанасьевич с ребенком записывались в больнице на прием, затем им приходилось несколько дней ожидать обследования, причем все это время шестипалое дитя дрожало и зубки его постукивали, будто от холода. Вскоре совершалась операция, и наконец нежнейший родитель со своей «маленькой драгоценностью» с забинтованными ручками и ножками, мокрыми от слез, — не приходили, а приезжали на личном извозчике Митрофана Афанасьевича к праздничному обеду.
Выпив несколько рюмочек, Тимофей Афанасьевич начинал хвастаться, что закончил начальную школу — единственный в Гробове — и прослыл самым грамотным человеком, и что он хорошо считает и овладел красивой каллиграфией — поэтому в армии служил писарем, и, наконец, что когда образовался колхоз, то не зря именно его назначили бригадиром. Опрокинув еще несколько рюмочек, Тимофей Афанасьевич замолкал, лицо его приобретало угрюмое выражение, вдруг слезы появлялись на глазах, и он поспешно удалялся из-за стола, чтобы где-нибудь спрятаться в укромном месте и там безмолвно зарыдать. Причина его столь странного преображения заключалась в том, что когда Тимофея Афанасьевича назначили в колхозе бригадиром, то он оказался таким исполнительным работником, что раскулачил даже родных братьев Георгия и Ксенофонта, которые после Америки выстроили в Гробове дома на высоком берегу, оженились и завели — каждый — свое хозяйство, купив очень много земли, чем и заслужили себе Сибирь…
Когда же гости уезжали, оставшиеся в городе слова не могли выговорить — до такой степени поглощенные печалью. Все, хоть чем-то связанное с родиной, для детей Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича было благословенно. И после соприкосновения с гробовским — если можно так выразиться — духом жизнь становилась для них все более мучительной в так и не полюбившемся Октябре, где никогда не бывало тумана или, например, слепого дождя, который в Гробове называли почему-то «цыганским»; ни разу в небесах не появлялась веселая радуга; природа в этом городе оказалась ничем не примечательной, а явления ее ничего, кроме как тоски, не вызывали; даже грозы не бывали страшными — то есть самое необыкновенное и насущное для братьев осталось на далекой родине. И восхода солнца и заката никогда не видели они в городе за заборами и вспоминали каждый день какое-то особенное небо над Гробовом, без которого, казалось, не могли дышать и жить.
Но после нескольких суматошных дней, вызываемых приездом колхозного бригадира с шестипалым очередным его ребенком, однообразные дни опять начинали чередоваться, как видения давно и медленно умирающего — без излишних чувств, и без слов, и уже без мечтаний. Но родина все-таки окончательно не умирала в братьях, не отпускала их и каждую ночь напоминала о себе чем-нибудь именно непримечательным, на что обычно наяву внимания не обращают, а во сне какие-нибудь листики да лепесточки либо даже ветер, творящий в них шелест, — вызывали слезы. Как все люди, потерявшие каждодневное, истинное свое счастье, до утраты не замечавшие его, братья не могли обойтись без этих лепестков, давно уже сгнивших, превратившихся в воздух и в землю; и за закрытыми глазами прекрасные образы, с чудными красками и запахами, можно сказать — райскими, следуя, как тени от облаков по равнине, стремительно и бесшумно, одни за другими, пленяли души невыразимой сладостью и мукой.
2
А вот материальное благополучие явилось в Октябре для Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича и для их детей невообразимое!!! Когда в обычных магазинах всегда полки пустовали, а по стенам ползали лишь красные клопы, Митрофан Афанасьевич после получения американской страховки за Якова вызывал личного извозчика, сажал в карету Марфу Ивановну, и они ехали в Торгсин, где продавали все что угодно на доллары. И Митрофан Афанасьевич покупал, например, материала на платье жене — не три метра, а пятнадцать, но это сперва, а потом, как обжились и привыкли, — не пятнадцать метров брал, а рулоны запечатанные: сколько там было — столько было. Кофточек Митрофан Афанасьевич покупал Марфе Ивановне сразу по десять штук. Дом завалили лакированными туфлями, пуховыми платками, плюшевыми жакетками; пальто с лисьими воротниками, беличьими, соболиными; панбархатными платьями, шелковыми, крепдешиновыми, креп-жоржетовыми, из материалов, названия которых выговорить невозможно и самых модных в то время; шубы приобретали детям на вырост сразу по несколько штук, и зимой братья расхаживали все в мехах и в школу носили даже меховые ранцы. Еще каждому ребенку достался велосипед. И дом оказался такой огромный, что мальчики катались на велосипедах по комнатам. И наконец, кушали Гробовы в Октябре необыкновенно! Если Митрофан Афанасьевич покупал мясо, то привозили сразу тушу; если нужна была, например, селедка, то прикатывали ее целую бочку; сахар, крупу, муку вносили в дом мешками, а вино, водку, конфеты — ящиками. Обеденный стол всегда ломился от еды, какую в потрясающих объемах приготавливали и подавали нанимаемые работницы. Огромная же семья со всем этим расправлялась ужасно быстро, и к вечеру обычно подчищались все блюда, а дети имели такие аппетиты, что перед тем, как их укладывали спать, прятали под подушки еще корочки хлеба.
В те времена в Октябре никто так не кушал и не одевался. И на такую преуспевающую семью не могли не обратить внимания власти, которые не терпели людей мало-мальски зажиточных и поскорее отправляли неугодных в далекие края. Но Бог миловал, а может, и Митрофан Афанасьевич — кому надо — подмазал маслицем; вдобавок он строго выполнял все предписания властей: к новым праздникам у ворот вывешивал красный флаг, на столбе у дома, как стемнеет, всегда горела электрическая лампочка. Еще Марфе Ивановне пришлось убрать иконы в темные углы; на самых же видных местах во всех комнатах — куда бы ни зашел кто бы то ни было — повесили парадные портреты в рост высших представителей новых властей. Так как каждый должен был участвовать в так называемом «полезном труде на благо общества», сам Митрофан Афанасьевич устроился на работу — начальником пожарной команды в артель, которая производила пуговицы. Работа ему выпала именно та, какую он искал: чтобы где-нибудь числиться и в то же время особенно себя не утруждать. Все его служебные обязанности заключались в том, чтобы составлять расписание дежурства подчиненных и выдавать им зарплату; причем, если бы артель загорелась, дежурный не должен был тушить пожар, а вызвать лишь настоящую пожарную команду. Таким образом, Митрофан Афанасьевич употребил все усилия, чтобы не показаться властям чуждым их интересам, а бесчисленные покупки объяснял многодетной семьей, которая действительно была огромная, и тыкал при случае документом: страховкой за Якова.
Но не меньшая опасность, чем от представителей новых властей, таилась в Октябре от воров и разбойников. Добрые люди предупредили Гробовых — еще когда те только появились в городе, — чтобы незнакомых не впускали в дом, потому что ограбят и убьют, и — рассказали, что вокруг живут такие соседи, от любопытных взоров которых должен быть сооружен высокий забор. Сперва Митрофан Афанасьевич завел несколько собак, огромных, как медведи, которые на цепи бегали по проволоке, протянутой по всему двору и саду, а затем построил вокруг своего владения новый высокий забор, и когда летом в хорошую погоду вывешивали во дворе нажитое богатство просушить, то братья наблюдали, чтобы никто из соседей не подглядел в щелку… Однако мальчики старались как-нибудь избавиться от мучившей их удивительной тоски и все-таки пытались дружить с соседскими ребятами, а те, вечно полуголодные, стали просить их: «Вынесите нам кусок». Сочувствуя, братья не могли отказать нуждающимся, тем более что жаждали вызвать доверие к себе у ровесников, но попросить разрешения у родителей на «вынос кусков» не решались, так как боялись, что старшие им не позволят благотворительствовать. А будучи натурами страстными, маленькие Гробовы не на шутку увлеклись и позабыли о грани, отделяющей добродетельное от непристойного. Начав с малого, постепенно дети Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича стали тайком кормить всю улицу. Сперва они носили из дома еду, а потом взялись за имущество, да так рьяно, что, например, ни одного покрывала не осталось ни на одной кровати. Марфа Ивановна раскрыла глаза: все женщины на улице расхаживали в ее кофточках. Изумленные родители отправились забирать свои вещи. А соседи возмутились: «Нам продали ваши сыновья!» Так братья поддались разнообразным соблазнам, при этом старшие начали выпивать. В доме Митрофан Афанасьевич взялся навешивать всюду замки. Но у детей его развился собачий нюх. Они удивительно чувствовали, что где спрятано, и, имея жадный беспокойный ум, открывали любой замок, тогда как в школе учились на «колы», и у них всегда оказывался пустой портфель — хотя каждую неделю родители покупали им учебники, которые на следующий же день сжигались в саду. Митрофан Афанасьевич осознал, что останется без штанов, и купил кожаную плеть, повесив ее на виду в столовой, и начал бить сыновей по порядку. Они же стали бояться отца, не приходили домой и завели моду ночевать в надмогильных будках на еврейском кладбище. Бедная мать брала хлеба и, опираясь на бамбуковую тросточку, с больными ногами, которым трудно становилось носить тяжелое от чрезмерной еды тело, отправлялась на еврейское кладбище на окраине Октября, жалея детей. Чтобы никто не увидел их днем — они сидели на соснах над могилами и курили папиросы. Когда Марфа Ивановна появлялась с хлебом, братья спускались с деревьев, от множества выкуренных папирос шатаясь, и с позеленевшими лицами, отвыкнув от земли, вдобавок — с закружившимися головами от пьяного воздуха в кроне сосен, в липкой одежде от смолы, пахнущие хвоей и табаком, жадно ели хлеб…
Глава четвертая
Как раз в ту весну, когда Ваня родился в Октябре, дед его Афанасий тянул от берега к своей лачужке — волоком по земле, за железную цепь — лодку, и сердце у него в груди от натуги «перевернулось и поехало в сторону», что он успел сообщить подбежавшей к нему, как всегда жующей медовый пряник жене Химке. И — умирая — старый Афанасий вспомнил о том единственном, что ему очень хотелось еще заполучить на этом свете. Когда в который раз началась война и немцы на этот раз преуспели до такой степени, что объявились в Гробове, они назначили старика, как самого честного человека в деревне, — бургомистром, остались им очень довольны и решили ему подарить в поощрение за добросовестную службу породистого бельгийского быка…
В день похорон после серой погоды наступила лучезарная, небо распростерлось над землей ясное и ласковое, тени падали прозрачные, разлившаяся речка Сосна безмятежно отражала голубой бархат неба. Вода казалась как воздух, а воздух едва струился и дрожал, и невесомые его толщи придавали земным далям небесный цвет. Вода вокруг лачужки на низком берегу все прибывала, и никак невозможно было по суше доставить покойника на кладбище. Лодка с людьми и с гробом, освещенная мягкими лучами весеннего светила, оставляла за собой веселый след, и отражения печальных лиц расплывались на воде и никак не походили на похоронные, а увиделись с высокого бережка, в деревне, как праздничные. Вдруг провожающие покойника выпрямились в закачавшейся лодке и подняли крышку с гроба, когда старой Химке показалось, что неживой муж ее заговорил, а потом запел. Односельчане издали узрели зеленоватое лицо мертвеца, выражающее ожидание подарка. Суета и трепет еще больше подчеркивали радость жизни. В лодке, некоторое время склонившись, смотрели на освещенное солнцем прозрачное лицо усопшего, но он продолжал безмолвствовать, улыбаясь пред вратами иного мира. Уже седые его сыновья Георгий и Ксенофонт, которым посчастливилось вернуться из Сибири, единственные сейчас с матерью провожающие отца, опустили крышку, недовольные тем, что на виду у всего Гробова мудрствовали над покойником. Среди ослепительно-голубого сияния плывущим по реке сделалось как в розовом сне. Вскоре лодка миновала по воде Гробово и за деревней приткнулась к обрыву, и «американцы» с матерью еле затащили гроб по песку на крутой берег и скрылись за соснами на кладбище, на котором еще оставалось много синего слежавшегося снега.
В это время один из многочисленных родственников покойного, назначенный командиром партизанского отряда, образовавшегося в окрестностях, спрятался вместе со своими подчиненными в кустарнике за деревней и наблюдал за похоронами. Красота определенным образом действует на иные души. Похороны показались командиру партизанского отряда чересчур завораживающими и восторженными; ему сделалось печально, и, оглянувшись на свою угрюмую жизнь, он вспомнил, что нечто похожее на сегодняшнее уже происходило — и не раз — и что подобное он сам когда-то видел. Опечаленный родственник стал перебирать в памяти полустертые видения, но припомнить ничего не мог, как вдруг откуда-то издали раздался потрясающий рев необыкновенного быка — будто труба, будто сигнал, и тут командир вспомнил, как, возвращаясь из Америки, Георгий Афанасьевич ехал на извозчике по Гробову и разбрасывал золотые монеты по дороге, а брат его Ксенофонт привез свой портрет в натуральный рост и в позолоченной раме. И хотя примеров чего-то подобного можно было указать множество, командир ничего больше слышать не хотел, и, когда умиротворенные родные его после похорон возвращались на лодке по водной голубой глади, оставив старого Афанасия на кладбище, несчастный безумец, указывая на торжество, произнес находящимся рядом подчиненным: «Нужно сделать так, чтобы убить этого Георгия и этого Ксенофонта…»
Возвратившихся с кладбища на насыпной дороге у моста через разлившуюся речку Сосну ожидал недалеко от лачужки бельгийский бык с кольцом в носу, доставленный в сопровождении немецких солдат для награды еще недавно живому усопшему… Бельгийского быка привязали железной цепью к корме, и уставшее за дорогу животное безропотно вступило в воду за лодкой и направилось к полузатопленной лачужке, окруженной старыми вербами.
После похорон отца и поминок маленький и щуплый Ксенофонт Афанасьевич, добравшись до своего жилища, выстроенного на высоком берегу, почувствовал неимоверную усталость и, поплакав, улегся спать, когда еще солнце не закатилось. Для такого его состояния были особые причины. Когда «маленький американец» возвратился после заключения из Сибири, то застал жену с любовником и выгнал не выдержавшую разлуки женщину. Несчастная жена его вырыла во дворе землянку и стала жить в ней. А он никак не мог простить ее и сильно переживал из-за этого… Ночью же партизаны явились к дому его, поломали дверь и вывели Ксенофонта Афанасьевича во двор. На весеннем воздухе, наполненном благоуханиями отдохнувшей земли, при рождающемся урчании лягушек на необозримых вокруг пространствах даже души бандитов защемило от ближайшего соседства смерти. Злодеи поставили несчастного у стены и дубовыми плахами, оказавшимися под руками у них, стали убивать его. И когда Ксенофонт Афанасьевич почувствовал свой конец, то закричал под землю жене изо всех сил: «Прости меня!» От мысли, что жена может не услышать, из его горла вырвались такие звуки, название которым дать невозможно, — от них у партизан волосы поднялись на головах и руки-ноги похолодели; но обезумевшие с дубовыми плахами не смогли понять смысла этих чудовищных, пронзительных кликов и не стали добиваться, кому предназначены они, чтобы еще кого убить; для них прозвучал только нечеловеческий рев, когда они сами были хуже зверей. А жена Ксенофонта Афанасьевича, проснувшаяся под землей еще тогда, когда партизаны выламывали дверь в дом, давно трепетала и осознала посланные ей последние слова мужа, разрыдавшись, расчувствовавшись и грызя землю — чтобы бандиты не услышали ее стенаний, всею затеплившейся душою ощущая к убиваемому, которого совсем недавно, может, ненавидела, — неистощимую любовь за его невыразимый жуткий крик откровения, и вспоминая уже с болью невозвратные моменты жизни с Ксенофонтом Афанасьевичем, как светлые, так и мрачные, но не смея попросить сама прощения и терзаясь от этого.
Когда бандиты ушли, жена «маленького американца» осторожно выбралась наверх из землянки. После кромешного мрака под землей она все во дворе увидела, как днем, но ни мертвого, ни живого Ксенофонта Афанасьевича не нашла беспокойным взором, блуждающим с предмета на предмет, пока не ужаснулась и не онемела, попятившись, а потом подскочила к какому-то блину, прилипшему к стене, истекающему черной кровью, от которой пар струился перед рассветом. Женщина, почувствовав в этот момент крайнюю минуту между жизнью и смертью и благоговея перед этим состоянием, упала перед тем, что было ее мужем, на колени и, смиряясь со смертью и бесконечно жалея Ксенофонта Афанасьевича, едва дотронулась до него — даже в порыве любви ужасаясь обнять жуткое месиво — как вдруг этот блин отвалился от обрызганной кровью стены и упал на нее. Жена Ксенофонта Афанасьевича поспешно выбралась из-под липкой горячей тяжести, от неожиданности — с чуть ли не вырвавшимся из груди сердцем, и отчаянно почувствовала свое одиночество (а детей у них так и не было), и завыла от безутешного горя… И выла до тех пор, пока утром вокруг не собрались люди. Хотя у многих в деревне на чердаках пылились ожидающие своего времени гробы, но такой блин никак невозможно было положить ни в какой гроб, а время начиналось такое, что досок не оказалось, и собравшиеся родные и соседи вынесли из дома убитого двухстворчатый шкаф, положили блин в него, понесли на кладбище и похоронили его в нем.
Возвратившись в деревню, никто не зашел на поминки в дом к изменнице, только огромный Георгий Афанасьевич приволокся и, ничего не говоря невестке, снял со стены портрет убитого в натуральный рост в позолоченной раме — хотя несчастная умоляла оставить ей память о муже — и перенес картину в отеческую лачужку на другом берегу.
После впечатляющей смерти Ксенофонта Афанасьевича брат его почувствовал, что вот-вот может наступить и его черед, а как раз из Октября в Гробово дошел слух, что немцы в городе убили всех евреев и освободились еврейские жилища. Георгий Афанасьевич вместе с семьей отправился в Октябрь и сумел занять целый особняк. «Американец» перевернул вверх дном доставшийся ему дом и нашел много золота. Он стал зарабатывать в городе большие деньги, занимаясь разнообразными перепродажами, при этом его зрелый возраст предрасполагал к размышлениям. «Все у меня есть, — думал Георгий Афанасьевич, — надо теперь поставить на ноги детей». Как раз немцы сделали объявление: «Если кто пожелает добровольно отправить своих детей в Германию — их ожидает блестящее будущее». Георгий Афанасьевич нанял своим любимцам учителя немецкого языка, и дочь, смышленая, как отец, быстро овладела им, хотя для сына учение это не пошло впрок. Тут маленькая невзрачная жена Георгия Афанасьевича, никогда никому не возражавшая, осмелилась и высказалась против отправления детей в Германию, но муж не удивился и не послушал ее. Когда сияющие от ожидания близкого счастья уже взрослые дети Георгия Афанасьевича: сын, маленького роста — в мать, и дочь, огромная — в отца — красавица, — вышли из сумрачного еврейского жилища с американскими чемоданами, в которые женские платья укладывались сразу во весь рост, родительнице сделалось плохо — она вернулась в дом и упала на кровать… Но и на кровати ей не лежалось; угрюмый особняк утопал в глубокой тени от вековых деревьев, и в нем даже в солнечные дни бывало уныло, а в ненастный день несчастная мать передвигалась по чужому дому, среди барской мебели, на ощупь, обнимая мрачные стены, которые пленяли еврейские души. Одни тревожные мысли о детях и переживания за них сменялись другими и неотступными волнами накатывали на ее сознание, помрачившееся от невыносимости расставания, — еще ни разу, никогда она с кровинушками своими не разлучалась. Когда Георгий Афанасьевич возвратился с вокзала домой, отправив детей в Германию, — жена его сошла с ума… Георгий Афанасьевич закрывал ее на ключ, а сам все время торчал на базаре, даже не вникая в то, что продавал и что покупал. Годы, проведенные им в заключении в Сибири, не отразились на его внешности так, как сейчас: он неузнаваемо изменился, можно сказать, за один день. Всегда выделявшийся на базаре могучим телосложением «американец» сник и потерялся в людской толпе. Вдруг он утратил интерес к накоплению всякого рода богатства — к тому, к чему страсти его были привязаны чуть ли не с рождения. Всегдашний блеск в его очах пропал, и они приобрели сразу выражение старческое, слезящееся. Георгий Афанасьевич перестал умываться, зарос щетиной и, имея в своем облике нечто первобытное, незаметно превратился в самое настоящее животное; и, может, поэтому стал спать не раздеваясь — бессознательно стараясь сохранить хоть что-то на себе человеческое — одежду, а может, просто — обезразличел ко всему внешнему до крайности. Оставшись, по сути, один, он вспомнил о брате Митрофане и явился к нему, но самый большой деревянный дом в Октябре оказался заставлен трехъярусными кроватями и полон немецких солдат, которые вытолкали пришедшего. С большими трудностями Георгию Афанасьевичу удалось разыскать на окраине города родственников, перебравшихся в пустую лачужку. Он стал очень часто приходить к брату и рыдать, сообщая все, что удавалось разузнать на базаре о происходящих кровавых событиях в Гробове, пока, наконец, не замкнулся в себе окончательно, и впоследствии даже известие о смерти брата Тимофея не заставило его поднять голову.
Глава пятая
Когда после жестоких боев с немцами Октябрь был освобожден и жители города вылезли из подвалов и погребов, вместо многих строений они увидели руины. Оказавшиеся на окраине в чужой хибарке Марфа Ивановна и Митрофан Афанасьевич с детьми поспешили к своему жилищу — на счастье, их дом остался цел, однако под фундаментом саперы обнаружили часовую мину и обезвреживали ее. (А в сарае после немцев осталась огромная, как корабль, корова, которая давала каждый день двадцать пять литров молока, но — как белая вода. И в эти дни у мальчиков Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича появилось желание украсть это бесполезное животное.)
И вот, по прошествии некоторого времени после победы, к дому Гробовых в Октябре привезли на грузовике мертвеца, и два мужика с гробовской печатью на лицах вошли и объявили страшную весть — сбежался на нее весь дом, и даже сам Митрофан Афанасьевич прослезился: никто не знал человека невиннее и добрее его брата Тимофея. Плачущие вышли из мрачного своего дома на улицу к приехавшей грузовой машине и, опустив борт, сняли тело покойника, внесли в дом, где обмыли, одели, и Митрофан Афанасьевич побежал заказывать гроб. И теперь ребята Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича сообразили, что завтра наверняка увидят родину, и каждый из них в глубине так обрадовался, как может обрадоваться только малолетнее дитя, когда же старшие из братьев чувствовали себя юношами.
В отличие от хитрых родственников, которые, чтобы избежать мобилизации, имели справки, что больны туберкулезом, Тимофей Афанасьевич находился в действующей армии, но попал в плен и оказался в концлагере. Там немцы выкрутили ему пальцы на руках, а когда он после войны возвратился в Гробово, местная власть стала ему не доверять, как, впрочем, и многим другим, кто побывал в плену. Грамотных же людей не хватало, и несчастного нехотя опять поставили бригадиром в колхозе. Тимофей же Афанасьевич был очень добросовестный работник и однажды поймал одного человека за воровством. И этот негодяй (ему после присудили десять лет, но прошло три года, и он вернулся) так сильно избил бригадира, что Тимофея Афанасьевича положили на грузовую машину и повезли в Октябрь, в больницу; и он там, только его доставили, умер.
Ночью сделали домовину для усопшего, а утром семья Гробовых забралась в кузов грузовика и расположилась вокруг покойника. Вся многочасовая дорога до родины чернела в колдобинах, и покойник скакал в гробу с вывернутыми в концлагере пальцами на руках. На это зрелище жутко было глядеть, и за продолжительное время езды никак невозможно оказалось привыкнуть к нему, что долго потом стояло в глазах. Но когда приехали в Гробово и ребята Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича спрыгнули на родную землю с одеревеневшими ногами, затекшими от неудобного мучительного положения, — несчастным сделалось так же печально, как и после созерцания красоты.
Шестипалая жена Тимофея Афанасьевича, которая уже выплакала все слезы, со смирением встретила неживого мужа. Гроб внесли в дом. Дети Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича остались одни на улице и тут, освободившись от гнетущей близости покойника, рассмотрели наконец Гробово и чистое небо над родиной, в котором, как и в детстве, толклась светящаяся на солнце мошкара. Все печальнее становилось братьям. Выяснилось без сомнений, что прекрасное Гробово было невыдуманным. Действительно, тут все перед глазами представало в ином свете, чем в Октябре, и даже небо, хотя, казалось, небеса и для разных мест должны быть одинаковы. Так ребята стояли у дома умершего дяди и разглядывали несравненную гробовскую природу, но вид деревни простирался очень странен. Она выглядела брошенной людьми. Вдруг из дома Тимофея Афанасьевича поспешно выбежали, как молодые, родители братьев и завертели головами вокруг, не зная, куда деться, а слезы брызгали у них из глаз, когда, казалось, можно уже было привыкнуть к смерти. Немного успокоившись, Марфа Ивановна и Митрофан Афанасьевич побрели огородом на луг, разошлись около речки Сосны в разные стороны и повалились в траву. Шестипалая женщина вышла к племянникам мужа и теперь им взялась припоминать подробности недавних, в войну, смертей их родственников, о которых в Октябре еще не знали. Ребята услышали, что из многочисленной родни у них в Гробове остались лишь бабушка Химка и сама жена Тимофея Афанасьевича, а всех их двоюродных братьев и сестер угнали в Германию. Но едва жена Тимофея Афанасьевича, сжав шестые свои пальцы в кулаки, проговорила последние слова, как появилось на улице шествие иностранцев — судя по отличающей их одежде, и — с чемоданами. Мальчики Гробовы с радостью узнали в них детей Тимофея Афанасьевича, которых тот привозил в Октябрь отрезать шестые пальцы. Переступив родной порог и наткнувшись на гроб, пришедшие заплакали: другого такого отца, который так бы любил своих детей, и обнимал их, и называл «солнышками и красоточками», во всем белом свете никто не видывал. Мальчики Гробовы из Октября вошли в дом дяди вслед за двоюродными братьями и сестрами и поплакали вместе с ними. Тут с красными от слез глазами вернулись Марфа Ивановна и Митрофан Афанасьевич, которые — как учуяли их чуткие отпрыски — пахли травой от лежания в ней. Такая росла в Гробове трава!! Марфа Ивановна распаковала съестные припасы, привезенные из Октября, и вся огромная семья собралась у стола обедать, а у самой же хозяйки в доме ничего, кроме картошки, не нашлось. Братья, привыкшие к городу, осмотрелись по сторонам: дом был громадный (на который и Митрофан Афанасьевич давал денег), но пол в доме чернел — земляной. За обедом ребята Тимофея Афанасьевича рассказывали о своей жизни в Германии. В отличие от многих увезенных на чужбину детей, они попали к очень хорошему и доброму хозяину и отдыхали, как на курорте. Работа не докучала им, привыкшим к тяжелому крестьянскому труду, а хозяин внимательно следил, как его работники питаются, как одеты, и приучил их мыться в ванной. Действительно, одеты они были великолепно и выглядели очень хорошо. А босые ноги их матери казались черными от блох. Отвыкнув от деревни, дети Тимофея Афанасьевича не знали, куда девать свои белые руки, и веточками отгоняли мух от пищи. Старшая дочь Тимофея Афанасьевича, Катя, уже была замужем, когда немцы вывезли ее в Германию, разлучив с избранником. И тут объявился он, и преклонился на глазах у всех перед ней, и расцеловал всю. А она сидела с каменным лицом и ни разу не ответила на его поцелуи. Наконец муж Кати увидел гроб и ушел. От множества народа в хате, хоть она была и немаленькая, со временем сделалось душно, и от покойника, раздувшегося от жары, начал распространяться запах. Один из сыновей Тимофея Афанасьевича, не зная, что при покойнике нельзя окон отворять, распахнул окошко, и от свежего воздуха усопший стал расплываться на глазах… Ребят Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича отправили за бабушкой Химкой. Они с облегчением и радостью вышли на жару.
Дети Гробовы из Октября побрели по улице родной деревни. Никто навстречу им не попадался и не мешал их сосредоточенности. Трепетное чувство безвозвратно утекшего времени овладевало братьями, а старшие иногда даже щупали у себя намечавшиеся усы и бороды, когда осматривались по сторонам, не веря собственному зрению. Наконец ребята узнали дом, в котором многие из них родились, и прошли во двор, заросший молодыми кленовыми прутиками, но долго тут не задержались. Окна в доме и двери были забиты накрест досками, на что страшно оказалось взирать. Дети Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича вышли на высокий берег речки Сосны и увидели на другой, низкой стороне лачужку, в которой жила бабушка Химка, и стали опускаться к мостику из нескольких бревнышек, как вдруг появилась целая куча гробовских детей, одетых как разбойники. Они не смели приблизиться, пораженные необычной для них городской одеждой, например, на младшем из братьев — Ване, родившемся уже в Октябре, — были коротенькие, до колен, штанишки. Тут гробовские ребята издали как стали стрелять камнями! Братья перебежали по мостику через речку и спрятались в бабушкином дворике, в котором гоготало множество гусей. Пушистые гусята были очень нежные, и самый маленький сынок Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича стал с умилением ловить их. Но когда он поймал одного гусенка, гусак как подлетел к нему! — мальчик вместе с гусенком за старшими братьями вскочил на крыльцо, и гусак забежал за ними в сени. «Бросай, Ваня, бросай!» — закричали старшие братья меньшему. Тот отпустил гусенка. Вот тут бабушка их вышла из лачужки и спросила: «Что вы мне привезли?» Она жевала свой медовый пряник, но ничего внукам не дала. Узнав о смерти сына, суровая старуха нахмурилась, но не заплакала и исчезла в глубине домика, закрыв за собой двери. Братья постояли в прохладных сенях, где пахло рыбой и молоком, и вышли во двор. Теперь во дворе вместе с гусями стоял какой-то необыкновенный, с кольцом в носу, бык — непостижимых размеров, произведший на детей Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича неотразимое впечатление; самый маленький ребенок в коротеньких штанишках закрыл глаза от такого чудища и — открыл, когда его вывели к речке и он почувствовал свежесть и услышал журчание.
Сразу же после похорон дети Тимофея Афанасьевича заявили, что в деревне жить больше не будут никогда, и на следующий день вместе с семьей Митрофана Афанасьевича уехали в Октябрь, откуда далее по железной дороге решили добираться до Ленинграда — где вскоре и завербовались на стройку. (Осталась из них в Гробове одна лишь старшая Катя, у которой имелся муж, который очень ее любил, но Катя после Германии очень холодно обращалась с ним, а когда он целовал ее, давала ему пощечины.) Сыновья же Митрофана Афанасьевича и Марфы Ивановны, кроме старшего — Филарета, находящегося к этому времени на службе в армии, и кроме самого маленького — Вани, — только оказавшись в Октябре, тайно от родителей, погруженных в свои невеселые думы, завернули обратно и отбыли на ближайшую к Гробову железнодорожную станцию Кирею на том же самом поезде, на котором приехали.
В черную пасмурную полночь, в дороге отведав для смелости водки, ребята притащились ко двору бабушки Химки, открыли замок в хлеву и обули в лапти быка, причем лапти задом наперед надели, и как взяли быка за кольцо, так он, как миленький, потелепался за ними, почувствовав всю долю свою и необычайное жестокосердие пришедших людей. Сыновья Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича завели далеко в лес, поближе к Кирее, необыкновенного этого бельгийского быка и — зарезали несчастное животное. К утру ребята успели разделать его и поволокли — сколько могли унести — в Кирею на базар, а один из мальчиков остался сторожить в лесу остатки быка от зверя и птицы. Далее: один из братьев взялся продавать мясо на базаре, другие же по очереди носили ему. Так за день они и продали быка, только шкура осталась, которую дети Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича не осмелились продавать, потому что по ней их могли поймать, но выбросить ее им было жалко, и вместе со шкурой они так же ночью, как и отбыли, прибыли в Октябрь, после чего явились не домой, а на еврейское кладбище, где зачастую ночевали в каменных будках на могилах, когда избегали плетки отца. Под утро меньшего из братьев старшие отправили на разведку посмотреть, что во время их отсутствия происходит дома, а сами лежали на шкуре бельгийского быка в каменной будке, и тут — послышался топот многих ног! Сердца юных Гробовых заколотились, и мальчики, разбив лбы, выскочили через окно этой ужасной будки. На востоке небо зеленело, и луна блестела полная и освещала поле перед кладбищем. За скрывавшими их сосновыми стволами братья увидели, как совсем рядом два мужика вели — никакого не могло быть сомнения — их немецкую корову, которая давала каждый день двадцать пять литров молока — как белая вода. Корова плакала. Она шагала в лаптях. И лапти оказались задом наперед надетые. Корова и мужики повернули от кладбища и вошли в высокую спелую рожь, зашуршав среди стеблей, которые не колыхались перед рассветом. В хлебах образовалась широкая дорожка, которая чем дальше — тем слабее различалась и за холмами пропала вместе со шляпами мужиков и с коровьими рогами. А братья не посмели нарушить того, что показалось им прекрасным, как гроза, и им сделалось немного после жутко печально, и они снова забрались в будку на роскошную шкуру. Но прошел день, а посланный меньшой брат не возвращался. Мрачные мысли заполонили шальные головы. Дети Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича, как снова наступила ночь, вылезли из будки и не знали, куда им деться, пока не отправились на вокзал вместе со шкурой в мешке и — снова поехали в Гробово.
Неожиданное чувство любви к бабушке Химке вдруг подступило к горлу каждого из них. И множества разных других ощущений возродились в их странных душах, но что конкретное привело их на рассвете к домику бабушки — они не знали. Пришедши в родное Гробово, у самого бабушкиного домика, который тонул в густом тумане от речки Сосны, мальчики испугались судьбы своей — бросились в садик и закопали шкуру быка, а затем залезли на кривые вербы и стали ожидать, когда проснется старушка. Руки и ноги их затряслись, так детям Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича сделалось страшно от жизни и холодно от тумана, который плыл довольно быстро под ними. Вскоре в дыму от реки показался белесый кружок солнца. Братья обрадовались, что сделается теплее и они согреются, а уже зубы их застучали от промозглости. Но благодаря почти не ощутимым солнечным лучам испарений от воды и от земли в ледяной росе стало подыматься немного более, и вдруг братья увидели только дерево, на котором сидели, и — друг друга. Несомненно, они бы не разглядели, как встанет бабушка, но надеялись услышать, так как кругом воцарилась необыкновенная тишина. Скрытое же солнце подымалось все выше и вдруг так засияло прямо в лица сидевшим на дереве братьям, что они беззвучно засмеялись от счастья, и тут же на глазах, за несколько минут космы сырости рассеялись и развеялись, и удивительный, сказочный мир, в котором все сверкало и блистало, открылся перед ними. Но с удивлением братья увидели, что бабушка Химка давно поднялась и ходит по двору, а они не услышали ни одного звука. Вот бабушка открыла какую-то дверь, и вдруг с потрясающим окрестности гоготом и хлопаньем крыльев гуси вылетели из птичника, так что от неожиданности ребята чуть не свалились с дерева на несущуюся к реке стаю с распростертыми белыми и серыми крыльями. Бабушка Химка скрылась в домике, и братья стали съезжать на землю по мокрым наклоненным стволам. Но когда они в зеленых сзади штанах опустились вниз, сделалось им печально, как всегда бывало в подобных случаях после созерцания чего-нибудь очень красивого.
Когда они вошли в дом, затаив дыхание, — старушка ничем не занималась по хозяйству, а сидела у окна за маленьким, с ободранной грязной скатертью столиком и читала вслух толстую книгу, страницы которой не то что пожелтели, а сделались как горчичники. Она бормотала непонятные молодым Гробовым священные слова и не удивилась их приезду, а братьям сделалось ясно, что это ее основное занятие в теперешней жизни. Тут послышался рокот мотора, и через утренние еще запотевшие окна старая Химка и дети Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича увидели у лачужки автомобиль — не легковой и не грузовой, — из которого вышли люди в странных полувоенных костюмах. «Кто это приехали?» — подумала вслух Химка и медленно выползла во двор, вытащив и жуя медовый пряник из прошлой жизни.
Когда явившиеся ворвались в домик — братьев Гробовых они не увидели, но тут же догадались и бросились на полусгнивший черный пол, и из-под кроватей вытащили за ноги несчастных, которые вспоминали священные слова, но припомнить ничего не могли. Детей Марфы Ивановны и Митрофана Афанасьевича уже сводили с крыльца к машине, когда старушка еще только поднималась за вошедшими в дом без спроса, и внуки с бабушкой успели обменяться влюбленными взглядами… В садике сыщики копали яму и — вытащили закопанную красную шкуру украденного бельгийского быка.
Глава шестая
В отличие от детей Тимофея Афанасьевича, дети Георгия Афанасьевича в Германии работали на ферме, доили коров, и ничего «блестящего» их не ожидало, чего им было обещано. Когда скитальцы вернулись в Октябрь и пришли домой, сошедшая с ума мать узнала своих питомцев. Человеческое чувство появилось у нее на лице, и она с болью стала называть детей по именам, но несчастная не помнила, куда ее чада уезжали и зачем, — она как бы очнулась после долгого сна. Воспоминания вызвали такое напряжение ее нежных душевных сил, что мрак опять поглотил ее разум; животное выражение, которое в человеке всегда бывает безобразно и страшно, возродилось на страдальческом лице. Прояснение длилось всего несколько минут. Дети ее отшатнулись, ужаснувшись. Сам Георгий Афанасьевич мрачно взирал на происходящее, мало обрадовавшись такой встрече.
Странную он повел жизнь, вернее, уже давно так существовал. Он даже нисколько не поинтересовался, чем занимались его дети в Германии, какие у них там возникали радости и горести, и не полюбопытствовал, что далее они собираются предпринимать. Теперь Георгий Афанасьевич сам не знал, что его собственной персоне нужно или что вообще необходимо человеку. Единственное, что доставляло ему некоторое душевное успокоение, это когда он кормил жену и убирал за нею. Когда она кушала или просто так сидела перед ним, на какое-то время успокоившись, он выискивал в ее огрубевших чертах проблески того света, который озарял ее лицо прежде. Но когда Георгий Афанасьевич смотрел на жену пристально и с участием, она в эту же минуту могла как поцеловать его, так и убить, совершенно бессмысленно вращая слезящимися глазами.
Все чаще и чаще, пользуясь тем, что и дети могли поухаживать за матерью, «американец» выбирался из еврейского особняка и брел по грязной улице, выложенной булыжником, а за ним оставались бесчисленные деревянные домики с жалкими садами, заборы, ворота, столбы, все — скученное, что его особенно утомляло и истощало; и при встречах с людьми он опускал глаза, не желая видеть знакомых, которые бы ему напоминали о прошлом.
Когда Георгий Афанасьевич выходил в поле, а постройки превращались в призрачную от голубизны воздуха стену, всему его существу становилось легче и радостнее, и он начинал быстрее шагать, чтобы уйти подальше от назойливого гула, в который собирались все звуки города. Вскоре «американец» незаметно для себя оказывался наедине с природой и забывал про все, что его тяготило… Шелест трав, тростников, лепетанье листьев на деревьях и кустарниках — когда никого из людей не было рядом — приводили его в восторг. Чистый воздух придавал легкости уму, когда ничего не думалось от благодати, разлитой куда ни кинь взор. Самый маленький цветок поражал совершенством и издавал благоухание, которое развеивал ветерок и смешивал с другими запахами. Но все эти красоты скоро отступали перед Георгием Афанасьевичем, ибо он являлся сюда не наслаждаться. «Американец» начинал беседовать сам с собой — только вдали от людей он мог позволить себе эту свободу, боясь в городе пуще остальных собственных детей, опасаясь, что они могут его, как и жену, признать сумасшедшим. А безумия «американец» очень начинал бояться, по своей несчастной супруге великолепно представляя, что это такое. И хотя перед ним возникли сложнейшие вопросы, которые предстояло каким-то образом разрешить, и решить как-то непостижимо либо действительно сойти с ума, однако Георгий Афанасьевич не вел разговора с самим собой на волнующие его темы, а молол какой-то вздор, что напоминало лепет ребенка, играющего в песке. Но, может быть, расхаживание среди мелколесья и кустарников и пустословие необходимы ему были для созревания беспокойных его мыслей, которые тяжко ворочались где-то в глубине, когда он смеялся сам с собой. На природе, в просветленном настроении, — будто после воспоминаний детства, возвращающих его к утонченному состоянию души, — «американец» особенно страстно хотел новой какой-то жизни, которую он, правда, весьма смутно представлял, и — маленьких детей, созданных для иного. И, возвращаясь, бредя обратно по городу, среди прохожих выискивал Георгий Афанасьевич женщин, и когда он видел юбку, у него все внутри замирало, и он робко и в то же время сумрачно заглядывал в испуганные глаза, ужасаясь каждый раз, что при живой супруге ищет себе даже не женщину, а именно жену. Но очень редко он видел красивые лица, да и те чаще всего ярко напомаженные и разукрашенные, — среди побуревших и почерневших от дождей и сырости деревянных столбов, заборов и уродливых строений — казались масками и были лишены благородства. И, когда Георгий Афанасьевич подбредал к еврейскому угрюмому своему жилищу, делалось на душе его необыкновенно тошно, будто он что-то потерял — наиважнейшее, но не может вспомнить что.
Вскоре дочка его вышла замуж, и хозяин увез ее далеко — видимо, ей так же страстно хотелось новой, иной жизни; со стариком и с сумасшедшей остался маленький невзрачный сын, закончивший в Октябре бухгалтерские курсы и вступивший в партию, без которой по тем временам и шагу невозможно было совершить. Поседевший до снежной белизны Георгий Афанасьевич уже давно не волновался, и не переживал за своих детей, и не вмешивался в их жизни, так как сам постоянно находился в мучительных и почти беспросветных сомнениях по любому поводу, чего прежде с ним не случалось. Но сын его пребывал в таком возрасте, когда имеют ясное представление обо всем на свете и тешатся идеалами, которые непрерывно и естественно сменяют друг друга. И он умудрился приглянуться начальству, и отпрыска Георгия Афанасьевича назначили в городе директором маслозавода! И немудрено, что сын «американца» выделялся среди прочих своих товарищей, которые ручку не умели держать в руках, — люди кругом тогда жили малограмотные, а молодой Гробов знал, например, что слово «секретарь» пишется с мягким знаком, и поэтому слово «директор» тоже писал с мягким знаком — «директорь», — каких тонкостей и само начальство в Октябре не освоило.
И вот однажды, направляясь за город, бредя по улице и смотря в землю, желая как можно скорее выбраться из Октября на свободу, Георгий Афанасьевич нечаянно поднял глаза и остановился перед деревянными воротами, на которых жидкой краской, с потеками, было намалевано: «МОСЛАЗАВОТ»; ниже — другой краской и тоже с потеками: непристойное ругательство; еще ниже, по-видимому, детской мальчишечьей рукой нацарапали мелом: «ВОРВАРА И НАДЯ ДУРЫ ОБЕ». Ворота оказались полуоткрыты и скрипели на ветру. Георгий Афанасьевич шагнул за них и предстал перед большим сараем, из которого раздавались удары маслобоек и пение. «Американец» заглянул внутрь: под тусклыми электрическими лампочками сидели женщины и вручную били масло. Над ними черной тучей жужжали мухи и назойливо лезли во рты поющим. Сперва Георгий Афанасьевич и не заметил сына, который затаился в темном углу на соломе — в белом переднике, — чтобы не обрызгали, и тосковал, наблюдая, как работницы мнут масло в стройных бочонках. На «американца» никто не обратил внимания. Он пробрался среди маслобойщиц к сыну, отмахиваясь от мух, и оглянулся, чтобы посмотреть, куда взирает его наследник. Ближе остальных к нему восседала — иначе и сказать нельзя, — и не била масло, а показывала, как она его бьет, — самая красивая и пышная девица, которая даже в этой убогой обстановке сумела расцвести. Она соизволила мельком глянуть на Георгия Афанасьевича — и — как! Несколько минут прошло, покуда он оправился от презрительного взгляда красавицы. У Георгия Афанасьевича, искренне восхищенного, вырвалось — обращенное к сыну: «Скорее же ты женись на ней!» — когда он зарекся что-либо советовать своим детям.
А сын Георгия Афанасьевича и женился на этой девице. Однако спустя некоторое время после свадьбы на лице у директора маслозавода утвердилось выражение какое-то немного удивленное или растерянное, потому что самая красивая девушка очень быстро превратилась в чудище, а не женщину: зад у нее разросся в метровый, а голова раздулась круглая, как луна. Жена директора решила не появляться на маслозаводе и даже на улицу не выходила из еврейского особняка, в котором уже проживала, и вскоре, по мере того как продолжала толстеть, запретила мужу приводить гостей, чтобы никто не увидел ее, а сама даже не выходила подышать свежим воздухом, ибо тогда аппетит ее разгорался необыкновенно, но тем не менее любила себя разглядывать в зеркале.
Эта роковая перемена внешности красавицы произвела исключительное воздействие на мысли Георгия Афанасьевича; она послужила каким-то сторонним ненавязчивым толчком, от которого беспорядочные мысли чудно и легко складываются в гармонию или истину. Георгий Афанасьевич уразумел, что каждому предопределена своя судьба, каковой не избежать. Эта истина, свидетельствовавшая об устройстве всего в мире, замалчивалась при новой власти долгие годы и теперь открылась Георгию Афанасьевичу благодаря фантастическому напоминанию в образе растолстевшей снохи. И такое наглядное представление о бренности и быстротечности земного для осознающего вечное «американца» послужило для беспокойного ума, как ни странно, отрезвляюще. Теперь Георгий Афанасьевич, рассуждая о минувшем, понимал, что иначе, по-другому в его собственной несчастной жизни и быть не могло, что пройденный им путь самый благоприятный из всех возможных для него. И даже события — ужасные — спасали его, может быть, от судьбы еще более жестокой. И, может быть, подготавливали для него радость, которая не возникнет, если ей не будут предшествовать испытания; и — даже, возможно, радость не для него, а для кого-то. Со всеми этими размышлениями страдающему человеку не так легко согласиться, особенно когда жить становится невыносимо, но у человека, кроме смирения, нет иного пути — единственно отрадного. Таким образом, Георгий Афанасьевич оказался на повороте судьбы своей и всей своей жизненной философии.
В Октябре наконец построили сумасшедший дом, и Георгий Афанасьевич отвез свою бедную жену в это заведение и теперь каждую неделю по определенным дням вместе с сыном отправлялся на свидание. Несчастную приводили в специальную комнату, где муж и сын ожидали ее, но она их не признавала, а только раздевалась донага и обратно одевалась, и тут же снова сбрасывала все с себя; при этом от беспрерывного одевания-раздевания казенная одежда очень быстро превращалась в жалкие лохмотья. Сын, после неудачной женитьбы пристрастившийся к спиртным напиткам, всегда в такие дни набирался так, что еле стоял на ногах, и танцевал перед матерью, иногда падая и тотчас подымаясь, как ванька-встанька. А в это время растолстевшая жена его, оставшаяся в мрачном особняке, торжествовала одна, также сбросив с себя все одежды, и, обнаженная, рассматривала себя в зеркалах, и от вида огромного своего белого тела ей становилось светлее на душе; а соседским детям, забравшимся на деревья, окружавшие бывшее еврейское жилище, и заглядывавшим в окна, — жизнь казалась прекрасной, но как только они опускались на землю, — почему-то печальной.
Как усердный работник, сын Георгия Афанасьевича продвигался по службе, и вскоре партия его послала на строительство в далекие края, и несчастный уехал из Октября со своей толстой женой. Оставшемуся же одному Георгию Афанасьевичу все хуже приходилось в удручающем его невеселыми воспоминаниями городе. Правда, теперь старику никто не мог помешать разговаривать самому с собой, и можно было не утруждать себя, выбираясь на природу. И днем и ночью, со страстью Георгий Афанасьевич стал задавать себе разнообразнейшие вопросы и пытался отвечать на них, но со временем старик Гробов почувствовал за своими плечами НЕКОЕГО, который никогда ничего не высказывал, но незримое присутствие ЕГО ощущалось с каждым днем все бесспорнее. Все более душой впадая в детство, что, впрочем, свойственно старикам, Георгий Афанасьевич почувствовал свою беспомощность и зависимость от ВСЕГО — как маленький ребенок. И, как ребенок, однажды, может, первый раз во взрослой жизни, заплакал и взмолился. И вот — в слезах он понял, в чем его спасение. Георгий Афанасьевич явился в детский дом, и взял себе девочку на воспитание, и уехал из города, но и на родину пока не возвратился… И, разумеется, письма от уехавшего сына получить никак не мог, которое вскоре передали его брату Митрофану. В письме оказались всего лишь такие строки, написанные, по вероятности, чьей-то чужой рукой:
«ТАМ БЫЛИ ОДНИ БЫКИ И КОРОВЫ И НЕ МОЖЕТ ЧТОБЫ ПРИЕХАТЬ СОБРАТЬ ДЕНЕГ НА БИЛЕТЫ».
Глава седьмая
Необычайное количество ворон в городе Октябре, беспрерывное их карканье и беспокойство, перелеты с дерева на дерево вокруг обезглавленной церкви, из которой соорудили бассейн, — все это подчеркивало обреченность Ваниного места рождения, а старого из огромных черных бревен отеческого дома мальчик боялся и целые дни проводил в цветущем в ту пору саду. Однажды Марфа Ивановна, опираясь на бамбуковую тросточку, ушла куда-то и долго не возвращалась, а когда вернулась — вынесла сыночку еду в сад, но из-за сильной тоски есть он не мог. Лишь только вечером, когда в доме зажгли огни и надвигающаяся темнота оказалась несравненно более страшной, чем умирающий родитель, Ваня вместе с матерью, которую долго еще вынуждал упрашивать, осмелился войти в дом, полный таинственных запахов и уставленный старинной мрачной мебелью. Марфа Ивановна объявила Ване, что отец хочет видеть его. Сразу за порогом старого дома скука обняла Ванину грудь. Мальчик еле дышал. Он так редко видел отца, что, казалось, позабыл его облик. Митрофан Афанасьевич находился в отдельной комнате и, затаившись, умирал. Несколько полусумеречных покоев Ваня прошел вслед за матерью на цыпочках, но страхи его не оправдались. Отец оказался обыкновенным пожилым человеком, который не лежал на кровати, как представлялось мальчику в саду, а сидел в кресле в своей каморке и, увидев сыночка, заулыбался, показав золотые и железные зубы, и тихим голосом известил Ваню о предстоящей поездке в Гробово, где он возьмет его с собой на охоту. О болезни лишь свидетельствовали отчаянная худоба Митрофана Афанасьевича и ведро около кресла, в которое он время от времени плевал. Но долго около себя жену и сыночка Митрофан Афанасьевич не задерживал и вскоре отправил ужинать и спать. И только тогда Ваня почувствовал, как проголодался, когда мама вывела его на кухню и принялась загромождать стол всевозможными яствами, специально приготавливаемыми для сыночка, единственной ее радости на старости лет, хотя детей она родила и вырастила много. Вскоре Ваня утонул в перине и, как ребенок, легко отдался забытью, пресыщенному невероятными снами, которые нигде так не снились и в таком количестве, как в этом городе, бывшем Снове.
Назавтра мальчик проснулся на руках родительницы, уже в автомобиле, за рулем которого сидел самый старший его брат Филарет, и Ваня догадался, что это к нему, проживающему отдельно и имеющему собственный автомобиль, мать вчера ходила договариваться о поездке в Гробово. Мальчик, затаив дыхание, стал рассматривать в окошках картины, которые, как бесконечный свиток — с одной стороны раскрывались, а с другой — собирались. Иногда вдали на дороге показывалась железная муха и медленно приближалась навстречу, а приблизившись до размеров чудовища, мгновенно, со свистом проносилась мимо. Но скоро Гробовы съехали с хорошей дороги на проселочную и стали прыгать по корням деревьев и объезжать бесконечные огромные лужи. Теперь редко встречались автомобили. Вокруг шумел дикий лес, изредка прерываемый речками, лугами, полями и деревнями с разоренными церквями и кладбищами. И конца и края не было видно этому мучительному пространству, от которого исходило уныние бесконечное. И люди, что встречались по дороге, на полях либо в деревнях, казались путешественникам братьями и сестрами — оттого, что выражение лиц у всех оказывалось одно: от страданий — блаженное. Лица у людей были как на старинных иконах: черные, смирные и строгие. Ваня с таким вниманием глядел в окно, что только через несколько часов вспомнил про отца и увидел его. Митрофан Афанасьевич сидел впереди, рядом с Филаретом, и молчал, как и Ваня, всем своим существом устремленный к проплывающим картинам, полагая, что видит все это в последний раз. А Ваня почувствовал, что и мама, и брат тем более едут неохотно в Гробово, и догадался, что они отправились на родину по прихоти больного старика. Осознав, что умирает, тот пожелал в последний раз навестить Гробово, в котором родился, и оставшихся в нем родственников. Невольно избороздившие чело Митрофана Афанасьевича нахлынувшие на него воспоминания незаметно перетекали в печаль, неуловимо смешиваясь с реальностью, и от этого путешествие на родину походило на сон и несомненно становилось для старика трогательным и увлекательным, и поэтому прекрасным, но ВРЕМЯ, оглянувшись назад из автомобиля на проплывающие мимо селения, и эту красоту превращало в ничто — а Марфа Ивановна давно выплакала все слезы, и лицо ее окаменело.
Дорога была тяжелая. Часто автомобиль так встряхивало, что Ваня прыгал на сиденье, а взрослые головами стучались о потолок. В конце концов машина въехала в огромную лужу и увязла в ней. Филарет вытащил из автомобиля мать с бамбуковой тросточкой и на руках перенес через лужу, а затем и младшего брата — и Ваня тоже остался в ботиночках. Но Митрофан Афанасьевич сам пожелал передвигаться и разутыми ногами, как и Филарет, подымал муть в теплой воде. Такие приключения, несколько раз повторявшиеся, очень Ване понравились, потому что то незнакомое и таинственное, что он видел из окна, в таких случаях можно было пощупать, унюхать и даже попробовать на зуб. Природа Ваню привлекала, и весенние краски изумляли; он почувствовал счастье на невеселой земле, и полюбил даже грязь, и завидовал взрослым, которым приходилось перебредать лужи и стоять босиком в колючей траве — то, что она колючая, Ваня узнал не ногами, а ладонями, покуда Филарет выезжал из воды на освобожденной от пассажиров машине.
Митрофан Афанасьевич начинал узнавать родные места, указывая дрожащим пальцем; но чем ближе подъезжали к Гробову, тем мальчику становилось печальнее, наверное, от пресыщения робкой души красотой и предчувствия чего-то необыкновенного. Ваня взволновался до такой степени, что слезы выступили у него на глазах, и он не выдержал и разрыдался. Вдруг автомобиль остановился, мальчика все бросили, и вынесли из машины босого Митрофана Афанасьевича с позеленевшим лицом, и положили в цветы на траве, среди которых тот ужасно закричал и закашлялся, и Ваня краем глаза даже увидел, как от такого крика все нутро отца вывалилось через рот. Ваня осознал смерть — именно в цветах. Благо дверки в горячей машине остались открыты, мальчик выскочил из нее, зажмурив глаза, и побежал в другую сторону от смерти, в лесу повалился в мягкий теплый мох и сильно зажал пальцами уши. Вдали на холме виднелись все те же фиолетовые цветы; тени от берез, волновавшихся на ветру, мотались по ним, и представлялось, что из земли подымается дым. Когда руки Ванины ослабели и слух возвратился к нему, он ничего страшного и вообще человеческого не услышал. Под горячими солнечными лучами он разомлел и забылся под неумолкаемое птичье пение.
Очнулся мальчик в движущейся машине на руках матери. Все пассажиры сидели на своих местах, в том числе Митрофан Афанасьевич, несколько раз засмеявшийся без всякого, казалось, на то повода. Ване рассказали о причине перемены отцовского настроения: оттого что автомобиль прыгал на дороге по корням деревьев, внутренности у старика растряслись, и черви, которые сосали из него силы, — «вышли», но, возможно, — еще и под влиянием чистого лесного воздуха, которым больной надышался, когда машина застревала в лужах. Митрофан Афанасьевич время от времени повторял, каждый раз удивляясь: «Как легко мне дышать! Как хорошо!» Всем стало ясно, что старик выздоровеет, и теперь поездка в Гробово теряла всякий смысл — подумалось родным Митрофана Афанасьевича. Сейчас уже Марфа Ивановна принялась часто останавливать автомобиль: ей надоело столь долго ехать, и — прогуливалась около дороги, опираясь на бамбуковую тросточку. Все чаще и чаще с возвышенностей открывались необозримые дали. Ваня, как зачарованный, раскрыв рот, оглядывал манящую воздушную голубизну, забывая про находящихся рядом — пусть и родных, и раз вслух восхитился и, спохватившись же, заозирался вокруг. Но отец и мать, наверное, не услышали, а Филарет, которого особенно тяжко мучило прекрасное, при остановках в таких благодатных местностях стал прятаться от родителей: хоть в овраг, хоть за куст, — пытаясь застрелиться (он имел пистолет); а когда Митрофан Афанасьевич выманил у него пистолет, пытался зарезаться — может быть, боясь увидеть родину, где не бывал много лет со времени переезда в Октябрь в отличие от остальных своих братьев, которым посчастливилось побывать на похоронах дяди Тимофея. И добрались бы нежные путешественники в Гробово такой ленивой прогулкой — неизвестно, если бы Филарет сам не попросил привязать себя к сиденью автомобиля, и — поехали не останавливаясь. И вот — Митрофан Афанасьевич и Марфа Ивановна зарыдали: Гробово, еще невидимое за пышным лесом, выдало себя петушиным пением.
Автомобиль выбрался из леса и скатился с возвышенности в долину к речке Сосне, на другом берегу которой и располагалось Гробово. Не доехав до старого горбатого моста, Филарет свернул в сторону и по бережку приблизился к единственному на этой низкой стороне ветхому домику, с хозяйственными постройками, еще более дряхлыми, и с запущенным садиком. Как машина остановилась, Ване сделалось пусто от разочарования, ему хотелось ехать и ехать все далее, до какого-то совершенно необыкновенного места, которого он и не мог представить. Взрослые вылезли на траву, вслед за ними и мальчик, скрепя сердце. И даже тучка затемнила берег, где прохаживался ветерок, и после душного автомобиля Ваня задрожал от вдруг нашедшего на него легкого озноба.
Митрофан Афанасьевич сильно ослабел после того, как из него «вышли черви». Филарет поддерживал его. Следом за ними ковыляла Марфа Ивановна, опираясь на бамбуковую тросточку. Ваня схватился за мамину руку и очутился в заветном домике отца. В лачужке пахло невыносимой сыростью после недавнего затопления во время паводка. Пришедшие столпились у порога. Ване стало тяжело дышать, но он пробрался с не присущей ему смелостью на середину избы и увидел за столиком у окна древнюю старуху, которая читала толстую пожелтевшую книгу и не обращала на гостей никакого внимания. Митрофан Афанасьевич несколько раз попытался заговорить со своей мамой и рассказать, кем он ей приходится, но она ничего не слышала. Неловкая, тяжелая минута наступила для приехавших на родину, как тут в домик вбежала молодая женщина и расцеловала всех. Это оказалась Ванина двоюродная сестра, дочка покойного Тимофея Афанасьевича — Катя, которая после немецкого плена не уехала в Ленинград, как другие ее братья и сестры, потому что ей пришлось остаться с мужем, но она с ним по одной доске пройти не желала после Германии и, в конце концов, разошлась с беднягой.
С шестипалой матерью Катя не захотела жить и обосновалась у Химки, и вот сейчас накрывала на стол — не на тот стол, за которым сидела старуха за книгой, а на другой. Ваня, набравшись храбрости, подошел к своей бабушке. Она заканчивала читать последние страницы черной толстой книги и ела медовый пряник, но внуку не дала, и Ваня почувствовал, что это ее последний пряник. Горожане с Катей сели обедать. На столе, ломившемся от обилия еды, лежали веточки, которыми отмахивали мух, и вокруг торжествовала такая грязь, что Марфа Ивановна не могла кушать, хотя Ваня ел много и с удовольствием, но вдруг вспомнил про отцовских червей в цветах и потерял всякий аппетит. Митрофан же Афанасьевич пожелал выпить, что свидетельствовало о явном его выздоровлении, но с первой рюмки сильно опьянел, и Ване сделалось ясно, что отец не выйдет с ним на охоту, о которой мальчик все-таки мечтал. Ваня попросил разрешения у матери погулять по лугу, но только вылез из-за стола, как бабушка, дочитав последнюю страницу, закрыла книгу, встала из-за своего столика у окна и, все еще догрызая медовый пряник, подошла к внуку, взяла его за ручку, и они вышли на воздух.
Уже вечерело. В кустах у речки начинали соловьи, которых Ваня никогда не слышал и которые поразили его своими восхитительными трелями, щелканьем и переливами. Лягушки оглушали всю долину реки неистовым каким-то скрежетом из миллионов утроб. Ваня даже не знал: чьи это звуки? — но внимал им самозабвенно, принимая их к себе в сердце. Весь этот весенний гам вокруг мальчика оглушил его и потряс. Ваня не мог даже различать отдельно пение соловья от кваканья лягушки. Все сливалось для него в одну великолепную необыкновенную мелодию. Мальчик продвигался дальше с бабушкой по лугу, причем она вела его не по тропинке, а напролом по кустам, обрызганным росой, и Ваня выходил из них испачканный цветами. Весенние звуки, и краски, и запахи приобретали особое выражение от надвигающейся близкой ночи, и Ванино предчувствие необыкновенного в Гробове наконец сбывалось. Он оказался поражен таинственной величественностью природы и отдался ей всей душой, которая, казалось, отделилась от его легкого тела и объяла все вокруг.
Даже обилие комаров и их заунывный звон и укусы не раздражали сыночка Гробовых из Октября. Чувство родины входило в самую суть его. Не оглядываясь по сторонам, он брел с бабушкой, с которой совершенно не было страшно, и глядел вдаль с восторгом, и не заметил, как скрылось за дальним лесом солнце. Сиреневый туман стал струиться из мокрой травы. Ваня задрожал от холода и, пожалуй, еще от душевного переворота или от настоящего рождения. Начинало жутко темнеть, теплые краски меркли, но зато звуки с новой силой зазвучали в прохладном и сыром воздухе. Бабушка все время бормотала, и Ваня чувствовал жар ее руки своей маленькой ладошкой. Вот — лес подобрался к самому берегу, и путешественники очутились в пронзительных запахах черемухи. Голова мальчика закружилась. Впереди ничего не просматривалось от темноты, и он брел с поднятой головой и смотрел вверх, где через листву и иголки плыли звезды. Скоро голубоватый свет залил землю, и от стволов деревьев упали легкие прозрачные тени, которыми ранее было охвачено все вокруг.
И бабушка Химка, и Ваня утомились уже продираться сквозь густые заросли, старуха бормотала все громче, иногда горячие ее слезы брызгали внуку на лицо или на руки. Вдруг сзади послышался шелест и треск сучьев под ногами погони. Взволнованная и тяжело дышащая Марфа Ивановна, опирающаяся на бамбуковую палочку, и разрумянившаяся Катя догнали беглецов и принялись с негодованием распекать старую Химку на весь ночной лес. Вот тут Ване сделалось страшно, и он захныкал. А древняя бабушка продолжала бормотать что-то свое, не только не слыша окружающих, но и не желая их слушать. Старуху повернули назад, но обратный путь затянулся на целую ночь, потому что Химка, после того как ее с внуком догнали, обессилела вдруг и часто садилась на пни, а то и прямо в росную траву. Марфа Ивановна и Катя успокоились, когда выбрались из леса, и из разговора между собой взрослых Ваня узнал, что бабушка на праздничном обеде в честь приехавших из Октября дочитала толстую книгу, называемую Библией, над которой сидела много лет, и незаметно сошла с ума. Бредя обратно и размышляя над тем, куда старуха вела мальчика, Марфа Ивановна и Катя разыскали дорожку и возвращались домой (для Вани — именно — домой) — по ней, а не по тому темному следу сбитых рос на бледной травяной земле, по которому мальчика и бабушку Химку нашли.
Митрофан Афанасьевич тоже не спал — с пистолетом и с ножами Филарета, все это время сторожа его, и с нетерпением дожидался возвращения погони на лавочке возле домика, на котором запечатлелись первые лучи солнца. Марфа Ивановна, утомившись, присела рядом с мужем и заплакала, указывая бамбуковой тросточкой на дом на другой стороне речки, в котором она родилась, — где теперь жили чужие люди. Тут от реки повалил густой туман и заслонил солнце. Всем сделалось грустно, оттого, может быть, что поймали Ваню с бабушкой, но скоро опять показалось светило над рассеявшимся над землей облаком, и освободилось чистое небо, и птичьи песни под рев лягушек с новой силой и азартом грянули вокруг, и вся земля и все над ней просияло так, как никогда в Ваниной последующей жизни.
Вошедши в дом, обнаружили Филарета также незаснувшим: несчастный, зевая, просидел в помещении, ни разу за все время посещения Гробова даже не выглянув из лачужки и, казалось, не интересуясь ничем. Но отчим с матерью на него внимания старались не обращать, чтобы не высказать ему какое-нибудь «лишнее слово», не понимая, почему он так странно ведет себя в родных местах. А маленький брат его, с удовольствием позавтракав деревенской пищей, несмотря на то что опять вспомнил про червей отца, объявил, что из Гробова не уедет никуда. Ничего не ответив на его слова, взрослые после бессонной ночи решили вздремнуть. Хотя глаза мальчика слипались от горячих солнечных лучей, он сейчас не мог позволить себе забыться, и когда взрослые успокоились на кроватях, выбрался на воздух и сел на лавочке возле домика — теперь ему и этой малости было довольно… Пробудившись без сыночка, Марфа Ивановна выбежала из лачужки и стала громко звать Ваню, разбудив всех в доме. Тут Филарет предложил младшему брату покататься на автомобиле по деревне. Ваня, не подозревая ничего, согласился. Обрадовавшись, Филарет посадил его рядом с собой и разрешил подержаться за руль, а родители сели на задние сиденья. Филарет действительно проехал по деревянному мосту на другой берег речки, но больше Ваня ничего не помнил: он проснулся, как вчера — на заднем сиденье, и вскочил с коленей матери, когда машина катила далеко от Гробова по хорошей дороге, без корней деревьев и без луж, а мимо с урчаньем проносились всевозможные автомобили… Но люди, которые сидели в них, не казались счастливыми, а, наоборот, от длительной езды они были печальны, как Ваня или родители, или непоправимо уже страдали, иногда же ехали истуканы, потерявшие живые черты… Тут Ваня опомнился и рассказал, что ему приснился бельгийский бык. Филарет, за рулем — не оборачиваясь, с недоверием спросил у мальчика: «Разве на нем было написано, что он бельгийский?» Ваня, еще не умевший читать тогда, ответил: «Кто-то во сне сказал мне, что он — бельгийский! Да и если бы не сказал, я быка сразу узнал». — «А разве ты его видел?» — удивился Митрофан Афанасьевич. «Во время моего первого путешествия в Гробово», — отвечал Ваня. «Неужели ты помнишь похороны Тимофея Афанасьевича?» — изумилась Марфа Ивановна. «Совершенно ничего не помню, но бельгийского быка — отчетливо!» — воскликнул мальчик.
Упоминание об этом быке из уст Вани неотразимо подействовало на взрослых… Вскоре показался город Октябрь, и путешественники въехали опять в него.
Глава восьмая
1
Старший сын Марфы Ивановны Филарет, когда братья его украли бельгийского быка у бабушки Химки, пребывал в армии, в которую его забрили еще до окончания войны и в которой он после победы дослужился до офицера и находился на должности начальника склада. Человеком Филарет был невероятно способным: еще подростком во время войны в окрестностях Октября разыскивал он обломки сбитых самолетов и из алюминия наловчился отливать чугунки и продавал их на базаре… И вот когда Филарета демобилизовали, он приехал из Германии в Октябрь на немецком автомобиле с одним только чемоданом, но в котором находился миллион иголок, а одна иголка стоила рубль. Вскоре из Германии по железной дороге пришли еще два вагона с мебелью, картинами и роялем. Все это богатство не влезло в огромный дом родителей и даже в сарай, и Филарет взялся продавать лишнее. Покупатели приходили в сад Гробовых, заставленный немецкой мебелью, и рассматривали старинное дерево, которое черное рыжело на солнце и омывалось дождем, а опадающие яблоки разбивались об острые края.
У Филарета вскоре нашлись друзья, которые помогли ему устроиться на склад при железной дороге, где они промышляли, и сын Марфы Ивановны поставил дело так, что компания стала воровать зерно вагонами. Филарет был такой человек, что любил повеселиться и показать себя людям. Каждый день в доме у Гробовых начали собираться гости. Как возьмется танцевать Филарет — ходил колесом, становился на голову! Гости по очереди пытались играть на доставленном из Германии рояле и грохотали так, что, казалось, стены рухнут, увешанные немецкими картинами с русалками в позолоченных рамах… Наконец Филарет выбрал себе красавицу — будто с картины — и женился на ней. На свадьбе, когда обычно женихи ведут себя скромно, Филарет не знал, что ему такого вытворить оригинального, так как и силе своей, и удали не мог найти должного применения, и — зычный хохот его разражался беспрерывно. И в конце концов не столько приглашенные к караваю одарили новобрачных, как жених — гостей, которым после насильно вливали во рты большими кружками: мужчинам — водку, а женщинам — вино; и в результате Филарет, сам — навеселе, развозил гостей целую ночь на своем немецком автомобиле, и рядом с ним каталась до утра молодая жена, пока, распечалившись, не заснула у него на плече.
Красавица жила одна в большом доме, и Филарет после свадьбы переехал к ней с немецкой обстановкой и с переполненной от счастья душой. Но жена выпала ему неудачная — в том смысле, что не могла родить, а Филарет очень хотел детей, и — после того, как убедился в неспособности супруги стать матерью, ходил потерянный. В результате он нашел другую женщину, но жена узнала, и стала устраивать скандалы, и подала заявление в товарищеский суд — на складе, на котором работал бедняга. Если раньше Филарет постоянно улыбался и шутил, пребывая, как правило, в превосходном настроении, то постепенно жизнь для него начинала утрачивать свои разнообразные прелести, и он только по привычке веселился и старался казаться прежним. Вскоре все чувства Филарета к жене безвозвратно исчезли. Неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы супруга его в свое время не заняла дом, в котором ранее проживали убитые немцами евреи. И когда Филарет и красивая его «пустая» жена копали однажды во дворе ямку для столбика, то нашли горшок, полный золота. И это золото не позволило Филарету окончательно расстаться со сделавшейся ему ненавистной женщиной, потому что они не захотели делить золото: каждому из них представлялось, что именно он нашел клад. От такой неразрешимой ситуации Филарет принялся сильно пить и вино и водку уже не покупал бутылками, а привозил ящиками в бывший еврейский дом… И вот когда на старости лет Марфа Ивановна и Митрофан Афанасьевич остались одни с последним сыночком Ваней, Филарет особенно полюбил маленького брата, будто своего желанного ребенка.
2
А между тем благосостояние семьи Гробовых в Октябре не было таким, как ранее: американская страховка за сгинувшего Якова, когда началась война, перестала приходить; после победы Митрофан Афанасьевич написал в Москву о страховке, но никакого ответа не последовало, и странные предчувствия начинали отягощать старика и в конце концов поглотили его рассудок. С возрастом у Митрофана Афанасьевича стали проявляться ужасные черты его дремучих предков из Гробова, у которых из рода в род повторялись случаи, когда умирающим близким жалели еды, считая: раз те все равно умрут, так их и не следует кормить. Но в те времена предков Митрофана Афанасьевича угнетала жестокая бедность, его же самого — наследственная привычка. К этому часу здоровье Марфы Ивановны становилось неважным. Больные ноги ее давали о себе знать все сильнее, она с трудом передвигалась, и множество прочих тяжелых недугов свалилось на многопретерпевшую мать. Митрофан же Афанасьевич принялся укрывать от больной жены продукты на замки, хотя и так все в доме по давнишнему обычаю запиралось от сыновей, из которых сейчас с родителями пребывал только Ваня. Жившему отдельно Филарету приходилось каждый день навещать больную мать и кормить ее. Если же после посещения сыном матери оставались какие-нибудь продукты, Митрофан Афанасьевич забирал их и прятал под замок, и даже если Филарет уходил во время обеда, то старик не давал жене дожевать и вытаскивал куски из ее рта. Филарету поэтому приходилось сидеть при матери, покуда она все не съест; а на самого маленького сына Митрофан Афанасьевич внимания не обращал.
Наконец пришел день, когда Марфа Ивановна сама не захотела кушать, тогда Митрофан Афанасьевич схватился за голову, и вспомнил, как он в детстве любил избранницу свою, и стал засовывать жене в рот куски — те же самые, которые раньше вытаскивал.
Ваню после случившегося старший брат привел к себе в еврейский особняк, подумал и подарил мальчику двадцатипятирублевую бумажку — из тех, что лежали в платяном шкафу навалом, причем их было столько, что если шкаф открывался, то купюры вываливались, и устроил для любимого мальчика роскошный обед. В этом мрачном жилище оказалась такая же старинная немецкая мебель — как и в отеческом, и — такие же часы с боем, и — картины с русалками в позолоченных рамах; только рояль, в единственном числе доставленный Филаретом из Германии, давал Ване знать, что он не дома. Правда, давно никто не забавлялся на этом рояле, который, кажется, служил для старшего брата наподобие дорогой игрушки, сохранившейся с детства, напоминая приезд в Октябрь из Гробова. Но самое необыкновенное, чего мальчик не видел нигде, поразило его зеркалами на потолках. Изумленный Ваня, подняв голову, сидя за столом, рассматривал в зеркалах перевернутые мебель, рояль, русалок на стенах и разнообразнейшие блюда, которые постылая жена Филарета расставляла перед мальчиком. Ваня ел и с поднятой головой, с кушаньем во рту, задумывался, забывая жевать; а Филарет в конце концов напился и вдруг стал душить руками фужеры. Кровь разлилась по скатерти. Жена подбежала к Филарету и потребовала, чтобы он заплатил ей за фужеры, а тот только зубами скрежетал, так как почти все в доме было куплено на его ворованные деньги. В этот самый впечатляющий момент скандала на улице затормозила грузовая машина, из которой выпрыгнул человек с бледным как мел лицом, вбежал в дом и осторожно проговорил братьям, что их мама умирает. (Когда Митрофан Афанасьевич, оставшийся у постели жены, ужаснулся, что Марфа Ивановна кончается, он очень испугался и выбежал на улицу, где бросился к первой попавшейся машине и попросил шофера, чтобы тот позвал Филарета, которого знали все в городе.) Ваня не смог дальше кушать и выбросил еду изо рта. Филарет тотчас поспешил к умирающей матери, а мальчик остался с его постылой женой, и провел неотлучно с ней несколько дней, и спал с ней в одной постели, обнимая ее, покуда наконец в день похорон не появился Митрофан Афанасьевич и не взял сыночка с собой.
Пока они шагали по Октябрю, мальчик вспомнил про червей отца и уже во дворе ни в какую не захотел войти в дом и убежал в сад. Но когда настало время прощаться с матерью, Митрофан Афанасьевич нашел Ваню, и насильно взял за руку, и, говоря, что это совсем не страшно, ввел по крыльцу с высокими ступеньками на веранду, где стояла черная крышка гроба — как напоминание о предстоящем. Они прошли в дом, полный чужих людей, которые все знали Ваню и улыбались ему. Мальчик заглянул в самую таинственную комнату и увидел совсем не толстую, но очень вытянувшуюся, необыкновенного роста — свою маму на кушетке. Даже более: Ваня увидел не самою мать, а ее темные застывшие одежды. Рядом стоял пустой гроб на табуретках, и мужчины собирались переложить Марфу Ивановну с кушетки в гроб. Однако Митрофан Афанасьевич не заставлял маленького сына подойти поближе к матери и, видимо, удовлетворился тем, что Ваня издали посмотрел на покойницу.
Стараясь незаметно исчезнуть из дома, мальчик снова убрался в сад, но двор заполнялся черными людьми, и маленькому Гробову сделалось неудобно в саду одному, и он приблизился к людям. Тут сумрачный пьяный Филарет появился, опустив заплаканные глаза, и вдруг словно опомнился, поднял голову и внимательно посмотрел на сквозящую желтую сень осенних кленов, лип и дубов, расположенных вдали на улице вокруг полуразрушенной церкви, из которой соорудили бассейн. Филарет от водки стал слепнуть и, подойдя к Ване, пробормотал устало: «На мгновение увидел чрезвычайно отчетливо стаю ворон вдали, ветки, но моргнул — и все пропало…» — и слезы потекли по его небритым щекам… Ваня обнял его, уткнулся лицом в его большой живот и только слышал, как мужики, выносившие гроб из дома, застучали сапогами на крыльце в напряженной тишине, и — как вслед за ними — зашелестели венками. Филарет зарыдал, обнимая любимого маленького брата, но старшего сына усопшей отозвали, и Ваня очутился один в пустом дворе. В доме оставались еще люди, которым предстояло убрать комнаты и приготовить стол для поминок. Они позвали мальчика в дом, в котором, после того как вынесли покойницу, Ваня почувствовал некоторое облегчение.
3
На поминках по Марфе Ивановне больше всех проливал слезы бедный Филарет, наверное, предчувствуя близкую смерть и, видимо, потеряв всякий смысл жизни. И Филарет вскоре так взялся пить, что его выгнали с работы на складе, а друзья, с которыми он вместе воровал, отвернулись от него. Постылая жена, замечая, как день за днем исчезают из дома всевозможные вещи, стала задумываться, как сохранить тающее на глазах богатство, но придумать ничего не могла, пока не вышел случай. Однажды Филарет заявился в городскую столовую, где его супруга работала. И женщина только взглянула на него, как в голове у нее блистательная просияла мысль. У Филарета были грязные штаны, и она стянула их с мужа и помыла прямо в столовой. Ожидая, покуда они высохнут, Филарет в трусах завалился спать на лавке, а хитрая жена в это время отправилась домой, наняла машину и грузчиков, и вывезла все имущество и горшок золота, и спрятала в надежном месте. После этого она поспешила к гадалке, которая ей напророчила, что муж ее убьет. Редкий человек в подобных ситуациях верит сказанному, потому что жить можно только с ожиданием лучшего, так и жена Филарета не поверила, но сильное смущение у нее в душе осталось. Вернувшись к мужу, который, ничего не подозревая, отдыхал на лавке в столовой, она разбудила его и, натянувши на него сырые брюки, отправила к той же гадалке. Филарет пошел по улице и запел веселую песню спросонку, не припоминая, когда пел в последний раз, и, видимо, у него было такое странное состояние, что прохожие, попадавшиеся ему навстречу, не то чтоб с любопытством, а скорее со страхом глядели на него. Подошедши к дому гадалки, сам Филарет сейчас вдруг почему-то испугался, но все-таки поднялся по ступенькам на крыльцо и отворил дверь… Гадалка объявила Филарету, что жена его отравит… Скучно сделалось на душе у бедняги, и ему очень сильно захотелось выпить. Вдобавок, вышедши от гадалки, он наткнулся на поджидавшую его жену, от одного вида которой ему еще более захотелось напиться. «Ну что?» — спросила супруга со скрываемым трепетом. Филарет ей только рукой махнул и поспешил скрыться с ее глаз. Бедная женщина осталась в недоумении.
Филарет же отправился неподалеку к старухе, которая гнала самогонку, и та ему в долг за рубль налила стакан вонючей жидкости и дала закусить маринованных грибов. От самогонщицы Филарет не пошел, а побежал, так как ужасно захотел спать. Но скоро так устал, что еле приплелся к своему жилищу и, обошедши пустые комнаты, подумал, что попал в чужой дом, как ноги его подкосились, и Филарет повалился на пол, и увидел себя в зеркалах на потолке, и тут же захрапел.
Стояла угрюмая пора черной поздней осени, когда на душе бывает так уныло и безотрадно. Несколько раз Филарет с невероятными усилиями освобождался от навалившегося на него какого-то жуткого храпа, а для того чтобы взглянуть на свет белый, ему приходилось пальцами раздирать слипшиеся тяжелые веки. Среди пустынных стен вдруг сделалось как-то празднично, что удивительно взволновало Филарета, и он, не узнав причины непонятного преображения в комнатах, не мог окончательно отдаться сну и, в конце концов, увидел в отраженных окнах на зеркальном потолке — как из опрокинутого серого неба возносится вверх снег и пропадает в слепящей бесконечности…
Когда же коварная жена, несколько дней дома не появлявшаяся — так как боялась, что муж ее убьет, — приблизилась к своему особняку, то оцепенела от нехорошего предчувствия, осмотрев заваленные снегом, без единого следа, двор и крыльцо, и далее — распахнутые настежь все двери. Сердце несчастной женщины заколотилось, и, пробравшись через снег в дом, она нашла давно окоченевшего мужа, и лицо у него оказалось черное, как головешка. И тогда жене Филарета разом вспомнилось немало дорогого ей и доброго, связанного с именем мужа, и слезы забрызгали у нее из глаз. Мертвеца забрали в больницу, вскрыли его и обнаружили полный желудок грибов, и врачи объявили, что он отравился, закусывая грибами. Похороны происходили в метель, и когда на кладбище открыли гроб, то черного Филарета завалило снегом. Но от порядочного мороза снег был мелкий и легкий; простившись с покойником, дунули на него, и белый пух слетел. После похорон сумрачное небо прояснилось; бредя по Октябрю, возвращающиеся с кладбища будто проснулись: и иней, и пыль снежная осыпались с деревьев, с крыш и даже рождались из воздуха — и прозрачные тени пролетали по сверкающей земле…
4
После смерти Марфы Ивановны и Филарета Митрофан Афанасьевич не долго скучал и решил жениться, может быть, в преклонном возрасте уже окончательно сойдя с ума. Старик стал наряжаться, как кавалер, и заимел моду прогуливаться по Октябрю. И, стараясь обратить на себя внимание, мазал подсолнечным маслом подбородок — чтобы показать свое благосостояние. А в те времена трудно было прожить, если не украдешь: в магазинах по стенам ползали лишь красные клопы; очередь же за хлебом занимали с ночи. Для многих одеждой часто служили мешки, в которых прорезали дырки: для головы и для рук. А на гулянья девушки и женщины выходили в платьях из байкового одеяла, или из марли, что в черный цвет выкрашивали, или же в привезенных солдатами из побежденной Германии комбинациях, которым в Октябре не знали настоящего их предназначения. Когда впереди комбинации разрывались, их переворачивали — чтобы прикрыть грудь — рваньем на спину… И вскоре нашлась одна молодая особа, которая пожелала выйти замуж за Митрофана Афанасьевича.
Эта женщина оказалась необыкновенной красавицей: кто бы ни увидел ее — не мог отвести глаз. Большие ресницы ее пол-лица закрывали; брови — ровненькие; жгучие черные волосы — локонами, и в них — бумажная красная роза. Красавица как только появилась в доме у Митрофана Афанасьевича, так и запела. А пела она — так, что соседи и прохожие стали собираться под окнами и слушали, затаив дыхание. «Все, что существует на свете, — это тебе!» — провозгласил женщине Митрофан Афанасьевич. Одарив ее одеждой умершей жены, старик наряжал красавицу как куклу. Зимой, в морозы, Митрофан Афанасьевич забегал по Октябрю в одной рубашонке, доказывая невесте, какой он молодой и энергичный, но подхватил воспаление легких, и его положили в больницу, когда за всю свою долгую жизнь он ни разу не простывал и даже не имел насморка. Однако, как только к нему в палату явилась молодая невеста, Митрофану Афанасьевичу сразу же стало лучше, и вскоре они поженились, но красавица пожелала, чтобы Митрофан Афанасьевич отписал ей дом, что старик и исполнил.
Когда же наступила весна, и чем горячее становились дни и роскошнее все расцветало в природе, и, чем дальше, тем сильнее женщине надоедал немощный муж, — она пожелала себе молодого и, подсуетившись, нашла бравого кавалера, а отказываться от огромного дома, разумеется, не хотела. Тогда она привела к Митрофану Афанасьевичу собственную мать, которая с остатками давнишнего своего очарования, когда дочери не было дома, стала заигрывать со стариком. И Митрофан Афанасьевич полюбил и мать красавицы. И они с такими восторгами взялись объясняться друг другу в чувствах, обниматься и вздыхать, что Ваня в соседней комнате все слышал и не знал, куда ему деться: влюбленные до такой степени были поглощены собой, что не обращали на него внимания. Только этого и ожидала молодая прекрасная аферистка. Она внезапно возвращается с работы с несколькими подругами, и застает мать на коленях у Митрофана Афанасьевича, и устраивает скандал, после чего разводится со стариком и вскоре выходит замуж за молодого мужчину. И в результате — все они стали толочься в одном доме…
Веселье, царившее теперь в этом мрачном жилище, когда в нем чаще скучали и тосковали, ощущалось Ваней как какое-то ненастоящее, из которого никогда не родится радость — как из бумажных цветов. И дыхание разврата, казалось, поглощало солнечный свет и отравляло воздух. Даже вороны, беспрестанно кричащие и перелетающие с дерева на дерево около разрушенной церкви-бассейна, пропали; обыватели рассказывали, что они улетели на другую сторону Октября — на мясокомбинат; и тишина воцарилась вокруг фантастическая, как в мертвом городе, особенно по праздникам. Молодая красавица наконец забеременела, и выражение лица ее изменилось от проникновения печали; целыми днями Ваня с женщиной, у которой на его глазах вырастал огромный живот, бродили поодиночке по старому дому из комнаты в комнату, иногда встречаясь безмолвно, и, стараясь не смотреть друг другу в глаза, рассматривали русалок на немецких старинных картинах. Но в доме, который с каждым годом все сильнее ветшал и тускнел, столь тягостно становилось находиться — среди барской тяжелой мебели с завитками и прочими всевозможными выкрутасами, такого отвратительного для долгого взгляда мутного коричневого цвета, что выхода отсюда не было, кроме как в сад, все более и более наполняющийся печалью. А в саду Ваня и женщина гляделись в матовую черноту оставшегося непроданным одинокого полуразваленного буфета из немецкой мебели покойного Филарета и видели неясные в нем отражения лиц — и своих — и иных, но — отражения, в которых не было глаз, рта, носа — лишь расплывчатые тени или пятна посветлее — отражения не лиц, а облаков…
В это время Митрофан Афанасьевич переживал будто другую молодость и развлекался целыми днями с теперешней своей любовью. Но тут у его женщин вышла промашка: у матери красавицы-аферистки оказался муж, который не поддавался на игру жены и дочери, и когда узнал о связи дорогой супруги, то разъярился и пришел к дому соперника с ножом. Митрофан Афанасьевич закрылся в моментально опустевшем доме, а ревнивец, ожидая, когда старик выйдет из помещения, остался на улице сидеть на лавочке. К вечеру, несмотря на начавшийся дождь, собралось вокруг множество соседских детей, вернувшихся вместе с Ваней из школы. В отроческом возрасте у ребят уже появлялся интерес к смерти, но понятия, что это такое, еще не возникло, и всем им было очень интересно: как отец красавицы будет резать Ваниного отца. Но наступила темнота, вымокший до нитки ревнивец, окруженный подростками, плюнул и ушел, и Ваня видел при свете электрических фонарей, как с ножа его стекали по лезвию дождевые капли, как слезы.
У красавицы-аферистки была еще и бабушка, похоронившая давно мужа, которая жила в дряхлом домике на самой окраине Октября. И Митрофана Афанасьевича любимые женщины уговорили и — переправили к этой старушке, которую он также полюбил и поддался на уговоры безо всякого сопротивления и даже с радостью. Пришлось и Ване перебираться вместе с отцом на окраину города в чужой дом, где каждую ночь мальчику стали видеться кошмарные сны, в которых отец резал по кусочкам покойную маму. От этих снов Ваня похудел и почернел, и от них можно было бы и умереть; однажды он пожаловался на кошмары старухе. Бабушка красавицы выслушала сны и предложила Ване сходить в единственную оставшуюся в Октябре ветхую деревянную церковь при кладбище и поставить по покойной маме свечку. Мальчик выбрался в церковь и поставил свечку по маме и после того кошмарных снов, как папа режет маму, не видел более никогда… А Митрофан Афанасьевич сошел совершенно с ума, вслух размышляя над заветными мечтами, всегда ранее скрываемыми, и предрекал, что скоро вернется старое время. Красавица же аферистка с матерью надсмехались в сторонке над ним, не зная, что в прошлом он предчувствовал грядущие события; древняя старушка осчастливила Митрофана Афанасьевича на закате дней, со вниманием досмотрела его, и он у нее тихо скончался.
Как только Митрофана Афанасьевича похоронили, явились с топорами его сыновья, которые некогда украли бельгийского быка у старой Химки и которых давно никто не видел в Октябре, и стали искать золото как в отеческом доме, так и в лачужке бабушки-аферистки. Они перевернули вверх дном оба дома, но ничего не нашли и со слезами уехали из Октября, а на Ваню не обратили никакого внимания.
Глава девятая
Приехав в Гробово, Ваня, почти всю свою жизнь проведший в городе, впервые увидел осень в природе. Желтые леса под синими, необыкновенно прозрачными, без единого облачка небесами поразили его неискушенное воображение. Озимые зеленели среди чистых пашен и чем-то напоминали о той далекой весне, когда из Митрофана Афанасьевича вышли черви. Прозрачная грусть витала в окрестностях. Гробово дымилось от сжигаемых сырых куч ботвы картофеля на огородах, и этот рассеивающийся дым в осенних лучах солнца заставлял светиться сам воздух, наполненный особыми, действующими умиротворенно на душу запахами. От легкого морозца ночью и оттаявшей днем земли было чудно и легко. Ваня чуть не плакал и радовался!
…Приблизившись к лачужке на низком берегу, мальчик взволновался так, что сердце запрыгало в груди, и почувствовал себя будто во сне, когда очутился перед привязанной к стулу сидящей на солнце бабушкой. На Ваню она не обратила никакого внимания. С волос ее съехал платок, одета она была в рваную, потерявшую цвет кофту, а все остальное у нее посинело — обнаженное. От постоянного сидения у несчастной раздулся огромный зад. Под стулом стояло вонючее ведро — в сиденье вырезана оказалась дырка, через которую при Ване полилось. Мальчик протянул старухе гостинец из города — кулек винограда. Несчастная была привязана за локти к стулу и могла шевелить руками. Она взяла кулек дрожащими пальцами, и на ее лице задвигались в печали морщины. Далее Ваня вошел в ветхое, с самого начала его памяти ставшее дорогим и родным жилище. Он не ожидал кого-нибудь увидеть там, но на кровати валялся мужик в сапогах, который — только мальчик появился в доме — поднял голову, открыл мутные от пьянства глаза и сказал: «Сейчас сожгу хату: солома — в хлеву», — но сил у него не нашлось встать и пойти за соломой, и голова, что никак не могла успокоиться, упала на подушку. Ваня вышел из дома с чувством тревоги. Бабушка Химка уже съела виноград и, возможно, с бумажным кульком, так как и в руках у нее ничего не осталось и вокруг на земле не лежало, а ветра не было. Ваня закричал в ухо старухе: «Вы съели виноград?!» Она все равно не расслышала и спросила теперь у мальчика: «Вы ели Ленинград?» — видимо, что-то подумав о детях Тимофея Афанасьевича. Ваня еще закричал, узнала ли она его. Бабушка сказала, что не узнала, но подумает ночь и завтра вспомнит — и действительно, назавтра она вспомнила самого маленького сыночка Митрофана Афанасьевича и Марфы Ивановны.
Бабушка Химка глядела вдаль на дымящееся за речкой Гробово, в котором жгли костры, и морщинистое лицо ее в лучах осеннего солнца имело прекрасное и страдальческое выражение, и — мечтательное. На Ваню по-прежнему она не обращала ни малейшего внимания, будто он был не человек, а растение; он не ожидал уже никакого диалога между ними, как вдруг бабушка еще раз заговорила. Она захотела райское яблочко и показывала пальцем, не подымая руки, на противоположный берег, где среди множества садовых деревьев выделялась яблоня, увешанная таким количеством маленьких ярко-красных плодов, как ни одна другая. А Ваня не мог осмелиться ни отвязать бабушку от стула, ни отправиться на другой берег к незнакомым людям и попросить райское яблочко. Но и отказать бабушке было невозможно, и он скрылся с ее глаз.
Речка Сосна, увы, обмелела, так что почти каждый хозяин в Гробове напротив своего огорода имел переправу из нескольких бревнышек. Ваня увидел, как несколько мужиков разбирали один из мостиков, и подошел поближе. Полусгнившие бревна лежали на воде, собрав перед собой сучья, которые приплыли по воде, и прочий самый разнообразный мусор. Под мостиком застряли подохшие свинья и несколько собак, и при Ване еще одна свинья приплыла. Мальчик вспомнил речку Сосну, которая была раньше какая-то совершенно другая, и ему сделалось грустно и на душе пусто. Ваня еще вспомнил в тихих заводях серебряных рыбок, которые когда-то грелись на солнышке среди водорослей, но этих заводей теперь не приметил: все переменилось, все сделалось иное, как бы чужое, но под внешними незнакомыми очертаниями таилось нечто все так же бесконечно дорогое и, может, сейчас еще более драгоценное. Ваня стоял на берегу засоренной речки Сосны, чувствуя себя одиноким, и так сильно заскучал и засмотрелся вокруг, что не заметил, как перед ним возникла растрепанная женщина, в которой он стал узнавать полузабытые черты двоюродной сестры Кати. Оставшаяся в Гробове дочка Тимофея Афанасьевича только что по одному из мостиков перебралась через речку, направляясь домой с колхозной фермы, где работала дояркой. Катя сразу же узнала Ваню, будто ожидала каждый день, но насколько она была приветлива во время давнишнего его пребывания в Гробове, теперь глаз не смела на мальчика поднять, а если взирала, то взгляд пронизывал — ледяной. Ваня не ожидал такой встречи, ему нужно было что-то сказать, и он произнес первое, что пришло в голову, — будто хочет посмотреть на портрет Ксенофонта Афанасьевича, хранящийся — по рассказам — в отеческом его домике. Слово «отеческий» сильно задело Катю. Как Ваня узнал позднее, хозяйкой дома по-прежнему оставалась бабушка Химка и ни за что не хотела отписать дом своей внучке, боясь, что та выгонит ее из дома — подобные случаи повторялись в Гробове из поколения в поколение. А внучка приставала к старухе с этим домом каждый день, то всячески угрожая, то подлизываясь, отчаиваясь от мысли, что помимо нее существует множество наследников, которые могут приехать и занять этот дом с запахами тины и рыбы (и чувствовала — приедут), — и за это ненавидела весь белый свет. А между тем шестипалая ее мать, с которой Катя не могла ужиться, умерла, и самый большой дом в Гробове, построенный Тимофеем Афанасьевичем для многочисленных детей, пустовал сейчас и разваливался. Но все дело тут состояло — если вникнуть — в привязанности к месту, из которого начала свое происхождение душа. И даром давай этим людям хоромы, они вернулись бы на родину прадедов в низенький дряхлый домик, позеленевший от времени, который иногда во время половодья затапливало водой и который даже не ремонтировали, чтобы не нарушить ничего устоявшегося, святого и родного, как не ремонтируют природу, а только очищают ее от умершего…
Двоюродная сестра быстро шагала к заветному домику, и Ваня за ней, будто происходило обыкновенное событие, а не встреча разобщенных между собою много лет родственников. Когда они проходили мимо привязанной к стулу бабушки Химки, которая уже оказалась в тени под вербами и на которую внук ее от стыда, слабости и положения своего взглянуть не мог, Катя промолвила о несчастной, как бы оправдываясь перед мальчиком за отчаянное отношение к старухе: «Вот — прочитала Библию и тронулась, и после все время хочет уйти куда-то, спрятаться…» — будто не зная, что Ваня был самым ближайшим свидетелем бабушкиного сумасшествия, и как бы желая даже немногое, происшедшее в Гробове и связанное с именем мальчика, переиначить и забыть, внаглую подчеркивая, что здесь Ване все чужое и нет ему места.
Из дома по-прежнему раздавались храп и крики сестрицыного сожителя. Не проявляя ни капли гостеприимства, Катя указала брату в сенях на лаз в потолке и на лестницу, висящую на крюке. Ваня приставил лестницу к стене и взобрался на чердак. Там было даже довольно душно. Из двух маленьких, в разные стороны глядящих смотровых окошек, через стекла, матовые от пыли, струились слабые потоки света. Все в беспорядке, и все серое: самовары, хомуты, книги, керосиновые лампы, кувшины, на балках подвешенные торбочки и забытые пучки высохших трав — окружали мальчика. Он здесь почувствовал себя наедине с самим собой, как в лесу и как дома, и удивился, заметив еще серый французский мундир и как кокон — в паутине — головной убор из армии Наполеона, а далее — за серыми забытыми гробами, сделанными загодя для живых, что заведено было в Гробове, — увидел приставленную к крыше — обратной стороной — картину. Он взволнованно взялся за нее — на серой раме пальцы оставили драгоценные следы; когда же мальчик повернул картину в рост человека к себе, то с другой стороны она обнаружила цвет, рама заблестела — позолоченная, а на полотне проступили черты несчастного Ксенофонта Афанасьевича. Картина оказалась тяжеленная, может быть, из-за груза мертвой пыли — Ваня еле ее удерживал в руках. Перед ним на полотне, залитом солнцем из смотрового окошечка, плыли прозрачные тени от струящегося осеннего воздуха, наполненного дымом от костров, и — изредка мелькали очертания последних мух и бабочек. Картина предстала вся в черных пятнах, а светлое как будто бы выгорело на солнце или словно оказалось залито молоком. Но истинная причина этой порчи сверкала над Ваней дырками в крыше, которую проживающие в доме не собирались чинить, потому что не осознавали себя хозяевами. Ксенофонт Афанасьевич был изображен в цилиндре, с тросточкой, в роскошном костюме, в белой сорочке и при галстуке, а также в лакированных туфлях — на фоне великолепных гор, водопадов, пышной растительности; но лицо у него оставалось мужицкое и с печатью того русского страдания, какого не бывает у других народов, и — глаза с врожденной грустью. На картине на щеке Ксенофонта Афанасьевича сидела черная бабочка. Ее крылья казались пепельными: не столько по цвету, сколько по ощущению — будто они сгорели; и — дунешь на них или прикоснешься — они рассыплются, как сожженный обрывок тончайшей ткани, или бумаги, или газеты. Не подумав, мальчик взялся пальцами за сложенные вместе крылышки, но с ними ничего не случилось, и бабочка не улетела, наоборот: она так цепко оказалась соединена с картиной, что Ваня почувствовал бабочкины коготки. Ваня ощутил необыкновенную благодать от картины с бабочкой под дрожащими лучами солнца — и так обрадовался, что на душе сделалось легко и даже трепетно, и еще — догадался, что бабочка давным-давно уснула, случайно — на полотне, и что крылышки ее на самом деле, может быть, не черные, а потемнели от времени или краска их осыпалась. Юному Гробову из Октября понравилось на чердаке, и он решил здесь существовать, чтобы вкусить поэзию и красоту минувшей жизни. Но немного спустя после ощущения возвышенного ему сделалось как всегда печально, и он подумал, что жизнь — мгновенна, ведь бессмысленно взирать бесконечно на черную бабочку на картине, однако сразу же после этой мысли мальчик осознал вечную красоту. И воспринял жизнь как музыку. И тогда жизнь показалась ему прекрасной.
Стало уже смеркаться. Ваня услышал, как ввели старуху в дом и уложили на скрипящую кровать. Долго мальчик не мог уснуть, но и Катя вместе с сожителем также никак не могли успокоиться, думая, может быть, что без обеда Ваня долго не пробудет в этом доме, и бранились между собой. Но мальчик чувствовал себя в своем мире…
Посреди ночи он вдруг проснулся и спросонку сразу не мог сообразить: где он? и зачем? — очнувшись не на своей октябрьской кровати, а — неизвестно где. Он не видел совершенно никаких снов, единственно: перед самым пробуждением ощутил бесконечный, без времени, мрак. И это потрясающее «НИЧТО» на грани с реальными стенами чердака; с дырами на крыше, через которые пробивался лунный свет; с едва уловимыми глазу очертаниями самоваров, хомутов, керосиновых ламп; с сумеречным светом из окошек в звездах, а в одном окошке чернели и качались вербы — все это так подействовало на Ваню, что он почувствовал нечто подобное тому, будто родился сейчас, только вот вылез из утробы матери, сразу вот такой большой и появился, со зрелым разумом и памятью, и ужаснулся реальности, которую осознал. После мысли: откуда он взялся? — сразу Ване подумалось о собственной смерти. «Когда я умру, произойдет всего лишь обратное сегодняшнему пробуждению», — понял Ваня, и с ужасом ему представилось, как там ничего не будет, совершенно ничего, только останется бесконечная темнота. Но вот он подумал о происхождении снов и возмечтал или возжаждал Там Сна! Тут мальчик услышал в доме стоны и возглас бабушки: «Холодно!» — от которого ему сделалось жутко. И сразу же несчастный мальчик запутался в своих необычайно тонких мыслях, они перескочили одна через другую и исчезли из его напряженного сознания, и только тяжкое недоумение осталось в нем, когда что-то начинало зарождаться очень важное, но что сразу же забылось, и Ваня, как умирающий, махнул рукой, которой уже не владеет, и отдался весь смерти с облегчением, как каждый человек… Вновь бабушка в доме ужасно громко, так что и Ваня на чердаке прекрасно услышал, простонала: «Как холодно!» Она заскрипела на своей столетней кровати и еще проговорила: «Наверно, сейчас помру!» Пальцы ног и подошвы Ванины похолодели от этих слов и особенно от обыкновенного выражения их. Он через потолок почувствовал, как сестрица внизу с сожителем не спят и затаили дыхание. На мальчика также снизошло оцепенение, но иное. Еще несколько раз старуха провозглашала: «Холодно!» — но никто в доме не подошел к ней, и Ваня был не в силах. Так прошло много времени, может — половина ночи, и когда бабушка уже прямо начала призывать: «Помогите!» — он наконец спустился с чердака в сени и вбежал в хату, споткнувшись при этом обо что-то на полу. Старухи на кровати не оказалось, и, догадавшись, опустив глаза, Ваня увидел ноги бабушки. Ваня вытянул несчастную за ноги из подпечка, и можно было только догадываться: зачем бабушка залезла туда? Бедная старушка мальчика благодарила, потому что она чуть не задохнулась под печью, как в мешке, но называла внука именем сожителя сестрицы, который испускал в этот момент в постели удивительно ровное дыхание.
Ваня помог бабушке улечься на кровать и вновь вернулся к себе на чердак, и на этот раз, как уснул, ему приснился фантастический сон. Этот ветхий домик был полон людей. Все они раскланивались и заискивали перед прекрасным молодым вельможей в роскошном одеянии. Осмотревшись по сторонам, Ваня удивился изменениям внутри лачужки — она почти неузнаваемо преобразилась в помещения небольшого, но великолепного дворца, где парча и мрамор соседствовали с пышными паутинами, свисающими со сверкающих потолков. И, не зная своего назначения в этом странном сне, мальчик бродил за свитой молодого властелина. Особа эта хотела жениться. И все окружение вокруг ломало головы, как найти Его Величеству подходящую невесту. Множество красивых и пышных девиц вертелись перед вельможей. Одежда его вся пестрела — в крапинках от брызжущих слез из голубых глаз. Как-то вдруг потемнело. Люди во дворце собрались у окна, у которого остановился этот… жених, и взирали, все — волнуясь — через множество мелких разноцветных стекол. Вдруг с грохотом стекла разбились и посыпались, и в помещения дворца или лачужки влетело множество светящихся шаров. Сильно повеяло свежим воздухом. Шары покатились по комнатам и погасли. Вельможа отошел от разбитого окна. Ваня побрел вслед за свитой; помещение оказалось тесным и заставлено богатыми нетронутыми столами готовящегося пира: не свадьбы ли? Проходя между столами, Ваня нечаянно задел рукавом за несколько винных бутылок и графинов. И там, где он задел, бутылки разломались и отвалились горлышки графинов, и это все полетело на пол вместе с содержимым — будто вино замерзло. Где-то рядом послышался благоговейный шепот. Ваню словно осенило: он приподнял край скатерти и нагнулся. Под столами, в полумраке, наклонившись над старинными книгами, корпели в ермолках евреи с длинными носами и бормотали свои молитвы. Пространство под столами показалось Ване безмерным. Вдруг один из евреев вылез из-под стола и выбрался из помещения — на дождь. Ваня подумал, что несчастный сошел с ума, судя по выражению его лица. Через разбитое стекло безумец закричал в лачужку Ване: «Ты посмотри — все эти люди вокруг тебя — твои родственники!» Тут все окружавшие мальчика «придворные» заволновались — тьма народу вдруг повалила в этот «дворец». Несчастные приволоклись издалека, что чувствовалось по их измученному виду, многие — скелеты, стуча костями; и — каждый из возвратившихся на родину желал лишь того, чтобы старая Химка отписала именно ему дом и имущество. Ваня уже не различал, где покойники, а где среди них здравствующие. «Я знаю, кто моя невеста!» — воскликнул тут вельможа. Все они быстро нашли во дворце комнату бабушки, где она лежала на все той же скрипучей кровати в одной рваной кофте, прикрытая драным, черным, как земля, одеялом. Многочисленные родственники стали предлагать старухе всевозможные яства — о подобных она даже представления не имела; и — возмущаясь тем, как ее содержали, подняли ее, и — на грязный матрас, в дыры которого вылезли пружины, постелили белоснежные хрустящие простыни из городских прачечных и надели на черное одеяло сверкающий пододеяльник. На таком белье несчастная никогда не лежала и таким не прикрывалась. За это время старуха превратилась в сноп. Родственники же не удивились и положили сноп на постель и продолжали увиваться перед кроватью, каждый — отталкивая всех вокруг себя. Ване же нечего было дать бабушке-снопу; он вышел из бабушкиной комнатки, свадебные столы пропали, и исчезла, как туман, вся роскошь вокруг. Стало стремительно, страшно, по-осеннему темнеть, и вскоре в лачужке невозможно оказалось ногу поставить между спящими приехавшими. Из отдельных оброненных ими в забытьи слов Ваня догадался, что вернулось старое время — когда никто не помышлял, кажется, о нем, — и город Октябрь обратно переименовали в Снов; таким образом как бы сбывались предсказания Митрофана Афанасьевича и, казалось, начинали осуществляться безумные его мечты, когда сам несчастный успокоился в могиле. Ваня устроился в сенях на полу. И тут — открывается крышка лаза на чердак, из этой дыры показывается зад коня, и животное начинает задом спускаться по лестнице. Ваня в ужасе выбежал из домика и поспешил по дороге через горбатый мост в Гробово. Зловещая ночь объяла землю. Но никто не спал, множество народа в темноте работало на полях: бабы жали, а мужики косили, и все — в безмолвии.
Когда утром мальчик, проснувшись, выбрался во двор, то, затрепетав, изумился оттого, что вещий сон начинал сбываться: явился с печатью смерти на зверином лице согнутый, некогда высоченный родственник с длинными, почти до колен, руками и с кулаками, как человеческие головы, ведя с собой девочку, и — раскланивался перед привязанной к стулу старухой посреди утреннего тумана. Приехавший родственник, оправдывая свое появление, тихонько произнес: «В жизни наступает время, когда хочется выращивать астры». Старуха же улыбнулась Ване и назвала его имя, переночевав и вспомнив его. Ухмыляясь, дочка Тимофея Афанасьевича ушла на ферму. Ее сожитель, неразговорчивый от тяжести похмелья, попросил рубль от приехавшего, а на Ваню глаз не подымал, явно возненавидев мальчика за то, что тот вытянул ночью старуху из-под печи. Но потом не сдержался от переполнявших его мелких чувств и высказал Ване, что ночью украли ведро, которое оставляли под бабушкиным стулом, наверное, искренне думая, что Ваня украл его. Получив рубль, пьяница исчез и, может быть, простил мальчика. Оставив детей со старухой, приехавший родственник также направился в деревню, в магазин, чтобы купить чего-нибудь покушать (однако, возвращаясь назад, на улице в Гробове он почему-то оглянулся и неожиданно упал; когда к нему из магазина подбежали, он уже отошел, и окруживших умершего озадачила такая мысль: если бы не оглянулся, так, может быть, и жил, но оглянулся и — умер).
Ничего не подозревая, Ваня отправился вместе с оказавшейся с ним девочкой погулять по берегу речки Сосны. Он глядел на нее, не сводя глаз, потому что она была очень красивая, и полюбил ее. Вдруг зашумел вдали сосновый сонный лес, березовые желтые и жалкие осиновые листочки затрепетали на деревьях, попадавшихся бредущим по берегу. Покапал дождь, но какой-то непонятный: с воспоминаниями самого себя, и при воспоминаниях самые разные капли — большие и маленькие, то спеша, то не спеша — намочили плечи и колени. Мальчик и девочка вошли в лес, и вдруг загрохотал гром, так что нахмуренные небеса будто порастрясло. Небо сбоку перед идущими посветлело, и тут солнце выскользнуло из-за туч и — солнечный столб упал поперек дорожки между деревьями. Ваня перешагнул через свет и почувствовал свое счастье, но когда, пройдя всего лишь несколько шагов, оглянулся — уже ничего не осталось от солнечного луча, однако мальчик двигался далее, с девочкой, по-прежнему улыбающийся, мокрый, вдыхая свежие запахи…
Жажда Божественного откровения и предчувствие чуда, которое спасет всех, томились в Ваниной груди. В природе предвосхищалось удивительное вдохновение! Голубой туман рассеялся совершенно, и мокрые золотые леса вокруг Гробова заблестели необыкновенно. Небо полностью очистилось от хмари и приобрело махровый бездонный цвет, за покрывалом которого угадывалась невыразимая глубина. На солнце засеребрилась паутина, освободившаяся от тяжести влаги, и заизвивалась в воздушных потоках. Только — необъяснимой, ни с чем не сравнимой грустью веяло от несказанно прекрасных небес, по которым стая за стаей проплывали перелетные птицы, каждый раз жалостно перекликаясь и свистя крыльями…