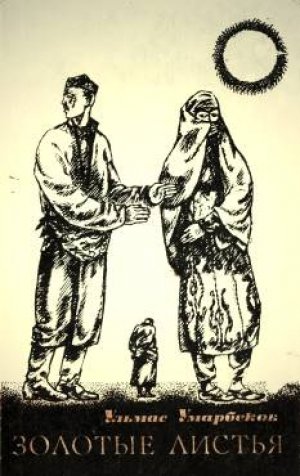
Ульмас Умарбеков
Рассказы
Любовь
От многих старых людей, да и от подруг моих по общежитию я часто слышала, что любовь в молодые годы слепа. Глупо, правда? И смешно, и обидно. Но главное — верно. Что поделаешь, сейчас я и сама это понимаю. Если бы не верно — разве мучилась бы я так? Подумаешь — Абдулла-кавунчи, по-русски — дынных дел большой профессор! Чуть не плачу со злости — не найдется, что ли, других парней, да получше, — в клубе на танцах отбою нет! Но вот вернусь домой, лягу, свет потушу — и такой ком подкатит к горлу, что дышать нечем! Нехорошо это: на людях веселая, а приду домой — плачу. И что в нем нашла? Хотя парень, конечно, славный — глаза красивые, ресницы гуще моих, веселый, а говорит — заслушаешься…
Но что это я все хвалю да хвалю, еще реветь начну. Расскажу лучше о его недостатках, об одном, который знаю: подумайте — каждые десять дней бреет голову. А потом еще и одеколоном дешевым так надушит — мухи дохнут, чистота вокруг, одна я выдерживаю. Глупо, правда? Отрастил бы волосы, сделал прическу модную — красавцем бы стал. Так нет — не хочет, как будто не для кого! Хотя, может, и к лучшему это, а то причешется, да оденется, да закружит головы подружкам моим… Ну и пусть оденется, пусть кружит, — может, я бы тогда легко отвернулась бы, облегчила сердце… А то — мука: чуть приехала в кишлак, в первый же день приворожил — и все.
Слезла я тогда с машины у конторы колхозной и на чемоданчик свой присела — оглядеться хочу и страх переждать. «Ну вот, дожила девочка, взрослой стала, хватит родительский хлеб переводить, покажи, чему научилась!» Вошла я в контору, слышу — в кабинете у председателя люди спорят. Я растерялась, не знаю, войти или пусть доругаются сначала и сердитыми не будут. Невольно слышу разговор за дверью.
— Тысячу раз твердил тебе, дорогой, — раздраженно басит один, — мне не дыни твои нужны, а хлопок и хлопок, ибо он один дает славу, он же дает позор, наконец — он дает план! Святые младенцы понимают это — один ты всех лучше, самый умный, мы все — не понимаем… Не дам больше земли — ни клочка, и не ходи, не проси…
— Сулейман-ака, ну послушайте, только пять гектаров, пожалуйста, — умоляет голос помоложе. — Ну хорошо, ведь низина Учтепа пустует — если уж на то пошло, хоть ее дайте, ведь и дыни — богатство, не только хлопок…
— Сказал — не дам. Не проси!
Тихо стало в кабинете. Растерянность моя прошла, я постучалась, открыла дверь. Прямо передо мной стоял парень в тюбетейке — высокий, плечи — косая сажень, и… я покраснела: красивый был он, и увидел меня — первый покраснел, сначала он, а потом я. Он первый…
Председатель уже ждал меня, обрадовался, подошел, руку подал и в союзницы сразу определил — кивнул недовольно на парня:
— Знакомьтесь вот, Абдулла-кавунчи, бригадир… Никаких забот не знает, одни дыни…
А я как будто немножко во сне, смутилась и говорю неожиданно для себя:
— В таком большом хозяйстве дыни не помеха.
Сулейман-ака посмотрел на меня грустно, выпроводил Абдуллу и стал что-то объяснять мне, что — не помню.
Господи, и зачем я только поехала в этот колхоз! Ведь и соседние просили агронома — так на тебе…
В общежитии студенческом вечерами, погасив свет, подруги мои рассуждали о любви. О любви с первого взгляда, между прочим, тоже. Я только посмеивалась. А теперь вот… Глупо, да?
Хочу, стараюсь не думать о нем — не получается. Ни днем не получается, ни ночью. Выеду в поле, — сама не замечаю, как поворачиваю коня в его бригаду. Ай да агроном! Стыдно, но еду все равно. Случится, нет его — разговариваю с девушками, и все как-то вокруг личности бригадира разговор вертится. То ли неделя прошла, как я приехала, то ли даже меньше, а я уже знала о нем все. Правда, славный он, вот послушайте. Тринадцать ему было — отец ушел на фронт, и они с матерью вдвоем остались. Так он об играх забыл — вернется из школы и бежит в поле к матери. Помидоры окучивал, лук полол, ночами даже дыни стерег, хотя мать и возражала. А утром с друзьями — на почту, спросить, нет ли весточки от отца. Вот так и прошел год. И писем за этот год было два. В первом отец наказывал ему: "Сынок мой, дорогой и единственный, войне еще не видно конца, и я не вернусь, пока не раздавлю врага в его зверином логове. А ты, главное, береги мать, поручаю тебе как мужчине. Ты теперь за меня… Присматривай за дынями, что посеяны мной на Учтепе. Под крышей коровника посмотри, в старой шапке должны быть семена дыни, чудесные семена, привез из Ферганы. Посади их. Хочу здесь, на фронте, не забыть о мирном своем деле. Даст бог вернуться, попробую тобой выращенное… Скучаю по тебе… Твой отец Хамидулла-кавунчи".
А второе письмо… его написал уже не отец, а командир роты, и подняло оно на ноги весь кишлак, потому что принесло известие о смерти… Абдулла куда-то пропал, и его не видели три дня. На заре четвертого дня он вернулся в дом, взял отцовский кетмень и пошел на Учтепу. Так вот и получилось, что заменил Абдулла своего прославленного по всей республике отца, сначала исполняя его последнюю волю, а потом и увлекшись отцовским делом. Вывел сорта, которые, наверное, вывел бы, да не успел, отец. И теперь, если случится вам быть в наших краях и попадете на бахчу Абдуллы, рот ваш откроется даже против вашей воли. Но нет, кажется, вы поняли меня не так, — сначала он откроется просто от удивления. Да и рука ваша не поднимется сорвать одну из желто-золотых красавиц, выстроившихся рядком в зеленых праздничных чапанах. Я вижу, вы опять не совсем поняли меня. Дело все в том, что сорвать дыню на бахче Абдуллы не так-то просто. В прошлом году из-за этого Абдуллу даже послали представлять наш колхоз на выставке в Москве.
Получилось все так. Как-то вечером мы с председателем Сулейманом-ака пересчитывали в амбаре урожай, собранный бригадами. Вдруг я вижу — в воротах Абдулла, ведет осла, запряженного в арбу, арба покрыта брезентом.
— Эй, кавунчи, зачем арба, что за фокус? — удивился председатель. — Мало тебе машин?
— Дыню привез… — И Абдулла почему-то улыбнулся. — А машина сломалась…
— Одна сломалась, другая есть. Ну ладно. — Сулейман-ака взглянул на меня и, поняв, видно, что я сейчас позабуду про подсчет — а я, конечно, уже позабыла, — добавил: — Так что тебе?.. Нам некогда, видишь.
— А она одна.
— Одна? Почему, кто одна?
— Дыня одна.
Загадочно улыбаясь, Абдулла снял брезент. Мы с председателем ахнули в один голос — во всю жизнь я не видала такой громадины. Не вру — одна дыня заняла арбу. Сулейман-ака даже прослезился:
— Молодец, сынок! — Он поцеловал Абдуллу в лоб. — Кто мог ожидать — ты превзошел даже своего отца!
— И теперь вы дадите ему землю, да, Сулейман-ака? — не утерпела я.
— Землю?.. Да, землю… — Председатель задумался, потом махнул рукой. — Сколько?
— Пятьдесят гектаров.
— Пятьдесят гектаров?! С ума сошел!.. Ладно, бери!
Председатель пошел звонить в район, а Абдулла сказал: «Спасибо» — и пожал мне руку так, что я вскрикнула.
— Вам… вам спасибо, — ответила я и потрясла рукой. — Вырастить такую дыню… Как вы ее подняли?
Тут вернулся председатель.
— Ну вот, — он похлопал Абдуллу по плечу. — Завтра приедут из района… Поедешь от нас в Москву.
И правда, все так и получилось, как сказал председатель. Через неделю Абдулла уехал на выставку.
Пятнадцать дней без него тянулись, как пятнадцать лет. Я, наверное, даже постарела на эти годы, и так и была старой, пока не вернулся Абдулла. Теперь я снова красивая. Но это так, к слову… Главное, в эти дни я поняла, что люблю его…
Как же мне быть — ведь он ничего мне не говорит, разве только о работе, и в клуб он не ходит, как все другие парни, а если и придет — сидит себе в углу и улыбается. Ишь, мучитель нашелся! Ну погоди, вернешься — я знаю, что делать, не зря в институте парни жаловались: «Ох и язычок у тебя — бритва!» Пусть только попадется мне на глаза!
Но вот Абдулла вернулся из Москвы, работает, встречается со мной, а я и слова вымолвить не могу. Еще хуже стало, чем раньше, — то хоть о работе говорила с ним свободно, а теперь останемся наедине — и сразу язык мой меня не слушается.
В тот день, как вернулся Абдулла, долго он нам рассказывал о столице и о выставке, обо всем, что видел. Показал диплом. Я смотрела, как заколдованная.
Разошлись все уже, а я все сижу. Поглядел он на меня и спрашивает: «Разрешите, провожу вас до дома?» Господи, словно проснулась я, ожила, но, чтобы не выдать себя, говорю: «Что вы, не беспокойтесь…»
Дом наш стоит на окраине кишлака, прямой дорогой недалеко, но я почему-то свернула налево. Абдулла шел рядом.
— Не устаете? — спросил он.
— Некогда уставать! — засмеялась я. — Времени не хватает.
— Да, я тоже соскучился по своей бахче, пятнадцать дней руки без дела… А в нашей бригаде бываете? Как дела у девушек моих?
Меня словно в горную речку бросили. Остановилась я.
— Хорошо! — отвечаю. — Прекрасно! Лук пропололи… позднюю… позднюю дыню окучили уже… перец полили… Отличные дела у девушек ваших! Еще о чем узнать хотите?
Абдулла смотрит на меня и не понимает.
— Мавджуда, что с вами? Я вас обидел чем-то?
— Нет-нет… — Я закусила губу, чтоб не зареветь. Истукан каменный! — Знаете… зуб заболел… Дальше я пойду одна.
— Я провожу…
— Нет, спасибо!
— Но, Мавджуда…
— Нет, нет, не хочу отрывать вас от дела, идите, вон ваши девушки, без вас плачут…
Я побежала к дому, не раздеваясь бросилась в постель и тут уж выплакалась как следует.
Вот уже год прошел, как вернулся Абдулла из Москвы, как плакала я всю ночь. И чем больше избегала его, не видеть старалась, тем сильнее притягивает меня к нему… А он молчит… Когда говорим по делу — не смотрим друг на друга… Вижу, стал избегать меня. На заре уходит в поле, к ночи только возвращается, в конторе появляется, когда вызовут.
Чтобы заглушить тоску свою, я день и ночь езжу по полям, часто ночую где-нибудь на стане. Подняли мы четыреста гектаров, половину под хлопок, на остальных посадили фруктовые саженцы. Пятьдесят гектаров отдали Абдулле-кавунчи. До сих пор я не называла его так. А теперь — буду. Даже на собрании как-то раз назвала.
Была б я парнем — подошла к нему и спросила прямо: «А ну, отвечай-ка, милый друг, по совести: любишь вон ту девушку? Не видишь — сохнет по тебе?» Ну да, а вдруг отрежет: «Нет, не люблю»? Лучше не спрашивать. Лучше не жить уж тогда, что за жизнь без него…
Не могла я сидеть дома с такими мыслями в голове, и, хоть устала очень за день, накинула кофточку и вышла на улицу. Ночь темная, кругом ни души, а я через сад иду к реке. Листва под ногами приятно шелестит, луна из-за туч выглянула. Засеребрились впереди волны. И вдруг, и вдруг…
— Мавджуда! — позвал знакомый голос.
Я замерла от радости: Абдулла! Он подошел.
— Здравствуйте, — выпалила я, хотя мы и виделись днем.
— Здравствуйте. Что, не спится?
— А сами?..
— Я-то? — Он улыбнулся. — Люблю гулять ночью, к реке через сад пройтись люблю.
— И давно это с вами?
— Да уж больше года.
— Пейте снотворное.
— Не помогает.
— Тогда…
— Знаете что, Мавджуда… — Абдулла откашлялся. — Давайте пройдемся…
Мы долго гуляли. У реки гуляли, в саду. На висячем мосту постояли. Мимо клеверного поля дошли до бахчи. Абдулла принес дыню. Вынул нож и только прикоснулся к ней — она треснула и распалась на половинки. Хоть у меня от долгого гулянья зуб на зуб уже не попадал от холода, я съела кусочек. Ох и сладкая! Похвалила я искусство Абдуллы.
— На свете есть кое-что послаще самых лучших дынь… — ответил он загадочно.
Я удивилась. Не словам, смелости его удивилась я. Обрадовалась, но промолчала. Он понял. И сказал, указывая на бахчу:
— Может, на будущий год побольше засеять сладких семян?
— Да…
— Вы… не против?..
— Нет… Идемте, уже поздно…
Дорогой мы молчали. О чем он думал? Может, о дынях? Ну и пусть! А я, я думала о нем. Он стоит этого.
— Мавджуда… — спросил он, когда вернулись мы в сад, — а завтра… завтра вы будете гулять?
Глаза его светились.
— Гулять? — Я засмеялась. — Буду, обязательно!
Как на крыльях влетела я в свою комнату, бросилась, счастливая, на кровать и впервые за много дней заснула спокойно и безмятежно.
Золотые листья
Хотя осень уже стояла поздняя, погода в тот день выдалась на славу: было прохладно, в голубом просторе неба мягко сияло солнце, и сверкали всюду в солнечных лучах осенние листья — и светлые, отливающие белым, и красные, и золотистые, и зеленые. Листья шуршали и под ногами — словно кто-то могучий и добрый знал, что я выйду на улицу, ждал меня и развернул для меня по земле пестрый, яркий ковер. Возникало такое чувство, будто в жизнь мою входит доброе волшебство — рождается во мне вместе с осенним листопадом. Поэтому солнечными осенними деньками я не сижу дома: если остаюсь в городе — выхожу в парк, а если отдыхаю в кишлаке — брожу по нашей тополевой роще.
Сегодня я, как обычно, вышел в парк напротив моего дома, услышал под ногами знакомый шорох опавших листьев, вдохнул пряный их запах, увидел тысячу золотистых оттенков и не мог надышаться и насмотреться.
Я присел на скамью, удобно и уединенно стоявшую на берегу арыка, пересекавшего парк. Быстрые его воды тоже несли, кружили золотые листья, играли с ними — и здесь тоже была осень.
Вдруг в парке потемнело — исчез золотистый блеск, погасли веселые солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь могучие кроны и яркими пятнами высветлившие красочный ковер земли. Я поднял голову — небо быстро затягивала черная клубящаяся туча, и спустя несколько минут по листьям зашуршали первые крупные капли. Как всегда перед самым дождем, над землей пронеслась маленькая буря, закружила столбом листья, за решетчатой изгородью ближнего дома что-то упало, истошно-напуганно заорал где-то близко петух… Стайка воробьев, шумно и одновременно вспорхнув, перелетела с дерева на дерево…
Я поспешил спрятаться под густой кроной платана.
Скоро на земле не осталось сухого местечка. От быстрых щелчков крупных капель с деревьев срывались желтые листья, кружились немного и падали вниз. Вокруг меня, у моих ног собрались уже обширные лужи, дождь из листьев присоединялся к дождю обыкновенному, листочки падали в лужи и смешно кружились на воде. Но сначала дождь заставлял каждый падающий лист исполнить в воздухе диковинный танец и только потом бросал его вдруг к земле и приклеивал накрепко либо загонял в лужу.
Я смотрел, как быстро гибла недавняя золотая краса, и настроение у меня портилось. Дождь все хлестал, в низких местах мутная вода закрыла уже землю.
Но длилось это буйство недолго. Вдруг в парке посветлело, дождь заметно начал редеть, и за решетчатой изгородью снова закричал петух, захлопал крыльями, но крик был уже не испуганный, а победный.
Я смахнул с лица капельки дождя и с надеждой посмотрел вверх. Посмотрел — и увидел: прямо надо мной, высоко что-то сияло золотом, словно первая весточка солнца. Я пригляделся — обыкновенный листок, пожелтевший, чуть сморщенный, дрожит на ветке, ждет солнечного луча, чтоб засиять еще пронзительнее.
Я долго смотрел на этот листок, трепещущий под налетевшим ветерком и такой стойкий в ожидании тепла и света, и невольно вспомнился мне один случай, казалось бы, вовсе незначительный, но почему-то тронувший мою душу…
Была тогда ранняя весна. Я возвращался с поля в родном моем кишлаке. Путь я проделал немалый, устал и, когда увидел на дороге рабочих, ремонтировавших деревянный мостик, подошел к ним, поздоровался и присел на свежеобтесанное бревно — покурить и отдохнуть.
— Вовремя возвращаетесь, — заметил молодой парень в телогрейке. — Смотрите, погода портится, тучи нагнало.
Я поглядел на небо — и правда, сине-черная туча быстро двигалась к нам, и не успел я докурить, как заурчал невдалеке гром.
— Ну вот, я же говорил! — обрадовался парень и, обращаясь к старику, обтесывавшему бревно рядом с ним, предложил: — Кончаем работу, ата, идемте, спрячемся от дождя. Не то промокнем, ведь и простудиться недолго.
Словно в подтверждение его слов, с неба посыпались редкие капли, потом закапало чаще, и вот уже рванулись к земле упругие струи дождя. Страшно ударил гром, сверкнуло близко, парень в телогрейке швырнул лопату на землю и побежал прятаться. И остальные рабочие побежали за ним — только старик будто не замечал дождя. Он кончил обтесывать свое бревно и взялся за другое. Работал он споро и ловко, на худых крепких руках вздувались голубые жилы.
— Ата, хватит, потом доделаем! — кричал старику парень из шалаша — чайли, где укрылись от дождя рабочие. — Ведь не убегут же эти бревна!
Старик с улыбкой глянул в сторону шалаша и продолжал делать свое дело.
Дождь усилился, я чувствовал себя так, будто попал под водопад. А старику все было нипочем.
Я один оставался с ним под дождем — и наконец тоже не выдержал.
— Ата, идемте, переждем в укрытии! — крикнул я и побежал вслед за рабочими.
В оставленную хозяевами чайлю набилось человек семь, и я еле втиснулся среди них. Все молчали, лишь дождь шумел однообразно — казалось, небо прохудилось и ливню не будет конца.
Спустя небольшое время один из рабочих вышел из шалаша под дождь, постоял, посмотрел и вернулся.
— Работает! — сообщил он, поглядел внимательно на каждого в шалаше и снова вышел под дождь, направился к мосту.
Через несколько минут в шалаше никого не осталось, кроме меня и парня в телогрейке. Он молчал, уставясь в землю, да и я чувствовал какую-то неловкость, будто делал не то. Посидели мы так, посидели, потом, все не глядя друг на друга, одновременно поднялись и вышли наружу.
Дождь еще накрапывал, но сквозь рваные тучи уже проглядывало голубое небо, а вот и луч солнца пробился, ударил в глаза, осветил землю.
Мы подошли к мосту. Все были заняты делом, на нас не обратили внимания. Парень подобрал с земли лопату и тоже принялся за работу.
Я посмотрел на старика.
На лице его, бронзово-загорелом, на пепельно-серых усах блестели капельки дождя. Или, может быть, пота? Трудно сказать…
… Маленький золотой листок на ветке надо мной, так стойко ожидавший возвращения солнца, напомнил мне этого старика… Я снова посмотрел вверх. Листок сиял под ласковыми лучами и словно тянулся к небу и свету.
Садовник
Первые лучи солнца, словно чуткие пальцы, коснулись неслышно стен домов, скользнули по сонным окнам, будто бы не решаясь еще звать людей насладиться утренней прохладой. Тишина увлекала, и я постарался не скрипнуть калиткой, выходя на улицу, и бесшумно ступал по влажному асфальту — под утро, видно, прошел дождь, и с крыш еще слетали редкие капли.
Я вдыхал пряный осенний воздух, чистый после дождя и звонкий, казалось сохраняющий в себе шлепки дождевых капель, и радовался утру и тому, что поднялся так рано. Вставая, я убеждал себя, что сегодня обязательно пораньше надо успеть на работу и разобрать накопившиеся за время моего отъезда дела, но сейчас я не торопился и хотел всласть вобрать в себя терпкой утренней свежести.
Я свернул за угол своего дома, на улицу, куда выходил, отгородившись невысоким дувалом, мой небольшой сад, и увидал, что не один я поднялся в этот ранний час. Возле дувала мальчуган лет восьми в больших, видно отцовских, галошах на босу ногу весело поглядывал на меня острыми черными глазками из-под большой лохматой ушанки и уплетал что-то с великим усердием. Заметив, что дувал в этом месте просел — видно, дожди поработали над ним — и легко можно рукой дотянуться до черных ароматных гроздьев, я понял все и усмехнулся.
— Что это ты ешь такое, дружок? — спросил я, поравнявшись с мальчишкой.
— Виноград, — объяснил он серьезно и еще раз внимательно оглядел меня из-под своей мохнатой шапки. Кажется, внешность моя не вызвала подозрений, он полез за пазуху и вытащил тяжелую гроздь влажного, налившегося черным соком «чараса». — Возьмите, ака, мне не жалко, у меня еще много, — предложил мальчишка и улыбнулся синими то ли от холода, то ли от виноградного сока губами. — Берите же… — он протянул мне гроздь, сам кинул в рот несколько ягод и захрупал аппетитно.
Я приложил руку к груди — поблагодарил и зашагал своей дорогой, но, когда отошел уже далеко, вдруг пожалел, что не принял подарка. Настолько явственно ощутил я во рту чуть вяжущую сладость прохладных ягод, что напомнила она мне давно позабытое…
Наш кишлак был большим садом, и назвали его люди, не мудрствуя лукаво, Каттабаг, что и значило «большой сад».
Обширный участок, примыкавший к поселку, отведен был под виноградники. Считалось, что он огорожен — от кишлака его отделял глинобитный дувал, но такой невысокий и местами до того развалившийся, что для нас, мальчишек, конечно, серьезной преграды не представлял. И каждому прохожему видно было, как отсвечивают на солнце великолепные гроздья разных цветов и оттенков, и редко кто не останавливался полюбоваться их сказочной красотой.
Что же говорить о нас, кишлачных мальчишках! Дома у каждого вдосталь было и янтарных «дамских пальчиков», и розового «бауки», но все равно — мы как зачарованные бродили вокруг этого виноградного царства.
Обычно гроздья прикрыты бывают листьями, здесь же листьев почти не было, виноград свешивался с шестов и подпорок, весь на виду, пронизанный солнцем, яркий — желтый, розовый, черный, будто выставленный напоказ.
И вот пришел день, и мы решились. По дороге из школы отдали сумки малышам, притаились у дувала и, когда улица опустела, махнули в сад. Что это за наслаждение было, что за виноград! Мы рвали его руками, ловили ртом, совали за пазуху, в тюбетейки и карманы и, конечно, не видели, что еще больше роняем на землю и топчем…
Мы собирались уже уносить ноги, и вдруг совсем рядом послышался голос:
— Э-эй, кто там, а? Покажись!
Приятелей моих словно ветром сдуло, а я, то ли от испуга, то ли слишком много набрав винограда и боясь уронить гроздья на землю, не мог двинуться с места. Помню, от страха зажмурил глаза и так стоял, только сердчишко колотилось бешено. Сколько я времени простоял, не знаю, но, открыв глаза, увидел перед собой высокого старика в светлом халате, перехваченном в поясе синим кушаком. На ногах у старика были мягкие красные сапоги. Не знаю почему, но именно сапоги напугали меня до ужаса, я задрожал, судорожно всхлипывая.
— Не бойся, сынок, — тихо сказал старик и провел шершавой ладонью по моему лбу и волосам. — Захотелось винограду — приходи ко мне, я тебе сам нарву.
От неожиданных ласковых слов и голоса я расплакался еще горше. Оттопыренная на животе рубаха вылезла из штанов, и виноград посыпался на землю. Старик будто ничего не заметил. Улыбаясь, гладил меня по голове и утешал:
— Вот дурачок, нашел отчего плакать! Ну ладно, сорвали несколько кистей, разве сад от этого пострадает? Ты глянь, погляди, что тут делается! Видел когда-нибудь такой виноград?
И он взял меня, с непросохшими на щеках слезами, за руку и повел в гущу сада. А там с бесконечно длинных белых, очищенных от коры шестов свисали огромные кисти черного — ягода с орех — «чараса»…
— Нравится, а? — спросил старик и, убедившись, что слезы мои высохли, тихо засмеялся. Узкая белая борода его мерно колыхалась на груди, глаза смотрели тепло, и весь он, в солнечных пятнах, казался добрым волшебником из старой сказки. Глядя на старика, я совсем успокоился и, осмелев, кивнул головой.
— Ну что ж, если нравится, могу угостить.
Из крепкого кожаного чехла у пояса он достал нож и срезал несколько гроздьев. Одной рукой он придерживал полу своего халата, другой срезал и складывал черные гроздья и скоро класть было уже некуда.
— Бери, сынок. И друзей угостить не забудь.
Я набрал виноград под рубашку и бросился к калитке, забыв даже поблагодарить садовника. Выскочил на улицу, перевел дух и оглянулся: старик стоял на том же месте и глядел мне вслед. Кажется, он улыбался…
Больше мы с приятелями не лазили через забор, но сделались частыми гостями садовника. Всей компанией мы помогали старику ухаживать за лозами, и он угощал нас плодами своего удивительного сада. А потом мои родители переехали в город, и я все реже вспоминал родной кишлак, старых друзей и доброго старика в халате и красных сапогах.
И вот сегодня… Этот мальчишка с перемазанными соком губами растревожил что-то в моей душе, и я начал вспоминать.
Несколько дней я не находил себе места и наконец понял: не будет мне покоя, пока не побываю в родных местах.
В следующее воскресенье я сел в поезд и поехал в Каттабаг. На маленькой станции пересел в автобус.
Как там теперь, сохранился ли тот сад, жив ли старый волшебник? — думал я, трясясь в маленьком скрипучем автобусе.
И вот он снова передо мной, моя родина, мой Каттабаг. Конечно, все здесь уже не то: новые дома, новые улицы, двухэтажная школа.
Я пошел вдоль реки, огибающей кишлак. Мутная осенняя вода молчала, иногда на стеклянной глади закручивалась вдруг крошечная воронка и плыла так с течением, то догоняя, то отставая от проплывающего желтого листа. Я постоял немного на пустынном берегу, посмотрел и с таким ощущением, будто потерял здесь что-то, тронулся дальше, поднялся на пригорок — и сердце мое радостно всколыхнулось… На прежнем месте я увидел знакомый дувал — он как будто еще ниже сделался, но зато не было нигде провалов и по всей длине обмазала его чья-то заботливая рука. А за ним..
До края земли, казалось, уходили вдаль белые подпорки из тала и, словно выставленные напоказ, красовались огромные отсвечивающие на солнце гроздья.
У дувала, побросав портфели, играли в орехи несколько ребятишек. Я подозвал старшего.
— Слушай-ка, приятель, не знаешь, дедушка-садовник здесь сейчас?
Мальчишка глянул отчужденно:
— А вы кто будете?
— Я? Да вот, просто узнать хотел…
— Нету дедушки-садовника. Умер он… В прошлом году…
Я постоял у дувала, с грустью глядя на ребят, на знакомую калитку, откуда когда-то, такой же, как они, оглянулся и увидел: смотрит старик садовник мне вслед и, кажется, улыбается…
— Э-ге-гей, ребята!
Я обернулся на голос. Там, в саду, за низким глинобитным дувалом стоял, улыбаясь, высокий парень в светлом халате, перехваченном в поясе синим кушаком, на ногах мягкие красные сапоги… Одной рукой он придерживал полу халата, и там, переливаясь на солнце, влажно поблескивал великолепный «чарас». Мальчишки мигом расхватали гроздья и тут же с хрустом принялись уплетать… Губы у них сделались синими… А высокий парень в светлом халате исчез, словно растворился в глубине виноградника, — так же неожиданно, как и возник.
— Кто это? — спросил я старшего мальчика.
— Это садовник, — уже приветливее сообщил он. — Того старого дедушки внук…
Я подошел поближе к калитке, хотел было окликнуть парня, но что-то мне помешало, и я с щемящей светлой грустью глядел в сад, где от лозы к лозе переходил неслышными шагами высокий парень в светлом халате и мягких красных сапогах.
Знакомая дорога
Особенное это удовольствие — вести машину ночью по пустынной дороге. Кажется, гул мотора сжат, уменьшен подступившей со всех сторон тишиной, свет фар борется с тьмой, и ему отвечают призывным мерцанием далекие огоньки.
Или это звезды? Трудно различить, особенно когда одолеваешь подъем. Назиру приятно думать, что это звездное небо приблизилось к его машине, и ему хочется, чтобы дорога была бесконечной и легкой. Тогда можно помечтать, напевая тихонько себе под нос, вдохнуть холодный прозрачный воздух, в котором то растворяются, то всплывают звездочки, оставляя, наверное, человеку частичку неземного света. С воздухом ты вдыхаешь и его, этот свет, и пропадает усталость, легче становится на душе и веселее на сердце. И машина идет будто сама собой.
Сегодня Назир весь день возил гравий на строительство новой дороги, две смены отбухал и устал здорово. Пора и домой. Притормозив у колонки на повороте, Назир вылез, стащил рубаху и сунул отяжелевшую голову под холодную струю, потом помылся, с удовольствием разбрызгивая воду, вдоволь напился, вытерся рубашкой. Постоял, вдохнул полную грудь прохладного ночного воздуха — и за баранку.
Настроение у него было отличное: машина плыла в сторону города, домой, усталость после купанья прошла как будто, ночное холодное небо усеяно было до самого горизонта переливчатыми светлячками звезд. Назир улыбнулся, заприметив прямо над дорогой круглую, с инжир, звездочку — будто зовет, дорогу домой ночью указывает. Он закурил, потом, что-то вспомнив, сунул руку под сиденье, достал бутылку коньяка, полюбовался и вернул на место.
Сегодня как раз год минул с того дня, и выпьет он второй раз за год… Тогда его, вышедшего только что из тюрьмы, повстречал и затащил к себе домой Семен, старый приятель — мальчишками мяч вместе гоняли. «Пойдем, друг, посидим у меня. Забудь то, что было…» Пошли. Забыли. Тогда он остался ночевать у Семена, и потом, когда уже вместе стали работать, не раз оставался, и сегодня, наверное, тоже заночует… У друга день рождения, хоть поздно, а надо бы поздравить, заехать. Спасибо сказать. Много для него сделал Семен. Хороший парень… Помог в трудную минуту…
Сигарета потухла, он полез было за спичками и тут увидел на дороге двоих. Тормознул.
— Что случилось?
— Слушай, помоги, браток! — к машине подбежал невысокий парнишка. — Понимаешь, ехал в стройтрест Кок-Арала, и вот баллон сел… И запаски, как назло, нет, не взял… Подбросишь до места, а?
Из темноты к парню подошла женщина с небольшим чемоданчиком в руке. Назир покосился:
— Ее везешь?
— Помогите, пожалуйста! — попросила и женщина. — Зарплату в стройтрест доставить… К утру надо…
Встреча с незнакомцами прервала мысли о Семке, хорошем человеке, но думать Назир невольно продолжал в том же направлении, и благодарное чувство к товарищу и вызванные им мысли теперь не давали ему права отказать этим двоим. «Ладно, за два часа обернусь. Все равно поздно, Семен, поди, и не ждет меня…»
— Садитесь, — сказал он.
— Ну, спасибо, браток! Хури-апа, садитесь.
Паренек помог женщине — она оказалась немолодой уже — подняться в кабину, поставил у ее ног чемоданчик и сам было тоже поднялся, но женщина распорядилась:
— Оставайтесь, я доберусь одна.
Парень растерялся, оглядел Назира и попробовал намекнуть:
— Так вы же…
— Ничего, не впервой! Ну, счастливо!
Назир развернул машину. Парень оставался еще в кабине и придерживал рукой чемоданчик. Назир не выдержал:
— Ну что, прокатишься?
— Нет, я остаюсь. — Он соскочил на дорогу и напоследок крикнул женщине: — Не забудьте, пусть утром запаску пришлют…
Машина с ревом понеслась по шоссе. Снова монотонное гудение мотора, тишина вокруг да бесчисленные звезды… Где же та, с инжир, что домой звала, дорогу указывала? Ах да, за спиной она теперь… Если б у каждого человека была своя путеводная звезда! Помогала бы в трудную минуту, а коль заблудишься в темноте — за руку бы вывела на светлую дорожку… Да, если б у него была…
Назир закурил. Глянул на женщину:
— Кассир?
— Для отпускников за деньгами ездила. Зашла к знакомым, задержалась, а тут еще машина стала… Вот и сиди с чемоданом денег ночью на дороге… Хорошо, вы подъехали, а то — пусто…
— И много у вас… отпускников? — Он сам удивился своему вопросу.
— Пятнадцать человек.
— А-а… — но вместо голоса послышался какой-то клекот, будто перехватило горло. Назир испугался. Это был не его вопрос, не его голос. Это был вопрос Назира-щеголя… Так звали его два года назад.
Когда его забрали, мать сразу постарела и согнулась. А дружки… они не прочь были выпить за его счет, но теперь с какой подлой, сожалеющей улыбкой проводили его!
… Он еще не успел кончить школу, когда умер отец. Жили они дружной семьей, и теперь он не находил себе места. Чтобы не видеть потемневшего от горя лица матери, бродил вечерами где попало. Вот в такое время и сошелся с приятелями, которые поддержали его и по-своему даже успокоили. Началось все с вечеринки — пили, досидели допоздна, а когда он собрался домой, его не пустили, хотели задержать. Покойный отец не зря называл Назира Палваном, то есть богатырем, — его многие боялись. Завязалась пьяная драка, он бил кого-то с размаху, а когда очнулся, увидел, что лежит в темной комнате, руки и ноги связаны. Доигрался.
Судиться, однако, с ним не стали, с того и завязалась дружба… В махалле, родном его квартале, Назира начали звать «щеголем». Их семью привыкли уважать, но Назира теперь сторонились…
У старого Халпаранга пропали из сундука деньги, еще у кого-то золотой браслет, — и все это в дни, когда заходил Назир.
Соседи сначала не хотели верить, но ведь шила в мешке не утаишь. Тогда он стал промышлять подальше от дома. Забросил мать, забыл о школе. Правда, исчезнув на неделю-две, он вдруг появлялся с богатыми подарками…
Сейчас, в кабине, он не мог шевельнуться, на лбу выступила испарина, а взгляд будто магнитом притягивало к злополучному чемоданчику. Пятнадцать отпускников… Тысячи три, не меньше, а то и все четыре… Назир теперь больше всего боялся, как бы женщина не заметила перемены в нем и не испугалась. Знал: испуг распаляет преследователя, подхлестнет того, «щеголя»… Он осторожно глянул на женщину и вытер рукавом лоб. Кажется, ничего — беззаботно прикрыла глаза, дремлет, видно. Назиру стало легче. Да, если б она знала, что у него на душе. Сколько денег, а! Как же быть?..
Назир огляделся: дорога пустая, кустарник да звезды. Сейчас будет железнодорожный переезд, а за ним пойдет густая тутовая роща. До Кок-Арала еще далеко.
Вот и железная дорога. Возле тутовой рощи Назир остановился. Раскурил погасшую сигарету, несколько раз затянулся, потом открыл дверцу и спрыгнул на землю. Галька под ногами зашуршала, словно зашептала: «Тыщи… тыщи…»
Откуда-то в руке его появился гаечный ключ. Взглянул на женщину — спит себе, ничего не ведает. Назир постоял немного, потом полез под сиденье, вытащил бутылку, сорвал металлическую пробку, хлебнул из горлышка… Да, будь здоров, Семка… и у него, Назира, тоже праздник — год на свободе.
Когда два милиционера уводили его из дома, на мать страшно было смотреть. Собрались соседи, возмущенные и злые. Молчали. Уж лучше бы обругали или избили… Но запомнилось молчание и пронизывающие холодом глаза…
Он хлебнул еще. Будь здоров, Семка! Поднялся в кабину, захлопнул дверцу.
— Что случилось? — испуганно спросила женщина. — Что-нибудь с машиной? — Назир молчал. — А я задремала… Долго будем стоять?
Назир нажал на педаль газа, будто хотел сдвинуть тяжелый камень. Машина рванула вперед.
Ехали молча, каждый думал о своем. «Небо, звездочки! — злился Назир. — Хорош! Молокосос, сейчас доигрался бы…»
— Послушайте, — сказал Назир женщине, — вы не боитесь меня?
— А чего ж мне вас бояться? Не бандит же вы…
— Все-таки… Вы женщина… да еще одна…
— Что ж, женщина разве не человек? Все мы люди, мужчины, женщины. А люди должны верить друг другу.
Назир покосился на нее. Похожие слова он слышал не раз — и вспомнил высокого полного начальника тюрьмы, капитана Кадырова. Он-то любил поговорить красиво. Воспитывал. Еще Назир вспомнил своих дружков. Вот кому верил. Только на суде узнал им цену, да поздно уже было. Ограбление пивнушки «друзья» свалили на него. Назира-щеголя осудили. Мать после этого недолго протянула, через год отдала богу душу.
О смерти матери Назир узнал в камере, поздно вечером. С его места на нарах был виден кусок звездного неба. Сам капитан Кадыров пришел с печальной вестью. Назир растерялся, какой-то комок подступил к горлу, и он заплакал, отчаянно, навзрыд, как маленький ребенок…
Через несколько дней его вызвали к капитану.
— Пришло решение освободить тебя. Свое ты уже получил — правда, частично… Но люди должны верить друг другу. Я думаю, ты все взвесил-перевесил…
Тот день Назир провел у могилы матери. Да и куда ему было идти? Домой? А как встретят соседи, родственники? Может, уйти из этих мест, уехать? Нет, как же бросишь родину… Хорошо, вечером повстречался Семен, увел к себе, приютил.
Утром, боясь встречи с соседями, Назир через щель заглянул во двор. Старый Халпаранг ставил самовар и что-то рассказывал внуку. Назир отворил дверь, ступил во двор. Все смотрели на него, он смотрел на стариков, старики поглаживали бороды и молчали.
— Простите меня, — заговорил Назир. — Виноват я…
Старики переглянулись.
— Забудем прошлое, — так ответил ему Халпаранг. — Жив-здоров вернулся… Ну, а теперь за работу.
Ночью Назир не мог уснуть… Родные разошлись поздно, он прилег на деревянной кровати во дворе — думал, вспоминал, смотрел в темное небо, на близкие, не отгороженные решеткой звезды. Сильно билось сердце, удары отдавались в ушах радостным звоном. Дома…
На следующий день Семен повел его устраиваться на работу…
Назир вздохнул. Вот и Кок-Арал, еще немного — и опять домой.
А женщина спит. Устала. Назир вспомнил о том, что хотел сделать, что сделал бы, наверное, два года назад, и ему стало страшно и тоскливо одному. Рассказать бы кому… Да она и не поймет. Семке рассказать надо… Разбудить ее, что ли. Подъезжаем уже…
— Приехали. Подъем, сестричка! — громко сказал Назир и сразу почувствовал — легче стало на душе. — Посмотрите, звездная ночь, красота, а то все проспать можно!
Женщина тихонько подняла голову, просыпаясь, терла кулачком глаза.
— Уже приехали? Ну и выспалась же я!
Назир остановил машину у стройтреста.
— Здесь сойдете?
Женщина открыла дверцу, спрыгнула с подножки на землю.
— Спасибо! Большое спасибо!
— Вы, наверное, скоро… Я подожду, довезу до дома.
— Спасибо… Я живу здесь, напротив. Может, зайдете?
Назир улыбнулся.
— Да нет, уже поздно, а мне еще к другу завернуть надо, поговорить… До свидания!
Он посмотрел женщине вслед. На душе у него было спокойно. Закурив, он развернул машину и поехал.
И снова эта знакомая дорога, и звездочка, похожая на инжир, зовет домой, указывает путь — не заблудись! Манит и манит, и ехать к ней можно бесконечно долго, и она не устанет светить.
Сторож сулейман
Да-а, вот так история получилась! Человек старый, почтенный и даже мимо тюрьмы-то никогда не ходивший сидит вместе с мошенниками и мелкими воришками — осужден на три года. Два завсегдатая районной тюрьмы, Сашко и Франт-Туляган, хорошо знавшие уголовный кодекс, пробовали объяснить старику, почему, мол, суд прав, и чего он, старый, не понимает, но не сумели и отступились. Не согласен старик с их объяснением, хотя и признан виновным в смерти человека.
Родные и знакомые не забывают старого Сулеймана, несут узелки с лепешками и кастрюльки с пловом. Только тюрьма не чайхана, — не лезет все это в горло… Сам председатель колхоза дважды приезжал к старику, а уж о старухе-то его и говорить нечего — ходит у ворот лагеря, точно курица, не успевшая в курятник попасть. И кто бы ни пришел к Сулейману — председатель ли, старуха, родственник или просто знакомый, — всех встречает старик со слезами на глазах: его начнут утешать — он успокоиться не может. Несчастье свалилось на голову, чего уж тут, и словами горю не поможешь.
А все начиналось так славно! Старый Сулейман-ата только что вышел на пенсию, и поскольку всю жизнь занят был трудом, теперь не знал, куда себя деть, тосковал по работе. В руках сохранилась еще сила, и ноги держали хорошо, и глаза могли пока что отличать рис от курмака. Случалось, правда, и такое, что ныла поясница, — но ведь от этого не помирают… Поноет — и пройдет, особенно если теплое сразу приложить.
Как же при таком-то здоровье сидеть дома? Правда, днем старик возился у себя на бахче, а вечером шел в чайхану — ту, что в таловой роще, — колхоз специально для стариков построил, и все же чувствовал себя Сулейман-ата никому не нужным, праздным человеком.
В чайхане он поначалу рассеивался, видя таких же, как он сам, пенсионеров, но потом дурные мысли возвращались, и все надоедало, выводило из себя, и он часто ворчал без причины.
Чайханой заведовал безногий Гулам-ака, бывший фронтовик. Раз есть заведующий, должны быть и подчиненные, но у безногого чайханщика их не было, а управляться ему одному было трудновато, и потому в чайхану по очереди приходили после школы его внуки — помочь. Наверное, из-за них и повесил Гулам-ака в чайхане объявление: «Распивать спиртные напитки запрещено». И ниже подпись: «Заведующий чайханой Гулам Карабаев». Раньше Сулейман-ата не обращал на объявление внимания, но сегодня разозлился: «И что за жизнь такая пошла — выпить человеку спокойно не дадут! И заведующий-то безногий…»
— Эй, хромой, — крикнул он чайханщику, — что это, раньше ты на кипятке выгадывал, а теперь и на заварке руки греешь?
Гулам-ака понимал, отчего чувствует себя не в своей тарелке и злится друг, и не упустил случая подразнить его:
— Таким старым вредно пить крепкий чай! Что ни говори — сердце пенсионного возраста. Еще перед старухой отвечать придется!
— Вот хромой шайтан! Был бы у тебя чай всегда такой крепкий, как твой язык!
Гулам-ака рассмеялся и, стуча деревяшкой по доскам пола, принес другу чайник свежего чаю.
В чайхане обычно пусто, чаще других появляются здесь двое, Халпаранг-ата, тот, что крив на один глаз, и Хакимбек-ата, Сулейман всегда рад их приходу. «Не один я бездельничаю», — думает он, приветствуя стариков.
Несмотря на грозное объявление, друзья скидываются на бутылку и посылают дежурного внука Гулама-ака в магазин. Старый Халпаранг мастер готовить плов, сделает — пальчики оближешь, А пока плов будет париться в своем котле, старики коротают время за беседой — откуда только слова берутся, — вспоминают обо всем и обо всех, а потом и споют еще…
Расходились обычно затемно, останавливались на каждом повороте, вспоминая дорогу, и подолгу прощались.
А ночами Сулейман-ата не спал. Откуда взяться сну, если не устаешь за день? Он вставал, выходил во двор, слушал далекий лай собак и близкий стрекот кузнечиков, снова ложился. И так каждую ночь… «Будто сторожу что», — горестно вздыхал Сулейман-ата.
И вот однажды старики вчетвером коротали время в чайхане и не подозревали, что именно в этот день произойдет неожиданное. Случилось же вот что. Заглянул в чайхану заведующий колхозным садом Мирвасик и обратился к сидящим:
— Дорогие и уважаемые старики, пришел с низкой к вам просьбой! Хочу, чтобы согласился один из вас временно посторожить склад. Тетя Маруся заболела, в больницу отвез…
— Конечно, я согласен, я посторожу, — сразу вызвался Халпаранг.
— Глупости ты говоришь, уважаемый, — возмутился Хакимбек, — пиалу от чайника отличить не можешь, колхозный склад как будешь сторожить, а? Глаз там нужен зоркий, такой примерно, как мой…
— Ах ты, какой быстрый, — обиделся Халпаранг. — А кто ж приготовил плов, что все уплели за милую душу? Друзья, вы слышите, что он несет? Нашел слепого! Сам ты слепой!
— Я — слепой? — возмутился Хакимбек.
— Да-да, ты и есть! Забыл, как на похоронах Сарсанбая в арык свалился?
— Ну, довольно, хватит! — прервал друзей Сулейман-ата. — Вы оба не годитесь. Я сам буду сторожить склад. — Хакимбек и Халпаранг переглянулись, готовые вступить в союз. — Кто раньше вас вышел на пенсию, а? То-то же. Значит, мне и ружье в руки, — заключил Сулейман-ата и встал, давая понять, что разговор окончен. Мирвасику же объявил: —Идем, сынок, веди меня!
Мирвасик виновато оглянулся на неудачников и вышел за Сулейманом, а те огорченно смотрели вслед победителю.
В ту же ночь старый Сулейман приступил к работе. Старуха принесла к складу кошму, кумган — кипятить чай, разной еды и, уходя, пожаловалась:
— Опозорили вы меня. Совсем из ума выжили. Слыханное ли дело — от старухи съезжать. Все старики вечерами дома сидят…
— Не ворчи, не ворчи, старая, — защищался Сулейман. — Или одна спать боишься?
— Ой, старый бес! Тьфу!.. Нужны вы мне! Рассыплетесь вот-вот, а туда же…
— Ну хватит, эй, старая, слышишь! Распустила язык! Дай вам, бабам, волю… Иди-ка ты лучше домой, да, как я, делом займись! — распорядился Сулейман-ата и отослал жену.
Когда старуха ушла, проведать друга пришли Халпаранг и Хакимбек. Они с завистью разглядывали Сулеймана — тот ходил по двору в длинном чапане, хоть вечер был теплый, и с ружьем за спиной.
— Ну и провел же ты нас, старый пес! — пожаловался Халпаранг.
— Средь бела дня вокруг пальца обвел, — добавил Хакимбек. И столько неподдельной горечи было в их словах, что Сулейман в душе даже посочувствовал им, но виду не подал.
— Кто смел, тот и съел! — подразнил он приятелей.
— Да, повезло тебе, — грустно согласился Хакимбек. — Завтра-то придешь?
— Это куда же?
— В чайхану, конечно! Внук из Андижана рис для плова привез, лучший сорт…
— Даже не знаю, бек… — Сулейман-ата не мог сразу порвать со старой привычкой, года — что поделаешь… — Если будет время — приду, нет — не ждите. Работа — не обижайтесь…
— Да я бы пока подежурил вместо тебя…
Тут где-то за складом послышался шорох, и Сулейман-ата с криком: «Стой, кто там?» — исчез в темноте, не удостоив приятеля ответом.
— Да, настоящий сторож, — сказал Халпаранг, глядя вслед Сулейману и немножко радуясь, что у Хакимбека не получилось с пловом и заменой.
— Да, старается…
Старики помолчали немного, подождали, — Сулейман не появлялся. Пошли.
Следующим вечером Сулейман-ата в чайхану не пришел, и плов из андижанского риса сварили и съели без него.
Не пришел Сулейман и через день — не мог теперь тратить время по пустякам. Днем надо на бахче возиться, вечером на работу поспевай. Недосуг в чайхане рассиживать.
Службой своей Сулейман-ата был доволен. За плечом — ружье, в холодную ночь согревает стариковские кости теплый чапан, а еще пуще — чувство ответственности своей: знай наших — на посту стою!
Но беда подстерегала и обрушилась неожиданно.
С утра Сулейман был в хорошем расположении духа — Мирвасик рассказал, что тетя Маруся из больницы поехала прямо к сыну и будто бы останется там до весны. Мурлыча себе под нос веселую песенку, старик отправился на бахчу и полол гряды, а потом еще надо было подвязывать кусты помидоров.
От работы оторвал его внучек.
— Дедушка, вас Халпаранг-ата зовет! Ждет вас на ферме.
— Что это потерял он на ферме, бездельник? А?
— Не знаю, дедушка. Сказал, чтоб скорее шли.
На дворе фермы запыхавшийся Сулейман нашел своего друга. Тот в сознании своей важности восседал на старом ящике, подобрав под себя ноги.
— Ты что это расселся, а, чайхану новую открыл, да?
— Не видишь разве? — Халпаранг-ата обвел рукой двор. — Сам председатель меня назначил.
— Что ж, на безрыбье и рак — рыба! — Сулейман-ата посмеялся над приятелем, хотя в душе позавидовал — все-таки не ночью работает, на виду у людей. Вслух же не упустил добавить: — Что, и скребок тоже председатель вручил, да?
Халпаранг-ата поморщился, но ссориться с другом не хотел.
— Все, все председатель дал, верно говорю! И метлу, и лопату! Понадобится навоз для бахчи — теперь тебе не надо идти упрашивать кого-то. Хочешь арбу, хочешь — две, самого отборного… Да, друг, это тебе не пост тети Маруси! Настоящая мужская работа! Сам видишь, не слепой… — и он подмигнул единственным глазом.
— Так, так, работа у тебя отличная, — поддержал Сулейман-ата, — но будь осторожен… — он перешел на шепот.
Халпаранг помимо воли склонился к нему, прислушался.
— Ну-ну, говори…
— Знаешь, — продолжал Сулейман-ата, — тут на конюшне лошади есть, очень опасные. Завидят тебя, кривого такого, перепугаются да как лягнут — прямо по здоровому глазу!
Халпаранг-ата притворился, что не расслышал:
— Я позвал тебя для того, чтобы угостить пловом… из лучшего риса… Мы с тобой теперь люди работающие, не можем рассиживать в чайхане. Пошли ко мне…
Вечером, как обычно, старый Сулейман закинул ружье за плечо и отправился сторожить склад. Когда Мирвасик запер все замки и пожелал старику спокойной ночи, Сулейман-ата обошел двор, заглянул во все углы, потом развел огонь и стал кипятить в кумгане чай. Было тепло, уютно и спокойно, он прихлебывал чай и дремал, слушая, как потрескивает на огне хворост. Вдруг что-то упало то ли с крыши, то ли с забора. Старик встрепенулся, оглядел двор. Никого. Может, кошки бегают? Он снова задремал — и снова его разбудил необычный звук, но в этот раз он расслышал, что именно его разбудило — кто-то кашлянул. Сулейман-ата тут же вскочил на ноги и стал прислушиваться. За амбаром кто-то снова тихо кашлянул, послышался шепот. Сулейман кинулся на голос — и замер: двое здоровяков, разобрав у забора крышу склада, вытаскивали автопокрышки.
Сулейман-ата помнит только, что, кажется, крикнул: «Стой!» — и бросился к ворам, — один из них подскочил к старику, размахнулся и так двинул ему промеж глаз, что старый опрокинулся на землю и сколько-то времени пролежал в забытьи. Очнувшись, он, не подымаясь, трясущимися руками стащил с плеча ружье и слабо крикнул:
— Стой, стрелять буду!
Один из воров, что подальше, был занят делом — переваливал тяжелую покрышку через забор, другой же, огромный и страшный, подхватив на ходу камень, метнулся к Сулейману и… ба-ах — раскатился эхом выстрел, — старик, не целясь, спустил курок. Бандит схватился за живот, согнулся и так, скрючившись, свалился в двух шагах от сторожа.
Откуда ни возьмись появилось множество людей, поднялся крик, шум. Старик разобрал только слова подбежавшего к нему Мирвасика:
— Молодец, ата, давно мы за ними охотились, да поймать не могли!.. Спасибо вам! Давайте встать помогу, обопритесь на меня…
— Я, кажется, попал в него? — растерянно спросил Сулейман, ощупывая ушибленный лоб и глаз.
— Так ему и надо!
Через полчаса районная «скорая помощь» забрала раненого вора. А Сулейманова старуха подержала сонного внука над куском ваты и, когда он намочил ее, приложила ватку к заплывшему глазу мужа.
Наутро люди повалили в дом Сулеймана-ата, будто на какое торжество, поздравляли его и хвалили за храбрость.
— Я-то думал, — объяснял другу старый Хакимбек, — воробей вспорхнет — и сердце твое в пятки провалится, ан нет, герой ты, оказывается, джигит из джигитов…
— Да… — многозначительно-туманно поддержал его Халпаранг-ата, — вор, он тебе не лошадь, куда попало не лягнет, выбирает место… Ты уж береги глаза-то, один все-таки среди нас целый-невредимый…
У Сулеймана-ата задергался ушибленный глаз, но он ничего не ответил другу.
Пришел председатель. Поблагодарил от имени колхозников и надел на плечи Сулеймана-ата новый чапан, подарок за геройскую службу. Сказал, что воры, пойманные вчера, трижды обворовывали склад колхоза, на две тысячи украли, так что еще раз спасибо….
Несмотря на ноющую боль в глазу, Сулейман-ата наслаждался жизнью. Старуха и друзья не знали, куда посадить его, чем угостить. В общем, сделался он героем дня. А вечером прибежал внучек Сулейманов маленький и принес страшную весть: в больнице от раны в живот скончался вор…
Такого поворота дела люди не ждали. А сам Сулейман всю ночь метался в постели. Старуха пробовала успокоить его тем, что от его, Сулеймановых, мучений мертвому-то все равно не станет легче, но Сулейман не слушал ее.
А потом был суд. Сулеймана-ата приговорили было к пяти годам заключения, но затем, учитывая преклонный возраст, заменили срок на три года. Три года тюрьмы! Думал ли старый Сулейман, что так все обернется, когда радостно собирался на дежурство тем злополучным вечером! Правильно говорят: беду всегда не ждешь…
— Ата, потерпите немного, мы этого так не оставим, — успокаивал старика председатель колхоза. — Раз вам доверено ружье — может ведь оно когда-нибудь выстрелить!
Но Сулейман-ата в горе своем не слышал ободряющих слов. Да и что сказал бы он в ответ, если б услышал, — разве лишь то, что человек ведь действительно дороже имущества и за кражи не убивают. Надо терпеть — три года. Он слушал выступления на суде и почти все понял. Не понял одного: оказывается, есть четыре вида сторожей, и сторожа первых трех видов имеют право стрелять, а четвертого — нет, могут только пугать ружьем, и сам Сулейман относился именно к этому, пугающе-нестреляющему отряду сторожей. Этого он не понимал. Именно это пытались объяснить ему тюремные старожилы Франт-Туляган и Сашко, и тоже без пользы.
— Вы, ата, сами опять же виноваты, — говорил Туляган, он же Франт, старому Сулейману, — потому и сидите здесь с нами… Ну, подумаешь, взял бы он несколько шин — ведь не из вашего дома тащит! Да и сам воришка ваш — идиотом круглым смотрится! Попал бы к нам в руки, мы б из него человека сделали. Ему вот что надо было: тихонечко подойти к вам, забрать ружье и спокойно делать свои дела, а потом, на прощанье, перебросил бы он вам ружьишко через заборчик. Так-то, дело говорю!
— Неуч он! — поддержал дружка Сашко и со свистом сплюнул. — Сам виноват. Сделал бы все чисто — и сам наслаждался бы жизнью, и вы бы спали спокойно. Так что правое ваше дело — и не терзайте себе души из-за дурака этого… Вот посмотрите — отменят ваш приговор, вспомните тогда мои слова. Верьте нам… Подождать, однако ж, конечно, придется…
Сулейман-ата ждал. Но на глаза то и дело наворачивались слезы старческой немощи.
Так прошел месяц, начался второй. Чуть ли не весь кишлак перебывал в гостях у старого Сулеймана, и, конечно, чаще других — Халпаранг-ата и Хакимбек-ата. Ходили к нему два друга, ходили и вдруг перестали, исчезли, будто нет их. Сначала Сулейман обижался, потом забеспокоился и спросил свою старуху, как они, здоровы ли.
— Здоровы, что твои кони, — ответила старуха сердито: она тоже в обиде была на друзей, забывших мужа. — Что им сделается, конечно здоровы! Работу, что ли, себе в городе нашли — каждый божий день ездить повадились. А вам только о них и думать — больше дела нет, да?
— Ничего, я так просто спросил, — отмахнулся Сулейман, но на сердце почувствовал горечь.
— Председатель вам привет передает, говорит, подаст заявление куда-то высоко, чтобы вас освободили… Мирвасик тоже ездил в город хлопотать…
— Э-э, не говори мне об этом шалопае, — рассердился старик, — из-за него все так получилось, не мог кого помоложе найти!..
За месяц с лишним никаких перемен к лучшему в жизни Сулеймана-ата не произошло. Он поднимался раньше всех и кипятил чай, а потом еще убирал приемную.
Ему уже стало казаться, что время остановилось и он всегда кипятил чай и убирал приемную. Но однажды, когда чай уже вскипел и он размышлял, чем бы заняться еще, его вызвал начальник:
— Ата, пришла бумага по вашему делу, поздравляю — вы свободны!
Сулейман смотрел растерянно и молчал.
— Да-да, ата, вы свободны!
— Ия могу идти?
Он побежал в барак, но ничего не взял из своих вещей, захватил только чапан — тот, что подарил службу председатель, и поспешил к проходной. Там он замедлил шаг, чтобы отругать постового — как сторож сторожа, ибо постовой мирно посапывал, опершись о свою винтовку.
— Эй, засоня, гляди в оба, грохнет еще твоя игрушка, шалопай!
Когда Сулейман-ата вышел на дорогу, он увидел двоих под сенью тала, и стариковские близкие слезы навернулись на глаза.
— Хакимбек, Халпаранг!
— А ты небось думал, мы умерли, да? — съязвил Хакимбек.
— Что это ты раскричался, дорогой, как ты с таким голосом домой вернешься, лошади пугаться начнут, еще глаз тебе повредят! — помянул старое Халпаранг.
— Что ж это вы забыли меня совсем, а? — не утерпел, пожаловался Сулейман.
Хакимбек пустился было в долгий рассказ о том, как ходили они по разным инстанциям, как вместе с председателем добивались его, Сулеймана, скорого освобождения, но Халпаранг-ата толкнул его локтем в бок и прервал:
— Да, действительно забыли, вот старость, будь она неладна! Ведь с тебя суюнчи!
— За что же, говори скорей! — Сулейман уже не глядел в сторону тюрьмы и ждал теперь только добрых вестей.
— Оказывается, тетя Маруся не приедет совсем — сын не отпускает!
Все рассмеялись. А потом старики отправились в путь. Когда свернули на большак, Хакимбек затянул песню, Халпаранг поддержал его, и, наконец, присоединился к их голосам и тенорок Сулеймана-ата.
— Слушай, это же наш дед, — сказал Франт-Туляган. Они с Сашком клали кирпичную стену, и Франт сверху разглядел на дороге Сулеймана.
— Он самый. Говорил же ему, что освободят скоро. А он еще упрямился, не верил мне…
И мошенники прислушались к удаляющейся песне.
Овцы хайдарали
Солнце оранжевым ломтиком дыни только еще поднялось над горизонтом, а старик уже добрался до райцентра. То ли рано еще было для большой толпы, то ли наступившие холода удержали людей дома, но сегодня не было слышно шума и нестройного гомона, обычных здесь в базарные дни.
Старый Сарсанбай остался этим доволен: «Не опоздал, слава богу. В разгар базара кого найдешь?»
Он тронул повод. Пегая кобылица, отдыхавшая опустив уши, будто ждала, встрепенулась и мелкой рысью пошла к реке. Дорогу она знала так же хорошо, как и хозяин. С тех пор как помнит она себя под седлом, добирается сюда каждое воскресенье, проходя весь Гиссар, а конец пути — у ветхой чайханы над узеньким деревянным мостом. Много лет назад весеннее половодье как-то размыло здесь все, и, когда вода спала, осталась широкая песчаная отмель, и берег сделался пологим и низким. И с тех пор с ранней весны до поздней осени каждый год собирается у моста, гудит, дымит жаровнями, звенит наковальнями, оглушает пестротой красок районный базар. И раз уж собираться у реки стало привычным для жителей этих мест, парни из окрестных кишлаков уходили на фронт тоже отсюда. Убогая чайхана с догнившими и обернутыми кусками толя столбами — память тех лет. Когда пегая кобыла была еще молодой и шустрой, старик привязывал ее к одному из этих столбов: сам же бродил по базару, потом дотемна просиживал в чайхане. Базар клубился, жил, расходился, читал полуденную молитву и возвращался. Пегая кобыла долго не могла привыкнуть к шуму и движению, несколько раз, оборвав привязь, убегала и тем доставляла множество хлопот занятому базарному люду. Однажды она даже стала, уперлась на полдороге и не пошла дальше, пока не отведала плети. Но все это было так давно, в молодости, что она и сама позабыла… Теперь она смирилась. Старому Сарсанбаю уже не нужно привязывать ее, пегая сама подходит к знакомому столбу. Старик прямо из седла слезает на супу под навесом, лошадь закрывает глаза и долго стоит не шелохнувшись.
Так было и сегодня. Старик сполз с седла, зашел в чайхану. Старый Сарсанбай опустился на колени возле разбитого окна — это было его место с тех пор, как поставили здесь чайхану, и если оно даже бывало занято, то с появлением старика немедленно освобождалось. Отсюда как на ладони видна базарная площадь и заметен каждый проходящий по мосту человек.
— А, Сарсанбай, жив-здоров как? — приветствовал старика чайханщик, подавая чайник и пиалу. — Снова к нам?
— Обуза я тебе, что ли? — проворчал старик, хмуря выгоревшие брови.
— Не бурчи, не бурчи… Жалею тебя — не видишь? Сам знаю, хуже ожидания нет ничего.
Сарсанбай не ответил. С утра у него было легко на душе, как перед исполнением желания, а тут слова приятеля испортили настроение. Хотел было даже обругать его: «Тебе-то что за дело, знай разноси свой чай!» — хорошо, язык не повернулся. В словах чайханщика Мадумара был понятный им двоим смысл.
Давно это было. Получив похоронную на сына, Мадумар не поверил, ждал десять лет. Не знавшая об извещении жена его сгорела от ожидания, умерла. Сам согнулся, высох, как щепка. И в конце концов не выдержал, потерял надежду, смирился с утратой. Единственное его занятие сейчас — чайхана.
И все-таки сказанное Мадумаром обидело старика. «Жалею тебя». Неужели он дожил до такого, сделался жалким? Сердце сжалось, горький комок подступил к горлу, и, не желая показаться слабым, Сарсанбай грубо огрызнулся:
— Вот дурной на мою голову… Ну и жду — так тебя, что ли? Кому ты нужен, кроме Азраила? С каких это пор ты взялся учить меня уму-разуму?
— Не ворчи, — улыбнулся миролюбиво Мадумар. — Что я, не понимаю? Только поверь, каждый базарный день тошнить начинает, вот как увижу твою рожу надоевшую, так хоть спасайся. Сидел бы на пастбище, пас бы своих овец, понадобишься кому — сам найдет… Как бы ты, старый черт, по дороге где-нибудь ноги не протянул!
— Ну уж это не твоя забота, найдется кому схоронить! — Старик уже овладел собой. — Да и упаси боже от чайханщика. Греющий руки на чае и от савана попользуется!
— Так бы и сказал сразу, старый. Только что заварил, на, залей свою злость.
Чайханщик Мадумар налил в пиалу свежего чаю и подал другу, сам присел рядом.
— Ничего не узнал? — спросил уже серьезно Сарсанбай.
— Узнал бы — послал к тебе человека.
Оба помолчали, и Мадумар, почувствовав неловкость, шумно отхлебнул из своей пиалы и спросил:
— Как Зеби, здорова?
— Ничего, не жалуется… — Сарсанбай смотрел в окно. — Еле отпустила сегодня. Узнала, что собрался сюда, в полночь отогнала кобылу на пастбище.
— Не разругал ее? Знаю я тебя…
— Нет. Ей тоже нелегко. Теперь уже не браню.
— Не надо… У нее ведь никого, кроме тебя.
— Да нет, только… — Сарсанбай рассмеялся старческим дробным смешком. — Не ругаю, но зачем она отогнала кобылу? Ведь знает, хоть пешком, а пойду. Да и кобыла прибежит ко мне, только кашель мой услышит. Все знает старуха и отогнала… Зачем?
— Наверное, жалеет тебя, — Мадумар попытался рассмеяться.
Сарсанбай был серьезен.
— Думаешь, мне ее не жалко? Одиночество — несладкая штука. Да ты и сам все знаешь. Но что мне делать? Это такой долг, который должен быть уплачен, — и все тут. Не могу же я взять его с собой в могилу. Она должна это понять. И еще…
— Ассалам алейкум…
В чайхану вошли люди, разговор прервался. Мадумар поспешил к своим чайникам.
Вскоре людской гомон, детский плач, мычание коров слились с выкриками торговцев и возмутили тишину утра, — будто горный поток влился в спокойные воды реки.
Старый Сарсанбай видел сквозь окно — ветхий мостик покачивался под ногами множества людей, как верблюд на ходу.
И в те дни покачивался так же… И когда провожал сына, и когда провожал Хайдарали…
Но только тогда люди шли все в одну сторону, и многие, очень многие не прошли по старому мосту обратно. Кто погиб, кто пропал без вести… От сына полгода не было писем, потом пришло… Он хорошо все помнит — в тот день был со стадом в Узумли, отогнал овец за реку, там на возвышенности только-только пробивалась поздняя трава, и — полдень как раз подошел — стал было доставать из сумки сузьму… И тут от кишлака донесся плач и, отдавшись в горах, вернулся таким громким, что он вздрогнул, почуяв неладное. Поднялся, посмотрел вниз. Увидел — женщина с распущенными волосами кричала, царапая себе лицо, бежала вдоль реки, приближалась. Он вначале не узнал ее, спустился ниже, и тут разглядел синее знакомое платье, и невольно попятился. Увидев его, Зеби зарыдала. «Гафур, Гафур…» — она не могла говорить и, всхлипывая, протянула мужу бумагу. Увидев синий бланк, он понял все. Мадумар тоже получил такое письмо…
Сарсанбай не плакал, только похолодели руки и ноги, застыл на месте. Единственного сына даровал ему бог — и этого отнял.
… А Хайдарали, товарищ Гафура, ушел скоро после своего отца, ушел — и пропал без вести. Сарсанбай сам провожал до старого моста товарища своего сына, больше некому было его проводить. Откуда они с отцом пришли в кишлак, так и не узнал Сарсанбай. Помнил только — дружили они с Гафуром, и было достаточно…
В день отъезда Хайдарали привез ему в телеге двух овец. Тогда ровно месяц исполнился, как получил Сарсанбай извещение о сыне…
— Ата, хочу оставить вам, — сказал, смущаясь, Хайдарали. — Может, мой отец раньше меня вернется — зарезали бы их, погуляли, а? Если вас не затруднит…
— Ладно, сынок, — сказал тогда Сарсанбай. — Пусть походят в стаде. Какие могут быть затруднения?..
На ветхом мосту прощался он с Хайдарали, как с родным сыном, дрожало сердце.
— Дай тебе бог уцелеть, сынок… — И, чтобы скрыть внезапно выступившие слезы, Сарсанбай к самому лицу поднял собранный женой узелок и уж потом протянул Хайдарали: —Возьми, Зеби на дорогу приготовила… Сможешь — навести могилу Гафура… В Сталинграде.
В шуме толпы и прощальном плаче услышал ли Хайдарали эти слова? Сарсанбай не знает, помнит только, как что-то говорил юноша и кивал головой…
Ушли с того дня, с того прощания двадцать пять лет, четверть века. Постарел, ослабел Сарсанбай, а сын его Гафур и названый сын Хайдарали так и остались в его памяти молодыми, сильными парнями. От Хайдарали так и не было никаких известий, и отец его тоже не вернулся. Оставленные Сарсанбаю две овцы разрослись в стадо в сорок голов, и, чтобы не смешивать их с общественными, чтобы с легкостью найти, когда вернется и спросит их хозяин, Сарсанбай каждой повязал на шею красный лоскут.
Но хозяин все не приходил. Жив ли он, мертв ли — никто не мог сказать. Ходил Сарсанбай по учреждениям, расспрашивал людей — но легко ли найти человека, если не знаешь ни фамилии, ни адреса.
Когда друг его Мадумар справил поминки по сыну, кто-то из гостей дал Сарсанбаю совет: «Брось ходить понапрасну, Сарсанбай, не изводи себя. Да и человек, вернувшийся из ада, станет ли разыскивать, вспомнит ли двух овец? Слава богу, голода нет, на базаре овец полно. Если уж ходить — пойди лучше всего на базар. Жив он — найдешь его там». Совет этот пришелся Сарсанбаю по душе, и с тех пор он не пропускает ни одного базара. В обычные дни он бродит со своим стадом от пастбища к пастбищу и усталый возвращается в конце недели домой.
Сколько раз уже председатель говорил ему: «Хватит вам, отец, работать, пусть молодые потрудятся», но старик не согласен. Как же можно согласиться — ведь все равно надо пасти стадо Хайдарали! Кто станет ходить за овцами чужака? А коли и будет пасти — так как пасти, чабан чабану рознь!
Но старость брала свое. Раньше, бывало, неделю на ногах — и не устанешь, а теперь и в полдня так умаешься, что ищешь, где бы присесть, а ведь пасет он сейчас всего лишь те самые сорок овец, — не то что прежнее большое стадо колхоза.
Однажды он устало присел на склоне холма, и вдруг услышал выстрел внизу, и, опасаясь за своих овец, поспешил спуститься.
Под кустами арчи расположились четверо парней: стреляли они по бутылке, поставленной на камень.
Увидев Сарсанбая, один из парней пожаловался:
— Что это, дед, небось вы перестреляли всех кекликов здесь? Черт возьми, ни одного не видно!
— Охота на кекликов хороша зимой. Поохотиться приехали?
— Да, слышали, водятся здесь кеклики, — но вот не повезло.
— Водятся, правда, а много их зимой. Сейчас только время потратите.
— Слушай, дед, — с пьяной развязностью пригласили из-под арчи, — дав-вай сюда, хлебни-ка с нами… — Второй парень наполнил пиалу водкой и протянул старику.
— Не пью, сынок, — старик улыбнулся парням, — сроду в рот не брал…
— Да н-ну, хоть раз попробуйте… Дело есть… — угощавший с усилием поднялся и, пошатываясь, подошел к старику. — Выпейте с нами, ну…
— Не пью! — старик отвел руку с пиалой. — Так что за дело, говорите.
— Эй ты, не приставай к деду, — вмешался один из стрелявших.
— Р-аз так, в-выпью сам. — Опорожнив пиалу, парень коротко выдохнул в рукав. — Слуш-шай, дед… дед, мы приехали охотиться. Нет… Мы приехали по-гулять… Продайте одного барана… сообразим вам… Ну?..
Сарсанбай помолчал, улыбнулся, словно хотел извиниться:
— Вот ведь жалость-то какая, сынок, не могу продать, что поделаешь… Не мои это овцы, да… В кишлак спуститесь, там в любом дворе купите, хоть у меня в доме… А здесь — не могу, это чужое… Поверьте, не пожалел бы для вас…
— Да ну, дед, брось заливать-то!
— Правда, сынок.
— А если мы сейчас сами одну поймаем? — парень оскалил в усмешке зубы.
— Не годится так, сынок, говорю вам — чужие овцы.
— Ну и жаден дед, смотри — баран дороже человека! — Парень рассердился. — Эй, Акбар!
— Чего тебе? — поднялся еще один, совсем подросток.
— Пошли, поймаем сами… С председателем потом договоримся…
Двое направились к стаду.
— Стой! — закричал старик. — Где ваша совесть! Говорю вам — чужие, значит, так! У овец этих нет хозяина, пропал без вести на фронте, двадцать пять лет их пасу, вы что делаете?
Парни остановились, потом повернули обратно.
— Ты прости, отец, не знали мы, — сказал кто-то.
Сарсанбай молчал, губы его подрагивали.
— Извини, отец…
Старик не отозвался. Потом медленно вернулся к стаду.
В базарный день, в чайхане он с горечью рассказал обо всем Мадумару. Чайханщик задумался, потом ответил:
— Скажу тебе, коли не обидишься… Знаешь, овец этих отдай ты в колхоз. Не мучайся. Что за разница — у тебя ли, в колхозе ли… Явится твой Хайдарали, получит их из колхоза целехонькими.
Старый Сарсанбай не ответил тогда. И сейчас, разглядывая базар, мост и людей, торопящихся по неотложным своим делам, он думал о словах друга и все еще не находил ответа.
Солнце стояло уже в зените, базар пустел помаленьку, оставались у моста только не сбывшие еще свой товар да праздношатающийся люд. Хорошее расположение духа, с которым ступил Сарсанбай утром под навес чайханы, ушло, будто унес его поток людей. Значит, Хайдарали он не встретил и сегодня. Так что же — погиб он? Послушаться Мадумара и сидеть дома? Нет, нет — столько смертей было… слишком много, чтобы добавить и еще одну… А поверишь, что не вернется, — будто сам и добавил… Да и сколько пропавших без вести вернулось… Хотел овцами этими людей угостить… И я бы посидел среди гостей. Сам бы и устроил это угощенье, вернись только, названый сын мой, Хайдарали!
Думая так и представляя возвращение Хайдарали, старик просидел у окна еще сколько-то времени, а когда очнулся, увидел, что базар сегодняшний закончился уже, все разошлись: от очага в глубине чайханы доносился аппетитный запах плова. Но старик все не хотел уходить.
— Сарсанбай! — Возле него стоял чайханщик Мадумар. — Будет тебе, сделай, как я сказал. Изведешь себя ожиданием.
Старик не отозвался. Потом повернулся, вытащил из-за голенища потертый рубль и кинул на блюдце. Поднялся.
— Уходишь? Плов готов. Поешь перед дорогой.
— Как-нибудь в другой раз. — Сарсанбай направился к двери. — Будь здоров…
Выйдя во двор, старик задержался, будто что-то припоминая, и вернулся в чайхану.
— Неужели и ты не понимаешь, Мадумар-ака? Он оставил их мне, и я должен сам хранить и вернуть их… Ты видишь, у него есть дом и овцы, ему есть за чем прийти… Часть его жизни здесь, и она не остановилась… Он живой здесь… Пока ждут его…
Мадумар промолчал. Только когда друг ступил на порог, сказал вслед:
— Кланяйся Зеби.
Покрывшаяся на морозце инеем пегая кобыла, увидев хозяина, тряхнула, ласкаясь, головой, подалась к ступенькам. Старик неожиданно легко поднялся в седло и подобрал повод.
— Тронулись.
Кобыла бодрой рысью направилась к дому. Она знала, что возвращается домой, и в радости возвращения не думала о том, что много раз еще придется ей приходить сюда, к чайхане, неся на своей старой спине старого хозяина и его неоплаченный долг.
Память
Старый Гулямкадыр-ата задумчиво сидел на веранде своего дома, и спиной он чувствовал столб, долгие годы поддерживавший навес над этой верандой. Так он сидел уже третий вечер подряд, — вернувшись на закате домой, садился здесь и предавался воспоминаниям. А ведь всего несколько дней тому назад он просто закрыл бы дверь своего дома и отправился в чайхану. Он любил чайхану, там всегда можно было встретить друзей-приятелей, пошутить, поболтать. Домой обычно возвращался за полночь, потому что жил один. Только по воскресеньям старик никуда не ходил, оставался дома и готовил обед, а потом садился в тени старой орешины и ждал своего внука Мамадали. Мальчик в этот день приходил к дедушке из интерната. Оба, и старый и малый, любили плов, особенно плов по-фергански. И потому Гулямкадыр-ата каждую субботу ходил на базар за продуктами для плова. Внук даже сердился.
— И зачем вам было беспокоиться, дедушка, — скажет он, обиженно надув губы, — добро бы базар был рядом, а то вон в какую даль идти нужно.
— Ах, дитя мое, для старого человека такое беспокойство только на пользу, — ответит Гулямкадыр-ата, радуясь заботливости внука. — Вся наша семья любила плов, и отец твой покойный, и мать…
Задумается после таких слов Гулямкадыр-ата, сдвинет густые белые брови, помолчит: потом шевельнутся в невнятном звуке губы, и словно запросится наружу, и потечет умеренная речь. Знает Гулямкадыр-ата — разбередит себе сердце воспоминаниями, но тянет его поговорить о сыне, о снохе, о жене. Мамадали много раз слышал этот рассказ, но никогда не перебивает деда, внимательно слушает. Мать он помнит смутно. Она умерла, когда ему едва исполнилось три года. Вспоминая, видит ее белолицей, полной и всегда смеющейся. А отца мальчик знает только по портрету, который, сколько он себя помнит, висит в переднем углу комнаты. Еще мальчик знает, что отец его служил в армии, в одном из городов Германии — трудно только выговорить название — и погиб там от взрыва мины. С тех пор прошло много лет. В большом доме остались жить двое, он и дедушка, а когда в колхозе открыли свой интернат, Хаким-ака забрал его туда.
Хаким-ака был другом отца, они вместе воевали, а сейчас Хаким-ака преподает в школе родной язык. Дедушка Гулямкадыр-ата очень хорошо отзывался о друге своего сына. «Ты слушайся Хакима-ата, — наставлял дед внука, — а то он тебя сразу за ушко да на солнышко». Да, так он говорил раньше. А сейчас Мамадали стал уже большой, и ему не приходится слышать от деда подобные слова. Теперь дедушка разговаривает с ним, как с равным. Дед говорит, а Мамадали слушает. Поэтому он и знает так много. Знает, какие славные люди были его отец, мама и бабушка.
Бабушка, оказывается, вместе с дедом — тогда они еще были молодыми — дралась с басмачами, скакала верхом на коне, а однажды даже захватила в плен здоровенного детину — бандита. Весь эскадрон тогда поразился ее храбрости… Вот какой была его бабушка!
Опустится вечер, повеет прохладой, а рассказам Гулямкадыр-ата все нет конца. Прервет его тихонько внук:
— Дедушка… — и покажет на небо: дескать, пора мне.
Старик глянет на темнеющий небосвод, на разбежавшиеся по нему огоньки звезд, что ярче к ночи, и вспомнит про интернат, где, должно быть, заждались его внука. Помолчит, исподлобья, как будто издали приглядываясь к мальчику, потом вдруг улыбнется. Мамадали очень любит эту улыбку деда. От сощуренных глаз разбегутся морщины, а седая борода распустится широко по груди, станет пышной и важной.
Мамадали знает, сейчас дедушка разок-другой кашлянет и скажет:
— А ну-ка, доктор, покажите ваш дневник.
Почему «доктор» — Мамадали не понимает. Он быстро достанет из портфельчика дневник и подаст деду. Увидев пятерку, старик вдруг сделается торжественносерьезным, с лица исчезнут лучики улыбки, и борода вернется на прежнее место. Осторожно положит дневник на низенький стол и распишется, не торопясь, старым арабским шрифтом. Задержит взгляд на своем имени, потом закроет дневник и вернет внуку.
— Рахмат, — скажет степенно, — рахмат, спасибо…
Потом дедушка с внуком отправятся в интернат.
На обратном пути, хоть и рано еще ложиться, Гулямкадыр-ата в этот день не заглянет к друзьям в чайхану, а, вернувшись домой, сядет там, где еще недавно сидел с внуком, и, напившись чаю, распланирует дела на завтра. Шутка ли сказать, в его ведении десять гектаров колхозного сада. С утра до вечера пропадает Гулямкадыр-ата на участке, только поздно вечером выбирается в чайхану.
Но вот уже три дня не видели старика в чайхане, три дня он никуда не выходит, сидит дома. А всему виной председатель кишлачного Совета.
Дело в том, что недавно принято было Советом решение: снести дом Гулямкадыра-ата. Два соседних кишлака объединялись, связать их должна была новая широкая дорога. Дом же старого садовника стоял, оказывается, прямо на трассе этой будущей дороги. Старик не возражал против того, что дом снесут. Кто же будет против благоустройства кишлака, против новых широких улиц, если к тому же колхоз дает ему в самом центре кишлака новый дом! Когда к нему пришел председатель кишлачного Совета и объявил о решении насчет дома, старик ничего не ответил, только склонил голову, как бы в знак согласия. Но, оставшись один, вдруг почувствовал — болью сжалось сердце. А как же сад? Оставят ли фруктовые деревья? Что будет с яблонями, черешнями, грушами, персиками? А его орешина? Что станет с орешиной?
В летнюю жару только здесь находил старик покой, только сидя под этой старой орешиной, огромной, как столетний дуб, не мучился жаждой. А осенью собирал с нее столько орехов, что хватало всему кишлаку. И не было человека, ни в самом кишлаке, ни гостя, который, проходя мимо, не полюбовался бы старым деревом, не остановил посветлевшего взгляда на развесистой кроне, на стволе в два обхвата толщиной, не удивился бы величине орехов. И замечательной была история этой орешины!
Давным-давно, еще во времена борьбы с басмачеством, Гулямкадыр-ата был командиром красного эскадрона.
Крепко досталось от него бандитам Али-курбаши и Аманкулу, рыскавшим в Коканде и Фергане. В двадцать первом году сам Фрунзе пожал ему руку, вручая орден Красного Знамени. А потом, вместе с отрядом Шахобиддина Садыкова, того самого командира Садыкова, что взял в плен английского офицера, пытавшегося скрыться на самолете, Гулямкадыр-ата сражался с басмачами под Бектемиром, Пскентом и Паркентом. И орешину, что росла у него во дворе, он посадил еще в те далекие годы.
Однажды после погони за бандитами Али-курбаши проезжал Гулямкадыр-ата через свой кишлак и увидел на обочине дороги замученного басмачами старика. Запекшаяся кровь на его лице перемешалась с пылью, один глаз вытек. Было похоже, что бандиты волокли его по дороге, привязав к хвосту лошади. Склонившись над бездыханным телом, Гулямкадыр заметил в руках старика небольшую веточку. Будто самое дорогое, что связывало его в последние минуты с жизнью, сжимал он эту веточку застывшими пальцами. И тут Гулямкадыр узнал наконец… Саид-азим! Садовник Саид-азим из их кишлака! Зеленая веточка орешины, зажатая в руке садовника, уже начала вянуть…
Джигиты похоронили садовника, а веточку орешины Гулямкадыр посадил у себя во дворе перед сожженным басмачами домом. С тех пор разрослась эта орешина, раздалась вширь, вытянулась вверх и дала потомство. Колхозная ореховая роща почти вся из ее семян… Так неужели теперь срубят ее, погубят, чтобы проложить новую широкую дорогу?
Гулямкадыр-ата поднял голову, посмотрел вверх. Широкие листья орешины, в полдневную жару закрывавшие двор от палящего солнца, сейчас мирно шелестели и напомнили старику его далекое детство. Так, помнится, шелестел большой бумажный змей — курак, а когда его запускали, к нему еще прикрепляли листочки из тонкой папиросной бумаги, чтобы жужжали… Долго сидел старый садовник, прислушиваясь к шепоту листьев. В привычных звуках он умел расслышать далекое, давно знакомое. Они напоминали о днях молодости, о юных годах, когда он, удалой джигит, играя саблей, вихрем летал на коне, столбом вздымая на дороге пыль. Но чаще слабый шелест и нежный ветерок рассказывали о его теперешней тихой жизни, приносили успокоение, и мысли о годах, прожитых с честью. В такие минуты Гулямкадыр-ата забывал о старости. Глядя на свои большие сморщенные руки, он думал: «Вы еще поработаете, еще много сможете сделать…», надеялся, что жизнь впереди еще долгая…
Солнце клонилось к закату. Ветерок принес прохладу. А старик все сидел в саду. С тонкой ореховой веточки, касающейся навеса веранды, с шумом слетели два воробья, чирикая, приблизились к кучке песка возле очага, оглянулись раз-другой и начали купаться. «Видно, к дождю, — подумал старик. — Гляди, как радуются, будто человек, давно не видавший воды».
Один воробей запрыгал, растопырив крылья, другой устроился отдыхать, устал.
«Надо бы сходить на базар, — подумал старик. — Постой, а который же сегодня день? Пятница? Суббота?»
Председатель приходил третьего дня. Это было во вторник. Значит, сегодня пятница. Как раз завтра и на базар бы сходить.
— Эх, не видать бы мне эту неделю, — вырвалось у него вслух.
Сказал — и сам испугался своего голоса. Оглянулся по сторонам. В доме тишина, лишь в арыке заливается лягушка.
— Ну вот, сам себя стал бояться, — с досадой проворчал старик. — Раньше такого не случалось… Да… не видать бы мне… Вот еще Мамадали, постреленок, чуткая душа, — огорчится, увидев, как расстроили меня. Лучше пойду-ка я к нему сам, проведаю. До вечера время есть.
Гулямкадыр-ата приподнялся, обвел взглядом свой двор и, подойдя к орешине, стал разглядывать и трогать рукой ее ствол, покрытый бороздами, все равно как его шея морщинами.
— Ах ты, милое мое, да ведь ты же не стареешь, никак не стареешь, — сказал он, хлопнув ладонью по коре. — Крепкие у тебя корни. Хоп — хорошо! Поживи-ка еще хоть немного. Остались ведь считанные деньки.
Где-то в траве засвиристела цикада, покрасневшее солнце скрылось за глиняным дувалом, внезапный ветерок принес откуда-то запах жареного лука.
— Так-то, старина. Ты даже и не подозреваешь, что жить тебе осталось — дни можно по пальцам сосчитать.
И Гулямкадыр-ата, вздохнув, направился к калитке. Дошел уже до интерната, но у самых ворот остановился. «Зачем заходить, зачем напрасно тревожить внучка? — подумал он. — Неужто сам не поймет? Да он уж, наверное, все знает!» Это соображение, казалось, убедило старика, и он повернул обратно. Возвращаясь, увидел, что в чайхане еще горит свет, но прошел мимо, к своему дому.
На следующее утро он поднялся до петухов. Моросил дождь. Старик вышел во двор, умылся, как всегда, водой из арыка, поставил самовар.
— Пускай идет дождь, деревьям будет легче.
Давно уже стало для него привычкой разговаривать с самим собой.
— И то верно, чтоб вода — да вред принесла? До самой жаркой поры еще далеко. Урючина только начала впитывать влагу, а орешина еще совсем не пила.
Сказал старик эти слова, и будто кошки на сердце заскребли.
— Нехорошо получилось, ах нехорошо. Пропадут деревья…
Уже намок, потемнел халат на плечах старого садовника, потух самовар, а он все стоял, ничего, кроме деревьев, не замечая вокруг. Смотрел то на яблоню, то на урючину, с черешни его взгляд переносился на персики, задерживался на орешине. Ему чудился запах свежеспиленного дерева, и он плакал, беззвучно плакал, и слезы текли по сморщенным щекам. А может, это дождинки стекали на жаждущую влаги землю?
— О господи, что это еще за напасть? Таким немощным я никогда не был.
Старик вздрогнул, когда кто-то окликнул его с улицы. Он обернулся и увидел своего соседа Абдуджалила с председателем кишлачного Совета.
— Как самочувствие? Что-то вас вчера в чайхане не было видно? — спросил Абдуджалил-ака, протягивая руку. — А мы засиделись до полуночи, разговорились, вас вспоминали. Что это вас, правда, не было? Или нездоровится?
— Нет, я здоров, — с трудом улыбнувшись, успокоил его садовник. — Прошу вас, заходите в дом!
— Хоп, так когда будем справлять новоселье? — спросил председатель, взобравшись на веранду. — Или дом не понравился?
— Нет, почему же? Дом хорош. Как скажете, так сразу и переедем. Долго ли собраться двоим?
— Если так, пришлем людей. Помогут перетащить вещи.
— А как с фруктовыми деревьями? — вмешался Абдуджалил. — Их ведь не перетащишь.
— А что деревья? Срубим, — отрезал председатель. — Эка проблема!
— Что-что? — спросил садовник, не поняв последнего слова.
— Я говорю, это нетрудное дело. И опять же вам польза. Не думали, не гадали, а будут у вас на зиму дрова.
Старик вдруг как-то весь обмяк. Рука, потянувшаяся было за скатертью, застыла в воздухе. Он не мог вымолвить ни слова. Лицо побледнело, губы дрожали.
— Вот и дождь перестал, — заметил Абдуджалил, привстав с места. — Ох и фруктов будет нынче, как никогда!
Старик молчал.
— Ну, мы пойдем. Еще увидимся, дедушка, у вас в орешнике, — Абдуджалил направился к двери.
Вслед за ним встал и председатель:
— Передайте людям, которых мы вам пришлем, чтобы сразу же начали с деревьев. Эту орешину не так-то просто свалить.
— Нет.
— Что вы сказали?
— Не надо, говорю, людей. — Гулямкадыр-ата показал жестом на дверь. — Благодарствуем, спилим сами.
— Да вы что, шутите?
— Какие шутки, спилю сам — и делу конец. А дрова подброшу прямо к вам.
— Да погодите же… Вы понимаете, что говорите? Абдуджалил-ака, идите послушайте, что он говорит!
Но Абдуджалила давно уже и след простыл.
— Послушайте, Гулямкадыр-ата, я хочу, чтобы вам же было лучше, поймите меня…
Старик захлопнул за председателем дверь. Его била дрожь.
— Дрова! Из тебя из самого бы сделать дрова!
Он хотел еще что-то добавить вслед, но только махнул рукой.
— Удивляюсь! — наконец вымолвил он, и было непонятно, то ли обращал он это слово к себе, то ли относилось сказанное к председателю кишлачного Совета.
Вернувшись на веранду, он взял большую пиалу с остывшим чаем, разом осушил ее и, вытерев рукавом усы, еще раз оглянул орешину. Потом быстро-быстро засеменил на улицу. Там было пусто, лишь неподалеку, у калитки, играл голый малыш — наклонившись и достав руками до земли, любовался перевернутым небом.
Завидев садовника, ребенок заулыбался. Вдалеке показалась арба, доверху нагруженная сеном. Старик пошел ей навстречу, вспомнил, что сегодня базарный день — суббота и нужно купить продукты.
… К вечеру он возвратился домой успокоенным и даже повеселевшим. Напевая вполголоса свое любимое «Иду ли средь садов зеленых…», приготовил мясо, развел огонь и, о чем-то вспоминая, громко засмеялся.
— Ох, ну и скажет же Абдуджалил! Это я-то живу одной орешиной! А сам он чем живет? Вот уж три года двух гнедых холит-поит, хочет отличиться в козлодрании, разве не ясно? Каждому — свое. Я люблю орешину. Ну и что здесь плохого?
Старик посмотрел на орешину и быстро отвел взгляд. Настроение опять упало. Он уже машинально продолжал готовить обед. Плов получился невкусным и застревал в горле.
«Хоть бы внучек Мамадали был рядом, — подумал старик, — сидели бы сейчас вдвоем и разговаривали. Почему же все-таки дорога должна пройти именно через мой дом? Дрова будут к зиме! Надо же такое придумать!
Он вышел во двор. Темнота окутала уже все вокруг, нельзя было различить деревья.
По улице мимо дома прошла машина, проплыла по стене тень от листвы орешины. Старик постоял еще с минуту, потом пошел, лег обессиленно, закрыл глаза.
Утром он проснулся раньше обычного. В голове шумело. Свесив ноги на пол, старик посидел несколько минут на кровати, решая что-то про себя, потом встал, привычно умылся над арыком и пошел в сарайчик. Здесь хранились его столярные инструменты, аккуратно развешанные по стенам. Гулямкадыр-ата взял пилу, топор и пошел к орешине. Сердце гулко колотилось в груди, и, хотя погода была нежаркой и налетал то и дело прохладный ветерок, на лбу его выступила испарина.
— Попробую-ка сам начать, пока нет Мамадали. Пусть не говорит, что дедушка уж до того слаб, что не может справиться с единственным деревом.
Он провел пилой по затвердевшей коре, потянул к себе, но руки его задрожали, и пила со звоном упала.
«Нет, так не годится, — подумал старик, — коли пилить, так пилить, а то что же такое получается? Я не смогу спилить посаженное мною дерево, другой не сможет, а где же проводить дорогу, где строить новые дома? Что сейчас главнее для кишлака? Орешина или улица? Конечно, улица. Значит, надо пилить».
И он снова взялся за пилу, приговаривая в лад:
— Да, старина, что-то уж больно ты завозился. Ну, берись же, старик, тяни. Руки-то чего дрожат? Да тяни же!
Он с силой двинул пилу вперед, она задела за какой-то сук, зазвенела и переломилась. Тяжело дыша, старик растерянно огляделся по сторонам и вышел со двора.
В правлении колхоза сидели Абдуджалил и председатель кишлачного Совета, рассматривали бумаги.
— Входите, входите, — пригласил садовника председатель и густо покраснел.
— Абдуджалил! — забыв поздороваться, начал старик. — Подавай машину, переезжаю!
— Вот и давно бы так! — обрадовался тот. — Сейчас пришлем людей и машину.
За какой-то час все вещи садовника были уложены и перевезены в новый дом. В опустевшем старом доме остался один хозяин. Виновато смотрел он на орешину, сидя на своем любимом месте у столба веранды. И еще бы он, наверное, долго сидел так, но тут вернулся из интерната Мамадали. И то ли от радости, то ли от горькой стариковской обиды блеснули на глазах садовника прозрачные слезинки.
— А, ты уже здесь, сынок, — сказал Гулямкадыр-ата, пряча лицо в ворот халата, — а я тебя дожидаюсь. Выходит, плов теперь будем готовить в новом доме. Знаешь, в каком?
— А я давно уже знаю, — выпалил Мамадали и, будто выдав какую-то тайну, покрылся румянцем. — Мне Абдуджалил-ака показывал. До чего хороший!
— Ну что ж, тогда веди туда деда.
Новый дом был действительно хорош. Просторный двор, высокая веранда, большие светлые комнаты.
Старый человек впервые готовил для себя и внука плов в новом доме и невольно прислушивался к реву бульдозера возле своего старого жилья и, чтобы не заразить ребенка собственной тревогой, чуть слышно напевал свое любимое «Иду ли средь садов зеленых…». А рев бульдозера слышался даже и ночью.
… На прошлой неделе повел Мамадали своего деда по новой улице. Как ни упирался старик, а не смог он отказать внуку. Новая дорога пролегла ровной широкой лентой, под ногами похрустывал гравий.
Чем ближе подходил Гулямкадыр-ата к тому месту, где прежде стоял его старый дом, тем сильнее билось его сердце. Вон на том месте был айван. Все сглажено с землей. А от арыка не осталось и следа. Но что это? Вроде бы новый арык прорыли?
Старик глянул вверх по каналу и замер… На краю дороги стояло чем-то знакомое громадное дерево, гордо разбросав широкие ветви. У его корней примостилась новенькая голубая скамеечка. Почему же раньше не замечал он этого дерева? Да ведь это орешина! Его старая орешина!
— Рахмат, спасибо… — только и сумел сказать садовник, обняв внука за плечи. А тот осторожно поддерживал деда.
В глазах старика блестели слезы. Теперь он их не прятал.
Честь
Она проснулась от страха — какие-то люди гнались за ней, обвиняли ее, потом она увидела мать — та тоже показывала на нее и смеялась вместе со всеми…
Зумрад не сразу очнулась от сна, но постепенно страх ушел, и она увидела себя в своей комнате: вставать еще рано было — она легла после ночной смены, но постель Муниры была уже пуста, простыни, подушка смяты — видно, только что поднялась.
Зумрад надела халатик, откинула за спину длинные темные волосы и вышла в сад. Под навесом из виноградных лоз спала мать — тетушка Рисолат. За садом шаткая деревянная лесенка вела вниз, к речке Боз-су. На берегу Мунира, подоткнув подол платья, обмывала свои красивые ноги.
— Что ты так рано? — Она смотрела на Зумрад сквозь влажные волосы, свесившиеся на лицо. — А я вчера ждала, ждала тебя… Поговорить хотелось…
— Да? — машинально ответила Зумрад: она стояла на валуне, смотрела на желтоватую бурливую воду арыка, на возникавшие то и дело, быстро уносившиеся воронки и думала о своем.
— Вчера он… ну, Карим, снова приходил, — увезу, говорит, тебя в Гулистан. Дали ему, оказывается, хорошую квартиру.
— Разве тесно тебе у нас? — спросила Зумрад.
Мунира легко вздохнула.
— Не понимаешь ты ничего. Да и не слушаешь меня… Ну и ладно. Дело-то не в квартире.
— А в чем же тогда? Ты ведь говорила — не любишь его?
— Так это было когда… А вчера он мне показался другим. Трудно сказать… — Мунира подсела ближе к Зумрад, смотрела, как та умывается, и щебетала: —Знаешь, говорит, что никого нет у него, кроме меня, что только на мне женится, ни на ком больше. Здорово, правда? Потом мы еще гуляли, долго-долго…
— Целовались, наверное?
Мунира засмеялась радостно.
— Верно, а ты откуда знаешь? Бедненький! Представляешь — он весь так дрожал, так бледнел, я чуть не умерла от смеха.
— А тот, Закир, что с ним?
— Инженер-то? Ой, да что может быть с ним? Сходили два раза в кино, да и только. Ну, что скажешь — ехать мне?
— Куда?
— Господи, да в Гулистан же, вот глупенькая!
— Смотри, будь осторожна, не пожалеть бы потом!
— Вот заладила: будь осторожна, будь осторожна! — Мунира презрительно сморщила носик. — Что ж, по-твоему, мне так и оставаться старой девой? Смотри, мне девятнадцать уже, а старых дев все парни боятся…
Подруги часто спорили, но ни разу не поссорились всерьез — слишком разные были, чтоб до настоящей ссоры дошло. С полгода уже, как жили они вместе, в доме матери Зумрад. Обе работали в одном автопарке, водили троллейбусы, но подружились только недавно — на вечеринке, где встречали в одной компании Новый год, и сошлись так, что со стороны казалось — водой не разольешь, все свободное время вместе проводили.
Мунира была сирота — отец умер рано, она его и не помнила, мать скончалась четыре года назад, а других родственников у нее не осталось. Но она тянулась к людям, веселая была, радостная, и вечно переполнена какими-то событиями, мыслями или новостями, и всегда спешила все рассказать: что на сердце, то и на языке. Тетушка Рисолат сразу полюбила ее и, видя, что подруги все свое время проводят вместе, предложила Мунире перебраться к ним: что ей одной жить в пустом родительском доме — трудно, да и скучно, и обидит кто, не ровен час.
Мунира легко согласилась.
Подруги не были похожи и внешне, но стройная, рыженькая, веснушчатая Мунира нравилась Зумрад, нравились ее большие чистые глаза небесной голубизны. И обижаться она не умела, и скучно с ней никогда не бывало: казалось, она вся начинена словами — с трудом успевает выпаливать. Сколько вечеров они проговорили допоздна, вспоминая знакомых, и разные случаи, и книги, и кино, и всякое другое… Зумрад знала: вернись она вчера пораньше, пока Мунира не заснула еще, та ей не дала бы спать до утра, все рассказывала бы о Кариме. А она бы слушала и переживала за подругу.
Сейчас она сидела над желтым быстрым потоком, слушала Муниру, думала, сравнивала ее с собой… Но та уже говорила о другом:
— Пойдем сегодня на концерт Караклаич, хорошо?
— Есть билеты? Откуда у тебя?
— Билетов нет пока, но Карим будет нас ждать. Обещал…
— Опять Карим! Зачем морочишь ему голову?
Мунира усмехнулась.
— Сам виноват. Пусть не ходит за мной!
И тут они увидели незнакомого человека у калитки. Зумрад бросила подруге:
— Сходи узнай, что ему нужно.
А сама через сад побежала в дом-привести себя в порядок.
Мать куда-то вышла уже — видно, за хлебом.
Вернулась Мунира:
— Тебя спрашивает.
— Да кто же он?
— Не знаю. Говорит, важное дело. Но вы разве незнакомы?
— Первый раз вижу его.
— Ах вот как, первый, значит? — Мунира подмигнула с видом заговорщика. — Ну конечно, раз важное дело, значит, правда незнакомый, как я сразу не поняла. А он ничего себе, приятный, только, может, староват немного для тебя. Зато с портфелем.
— Ну тебя, замолчи, пожалуйста! — попросила Зумрад. Чего-то испугалась она, тревога непонятная вошла в душу, и плохой сон сразу вспомнился.
— Идем, а то заждался поди, — торопила Мунира.
Зумрад вышла к незнакомцу, поздоровалась, пригласила его войти в дом.
— Так это вы — Зумрад? Мне нужно поговорить с вами.
— Садитесь, пожалуйста.
— Простите… — незнакомец замялся. — Простите, но, если можно, я хотел бы говорить с вами наедине.
Зумрад глянула на Муниру.
— Это моя подруга, у меня нет от нее секретов. Можете говорить обо всем.
— Я понимаю вас, — незнакомец улыбнулся, — но все же очень прошу…
Мунира поднялась и вышла из комнаты.
— Еще раз прошу извинить меня, — продолжал мужчина, — но то, о чем я буду говорить, касается только вас.
— Что-нибудь случилось? Я ничего не понимаю. Говорите, — волнуясь, поторопила его девушка.
— Для вас — ничего страшного, не беспокойтесь. Я — адвокат… — Мужчина назвал свою фамилию, достал из кармана удостоверение, показал его Зумрад. — Теперь хочу спросить — знаком ли вам Камил Мирзаев, аспирант-физик?
Зумрад покраснела.
— Да, мы знакомы… были. А почему?..
— Дело в том, сестренка… — адвокат, видно было, подбирал какие-то особые слова, но потом махнул рукой. — Дело в том, что Камил арестован… Его ждет суд.
— Суд?.. Арестован?.. Он — в тюрьме?!
— Скоро месяц.
— Но почему? Что он сделал?
— Он обвиняется в хулиганстве… — Адвокат порылся в своем черном портфеле, добыл какие-то бумаги, положил их на стол. — Вот — втроем напали, избили пожилого человека — тот сейчас в больнице…
Зумрад не находила слов.
— Этого не может быть, — пролепетала она. — Не может быть… — Потом начала убеждать: — Он не такой, что вы! Он робкий, застенчивый, он… добрый.
— Я тоже так думаю, — согласился адвокат. — Но вот одна старушка, свидетельница, утверждает, что он тоже был среди нападавших.
— Нет, не верю я этому, и никакая старушка меня не убедит. — Зумрад поднялась, не могла усидеть на месте. — Нет, вы подумайте: Камил — хулиган! Что-то вы путаете… А я… Зачем вы ко мне-то пришли?
— Видите ли, Камил не мог совершить это преступление по простой причине: в ту ночь, когда произошло нападение, Камил был у вас…
У Зумрад подогнулись колени, она прислонилась к стене.
— В какую… ночь? — еле слышно спросила она.
— Семнадцатого мая этого года. Так он пишет — вот его заявление.
Девушка машинально приняла бумагу и, не читая, опустилась на стул. Ей было трудно дышать. Жаркое какое утро, душно… Она вытерла повлажневший лоб рукой с зажатой в пальцах бумагой. Да, этот день она помнила, это был день ее рождения.
— Что с вами? — услышала она испуганный голос адвоката.
— Ничего.
Она закрыла глаза, чтобы не видеть, отгородиться как-то от случившегося. Вот чем обернулось недолгое ее счастье… А ведь она будто предчувствовала, знала, ждала, что придет что-то страшное, но отталкивала эту мысль… Ах, не думать бы сейчас ни о чем, забыться бы, вернуть то время, ту зиму… Как это было, что она полюбила его?
… В тот день очень много выпало снега, она помнит, как залепляло снегом окно перед ней, «дворник» еле успевал счищать. Свет фар пропадал в белой пелене, плохо было видно дорогу. За Бешагачем соскочила штанга, чуть провода не оборвала… Пока поставила ее, вернулась в троллейбус — а там пусто, только впереди, у кабины, парень в красивой каракулевой кубанке улыбается ей.
— Смотрите, сбежали все ваши пассажиры, испугались — очень уж лихой водитель, говорят, страшно…
— А вы что ж, не боитесь? — насмешливо перебила она.
— Как не бояться — боюсь, конечно, только другого. Боюсь оставить вас одну.
Любезности такого рода Зумрад слышала по сто раз на день, и обычно они лишь раздражали ее, но тут — тут она почувствовала нечто иное, — во всяком случае, ничего несерьезного или обидного в словах парня не было. И потому она не обрезала его, а лишь пожала плечами и шагнула в кабину. Стекло за ее спиной было покрашено, чтоб свет из салона не мешал ей, но краска местами отлетела, и, перед тем как тронуться дальше, она обернулась, посмотрела назад. Встретила взгляд парня — он снова улыбнулся ей. Зумрад нажала на педаль.
«Интересно, — думала она, — куда он едет? Домой? Или на свидание? Конечно, у него есть девушка. У таких видных парней всегда есть девушки, как же иначе. А вдруг… — Зумрад глянула в зеркальце перед собой, где отражалось все, что происходило в салоне. Парень сидел все там же, и она разглядела теперь, что он круглолицый — под шапкой лицо похоже было на теплую, хорошо пропеченную лепешку. Но не толстый… — Конечно, девушка ждет его — наверное, в шубке и перламутровых сапожках. Валенки ей ни к чему… Да, а тут попробуй-ка на морозе семь часов без валенок, а в валенках кто ж на тебя смотреть захочет?.. — Она снова глянула на парня: сидит себе. — Интересно, где он сойдет. Наверное, у текстильного комбината. Встретится со своей подружкой у кино, пойдут смотреть «Мужчину и женщину». Французский фильм, — хороший, говорят, надо бы сходить».
Зумрад повернула машину на улицу Руставели и остановила у хлебного магазина.
— Соцгородок, — объявила она в микрофон, — следующая — кинотеатр «25 лет Узбекистана»…
— Спасибо! — весело ответил из салона парень.
Зумрад улыбнулась, довольная, но тут же подумала с грустью, что правильно угадала: собрался, значит, в кино, а девушка уже ждет, наверное…
Снег перестал идти, и, видно, еще похолодало: мокрый асфальт покрылся льдом. Теперь гляди в оба. Хорошо, что смена кончается — вот доедет она до Эски-Джувы, а там Самад-ака сядет за руль — ему, мужчине, легче справляться с машиной, и гололеда он не испугается. Теперь ей некогда было думать о парне в салоне, мостовая была скользкая, и она забыла о разговорчивом пассажире. Довела машину до текстильного комбината, повернула обратно, глянула машинально в салон — и надо же! Парень все сидел на том же месте И будто ждал ее взгляда. Пассажиров было мало, человек пять всего, а парень, значит, не в кино собрался. Зумрад стало весело.
— Товарищи пассажиры! — объявила она. — Троллейбус идет только до Эски-Джувы. Не забудьте приобрести билеты! Молодой человек! — Мальчишка-школьник в конце салона поспешно поднялся с сиденья. — Нет-нет, не вы! — успокоила его Зумрад. — В третьем ряду у окна! — Парень в кубанке приложил руку к груди. — Да, вы! Ваш билет уже недействителен, возьмите новый. Если нет мелочи, подойдите к водителю, можете купить абонементную книжечку.
Парень порылся в карманах, встал, подошел к кабине Зумрад, просунул голову в дверь.
— А я уж думал, вы успели меня забыть.
— Что ж, не встретились вы?
— С кем?
Зумрад хотела добавить «с девушкой», но вовремя спохватилась, сказала только:
— Вижу, обратно едете. Значит, не встретили, кого хотели.
— Я хотел встретить вас!
Зумрад даже обернулась от удивления: парень стоял, прислонившись к двери кабины, и улыбался, как ей показалось, слишком смело.
— Вы мне мешаете разговорами, молодой человек! Я на работе.
— Работы вашей осталось двадцать минут. Я подожду вас. Да, а билеты… — Парень протянул ей трехрублевку.
— На все? — улыбнулась Зумрад.
— Как скажете, так и будет, только учтите — я студент…
Зумрад дала ему билетную книжечку и сдачу.
— Так договорились? Я буду ждать…
— Вы мне мешаете! — строго повторила Зумрад.
Парень вернулся в салон, сел на свое место. А Зумрад сделалось почему-то легко и радостно, будто и не устала вовсе — даже не заметила, как доехала до Эски-Джувы.
Самад-ака уже поджидал ее, сразу поднялся в кабину.
— Очень замерзла, дочка?
— Ничего, терплю.
— Смотри, это только начало. Одевайся теплее. А на дороге как — каток?
— Да. Будьте осторожны. До свидания!
Зумрад торопилась: как-никак, а слова того парня были ведь приглашением на свидание. Значит, ждет ее, наверное.
Она спрыгнула с подножки троллейбуса и увидала прямо перед собой улыбающуюся физиономию парня в кубанке.
В тот вечер он проводил ее домой. Звали его Камил, он учился на пятом курсе физфака в университете. Он сказал, что давно хочет познакомиться с ней, но только сегодня решился наконец…
Назавтра они встретились снова. Они смотрели новый французский фильм «Мужчина и женщина» в кинотеатре «25 лет Узбекистана». Зумрад была в цигейковой шубке и красных перламутровых сапожках. В середине фильма Камил взял ее руку в свою. Ладонь его была горячей, и в полутьме зала Зумрад, не глядя на него, почувствовала, что он взволнован.
После фильма они пешком шли к ее дому, снег хрустел под ногами, и вечер был прекрасен.
На следующий день Камил снова пришел к ней и через день еще, и скоро сделалось обычным для них, что вечера они проводили вместе — если не шли в кино, то просто гуляли по улицам и выбирали тихие и безлюдные.
Зумрад была счастлива. Ее мать, тетушка Рисолат, видела счастье дочери и нарадоваться не могла на нее. Когда Зумрад уходила на работу, тетушка Рисолат открывала сундуки и любовно перекладывала приданое дочери, советовалась с соседками: какие еще нужны одеяла, какие подушки, какая посуда, — ведь ее Зумрад ни в чем не должна уступать другим.
Тетушка Рисолат мечтала отпраздновать свадьбу ранней весной, когда начинает поспевать черешня. Зумрад слушала мать, улыбалась и молчала.
И вот в садике за домом отцвели черешни, начали розоветь ягоды. Тетушка Рисолат посоветовала дочери: «Поговори с ним». Зумрад не ответила, как обычно, только покраснела, но весь день после разговора с матерью звучала в ее душе песня любви «Ер-ер», старинная узбекская свадебная, которой провожают невесту подруги и родственницы… Она представляла в мечтах — как все рады, все поздравляют ее. Она в белом платье, в белом шелковом платке с кистями — платок закрывает лицо, а Камил приближается и тихо приподымает платок, открывает ее лицо и целует…
Время в тот день летело незаметно, счастливые мысли сплетались в праздничный венок, продолжали одна другую, повторялись снова… Под вечер раскрасневшаяся от счастья Зумрад сдала на Эски-Джуве смену Самаду-ака, вышла, веселая, на улицу — и увидела Камила. Сегодня он не должен был прийти, Зумрад собиралась к портнихе, но теперь, встретив его, она радостно поняла, что ждала его, хотела увидеть.
— Я ждал тебя, — сказал Камил, — нам надо поговорить.
Они прошли в сквер рядом с базаром, сели на скамейку.
— Знаешь, Зумрад… — Камил волновался, казалось, язык не слушается его. — Зумрад… меня хотят женить. Заставляют… В следующую субботу свадьба.
Зумрад будто не видела и не слышала ничего, будто убили ее — молчала, долго не могла слова сказать…
Потом прошептала:
— Поздравляю…
Что было после, говорили о чем или нет, как дошла до дому — она не помнила. Дома свалилась без сил в постель, к ней подсела мать, и тогда наконец Зумрад расплакалась, страшная обида прорвалась, и девушка захлебнулась в рыданиях.
— Ну, не надо, доченька, не плачь… Не стоит он того, бесчестный он человек — а еще студент…
Тетушка Рисолат пыталась покормить дочку, но та даже не притронулась к еде. Назавтра она не пошла на работу, лежала, уставившись в стенку невидящим взглядом, не спала и не разговаривала. Под вечер она задремала, и приснилось ей: поле широкое, маки, и она с подругами собирает букет. Вдруг — Камил, с охапкой цветов, протянул ей: «Тебе, для тебя собирал».
Отдал ей цветы, обнял, прижал к себе… Ей тепло сделалось, хорошо… Камил обнял ее крепче, Зумрад вскрикнула и проснулась. Мать сидела рядом, гладила ее по голове:
— Ничего, доченька, все будет хорошо… Ты бредила немножко, успокойся, родная, не надо… Говорят, в жизни пять дней выпадает черных, пять светлых… Все еще устроится, будешь ты счастлива…
И вот прошли пять черных дней, Зумрад заставила себя не думать о Камиле, начала работать. Но в субботу, когда должны были играть свадьбу Камила, снова проплакала всю ночь.
Потянулось время без радости, без ожидания. Так прошёл год. И вот однажды, возвращаясь под вечер с работы, она увидела у своего дома знакомую фигуру. Сердце ее забилось часто-часто, а он пошел навстречу, протянул виновато руку.
— Пришел поздравить… Сегодня день твоего рождения, я помню… — Не договорив, он низко опустил голову.
Зумрад глядела на него с жалостью и нежностью. За год он заметно изменился, в волосах его она разглядела несколько серебряных нитей. Она любила его волосы, мягкие, шелковые. И сейчас поняла вдруг, что он все так же близок ей и дорог и что он тоже любит ее.
— Спасибо, — сказала она, и чувство к нему, снова переполнившее ее, заставило добавить: —Зайдешь к нам?
— Можно? — радостно спросил он.
— Да.
— Я сейчас… — Он бросился по улице бегом и крикнул издали: —Сейчас приду!
Зумрад вошла в дом. Господи, что она делает, что натворила уже, зачем пригласила его! Ведь кончено все… Неужели она хочет его видеть, ждет?.. Что уж теперь размышлять, сейчас он вернется — так сказал. Она быстро поставила чай, поспешила к зеркалу, поправила волосы. В саду под навесом из виноградных лоз накрыт был стол — под салфеткой приготовлены для нее клубника, яблоки, ее любимый ореховый торт и записка: «Желаем счастья — долгого, на всю жизнь. Мама. Мунира. И не забудь еще заглянуть под подушку».
Зумрад, растроганная, поцеловала записку. Конечно — это Мунира, мама ведь в санатории. И стол как красиво накрыла, и роз чудесный букет в вазе стоит.
Вернулся Камил — с бутылкой шампанского и цветами. Зумрад пошла ему навстречу, подумав, что они не должны вспоминать сегодня прошлое, — она хочет весь вечер оставаться такой же радостной, как минуту назад.
Они долго сидели в саду, разговаривали дружески и нежно — совсем как раньше. Зумрад была весела, много смеялась, выпила даже вина, но так и не спросила, что заставило Камила прийти к ней. И Камил тоже словом не обмолвился об этом. Но, прощаясь, поцеловал ее и сказал: «Я несчастлив… Прости меня, если можешь…»
Зумрад поняла, почему так весела была сегодня: надежда ожила в ней, весь вечер ждала она решительных слов Камила. И вот — услышала жалкий его лепет, и надежда ушла, сделалась несбыточной и далекой. Проводив Камила за порог, она так сказала ему: «Не приходи больше. У тебя своя жизнь. Да и мне неудобно…»
— Простите, я расстроил вас?
Слова адвоката вернули Зумрад в настоящее. Она открыла глаза.
— Извините. Так чего же вы ждете от меня?
— Завтра суд. И если вы придете и скажете, что в тот вечер он был у вас… Конечно, вас никто не вправе заставлять… И я понимаю, что это не просто и тяжело для вас… Но другого выхода нет…
— Это Камил так говорит?
— Он не знает, что я пошел к вам. До вчерашнего дня он и мне не говорил, что был у вас. Только вчера признался — понял, что несколько лет жизни потерять может. Вы ведь знаете, хулиганов сейчас не щадят…
Адвокат говорил еще что-то, но Зумрад уже не слушала его, а думала. «Значит, Камил в опасности… И надеется, что я помогу… Адрес адвокату, конечно, сам дал. А во что станет мне эта помощь, как дорого обойдется, — об этом он, конечно, не думает. Вот так просто выйти и сказать, что поздно вечером — принимала у себя в доме женатого мужчину… Куда деваться потом, как в глаза людям глядеть, как матери в глаза посмотрю?..»
— Вы ничего не скажете мне? — спросил адвокат.
Зумрад не подняла головы.
Адвокат встал.
— Суд завтра в десять. Адрес я вам оставляю.
Он вышел, а Зумрад даже и не заметила этого, думала о своем.
Весь день после разговора с адвокатом Зумрад была молчалива, а вечером Мунире пришлось идти на концерт одной. Когда она вернулась, Зумрад притворилась спящей. Но Мунира знала, что подруга не спит, сказала ей все, что думала:
— Ты извини, но я слышала, о чем просит тебя этот… Ты не пойдешь в суд — ни за что! Да по мне — пусть лучше его расстреляют! Жалкий человек, мизинца он твоего не стоит! Ну как ты пойдешь туда, что скажешь? Что о тебе люди думать будут, а?
Зумрад слушала и кивала, как бы соглашаясь.
Утром она поднялась ни свет ни заря, вышла в сад — мать еще спала, — спустилась к воде. Боз-су брызгалась, шумела и торопилась, в желтом потоке закручивались воронки, пропадали.
Зумрад посмотрела и отвернулась: характер у Боз-су все равно что у Муниры, а ей сейчас хотелось ясности… Оглядела сад, дом — нет, все-таки в хорошем месте они живут: и в центре, и вода рядом, и сады кругом. Если сломают дом, интересно, где дадут квартиру?
Зумрад присела на свой камень, опустила пальцы в воду — приятная прохлада прошла по всему телу, она вздрогнула от удовольствия.
Долго она сидела на камне, думала о своем, но все мысли приводили ее в конце концов к одному: «Неужели нельзя по-другому, не найдется еще выхода?.. Понимает ли он, как это страшно, стыдно и трудно — выйти и самой сказать людям…» Она тихонько вернулась на веранду, но деревянные ступеньки привычно скрипнули.
— Зумрад? — спросила сквозь сон тетушка Рисолат.
— Да, мама, я разбудила вас?
— Ты же поздно легла, доченька, — поспи еще, ведь и солнце не взошло.
— Сейчас лягу, мама.
Зумрад зашла в комнату, с завистью посмотрела на безмятежное личико спящей подруги и начала одеваться. Причесываясь у зеркала, она задела рукой флакончик с духами, тот полетел на пол и Мунира проснулась.
— Ой, да ну тебя, напугала как! Только встретилась с ним, только…
— С Каримом? — рассмеялась Зумрад.
— Не знаю, разглядеть не успела… А куда это ты в такую рань?
— Дело есть.
— Знаю, знаю, куда идешь! — Мунира резко села на постели. — Ты в своем уме, а? Честное слово, будто святая — не понимает! Не пойдешь ты никуда, слышишь!
— Спи. Рано еще.
— Ну не ходи, милая, прошу тебя! Ведь опозоришь себя, честь потеряешь, — что люди скажут!
Зумрад не ответила, спустилась в сад, глянула на спящую мать и вышла на улицу.
Город еще не проснулся, улицы были пустынны, политые с вечера асфальтовые дорожки подсохли, а земля покрылась корочкой…
Зумрад шла пешком — времени у нее было еще много. Увидела серые строгие колонны городского суда — и оробела, вернулась назад, вышла на тенистую улицу, ведущую в парк, там опустилась на скамейку под темной старой чинарой и долго сидела, ни о чем не думая. Наконец бой часов пробудил ее, она встрепенулась и стала считать: пробило десять раз. Пора.
Она поднялась, тихонько пошла к зданию суда. Там было много людей, суета и шум напугали ее — ей казалось, все знают, зачем она здесь, показывают за спиной пальцем и смеются.
Но такой мысли, что она может не пойти, повернуть назад, скрыться, в ней даже не возникало.
В зале уже шло заседание суда. Зумрад опустилась на свободный стул, глянула на судей, на Камила: он сидел бледный, склонил стриженную наголо голову, а по бокам — два милиционера. Жалость стиснула ей сердце.
— Я верил, что вы придете, сестрица, вся надежда на вас, — услышала она тихий голос, оглянулась, увидела рядом адвоката и покраснела. — Вся надежда на вас, — повторил адвокат и отошел.
Зумрад снова посмотрела на Камила, взгляды их встретились. Камил улыбнулся ей, благодарно и измученно, а в душе Зумрад родилось вдруг неприятное чувство к нему. Она подумала: вот выступит она сейчас, скажет все, что нужно, его отпустят, а он вернется к своей жене… И она, Зумрад, ему в этом поможет… Зумрад отвела взгляд и больше не смотрела на Камила до той минуты, пока не назвали ее фамилию. Она поднялась, чувствуя на себе любопытные взгляды, ее била дрожь, и она остро пожалела, что пришла сюда. Она снова смотрела на Камила, только на него, а он следил за ней, и в глазах его не было удивления, интереса или радости, а только мольба… И она наконец поняла, что именно рождало в ней неприятное чувство: он не верил ей, не верил, что она придет, и скажет, и выручит его, спасет от тюрьмы, и потому, наверное, не говорил никому так долго, что был у нее. Думал, значит, одинаково с Мунирой…
Зумрад подтвердила слова Камила. Да, в тот вечер он был у нее, оставался до полуночи.
Зал забурлил:
— Посмотрите на нее, люди, как не постеснялась прийти сюда!
— Бесстыжие твои глаза!
— Вот такие и разбивают семьи!
У выхода из зала ее догнал адвокат, подхватил под РУКУ:
— Спасибо вам, Камил не забудет вашу доброту… А жене, мы как-нибудь объясним, она простит вас… Еще раз — спасибо вам!
Это было уже слишком.
— Оставьте меня в покое… все! — крикнула Зумрад и выбежала из зала.
Она не помнила, по каким улицам шла, как оказалась на берегу Боз-су, сколько просидела здесь…
— Теть, а теть… я зам-мерз, — послышался ей детский голосок. Она очнулась и увидела перед собой обложенный дерном берег, а в воде — маленького мальчишку, он посинел от долгого купания и клацал зубами.
— Вылезай скорее. Помочь тебе?
— Да-а, а как я вылезу?.. Вы на моих штанах сидите.
Зумрад рассмеялась, помогла малышу вылезти на берег, вытерла и одела его.
На берегу было тихо и солнечно, только гудение пчел да шелест речных струй слышались… Зумрад подошла к воде, опустилась на траву под деревом и стала смотреть на желтоватую и спокойную здесь поверхность Боз-су. Странно: у дома ее Боз-су быстрая и шумная, а здесь спокойна, тиха и течение почти не заметно.
Пришли на берег ребятишки, стали неподалеку купаться, плескались, смеялись, кричали весело, но Зумрад ничего не слышала — только чувствовала, как теплые лучи солнца пробиваются сквозь густую листву, падают ей на плечи, а нежный ветерок гладит по щеке.
Вдруг маленькое облачко («Совсем как верблюжонок», — подумала Зумрад) закрыло солнце, у реки потемнело и посвежело. Зумрад поежилась. Река, деревья, сам воздух — все как-то вдруг потускнело, пожелтело, словно покрылось пылью. А облачко растянулось, уже не было похоже на верблюжонка и поплыло себе дальше.
«Сейчас опять покажется солнце, и мне станет тепло, — подумала Зумрад. — Все проходит… Хотя нет — если б я не пошла в суд, это бы осталось во мне, бередило душу. А сейчас я понимаю, что правильно сделала, сберегла честь, но только умом понимаю, а когда успокоится сердце, снова придет радость…»