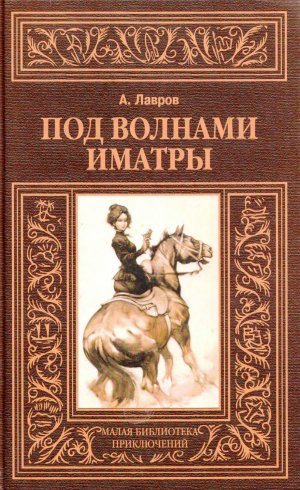
OCR amp; Spellcheck: Liuda
Лавров А. (А. И. Красницкий)
„Под волнами Иматры“; „Змея в кольце“
М.: ТЕРРА – Книжный клуб, СПб.: Северо-Запад, 2009
(Малая библиотека приключений)
ІSВN 978-5-275-01976-6
(Текст издан с явными сокращениями,
некоторые главы даны в кратком изложении)
Аннотация
В эту книгу вошли первые два романа трилогии А. Лаврова о похождениях Мефодия Кирилловича Кобылкина – российского Шерлока Холмса, умного проницательного сыщика, распутывающего самые страшные и загадочные преступления. Сюжет трилогии строится вокруг судьбы дочери русского купца Воробьева, которая неожиданно становится наследницей несметных богатств и власти над обширными территориями Дальнего Востока.
Данные романы входят не в трилогию, а в серию из 5 романов:
1. Под волнами Иматры
2. Манчжурское золото (не переиздавалась)
3. Змея в кольце
4. Царица хунхузов (Переизадана: Спб.: Лира, 1993. - А. Лавров «Царица хунхузов» - объединенный вариант романов «Под волнами Иматры», «Змея в кольце», «Манчжурское золото», «Царица хунхузов»)
5. Кровавая княгиня (не переиздавалась)
Глава 1
Был одиннадцатый час тихого июньского вечера, когда небольшой и почти пустой поезд стал у платформы станции Иматра. Шел он со стороны Выборга и был в тот день последним из всех, подходивших по железнодорожной ветви от Антреа к обоим водопадам.
Совсем не ко времени холода или, быть может, некоторые совсем особые события, происходившие в то время в Финляндии, распугивали туристов, поэтому мало кто заглядывал в знаменитое местечко, обыкновенно привлекающее дикою красотой своего водопада многочисленных путешественников. Поезда приходили пустые, в местных отелях всегда, даже зимой, переполненных чуть ли не до тесноты, почти все комнаты были свободны. Хозяева жаловались на плохие дела, кельнеры чуть ли не с навязчивостью апраксинских торговцев зазывали и тащили к себе немногих приезжих.
Из вагона первого класса подошедшего поезда вышел среднего роста молодой человек, с усталым, грустным, отражавшим одновременно и физическую, и душевную муку, лицом. С ним не было никакого багажа; он держал в руках только один зонтик, да через плечо была перекинута дорожная сумочка. Ни саквояжа, ни чемодана, ни чего-либо такого, что обыкновенно берут с собой в дорогу путешественники, с ним не было.
Выйдя из вагона, он с положительно беспомощным видом оглянулся по сторонам.
– Если вам нужен ночлег, – подошел к нему кельнер, – то мы можем предложить вам…
Приезжий словно обрадовался.
– Да, да! пожалуйста! – торопливо и отрывисто сказал он. – Вы говорите по-русски?
– О да! здесь это необходимо, – пожал плечами кельнер, – на Иматре бывает столько русских… Прошу вас! Коляска ожидает у схода с платформы… У нас туристам предоставляются все удобства…
– Ваша гостиница далеко? – как будто испуганно спросил приезжий.
– О нет! Всего несколько шагов… Наш отель – ближайший к станции.
– Тогда не нужно экипажа. Я хотел бы пройти к водопаду сейчас же. Далеко до него?
– Прислушайтесь! – улыбаясь, ответил кельнер.
До станции ясно доносился какой-то грохот. Словно сотни паровых машин были пущены в ход на колоссальной фабрике. Их стук обращался в один немолчный гул, издали похожий на отчаянный рев скрытого где-то недалеко гигантского чудовища.
– Это водопад? – спросил приезжий.
– О да! Мы здесь привыкли к нему, и нам этот шум не мешает… Но приезжающие в первый раз, в особенности дамы, всегда не то чтобы пугаются, нет, но все-таки Иматра действует на их нервы.
Эти слова кельнер говорил уже на ходу. Приезжий покорно шел за ним. Без возражений сел он в небольшую колясочку. Сытая лошадка легко взяла с места.
Кельнер пошел рядом.
Гостиница, действительно, была очень недалеко – всего несколько шагов от вокзала. Не стоило бы и садиться в экипаж, особенно путешествующему без багажа.
Минуты через три лошадь уже стала у двухэтажного деревянного домика с большой, выходившей в густой сад верандой.
– Прошу вас взглянуть на комнату! – пригласил кельнер, приоткрывая входную дверь на крыльцо.
Приезжий вошел.
Из зала и веранды доносились смех и голоса.
– У вас много туристов? – спросил он.
– Нет, начало лета очень плохое, – ответил кельнер. – Но прошу вас взглянуть на комнату!
– Мне все равно, отведите какую хотите, – последовал ответ, – я пройду к водопаду…
– В таком случае один вопрос. Вы намерены пробыть у нас несколько дней?
– Я, вернее всего, уеду завтра… С которым поездом – не знаю.
Кельнер удивленно взглянул на гостя.
– Разве вы не пожелаете взглянуть на Малую Иматру? – спросил он. – Малая Иматра также красива.
Приезжий как будто смешался.
– Не знаю… нет! – заговорил он. – Впрочем, может быть… Посмотрю.
– Все туристы посещают непременно обе наши Иматры, – наставительно сказал слуга, и, указывая жестом на книгу записей прибывающих, лежавшую на столе под двумя ярко горевшими лампами, освещавшими также зеркало, сказал:
– Покорно прошу вас расписаться…
– В чем? – растерянно спросил приезжий.
– Ваше имя, отчество, фамилия, откуда изволили прибыть…
– Неужели это необходимо?
– Да. Этого требуют полицейские правила. Запись в книгу избавляет туриста от некоторых других формальностей. Покорно прошу вас.
Сказано это было так настоятельно, что только и оставалось, как повиноваться. Приезжий наклонился над книгой, взял перо и, как бы в раздумье начал вертеть его в руках. Кельнер пристально смотрел в зеркало, где отражалось бледное, истомленное лицо незнакомца с глубоко запавшими глазами, заострившимся носом и скулами, как будто готовыми прорвать желтую, воскового оттенка кожу на лице.
Через плечо незнакомца кельнер увидел, как тот после раздумья отчетливо вывел в записной книге: „Алексей Николаевич Кудринский, из Петербурга“.
– Вот и все, – улыбнулся кельнер, – угодно посмотреть комнату? Мы отведем вам номер три, окна в сад. Две с половиной марки: постельное белье, свечи, наша прислуга… Позволите оставить за вами?
– Да, да, пожалуйста… Но я все-таки пройду к водопаду, укажите мне, как пройти…
– Это недалеко. Вам нужно идти все по шоссейной дороге, свернуть влево, потом прямо: вы тогда выйдете к мосту через Вуоксу, там Иматра. Заказать на ужин не желаете-ли чего?
– Мне все равно… Приготовьте чай…
Кельнер поклонился.
– Номер вашей комнаты третий, – сказал он уже вслед уходившему Кудринскому, – мы вас будем ожидать. Звонить не нужно: мы обыкновенно ожидаем, пока соберутся все наши гости.
Кудринского уже не было. Кельнер пожал плечами, еще раз посмотрел на запись в книге, покачал головой и отправился к хозяину с докладом о поразившем его внимание туристе.
Между тем Кудринский шел указанной ему дорогой. Было уже одиннадцать часов, но северная белая ночь, опустившаяся над этим клочком земли, не скрыла его в этом белесоватом полумраке.
Шоссе, по которому шел Алексей Николаевич, было широкое, гладко утрамбованное, чисто выметенное. От пешеходной дороги оно отделялось длинным рядом невысоких, окрашенных белой краской столбов. Ряд чистеньких, с мезонинами, домиков легкой постройки, окруженных небольшими, аккуратно рассаженными садиками, уже был погружен в ночное безмолвие. Весь поселок был объят первым сном, только неутомимый водопад-чудовище ревел, да где-то неподалеку заливался певец белых ночей соловей.
Кудринский шел очень медленно, едва-едва передвигая ноги. Пройдя несколько сажен, он останавливался и отдыхал. Тяжелое дыхание вырывалось тогда с легким хрипом из его груди. Отдохнув, он снова начинал шагать…
Рев водопада все приближался и приближался, теперь уже отчетливо слышались в нем стук и грохот сотен гигантских машин, работавших с неимоверной скоростью. Шоссе круто завернуло влево, обходя засаженную высокими деревьями поляну. Затем, извернувшись новою излучиною, шоссе шло, вытянувшись совсем прямо, к высокому мосту, сгорбившемуся над какой-то, еще невидимой, пропастью.
Иматра теперь уже чувствовалась, хотя ее еще не было видно. Мозглый, сырой холод разливался в воздухе, побеждая ароматную теплоту летней ночи. Сырость какая-то, совсем особенная, пробиралась к живому телу, проникала через поры под кожу, мозглила мышцы, мускулы, даже кости, вызывая неприятную дрожь… Весь воздух здесь был напоен ею, и казалось, что даже в самые знойные дни этот мозглый холод мог уничтожить жар раскаленного солнца, вызывая такую же невольную, физически неприятную дрожь.
Взойдя на мост, Алексей Николаевич обернулся направо, вверх по течению Вуоксы: под его ногами бешено неслись белые облака водяных клубов. Вдали было покойно, виднелась обыкновенная река с сильным течением, ближе к мосту волны входили в береговые теснины. Здесь Вуокса падала вниз с уступа и мчалась вперед с головокружительной быстротой. Вплоть до моста, словно белый покров был наброшен рукою какого-то титана на всю эту мчавшуюся водную массу. Здесь Вуокса все-таки не была еще узка, и берега не сильно стискивали ее в своих холодных объятиях. То тут, то там на белом покрове, будто глаза этого ревущего чудовища, чернели камни. Мчавшиеся волны с безумной яростью кидались на них, но в тот же миг отскакивали назад, разбившись, обдав всю поверхность облаками водяной пыли и, поглощаемые настигавшими волнами, смешавшись с ними, снова кидались на камни и снова с грохотом, стоном, безумным хохотом и визгом разбивались о них и побежденные в неравной борьбе, с позором отступали и обтекали неприступный утес тысячами журчащих струй.
Кудринский стоял и смотрел как очарованный на эту неистово-живую массу. Он чувствовал, что не может оторвать глаз от дикой картины. Его трясла лихорадка, мозглая сырость проникла до самых костей. Кудринский трясся всем телом, но не уходил: его ноги словно приросли к доскам моста, и он весь ушел в созерцание.
Да, перед ним была жизнь, титанически бессмысленная жизнь, в этом бессмысленно-быстром движении чувствовалась величайшая неразумная сила, необузданная еще человеческим разумом. Она была всесокрушающая, но человек все-таки не боялся ее: на левом берегу, над мостом, почти на обрыве, у самых безумно мчавшихся волн, стояла маленькая избушка, очевидно, мостового сторожа. Он, уже старик, жил со своею женою там, среди этого непрерывного адского грохота.
Несколько раз выходили они – Кудринский замечал это, – но на водопад ни тот, ни другая, не обращали никакого внимания: он не существовал для них – они к нему привыкли. Никакой прелести не подмечал их взгляд в этой дикой картине, грохот водопада не мешал им разговаривать, смеяться, жить, как живут тысячи тысяч человеческих существ.
Вид подобной жизни, по соседству с жизнью совсем иною, привел в себя Алексея Николаевича. Очарование на мгновение исчезло, он встряхнулся и повернулся спиной к Иматре. Тогда с левой стороны моста он увидел перед собой такую же, но более узкую белую ленту, мчавшуюся вперед с еще более бешеной скоростью, чем та, на которую он только что смотрел в своем неподдельном восторге.
Он перешел на другую сторону моста и взглянул вниз с высоты. Сперва его ничего не поразило: внизу, у него под ногами, только клубилась сплошная белая пена. Вуокса за мостом сдавливала водопад: она здесь уже была шириной с обыкновенный проток, канал, но вовсе не река. Берега ее поднимались здесь над уровнем воды значительно выше и казались искусственно сложенными чьими-то гигантскими руками. Мелкие базальтовые глыбы лежали довольно правильно, образовывая высокие, красноватые, словно кирпичные, стены. Расщелины между скалами-кирпичами запорошены были черной землей, местами поросшей мхом. Чернота и прозелень казались жилами и мускулами на чьем-то огромном, гигантском теле без рук, без ног, без головы, но все же живом теле. Во все стороны из жил-расщелин – и прямо, и вкось, и вкривь – торчали жидкие сосны, поросшие только сверху ветвями. Чудовище словно ощетинилось ими, а некоторые деревья склонялись совсем к белой ленте водопада и только-только не падали в нее. Тут уже чувствовалась дикость и глушь: всякая живая жизнь только испортила бы общее впечатление этой картины.
К сожалению, кинув взгляд на кипящие перед мостом волны, Алексей Николаевич пошел с моста обратно. Шел он уверенной походкой, как бы прекрасно зная месторасположение водопада и его берегов.
Спустившись с моста, он подошел к калитке, от которой по откосу, почти отвесному, спускалась вглубь, на самый берег крутая деревянная лестница. Приотворив калитку, Кудринский на мгновение остановился, тень промелькнула по его лицу, губы как-то странно дрогнули, словно какое-то волнение внезапно овладело им. Он снял шляпу, отер выступивший, несмотря на холод, пот на лбу и тяжело-тяжело вздохнул…
– Да, нужно… неизбежно! – совсем тихо прошептал он. – Тут ад кромешный… в ад… из ада в ад!…
Победив внезапное волнение, он ровным, твердым шагом спустился с лестницы, даже не держась за ее перильца, и смело подошел к краю водопада. Иматра встретила его здесь оглушительным ревом: снизу она была совсем не тем, чем казалась с моста.
Вблизи это дикое чудовище чувствовалось еще более: сдавленное берегами оно будто рвалось из их гранитных объятий. Здесь была уже не белая пелена водяных брызг и пены, здесь Иматра являлась во всей своей дикой красоте. Масса воды остервенело неслась на левый берег, вслед ей катилась, ревя и визжа, новая масса. Первая, с размаха ударившись о скалы, со стоном отскакивала от них и сверху обрушивалась на догонявших. Начиналась дикая борьба!
Отступавшие и погоня – сплетались в один огромный клубок, стараясь взаимно преодолеть стремление друг друга. Никто из них не успевал победить. На борющихся с трепетом налетала третья, отбитая от правого берега водяная масса, поднимала их, бросала со страшной силой о правый берег. Там все три разбивались снова и с отчаянным стоном жались к правому берегу, будто жалуясь ему и ища защиты. Но там опять ждало их новое поражение. Удар – и миллиарды брызг рассыпались, отбитые от правого берега отчаянные безумцы, и погибали бесследно в новых массах, с новым остервенением кидавшихся то вправо, то влево, бессмысленно боровшихся друг с другом и погибавших все в новых и новых волнах…
Кудринский шел по берегу, не отрывая глаз от крутящихся и пенящихся волн. Иногда ему казалось, что водяные массы принимают вполне определенные формы. Вдруг под белой пеленой появлялась образовавшаяся из брызг и пены гигантская голова старика с длинной бородой, седой и развивавшейся. Видны были, или, вернее, чувствовались глубоко запавшие глаза под густыми нависшими бровями, заостренный нос и полуоткрытые губы со скрывавшимися за ними клыками. Словно дух водяной поднял свою голову, чтобы поглядеть на дикую работу своих рабов-волн. Миг – голова исчезала, все перемешивалось, переплеталось, пена поднимала туманную завесу в клубах, и когда она ниспадала, вырисовывалась то дикая дева, то могучий конь, то водяной. И масса звуков, иногда стройных и осмысленных – пение, ясный стон, хохот, вопль – сопровождали эти призраки, выраставшие из хаоса, чтобы сейчас же, менее чем через мгновение снова погибнуть в нем…
На обоих берегах было безлюдно-тихо. Гул водопада заглушал шелест сосен. Никого не было видно: ночь уже наступила, и все живое спало крепким, сладким первым сном.
Алексей Николаевич дважды прошел по берегу до того места, где Иматра заметно успокаивалась. Вуокса там текла уже сравнительно тихо, змеясь только отдельными струями, крутившимися лишь в одиночку, но не сливавшимися и не вступавшими между собой в безумную борьбу.
Пройдя дважды путь, в третий раз Кудринский остановился на середине его, склонившись над деревянным парапетом, выдвигавшимся далеко вперед над самой кипенью бесновавшихся водных масс.
Голова молодого человека кружилась от этого неистового, дикого движения. Непреодолимая мощная сила тянула его за парапет. Ревущее чудовище открывало ему свои объятия. А белая летняя ночь своим нежащим сумраком окутывала и бешеный водопад, и уныло торчащие скалы, и сосны на них, и этого одинокого, склонившегося над ним человека…
Глава 2
Слуга, привезший в гостиницу Кудринского, спать не ложился. Новый постоялец, уходя к водопаду, сунул ему в руку столь щедрую подачку, что даже привыкший к обильным чаевым финн почувствовал к этому русскому необыкновенное почтение и решил дождаться, пока он вернется со своей прогулки.
Он прикорнул на деревянном диване в передней и забылся чутким сном, каким обыкновенно засыпают люди, спящие лишь урывками – только тогда, когда это бывает возможным.
Хлопанье калитки прервало его забытье. Слуга встрепенулся, но дремота все еще владела им, так что он еле-еле мог разомкнуть глаза.
В полусумраке передней вырисовывалась перед ним мужская фигура, стоявшая в самых дверях.
– Пожалуйста, я дожидался вас… – засуетился кельнер, – ключ от третьего номера у меня. Я провожу.
– Не нужно! – послышался ответ. – Могу я сейчас нанять лошадь?
Кельнер с большим недоумением поглядел на говорившего. Голос ему показался несколько иным. Звуки его были тверды, тогда как слуга ясно помнил, что тон голоса гостя, принятого им с вокзала, был дрожащий, болезненный. Однако мысль о том, что голос не тот, промелькнула и исчезла в одно мгновение: кельнер ощутил в руке крупную монету.
– Я хочу видеть Малую Иматру на восходе солнца, – не допускающим возражений голосом продолжал гость, – а поэтому должен отправиться немедленно…
– Но так поздно!… – пробормотал слуга.
– Что ж такое? Я заплачу, – было ответом.
– Не знаю, попробую…
– Не „не знаю, попробую“, а разбудите вашего кучера и как можно скорее подайте экипаж.
Новая монета, подтвердившая это решительное приказание, подействовала, наконец.
– Хотя это и трудно, почти невозможно, – отвечал, кланяясь, кельнер, – но я постараюсь.
– А я заплачу вдвое, втрое, черт возьми! – воскликнул гость. – Да идите же вы…
– А вы где изволите быть?
– Я подожду в саду…
Кельнер побежал исполнять неожиданное приказание. Подачка, как всюду в мире, так и здесь, действовала магически. И десяти минут не прошло, как запряженный в одну лошадь экипаж был уже подан. Заспанный, зевающий во весь рот кучер, поднятый со сна ожиданием щедрейших чаевых, вертелся на козлах, дожидаясь, когда сядет нежданный ночной пассажир.
А тот ожидал в саду, опершись головой о ладонь правой руки, локоть которой опирался на садовый столик. Поза эта изобличала состояние крайней задумчивости, в которую погружен был этот человек. Только появление кельнера привело его и себя.
– Экипаж подан! – доложил тот.
– А, хорошо! – последовал быстрый ответ. – Сколько я вам должен?
Слуга замялся.
„Совсем будто другой стал этот турист! – даже плечами пожал, думая про себя, кельнер. – Тот мямлил, а этот…“
– Ну, в чем дело?
– Я не знаю, как нам считать за комнату.
– Что еще? Почему не знаете?
– Вы изволили занять помещение, но не воспользовались им!…
– Это уж мое дело! За помещение я заплачу… Вот, довольно вам за все?
С этими словами говоривший протянул крупную финскую ассигнацию.
– Помилуйте, вам следует сдача! – засуетился слуга, увидав деньги.
– Разделите с вашим кучером… Итак, я еду… Может быть, вернусь к вам, может быть, прямо по железной дороге возвращусь в Петербург. Прощайте!
Он легко вскочил в одноколку.
– Еще, прошу извинения, всего только одно слово, – остановил его слуга.
– Что такое?
– Я позабыл вашу фамилию, имя и отчество… Чтобы отметить по книге, мне нужно вспомнить их.
– А! Меня зовут Алексей Николаевич Кудринский! Слышите: Алексей Николаевич, по фамилии Кудринский, из Петербурга. Запомнили? Ну, пошел!
Кучер, видевший, с какой щедростью Кудринский давал на „чай“, пробудился совсем и живо тронул лошадь. Одноколка задребезжала колесами по шоссе.
Слуга остался на крыльце и долго смотрел вслед удалявшимся. Видимо, какая-то мысль беспокоила его. Он не смог, впрочем, разобраться в своих впечатлениях и, наконец, энергично махнул рукой в ту сторону, где за поворотом шоссе скрылся экипаж.
– Фамилия и имя те самые, которые записаны, – пробормотал он, – какое мне дело о чем-либо думать? Разве я не получил более, чем следует? Почаще бы таких гостей! Пойду, задремлю немного, а то всем нам скоро подниматься придется…
Он побрел внутрь гостиницы, и скоро приют туристов погрузился в тихий сон.
Однако тишина продолжалась очень недолго. Первые лучи восходящего солнца застали всех в гостинице, кроме, конечно, гостей-туристов, уже на ногах.
Закипела обычная повседневная жизнь!
В каморке под лестницей мальчишка-прислужник начищал сапоги немногих постояльцев. Проснулись горничные. Зевая и потягиваясь, они набирали воду в кувшины, чтобы разнести их по первому требованию по номерам. Изредка уже раздавались звонки, призывавшие прислугу.
Словом, день начинался так же, как начинался он вчера, третьего дня, неделю, месяц, год тому назад.
Позднее всех поднялся Иоганн Ивинен, тот кельнер, который накануне чуть не до половины ночи провозился с приезжим, выказавшим столь эксцентрично свой восторг пред красотами Иматры. Он поднялся в тот день с трудом. Голова его болела и была тяжела, как свинцом налитая. Почему-то – Ивинен и сам не мог понять, – вчерашний гость не выходил у него из головы, и первым же вопросом Иоганна, как только им пошел к своим товарищам, было:
– Карл Ситонен возвратился?
Ситонен был конюх, уехавший с ночным гостем на Малую Иматру.
– Нет еще, – отвечали Ивинен, – это ты его услал?
– Да, очень щедрый гость… Карл, вероятно, будет рад!
– А ты, Иоганн?
– Я получил все, что мне следовало, – наставительно отвечал он.
Более его не беспокоили расспросами: он и то уже разговорился больше, чем всегда. Все товарищи Ивенена знали, что он не скуп на слова только с хозяином, да и с наиболее щедрыми прибывающими туристами.
Ивинен несколько раз повторил в это утро свой вопрос о Карле. Он не беспокоился за него, но нельзя сказать, чтобы любопытство не мучило его. На его взгляд, с ночным гостем произошла необъяснимая, странная метаморфоза. Не мог же поздороветь и окрепнуть человек за два-три часа, проведенных над Иматрой. Бесспорно, красив этот уголок, производит он чарующее впечатление, но этого слишком мало, чтобы почти моментально восстанавливалось здоровье болезненных людей, а из расслабленных, еле передвигающих ноги они превращались бы в бодрых, веселых, настойчиво-жизнерадостных.
Озадаченный Ивинен только головой покачивал. Он и сам не находил ключа к загадке, а между тем он был налицо.
Наконец Ситонен вернулся. По его лицу, на котором так и расползалась довольная улыбка, Ивинен понял еще прежде, чем тот успел сказать ему хотя одно слово, что ночная поездка на Малую Иматру была более чем удачной для Карла.
– Отвез? – очутился около Карла Ивинен, раньше, чем тот успел соскочить с одноколки.
Карл утвердительно кивнул головой.
– Не заметил ли ты чего-нибудь? – последовал вопрос.
– О да, заметил! – отвечал Карл, подводя лошадь и экипаж под навес конюшенного сарая.
– Что заметил?
– Что нам совсем не следует заниматься политикой… Родина – великая мать, но когда эти русские так щедры, как никто в мире, то и великой матери-родине, и ее бедным сынам очень хорошо!
Ивинен досадливо махнул рукой.
– Я не о том тебя спрашиваю, Карл, – воскликнул он, – ты скажи мне, не заметил ли ты чего особенного в этом твоем пассажире, которого ты отвозил на Малую Иматру.
– Я заметил десять марок, потом еще пять марок, которые принадлежали русскому, отвезенному мною на Малую Иматру, а теперь стали моими. Скажи мне, Иоганн, были ли у тебя туристы, даже из соотечественников, более щедрые, чем этот русский господин?
Очевидно, ничего более нельзя было добиться от парня, восхищенного щедростью ночного гостя.
– Что делал твой пассажир, когда ты привез его на Малую Иматру? – переменил систему вопросов Ивинен.
– Он там любовался водопадом, когда его осветили лучи солнца.
– А потом?
– Потом он мне сказал: „Вот вам пять марок, приобретите на них себе всякого удовольствия. Отвезите меня на Вуоксениску на Сайменском озере, и возвращайтесь к себе домой, а я вернусь по железной дороге“.
– Стало быть, он отпустил тебя?
– Да, иначе бы я не был так скоро здесь.
– А сам остался там?
– Остался там! – как эхо, повторил Ситонен и, закурив трубку, принялся распрягать лошадь.
Иоганн задумчиво покачал начавшей седеть головой.
Какие-то смутные, странные подозрения закрадывались в его душу. Щедрость, доброта для него вовсе не были нормальным явлением. Если совершенно незнакомому человеку дают большие деньги, стало быть, дают за что-нибудь. Даром раздавать из своего кармана направо и налево никто не будет. А может быть, за то, что дали теперь, после потребуют столько, что исполнение потребованного окажется совсем невыгодным, – тогда что? Конечно, теперь отказываться от полученного уже поздно. Нужно только иметь в виду все эти обстоятельства и заранее обдумать их. Так рассуждал Ивинен.
Когда стрелки на стенных часах приблизились к восьми, Иоганн оставил работу и быстро натянул свой выходной сюртук с прошивками и позументом.
– Куда это? – спросил его управляющий, заметив, что Ивинен направляется к выходу.
– На вокзал! – ответил тот.
Когда Ивинен явился на станционную платформу, поезд уже приближался. Иоганн стал в таком месте, с которого ему можно было видеть все вагоны. Поезд был невелик – всего четыре вагона, включая и багажный. Когда он промчался мимо Ивинена, тот заметил, что он был пустой.
– Никого, кажется? – спросил Иоганн у заспанного обер-кондуктора, когда тот шел с рапортом к дежурному по станции.
– Кто же оттуда бывает? – пожал тот плечами. Разговаривать было некогда. Ивинен, однако, не успокоился и прошел по всем вагонам. Они были пусты. Когда он сошел с последнего вагона на платформу, ему встретился один из кондукторов.
– Послушай! – остановил его Иоганн. – Ты не заметил на Вуоксениске туристов?
– Нет, – было ответом. – Впрочем, погоди. Сегодня ночью отсюда приехал кто-то! Да! Чего ты спрашиваешь? Ваш же Карл Ситонен его привез.
– Я потому и спрашиваю. Он обещал вернуться сюда с вашим поездом.
– А что? Разве он вам не заплатил?
– Нет, заплатил за все и очень щедро.
– Так чего же тебе заботиться о нем?
– Я сказал, что он заплатил щедро, и пробыл бы у нас дольше.
Дребезжащий свисток обера прервал их беседу. Разговаривавший с Ивиненом кондуктор вскочил на площадку вагона и крикнул, когда поезд уже тронулся.
– Твой турист, Иоганн, к тебе не вернется. Он отправляется в Выборг по шлюзам. Я это знаю. Прощай пока!
Последние слова донеслись уже издали – поезд успел отойти. Ивинен еще с минуту постоял на платформе и, покачав в раздумье головой, побрел обратно к себе в гостиницу.
Там только и разговоров было, что о щедром ночном госте.
На Ивинена, как только он появился, кинулись со всевозможными расспросами. Однако он не особенно охотно отвечал на них, предпочитая отмалчиваться до поры до времени. Зато Карл Ситонен просто удержу не знал. Он подробно описывал внешность щедрого гостя, его физиономию, костюм, манеры. Ивинен, угрюмо молчавший сам, чутко прислушивался к болтовне приятеля, взглядывая на него исподлобья. Какое-то непонятное ему самому удивление росло в его душе. Он слушал Карла и положительно не верил своим ушам.
– Ты его сам видел? – наконец не выдержал он. Карл с изумлением взглянул на товарища.
– Кого – его? – спросил он.
– Этого русского туриста!
– Да что ты! – засмеялся Ситонен. – Ведь ты сам же отправлял меня с ним.
– Мало ли что отправлял! На свете в наше время все может быть. Поехал с одним, приехал с другим… Что же тут особенного!
– Ну, уж ты… Что же, его подменили, что ли?
Ивинен пожал плечами.
– Не знаю, – сказал он, – говорю, на свете в наше время все может быть.
Снова жизнь вошла в свое обычное русло. Толки о щедром русском хотя и продолжались, но уже не с такою горячностью.
Утро наступившего дня прошло у товарищей Ивинена в больших хлопотах. Приближался полдень. Иоганн почистился, переоделся и собрался на вокзал к поезду, приходившему около этого времени из Выборга. Карл заложил уже свой экипаж и готов был поехать, как только выйдет из гостиницы Иоганн. Наконец тот покончил со своими сборами и вышел на улицу. Оба финна добрались до вокзала, как всегда, молча. О чем им было разговаривать, когда все уже было давным-давно переговорено? Ивинен с обычным своим бесстрастным видом вошел на платформу и начал расхаживать по ней. Вдруг он заметил, что все на станции – и ее начальник, и агенты, и жандарм, и дежурный полицейский – засуетились, заволновались, забегали как-то совсем особенно, так, как они не суматошились никогда, даже перед приходом поездов с особенно важными лицами. Задумавшийся Ивинен сначала не обратил никакого внимания на эту суматоху, не имевшую, казалось, никаких видимых причин. Мало ли от чего суматошатся люди? Только крик Карла заставил Ивинена вздрогнуть и обернуться.
– Иоганн, – кричал Ситонен, – слушай! Где твои уши! Поди сюда скорее…
Ивинен лениво подошел к приятелю.
– Что еще? – спросил он.
– Как что! Разве ты не слыхал? – указал кнутом Карл на платформу. – Водопад выбросил тело…
Иоганн так и присел от такой неожиданной вести.
– Как? Тело? – восклицал он, не понимая в чем дело. – Какое? Чье?
– Ну вот! Чье! Тело человека, труп… Да ты отчего так побледнел? Смотри, поезд идет…
Ивинен кинулся на платформу. На прибывшем поезде оказались гости. Что говорил им Иоганн, он и сам не понимал в эти минуты. Вероятно, с языка у него срывались обычные заученные фразы, но мысли его были далеко.
„Тело, труп, наш гость, так быстро выздоровевший! – отрывочно думал он. – Да что же это такое! Да как это может быть?… Что же мне делать теперь?“
Последний вопрос всего более волновал Ивинена. Внутренний голос ему подсказывал, что он должен непременно рассказать о своих подозрениях, но в то же время осторожность и боязнь впутаться не в свое дело удерживали его…
Устроив своих новых постояльцев, он сейчас же отпросился у управляющего и опрометью бросился к тому месту, где собралось уже все население местечка. Труп был выброшен Иматрой на правый берег, как раз у того места, где адское стремление водопада как будто несколько стихает. Он лежал на глыбах прибрежных камней. Это была бесформенная масса изломанных, перемолотых костей, обескровленных и измочаленных мускулов, изорванной в лохмотья одежды. Иматра сделала свое адское дело. Ничего человеческого не было в этой бледно-кровавой груде останков недавно живого существа. Кругом стояли люди, смотрели молча, и каждый ясно понимал, что никогда никому не удастся узнать, что произошло в эту ночь – преступление или несчастная случайность…
Глава 3
Курьерский поезд Николаевской железной дороги со свистом, шипением и грохотом несся по стальному полотну. До Петербурга оставалось совсем недалеко – поезд подходил к Любани. Пассажиры в вагонах несколько оживились: станция была с буфетом, можно было выпить чаю, пройтись по дебаркадеру.
В одном купе было двое пассажиров: характерной наружности старик и молоденькая девушка. Старик был высок ростом и неуклюж фигурой. Плечи его вздымались почти в уровень с шеей, грудь была высока, длинные руки заканчивались огромными кистями с толстыми, короткими, словно обрубленными, пальцами, туловище тоже было массивно, а ноги коротки и походили на обрубки бревен. Глаза были маленькие, бесцветные, бегающие, нос и рот мясисто-крупны, щеки припухло-отвислы, и на одной из них красовался старый, давно уже зарубцевавшийся шрам, шедший через всю щеку, от уха до угла рта.
Между тем в фигуре старика все-таки было что-то привлекательное, притягивающее. Это была необыкновенная физическая мощь, которой дышало все его существо, непреодолимая энергия, могучая воля, но вместе с тем и полнейшее добродушие, которое так свойственно всем действительно сильным людям.
Молоденькая спутница старика была его дочерью. Фигура ее, правда, была стройна и изящна, но сходство между нею и стариком сказывалось в чертах ее лица. Они не были так размашисто крупны, напротив того, правильны и гармоничны; но все-таки это были те же самые черты, какие примечались и в старике. Даже выражение непреклонной воли и несокрушимой энергии было у них общее, хотя у девушки это выражалось мягко.
Оба они были одеты довольно просто, но в этой простоте крылось нечто, говорящее о том, что эти люди могли бы окружить себя всякой роскошью, какая только доступна их воображению. Поезд подошел к станции.
– Папа, я выпила бы чаю! – сказала молодая девушка, приподнимаясь с дивана.
– Так что же? И я не прочь, сейчас позову слугу, – отозвался старик.
– Нет, папа, я хочу пройтись, утро так хорошо.
– Тогда выйдем, – согласился старик.
Он последовал за дочерью. Дверь в купе осталась не притворенной.
Купе справа и слева от того, где были отец с дочерью, также были заняты. Старик, проходя, заглянул в попавшееся на пути. Там были двое – мужчина и женщина. Они, очевидно, не предполагали выходить на этой станции. Оба эти пассажира внимательно посмотрели на проходящих и даже переглянулись между собой.
Появление старика с дочерью на перроне вызвало некоторое волнение. Пред ним как-то особенно почтительно расступалось краснофуражечное начальство. Высокий, одутловатый, с физиономией отставного тапера железнодорожник даже сделал руки по швам, когда мимо, даже не замечая его усердной почтительности, прошел старик, направлявшийся в зал ожидания первого класса.
– Знаете вы, кто это? – склонился отставной тапер к своему помощнику, кивая в сторону старика и девушки.
– Нет, а кто?
– Никогда не угадаете… Простота, чуть не беднота, а между тем…
– Да кто же это? Вы меня, Виктор Павлович, положительно интригуете.
– Так знайте же, это Егор Павлович Воробьев, а девица – его дочь, Марья Егоровна.
– Да кто же это такие? Право, не знаю! Воробьевых много – и до Москвы не перевешаешь, – грубо сострил тот.
Виктор Павлович с сожалением посмотрел на него.
– Вы не слыхали ничего о Воробьеве, сибирско-китайском Воробьеве! – воскликнул он. – Егор Павлович Воробьев, это – русский набоб! Знаете вы, что такое набоб? Это… это!… Меня уведомили, мне писали, что он приедет.
Подошедший с рапортом старший обер-кондуктор прервал разъяснения краснофуражечника.
– Я вам после, на свободе все это разъясню, – крикнул он, прислушиваясь в то же время одним ухом к докладу обера.
Между тем Воробьев с дочерью уже выпили чаю и вышли из зала на перрон.
– Через полтора часа, Маша, – сказал дочери Воробьев, – мы в Петербурге. Я уверен, что он нас встретит…
Тень не то грусти, не то какого-то сожаления набежала на лицо девушки.
– Странное положение, папа, – сказала она, – ты согласишься с этим. Мы едем из-за тридевяти земель в тридесятое государство, и зачем? Ты едешь, чтобы выдать меня замуж, я еду, чтобы выйти замуж. И за кого? За человека, которого я не знаю, которого я никогда не видала, которого я и теперь, скорее всего, не увижу.
Егор Павлович тяжело вздохнул.
– Так нужно, дочка, – сказал он.
– Ты уже это говорил мне не раз, но никогда не разъяснял, зачем именно так нужно.
– Будет время, Маша, узнаешь все.
– Да, ты это обещал. Но кто поручится, что я, когда узнаю причины этого твоего „так нужно“, не найду их пустяшными, ничтожными, а жизнь моя будет уже разбита? Думал ли ты когда-нибудь, папа, что я не кого иного, а тебя буду считать виновником этого.
– Так нужно, дочка, так нужно! – повторил он.
– Папа, нам пора в вагон, – не отвечая ему, произнесла Марья Егоровна и взяла отца под руку.
Они вошли в вагон, где Марья Егоровна продолжала расспрашивать про своего суженого Алексея Николаевича Кудринского. Однако Егор Павлович сказал ей лишь то, что будущий муж ее человек несколько болезненный, возможно, даже болен чахоткой.
Между тем поезд мчался с такой быстротой, что ветер, врываясь в открытое окно, трепал густые седые волосы старика. Дочь встала и положила руку на плечо отца. Тот не шелохнулся. Прошло еще несколько мгновений. Вдруг в купе среди тишины, нарушаемой только грохотом мчавшегося поезда, раздался тонкий, но резкий свист, похожий на звук, который слышится, когда острою тонкою иглой проводят по гладко отполированному стеклу. Воробьев, услыхав его, весь задрожал и побледнел, в широко раскрытых глазах отразились нескрываемое изумление и ужас.
– Что это? – воскликнул он. – Откуда, как она сюда могла попасть?
– Кто она, папа?
– Ты слышала этот свист?
– Слышала. Вероятно, это затормозилось какое-нибудь колесо… Что тут могло тебя удивить и даже, кажется, испугать?…
– Колесо… колесо! Нет, это свист живой, живого существа…
Марья Егоровна звонко рассмеялась.
– Тебе начинает чудиться, папа! – сказала она. – Мы в купе совершенно одни. Даже дверь на замке.
Старик огляделся мутным взором.
– Да, да! Ты права, – стараясь подавить свое волнение, прошептал он, – мы, действительно, одни. Мне показалось только… Проклятые нервы! Скорее бы! Но раньше ты ничего не слыхала?
– То есть, ты о чем говоришь, папа?
– Вот хотя бы такого свиста, какой только что я услыхал.
– Право, ничего, что привлекло мое внимание… Только ночью, когда я на минуту проснулась…
Она замолчала и теперь сама с некоторым испугом взглянула на отца. До слуха девушки ясно донеслось какое-то странное шипенье. Оно было слабо, и грохот колес заглушил его, но Марья Егоровна сама различила, что это было шипенье не пара, а какого-то живого существа. Она взглянула на отца. Егор Павлович был покоен, он не слыхал испугавшего его дочь шипенья.
„Не буду ему ничего говорить, – решила Марья Егоровна. – Он и так расстроен“.
– Ну, что же ты замолчала? – живо спросил Воробьев. – Что тебе послышалось, когда ты проснулась?
– Мне показалось, будто я слышу лязг пилы… как будто кто-то где-то около нас что-то пилит…
– Отчего же ты не разбудила меня тотчас?
– Ты спал так крепко, да потом я сама думала, что все это мне пригрезилось спросонья. В самом деле, это было в дремоте. Кому же ночью нужно в поезде пилить что-нибудь?
Егор Павлович, не говоря ни слова, встал и, подойдя к двери, громко позвал кондуктора.
– Пожалуйста, осмотрите это купе! Здесь, кажется, что-то не в порядке!
Кондуктор с удивлением взглянул на бледное лицо пассажира.
– Не извольте беспокоиться, – пробормотал он, – какой же может быть беспорядок!
– Все-таки осмотрите, я прошу, я требую! – Голос старика звучал и раздражительностью, и тревогою.
– Ничего нет! – отозвался кондуктор.
– Под диванами… Прошу повнимательнее. Зажгите свечку! – распоряжался Воробьев.
Кондуктор опустился на колени и чиркнул спичкой.
– Извольте сами взглянуть, ничего, – сказал он.
Воробьев наклонился, поглядел под оба дивана и вздохнул с облегчением.
– Да, действительно, ничего… Мне все показалось, – пробормотал он, суя в руку кондуктора какую-то мелочь.
Дочь во все время этого осмотра с тревогой следила за выражением его лица.
„Как он растревожен! Как напряжены его нервы! – думала она. – Милый, дорогой папа! Он один во всем мире у меня… один… один… А я еще его тревожу своими расспросами… Нет, пусть он ничего не говорит. Все равно, пусть будет, что будет. Исполню все, что он пожелает. Что же? Буду женою этого Кудринского… Может быть, он неплохой человек…“
Она с нежной любовью смотрела на отца. Егор Павлович просветлел лицом. Осмотр купе подействовал на него успокоительно, и волнение его улеглось. Он вынул портсигар, достал сигару и старательно раскурил ее. Потом поглядел на часы.
– Нам еще около часу езды, Маша, – сказал он, – знаешь, что?
– Что, папа?
– Я думаю, что ты права… Я не могу требовать от тебя жертвы, не сообщив тебе, на что она нужна.
Глаза Марьи Егоровны вспыхнули радостным огоньком.
– Наконец-то, папа! – воскликнула она. – Ты решился сказать мне все?
– Все, Маша, все. Мне тяжело говорить, но лучше покончить разом все эти волнения. Ты опять права, я должен облегчить свою душу… Слушай же, дочь, слушай!
Он пыхнул сигарой. Поезд в это время мчался мимо станции. Воробьев ожидал, пока опять не замелькают перед ним тощие деревья и голые безлесные равнины.
Глава 4
В несколько мгновений, пронесшихся вслед за словами отца, девушка словно восстановила в памяти все свое прошлое, с того момента, когда только она начала помнить себя.
Смутно, очень смутно рисовались ей в самом отдаленном прошлом какие-то беспредельные равнины, темные леса, река, бегущая в неведомую даль. Люди вокруг нее были тогда совсем не такие, каких она привыкла видеть после. Эти люди из ее дальнего прошлого были все низкорослы, лица их были скуласты, с узкими, словно искусственно проделанные щели, глазами, несколько приплюснутым носом и длинным, тоже словно прорезанным ртом. Все они были одеты в короткие юбки и кофты, а на голове носили тафтяные, круглые, без козырька шапочки с помпончиками.
Кожа этих людей была желта, и Маша тогда слышала, что их называли то китайцами, то татарами, то манчжурами.
Много хороших воспоминаний о себе оставили в душе девочки эти желтокожие узкоглазые люди. Маша живо помнила одного из них. Он был при ней вместо няньки. Это был еще молодой парень, но заботился он о ребенке, как самая нежная мать, как самая добрая, любящая детей женщина. Маша не помнила матери, а отцу не до нее было. Отец иногда пропадал по целым неделям, а иногда даже месяцам, и девочка оставалась исключительно на попечении добряка-китайца. Лучшей няни для нее и желать было нельзя. Узкоглазый „бой“ заменил ей своей любовью всякую любовь женщины. Маша всегда была и умыта, и одета, вовремя накормлена, напоена, вовремя уложена спать. Так на попечении этого „боя“ и прошло ее раннее детство.
Жил Воробьев с дочерью в степной деревушке. Маша живо помнила неуклюжие фанзы. Кругом были такие же точно желтолицые и узкоглазые люди, как и ее нянька. Все они были очень добры к ребенку, и девочка так привыкла к их доброте, что горько-горько рыдала, когда пришло время расстаться с ними.
Это время наступило совершенно неожиданно для нее. Однажды, после особенно долгой отлучки, явился отец. Он, по обыкновению, был угрюм и малоразговорчив. Все вокруг старались не попадаться лишний раз ему на глаза, одна только дочь нисколько не боялась этого всегда сумрачного человека. Маша знала, что отец страстно, нежно любит ее, и сама его любила. Она удивлялась, замечая, что все боятся его. Маша не знала, кто ее отец и почему к нему все относятся с таким почтительным страхом.
Маша помнила, как внезапно вернувшийся отец что-то сказал „бою“, тот заплакал, и девочка поняла, что китаец услышал новость для него очень неприятную. На другое утро, чуть свет, сонную девочку посадили на скрипящую и громыхающую колесами повозку и повезли. Нянька-„бой“ был с нею. Он был очень грустен и часто плакал, но Маша не понимала, что значат его слезы. Ей очень нравилось ехать по бесконечной равнине все вперед и вперед. В жизнь Маши ворвалось много совершенно новых впечатлений. Через степь они добрались до какого-то совсем непохожего на их деревушку поселения на берегу реки. Здесь девочка в первый раз увидала пароход. „Бой“-нянька тут простился с нею, и Маша никогда уже более не видала его с тех пор. Дальше она ехала с отцом, ехала по реке, потом на лошадях, потом по железной дороге – что это была железная дорога, Маша узнала много позднее, – и, наконец, приехала в большой город – Москву. Там девочка и осталась. Отец устроил ее в богатейший пансион, и Маша пробыла там до шестнадцати лет.
За все это время – более девяти лет – дочь видала отца три-четыре раза. Он появлялся как-то внезапно, когда его никто не ждал и ждать не мог, проводил неделю-другую с дочерью и опять скрывался на целые года. Но письма от него приходили часто. Все они дышали такой теплотой и любовью, что Маша сама проникалась нежным чувством к суровому, угрюмому человеку, который мог так задушевно писать ей из неведомого далека. В пансионе ей жилось хорошо. Ее не баловали, но относились к ней с таким предупредительным вниманием, как будто весь пансион существовал для нее одной. Другая бы на месте Маши избаловалась, стала капризной, но вместо этого в девушке только развилась врожденная самостоятельность. Отец застал шестнадцатилетнюю дочь смелой, энергичной, решительной, с трезвым взглядом на жизнь и людские взаимоотношения.
К тому времени Маша знала, что отец ее был очень богат. О нем говорили как о крупнейшем золотопромышленнике. Несколько раз Маше намекали, что богатство приобретено ее отцом не совсем честно, но, когда она начинала допытываться, что могут значить эти намеки, перед ней умолкали. Однако, когда появлялся отец, она видела, что все относились к нему с таким почтением, какого никому другому не оказывали. Поэтому девушка перестала обращать внимание на намеки и даже постаралась позабыть о них.
Когда ей пошел семнадцатый год, отец явился и взял ее из пансиона. С тех пор они редко оставались подолгу на одном месте. Целых два года прошли в непрерывных путешествиях.
Везде, где они ни появлялись – в Европе ли, в Америках ли, даже в Японии и Китае, – их повсюду встречала подобострастная предупредительность. Как будто из города в город передавалась весть об их приезде. Люди толпами сходились посмотреть на них, как будто эти отец и дочь были каким-то новым чудом света.
Из Японии они перебрались в русский Владивосток, тогда еще захолустный городишко, только обещавший стать городом. Воробьевы проехали по всем дебрям Уссурийского края и по Амуру, переплыли через Байкал и, миновав Сибирь, где на лошадях, где на пароходах, добрались опять до Москвы. Таким образом совершено было отцом и дочерью целое кругосветное путешествие.
Когда Воробьевы плыли по Амуру, Егор Павлович, обратясь в сторону манчжурского берега, где виднелись бесконечные пустынные равнины, торжественно сказал:
– Смотри, Марья, там твоя родина!
Больше он не обмолвился ни единым словом и, как ни просила его дочь, чтобы он показал ей поближе эту далекую таинственную родину, он, как и прежде, мрачно молчал.
Слова отца поразили молодую девушку и натолкнули ее на множество отдельных воспоминаний и туманных соображений, но разобраться в них она никак не могла. В одном только она уверилась – в том, что прошлое ее отца окутано какой-то тайной. Последнее соображение и заставило Машу прекратить всякие расспросы. Она любила отца и не хотела, чтобы он страдал.
Марья Егоровна с тревогой смотрела на отца, ожидая, когда он начнет говорить, а Егор Павлович, словно собираясь с мыслями, не спускал взгляда с быстро мелькавших в окне вагона полей, лугов, кустарников.
Потом он вынул портрет Кудринского и стал смотреть на него.
Так прошло еще несколько секунд.
– Папа, – заговорила Марья Егоровна, – времени нам остается все меньше и меньше.
Воробьев оторвался от окна, положил портрет на диван около себя и долгим грустным взором посмотрел на дочь.
– Да, права ты, права как всегда, – произнес он, – времени все меньше и меньше… Каждое мгновение приносит с собой что-нибудь новое, часто неизбежное… Лучше кончить все разом, с размаху: один удар, мгновенное страдание – и конец всему.
Он остановился и в волнении принялся вертеть вокруг пальца странного вида кольцо, резко выделявшееся среди массивных перстней, украшавших его руки. Кольцо это было железное, кое-где проржавевшее. Оно изображало свернувшуюся змею, кусающую свой хвост. Головка змеи была увенчана воронкообразною коронкою с драгоценным камешком, породу которого определить было бы трудно.
– Видела ли ты это кольцо? – заговорил Егор Павлович, – оно на вид решительно ничего не стоит, простое железо, да и работа вовсе не художественная, а простая самодельщина, но ты должна после моей смерти хранить это кольцо, как самую драгоценную святыню. – Опять какая-то тайна! – усмехнулась Марья Егоровна.
– Да, тайна, – резко отчеканил старик. – Я говорю серьезно: ты должна хранить это кольцо и отдашь его только тому человеку, которого ты полюбишь, и то лишь тогда, когда убедишься, что и он тебя любит более всего в жизни.
– Ты, папа, не называешь прямо Кудринского, стало быть, я могу полюбить, кого захочу?
Егор Павлович сделал нетерпеливое движение.
– Если ты полюбишь Алексея, пусть он возьмет кольцо. Но ты береги его! Помни одно: я богат, колоссально богат, но все мои богатства решительно ничего не стоят в сравнении вот с этой безделушкой.
Марья Егоровна мельком взглянула на кольцо.
– Охотно допускаю все это, папа, но все-таки мне кажется, что ты отвлекаешься, – произнесла она. – Но что с тобой? Что такое?
Старик дико вскрикнул и поднялся во весь рост. Лицо его вдруг стало иссиня-бледным. Он шатался: губы побелели, их передергивала судорога. Егор Павлович словно хотел что-то сказать и не мог.
– Папа, да что с тобой? – кинулась она к нему.
– Кольцо, кольцо возьми, – хрипел тот, – змея…
Ужасное хрипенье вырвалось из его губ. Он откинулся назад всем своим массивным телом и тяжело упал навзничь. На губах появилась пена, остекленевшие вдруг глаза остановились. Судорога пробежала по всему телу.
– Помогите! – закричала не своим голосом Марья Егоровна, кидаясь к дверям.
Крик ее был так отчаянно-пронзителен, что его слышно было даже среди грохота колес. В одно мгновение всполошился весь вагон. В боковой коридор повыскакивали пассажиры изо всех соседних купе. Все были встревожены, перепуганы, и никто не знал, в чем дело.
– Что такое? Несчастье? Упал под поезд? – раздавались тревожные вопросы.
Марья Егоровна, вне себя от ужаса, стояла уже на коленях перед неподвижным телом отца. Егор Павлович был мертв. Смерть настигла его моментально. Тело еще не похолодело и не окоченело, но жизнь уже оставила его. Не могло быть никаких сомнений в этом.
– Папа, родимый мой, да откликнись же! – не помня себя, выкрикивала молодая девушка, тормоша труп.
Кругом уже раздавались крики: „Доктора!“ – и доктор нашелся. В купе вошел средних лет господин и, слегка отстранив Марью Егоровну, взял руку ее отца.
– Вы – доктор? – залепетала Воробьева, – спасите его… Это – мой отец… Спасите его, ради Бога! Не может быть, чтобы он умер, он не мог умереть… Он только сейчас был жив…
– Успокойтесь, успокойтесь, – отозвался врач, – сейчас все узнаем… Положите его! – приказал он кондукторам.
Тело Егора Павловича положили на диван. Доктор склонился над ним, исследовал пульс.
– Что, доктор? – схватила его руку Марья Егоровна. – Что с ним?
Доктор пристально посмотрел на нее и произнес одно только слово:
– Мертв!
Молодая девушка схватилась обеими руками за голову и дико взглянула на говорившего. Потом она громко захохотала и забилась в тяжелом нервном припадке.
– Ее непременно нужно удалить отсюда! – шепнул доктор старшему кондуктору. – Смерть этого старика несомненна.
– Но что здесь? – обратился к доктору один из пассажиров. – Несчастный случай? Преступление?
– Не знаю… не думаю… Паралич сердца, – отозвался тот, – впрочем, это может показать только вскрытие.
– В Колпине придется остановить поезд, – сказал обер-кондуктор, – я должен охранять это купе…
Марью Егоровну, все еще бившуюся в припадке, перенесли в соседнее помещение. Там сейчас же приняла ее на свое попечение та молодая дама, которая так пристально глядела на нее и несчастного Воробьева, когда они выходили в Любани. К ней присоединилось еще несколько пассажирок. Около купе, где остался труп Егора Павловича, стали два кондуктора, которым отдано было приказание никого не подпускать даже к дверям. Поезд стал заметно уменьшать ход. Колпино было близко, и обер-кондуктор уведомил машиниста о внезапной остановке.
Коридор вагона переполнился людьми, лишь только поезд остановился у колпинской платформы. Явились жандармы, наскоро был составлен протокол о случившемся. В Петербург полетели телеграммы.
Марья Егоровна к этому времени несколько опомнилась, пришла в себя. Принявшая ее в свое купе молоденькая дама, сама чуть не плача, пыталась всеми силами утешить внезапно осиротевшую девушку. Марья Егоровна, даже не соображая, что перед ней совсем незнакомая женщина, тихо плакала на ее плече. Она теперь поняла, какое несчастие свершилось на ее глазах и что смерть ее отца несомненна.
Поезд уже пролетел мост и подходил к дебаркадеру. Телеграммы собрали к его приходу в Петербург всех, кого было нужно. На платформе ожидали поезда железнодорожные доктора, жандармы, комендант станции. Лишнюю публику старались поскорее удалить. Марья Егоровна, вся дрожавшая от ужаса и волнения, даже не заметила, что едва лишь поезд остановился, рядом с ней очутился высокий красивый молодой человек. Она словно во сне видела, что он протянул к ней руки и громко сказал:
– Я – Кудринский! Будем знакомы!… Но какое ужасное несчастье!
Глава 5
Словно тяжелый кошмар овладел Марьей Егоровной. Что делалось вокруг нее – это она понимала смутно. Кудринский увез ее с вокзала – куда, Маша не только не соображала, но даже и не старалась сообразить. Горе разразилось так внезапно, так неожиданно, что ужасная действительность и в самом деле могла казаться тяжелым сном.
Но и в этом состоянии Марья Егоровна все-таки невольно замечала, что Кудринский сумел окружить ее в эти тяжелые минуты и часы предупредительно-нежной заботливостью. Он относился к ней, как самый добрый друг, как любящий брат. Маша плохо понимала, что он говорил ей, – слова молодого человека как-то терялись для нее, – но в то же время невольно замечала его предупредительную деликатность, и невольно зарождалось в ней чувство благодарности к этому совершенно чужому ей человеку, к которому она раньше, даже не зная его, относилась с суровым предубеждением.
Внезапная смерть богача Воробьева, хотя и стала в Петербурге несколько дней притчей во языцех, но ни для кого никакой загадки не представляла. Скоропостижные смерти особенной редкостью никогда и нигде не были, а что в данном случае это было не что иное, как скоропостижная смерть, никто не сомневался. Вскрытие тела покойного Егора Павловича подтвердило полное отсутствие каких бы то ни было признаков насилия, и разрешение похоронить несчастного миллионера дано было без всяких особых проволочек.
Немного народа шло за гробом с прахом покойного. Егор Павлович был совершенно не популярен в невской столице, и его внезапная смерть не произвела впечатления. Дочь, Кудринский да еще четыре-пять человек вот и все, кто провожал останки богача до места его последнего упокоения.
Кудринский и во время пути, и в церкви, и на кладбище ни на шаг не отступал от Марьи Егоровны. В его поведении, однако, не было решительно ничего такого, что могло бы показаться молодой девушке назойливым, и она, принимая его услуги, невольно взглядывала на молодого человека с искренней благодарностью.
„Что же это такое? – пронеслось как-то в одно мгновение в ее голове. – Тот ли это Кудринский? Я его представляла себе совсем не таким… болезненный, слабый, а этот…“
Она пристально взглянула на своего спутника. Он очень мало походил на тот фотографический портрет, который показывал Марье Егоровне ее покойный отец. Правда, черты лица были те же, но на портрете Кудринский был, действительно, болезненный, исхудалый, здесь же пред Воробьевой был полный жизненных сил и здоровья молодой человек, с энергичным, но в то же время и веселым лицом, с ясными лучистыми глазами, с уверенными движениями. Очевидно, в Кудринском с того времени, к которому относился портрет, произошла огромная перемена, он избавился от всех своих болезней, поздоровел, и, случись их встреча при других, менее печальных обстоятельствах, несомненно, Марья Егоровна изменила бы окончательно то невыгодное мнение, которое она составила о Кудринском и по рассказам отца, и по собственным своим соображениям.
– Благодарю вас, – протягивая Кудринскому руку, сказала молодая девушка, когда печальная церемония окончилась, и они уходили с кладбища.
Кудринский смотрел на нее долгим, словно испытующим взором.
– Вам, – с особенным ударением произнес он, – меня не за что благодарить. Я ничего для вас не сделал такого, что заслуживало бы благодарности.
– Но вы были при мне все эти ужасные дни… все ваши хлопоты…
– Я исполнял только свой долг по отношению к покойному Егору Павловичу, я много обязан ему…
Он помолчал и прибавил:
– Я обязан ему с первых дней моего детства!
Марья Егоровна ничего не ответила. Кудринский тоже молчал. Так они дошли до ожидавшего их экипажа.
– Вы позволите мне зайти к вам? – спросил молодой человек.
– Я просила бы вас! – отозвалась Воробьева, – мое положение ужасно. Одна в совершенно незнакомом городе… Вы – единственный человек, которого я здесь знаю, по крайней мере, по имени, – прибавила она и почему-то покраснела.
– Надеюсь, – с улыбкой ответил Кудринский, – мы познакомимся и ближе.
Он помог молодой девушке сесть в экипаж и сам поместился рядом с нею.
– Как это странно устроено на свете! – услыхала она голос своего спутника. – Недавно совершенно незнакомые друг другу люди в силу обстоятельств сталкиваются, знакомятся, и в конце концов эти обстоятельства вдруг связывают их интересы, так что, если бы они и не хотели этой невольной близости, если бы их желание было поскорее разойтись в разные стороны и никогда не встречаться друг с другом, это для них невозможно и они волей-неволей обязаны, вследствие внезапно явившихся общих интересов, постоянно встречаться, делиться мыслями и вообще, так сказать, вести политику, которая им в другом случае вовсе была бы не по душе…
Марья Егоровна, в начале довольно рассеянно слушавшая эту тираду, прислушалась и вдруг вскинула глаза на Кудринского.
– Это вы про кого же? – несколько удивленно спросила она.
– Конечно, про вас и про себя! – улыбнулся тот.
– Знаете, я могу подумать, что вы хотите поскорее от меня отделаться.
– Вовсе нет! Напротив того, я кое-что знаю о вашем мнении относительно моей особы.
– Вы, кажется, всеведущи, господин Кудринский, – с иронией произнесла Марья Егоровна.
– Всеведущ, – нет! Просто я способен к логическим выводам – и только.
– И эти выводы подсказали вам мое мнение относительно вас?
– Да. Видите ли, очень немного нужно соображения, чтобы прийти к заключению, что вы пока ничего лестного обо мне ни думать, ни предполагать не могли.
– Вот как? Объясните и поясните путь, которым вы дошли до ваших выводов.
– Он простой. Кстати, меня зовут Алексей Николаевич.
– Я знаю это, хотя, кроме ваших имени, отчества и фамилии, мне ничего не известно.
Кудринский посмотрел на нее долгим испытующим взглядом, как будто желая узнать, правду ли говорит молодая девушка, или своими словами расставляет ему ловкую ловушку. Однако взгляд Марьи Егоровны был совершенно спокоен, и ни малейшего следа какого бы то ни было лукавства не отражалось в нем. Очевидно, она была совершенно искренна. Алексей Николаевич успокоился.
– Но ведь вам известно, что я хотя и очень, очень далекий, но все-таки родственник вашего отца? – спросил он.
– Да, это я знаю…
– А я уже сказал, что вашему отцу я многим обязан.
– И это мне известно, хотя, признаюсь, отец никогда не посвящал меня ни в какие подробности своих отношений с вами.
– О, эти отношения очень просты. Покойный Егор Павлович воспитал и поднял меня на ноги.
– Но… – Марья Егоровна заикнулась, – мой несчастный отец…
– Вы говорите о предполагавшемся вашем замужестве? – быстро подхватил Кудринский.
– Да…
– Не будем пока думать об этом проекте Егора Павловича… Не говоря уже о том, что этот проект странен сам по себе, мне кажется, совсем не время теперь даже вспоминать о нем.
Как была благодарна Марья Егоровна своему спутнику за эти совсем неожиданные слова!
„Какой он добрый! – подумала она. – Сколько такта, сколько предупредительности!“
Несмотря на свою молодость, Марья Егоровна прекрасно понимала, что она – более чем завидная невеста. Кудринского же со слов отца она привыкла считать бедняком, для которого женитьба на дочери богача являлась буквально пролившимся с неба золотым дождем. Теперь, когда сам Кудринский объявил, что вопрос об их браке остается открытым, быстро исчезло всякое предубеждение против него, и молодая девушка почувствовала себя совершенно свободной, на сердце у ней стало легко, и даже тоска по отцу как будто утихла.
Она только что собралась ответить Алексею Николаевичу, как экипаж остановился у подъезда гостиницы, где Воробьева нашла себе приют в эти тревожные дни.
Кудринский первым выскочил из экипажа и помог выйти своей спутнице.
– Когда вы позволите навестить вас? – спросил он, задерживаясь у дверей.
– Когда только вам будет угодно, – ответила Марья Егоровна, – для вас я всегда дома…
Едва за Воробьевой затворились двери, как из небольшого магазинчика на противоположной стороне улицы вышел маленький, толстенький, с гладко выбритым подбородком, пожилой, очень прилично одетый господин.
Он минуту или две постоял на тротуаре, как будто размышляя о чем-то, потом взглянул в ту сторону, куда пошел Кудринский, вдруг быстро вскочил на извозчика и крикнул:
– Поезжай скорее, вон туда, прямо!
Жестом руки он показал направление, по которому, расставшись с Воробьевой, пошел Алексей Николаевич.
Глава 6
Марья Егоровна, войдя в свой роскошный номер, не сняв верхнего платья, села в кресло у стола и погрузилась в глубокую задумчивость.
Теперь она напрасно бы стала искать в себе ненависти к Кудринскому… Нет, Марья Егоровна с откровенностью непосредственной натуры сознавалась самой себе, что в отношении Алексея Николаевича действительность совсем была иною, чем представлялась до встречи с ним.
„Но отчего он так не похож на свой портрет?“ – являлась у Марьи Егоровны, и не в первый раз, неотступная мысль.
Ответа на этот вопрос она не могла себе дать. Спросить у Кудринского было совсем неловко.
„Уж не готовил ли мне отец сюрприз? – вдруг спохватилась она. – И не показывал ли он мне портрет не Кудринского, а кого-либо другого? Бедный папа был способен на такие шутки“.
Это внезапно мелькнувшее соображение до некоторой степени удовлетворило ее любопытство. Вместе с этим такие думы отвлекли Марью Егоровну от мысли, что она стала сиротою, что нет более в живых ее отца.
Стук в дверь заставил Воробьеву встрепенуться.
– Войдите! – сказала она и тут только заметила, что сидит в кресле одетой.
Вошла горничная.
– Вас, барышня, спрашивают! – сказала она, с удивлением взглядывая на Марью Егоровну.
– Кто?
– Не могу знать… Господин какой-то…
– Я ни с кем не знакома здесь… Вы спросите, кто такой, но прежде помогите мне раздеться.
Горничная приняла пальто и шляпу и вышла, оставив дверь не притворенною.
– Говорят, по важному делу, – объявила вернувшаяся горничная, – очень просят принять…
Марья Егоровна в недоумении пожала плечами.
– Просите тогда! – нерешительно произнесла она.
Нежданный и незваный гость, очевидно, стоял у самой двери, ибо не успела еще Марья Егоровна договорить своей фразы, как дверь распахнулась, и на пороге появился тот самый маленький, толстенький, бритый человечек, который наблюдал за Воробьевой и Кудринским, когда они вернулись с кладбища.
– Прошу прощения, сударыня, – заговорил он, склоняясь и прижимая правую руку к сердцу, – тысячу раз прошу…
Марья Егоровна с любопытством смотрела на своего нежданного гостя.
„Кажется, я уже видела его в церкви и на кладбище“, – вспомнила она.
– Кобылкин я, Мефодий, – говорил гость, продолжая кланяться. – Мефодий Кириллович Кобылкин.
Это имя решительно ничего не сказало Воробьевой, но горничная, остававшаяся еще в комнате ее, так и вздрогнула, и даже подалась назад, когда услыхала это имя.
Воробьева не заметила ни этого движения, ни удивления, явно отразившегося на лице девушки.
– Очень приятно, – произнесла она, – чему обязана?…
– Моим визитом? – перебил ее Кобылкин. – О, я сейчас вам это объясню, сударыня! – и вдруг, обратившись к горничной тоном, не допускающим возражений даже со стороны хозяйки, сказал: – Вы уж, Дашенька, – ведь, вы, конечно, Дашенька? – уж будьте добры, подите к себе, а мы тут с барышней побеседуем.
– Позвольте, – вся так и вспыхнула Марья Егоровна, – вы распоряжаетесь…
– Так нужно, милая барышня, – последовал ответ, – так нужно.
– Но я вас не знаю…
– Я уже имел честь доложить, что я – Кобылкин…
– Никогда не слыхала даже такой фамилии!
– А это оттого, что вы, милая барышня, не здешняя, не питерская… Идите же, Дашенька, идите, милая! А я, вы уж, сударыня, простите старика, присяду… в ногах-то ведь правды нет.
Не обращая внимания на негодующие взгляды девушки, Кобылкин уселся в кресло.
– Но позвольте, какое вам дело до меня! – воскликнула Марья Егоровна.
Она взволновалась не на шутку, так как Кобылкин выводил ее из себя, вызывал негодование.
– Какое мне дело-то? – как ни в чем не бывало, продолжал Мефодий Кириллович. – Есть, милая барышня, дело, есть! Докладываю вам я: узнал про вас, что сиротка вы и притом какая богатенькая, злато-серебро лопатами грести можете, так вот и хочу познакомиться с вами, это первое, а если вам грозит или будет грозить опасность какая-нибудь, так оберечь вас от всякой неприятности, потому что, как я вам докладывал, Питер-то – зелье.
– По какому праву? Я, кажется, никого не просила о защите!
В этом восклицании Марьи Егоровны слышно было прямо уже возмущение ее этим, как казалось, наглым вторжением не только чужого, но даже совершенно незнакомого ей человека в ее жизнь.
– Кто меня просил? Никто! – совершенно хладнокровно ответил Кобылкин. – По какому праву? Да по такому, что по роду моей службы – я ведь полицейский, сыщик, так сказать, для ясности, мне должно не только раскрывать преступления людские, но и предупреждать, и пресекать их. А что около вас не обойдется без преступления, так об этом и говорить не нужно! Больно вы уж лакомый кусочек для наших питерских хищников. Правильную они на вас облаву устроят, такие сети расставят, что попадетесь вы в них и сами того не заметите. Ну, да это – дело будущего. Мне бы теперь хотелось поговорить о недавнем прошлом… Есть в нем для меня кое-какие непонятные, темные пункты.
Марья Егоровна с удивлением и скрытым страхом смотрела теперь на этого человека.
Мефодий Кириллович Кобылкин, которого называли «русским Лекоком», превосходно знал об этом впечатлении, производимом на души человеческие его профессией. Всю свою жизнь, чуть ли не с детства, посвятил этот человек отчаянной борьбе с преступными натурами, борьбе, где главное не сила, а ловкость, изворотливость, хитрость, и так изощрился в ней, что про него говорили, будто он за месяц чует, где и когда должно свершиться преступление… И говорили так не напрасно. У Кобылкина выработался особый нюх; очень уж близко знал он преступную душу и те условия, при которых разыгрываются хищные инстинкты. Благодаря такой способности самые сложные преступления, окутанные непроницаемой тайной, совершенно легко раскрывались им. В преступных делах загадка для этого человека существовала очень недолго. Немного времени нужно было для него, чтобы отыскать путеводную нить и по ней добраться до середины клубка, и часто там, где справедливое возмездие решало предоставить все воле Божией, являлся Кобылкин, и людская справедливость торжествовала.
Внезапная смерть сибирского миллионера сразу же привлекла к себе внимание Мефодия Кирилловича; он побывал при вскрытии тела, выслушал опросы всех ближайших свидетелей гибели Воробьева, и врожденное чутье сразу подсказало ему во всем этом происшествии какую-то загадку. Кобылкину показалось, и, мало того, он был в душе уверен, что смерть Егора Павловича явилась к нему не без посторонней помощи, но в то же время он должен был откровенно сознаться, по крайней мере самому себе, что, несмотря на самые внимательные наблюдения, у него в руках не оказывалось даже ничтожного кончика путеводной нити. Все около этой смерти было так ясно, ничьего вмешательства заподозрить было невозможно; доктора все в один голос твердили, что смерть произошла от естественных причин; вокруг Воробьевых, отца и дочери, не было никого, кто бы хоть случайно мог оказаться причастным к ужасному событию, и в то же время около молодой девушки, так внезапно оставшейся сиротой, не показывалось ни одного существа, которое можно было бы заподозрить в каких бы то ни было поползновениях на нее и на ее наследство. Тем не менее, Кобылкин продолжал оставаться при своих прежних убеждениях, и мысль, что тайна смерти Егора Павловича остается и останется тайной, не давала ему ни на мгновение покоя.
Следя за Марьей Егоровной с первого момента, когда она ступила на перрон вокзала, Кобылкин уже заметил Кудринского и сейчас же постарался выяснить его отношение к сироте миллионера. Это ему удалось легко, но ничего не подсказало ему. Мефодий Кириллович узнал, что старик Воробьев прочил свою дочь за Кудринского и для того и вез ее в Петербург, чтобы обвенчать молодых людей. Таким образом, в появлении Кудринского около Марии Егоровны решительно не было ничего подозрительного.
Но, опять-таки, словно какая-то неведомая и неодолимая сила заставляла старика неотступно думать о печальном происшествии, и чем дальше шло время, тем все больше и больше, но по-прежнему без всякой почвы, росли его подозрения и уверенность, что, несмотря на полную ясность свершившегося, в нем все-таки таится какая-то загадка.
Мефодий Кириллович начинал мучиться, негодовать на самого себя, но вперед мало двигался.
Наконец, он решился на шаг, которого никогда до того не делал в подобного рода случаях.
Он явился к Марье Егоровне и теперь ждал, что хоть какое-нибудь ее слово прольет свет туда, где для всех все было ясно, а для него царила непроглядная тьма.
Кобылкин сразу заметил, какое впечатление произвело на Марью Егоровну сообщение о его профессии.
– Барышня милая, – заговорил он, – простите меня, старика, из ума выживаю, помучаю вас…
Марья Егоровна уже успела оправиться от внезапно овладевшего ею смущения.
– Нет, чем же вы можете помучить меня? – произнесла она. – Вы меня желаете допрашивать?
– Уж и допрашивать! Да нет же, просто мне хотелось бы поговорить с вами…
– По долгу вашей службы?
– Нет, как частное лицо…
– Что же вам угодно знать?
Мефодий Кириллович на мгновение замялся и ответил:
– Да, по возможности, милая барышня, все.
– Я буду вам отвечать, спрашивайте…
– Что же, и на том спасибо, хотя, признаюсь, лучше, если бы вы повели рассказ сами… Скажите, ничего особенного вы не заметили в вашем отце пред его кончиной? Ничего он не говорил?
Марья Егоровна задумалась.
– Сейчас я вспомнила одно обстоятельство, но я думаю, что оно решительно не имеет никакого значения.
– Какое, какое, милая барышня? – так и встрепенулся Кобылкин, – говорили вы о нем кому-нибудь?
– Нет, я сейчас только припомнила его…
– Что же такое? Что?
Сердце Мефодия Кирилловича так и трепетало. Ему казалось, что конец путеводной нити сейчас будет в его руках.
– Видите ли, когда отец говорил со мной о своих планах на будущее, в нашем купе вдруг раздался какой-то особенный свист, шипенье. Папа страшно перепугался, побледнел, затрясся.
– Так, так, – вдохновился Кобылкин, – это где же было? За какой станцией?
– Последняя пред Петербургом, Любань, кажется.
– А что это за свист? Что за шипенье? На что были похожи эти звуки?
– Не знаю, я ни с чем не могу их сравнить.
– Звуки потом не повторялись?
– Как будто я их слышала за мгновение до смерти папы. Но я ни в чем не уверена.
– И только?
Глава 7
– Да, больше ничего особенного, что бы обращало внимание, я не помню; когда меня спрашивали, я не сказала вот этого одного. Совсем забыла! Но скажите, ради Бога, неужели вы подозреваете, что это несчастье не случайное?
– Не знаю, милая барышня, не знаю ничего пока, – ответил Кобылкин. – Никаких у меня нет подозрений, но уже докладывал я, что наш Питер всем зельям зелье… Все может быть! Будьте добры, я знаю, тяжело вам вспоминать, но расскажите мне все, что вы говорили с вашим несчастным отцом в последние минуты. Не смущайтесь! Расскажите, даже если последняя беседа касалась какого-нибудь семейного дела. Прошу вас, умоляю вас… Доверьтесь старику, помните, я – ваш единственный друг теперь.
Молодая девушка после минутного колебания решилась на откровенность. Тон Кобылкина был задушевный, в душу проникающий, и подкупил ее. Марья Егоровна заговорила, но все, что касалось Кудринского и ее недавних чувств к нему, она обошла молчанием.
Кобылкин слушал ее, затаив дыхание.
Рассказ длился не особенно долго и, когда Марья Егоровна смолкла, Кобылкин почувствовал себя разочарованным.
Кроме совершенно непонятных слов Воробьевой о таинственном свисте и шипении, которые всегда могли быть объяснены самыми естественными причинами, Мефодий Кириллович решительно ничего нового не узнал от своей собеседницы. Все, что говорила она, ему было уже известно, и Кобылкин видел, что молодая девушка была с ним вполне откровенна и более ничего не могла ему сообщить.
– Вы, кажется, не здесь родились, в Сибири?
– Да, за Амуром…
– В Манчжурии, у китайцев, стало быть… Вот даль-то… Путешествовали летом с папашей? Так, я думаю, приходилось видеть пречудесный денек, небо ясно-голубое, ни облачка. Вдруг откуда ни возьмись тучи, гром, молния, ливень. Хорошо, если вы захватили с собой, так, на всякий случай, зонтик. Без него беда просто. То же и в жизни. Зонтик на случай жизненных бурь всегда нужно иметь. Так-то, прощенья прошу, помните, что у вас есть бескорыстный друг, ваш покорный слуга.
Мефодий Кириллович низко поклонился молодой девушке. Та протянула ему руку.
– Откуда это у вас? – воскликнул Кобылкин в этот же момент.
– Что?
– Это кольцо.
Кобылкин с жадным любопытством рассматривал железное кольцо с изображением змеи, кусающей свой хвост.
– Его постоянно носил мой отец, – ответила Марья Егоровна.
– И теперь оно перешло к вам? Так, так! Какая чудная работа! Не знаете, где приобрел его наш батюшка?
– Я, как помню себя, постоянно видела его у отца. Он никогда не расставался с ним.
– Просто, но превосходно. Антик, уника! – воскликнул Кобылкин. – Не позволите посмотреть поближе?
– Пожалуйста! – и Марья Егоровна, сняв кольцо, передала его Мефодию Кирилловичу.
Тот словно позабыл о том, что совсем собрался уходить. Присев к столу, на котором стояла уже зажженная лампа, он весь ушел в изучение так заинтересовавшей его вещицы. Откуда-то у Мефодия Кирилловича появилось в руках увеличительное стекло, и он стал рассматривать через него кольцо.
– Тут какая-то надпись, – словно про себя промолвил он, – иероглифы какие-то.
– Надпись? – удивилась Маша, – я и не знала…
– Вероятно, по-китайски… Вот, взгляните…
Кобылкин протянул молодой девушке кольцо и увеличительное стекло.
– Это – татарская надпись! – воскликнула та, едва взглянув.
– Татарская? А не знаете, что она означает в переводе?
– Нет… Повторяю, отец эту безделушку особенно ценил и постоянно говорил, что после его смерти я должна носить это кольцо, не снимая его.
– А больше батюшка ничего не говорил вам?
– Нет… Я думаю, что это амулет какой-нибудь.
– Вернее всего… Однако, позвольте мне его возвратить и откланяться вам.
Мефодий Кириллович внимательно следил, как надевала Марья Егоровна кольцо.
– Итак, я ухожу, – произнес он в дверях, – обо мне, милая барышня, помалкивайте, колечко берегите, больно оно хорошо!
Он вышел, оставив Марью Егоровну в большом недоумении.
Воробьева была буквально ошеломлена этим нежданным посещением. Ей показалось, что Кобылкин явился неспроста. Если же это было так, стало быть, отец ее, единственное близкое в целом мире существо, стал жертвой какого-то таинственного преступления.
Наконец, Марья Егоровна почувствовала, что более она не может переносить ни своего одиночества, ни томления и ожидания.
Она решилась действовать, чтобы рассеять гнетущее чувство.
„Я не могу ждать более, я сама поеду к нему!“ – решила молодая девушка.
Адрес Кудринского был известен. Вместе с тем, Алексей Николаевич, лишь только Марья Егоровна поселилась в отеле, позаботился о том, чтобы к ее услугам всегда был готов отдельный экипаж.
Воробьева громко позвонила и приказала как можно скорее подавать лошадей.
Глава 8
Сердитый, обескураженный, недовольный собою вышел Мефодий Кириллович от Воробьевой.
„Свист, шипенье! Черта ли в них толку! – говорил Кобылкин сам себе. – Ну, там колесо об оси, ну, там железо о железо, мало ли что! Нет, старье! Мозг отупел, ничего соображать не могу!…“
Никогда еще Мефодий Кириллович Кобылкин не бывал в таком положении, как теперь. Легко ему удавалось распутать всякое дело, но во всех этих случаях, в основе их, всегда лежало преступление; там же, где было преступление, был налицо и преступник, стало быть, и след был всегда налицо; но в том случае, с которым теперь приходилось столкнуться старику Кобылкину, преступления не было, а если оно и было, то прежде всего приходилось доказывать его существование. Первый и самый главный вопрос осложнялся: как доказывать то, чего, может быть, и не было?
„Нет, брошу это дело!“ – решил старик и даже попытался, было не думать ни о Воробьевой, ни о смерти ее отца.
Мефодий Кириллович уже миновал памятник, как вдруг из темноты прямо на него вынырнул оборванный, обтрепанный мальчишка.
– Индейская змея кобра в Петербурге – цена три копейки, – вопил он надтреснутым, гнусавым голосом, – купите, господин, цена три копейки…
– Что? Змея! Кобра? – весь так и вздрогнул Кобылкин, словно по его телу пробежала электрическая искра.
– Индейская кобра, цена три копейки! – повторил оборвыш, протягивая старику четвертушку бумаги с напечатанным на ней текстом.
– Кобра! Какая кобра? – спросил он оборванца.
– Не знаю, извольте прочитать… цена три копейки… Да не задерживайте, господин!
Кобылкин сунул оборвышу пятачок и получил листок. Он подошел с ним к фонарю, но тот только мигал сверху, и при его свете разобрать что-либо было невозможно.
Это сначала раздосадовало Мефодия Кирилловича. Разгорелось любопытство, а удовлетворить его было нельзя. Кобылкин огляделся; прямо через площадь видны были ярко освещенные окна небольшого ресторанчика.
„Зайду туда и посмотрю, что это за кобра такая!“ – решил старик и направился через площадь.
Теперь мысли его, отвлеченные от неудачи у Воробьевой, по привычке непременно думать о чем-либо, все сбились вокруг этой, казалось, совершенно несуразной новости.
„Кобра, есть такая змея! – размышлял Мефодий Кириллович. – Какой ведь, однако, гадости нет на белом свете! В жарких странах живет гадина… А как же это она попала сюда, к нам, в наше питерское болото? Не сама же приползла. Впрочем, у нас в управлении уже известно все… Туда бы пойти…“
Но любопытство пересилило, и Кобылкин зашел в ресторан. Там, присев к столику, он принялся за листок.
Напечатано было строк пятьдесят крупным шрифтом и около того помельче.
Крупный шрифт гласил следующее:
„Сегодня, около часу пополудни („Это тогда, когда я был на кладбище“, – соображал Кобылкин), сцепщик железнодорожных вагонов Алексей Кондратьев, проходя по запасным путям, заметил в промежутке между двумя парами рельсов какой-то, как ему показалось, шевелящийся клубок. Любопытствуя узнать, что это такое, Кондратьев подошел и тронул клубок рукояткою бывшего при нем флага. Можно себе представить его ужас, когда клубок с быстротой электрического тока приподнялся и вытянулся кверху в воздухе; раздался тонкий свист, и несчастный рабочий увидал пред собою отвратительную голову рассвирепевшей змеи, тянувшейся к нему своим жалом. Не помня себя, не соображая, что он делает, Кондратьев наотмашь ударил гадину по голове флагом, который бросил тут же, а сам пустился бежать, что было сил. Отбежав на порядочное расстояние, он остановился и закричал, призывая к себе на помощь. Сбежались товарищи Кондратьева, привлеченные его неистовыми криками. Он едва-едва мог сообщить им о том, что видел змею. Приняв все меры предосторожности, железнодорожные рабочие все вместе, толпою, отправились на указанное Кондратьевым место. Флаг сцепщика вагонов валялся там, где тот его бросил, но змеи уже не было. Однако на песке ясно обозначился ее след. Очевидно, гадина успела отползти и скрыться в густой траве, растущей по откосам железнодорожного полотна. Об этом случае немедленно было донесено по начальству, но, тем не менее, среди рабочих этого пункта царит паника. Каждый боится выходить теперь на работу, в особенности ночью. Все меры к обнаружению и уничтожению отвратительного и опасного для человечества пресмыкающегося уже приняты, благодаря стараниям и заботам энергичного начальника станции, который на этих днях удостоился получить повышение по службе“.
Далее в листке тем же крупным шрифтом объяснялось, что, судя по описаниям сцепщика Алексея Кондратьева, столь испугавшая его змея была не что иное, как кобра, и при этом высказывалась уверенность, что энергическое расследование, которое повел столь способный и деятельный околоточный надзиратель, как глубокоуважаемый Пантелей Иванович Ракита, не замедлит точно выяснить, какими путями очутилось в „Северной Пальмире“ это пресмыкающееся, водящееся, как известно, под знойным небом тропических стран.
Мелким шрифтом напечатано было заимствованное из плохонького словаря описание кобры, а затем следовали неизбежные объявления о кухарках, ищущих места, о распродаже держаной мебели и пр. и пр.
„Знаю Пантелея Ракиту, – подумал Мефодий Кириллович, дочитывая сообщение, – он и в самом деле парень дошлый, лицом в грязь не ударит, только откуда, в самом деле, могла взяться эта гадина?“
„Свист, свист! Тонкий свист змеиный, – раздумывал он, – второй раз я слышу… Свист! Воробьева тоже говорила о свисте… Гм… совпадение это какое, или… или…“
Кобылкин на этом „или“ круто оборвал мысль и зачмокал губами, что он проделывал всегда, когда вдруг в его мозгу являлось какое-нибудь важное соображение…
„Все надо проверить, – размышлял он, – все до капельки… Свист! А шипенья нет… где же оно?“
Кобылкин поспешно ушел и на извозчике добрался до своего управления. Там у него был отдельный кабинет, и, войдя в него, Мефодий Кириллович сейчас же приказал позвать подначального ему агента, носившего странную фамилию Пискарь.
– Что за змея, откуда? – спросил его Кобылкин.
Пискарь, по происхождению хохол, ответил не сразу; предварительно помолчав, он сказал:
– А что за змея, Мефодий Кириллович? Змея, какая змея?… Кто видел-то ее?…
– Как кто? Читал?
– Читать-то читал, а что же из того?
Пискарь улыбнулся, и в глазах его отразилась хитрость.
– Змея-то, может, была, а может, ее и не было.
– Как так не было? Есть сообщение?
– Никак нет, не поступило еще… Только на место у меня отправился Савчук.
Савчук был второй подчиненный Кобылкину агент, закадычный приятель Пискаря. Оба эти человека называли себя руками „ока правосудия“ – таково было прозвище Кобылкина. Мефодий Кириллович уже много лет работал вместе с ними и всегда был доволен своими помощниками, но теперь он волновался и выходил из себя.
– Савчук, Савчук, – таким же тоном, как и Пискарь, заговорил он, – везде Савчук… Тут такое дело, а они пальцем о палец не хотят ударить… Эх вы, лежебоки!
Пискарь совершенно хладнокровно слушал ворчанье своего начальника.
– Змея, Мефодий Кириллович, там была или не была, бог с ней! Она выползла, – заговорил он, – ну и пусть себе там Пантелей Ракита с ней возится, шустрый он, и дело ему на руку! А тут вот из Гельсингфорса прибыла бумага, да официальная, справочки у нас просят.
– О ком это?
– Говорят, есть у нас в Петербурге один добрый молодец, Кудринский, Алексей Николаевич.
Кобылкин так и подскочил.
– Кудринский? – закричал он. – Зачем он понадобился?
– Кто там этих чухон знает? Запрашивают нас, да и все тут.
– Неси, Пискарь, неси скорее дело! – заволновался Мефодий Кириллович. – Что же ты молчал?
Однако гельсингфорский запрос был совершенно темен, и ничего из него нельзя было понять. Гельсингфорская полиция только расспрашивала петербургскую о Кудринском, даже не объясняя причин этого запроса. Мефодий Кириллович внимательно несколько раз перечитал все присланные бумаги и ровно ничего не нашел в них.
– Пискарь, а Пискарь? – просительным тоном заговорил он, оставляя бумаги.
– Что прикажете, Мефодий Кириллович? – невозмутимо спросил хохол.
– Как бы это нам разузнать? А?
– О чем разузнать, Мефодий Кириллович?
– Да вот зачем понадобился Гельсингфорсу этот наш питерский Кудринский?
– Так за чем же дело-то стало? Запросить их там, пусть бы ответили.
– Держи карман! Так они и станут отвечать!… Нет, это не годится.
– Потребовать, да построже!
– Нет, и это не годится. Финны – народ упрямый, ничего не дождешься. А вот что, Пискарь, поезжай-ка ты сам туда, погляди, пощупай, что, как, нет ли чего?
– Отчего же не поехать? Поеду я!
– Ну, вот и прекрасно! Пойди, приготовься и с первым поездом – марш.
Оставшись один, Мефодий Кириллович большими шагами заходил по кабинету. Прежней тревожной неуверенности в нем и следов не осталось. Инстинкт подсказывал ему, что нити дела, хотя сейчас еще и невидимы, но все-таки близки к тому, чтобы попасть в его руки.
Глава 9
Марья Егоровна едва-едва дождалась, когда ей подадут экипаж. Она и сама не понимала, что такое делалось с ней. Сердце молодой девушки сжималось раз от разу все сильнее, голова горела, глаза и губы были воспалены. По телу то и дело пробегала лихорадочная дрожь. „Как бы не расхвораться, – с тревогой подумала она, – на воздух, на воздух скорее!“
Торопливо одевшись с помощью горничной, она спустилась к экипажу и дала кучеру адрес Кудринского.
– Поскорее! – произнесла молодая девушка, захлопывая за собою дверцу кареты.
Ехать пришлось довольно далеко – совсем в другую часть города. Марье Егоровне все казалось, что экипаж движется слишком медленно и что не будет конца этому пути.
Наконец экипаж, в котором ехала Воробьева, остановился у подъезда какого-то огромного дома.
– Кудринский, Алексей Николаевич, здесь живет? – спросила Марья Егоровна у подбежавшего к ней швейцара.
Тот, видя пред собою собственный экипаж, почтительно обнажил голову и отвечал:
– Так точно, здесь! Только их сейчас нет дома…
Молодая девушка не знала, что ей делать. Она колебалась, и только мысль, что если уж она приехала сюда, так зачем уезжать, не увидав Кудринского, заставила ее принять решение.
– Я подожду Алексея Николаевича у него, – сказала она, выходя из экипажа, – покажите его квартиру.
– Третий этаж, правая дверь, – кланялся швейцар, – я позвоню туда.
Марья Егоровна медленно поднялась по лестнице; представительный слуга открыл ей двери.
– Пожалуйте, барина нет дома, но они скоро будут! – произнес он таким тоном, как будто не только знал о существовании Воробьевой, но даже с минуты на минуту ожидал ее посещения.
Молодая девушка вошла в ярко освещенную переднюю. Ни малейшей роскоши здесь не было заметно, все было просто и вместе с тем опрятно. В гостиной, куда она перешла потом, было так же бедновато, но уютно. Марья Егоровна присела к столу и еще раз огляделась вокруг.
– Не прикажете ли чаю? – спросил стоящий на пороге слуга.
Воробьева взглянула на него. На обыкновенных слуг-профессионалов этот человек походил мало. Глядя со стороны, трудно было подумать, что это – заурядный лакей, служащий небогатому молодому человеку; манеры, тон голоса говорили о том, что этот человек недавно исполняет лакейские обязанности.
Марья Егоровна не замечала, как летит обыкновенно томительное время ожидания. Внезапно народившееся чувство все росло и росло в ее сердце. В этой простенькой и бедно обставленной комнатке было так хорошо, так уютно, что Марья Егоровна так бы вот и осталась здесь. Как ей мила становилась эта бедноватая обстановка! Показная роскошь и великолепие давным-давно уже наскучили, стали противны даже. Контраст с тем, что было раньше, поразил молодую девушку, пробудил любопытство и навел на такие мысли, какие ранее никогда не приходили ей в голову…
„Жить в бедности и отказываться от богатства, которое само дается в руки, – думала Марья Егоровна, – ведь это же геройство, это самопожертвование!… ради кого? Ради совершенно неизвестного существа… Нет, человек, способный на это, не может быть дурным!…“
Вдруг на смену восторгу явились новая мысль, новое чувство.
Молодая девушка вдруг вся как-то сжалась, притихла; на сердце у нее стало опять тяжело.
«Он мне возвратил свободу, он мне сказал, что я вольна в себе, – думала она, – но, может быть, все это он сделал вовсе не ради меня… Может быть, у него есть женщина, которую он любит уже… А я… я…»
Марья Егоровна почувствовала, что слезы подступают к горлу.
Марья Егоровна порывисто поднялась с места и прошлась в волнении по комнате.
„Да, это так, так, и быть иначе не может! – думала она. – Тогда зачем же я здесь? Бежать, скорее бежать… Что он может подумать обо мне? А если вдруг явится сюда та – другая?“
Тихое покашливание прервало эти размышления. Марья Егоровна оглянулась. В дверях стоял слуга.
– Что-то запаздывает Алексей Николаевич? – проговорил он. – Давно пора ему и дома быть!
– Вероятно, что-нибудь задержало господина Кудринского! – холодно произнесла молодая девушка. – Я более не могу его ждать, я уезжаю… Передайте вашему барину, что я буду ожидать его завтра у себя…
– А как позволите сказать ему о вас?
– Я – Воробьева… приезжая…
– Марья Егоровна, госпожа Воробьева? – вдруг вскричал слуга, – батюшки, да как же это я вас по портрету не признал?
– По портрету? – удивилась молодая девушка. – По какому портрету?
– Да по вашему портрету… Вы ведь как вылитая изображены… Право! Не угодно ли взглянуть?
Не дожидаясь согласия гостьи, Петр поспешно распахнул дверь в соседнюю комнату.
– Пожалуйте, – проговорил он, отстраняясь, чтобы пропустить Марью Егоровну, – здесь кабинет Алексея Николаевича.
Слова Петра подстрекнули любопытство Маши. Она нерешительно подошла к дверям кабинета.
– Пожалуйте, – уже настойчиво произнес Петр, – темновато здесь немного, я сейчас прибавлю свету…
В кабинете горела всего только одна настенная лампа, но, несмотря даже на этот слабый свет, Марья Егоровна, как только вошла, сейчас же увидала на стене свой написанный масляными красками портрет. Он давно уже был ей знаком. Года два тому назад покойный Егор Павлович заказал его лучшему из парижских портретистов, но Маша видела его только раз или два. Потом портрет исчез, и отец на расспросы дочери о том, куда он девался, всегда отмалчивался.
Теперь этот самый портрет был перед нею в кабинете Кудринского.
Сердце Марьи Егоровны радостно забилось… Разом отлетели все недавние еще сомнения и подозрения.
– Уж я и сам не знаю, как это я вас сразу не узнал, – говорил Петр, – ведь почти два года ваш портрет изо дня в день вижу… А барин-то, барин! Частенько это бывает: подойдет он к портрету, станет, и глаз с него не спускает… часами порой выстаивает… А не то возьмет скрипку и начинает играть; жалостно так играет, плакать хочется… до того за душу берет… Да что далеко ходить! Сегодня перед тем, как вот уйти, подошел, глядит на ваш портрет, слезы текут, а он шепчет: „Прощай, навсегда прощай“. И что это значит – ума не приложу! Да ведь у нас и не один этот портрет… Извольте взглянуть! Вот опять вы, совсем еще девочкой…
Петр зажег все лампы и при последних словах указал рукой на стену, противоположную той, где висел портрет Марьи Егоровны.
– Взгляните, пожалуйста, – сказал он, – тут найдется и ваш папенька.
Молодая девушка вскрикнула от невольного изумления. Со стены глядел на нее прекрасный портрет ее покойного отца, вокруг же этого портрета в изящных рамах были развешаны все ее когда-либо существовавшие фотографические портреты. На некоторых из них Маша была снята еще маленькой девочкой, на других – подростком. Были и недавние портреты, снятые во время заграничного путешествия. О них, очевидно, заботились. Ни одной пылинки не было заметно ни на стеклах, ни на рамах, все было тщательно вытерто чьей-то заботливой рукой.
Марья Егоровна заметила это.
– Барин сам ходит за этими портретами, – словно угадывая мысли молодой девушки, произнес Петр, – с других картин я пыль обметаю, а к этим он и не допускает.
В передней звякнул звонок.
– Алексей Николаевич! – воскликнул Петр. – Простите, оставлю вас, пойду отопру дверь.
Глава 10
А тем временем произошло объяснение Кудринского с Марьей Егоровной, во время которого Алексей Николаевич рассказал, что, будучи сиротой, попал в шайку воришек и находился на краю гибели. Спас его Егор Павлович, который вырвал мальчишку из дурной среды, устроил в честную семью, заботился о его воспитании.
Алексей Николаевич предложил Воробьевой свою дружбу, и та с благодарностью приняла это предложение. Но в душе ее зародилось чувство гораздо более сильное, чем дружба.
Глава 11
Алексей Кондратьев божился и клялся на все лады, что он видел отвратительную гадину своими собственными глазами, которым даже убедительно предлагал лопнуть, если змеи не было, но добродушный хохол на все эти уверения флегматично отвечал:
– А ты мне покажи змею эту самую, вот я тебе и поверю; а если глаза твои лопнут – мне-то что!
В конце концов, змея «взята была под сомнение», и уже после полудня Петербург весело смеялся над своими утренними страхами.
Однако прогулки на место появления змеи не прекращались. Веривших в „змею“, особенно среди простолюдинов, было порядочное количество, а среди сходившегося на запасные пути народа Алексей Кондратьев был героем дня. Все его разглагольствования терпеливо выслушивались, и ему даже перепадало от слушателей кое-какое угощение.
– Ну, братцы, не приведи бог, и перепугался же я! – чуть не в сотый раз передавал он свои впечатления. – Иду это я на дежурство, значит, и думаю себе, представить или награду получить?
– Кого представить, – раздались вопросы, – змею, что ли?
– Нет, какое, змею! Портрет…
– Чей портрет?
– А кто его знает, чей?… Вагоны тут убирали, так нашли… так, ледащенький человек изображен… Краше в гроб кладут… в вагоне первого класса в щелочку между спинкой и сиденьем ушел, там его и нашли… Лежит себе спокойно…
– Так отчего же не представили?
– Кондуктора проморгали, а нам что за дело… Не наша это обязанность…
– А где у тебя этот портрет? – вдруг выдвинулся из толпы слушателей один, по виду мастеровой из железнодорожных мастерских.
Кондратьев подозрительно посмотрел на него.
– А тебе, мил человек, что за дело? – спросил он.
– Да так, к слову спросить пришлось.
– То-то к слову! Спрятан он у меня, вот где! Может, публикация какая будет, тогда и объясню, моя награда будет… уж и загуляю тогда, только держись!
– Брось про портрет, ты про змею! – послышались требования нетерпеливых слушателей.
– Что змея? Змея, как ей быть должно, была да убегла… теперь портрет…
– А ты о нем уже заявлял кому-нибудь? – вступился опять спрашивавший в первый раз о портрете мастеровой.
Он говорил тихо, значительно понижая голос, так что его слова слышали лишь немногие.
– Кому заявлял?
– Да вот хоть бы Раките, околоточному вашему…
– Вот чудачья голова, а еще мастеровой! Так я и буду от своего счастья отказываться!… На портрете-то имя, отчество и фамилия назади прописаны… Уж и сдеру же я награду-то… ух! потому причину имею для этого.
– Про змею рассказывай, про змею!
Кондратьев встрепенулся. Ему очень льстило это общее внимание.
– Полюбился ты мне, парень, – хлопнул мастеровой его по плечу, когда рассказ был кончен. – Выпить желаешь?
– Выпить? Отчего же? Коли угощают, выпить всегда можно, это натуре не повредит.
– Так пойдем в сторожку, так и быть, угощу! На работу не нужно?
– Какая работа тут! Из-за змеиного страху на сей день от всего освобожден.
– Так и гуляй душа! Нужно же человеку в себя после змеи прийти!
Мастеровой обнял сцепщика за плечо, вытащил из кармана бутылку водки и, помахивая нею, заорал:
– Гуляем, вот мы как!
Пара новых друзей удалилась, а вслед им понеслись затаенные вздохи, и даже кто-то во всеуслышание высказал мысль:
– Привалит же счастье! Из-за змеи угощают!
Новые друзья отошли подальше и расположились на откосе канавы. Приложились для первого знакомства к бутылке, и Алексей Кондратьев начал заметно хмелеть. Он болтал без умолку. В болтовне его перемешались и рассказы о змее, и его надежды на получение награды за найденный портрет.
– Уж как пить дать – получу! – хвастался он. Если этого барина не найду, от сыскного награждение будет, вот я какой!
– Сыскное-то причем? – удивился мастеровой.
– Очень причем… Ты думаешь, что? Я давеча и говорить не хотел, да о портрете проболтался…
– Что? Ничего я не думаю!…
– Потому и не думаешь, что глуп ты, как я вижу…
– Уж и глуп будто?!
– Само собой… Портрет-то я где нашел? Ты мне скажи – где?
– А, ну, тебя и с портретом-то! Почем я знаю?!
– То-то и дело, что не знаешь… Кабы знал, так все бы смекнул… Где бутылка-то?
Кондратьев одним духом осушил остатки.
– Слышь ты, – совсем пьяным голосом заговорил он, – портрет тот я нашел в том самом вагоне, в коем сюда, в Питер, мертвый барин с дочкой приехал, и в той самой купе, где он помер…
– Ну, так что же из того?
– Глуп ты, а еще мастеровой! Может, это портрет-то евойный, мертвого барина? Так дочке приятно.
– А ты покойника-то видел?
– Нет, он на станцию прямо проехал.
– А я вот видел!
– Ты? – удивился Кондратьев. – Где сподобился?…
– Фонарь электрический починяли, когда тот поезд подошел, при мне вынесли… Знаешь что?
– Что еще?
– Портрет-то у тебя где?
– Дома схоронен.
– Так ты тащи его сюда.
– Зачем?
– Посмотрю я, сразу узнаю, тот это или другой… Тебя жалею, ни за что ни про что втешешься!…
Кондратьев был уже пьян и плохо соображал. Однако доводы нового товарища показались ему убедительными.
– А ты… ты не надуешь? – спросил он, поднимая отяжелевшую голову.
– Кого? Тебя-то, своего брата Исаакия? Вот корысть была!
– Коли не надуешь, да выйдет что у нас из этого, так я тебя уважу, поделимся…
– И на том спасибо… Дело только поскорее варганить нужно… Болтал в народе напрасно.
– Сплоховал, брат, сам знаю, что сплоховал… Так принести?
– Портрет-то? Уж это, как ты хочешь…
– Я принесу… Выпить бы теперь важно было…
У собеседника сцепщика был, очевидно, с собой большой запас хмельной влаги. Не успел Кондратьев выразить свое желание, как у мастерового в руках появилась новая, полная вина бутылка. Он торжественно потряс ею перед носом товарища и многозначительно произнес:
– А это что?
– Дай! – потянулся к бутылке Кондратьев.
– Шалишь! Чего мне тебя зря угощать-то? Принесешь портрет, пей, сколько твоей душе будет угодно, а до тех пор ни-ни…
Сцепщик был уже так пьян, что готов был на все, только бы продолжить выпивку.
– Так не дашь? – вскрикнул он.
– Принеси портрет сперва!
Кондратьев вскочил на ноги.
– Ну, быть по-твоему, – произнес он, – принесу. Надуешь – убью! Здесь меня жди… Сюда приду.
Он пошел, слегка покачиваясь, в сторону довольно далеких строений. Начинало уже темнеть, но до наступления вечера было все-таки далеко. Когда Кондратьев несколько отошел, его товарищ тоже быстро, без всякого признака опьянения, вскочил на ноги.
Порывистым движением он расстегнул ворот рабочей блузы и вытащил из-под нее порядочной величины кожаный мешок, висевший на ремнях на шее; не снимая ремней, собеседник сцепщика поднял мешок и сильно потряс его около своего уха. Он, видимо, был очень озабочен и, убедившись на слух, что заключавшееся в мешке цело, поспешил засунуть его обратно под блузу и бегом пустился догонять уходившего Кондратьева.
– Постой, постой! – кричал он на бегу. – Чего мне тебя здесь ждать? Вместе пойдем!…
Сцепщик приостановился, и оба новых друга, обнявшись, пошли через поле. Скоро они скрылись во мгле наступивших сумерек.
Вечером того же дня Пантелей Иванович Ракита, измученный, голодный, вернулся домой. Более суток он был на ногах.
– Ну, что твоя змея? – спросила Пантелея Ивановича жена.
Ракита только рукой махнул.
– Глупости все, вздор! – рассердился он. – Зеленый змий там был, а не змея! Вот что!…
– Однако, говорят…
– Глупости говорят!
– Да не о змее вовсе… Говорят о какой-то фотографии, найденной в том вагоне, где привезли этого миллионера Воробьева.
Пантелей Иванович, когда его супруга говорила это, закуривал послеобеденную сигару. Словно что-то ударило его, когда он услыхал эти слова. Сигара вывалилась из рук, и он уставился на жену недоумевающим взором.
– Какая карточка? – воскликнул он, – кто говорит?
– Дарья наша… У этого Кондратьева карточку видели. Он нашел ее в том вагоне.
– Не может быть! Как же это я ничего не знаю? Дарья! Дарья!
На зов явилась из кухни прислуга.
– Какая карточка? Что такое болтают? – закидывал ее вопросами Пантелей Иванович.
В ответ Дарья рассказала, что и она уже побывала на том месте, где появилась змея. Там она встретила знакомого, товарища Кондратьева, тоже сцепщика. Он и рассказал ей, что Кондратьев, пьяный, забрался в вагон первого класса, стоявший на запасных путях, чтобы проспаться там. Это был тот самый вагон, в котором скоропостижно умер богатый пассажир. Выспавшись на мягких диванах, Кондратьев, по рассказу знакомого Дарьи, нашел в том самом купе, где был мертвец, фотографическую карточку, которую и не подумал представить по начальству, а держал у себя. С какой целью – этого знакомый Дарьи не знал, но говорил, что портрет находится у Кондратьева и тот теперь никому его не показывает.
– Да как же я-то ничего не знаю об этом? – удивлялся Ракита.
– Помилуйте, барин, разве вам будут о таких пустяках говорить, беспокоить вас зря! – отозвалась Дарья.
– Ну, это не зря… Бог знает, что тут кроется… Сюртук мне скорее, пальто, скорее, скорей!
– Уходишь? Отдохнул бы, – пожалела Пантелея Ивановича жена.
– Какой тут, матушка, отдых, – замахал тот руками, – такое дело, такое дело!
Он убежал. Первому же дворнику, встреченному на пути, он приказал как можно скорее бежать в дом, где жили железнодорожные рабочие, и немедленно привести к нему Кондратьева. За первым посланным он отправил второго, третьего. Поиски оказались напрасными. Кондратьева нигде не было.
– С каким-то мастеровым запьянствовал, – сообщили посланцы, – видали тут его… домой приходил…
– Зачем? – спрашивал Ракита.
– В сундуке рылся, искал что-то… Потом ни с того ни с сего побил жену и ушел…
– И нет его?
– Нигде нет! Верно, в город ушел…
Ракита строго-настрого приказал, чтобы Кондратьева доставили немедленно, как только найдут.
Наступила ночь. Пантелей Иванович тревожился, томился, посылал узнать, не вернулся ли сцепщик, – все было напрасно; даже к рассвету Кондратьева все еще не было.
Измученный всей этой непрерывной суетой, Пантелей Иванович, когда стало светать, вздремнул. Вдруг он почувствовал, что его будят, и открыл глаза. Было уже совсем светло, наступило утро. Над Ракитой склонился тормошивший его усатый городовой.
– Ваше благородие, вставайте, – будил он Пантелея Ивановича, – нашелся!
– Кто нашелся? – еще не придя в себя, спросонок воскликнул тот.
– Кондратьев нашелся… лежит…
– Где? Спит пьяный?
– Какое, ваше благородие, пьяный! Мертвый!
Это сообщение было настолько неожиданно, что всякий сон как рукой сняло с Ракиты.
– Как мертвый? – закричал он. – Быть не может.
– Так точно, а все-таки Кондратьев померши.
– Да где он?
– Там, у Глухозерского завода, около леса… Караул уже приставлен, чтобы посторонние не налезали…
Ракита натянул пальто, схватил портфель и со всех ног кинулся к тому месту, где нашли Кондратьева. Еще издали он увидал кучку народа.
– Ваше благородие, – подбежал к нему городовой, приставленный к телу, – что-то неладно…
– Что еще?
– Покойник-то, хотя и мертвый, а словно шевелится…
– Глупости…
– Извольте сами взглянуть, то есть, не весь шевелится, а можно сказать, частью только.
Пантелей Иванович растолкал любопытных и подошел к распростертому на земле телу. Он сразу узнал Кондратьева, и его опытному глазу незачем было долго смотреть; сцепщик был мертв. Но положение тела было самое покойное. Казалось, будто умерший сладко спит. Никаких следов борьбы около него не было заметно.
Ракита снял шапку и перекрестился. Вдруг он так и замер на месте. Блуза на теле трупа приподнималась, как будто под ней было какое-то живое существо, силившееся выбраться на свободу.
– Шевелится, шевелится! – раздались голоса.
Пантелей Иванович понял, что ему необходимо что-нибудь сделать. Концом шашки он отмахнул ворот блузы и с криком отскочил прочь.
Из-под блузы показалась голова змеи…
Глава 12
Итак, то, что считалось бредом нетрезвого воображения, оказывалось существующим в действительности… Это была змея, несколько более полу-аршина длины, с пепельно-серого цвета спиною и буро-желтым брюхом, испещренным бесчисленными точками-пятнами; на самом конце головы виден был маленький нарост, двигавшийся весь, лишь только пресмыкающееся открывало пасть, откуда видны были острые длинные зубы. Змея казалась раздраженной. Она то свивалась, то развертывалась, поднимая при этом голову и шипя. Эти ее движения и привели в себя перепуганных людей.
Первым опомнился Ракита.
– Прочь! Все прочь скорее! – закричал он.
Его окрик окончательно рассеял оцепенение.
– Ваше благородие, – схватил Ракиту за рукав один из городовых, – вы-то… вас она…
– Прочь! – прохрипел Пантелей Иванович. – Револьвер!… Скорее!… Скорее!…
Змея, извиваясь, ползла на него. Однако Ракита не побежал, а только отступил в сторону с пути пресмыкающегося. В это мгновение в руке у него очутился револьвер.
Раздраженная гадина приподнялась несколько, чтобы оттолкнувшись от земли, броситься на свою жертву. Все кругом вскрикнули от страха. Но чем ближе была опасность, тем все более овладевал собою Пантелей Иванович. Совершенно хладнокровно взял он револьвер на прицел и только выжидал такого положения, когда голова гадины хотя на мгновение останется неподвижною. Наконец грянул выстрел, и в то же мгновение Ракита отскочил в сторону; но пуля не пропала даром. Все вокруг вздохнули с облегчением: пресмыкающееся извивалось на траве, голова его была разбита.
Теперь и помимо Ракиты нашлись храбрецы. Один ударил змею по вздрагивавшему телу палкой, другой хотел перерубить оказавшимся под рукою топором.
– Не сметь трогать! – закричал Пантелей Иванович. – Это – вещественное доказательство!
– Да, ваше благородие, шевелится она, стало быть, жива еще, проклятая!…
– Видите, не ползет… Чего же больше?…
Он подошел и подбросил уже замиравшее туловище змеи носком сапога.
О несчастном Кондратьеве как будто позабыли. Внимание пока устремлено было на убитое пресмыкающееся.
Ракита между тем осматривал труп. Укус змеи ясно был виден; таким образом, в причине смерти не могло быть никакого сомнения. Наступление смерти было также очевидно.
– Караул к телу пусть встанет! – распоряжался Пантелей Иванович. – Я уйду с докладом.
– А змея?
– Пусть остается здесь, пока не прибудет следователь!
Он ушел.
Тело караулили, пока не прибыл местный пристав с большим нарядом городовых, и вскоре после него прокурор, явившийся сюда из любопытства, и следователь. На этот раз они были не одни. Вместе с ними явился и сам Мефодий Кириллович Кобылкин.
Он не только, казалось, не вмешивался в следствие, которое начали прокурор и следователь, но даже как будто совершенно не интересовался им. Кое-как мельком взглянув на труп Кондратьева, потрогав тросточкой мертвую змею, он сейчас же после этого очутился около Ракиты, чуть не дрожавшего со страху в присутствии важных начальствующих лиц.
– Пантелей Иванович Ракита? – заговорил с ним Кобылкин. – Слыхал, много слыхал, рад лично познакомиться с героем…
– Помилуйте, что вы! – сконфузился тот.
– Как „что вы“? Будто вы не герой! Да вас теперь, думаю я, превыше облака ходячего в газетах превознесут… награждение возьмете!
– Где уж нам, – бормотал окончательно сконфуженный хохол.
Мефодий Кириллович схватил Ракиту за рукав и потянул за собой в сторону, где вовсе не было людей. Там, оглядевшись и увидав, что близко никого нет, он сказал, без обычных своих ухваток и ужимок:
– Я слыхал про вас, у вас есть способности; хотите над этим делом вместе работать?
– За счастие почту! Господи, с вами! – захлебнулся от восторга хохол.
– Никакого счастья нет… Мне просто нужен дельный человек в этой местности, человек, на которого можно, как на самого себя, положиться, потому что дело это очень серьезное, столь серьезное, что, сколько я умом ни раскидываю, ничего не выходит. Как будто ясно все, а для меня темень и ни искорки света… Вот что… Если хотите поработать, приходите ко мне, как только освободитесь… Попьем чайку, закусим и побеседуем… Так?
– Рад быть по мере сил моих полезным!
– Прекрасно! Так, прежде всего, о нашем уговоре – молчок, ни полслова даже супруге… Даже когда она вас ласкать будет, и тогда нишкните, что ко мне идете. Поняли? Прекрасно! Потом, из дому выйдете в форме, у знакомцев переоденетесь в цивильное и так уже явитесь ко мне. А живу я, знаете где? Четвертый дом от угла. На углу посыльный стоит, вы подойдите и скажите ему, не знает ли он, где живет Пискарь, он вас и проводит… Поняли?
– Так точно, – отвечал Ракита, а сам думал: „Господи, сколько он наговорил, верно, что-нибудь особенное… “Хватай, да тащи” – не годится…“
Он подумал, не рассказать ли теперь же Кобылкину все, что ему известно про найденный несчастным Кондратьевым фотографический портрет, но потом решил, что расскажет все это потом, когда будет у него. Мефодий Кириллович, заметивший по выражению его лица, что он хочет заговорить, быстро спросил:
– Что у вас? Говорите скорее!
– Вечером, как буду у вас, скажу-с… Так, одно соображение и некоторая подробность… Здесь долго рассказывать-с…
– Хорошо, тогда до вечера… Не забывайте, что я сказал, а теперь пойдем скорее туда, я боюсь, что мы и так слишком долго говорили…
И, сразу весь переменившись, он побежал к группе судебных и полицейских властей, уже закончивших протокол.
– А змею нужно послать в зоологический кабинет университета, – авторитетно говорил прокурор как раз в то мгновение, когда около него очутился Кобылкин.
– Собственно говоря, зачем же это? – воскликнул тот.
– Как зачем? Нужно определить, что это за гадина… Ведь их многое множество.
– Да это я вам и без университета скажу!
– Вы? – И изумление ясно отразилось на лицах и прокурора, и следователя.
– Именно я… Если вы только желаете знать, так это песочная гадюка… Пошлите в университет, ручаюсь, то же ответят.
– Батюшки! Да откуда же это вы? – совершенно искренне удивился следователь. – Вот не подозревал-то!
– Мало ли вы чего, милый человек, не подозреваете, а нашему брату все нужно знать…
– Ого, как вы! – вмешался прокурор. – Ну, если вы такой всезнайка, скажите, что вы думаете обо всем этом змеином деле.
– Да ничего не думаю!
– Уж будто так!
– Уверяю вас… Что о нем думать-то! Ну, змея, так мало ли змей на свете, а тут гадюка, да и все…
– Да как же она сюда попала?
– Кто ее там знает? Может быть, ворона на хвосте принесла…
Прокурор пожал плечами, следователь покачал головой.
К выходкам Кобылкина, порою даже очень грубым, к его своеобразной манере говорить все уже давно привыкли и перестали обижаться. Всякому, кто знал близко Мефодия Кирилловича, было хорошо известно, что в то самое время, когда он прыгает, гаерствует, иногда грубит, иногда болтает как будто совсем без толку, мозг его стремительно работает, и бессмысленные с виду выходки и болтовня только помогают этой работе воссоздания по ничтожнейшим частицам стройного целого.
Так и теперь, во время всего этого разговора, глаза Мефодия Кирилловича ни на мгновение не останавливались на одном каком-нибудь предмете; они так и бегали, скользя то по трупу Кондратьева, то по неподвижной змее, то по окружавшей следователей и полицейских толпе. Кобылкин словно хотел взглядом проникнуть в тайники души каждого, узнать, что там спрятано, и вывести это спрятанное наружу.
– Братцы! – вдруг крикнул он. – Нет тут мастера, что с покойным вчера выпивал?
Толпа зашевелилась, но никто не вышел. Стоявшие в толпе только вопросительно оглядывали друг друга.
– Выходи, не бойся, если есть! – закричал полицейский пристав.
Отклика не было.
– Ну еще бы, конечно, нет! – как-то особенно насмешливо воскликнул Кобылкин. – Поди теперь он поминки справляет по другу-то… За упокой души его выпивает!
– Мефодий Кириллович! – схватил его за руку следователь. – Что вы хотите сказать этим?
– Да ничего, а что?
– Вы что-нибудь знаете?
– Ровнехонько ничего!
– Простите, тогда вы что-нибудь думаете?
– А уж это мне знать, что я думаю…
– Скажите… ведь ваше замечание говорит о преступлении…
– Ну, это как вы хотите… только отчего же приятелю усопшего приятеля не помянуть?
– Но ведь этого мастерового нет здесь.
– Мастерового? Какого мастерового?
– Вы сами же сказали!
– Ошибаетесь, любезнейший, я сказал: мастера.
– Так не все ли равно?
– А это опять-таки – как вам угодно… Простите, меня любопытство берет…
С этими словами Кобылкин бросил следователя и подбежал к Раките.
– Так побил покойничек вчера жену-то? – подмигивая и кривляясь, спросил он.
– Так точно, побил!
– А за что, не знаете?
– Не могу знать, дело семейное!
– Да, семейное! Бедная женщина, ишь, муж тут лежит мертвехонький, а она не пришла. А вы как же это, господин околоточный, не знаете, почему она не пришла?
Ракита глаза вытаращил от изумления.
– Простите, думал, узнает, скажут…
– То-то вот! Вы подите-ка, посмотрите!
– Что еще такое? – подошел прокурор.
– Вот пойдемте все за ним, – кивнул головой на Ракиту Кобылкин, – так и узнаете; а вам, мой любезнейший друг, я вот что скажу…
Он наклонился совсем к уху следователя и прошептал:
– Не все мастера мастеровые, бывают и баре-мастера, только кто на что горазд.
Кобылкин весело улыбался, как будто говорил что-то пикантное.
Глава 13
Порфирий Михайлович Козловский, судебный следователь, задрожал, когда услыхал эти слова.
– Тише, тише! – остановил его улыбавшийся все так же Мефодий Кириллович. – Знаете, пусть прокурор добирается, как хочет, а мы с вами пойдем… У меня тут на двоих шарабанчик есть…
Не прощаясь ни с кем, он потащил за собою Козловского к группе стоявших поодаль экипажей.
– Ив-а-ан, шар-а-а-бан! – еще издалека закричал он.
То, что Мефодий Кириллович называл шарабаном, было просто-напросто двухколесной таратайкой.
– Ты, Ваня, иди домой, я вот их подвезу и сам отправлюсь, – объявил Кобылкин сидевшему в таратайке человеку. – Ну-ка, добрейший, лезьте!
Козловский повиновался беспрекословно. Он понимал, что Мефодий Кириллович хочет сделать ему сообщение и притом так, чтобы никто, кроме их двоих, не присутствовал при разговоре.
Так оно и вышло.
Отъехав настолько, что никто их не мог слышать, Мефодий Кириллович оглянулся по сторонам и, не глядя на Порфирия Михайловича, резко отчеканил слово за словом:
– Однако не долго же вдовствовала жена этого пьяницы Алексея Кондратьева!
– Что вы хотите этим сказать! – воскликнул он.
– Только то, что она последовала за своим мужем.
– Быть не может! Умерла?
– Вот увидите сами…
Порфирий Михайлович снял шляпу и платком отер выступивший у него на лбу пот.
– Что же это такое?… Неужели злой рок?… – проговорил он. – Погибает муж при обстоятельствах, исключающих возможность преступления…
Кобылкин пристально и в то же время насмешливо поглядел на своего спутника.
– И вслед за ним, – докончил свою речь Козловский, – умирает и жена… Что это, несчастное совпадение? Отчего умерла эта Кондратьева?
– По-видимому, от угара, а на самом деле я не знаю от чего… Вернее всего, что от угара!
Теперь Кобылкин не гримасничал, не выкидывал никаких обычных своих штук. Лицо его было бесстрастно-холодно, голос приобрел металлический оттенок. Он был совершенно неузнаваем.
– Мефодий Кириллович! – умоляюще заговорил Козловский, – вы, оказывается, знаете то, чего даже не знает наружная полиция, например, гибель этой Кондратьевой…
– Это все очень просто, – перебил Порфирия Михайловича Кобылкин. – У меня есть люди, мною выдрессированные, так сказать, простите за цинизм, натасканные на преступление. Они были вчера вечером и здесь, и в местном полицейском участке. Когда вовсе не вовремя явился Ракита и стал с лихорадочной поспешностью посылать людей за Кондратьевым, вовсе нетрудно было сообразить, что ему стало известно что-то новое. Когда же прибежали сказать, что Кондратьева нашли мертвым, один из моих агентов догадался кинуться в его жилье. Он занимал жалкую избушку, жили он да жена; взрослая дочь имеет деликатное занятие в городе. Агент мой нашел Кондратьеву мертвой.
– Отчего же он не поднял тревоги?
– Я его только похвалил за это. Он сделал как раз то, что сделал бы и я…
– Понимаю! – воскликнул Козловский. – Вы надеялись, что убийцы, если они были, вернутся и выдадут себя… Учреждено было наблюдение?
– На что я надеялся – это мое дело, – холодно сказал Кобылкин, – а затем я не говорил об убийстве, напротив того, ясно выразился по-русски, что смерть Кондратьевой произошла, по-видимому, от угара.
– Только по-видимому… Но что же вы, Мефодий Кириллович, говорите и не договариваете?
– Ах, если бы я мог договорить!
– Кто же мешает-то вам?
– Сам я себе мешаю – вот кто!… И то я разболтался с вами, а болтать вовсе не в моих привычках…
Козловский улыбнулся.
– Вам смешно? – заметил эту улыбку Кобылкин. – Еще бы! Старичишка не болтает языком, только когда спит, и вдруг такой отзыв о себе.
– Да знаю я, знаю уже я вас, Мефодий Кириллович, вы не обижайтесь!
– Эх, чего обижаться? Не стоит! – махнул он рукой. – Ведь вы, когда засмеялись, так думали: „Болтать у него не в привычке, а что думал, все выболтал“, так? А болтал-то я и болтать буду… Тпру! – вдруг остановил Кобылкин лошадь.
Начинались уже дачные строения, в которых по большей части обитали рабочие с железной дороги и многочисленных фабрик и заводов этой окраины. Кобылкин, остановив лошадь, передал вожжи Порфирию Михайловичу и трусцой подбежал к придорожной канаве. Там он минуты две-три внимательно осматривал траву, каждый камешек, потом выпрямился, поглядел пристально на Козловского и медленно пошел к шарабану. Порфирий Михайлович с любопытством наблюдал за ним, но решительно не понимал, что значит весь этот осмотр.
– Нашли что-нибудь? – спросил он, когда Кобылкин сел и принял вожжи.
Тот пожал плечами, но не ответил и продолжал свою речь, как будто перерыва и не было вовсе:
– А болтал-то я и болтать буду, потому что, по моему мнению, так нужно. Вам же, любезнейший друг мой, удивляться и удивляться без конца придется… Знаете что?
Он склонился и что-то прошептал на ухо Козловскому.
– Мефодий Кириллович! – вскричал Козловский. – Да ведь вы же сами чуть не прямо говорили…
– Мало ли что язык болтает… дело не в том! А вот просьба к вам. Первая – на следствие не очень налегайте, тормозите его, пока я вам не скажу, вторая – сделайте вид, будто несчастная Кондратьева скончалась от угара… Пусть пока так будет…
– А вскрытие?
– Можно так сделать, что результаты вскрытия одному лишь вам, кроме доктора и меня, будут известны… Сделаете так?
– Слушайте, Мефодий Кириллович, – серьезно проговорил следователь, – вы уже так много сказали, что еще несколько слов вовсе не будут лишними. Они помогут мне с большей последовательностью содействовать вашим планам… Скажите, что вы знаете?
– В том-то и дело, что я ничего не знаю, а только делаю выводы.
– Будто?
– Уверяю вас… Эх, если бы я только что-нибудь знал!
– Но выводы-то, по крайней мере, выводы ваши?
Кобылкин искоса посмотрел на спутника и многозначительно произнес:
– Змею, убитую около трупа Кондратьева, я назвал песочной гадюкой. То же вам скажут и ученые зоологи. Эта порода змей, самая опасная и ядовитая из всех, водящихся в Европе, никогда у нас в России, да еще здесь, на крайнем северо-западе, не встречалась. Не ворона же, в самом деле, ее на хвосте принесла, и не приползла же она сама только для того, чтобы ужалить насмерть какого-то жалкого пьяницу. Ясно, что она привезена сюда. Теперь с какой целью? Одно мне только казалось верным, что вовсе не для уничтожения Кондратьева… Его смерть была следствием каких-то других причин.
Порфирий Михайлович покачал головой.
– Все это странно, все это так запутано, что положительно я боюсь, как бы мы все не опростоволосились…
– Все может быть, и на старуху бывает проруха… Да вот мы и приехали… Смотрите, этот Ракита успел обогнать нас… вот молодец!
Около совсем сгнившего и покосившегося домишки стоял народ. У входных дверей видны были дворники, городовые; как только у ворот остановился шарабан с Козловским и Кобылкиным, к ним подбежал дрожащий, видимо, растерявшийся Пантелей Иванович.
– Мефодий Кириллович, – путаясь в словах, залепетал он, – да это что же такое делается-то? Ведь Кондратьева-то мертвая…
– Смерть пришла, – живым не будешь, – отозвался Кобылкин, – вот тут господин следователь, а там прибудет прокурор… Я же, любезнейший Порфирий Михайлович, оставлю вас, мне здесь делать нечего.
– Как нечего? – удивился Козловский. – Да ведь тут…
– Угар и более ничего, – перебил Кобылкин, – здесь же будет один из моих агентов… Я совсем не нужен…
Не давая времени для возражений, Мефодий Кириллович круто повернул лошадь и погнал ее вперед по улице.
Глава 14
Бывает в жизни человеческой так, что вдруг после ряда успехов выпадает полоса незадач, именно незадач, а не неудач: не то чтобы не удавалось задуманное, то есть предварительные планы того или другого дела оказывались плохо продуманными, а потому и исполнение их не смогло удаться – такие неудачи зависят уже от самого человека, – а вот когда вдруг что-то стихийное врывается совершенно непредвиденно, и прекрасно продуманные и обстоятельно обоснованные планы вдруг рушатся сами собой, на первый взгляд, без всякого постороннего вмешательства – это уж именно незадача. Не задается, да и все…
Именно такая полоса незадач постигла Кобылкина. Лошадка бежала быстро, рабочая окраина осталась позади, и по обе стороны мелькали двухэтажные простоватые домики, среди которых высились громады всевозможных фабрик и заводов.
Все это навело Кобылкина на мысль о таинственном мастеровом, гулявшем на полотне с погибшим Кондратьевым.
„Да, да! Человек не иголка, а вот как тут его разыщешь?… И мои-то, мои-то как опростоволосились! Ничего не видали, ничего не слыхали! Вместо того чтобы с этого Кондратьева глаз не спускать, они даже и издали не следили за ним… Ай, Савчук, Савчук, Савчук! – Мефодий Кириллович, хотя никого с ним не было, укоризненно закачал головой. – И тут я вижу борьбу… борьбу такую, какой мне еще не приходилось вести никогда. Мой неведомый противник не только ловок и хитер, но и умен… о, очень умен… Если судить по частям, то приводится в исполнение какой-то стройный план, обдуманный со всех сторон. Только где план, там и цель, а какая? Если бы знать ее, если бы только знать! Все бы тогда узнал, и держись тогда, господа невидимые синьоры, уж были бы вы у меня в кулаке“.
Теперь Мефодий Кириллович рассмеялся, но в его смехе звучала все-таки скрытая досада. Его окликнули.
Мефодий Кириллович оглянулся. На извозчике догонял его Пискарь, которого он посылал в Финляндию, чтобы узнать, зачем понадобилась там справка о Кудринском. Кобылкин узнал его и остановил свою лошадь.
– Ну, отпускай извозца, садись ко мне, – крикнул он Пискарю после обычных приветствий.
Тот кинул извозчику мелочь и вскочил в шарабан.
– Что, как съездил? В чем дело? – сыпал вопросами Кобылкин.
– Сущие пустяки, Мефодий Кириллович!
– Пусть так, а дело-то в чем?
– Изволите ли видеть, Иматра, водопад, выбросил труп, избитый и обезображенный так, что кто это был при жизни – невозможно узнать.
– Так, того, Кудринский-то при чем?
– А Кудринский ведь перед этим приехал в Иматру.
– Так его подозревают? – воскликнул Кобылкин, и в голосе его послышалась радость.
– Да нет, Мефодий Кириллович, не то, совсем не то!
– Что же? Говори скорее! Мямлишь, мямлишь!…
– Сами же вы меня перебиваете… Кудринский приехал и уехал через несколько часов, не дожидаясь поезда, на лошадях сперва на Малую Иматру, а затем к верховью реки. Финляндцам показалось, уж и не знаю с чего, – не он ли был выброшен Иматрой?
– Фу, бессмыслица! Да ведь он уехал, его, стало быть, видели?
– Видели, отвозили, а тем не менее в Выборге все-таки нашли нужным справиться, жив ли он?
– И только?
– Больше ничего… Пустая формальность…
Кобылкин задумался.
– А все-таки это мне на руку, – как бы сам с собою проговорил он, – у меня есть повод поговорить с ним.
Мысль так и заработала, но Кобылкин, продолжая думать о Кудринском, торопливо рассказал Пискарю о происшествиях этих дней.
Он стал серьезен и сообщил Пискарю, что направляется теперь к дочери несчастных Кондратьевых.
– Ничего я, вернее всего, не узнаю, – говорил он, – а посмотрю на девицу, какая она из себя.
Они были уже в городе и выехали даже за это время на Пески.
Свернув в одну из малооживленных улиц, Кобылкин остановил шарабан у ворот большого дома и, сойдя на панель, властно дернул звонок у ворот.
Вышел дворник.
– Послушай, Анну Кондратьеву из семнадцатого номера вызови! – приказал ему Кобылкин.
– А вам зачем? – полюбопытствовал тот.
– Говорят, так зови! – рассердился Мефодий Кириллович.
– А как ее звать, коли ее нет! Фью, пропали, уехали!
Это сообщение было так неожиданно, что даже привыкший к неожиданностям Кобылкин оторопел.
– Как уехала, куда? – несколько растерянно спрашивал он.
– Кто же ее знает? Народ ноне вольный!
Кобылкин тут до крови прикусил губу.
– Одна уехала? – спросил он.
– Пришел тут ночью не то господин, не то кто его знает… двугривенный мне дал… Ну, мне что же? пропустил… Много ведь их к Анютке ходило… А потом, гляжу, под утро Анютка с ним выходит и узел у ней… „Куда собралась?“ – спрашиваю. Смеется: „Далеко, – отвечает. – За город…“
Кобылкин только головой покачал.
„Кондратьев и Кондратьева погибли, дочь увезена, – думал он, – именно увезена, хотя, вернее всего, уехала по доброй воле. Стало быть, эти люди владели какою-то тайной… имели, может быть, сами того не зная, – гм, гм! Опять что-то проясняется“…
Недовольный вернулся он к себе. Десятки всевозможных дел уже ожидали его. Приходилось разрываться на части, думать и ломать голову над такими вопросами, которые в это время были совсем неинтересны.
Явился Савчук с подробным докладом обо всем происходившем в домике Кондратьевых. Ровно ничего нового не было; все было так, как предполагал Мефодий Кириллович. Впрочем, теперь Савчук, передавая некоторые подробности осмотра, сообщил, что заметил легкий беспорядок в вещах Кондратьевых, находившихся в сундуке, даже не имевшем замка.
– Как будто кто искал что-то! – сказал он.
Кобылкин особенного внимания не обратил на это сообщение, но по привычке все-таки запомнил его.
Вскоре после Савчука явился и Пискарь. И у него не было ничего, что могло бы пролить свет на внезапное исчезновение Анны Кондратьевой. Действительно, она накануне вечером даже и не думала никуда уезжать. Поздно ночью явился к ней посетитель, которого никто в квартире не видел до того. О чем он говорил с Анной – никто тоже не слыхал, но ночью девушка вдруг собралась, объявила хозяйке квартиры, что уезжает на неделю, а может быть, и долее, куда – этого она не сказала, но заплатила все, что была должна, и ушла с виду довольная и счастливая.
– Счастье мне такое привалило, – объяснила она подругам, – что отказываться нельзя…
Все это было совершенно в порядке вещей, но Кобылкин почувствовал, что невидимые враги нанесли ему и на этот раз поражение…
„Ловко, – подумал он, – пока что – разбит по всем пунктам!“ Однако эти поражения, и он был в том уверен, только разжигали теперь его энергию и заставляли желать полной победы во что бы то ни стало.
Глава 15
Вскоре Мефодий Кириллович отправился для решительного разговора к Кудринскому, где пытался выяснить, действительно ли Алексей Николаевич ездил на Иматру и если да, то с какой целью.
Кудринский объяснил, что он музыкант и как человека искусства его давно тянуло посмотреть на это чудо природы.
В дальнейшем разговоре Кобылкин упомянул о возможном убийстве Воробьева и посягательстве злодеев на наследство. Однако волнение и искренность Кудринского были настолько неподдельны, что Мефодий Кириллович был почти очарован им и, уезжая, думал, что приобрел в лице Кудринского еще одного союзника по раскрытию тайны. Но некоторые сомнения не оставляли его.
Глава 16
Утром того же дня, когда разговор между Кудринским и Кобылкиным, начавшийся обоюдною пикировкой, привел их обоих чуть ли не к тесному союзу ради достижения общей цели, Марье Егоровне подали визитную карточку с совершенно незнакомой ей фамилией.
На одной стороне карточки было напечатано по-русски „Иван Иванович Морлей“, на другой по-английски „Джон Морлей, эсквайр“. К русскому наименованию владельца карточки было приписано карандашом: „По делу о мистере Воробьеве“.
Эта приписка заставила Марью Егоровну вздрогнуть: дело шло об ее покойном отце, хотя фамилии Морлея она решительно никогда не слыхала. Карточку Морлея подали Марье Егоровне как раз тогда, когда ее решение о посещении Кудринского было уже принято.
– Просите! – приказала она горничной. – Я выйду сейчас, лишь переоденусь.
Морлей оказался типичным англичанином. Он был высок ростом, худощав и неуклюж. Русые волосы, издали казавшиеся красными, были коротко выстрижены, снизу обеих щек торчали, как рыбьи жабры, длинные бакенбарды; подбородок и верхняя губа, запавшая над выдающейся нижней, были выбриты.
При появлении Марьи Егоровны он низко склонился перед нею и назвал себя. Затем он осведомился, не говорит ли мисс Воробьева по-английски, но поспешил к этому прибавить, что сам в достаточной мере владеет русским языком и может свободно объясняться на нем.
– Тогда уже лучше по-русски, мистер Морлей, – отозвалась Воробьева, – я-то хотя и знаю ваш родной язык, но не настолько, чтобы думать на нем, а по всей вероятности разговор у нас будет деловой.
– О, уез! – отвечал англичанин, но сейчас же, спохватившись, прибавил по-русски: – О, да, да!
Он немного помолчал, провел языком по губам и произнес:
– Я прежде всего позволю себе выразить вам, мисс, глубокое соболезнование по случаю вашей утраты.
Марья Егоровна ответила ему поклоном.
– Утрата очень тяжелая, но – увы! Жизнь и смерть не в руках человека. Особенно понимаемо мне ваше, мисс, горе потому такое, что умерший Джордж Воробьев, ваш отец, был древним моим клиентом и даже искренним другом.
– Вы знали папу? – воскликнула Марья Егоровна.
– О, да! Очень и очень хорошо знал я его!
С этими словами Морлей поднялся с кресла и выпрямился во весь рост; потом его тощая фигура согнулась в почтительном поклоне перед Марьей Егоровной, и он произнес:
– Я был давним и постоянным банкиром покойного мистера Джорджа!
– Вы? Вот как! Я никогда не слыхала от отца.
– У меня нет чести знать, почему покойный мистер Джордж умалчивал об этом. Для себя я объясняю лишь тем, что ваш отец не имел желания так скоро умирать, и когда смерть постигла его стремглав, он позабыл говорить обо мне.
– Да, вы правы… Ах, если бы вы знали, какой ужас пережила я!… Отец, мой единственный друг…
– У вас, – вдруг перебил ее англичанин, – теперь будет еще единственный друг, это, – он ткнул себя пальцем в грудь, – Джон Морлей, эсквайр, Лондон, Риджент-стрит…
Молодая девушка чуть было не улыбнулась этому упоминанию адреса, но сдержалась.
– Благодарю вас, – сказала она, – я надеюсь воспользоваться вашей так мило предложенной дружбой.
– Я буду, как древний друг вашего отца, к вам, как верный пес. Но теперь прошу выслушать, что мне придется вам говорить.
– Пожалуйста, я слушаю! – отозвалась Марья Егоровна.
Морлей сперва откашлялся, потом привел верхнюю часть своего туловища в положение, параллельное спинке и перпендикулярное сиденью кресла, откашлялся еще раз и лишь тогда начал говорить.
– Ваш так несчастливо умиравший отец, мисс Воробьева, – начал он, – был очень миллионер, я говорю „был“ потому только, что „был“ значит не „есть“.
– Я понимаю вас, – перебила его Марья Егоровна.
– Я рад тому, это меня будет в дальнейшем несколько облегчить. Итак, ясно, что „был“ значит не „есть“ теперь. Ваш почивавший в земле родитель различною торгового коммерциею успел приобретать себе многие лета прежде некоторое количество денег, продолжавшееся до…
Морлей поднял руку, вдвинул ее за борт сюртука, вытащил бумагу, развернул и торжественно сказал, сперва заглянув в нее:
– До двух миллионов трехстах семидесяти тысяч шестисот тридцати двух рублей на ваши деньги и двенадцати копеек еще, но это было давно, очень давно…
– Однако, – сказала Марья Егоровна, – я думала, что состояние отца было больше.
– Оно могло быть больше, – перебил ее Морлей, – но оно не могло быть больше потому, что покойный мой древний друг Джордж стал водить многие дела риска и сердца, а где находится сердце, там капитал не произрастает…
– Позвольте, – опять перебила его Марья Егоровна, – я начинаю что-то понимать… Состояние моего отца уменьшилось? Так? Но при чем сердце?
– Я позволяю себе, мисс Воробьева, рассказывать вам еще одну интересантную повесть, и вы из нее будете постигнуть всю суть в сердце вашего почивавшего в земле отца.
Марья Егоровна даже и ответить не успела, как Морлей перешел уже к своему рассказу. Молодая девушка слушала англичанина, как бы в забытьи, но чем далее шел его рассказ, тем все более и более, особенно в самом конце его, разрасталось в ней чувство восторга, удовольствия, радости, счастья…
А между тем то, что говорил на исковерканном русском языке мистер Морлей, вовсе не имело целью, чтобы сделать кого-либо счастливым. Напротив того, многих подобный рассказ сделал бы несчастными, повергнул бы в ужас, заставил бы клясть жизнь.
Морлей, предупредив Воробьеву, что он должен, даже вопреки своему желанию, рассказать всю правду, передал следующее.
За много лет до этого разговора Егор Павлович, тогда еще только начинавший жизнь молодой человек, совершил нехорошее, злое дело, которое, в сущности, говоря, явилось основанием всего его будущего богатства. Он тогда служил в банковском учреждении и сделал там крупное хищение. Случилось, однако, так, что первое подозрение пало не на Воробьева, а на другого служащего. Первое подозрение в таких случаях – чаще всего и последнее. Будь заподозренный белее первого снега, он только в исключительно редких случаях успевает доказать свою невиновность. Будто сами собою являются против несчастного неоспоримые улики. Истинно виновный остается в стороне, а все обвинение, вся тяжесть приговора ложится на такого несчастного. Так было и в этом случае. Воробьев остался вне всякого подозрения, а его товарищ, совсем ни душой, ни телом не причастный к преступлению, был судим, приговорен и сослан.
Марья Егоровна слушала, и сердце ее учащенно билось.
– Как звали этого несчастного? – спросила она.
– Сейчас я буду говорить вам, мисс, – схватился за бумаги Морлей и через минуту объявил: – Николай Масленников!
– Слава богу! – невольно вырвалось у Воробьевой восклицание. – Не тот, не тот!
С души у нее отлегло, когда Морлей ответил. Она была уверена, что услышит фамилию Кудринского…
Англичанин посмотрел на нее пристально-долгим взором, и в глазах его отразилось выражение скрытого торжества.
– Я теперь буду разговаривать дальше, – снова начал он. – Для меня нет никакой неизвестности, каковой судьбою пользовались эти люди в вашей этой Сибири…
– Эти люди! – воскликнула Воробьева и почувствовала, что вся так и холодеет.
– Ну, да, мисс, эти люди, – с подчеркиванием произнес Морлей. – Мне нет известности о причинах вашего удивления тому, что я говорил „эти люди“, потому что за товарищем вашего почивавшего отца пошла его вернейшая добродетельная жена и в то же время понесла на своих руках малолеточного сына…
– Дальше, дальше!… – едва имела в себе силы выкрикнуть Марья Егоровна.
Морлей, делая вид, что не видит волнения молодой девушки, невозмутимым тоном продолжал свой рассказ.
Теперь он рассказывал, что Воробьев сумел в несколько раз увеличить похищенную сумму и стал, если не богачом, то состоятельным человеком. В нем пробудился дух наживы, явилась размашистость, непреодолимое стремление к крупным оборотам. Откуда-то Воробьев узнал непреложную истину, что всякое дело – золотое дно для того, кто первый начинает его. Эта истина подтолкнула его вперед. Он решился рискнуть своим состоянием и отправился на Амур, который был в то время сказочною страною для всех искателей счастья и приключений. Повезло там и энергичному Воробьеву. Он быстро стал миллионером и тогда-то, вероятно, под влиянием угрызений совести, он решил поправить сделанное им зло, но – увы! – раскаяние пришло слишком поздно. Несчастную обездоленную семью или, вернее, следы ее Воробьеву удалось найти без особенного труда, но только следы… Горемычные супруги не видели своего несчастия, ибо они были уже в ином мире, из которого нет ни для кого возврата.
– А их дитя? – вся, замирая от волнения, трепещущим голосом спросила Марья Егоровна.
– Я буду о нем иметь сейчас к вам свою речь, – ответил Морлей. – Этот столь молодой ребенок стал виноватым лишь в собственном вашем несчастии.
– Как так? – воскликнула Воробьева.
Но англичанин, не обратив внимания на ее вопрос, с виду бесстрастно, продолжал свой рассказ, хотя глаза его как-то странно блестели, и сам он то и дело вздрагивал.
Прежде всего, он сообщил Воробьевой, что он был товарищем ее отца, когда тот наживал свои миллионы. Общих дел они не вели, но часто встречались, особенно с тех пор, как Морлей поселился в Шанхае. Воробьев часто наезжал туда. У него вдруг оказались какие-то особенные дела на острове Формозе и в самом Китае, особенно в тех портовых городах, которые были открыты для европейцев. Там в одно из свиданий, – так говорил Морлей, – мистер Джордж поведал „древнему другу“ историю своего преступления, сделавшего его глубоко несчастным, признался, как тяжко мучит его совесть и как страстно жаждет он загладить, хотя бы отчасти, то зло, которое он принес своим жертвам.
– К сожалению моему теперь, я тогда весьма одобрял его эти намерения, – произнес Морлей.
– Как же мой отец исполнил их? – спросила дрожащим голосом молодая девушка.
Англичанин снова запустил в боковой карман руку, согнутую в локте под острым углом, и вытащил оттуда большой опечатанный сургучом конверт.
– Чтением такого документа, – торжественно произнес он, выпрямляясь во весь свой длинный рост, – состоящего из начертанного руками вашего почивавшего родителя письма к вам, вы будете иметь самую большую известность обо всем без всякого исключения.
С низким церемонным поклоном он передал конверт Марье Егоровне.
Та вскрикнула, увидав его. Она узнала руку своего отца.
Порывистым движением сорвала Марья Егоровна печати и углубилась в чтение. Морлей сидел неподвижно, словно застыв в своей позе. Он даже прикрыл глаза, но из-под опущенных век виден был его блестящий скрытым торжеством взор. Англичанин зорко следил за каждым новым выражением, появлявшимся на лице Воробьевой…
Марья Егоровна то краснела, то бледнела, читая строки, написанные рукою ее отца. Из них она узнавала то, что сейчас только сообщил ей Морлей. Это письмо было исповедью покойного Егора Павловича, и конец его подтверждал то, о чем она только что начала догадываться.
Кудринский был именно ребенком двух погибших из-за ее отца людей…
Егор Павлович писал дочери, как он, терзаемый невыносимыми муками раскаяния, чтобы загладить свой великий грех перед погибшими Масленниковыми, решил найти их сына. И это удалось ему, но только не сразу. Прошло несколько лет, прежде чем дитя, наконец, было найдено. Ребенок был на краю нравственной гибели, и Воробьев поспел вовремя, чтобы спасти его. Он вырвал мальчика из окружавшей его среды и принял все меры к тому, чтобы тот позабыл о первых годах своей жизни. Далее Егор Павлович сообщал, что, так как ему было бы тяжело постоянно вспоминать фамилию отца ребенка, то он записал своего питомца под именем Кудринского, производя эту фамилию от кудрей на голове Алеши.
„Я воспитал из него честного человека, – писал Егор Павлович, – но никогда – и прежде, и теперь – у меня не хватало, и чувствую, что не хватит достаточно мужества, чтобы признаться ему, чем я был в жизни его родителей… Никогда, никогда! Да и ему так лучше. Мне кажется, что он любит меня, по крайней мере, я чувствую, что он ко мне привязался. Пусть же он останется в неведении – неведение блаженно. А на тебя, дочь, я возлагаю священную обязанность вознаградить его за то, что потерял он в прошлом. По моей вине он потерял семью, так я должен и возвратить ему ее. Ты должна стать его женою. Он (в письме несколько строк было густо зачеркнуто)… так ты, более сильная характером, должна прийти к нему на помощь и заменить ему мать своими заботами. Дочь моя! Ради любви моей к тебе, пожалей меня, сними грех с меня! Будь женою Алексея!“
Молодая девушка читала эти строки, и сердце ее так и рвалось, но уже от счастья.
Вот тайна ее отца! Вот почему он так упорно не хотел говорить о причинах своего, непонятного дочери, желания видеть ее женою Кудринского! В его прошлом было преступление, но не детям судить отцов… Да и времени прошло столько, что всякое осуждение потеряло смысл. Никогда Марья Егоровна не противоречила бы отцу, если бы только знала причину его желания! Зачем он молчал! Она решила свято исполнить его последнюю волю. Теперь она сама должна постараться, чтобы Алексей стал ее мужем. Это самый верный путь к тому, чтобы загладить тот вред, который нанесен ему ее отцом. Что же из того, что она, как сказал Морлей, не так богата, как думала раньше? Все-таки состояние отца не настолько уменьшилось, чтобы от него не осталось ничего. Она отдаст себя Алексею, а вместе с собою и все, что есть у нее. Да, так она поступит, и ее бедный, погибший отец там, на небе, увидит, что его последняя воля не только священна для дочери, но в исполнении ее будет участвовать еще и сердце, потому…
„Потому, что я люблю Алексея!“ – в первый раз определила свое чувство к Кудринскому Маша.
Толчок был дан, молодая девушка поняла, что в ней пробудилась женщина.
В волнении опустила Марья Егоровна письмо, даже не обратив внимания на то, что исповедь ее отца как-то странно обрывалась на полуслове, и под письмом не было подписи.
Если бы письмо читал не столь взволнованный и потрясенный человек, он сразу бы увидал, что за признанием должен следовать еще и конец, но Марье Егоровне в эти мгновения было не до того, чтобы подметить такую подробность.
Она молчала, молчал и Морлей, застывший в одном и том же положении. Так они и сидели, не говоря ни слова.
Глава 17
В молчании прошло несколько минут.
Наконец Марья Егоровна пришла в себя, думы отлетели от нее, вернулась прежняя способность к размышлению над свершавшимися событиями.
Как это ни странно, но в душе ее не было ничего, кроме радости; счастье охватило всю ее…
– Мистер Морлей, – спросила она, – когда папа отдал вам это письмо?
Англичанин еще раз нырнул в свои бумаги, назвал год и прибавил:
– Почивающий мистер Джордж в таком же году стал отправлять куда-то большой ваш портрет. Я очень любовался таким портретом, на таком портрете изображена была вся в живописи вы, мисс!
Марья Егоровна поняла, что Морлей говорит о том самом портрете, который показывал ей отец и который она еще так недавно видела в кабинете Кудринского. Чувство тихого восторга объяло ее. Теперь она знала, что значит этот портрет.
Но вдруг смутный страх охватил ее…
„Он отказывается от меня потому, что он беден, а я богата… Негодное богатство!… Хотя бы его совсем не было… Оно препятствует нашему счастью… Пожалуй, что и лучше, если его стало меньше“
– Мистер Морлей, скажите мне, почему вы лучшие из намерений моего отца – вы понимаете, о чем я говорю? – розыск несчастного малютки! – почему вы назвали несчастием для меня?…
Англичанин усмехнулся как-то криво, вбок, словно желая скрыть свою усмешку.
– Для меня полная известность о том, что писано в собственном письме мистера Джорджа, – сказал он.
– Ну, так что же? Тем лучше!
– Я буду обращать всякое внимание мисс о том, что мой древний друг желает, чтобы мисс Воробьева сделала замужество с мистером Кудринским? Так я понимал?
– Да, я стану женою Алексея Николаевича.
– Вы имеете свое личное состояние? – спросил он. – О, тогда, тогда вы правы!
– Нет, но то, что осталось после моего покойного отца… Ведь я – его наследница…
Англичанин поднялся на ноги и произнес торжественным голосом:
– Мисс Воробьева! Мне неприятно сообщать таковые вести, но для меня необходимость, чтобы у вас была собственная известность. Увы, увы! Уже мне была возможность говорить при вас таково, чтобы вы без наличного удручения встречали прискорбное известие от меня.
– Я поняла вас; состояние моего отца уменьшилось, да?
В ответ на это англичанин резко и холодно отчеканил:
– Из двух миллионов трехсот семидесяти пяти тысяч шестисот семидесяти двух рублей и, кроме того, еще двенадцати копеек, принадлежавших вашему почившему отцу мистеру Джорджу Воробьеву и находившихся в принадлежащей мне банкирской конторе, Лондон, Риджент-стрит, в недавно прошедшее время не осталось ни одного пенса!
– Как? – воскликнула Марья Егоровна, – Разве это возможно?
Морлей пожал плечами.
– Мисс может совершенно убедиться в моей правоте слов самолично. Документы находятся в Лондоне, здесь же при мне засвидетельствованные при помощи закона с них копии. Положение капитальных дел почивавшего древнего моего друга прекрасно видно. Последний чек на всю имевшуюся у меня сумму выдан был мистером Джорджем в Москве. Мне нет известности, у вашего отца, быть может, находится другой банкир и у него, в его конторе, имеет хранение другой капитал, я говорю про себя, я за тем приехал из Лондона.
– Стало быть, я нищая? – несколько упавшим голосом спросила Марья Егоровна.
Англичанин как будто смутился.
– Мисс Воробьева, – заговорил он, стараясь придать своему голосу торжественную мягкость, – ваш почивавший отец был моим древним другом; в истинную память его и моей дружбы я, – голос Морлея зазвучал особенно торжественно, – имею намерение умолять вас принять чек в пятьдесят фунтов стерлингов на мою контору…
Марья Егоровна нервно рассмеялась.
– Нет уж, позвольте мне поблагодарить вас и отказаться, – промолвила она, – вы имеете еще что-нибудь сообщить мне?
– Я думаю, что более ничего не имею сообщить вам…
– Тогда просила бы я… Вы понимаете… ваши сообщения были так неожиданны…
– О да, да, да! Вы желаете остаться одинокой?… Одну пару небольших слов, я нарочно приехал сюда…
– Очень, очень благодарю вас…
– О, я не намеревался снискивать благодарность… У меня все документы, и мне долженствует отдать вам всеполнейше подробнейший отчет. Я останавливался здесь на трое дней. Прошу мисс Воробьеву приходить ко мне или посылать верующего человека. Трое дней, по который я имею честь оставлять, а после в мою банкирскую контору: Лондон, Риджент-стрит.
– Непременно, непременно! Я не задержу вас!
Морлей с низким почтительным поклоном попятился к двери. На пороге он остановился, выпрямился и с величественным жестом произнес:
– Имею счастие откланиваться… Покорнейше буду просить мисс Воробьеву вспоминать, что в моей банкирской конторе лежит для нее навсегда пятьдесят фунтов стерлингов.
Он бесшумно скрылся.
Глава 18
Вошел Кудринский, неся большой футляр, в котором, очевидно, была скрипка и, увидав плачущую девушку, замер в позе изумления у дверей.
– Марья Егоровна, вы плачете! Что с вами? – воскликнул он.
Надрывные рыдания были ему ответом. Кудринский с распростертыми руками кинулся к Маше.
– Что с вами? – дрожащим голосом воскликнул он. – Обидел вас кто? Скажите! О чем эти слезы?…
– Я… я… мне… – не могла сказать даже фразы Марья Егоровна, – тяжело… я… я…
– Успокойтесь, ради бога, успокойтесь, это прежде всего! Смотрите, не то я сам заплачу…
Алексей Николаевич, оставив Машу, кинулся к графину с водой, налил стакан и нежно, с заботливостью доброго, любящего брата, поднес его плачущей.
– Пейте, выпейте, это поможет вам! – повторял он.
Рыдания стали тише. Подействовали слышавшиеся в тоне Алексея Николаевича ласка, душевное участие; тоска как-то смягчилась, но вместо нее явился страх.
– Уйдите, скорее уйдите, – лепетала Маша, – я не хочу слышать ваших проклятий!
– Каких проклятий?… Голубушка, какие проклятия?
Кудринский пододвинул кресло и сел совсем близко к Воробьевой.
– Ну, будем говорить, признавайтесь, что такое случилось? – воскликнул он. – Какое у вас горе?…
Марья Егоровна хотела, было, начать с главного – преступления отца, но не хватило на это силы воли.
– Я – нищая, – тихо-тихо промолвила она, – совсем нищая.
– Как это так?
– Так, сейчас ушел банкир и, как я поняла, душеприказчик моего отца.
Воробьева довольно несвязно рассказала Алексею Николаевичу о разорении отца. Тот слушал ее внимательно и вдруг весело рассмеялся.
– Так у вас теперь, – потирая руки, спросил он, – миллионов нет?
– Даже рублей мало…
– Тем лучше! Прекрасно, превосходно!
Молодая девушка удивилась.
– Чему вы радуетесь? – спросила она.
– За себя, родная моя, радуюсь за себя… Именно, кому горе, кому радость!
– Какая же у вас радость?
– Скажу, скажу… Позволите? Сердиться не будете? – заглядывал Кудринский в лицо Воробьевой.
Та глядела на него, и все более и более ею овладевало удивление.
– Так вы только о деньгах-то и плакали? – еще ближе склонился к ней Алексей Николаевич.
– О том, что у вас нет миллионов? Ах вы, деточка моя бедненькая, ах вы, прелесть моя неразумная. Да судьбу благодарить, быть может, нужно, радоваться… Да полно же! Ну, улыбнитесь, рассмейтесь! Агу, агу, агушеньки! Бука, бука!
Алексей Николаевич легонько притронулся, как притрагиваются нежные матери или няньки, желая успокоить плачущее дитя, к подбородку Марьи Егоровны.
Та, действительно, улыбнулась.
– Ну вот, мы, наконец, и рассмеялись, – прежним тоном продолжал Кудринский, – солнышко из-за туч проглянуло, ненастье миновало, ясный денек теперь будет… Теперь шутки в сторону… Неужели вы, родная моя, только потому и плакали, что наследство ваше оказалось мифом?
Голос Кудринского так и лился в душу Марьи Егоровны. Под влиянием его чарующих звуков она вновь воскресала душою. Недавний ужас быстро исчез, снова явилась надежда, что, быть может, все обойдется благополучно, а роковое объяснение как-нибудь удастся отсрочить.
Алексей Николаевич видел, какое впечатление производят его слова на молодую девушку.
– Откуда же вы все это узнали? – опять заговорил он. – Вот вы сказали, что явился банкир вашего батюшки, но мало ли кто может явиться и бог знает чего наговорить!
– Нет, этот человек говорил правду, я не могу сомневаться в его словах.
– Правду? Но, прежде всего, кто он, как его имя? Вы полюбопытствовали узнать это?
– Морлей, Морлей из Лондона… Вот он оставил мне свою карточку.
– Гм, – причмокнул Алексей Николаевич, – в Лондоне, я знаю, есть такой банкир.
– Потом он мне показывал какие-то бумаги, документы, копии…
– Вот это важно. Вы что же, просмотрели их?… Оставили у себя?
– Нет. Ах, Алексей Николаевич, разве мне до того было?
– Верю, дорогая, где уж тут!… Знаете что? Если только вы мне позволите, я съезжу к этому Морлею, посмотрю, что он за человек, копии эти и документы спрошу у него, позволите?
– Алексей Николаевич! Как не грех вам спрашивать меня… Ведь вы один у меня.
Внезапная решимость вдруг овладела ею. Момент показался ей вполне удобным для объяснения, которого она так страшилась. Она воспользовалась тем, что собеседник ее смолк, и голосом, дрожащим от нового приступа волнения, произнесла:
– Я не о наследстве и плакала… Я ведь тоже никогда не видала много денег…
– О чем же тогда?
Слезы опять брызнули из глаз девушки.
– Марья Егоровна, – уже строго заговорил Кудринский, – прошу вас, успокойтесь и перестаньте, я пришел к вам с серьезным делом, уверяю вас… Пока вы не успокоитесь, я не могу говорить.
Воробьева, уже протянувшая руку к конверту с исповедью отца, обрадовалась возможности отсрочить объяснение и, поспешно отерев слезы, произнесла:
– Говорите, я слушаю!…
– Вот вы и паинька у меня, – засмеялся Кудринский. – У меня был гость… И знаете кто? Кобылкин.
– Этот… этот… который у меня был?
– Тот самый. Я сперва почувствовал себя обиженным таким визитом… Подобные визитеры, право, куда как не по сердцу честным людям… Невольно думается, что вот-вот такой субъект сейчас так и забрызгает вас со всех сторон невозможною грязью… Ведь у этих господ всегда большой ее запас… Так, видите, может быть, я и не прав был, да и скоро оказалось, что, действительно, был не прав, но я принял его очень нелюбезно… Достаточно сказать, что я даже и руки его не принял… никак не мог заставить себя сделать это…
– Зачем же он к вам приходил? – спросила Воробьева.
– А вот сейчас! Итак, я принял его очень недружелюбно. Он, как оказалось, действительно, явился ко мне за справками обо мне самом!
– Как! – воскликнула Марья Егоровна, – о вас!
– Да, подите же! Я был на Иматре несколько месяцев тому назад, там что-то случилось, труп чей-то водопад выбросил… Финская полиция заподозрила, кто ее знает, почему – что погиб я… Вот и полетели запросы да справки…
– Но вы живы… Я ничего не понимаю…
– Я тоже, да и Кобылкин этот в точно таком же положении… Впрочем, дело не в том. В конце нашей беседы я должен был совершенно изменить свое мнение о Кобылкине. Это – милый, обязательный человек. Ведь он мне сделал намек еще более прозрачный, чем тогда вам.
– Какой намек! О чем?
Кудринский нагнулся к Марье Егоровне и торжественным шепотом сказал:
– Я к вам сейчас явился по просьбе этого Кобылкина… Помните, что вы говорили о мести? Вы сказали, что если только дорогой наш Егор Павлович погиб не от естественных причин, а стал жертвой злодеяния, то вы решили отомстить за него… Помните?
– Постойте, постойте, – с воплем воскликнула Воробьева, – да разве…
– Мы пока ничего не знаем! – резко перебил ее Кудринский, – ведется негласное следствие о причинах смерти вашего отца. Что даст оно в результате – покажет будущее. Кобылкин через меня просит вас помочь ему. Вы должны припомнить все слова Егора Павловича, всех его знакомых, по крайней мере, известных вам. Надеются таким путем найти хотя какой-нибудь след преступления, если только оно было совершено.
Алексей Николаевич смолк, поднялся с места и, грозя куда-то в сторону, прерывисто заговорил:
– Но, если только эти подозрения оправдаются, – горе злодеям! Помните, что я сказал тогда, и вы в этот вечер дали мне свое согласие… Мы двое будем мстителями – мы: вы и я!
– Вы… вы будете мстить за моего отца! – вырвался вопль у Марьи Егоровны.
– Да, я… Горе, горе злодеям!…
Воробьева рыдала. Она была близка к обмороку. Только в одном убедилась теперь она: Кудринскому ничего не было известно, и тем горше показалось ее положение.
Порывистым движением схватила она со стола письмо и протянула его Кудринскому.
– Читайте, – сказала она, – ради бога, скорее читайте!
Алексей Николаевич взял конверт и вынул из него исписанные листки. На его лице не отразилось понятного вполне недоумения: он как будто знал, что именно так, как произошло, и быть должно…
Глава 19
Тем временем Марья Егоровна объяснилась с Кудринским по поводу письма о прошлом Егора Павловича. Алексей Николаевич выказал такое благородство, что Марья Егоровна окончательно убедилась в его любви и решила соединить с ним свою жизнь.
Глава 20
Когда Кудринский оставил Воробьеву, на лице его вовсе не было заметно ни малейшего волнения, какое можно было бы предполагать в этом случае. Как будто ничего особенного не произошло, и все это объяснение со слезами, обоюдными признаниями, скрипкою, совсем не касались этого человека.
От Воробьевой Алексей Николаевич направился к Кобылкину.
Тому далеко не по себе было в этот вечер. „Незадачи“ продолжались. По крайней мере, Пантелей Иванович Ракита, который давно уже должен был явиться, не шел.
Мефодий Кириллович начал уже беспокоиться за него.
„Только того не доставало, чтобы и с этим что-нибудь случилось!“ – с тоскою думал он.
Минуты шли и складывались в часы – Ракиты все не было. Кобылкин уже по телефону приказал узнать, дома он или нет. Ответ был дан: „Ушел и не возвращался“. Мефодий Кириллович распорядился, чтобы его уведомили сейчас же, как только вернется Ракита, но этого уведомления все не было.
Старик, не зная, что и думать, начинал теряться в догадках.
„Ведь если и с этим случится что-нибудь, – раскидывал он умом, – ясно будет, что тут кто-то работает“.
Снова Мефодию Кирилловичу начинало что-то мерещиться в окружавшем его мраке.
Но – увы! – мрак был прежний.
Тяжело становилось на душе старого сыщика. Он начинал чувствовать, что кто-то неведомый одолевает его и одолевает именно тогда, когда его непобедимость в подобного рода делах была, вне всякого сомнения, когда имя его гремело не только повсюду в России, но и в Западной Европе, и даже за океаном…
Слава старого бойца рушилась…
Вдруг Мефодий Кириллович ударил себя по лбу, и на лице его отразилось довольство.
– Ах, я – старый мозгляк! – вслух выбранил он самого себя, – да как же это я раньше не догадывался!… Когда все это началось – змея и прочее? Да, ведь именно тогда, тогда… когда… посмотрю, когда умер Воробьев… Вот что! Так, так, так! „Змея шипит, змея шипит“, – вдруг запел он.
Мефодий Кириллович в радостном волнении забегал по своему кабинету.
„Центр найден, центр! – воскликнул он. – Эта глупая девчонка-миллионерша – центр! Около нее идет вся эта работа… Она – лакомый кусочек… Но при чем же тут змея?“
Эта мысль сразу скинула Кобылкина с облаков на землю.
Опять быстро заработал мозг, приспособившийся к распутыванию всевозможных хитросплетений, но – увы! – все комбинации, какие только ни создавал он, все не выдерживали критики. На что понадобились неведомым „работникам“ ее отец, Кондратьевы? На что понадобилась вся таинственная работа, которую так хорошо чувствовал Кобылкин, когда единственный, кто мог бы быть помехой этим охотникам за воробьевскими миллионами – Алексей Николаевич Кудринский, – оставался цел и невредим? Ведь если предположить «охоту», то Кудринского должны были бы устранить одним из первых, а он оставался и пылал, как в том был уверен Кобылкин местью к неведомым преступникам. Он был им опасен, а они щадили его… Стало быть, не в том вовсе дело. Тогда в ком и в чем?
Мефодию Кирилловичу доложили о Кудринском.
„Ага, – подумал он, – легок на помине! Только что думал о нем, а он уж тут!“
Кобылкин поспешил навстречу гостю.
– Батюшка, Алексей Николаевич! – воскликнул он, едва успев кинуть взгляд на Кудринского. – Да что такое с вами?
– А что? – спросил тот.
– Да у вас такой вид, будто вы двести тысяч выиграли или в любви признались и в ответ чуть слышное трепетное „люблю“ услыхали…
Действительно, Кудринский весь так и сиял.
– Ваша наблюдательность, действительно, не обманула вас… Ах, дорогой Мефодий Кириллович, сколько радости, счастья, восторга послала мне сейчас жизнь!
– Да ну, уж и счастья! – усомнился тот.
– Да, да!… И все это случилось, как в сказке… быстро… Будто волшебница какая вмешалась.
– Поздравляю тогда! Идемте ко мне. Делитесь своим счастьем. Мне, старому, о молодом-то счастье даже подумать лестно.
Они перешли в кабинет. Кудринский проявлял все признаки радостного волнения. Он даже на месте усидеть не мог, то садился, то вскакивал и начинал бегать из угла в угол.
Кобылкин зорко следил за ним.
– Ну, в чем же оно, ваше счастье-то? – наконец спросил он.
– Ах, да… Я еще ничего не сказал вам… Она моя, моя навсегда.
– Кто? Кто это она?
– Маша… Марья Егоровна!
– Воробьева? Вот как! Поздравляю! Ну, батенька вот и вы теперь миллионер!
Алексей Николаевич остановился против Кобылкина и изумленно посмотрел на него.
– Миллионер? Какой я миллионер? – проговорил он.
– Ну вот, какой! Невеста-то ведь миллионерша…
– Ах, вот вы о чем! Я и не сказал вам еще… Ошибаетесь, добрейший Мефодий Кириллович!
– Как это так, ошибаюсь?
– Так. У Марьи Егоровны миллионов столько, сколько их и у меня, то есть ни единого, и рублей у меня, пожалуй, гораздо больше и в настоящем, и в будущем, чем у нее…
Настала очередь удивляться Кобылкину.
– Батюшки мои! – воскликнул он. – Да как же это так?
– А вот видите, так! Я сказал вам, что все равно как в волшебной сказке выходит. Слушайте.
Кудринский подробно, как будто сам при всем находился, рассказал Мефодию Кирилловичу о посещении Морлея и о тех вестях, которые тот принес Марье Егоровне. Кобылкин был теперь совершенно озадачен.
– Морлей, Морлей! – раздумчиво говорил он, – какой это?
– Не знаю точно… Лондон, Риджент-стрит… Вот пойду к нему, так увижу, что это за птица.
Кобылкин встал, подошел к большому книжному шкафу, достал большую книгу и стал ее перелистывать.
– Джон Морлей, есть такой, – сказал, наконец, он и прочел: – Лондон, Риджент-стрит, банкир для Северного и Южного Китая, Японии и Кореи. Да, верно!… Гм! Вот какое дело…
– Должно быть, этот, – отозвался Кудринский.
– Морлей, Джон Морлей! – повторял Кобылкин и вдруг, обернувшись к Кудринскому, спросил:
– Стало быть, госпожа Воробьева нищая?…
– Нет! У нее есть я!… – гордо ответил Кудринский.
– Так! Но по существу-то самого дела, да? Папенькины миллионы разлетелись?
Алексей Николаевич утвердительно кивнул головою.
– И от миллионов не осталось ни одного пенсика?
– Да.
– Однако же, ловкачи эти лондонские банкиры! Молодцы! Наши так чистить не умеют. Все до последнего пенса… А вы все-таки серьезно думаете жениться на госпоже Воробьевой?
– Я люблю ее.
– Прекрасное дело. Совет да любовь!… Признаюсь, ваша весть для меня совершенно неожиданна.
Мефодий Кириллович начинал сердиться, что с ним бывало вообще очень редко.
Положение, в котором очутилась Воробьева, уничтожило разом все его предположения о том, что она, а не кто иной, являлась центром охоты таинственных хищников. Нельзя было и предположить, что столь энергичные и предусмотрительные охотники начинали опасное дело, не наведя предварительных справок, хотя бы у того же Морлея, о состоянии ее отца. Ведь не моментально же он потерял свой капитал. Стало быть, Воробьева не могла быть ни центром событий, ни той приманкой, ради которой свершались они.
Кобылкин начинал чувствовать себя побежденным…
– Так, так! – говорил он. – Это хорошо! Совет да любовь!
– Открылась и еще тайна! – перебил его Кудринский.
– Какая?
– Уже меня одного касающаяся…
Алексей Николаевич рассказал о посмертной исповеди старика Воробьева. Мефодий Кириллович слушал его невнимательно, из пятого в десятое, но сам в то же время думал:
„Это к делу совсем не относится…“
– Вот все, что открыла мне судьба сегодня! – закончил свой рассказ Кудринский.
– Так в чем же, Алексей Николаевич, ваше особенное счастье?
– Как, разве вы не видите? – воскликнул тот. – Когда Маша была наследницей миллионера, она мне, бедняку, была не ровня, не пара, и я никогда не решился бы сказать ей о моей любви; а теперь судьба уравняла нас. Я могу смело и любить, и говорить о своем чувстве…
– Но все-таки миллионов-то нет.
– И не нужно! Зачем они? Мало ли людей живут и любят друг друга даже с меньшими надеждами на будущее, чем у меня?… Мне моя скрипка даст все, а богатства мне не нужно…
„Было бы сердце согрето жаром взаимной любви“, – нервно засмеялся Кобылкин.
Он начинал чувствовать себя совсем нехорошо. Все его мысли как-то странно разбились, ни одной главной, наводящей на раздумье, не было. Кудринского старик теперь слушал рассеянно и тоскливо ждал, когда уйдет от него этот – теперь совершенно бесполезный для него – человек, только отнимавший у него время.
Думы старика и мечты его гостя были прерваны появлением Пискаря.
Агент подошел и что-то шепнул на ухо своему начальнику. В одно мгновение Кобылкин очутился на ногах.
– Да? Тот самый? – взволнованно спрашивал он, – привели, нашли?
Пискарь ответил утвердительно.
Глава 21
Вялость, овладевшая было Кобылкиным, сразу покинула его. Очевидно, известие, принесенное Пискарем, представлялось очень важным. Старик вдруг весь ожил.
– Алексей Николаевич, – заговорил он, – добрейший мой! Простите меня… Нежданное служебное дело.
– Вижу, вижу! – ответил тот. – Вероятно, что-либо важное?
– Нет… Просто интересное, да такое… как вам сказать? – на очереди…
– Не смею тогда задерживать… Вот, видно работника по призванию… Как вы оживились…
– Да уж что тут поделаешь, так нужно! – ответил совсем невпопад Кобылкин.
Он заметно торопился и проводил Кудринского только до дверей своего кабинета.
– Ну, пойдем скорее! – говорил он Пискарю. – Каков?
– Ничего себе…
– За что взяли?
– Услыхали, что про Кондратьева рассказывал…
– Противился?
– Нет, спокоен был.
– Подозрителен?
– Не могу сказать, Мефодий Кириллович! Человек, будто совсем, как человек.
– А Ракита? Звонил туда?
– Звонил… нет его, не возвращался… Куда только парень деться мог?
Кобылкин уже на ходу озабоченно покачал головой.
Отдельным коридором, соединявшим его кабинет в квартире с другим, Мефодий Кириллович и Пискарь перешли в этот последний. Тут их уже ожидал второй любимец Кобылкина – Савчук.
– Привести скорее! – приказал Кобылкин, усаживаясь за стол.
Минуты две спустя, в кабинет был введен под конвоем тот самый мастеровой, который накануне пьянствовал с несчастным Кондратьевым. Мефодий Кириллович устремил на него пристальный и испытующий взор. Тот выдержал его, не сморгнув. Ничего особенного в этом человеке не было. Одет он был в обычную блузу рабочего, был порядочно грязен, а лицо носило заметные признаки недавнего пьянства.
– За что же меня взяли? – заговорил вдруг он. – Кажись, веду себя скромно, ни в каких таких делах не замечен. Ежели пью, так на свои…
– А ты кто сам-то такой будешь?
– Я?
Мастеровой словно удивился такому вопросу.
– Ну да, кто же еще? Ведь тебя я спрашиваю, а не другого кого.
Мефодий Кириллович в ожидании ответа так и впился глазами в допрашиваемого.
– Да я – московский мещанин Николай Никитин, вот кто я, – услыхал он ответ.
– Паспорт в порядке?
– Ну, еще бы не в порядке быть! Разве я здешнего обыкновения не знаю?!
– С собой он? Покажи тогда…
– А зачем? Тоже потерять могу, когда в загуле. На квартире паспорт.
– Где работаешь?
– Теперь-то без работы… А то у Вестингауза был… Меня тамошний инспектор, Андрей Андреевич, превосходно знает. А живу я на Боровой улице. Как работал, так к заводу ближе.
– Проверить! – приказал Кобылкин.
Он опять устремил свой взор на Никитина. Тот был совершенно спокоен и во все глаза глядел на Мефодия Кирилловича.
– Так за что же меня забрали-то? – первым спросил он. – Я тоже законы знаю. Нешто можно так людей забирать без всякой вины?
– Погоди!… Что ты делал сегодня?
Никитин вдруг, видимо, сконфузился и, весь потупившись, совсем тихо произнес:
– Шапку да сапожонки пропивал… Гулял на них, значит.
– А ночью?
– Что ж ночью? Ночью, известно что – спал. А вот из-за вчерашнего у меня и сегодняшнее вышло, – вдруг изменил стыдливый тон на веселый Никитин. – Вчера-то я знакомца повстречал, чтоб ему пусто было.
– Кого?
На этот вопрос Никитин ответил совершенно спокойно, без малейшего признака смущения:
– А тут один… На машине служит сцепщиком; его, значит, встретил…
– Как зовут этого твоего знакомого?
– Кондратьев, Лешка. Ну, уж и утроба! Читали, поди, про него? Змею-то еще он увидел…
– А, вот кто такой! Что же вы с ним делали?
– Да известно что, пили… утроба он, говорю. Очень уж он интересно про змею рассказывает. Черная, говорит, такая, головка маленькая и шипит… Ну, я его угостил по-приятельски.
– А потом?
Мефодий Кириллович с замиранием сердца ждал ответа.
– Да потом его черед пришел угощать, – услыхал он, – у меня-то финансы все вышли; он, Лешка-то, говорит: „Посиди малость, я к бабе домой сбегаю, схлопочу!“ Убег, так я его и не дождался, только даром на него свою собственность стравил…
– Ты хорошо знал Алексея Кондратьева?
– Не то чтоб очень хорошо, а так, встречались… Меня на машину с завода посылали, когда поправка была, ну и познакомились…
– Так ты, Николай Никитин, говоришь, что ушел, не дождавшись его…
– Вот, вот! Сидел я, сидел… Холодно да сыро, а пальтишки-то у меня нет. Ну, думаю, не пустила баба Алеху, так и ждать нечего. Посидел еще малость и ушел.
– Был кто-нибудь еще с вами? Говори правду, не скрывай ничего.
– Ни живой души, только он да я; так и угощались моим добром оба-два.
– За что тебя взяли?
– Да вот я об этом который раз уже спрашиваю у вас. Сижу я в чайной тихо, мирно, благородно, никого не трогаю, рассказываю, что Лешка мне вчера про змею болтал, да сержусь на него за угощение мое, тут меня цап-царап и сюда. Нешто так возможно?
Мефодий Кириллович положительно не знал, что ему и думать. Тон Никитина был правдив, говорил он совершенно спокойно, без всякого волнения, так что трудно было заподозрить его в неискренности.
Вошедший агент подал справки о Никитине. Все, что говорил он о себе, оказалось верным.
– А знаешь ли ты, – вдруг спросил, отложив в сторону бумаги, Кобылкин, – знаешь ли ты, Николай Никитин, что Алексей Кондратьев найден сегодня утром мертвым?
– Лешка-то? Да что вы, господин… Когда же это он? Ведь, говорю, вчера я с ним…
Удивление так ясно слышалось в тоне голоса Никитина, что Кобылкин невольно для самого себя подумал:
„Нет, и этот тут ни при чем!“
– Да как же это так? – продолжал удивляться Никитин. – С чего это он? Жив и здоров был!… Ах, Лешка ты, Лешка!… Вот штуку-то выкинул…
Никитин истово перекрестился.
– Царство небесное!
– Мы думали, что ты, которого последним видели с Кондратьевым, расскажешь нам что-нибудь о нем.
– Да что же? – как будто испугался мастеровой, и этот вполне естественный в его положении испуг еще более подтвердил его искренность. – Я и то все рассказал… При чем же я-то, коли он помер?
– Тебя никто и не винит. Мы только спрашиваем тебя.
– Жаль знакомца, жаль, – качая головой, произнес Никитин, – а только я тут ни при чем. Пили мы, действительно, вместе, а чтобы умирать – ни-ни…
При этих последних словах Кобылкин вдруг насторожился: в них ему послышалась деланность.
– А жену Кондратьева ты знал? – неожиданно спросил он после некоторой паузы.
– Видать – раз видал… злющая баба! Все равно что ведьма киевская…
– Она тоже найдена сегодня утром мертвою.
– И она? – даже присел от изумления Никитин. – Оба преставились! Ловко! Ну и дела в нашей деревне!
– Ты об этом не знал?
– Откуда же мне и знать-то? Говорю, вчера с покойником разошелся. Баба-то чахлая была.
Никитин смолк. Кобылкин зорко наблюдал.
– Ваше благородие, – заговорил вдруг Никитин, переминаясь с ноги на ногу, – будьте милостивы, сообщите – любопытство меня берет – как это они умерли? Своею смертью или по-иному как?
„Нет, он положительно ни при чем! – думал, глядя на него, Мефодий Кириллович. – Так притворяться, да еще простолюдину, невозможно… Выдал бы себя непременно, если бы знал что-нибудь!“
– Так как же, ваше благородие, – повторил свой вопрос Никитин, – насчет смерти?
– А это мы узнаем все, – отвечал он. – Ну, Никитин, я тебя держать больше не буду, можешь уходить. Вызовет следователь – ты должен будешь явиться и дать свои показания… Может быть, еще что-нибудь сейчас припомнишь?
Парень помолчал и ответил:
– Кажись, все сказал… Что после вспомню – не утаю… Чего мне?
– Ну, то-то! Побеспокоили мы тебя, возьми на ужин.
Мефодий Кириллович протянул Никитину несколько мелких серебряных монет. Тот сперва недоуменно поглядел на него, потом лицо его вдруг расплылось.
– Покорнейше благодарим, ваше благородие, – низко поклонился он, – уж я выпью за ваше здоровье, да и знакомца помяну…
„Опять какая-то деланность слышится!“ – насторожился Кобылкин, но ничего не сказал Никитину, а только, кивнув на него головою, распорядился:
– Проводить!
– Прощенья просим, ваше благородие! – кланялся уже в дверях Никитин, сопровождаемый неотступно Пискарем.
Только что Пискарь и мастеровой скрылись, Кобылкин крикнул Савчуку:
– Иди, скорее иди! Надзирай за этим мастером… Глаз, смотри, не спускай… Потом придешь и скажешь мне.
Савчук скрылся. – Оставшись один, Мефодий Кириллович погрузился в думы.
Рушились одна за другую все комбинации, которые уже слагались в его уме. Мрак вокруг всех этих событий все более и более сгущался. Надежда, что тайна хотя немного осветится, явившаяся было, когда Пискарь сообщил, что найден и приведен мастеровой, виденный накануне с несчастным Кондратьевым, теперь, после этого допроса, в котором все было так естественно, исчезла совсем. Разве мог Никитин играть роль?
Да нет, никогда! Невозможно было думать, чтобы у простолюдина, да еще пропитанного спиртными напитками, могли быть такая громадная выдержка, уменье владеть собою, такая сила воли…
„А все-таки дважды голос-то этого молодца звучал как-то не так, – вспомнил Кобылкин. – Ну, да я сегодня же узнаю, как он поведет себя… Быть может, чем-нибудь себя и выдаст“.
Глава 22
Ложась спать, Кобылкин приказал разбудить себя немедленно, как только будет получено какое бы то ни было известие о Раките; однако он успел забыться сном, а о Пантелее Ивановиче ничего не было слышно. Под утро он почувствовал, что его будят.
– Мефодий Кириллович, – услышал Кобылкин голос Савчука, – вставайте скорее!
Сон как рукой сняло.
– Что такое? – вскочил он с постели. – Что случилось? Нашелся? Где он? Что с ним?
– В больнице, без памяти…
У Кобылкина даже руки опустились, когда он услыхал эти слова.
– Ну, так и есть! – растерянно бормотал он. – Четвертый уже…
– Ракита, – торопливо рассказывал Савчук, – был поднят в бесчувственном состоянии на улице. Подумали, что пьяный, отправили в участок, там заметили, что он болен.
– Что же с ним?
– Пока неизвестно… Только в себя не приходит…
Кобылкин в раздумье покачал головой.
„Да, работа видна для меня ясно, – говорил он сам себе, – работа чистая; только как добраться до работников, как узнать, кто они?“
Он поспешил одеться и, несмотря на то, что было рано, уехал в больницу. Там его, конечно, немедленно допустили к Раките и даже, несмотря на ранний час, вызвали доктора, принимавшего больного.
Кобылкин знал этого доктора, еще очень молодого и только недавно служившего в больнице, а потому ретиво и с большим интересом относившегося к своему делу. На его слова можно было положиться.
– Что с ним? – спросил Мефодий Кириллович, кивая на лежавшего без сознания Ракиту.
Врач пожал плечами.
– Не знаю, – откровенно сказал он.
– Не знаете? Это как же так?
– Так вот! Врач не всеведущ… Я тут…
– Что тут?
– Ничего не скажу, пока не подтвердятся некоторые мои выводы и наблюдения.
– А сам-то больной, что? Опасен?
– Я боюсь за его рассудок… вот что…
– Вы, доктор, сказали: „рассудок“, стало быть, с ним что-нибудь произошло такое, что извне повлияло на него?
Колоколенский – такова была фамилия молодого врача – опять пожал плечами.
– Все может быть! – сказал он. – Погодите, я ничего не могу сказать теперь… да если и скажу, могу вас сбить… Может быть, ничего и не было. Не будем препираться. Несколько дней, быть может, неделя – не велик расчет.
– Ой, какой громадный расчет! – ужаснулся Кобылкин. – Кто знает, скольких еще жизней будет стоить эта неделя ваших размышлений да раздумий.
Колоколенский посмотрел на него, но все-таки отрезал:
– Уж, как там хотите, а говорить то, что может оказаться вздором, я не буду.
Мефодий Кириллович понял, что от этого упрямца, влюбленного в медицину и страшившегося показать ее несостоятельность, ничего не добиться.
– А жив-то он будет? – спросил он про Ракиту.
– Там будет видно! – по-прежнему уклончиво объявил Колоколенский и добавил: – А вы все-таки идите себе домой, я же спать хочу… не отосплюсь – негоден к визитации буду.
Старик словно не слыхал его грубоватого замечания.
– Доктор! – с жаром воскликнул он, хватая Колоколенского за руку. – Вы должны мне помочь. Ой, что творится вокруг нас… Если бы вы только знали, если бы вы только знали!
– Да про что вы? – рассердился Колоколенский. – Твердит: „если бы знали“, „если бы знали“, а про что такое – ни слова.
– Про змею слышали?
– Ну, так что же?
– А про ужаленного ею насмерть?
– Еще бы, я и тело вскрывал.
– Вы?
Кобылкин с восторгом смотрел на Колоколенского.
– Ну, я… Тут другой, полицейский, врач был, а я ради практики только.
– Что вы определили, голубчик, скажите?
– Ничего, не мое дело! Говорю, полицейский был, он и протокол вскрытия составил, а я так только, с бока припека.
– А угоревшую?
– Какую? Такой не было!
– Кондратьеву, жену ужаленного!
– Так разве она угорелая? Кто это вам сказал?… А впрочем, чего я! Ничего я не знаю. Прощайте!
Эти слова Колоколенский кричал уже из-за дверей дежурной комнаты; Мефодий Кириллович кинулся было за ним, но доктор распахнул дверь, выставил голову и закричал:
– Когда все уясню себе и буду уверен, что не ошибаюсь, приду к вам сам и скажу.
– Да что скажете-то? – рассердился Кобылкин.
– А то вот, что тут не только что с угаром, но и со змеей вашей не то! Прощайте!
Он опять прошел в палату к Раките, но больной был в прежнем положении, и пребывание около него было совершенно бесполезно для Кобылкина. Сам не свой от волнения возвратился домой Мефодий Кириллович.
Сердито выслушал он доклад Савчука, рассказавшего ему, что Никитин еще затемно, когда все спали, ушел из дому, сперва бродил по улицам, потом зашел в чайную, оттуда перешел в трактир, где его и оставил наблюдатель.
– А к Палкину он не заходил? – ядовито спросил Савчука Кобылкин. – Это, скажи мне, пожалуйста, и сегодня, и вчера он на те четыре гривенника, что я ему вчера дал, кутит? А сколько он истратил вчера? Потом, сам говоришь, он куда-то ходил! Это все на четыре гривенника? Ты как думаешь? Сегодня „куда-то“, в чайную, в трактир…
– Действительно, – сознался Савчук, – вы совершенно верно говорите, Мефодий Кириллович, да может быть, дома у него были…
– Дома! Дома! – передразнил помощника Кобылкин. – Не он ли вчера говорил, что сапоги да шапку пропивает?… Эх вы! Голова-то где у вас?… Марш к нему, и чтобы я каждый шаг, каждое слово этого парня знал. Глаз с него не спускать, но чтобы сам он ничего не заметил.
Глава 23
После этого посещения недовольное чувство еще более разрослось в душе Мефодия Кирилловича. „Нюх потерял, – сердился он, – чутье ищейское, никуда не годен, на покой пора… Кляча старая! Ах, нет, не будет по-вашему: шипит змея-то, шипит!“
Под влиянием этой мысли, уже не новой, не раз приходившей на ум, но только мелькавшей, как молния, не вызывавшей дотоле никаких соображений, но теперь вдруг озарившей старика словно каким-то новым, ярко блещущим светом, Кобылкин даже присел.
– Шипит змея! – воскликнул он. – Иные породы даже свист издают… А что, если и Воробьев погиб от укуса ядовитой гадины? Ведь есть же такие, что убивают моментально.
Он стремглав выбежал из дому и вскочил в экипаж.
– Прямо по Литейной! – закричал он кучеру таким громко-веселым голосом, что тот даже оглянулся и с удивлением поглядел на своего господина.
Кобылкин мчался к Колоколенскому.
Он не застал доктора в больнице и отправился на частную его квартиру. Когда он позвонил, отворил ему сам Колоколенский, но не впустил, а стал в дверях так, что пройти в комнаты было нельзя.
Колоколенский как будто нисколько не удивился внезапному появлению Мефодия Кирилловича.
– Ну, что еще? – спросил он.
– Дело, доктор! Змеи шипят, а свистеть они могут?
– Свистеть, шипеть и насмерть жалить могут…
– А смерть может быть моментальна, и яд змеи может ли не оставлять следа?
– Ага, догадались… Сколько угодно! След остается после укуса, но его почти невозможно найти… Все? Прощайте!
– Погодите!
Кобылкин не дал двери захлопнуться.
– Не мешайте мне работать, – с досадой воскликнул Колоколенский, – что еще вам?
– Последнее слово: может один человек с безопасностью для себя подпустить страшно ядовитую змею к другому?
– Умеючи все можно, а человек – такая гадина, что способен на все. Прощайте!
Колоколенский с силою захлопнул дверь, но Кобылкин уже не злился на него: он узнал все, что ему было нужно на первое время.
Вприпрыжку, перескакивая через ступеньки, спустился Мефодий Кириллович с третьего этажа, в котором обитал Колоколенский. Состояние духа его теперь совершенно изменилось. Всякое недовольство и гневливое чувство исчезли, старик торжествовал. Он был уверен, что держит в руках путеводную нить к раскрытию тайны всех преступлений.
Весело посвистывая, поехал он далее.
По пути Кобылкин заехал в отель, где жила Марья Егоровна Воробьева, но той уже там не было. Мефодию Кирилловичу сообщили, что еще накануне, поздно вечером, почти ночью, за ней пришел часто бывавший до того молодой человек – Алексей Николаевич Кудринский – и увез ее. Куда – прислуге отеля известно не было.
„Ну, этот дальше своей квартиры девицу не увезет! – решил Мефодий Кириллович. – Пусть их воркуют, голубки!“
Он решил ехать домой. Годы в самом деле давали себя знать. Кобылкин после хлопотливого утра и тревожной ночи чувствовал себя не на шутку усталым.
Но отдыхать ему не пришлось…
После длинного ряда всяких незадач судьба вздумала побаловать своего любимца… Когда Мефодий Кириллович вернулся к себе, его ждала жена Ракиты. Мефодий Кириллович сперва вознамерился уклониться от свидания с нею. Нервы его и без того были раздерганы, а тут была неизбежна сцена отчаяния, взрывы жгучего горя. Отделаться от посетительницы он поручил Пискарю.
– Говорит, что не уйдет, пока вас не увидит! – объявил тот, очень скоро вернувшись.
Кобылкин нетерпеливо махнул рукой.
– Ах ты, Господи, – крикнул он, – подумать не дадут!… Что ей нужно? Скажи – будет здоров ее муж… доктор ручается…
– Да вы приняли бы ее, Мефодий Кириллович!
– Это зачем же?
– Она говорит, что муж, когда уходил, так приказал, если только он не вернется, явиться к вам.
Усталость, голод, обида – все было в одно мгновение позабыто.
– Зови, чего же ты раньше не сказал! – закричал Кобылкин и сам со всех ног кинулся в приемную.
Там он увидел удрученную горем, но не плакавшую молодую женщину.
– Голубушка! Простите, простите меня! – восклицал он. – Ко мне, пожалуйте ко мне!
Он сам поспешно распахнул двери в свой кабинет, улыбками и жестами приглашая посетительницу.
– Какое несчастие с супругом-то! – тараторил он, усаживая молодую женщину в кресло. – Ну, Бог милостив, доктор мне сегодня говорил, что все обойдется благополучно, поправится наш Пантелей Иванович!
– Словно предчувствовал он, – заплакала бедняжка, – что неблагополучно с ним будет.
– Предчувствовал, говорите?… Из чего же вы это заключаете? Предчувствия иногда и оправдываются.
– Пантелей-то Иванович мой, как уходил, письмо написал и мне отдал, а при этом наказывал: „Возьми ты вот, Вера, – меня Верой Ивановной зовут – это письмо, спрячь его под замок и, ежели я не вернусь или со мной что случится, передай его господину Кобылкину, Мефодию Кирилловичу“, – то есть вам. „Другому никому не отдавай, только ему“ – то есть вам.
– Давайте же, голубушка, давайте скорее! – так и завертелся на своем кресле Кобылкин.
Вера Ивановна достала пакет и все еще не решалась передать его Мефодию Кирилловичу.
– Да вы точно ли Мефодий Кириллович Кобылкин будете? – с заметным недоверием спросила она.
– Я, я самый и есть, давайте только скорее! – и горевший нетерпением старик почти вырвал конверт из рук своей гостьи.
– Я, как Пантелей Иванович приказывал, – смутилась та, – недоразумения какого-нибудь боюсь…
Мефодий Кириллович не слушал ее. Он весь углубился в чтение, хотя в письме Ракиты было немного строк. Лицо с каждым мгновением так и расцветало. Глаза сверкали радостью.
– Так вот что! – прошептал он. – Вот за чем так упорно охотились! Однако! Теперь путеводная нить в моих руках, авось и до средины клубка доберусь!
Взгляд его упал на Веру Ивановну.
– Голубушка! – в восторге воскликнул он. – Что за бесценный человек ваш супруг! Такого другого не знаю! Родимая! Знаете ли, Пантелей Иванович этим письмом мне самого себя возвращает!
В восторге он бросился к Вере Ивановне и поцеловал ее.
– Не забуду, никогда я не забуду такой услуги! – восклицал он. – Вы, родимая моя, домой теперь поезжайте, – он надавил кнопку звонка и приказал: – Мою карету сейчас же запрячь! Поезжайте скорее, а я сегодня же к вам, деткам гостинцев привезу. Теперь же мне подумать нужно, мозгами поворочать! Экий славный этот ваш Пантелей Иванович!
Едва проводив Веру Ивановну, Мефодий Кириллович запер свой кабинет на ключ и принялся еще раз перечитывать письмо.
Пантелей Иванович писал ему, что, готовясь идти к нему, он подумал, что с ним может по дороге случиться какое-нибудь несчастье, а тогда останется неизвестным одно, по его мнению, чрезвычайно важное обстоятельство. После этого вступления Ракита сообщал, что покойный Алексей Кондратьев в том самом купе вагона, в котором умер Воробьев, нашел фотографический портрет и присвоил его себе. На портрете была с оборотной его стороны какая-то надпись, но какая – этого Ракита не знал. Фотографии этой при обыске среди имущества Кондратьевых найдено не было, но покойный Алексей Кондратьев, рассказывая о своем приключении со змеей, упоминал о ней в присутствии многих людей. Дочитав письмо, Мефодий Кириллович гордо выпрямился. Глаза его так и сверкали.
– Ну, господа охотники, – воскликнул он, – теперь мы потягаемся. Посмотрим, кто кого!… Вот она, нить-то путеводная!
Глава 24
Марья Егоровна, действительно, в вечер решительного объяснения покинула роскошный отель, в котором она поселилась после смерти отца. Теперь молодая девушка, как будто, потеряла всю свою недавнюю волю, недавнюю еще пылкую энергию. Ею владела теперь чужая воля: Кудринский стал ее господином, и каждое слово этого человека было законом для нее, еще так недавно самостоятельной, не признававшей ничьей иной, кроме своей, власти.
Семья, в которой Алексей Николаевич поселил свою невесту, казалась очень почтенною, по крайней мере, по внешности. Только откуда Кудринский завел с ними знакомство – понять было трудно. Амалии Карловне Зальц было на вид лет под сорок, ее супруг Герман Фридрихович казался немного старше. Встретила супружеская чета свою гостью очень приветливо. Особенно любезна была Амалия Карловна. Она, как только увидела Марью Егоровну, так и зацеловала ее, и Маша в течение нескольких минут только одно и слышала:
– Прелесть моя, радость моя… Боже, какая вы хорошенькая!
Марье Егоровне все эти поцелуи и восторги сперва показались слишком приторными, а сама Амалия Карловна не особенно симпатичною особою, но стоило только вспомнить ей, что эти люди – друзья Алексея Николаевича, как сейчас же исчезло зарождавшееся, было, неприязненное чувство, и она не только подчинилась поцелуям и ласкам фрау Зальц, но даже сама стала охотно отвечать на них.
Амалия Карловна, между тем, болтала без умолку, и в этой болтовне каждое слово ее восхваляло Кудринского на все лады. Воробьевой даже показалось, что она это делает умышленно, и Марья Егоровна подумала, что восхвалениями Алексея Николаевича немка хочет доставить ей удовольствие. Тем не менее, эта болтовня начала утомлять ее.
Амалия Карловна сейчас же подметила это.
– Ах, как я заговорилась, – круто оборвала она свою болтовню. – Герман, ведь нам нужно работать. Наша дорогая, милая, прелестная гостья пока отдохнет, когда же мы кончим наше дело, поужинаем все вместе. Быть может, придет и Алексис.
Но Алексей Николаевич не явился и на следующее утро. Он как будто умышленно заставлял Марью Егоровну ждать и томиться, и вполне достигал своей цели.
Глава 25
Кудринский явился очень взволнованный. Таким его Марья Егоровна видела впервые. Она даже не на шутку испугалась, когда он заговорил с нею и его голос то дрожал, то срывался.
– На завтра тебя вызывают к следователю, – объявил он.
– Меня? Зачем я понадобилась?
– Все о смерти твоего отца… Ну что, кажется, им нужно? Умер человек скоропостижно, это так ясно… Не ты же убила его в самом деле…
– Что ты, что ты! – с ужасом воскликнула Марья Егоровна.
– Как „что ты“. Ведь с твоим отцом в купе, когда он умер, была только ты одна… Более никого ведь с вами не было?
– Нет, – растерянно проговорила Марья Егоровна, – никто даже не входил к нам…
– Вот видишь… Эти господа, у которых все основано только на букве, придумают что угодно.
Он был даже груб и сам не замечал этой своей грубости, совершенно противоположной той обычной нежности, к которой успела привыкнуть Марья Егоровна.
– Мы завтра поедем к следователю вместе, – с резкостью крикнул Кудринский, – слышишь, ты непременно должна сказать, что никаких поводов подозревать что-либо, кроме скоропостижной смерти, не имеешь, что никого во время пути с вами не было.
– Погоди, Алеша, – перебила Кудринского Марья Егоровна, – вспомни, что ты сам не раз говорил мне.
– Что еще?
– Ты говорил, что есть уже подозрения, что отец мой стал жертвой.
– Глупости! – резко оборвал ее Алексей Николаевич. – Кому нужна была смерть твоего отца? Нищих не убивают, а ты знаешь, что отец твой в день своей смерти был нищим.
Марья Егоровна вздрогнула, слова Кудринского показались ей оскорбительными.
– Я знаю, что я нищая, – резко сказала она, – но зачем же мне с подчеркиванием напоминать об этом?
Кудринский спохватился. Он понял, что его резкость была слишком заметна после недавней еще, доходившей чуть не до приторности, нежности.
– Прости, милая! – проговорил он. – Я забылся… Не сердись… Если бы ты только знала, что делается у меня на душе… Не сердись! Пойми, что все эти решительно ни к чему не ведущие допросы только отдаляют наше счастье… А как они действуют на и без того издерганные нервы – и говорить нечего.
Он нежно поцеловал ее.
– Нет, Алеша, я не сержусь и сердиться не могу на тебя, – с тихим вздохом ответила Марья Егоровна, – но все-таки я еще не привыкла к мысли, что нищая, и мне тяжелы твои напоминания.
– Прости, прости! Мне самому больно за свою выходку… Так скажешь ты завтра следователю, как я тебе говорю?
– Да, я скажу все, как ты хочешь.
Марья Егоровна выговорила это твердо, но ее неудовольствие еще не прошло, и она несколько холодно простилась с Алексеем Николаевичем.
Следователь Козловский встретил Марью Егоровну со всей любезностью, на которую только был способен, извинялся за беспокойство, уверял, что одна только обязанность вынудила его вызвать ее в присутствие, а не самому явиться к ней. В конце концов, он попросил позволения на минутку оставить Марью Егоровну и поспешно вышел в соседнее с кабинетом помещение.
Но одна Марья Егоровна не осталась. Едва только скрылся Козловский, перед нею явился Мефодий Кириллович, Марья Егоровна сперва не поняла даже, откуда он взялся, а Кобылкин заговорил, не давая ей времени прийти в себя.
– Слава богу, увиделись мы все-таки! – воскликнул он. – А то, милая барышня, вы словно под затвор попали. Я-то к вам уже сколько раз прибегал, да меня все не пускали. Скучно под затвором, поди?
– Я, кажется, имею право вести жизнь, как мне желательно! – отвечала старику Воробьева.
– Конечно, конечно! Слышал я, замуж выходите?
– Опять-таки мне кажется, что это касается только меня одной.
– И в этом вы правы! Однако, какая же вы строгая молодая особа! Никак к вам не подступиться… Ай-ай-ай! А я-то думал, что мы с вами друзьями стали. Вот тебе и друзья!… За Алексея Николаевича Кудринского изволите замуж выходить?…
– Да…
– Так, так! – Кобылкин уселся в кресло, оставленное Козловским, побарабанил по столу пальцами и сказал: – А что, милая барышня, если попросить вас не торопиться с этим браком?
– Позвольте, как вы смеете вторгаться в мою жизнь? Кто вам дал это право?
– Господь с вами! Где же это я вторгаюсь! Я говорю о просьбе, просить же ни о чем не возбраняется. Просьба это только – и более ничего. Слушайте, мне вас жаль!
„Вот о чем говорил мне Алексей! – насторожилась Марья Егоровна. – Сейчас этот старик, верно, будет говорить и непременно что-нибудь дурное про Алешу…“
Она сделала движение, как бы намереваясь встать и уйти, и сказала:
– Мне кажется, что я не нужна здесь. Не для посторонних же бесед меня вызывали?
– Постойте, постойте! – даже испугался Кобылкин. – Останьтесь еще немного. Мне непременно нужно сказать вам несколько слов. Я приходил к вам, но меня не пустили, а между тем, мне кое-что уже известно… Марья Егоровна, милая, останьтесь! Уверяю вас, что только одна ваша польза заставляет меня просить, чтобы вы выслушали меня.
Голос его звучал с такой убедительностью, с такой сердечной ласкою, что Марья Егоровна, сама того не замечая, поддалась его обаянию.
– Говорите, я слушаю вас! – произнесла она.
– Спасибо! Помните, когда я был в день похорон вашего отца, вы сами тогда говорили, что желаете отомстить за его смерть… Да? Так? Вы горели тогда негодованием и ненавистью. А что, если я скажу вам теперь, что мне достоверно известно, что ваш несчастный отец не умер скоропостижно, а убит.
– Что вы! Этого быть не может! – воскликнула Марья Егоровна. – Я начинаю бояться вас.
– Ну зачем же меня бояться, когда я не желаю вам ничего, кроме добра? Повторяю, ваш покойный отец был убит.
Марья Егоровна оправилась уже от первого впечатления, произведенного на нее этим сообщением.
– И сейчас я, вероятно, услышу, – сказала она, – что его убийца – я.
– Если хотите, – спокойно ответил Кобылкин, – то, пожалуй, и вы.
– Благодарю вас! – заволновалась Марья Егоровна. – Я знала, что вы именно это скажете. Чего же вы ждете? Хватайте меня, сажайте в тюрьму… вот я…
Кобылкин с состраданием смотрел на нее.
– Бедная вы, ослепленная! – качая головою, сказал он, и его голос проник в душу девушки. – Вы поймите, я прошу вас обождать несколько с вашей свадьбой, не торопиться с нею… Ведь всегда будет на это время.
– Я не вижу причин ждать. Вероятно, вы и моего жениха обвиняете в смерти моего отца с такою же легкостью, с какой и меня сейчас обвинили.
– Пока еще нет, но я не вижу причин вашей торопливости…
– Они есть, я должна исполнить волю отца, вот смотрите, читайте, это – его исповедь, и если вы в самом деле желаете мне добра, так вы сами увидите, что я должна стать женою Кудринского.
С этими словами она скорее кинула, чем подала Кобылкину отданное ей Морлеем письмо ее отца. Теперь она вся так и дышала негодованием. Как был прав Кудринский, когда говорил, что этого добродушного с виду старика следует бояться, что он способен разбить их счастье. Так и вышло, как говорил он. Марья Егоровна вся горела желанием, во что бы то ни стало оправдать в глазах Кобылкина своего избранника, и потому-то решилась показать ему исповедь покойного Воробьева, которую она постоянно носила с собою.
Кобылкин медленно взял исписанные листки и стал внимательно прочитывать их. В это время возвратился Козловский. Мефодий Кириллович сейчас же уступил ему место и отошел к окну, держа в руках письмо Воробьева. Козловский тем временем предлагал Марье Егоровне вопросы. Отвечая на них, молодая девушка вновь рассказала обо всем, что произошло в вагоне и что предшествовало внезапной смерти ее отца.
Мефодий Кириллович, стоявший у окна, между тем, пристально поглядев на Марью Егоровну, свернул рукопись и сунул ее себе в карман. Та, увлеченная своим рассказом, не заметила этого движения; Кобылкин же, как ни в чем не бывало, подошел к ним и сказал:
– А мне помнится, вы говорили о каком-то свисте или шипении, испугавшем тогда вашего батюшку.
– Да, я говорила это! – подтвердила свои слова Марья Егоровна.
– Уж не было ли там у вас в купе змеи? Ведь в наше время все может быть! Впрочем, это я так, к слову только… До свидания, Порфирий Михайлович, до свидания, моя добрая барышня! С вами-то мы еще увидимся…
Он сделал общий поклон и поспешно вышел через внутреннюю дверь. Марья Егоровна и теперь не вспомнила, что письмо отца осталось у него в руках.
– Скажите, пожалуйста, – спросила она у следователя, – этот господин сейчас сказал мне, будто отец мой убит, правда ли это?
Козловский махнул рукой.
– Господин Кобылкин – большой фантазер! – произнес он. – Но что же делать? Во многих случаях это незаменимый человек. Итак, вы не думаете, что смерть вашего отца была последствием каких-либо внешних причин?
– Нет, думать этого не могу! – твердо сказала Марья Егоровна.
– Тогда придется нам покончить с этим делом… Прекратить его…
– Я бы этого очень желала… Теперь я могу уйти?
– Не смею задерживать вас… Если не ошибаюсь, вы прибыли с господином Кудринским?
– Да, Алексей Николаевич – мой жених.
– Вот как! Желаю от души вам всякого счастья. Но что с вами?
Марья Егоровна растерянно оглядывалась по сторонам; она вспомнила теперь, что не получила от Кобылкина обратно письма своего отца.
Глава 26
Негодующим тоном Марья Егоровна заявила о своей пропаже следователю и очень удивилась, когда он равнодушно и даже несколько насмешливо отнесся к ее словам.
– Тут, несомненно, недоразумение! – объяснил он. – Поезжайте сейчас к Кобылкину, и все разъяснится… Я пока только это и могу посоветовать вам.
Уже из его тона Воробьева поняла, что ей ничего другого не остается, как последовать совету Козловского. Раздраженная и взволнованная, она покинула кабинет. Кудринский кинулся к ней, лишь только она вышла в коридор, и на его лице ясно была написана тревога.
– Ну что? Как? – спрашивал он, и его голос заметно дрожал.
– Я дала показания обо всем так, как ты желал… Доволен? Но представь себе, что случилось!
Они в это время уже спускались по лестнице, ведущей в подъезд и оттуда на улицу. Алексей Николаевич все время оглядывался по сторонам, как будто боялся, что за ними наблюдают.
– Что, что еще? – с тревогою, которую даже скрыть не мог, спрашивал он.
Марья Егоровна в нескольких словах рассказала, что произошло в кабинете, как очутилось письмо ее покойного отца в руках Кобылкина, и как тот унес его.
Она испугалась, когда взглянула на Кудринского во время этого рассказа. Лицо его то вдруг белело, то становилось багрово-красным. Он весь дрожал.
– Милый, милый, что с тобою?! – вскрикнула она.
– Ничего, молчи… Ни звука…
– Постой, мы сейчас поедем и вырвем у этого негодяя мое письмо…
– Поедем… поедем… скорее… Только нет… Погоди, я сейчас пошлю записку Зальцам.
– Зачем? Мы можем заехать к ним сами.
– Нет! Нельзя… Садись! – повелительно сказал он, указывая Марье Егоровне на поданный им экипаж.
Он что-то сказал кучеру, и они помчались. Алексей Николаевич то и дело взглядывал на часы. На одном из углов Литейного он остановил экипаж и вышел.
– Подожди меня здесь! – сказал он и вошел в находившуюся недалеко от угла фруктовую лавку с винным погребом.
Ждать Марье Егоровне пришлось довольно долго.
Наконец, Алексей Николаевич вышел; он, очевидно, уже успокоился, хотя лицо его было бледно, на губах появилась улыбка.
– Скажи, Маша, – заговорил он, – ты меня любишь?
– К чему опять этот вопрос? Помнишь, ты сам приказал мне не спрашивать тебя?
– Да, да, но теперь мне нужно знать… Ты, если любишь меня, стало быть, и веришь мне?
– Верю!
– Так докажи мне это…
– Говори, приказывай!
– Слушай тогда… Ты должна исполнить все, что я ни попрошу тебя, исполнить без рассуждений, без расспросов…
– Хорошо, я поступлю, как ты желаешь.
– Тогда вот что. Мы сейчас встретим Амалию Зальц. Я тебя оставлю, и ты вместе с нею отправишься на Варшавский вокзал.
– Зачем?
– Чтобы немедленно уехать… Вы сядете в первый отходящий поезд и отправитесь за границу.
Марья Егоровна с удивлением смотрела на жениха.
– Послушай, милый, но ведь это – бегство! – наконец сказала она.
– Да, если хочешь, бегство!
– Зачем оно?
– Чтобы спасти наше счастье!
Марья Егоровна на мгновение задумалась.
– Что же, ты согласна? – торопливо спросил Кудринский.
– Если бы ты, Алеша, хоть коротко разъяснил мне, что все это значит?
Алексей Николаевич сделал жест, выражавший и досаду, и нетерпение.
– Ничего, совсем ничего не могу я тебе пока сказать… Ты же обещала верить мне… Помни одно только, что все, что ты сделаешь, ты сделаешь для спасения нашего счастья.
– Кто же грозит ему?
– Люди, злые люди, готовые на все.
– Уже, не Кобылкин ли? – спросила она.
– Ах, может быть, и он! Так ты едешь?
– Хорошо, но заграничный паспорт?
– Зальцы все давно приготовили… Да, вот Амалия… видишь? Так ты с нею… за границей мы встретимся и… будем счастливы!
Кучер будто заранее предупрежден был, что ему делать. Едва только показалась Амалия Карловна, он остановил лошадь.
– Прощай, помни, что я сказал! – крикнул Кудринский и соскочил с экипажа так быстро, что Марья Егоровна даже не успела протянуть ему руку.
В то же самое мгновение около нее очутилась Амалия Карловна, и экипаж опять понесся по улицам. Зальц также была бледна и растревожена.
– Вот, милочка-душечка, – попробовала она взять свой прежний тон, хотя это и не удалось ей, – нам совсем неожиданно приходится совершить небольшую поездочку по Европе.
– Амалия Карловна, – взмолилась молодая девушка, – хоть вы скажите мне, что случилось.
– Это вы про нашу неожиданную поездку? Видите, много злых людей на свете.
– Это уже говорил мне Алексей… Но пусть они будут, эти злые люди, какое же нам дело до их злости?
– Большое дело, прелесть моя дорогая, огромное дело!… Видите ли, злые люди, желающие, во что бы то ни стало оправдать самих себя и свои ни на чем не основанные умствования, нашли нужным доказывать, что ваш батюшка вовсе не умер скоропостижно, а погиб жертвой чьего-то злодейства. Уж кто-кто, а вы-то знаете, что этого не было. Ведь вы убеждены в этом?
– Да, – твердо сказала Марья Егоровна.
– Теперь представьте себе, что они считают одним из виновников смерти вашего батюшки нашего доброго, нашего милого Алексиса!
– Как?! Не может этого быть!
Голос Марьи Егоровны выражал и испуг, и негодование.
– Конечно, ничего такого не может быть, а между тем, думать то или другое никому запретить нельзя. Теперь поймите, при бесконечной любви к вам нашего Алексиса, каково бы ему было знать, что всю эту грязь, какая может вылиться на него, узнаете вы… Нет, это было бы выше его сил! Тогда он, чтобы спасти свое и ваше счастье, решил увезти вас, а сам он явится, когда последует полное оправдание его, в чем, конечно, не может быть сомнения.
– Но зачем же мне бежать? Мое место в эти ужасные минуты испытания около него.
– Поймите же, милочка, Алексис не хочет, чтобы к вашему общему чистому чувству примешивалась хотя чуточка этой грязи. Это было бы тяжелейшим оскорблением вашей любви… Вот почему мы так внезапно уезжаем… Теперь видите, это необходимо.
Зальц заметно путалась в словах.
Марья Егоровна слушала, и смутные сомнения зарождались в ее душе.
Бег лошадей стал заметно тише. Животные, видимо, уже утомились, им необходимо было отдохнуть. Кучер повернул в узкий и грязный проулок и остановился у небольшого деревянного дома с наглухо закрытыми ставнями.
– Войдем, милочка-душечка, – предложила Зальц, – здесь нас ждет мой Герман, и мы немного отдохнем.
– Но где же вокзал? – удивилась Марья Егоровна.
– Погодите, прелесть моя, погодите, на вокзал мы поедем после… Нельзя же не отдохнуть. Ну, идемте же! Видите, нас ждет Герман.
Действительно, в это время распахнулись ворота, и, когда экипаж въехал в них, Марья Егоровна увидела Германа Фридриховича, приветливо кивавшего ей головой.
– Это наш загородный дом, – заботливо предупредила ее Амалия Карловна, – прошу вас, душечка-милочка, располагайтесь и отдохните. Потом мы поедем дальше.
– На вокзал?
– Да, но не на петербургский.
– А куда же?
– Мы доедем на лошадях до первой станции и там уже сядем в поезд… Не правда ли, ведь это все так интересно?
– Амалия Карловна, да скажите же вы мне, что значит вся эта таинственность?
Марья Егоровна опять начала предчувствовать что-то недоброе. Вдруг она увидела, что Амалия Карловна поднесла платочек к глазам.
– Ах, бедная душечка, вы настаиваете, я не могу более молчать и теперь все скажу вам.
– Ради бога, умоляю вас об этом…
– Хорошо… Все, что я говорила по дороге об Алексисе, о том, что его подозревают в преступлении, неправда.
Крик радости вырвался из груди молодой девушки.
– Я так и знала! – восклицала она. – Я не верила ничему… Алеша не может быть преступником…
– О да, вы правы! Такой прекрасный молодой человек…
– Но что же значит это наше бегство?
– О, бедная моя, как только мне и сказать это! Неужели же вы и теперь не поняли, что мы спасаем вас!
– Как меня?
Признание Амалии Карловны, словно громом, поразило молодую девушку.
– Меня, меня! – повторяла она. – Меня считают убийцей моего отца?
– Увы, как ни невероятно, но это так…
– Да что же это такое? – залепетала Марья Егоровна. – Да разве это серьезно?
Она припомнила слова Кобылкина, сказанные ей с такою грубою прямотою в это утро. Теперь ей все было ясно. Ее считают убийцею отца, и эти добрые, милые люди не нашли ничего лучшего, как увезти ее, предвидя, что, если бы дело было обставлено иначе, она ни за что не согласилась бы на это внезапное бегство.
Нервы Марьи Егоровны не выдержали нового неожиданного удара. Все заходило кругом в ее глазах, она лишилась чувств.
Долго ли продолжался обморок, Марья Егоровна не знала, но когда она несколько пришла в себя и открыла глаза, то увидала пред собою уже не супругов Зальц, а Мефодия Кирилловича Кобылкина.
Глава 27
Лицо старика так и сияло блаженством.
– Наконец-то вы очнулись, милая моя барышня! – воскликнул он. – Что это вы на меня так смотрите? Разве не узнали?
Во взгляде Воробьевой светился смертельный ужас.
– Нет, нет, оставьте меня, я не убивала отца, я не повинна ни в чем, – лепетала она.
Память ее сохранила разговор с Амалией Карловной, и теперь она была уверена, что этот страшный Кобылкин явился, чтобы арестовать ее. Но молодую девушку не так мучила эта мысль, как то соображение, что ради нее должен пострадать и ее жених, устроивший вместе с Зальцами этот ее побег.
– Не виновна, – разрыдалась она, – ни в чем не виновна!
– Да бог с вами, деточка моя, – удивился Мефодий Кириллович, – кто вас обвиняет?…
– Вы сами сказали – вы!
– Ах, вот вы про что! Ну, простите старика, я слишком уж прямо отрубил… Перестаньте же плакать, утрите глазки и успокойтесь, выпейте воды.
Мефодий Кириллович поднес к губам девушки стакан с водою.
– Пейте, пейте и перестаньте волноваться, – говорил он, – вам еще придется узнать многое, что не принесет радости.
Ласковый голос старика и его уверения подействовали успокоительно на Марью Егоровну. Она овладела собою настолько, что стала соображать, что происходит с нею и вокруг нее. Оглядевшись, она увидела, что кроме Кобылкина в комнатке было несколько человек, среди которых присутствовали полицейские. Ни мужа, ни жены Зальц не было.
– Где Амалия Карловна, Генрих Фридрихович? Вы их схватили? – спросила она.
– Это вы про кого же? – воскликнул Кобылкин. – Если про тех, кто вас завез сюда, так поговорим после… Важнее дело есть.
– А он, Алеша мой?
Лицо Кобылкина вдруг сделалось строгим.
– После, милая барышня, после, – сказал он. – Вы как себя чувствуете? Можете ехать со мною?
– Да, могу…
– Не будем терять времени! Господа, прошу вас тоже…
Кобылкин подал руку Воробьевой и жестом предложил ей следовать за ним. У крыльца дома стояла карета. Марья Егоровна, садясь в нее, увидала в углу двора экипаж, на котором она приехала сюда. Когда карета, в которую вместе с Воробьевой поместился и Мефодий Кириллович, отъезжала, Марья Егоровна увидела, что дом, где она только что была, опечатывали. В переулке теперь стояли толпы любопытных, и всюду на пути уже явились дежурные дворники и городовые.
– Бедная вы моя деточка, – говорил Мефодий Кириллович, – однако, и попали же вы в передрягу! Ой-ой-ой! В самую беду. Чуть не втюрились… Помните, что я говорил вам в первую нашу встречу, на что я намекал еще утром… а? Забыли! Облава на вас устроена была самая настоящая, все равно как на зверя с драгоценным мехом… Ловкачи-охотники были…
Марья Егоровна смутно понимала все, что говорил ей Мефодий Кириллович.
– Вы меня теперь в тюрьму везете? – вдруг перебила она его.
Кобылкин даже как будто опешил.
– Нет, зачем же это? – недоумевающе спросил он.
– Да ведь вы же подозреваете, что я убила отца!
– Ах, вот что… Это вам ваши Зальцы сказали?
– Да… они…
– Я так и знал! А вы и поверили, что Кобылкин Мефодий такой идиот…
– Вы сами же…
– Знаю, знаю! А вы кому-нибудь говорили об этих моих словах?
– Только Алексею Николаевичу.
– Ну, вот в этом и дело… Расскажите-ка, что еще врала вам эта дрянная немка.
Переутомление ли всеми тревогами этого дня подействовало на Воробьеву, или она невольно для самой себя убедилась, что этот старик ничего, кроме доброго, не желает ей, только она на этот раз пересказала ему все, что произошло с нею, что перечувствовала она с утра.
– И вы всю эту галиматью за правду приняли? – спросил Кобылкин, когда Марья Егоровна смолкла. – Эх вы, наивная девочка!
– Поверила, – созналась Марья Егоровна, – как же мне не верить, когда вы сами…
– Да, да! Но только я говорил в переносном смысле… Вы только были причиной всех причин, так сказать… А скажите, не знавали ли вы некоего Гирша Эдельмана?…
– Нет, даже имени такого не слыхала.
– Говорят, замечательный актер… Такого днем с фонарем поискать… мимист прекраснейший… Ну, а Кудринского этого вашего вы очень любите?
– Он мой жених. Если бы вы знали, как он был добр ко мне!
– Ну еще бы! Я думаю… В чем же эта доброта-то?
– Вы исповедь моего отца читали?
– Как же! И, сознаюсь, Кудринский ваш мне всю эту историю рассказывал, да я не обратил тогда внимания, а тут мне этот документ попался в руки, я посмотрел на него, да и вижу вдруг строки, густо зачеркнутые, и зачеркнутые не теми чернилами, какими самое письмо было написано. Заинтересовался я; я, знаете, от природы любопытен, захотелось мне узнать, что там такое вычеркнули… Ну, пока вы увлечены были спором с этим добрейшим Козловским, я скорее письмецо-то в карман… А вы вознегодовали на меня, кажется… Кстати, вам это письмо Морлей отдал?
– Да, он.
– Ловкач… Не нашим чета лондонские-то охотники! Ух, какие там молодцы! Это он и наговорил, что вы совсем бедненькая после папашеньки остались? Он?
– Он! Ведь этот Морлей был банкиром покойного папы… Скажите, – вдруг залилась слезами Марья Егоровна, – неужели мой несчастный отец в самом деле был убит?
– Да…
– Но как же это? Ведь, кроме меня, никого с ним не было.
– Так уж! Не российские тут, барышня, молодцы-охотнички действовали. В этом и дело все. Наш народ простоват, исхищряться не будет, а вот эти заграничные мастера – тонкие охотники!
Кобылкин на минуту замолчал, потом, обернувшись к Марье Егоровне, сказал в упор:
– Ваш отец насмерть был ужален ядовитейшей из всех змей – коброй.
– Нет!… Нет… Я брежу… Но, если правда это… Бедный, бедный мой отец!
Снова волнение и ужас овладели молодой девушкой; слышны были ее глухие рыдания.
– Но, ради бога, зачем же все это сделано?! – восклицала она.
Кобылкин ответил не сразу; он посмотрел долгим, пристальным взглядом на Воробьеву, потом взглянул в окно и тогда лишь сказал:
– Вы имеете полное право получить ответ на такой вопрос. Погодите немного, мы приехали; вы подниметесь ко мне и пока отдохнете в моем кабинете, и приведете в порядок ваши чувства, успокоитесь, а там мы продолжим нашу беседу. Даже больше: я попрошу вас послушать, что будут говорить двое людей, которых я нарочно вытребовал сюда.
Карета остановилась. Мефодий Кириллович вышел из нее и помог выйти Воробьевой. Они поднялись по лестнице и вошли в зал.
Кобылкина ждал у входа Пискарь.
– Ну что? – торопливо спросил Мефодий Кириллович своего помощника.
Тот что-то зашептал ему на ухо.
– Как же это так? – вскричал Кобылкин. – Да разве это возможно?…
– Не наша тут вина, Мефодий Кириллович… Больно ловки…
– Но все-таки… Сколько трудов… Ай-ай-ай!
Он закачал головой и, указывая на Воробьеву, сказал:
– Проведи-ка барышню ко мне в кабинет! Марья Егоровна, очутившись одна, почувствовала, что силы опять покидают ее. Теперь она видела ясно, что тайна преступления уже раскрыта этим знаменитым стариком, и боялась, и в то же время была уверена в том, что он сейчас назовет ей имя любимого человека, на которого и укажет как на преступника.
Но опасения ее как будто и не оправдались.
Кобылкин вернулся очень скоро. Он уже успокоился от недавнего волнения, вызванного сообщением Пискаря, и улыбался по-прежнему довольной улыбкой.
– Теперь побеседуем, – сказал он, усевшись за письменный стол. – Прежде всего, скажу вам, что вы далеко не так бедны, как вы думаете. Вы и теперь страсть какая богачиха!
– Но как же Морлей…
– Морлей, – перебил ее Кобылкин, – негодяй, каких мало, да и не банкир он вовсе. Ну, да о нем будет речь впереди. Но вы что-то хотите сказать мне?
– Да не томите меня… Кто виновник смерти отца?
– Целая шайка тут была… Видите ли, милая барышня, вы помните, что вы родились далеко отсюда?…
– Да, отец говорил мне, что где-то на Амуре…
– Вот-вот, в Манчжурии; если хотите знать, там, на золотых приисках отец ваш и нажил громадное состояние… Праведно или неправедно, это уж пусть его на небе рассудят, но все его богатство принадлежит теперь только вам…
– Но отец потерял его.
– Опять вы о Морлее этом. Забудьте о нем на время… Скажите, вы нареченного вашего, Кудринского, ведь никогда не видали раньше, до приезда в Петербург?
Сердце в груди Марьи Егоровны даже биться перестало. Она поняла, что близка роковая минута, когда откроется страшная тайна.
– Господи! Да неужели же вы его вините? – не своим голосом воскликнула она.
Мефодий Кириллович загадочно улыбнулся.
– Кого это его? Кудринского? Нет, никогда… Кудринский ни при чем…
– О, благодарю вас… Какая тяжесть снята с сердца.
– Радоваться-то очень за свое сердце погодите… Итак, вы никогда до приезда в Петербург не видали Кудринского?
– Нет.
– А разве батюшка ваш никогда не показывал вам хотя бы портрет того, кого назначил вам в мужья?
– Показывал… Даже за минуту перед смертью у него был в руках фотографический портрет Алексея…
– Не этот? – протянул Кобылкин Марье Егоровне фотографию.
– Этот, этот самый! – ответила она. – Тут и подпись.
– Да как же тогда? Ведь тут совсем другой человек ваш жених.
– Он был болен, оправился, – пробормотала та.
– Это он вам сказал?
– И он, и я сама думала так; сходство все-таки большое.
– Не скрою, сходство есть…
Кобылкин дважды позвонил. Очевидно, за дверьми знали, что значил этот звонок. Пискарь, по крайней мере, сейчас же ввел двух просто одетых людей. Это были Иоганн Ивинен и Карл Ситонен, кельнер и кучер из гостиницы на Иматре.
– Подойдите сюда! – приказал им Мефодий Кириллович, и, когда они подошли, подал им взятый у Марьи Егоровны обратно портрет и еще другой. – Поглядите, что вы скажете?
Ивинен и Ситонен несколько минут рассматривали портреты.
– Этот господин приехал к нам и ушел на водопад, – торжественно объявил Ивинен, показывая признанный Воробьевой портрет, – а этот господин, – поднял он другой портрет, где был изображен Кудринский таким, каким знала его Марья Егоровна, – вернулся с водопада.
– И я отвез его на Малую Иматру, – подтвердил Ситонен.
– Хорошо, выйдите пока, – приказал им Кобылкин, – я еще позову вас…
– Но я не понимаю, – воскликнула Марья Егоровна, – что это значит?
– Только то, – отчеканил Мефодий Кириллович, – что этот, – он показал на первый портрет, – Алексей Николаевич Кудринский, а этот, – он поднял пред глазами Воробьевой второй портрет, – Гирш Лейбович Эдельман.
Вдруг все для вдохновившегося и увлекшегося старика стало необыкновенно ясно. Он прозрел…
„Те-те-те! – даже языком защелкал Мефодий Кириллович. – Вот оно дело-то в чем!“ – Вся картина прошлого явственно встала перед его глазами.
Погибший Кондратьев нашел таинственный портрет в том самом купе, где умер Воробьев; Воробьев был только с дочерью, и разговор между ними шел о назначенном отцом для своей дочери женихе. Женихом этим был Кудринский. Вернее всего, при разговоре о нем отец или дочь держали портрет будущего родственника в руках. Когда случилась смерть Воробьева, портрет был брошен, завалился куда-нибудь и при осмотре вагона его не нашли. Так и лежал он там, пока им не завладел Кондратьев.
Это была, конечно, догадка, но догадка наиболее вероятная…
„Но что же тогда было опасного в портрете для „них“? – продолжал соображать Мефодий Кириллович, – ведь Кудринский налицо… Портрет не нужен, когда есть оригинал… Но нет, все дело в этом портрете… в нем, только в нем! А где его сыщешь?“
Кобылкин призвал к себе Пискаря и Савчука. Последнему он приказал немедленно и во что бы то ни стало привести к себе Никитина, а первому поручил навести справки во всех петербургских фотографиях, не снимался ли где в последнее время Кудринский. На выполнение того и другого поручения нужно было время. Мефодий Кириллович вспомнил, что он обещал навестить семью Ракиты, и решил сделать это немедленно.
Он в своем неизменном шарабане отправился на столичную окраину, где произошло за эти дни столько полных тайны происшествий.
Мозг старика работал все быстрее и быстрее.
„Нет, нет и нет! – мысленно воскликнул Кобылкин. – Сомнений быть не может: там хотели скрыть портрет Кудринского, и именно тот, который был у Воробьева“.
Когда пришлось проезжать мимо железнодорожного вокзала, Мефодий Кириллович решил, что необходимо ему, как он обыкновенно выражался, „подогреть себя“, заставить мозг работать сильнее, дать ему для этой работы новую пищу. Для этого он решился осмотреть еще раз тот вагон, где произошла катастрофа с Воробьевым.
Первоначальный осмотр произведен был поверхностно, ведь тогда никто не видал чего-либо подозрительного в скоропостижной смерти Егора Павловича. Тем не менее, вагон был все-таки оставлен следственными властями в качестве вещественного доказательства и даже заперт на замок в сарае.
Когда Кобылкин объявил железнодорожному начальству, кто он и зачем явился, его с почтением и беспрепятственно допустили к вагону.
В сопровождении нескольких человек вошел Мефодий Кириллович в сарай. Запертые на ключ дверцы вагона отперли, и старик живо взобрался на площадку. Там он остановился. Сердце его забилось. Все-таки, как ни привычны были его нервы, а входить туда, где, как в том был уверен Кобылкин, совершилось злодеяние, было и ему несколько жутко.
Оправившись и пошутив даже, он смело шагнул вперед и прямо прошел в купе, где умер Воробьев.
Решительно не было ничего такого, что хотя бы чем-либо могло напомнить о разыгравшейся здесь, в этой крохотной каморке, драме…
– Вот на этом диване и лежал труп! – предупредительно пояснил Кобылкину один из провожатых.
„Ага, – подумал тот, – если Воробьев мертвый лежал здесь, то и живой он сидел здесь же!“
Недолго думая, он опустился на диван и заметил вскользь:
– Мягонькие они у вас!
– Пружины все в исправности!
– То-то я и вижу.
Он стал надавливать руками на пружины, и взгляд его невзначай упал на то место, где сиденье соприкасалось с боковыми подушками.
„Там пустота“, – сообразил он, когда сунул в щель руку.
Вдруг дрожь пробежала по его телу: под пальцы попалось что-то мягкое и шелестящее. Он сделал движение и вытащил обрывок тонкой шелковой бумаги. Поднести его к свету и узнать, что это такое, было делом одного мгновения. Это был листок, который обыкновенно приклеивается к фотографиям для предохранения их от действия света. Сердце Мефодия Кирилловича радостно забилось; тайна казалась ему близкой к разоблачению.
Весь трепеща от нетерпения, Мефодий Кириллович расправил драгоценный лоскуток и даже вскрикнул от восторга – на обрывке сохранилась фамилия фотографа и даже адрес его: Москва…
– Изволили найти что-нибудь особенно важное? – спрашивали Кобылкина.
– Ничего такого, – постарался возможно небрежно ответить он, – клочок какой-то… Знаете, я по профессии с детства любопытен.
Говоря так, Мефодий Кириллович в то же время думал:
„Посмотрим, не найдем ли еще чего-нибудь“.
Он начал подробнейший осмотр купе, вскакивал на диваны и заглядывал в сетки, выстукивал стены, приказал поднять сиденья, подлез под них, потом осмотрел так же внимательно соседние купе, и чем дольше продолжался осмотр, тем все более озабоченное и в то же время торжествующее выражение принимало его лицо.
Он никому не сказал ни слова, но, уходя, приказал караулить и вагон и сарай…
„И как это раньше могло от меня ускользнуть? – размышлял он. – Теперь ясно, как попала змея в купе Воробьевых“.
Под сиденьями диванов, с обеих сторон он открыл небольшие отверстия, проделанные с внешней стороны, то есть из обоих купе, соседних с тем, где умер Воробьев. Кроме того, было еще одно отверстие, тоже внизу, довольно большое, замаскированное материей обивки.
Тайна раскрывалась все более и более…
Теперь Мефодий Кириллович старался заставить себя не думать более ни о змеях, ни о портрете – пока что нужно было разобраться в новых открытиях, – но напрасно: мозг был подогрет и работал сам, помимо воли Кобылкина.
„Ясно, ясно все теперь! – размышлял Мефодий Кириллович на пути к жилищу Ракиты. – Облава на Воробьева началась с Москвы. Оба купе, по ту и другую сторону купе старика с дочерью, были заняты охотниками. Ночью, когда все заснули, проделаны были отверстия. Змеи, а их непременно было две, по одной с каждой стороны, могли быть в кожаных мешках, так что для тех, кто держал их, они никакой опасности не представляли. Но зачем же две гадины? И это ясно. Ловкачам моим, – а нужно сознаться – ловкачи! – нужно было непременно и во что бы то ни стало уничтожить только одного старика, девушка же должна была остаться. Ее берегли. Она-то, по всей видимости, и была главной приманкой“.
Но тут Кобылкин вспомнил о том, что ему сообщили о Морлее и разорении Воробьева.
Теперь опять все, как будто, окуталось туманом.
Раз Воробьева ничего не получала после смерти разорившегося отца, стало быть, она для неведомых хищников ровно ничего не стоила.
„Да может быть, они и не знали, что Воробьев разорился? – шевельнулось было прежнее соображение. Но Кобылкин сейчас же отогнал его от себя новою догадкой: – Охота велась исподволь, не сразу началась она, – размышлял он, – к ней готовились, создан был план, Воробьев же тоже разорился не сразу… Нельзя и думать, чтобы это разорение не было известно его врагам…
„А вот мы посмотрим, как это он так разорился, – решил, наконец, Мефодий Кириллович, – узнать-то, то не так уж трудно… Теперь же вот что! Змей было две: по одной с каждой стороны – для меня это ясно. С какой стороны ни спал бы Воробьев, пресмыкающееся, то или другое, в зависимости от того, на каком диване – правом или левом – он сидел, настигло бы его; но где же вторая змея?“
Однако этого вопроса он решить не мог, да пока и не занялся им. На очереди были другие дела, более важные и требовавшие большого напряжения.
С такими думами добрался Мефодий Кириллович до квартиры Ракиты. Он рад был отвлечься от пришедших уже в полный хаос мыслей и более часа провел в семье Пантелея Ивановича, утешая Веру Ивановну и лаская ребятишек.
Когда он возвратился, Пискарь и Савчук уже ожидали его.
Принесенные последним вести были неутешительны: Никитина не было; парень успел куда-то скрыться, и, несмотря на все поиски, Савчук нигде не нашел его.
– Изо дня в день он только ночью возвращается, – оправдывался Савчук.
– Что ж, подождем до ночи! – рассеянно сказал ему Мефодий Кириллович. – А у тебя что? – обратился он к Пискарю, заметив, что тот что-то держит в руках.
– Вот, пожалуйте, Мефодий Кириллович, – протянул ему сверток Пискарь, – нашел, в двух фотографиях снимался господин Кудринский…
Кобылкин живо схватил и развернул сверток, но его ждало разочарование. На фотографиях Кудринский был как Кудринский, фотографам удались портреты, и сходство было соблюдено.
„Посмотрим, что Москва скажет!“ – даже вздохнул Мефодий Кириллович.
Уже на пути к Раките у него создался вполне определенный план действий.
Прежде всего он приказал установить бдительное наблюдение за Кудринским, узнать, где он поселил Воробьеву, и тоже наблюдать; немедленно привести Никитина, как только тот будет найден. Затем он сам снесся по телеграфу с Москвою, Лондоном и Владивостоком. В Москве он, указав адрес фотографии, значившийся на обрывке, найденном в вагоне, просил раздобыть портрет Кудринского, если тот снимался там; в Лондон он послал к русскому представителю запрос о банкире Морлее, а во Владивостоке запрашивал о Воробьеве и о том, не осталось ли где в Сибири после него недвижимое имущество и, если осталось, то какое.
Ответы из Лондона и Владивостока не заставили себя долго ждать.
Из столицы Британской империи сообщили Кобылкину, что банкир Морлей постоянно живет в Шанхае, в Лондоне же на Риджент-стрит находится только отделение его банкирской конторы. Сам Морлей более года не был не только в Лондоне, но даже и в Европе.
Ответ из Владивостока тоже помог рассеять мрак, весь мрак. После Егора Павловича Воробьева остались золотые прииски, и ни о каком разорении покойного миллионера здесь не было слышно.
Наконец пришла из Москвы долгожданная посылка…
Дрожа от волнения и нетерпения, вскрыл Мефодий Кириллович казенный пакет. Там было несколько фотографических карточек. Кобылкин взглянул на одну из них и даже подскочил от удивления. С фотографии глядело на него совершенно незнакомое лицо, очевидно, больного, близкого к смерти человека. Это был не Кудринский; сходство кое-какое было, но столь отдаленное, что того Кудринского, которого знал Мефодий Кириллович, и того, кто был изображен на московской фотографии, никогда нельзя было бы принять за одного и того же человека.
Целую ночь продумал Мефодий Кириллович. Наутро он приказал окружить Кудринского и Воробьеву (ему уже было известно, что Марья Егоровна жила у Зальцев под самым строжайшим надзором), послал в Москву петербургский портрет Кудринского, а сам немедленно уехал.
Пробыл он в отсутствии два дня.
Никто не знал, куда уезжал он…
Без него Пискарь и в особенности Савчук, которого до того преследовали всевозможные неудачи, строжайше выполняли приказания своего начальника, данные им перед отъездом.
Они глаз не спускали с Кудринского и Марьи Егоровны, так что когда возвратился из своей поездки Мефодий Кириллович, они встретили его вестями, которые в одно и то же время были и неожиданны, и уже предчувствуемы, хотя никогда бы сам Кобылкин при множестве слагавшихся в его уме комбинаций не сказал, что выйдет так, как оно случилось.
Герман Зальц оказался лакеем Кудринского, тем самым, которого видел у него Кобылкин. По наведенным справкам ничего предосудительного ни в поведении, ни в прошлом его и его жены не было, но кучером у них служил тот самый мастеровой Никитин, который последний видел живым сцепщика Кондратьева.
Глава 28
Теперь Кобылкин принял это известие даже равнодушно; он перестал уже удивляться тому, что происходило, и тем новым подробностям, которые стали обнаруживаться одна за другой. Пыл его уже прошел, и, когда тайны разъяснились, а загадки перестали быть загадками, Мефодий Кириллович стал относиться ко всему этому делу с официальной холодностью.
– А те… все на местах? – спросил он Пискаря. – Вкупе все?
– Нет только Морлея…
– Жаль! Как же не устерегли?…
– Внезапно скрылся!…
– Ну, Господь с ним, он не наш…
– Послали приказы задержать…
– Ну, уж, лови ветра в поле… Да и англичанин он – пусть убирается, без него много попалось…
Кобылкин остановился и, вспомнив, спросил:
– Москва что? Все еще молчит?
Пискарь передал своему начальнику пакет. Когда Кобылкин ознакомился с его содержанием, он немного почмокал губами и промычал:
– Н-да, дела!
После некоторого молчания, во время которого он обдумывал новое положение дела, Кобылкин вспомнил о Раките и спросил, что с ним. Оказалось, что Пантелей Иванович оправляется физически, но у него пропала память и бедняга не помнит решительно ничего, что произошло с ним, и как он попал в больницу.
Поездка скоро дала себя почувствовать. Кобылкин был страшно утомлен, но отдохнуть ему не удалось. Его экстренно вызвали в Виленскую губернию, в пределах которой случилось железнодорожное крушение. Опять более трех дней он отсутствовал, а когда вернулся, то на следующее же утро Марья Егоровна была вызвана к следователю, и читателю уже известно, что произошло после этого…
Мефодий Кириллович с тоской смотрел на молодую девушку и думал:
„Бедная! Нелегко ей вынести все эти потери!“
Марья Егоровна успокоилась скорее, чем можно было ожидать. Рыдания ее прервались, но вся она сразу изменилась: лицо осунулось и побледнело, нос заострился, сверкающие лихорадочным блеском глаза глубоко впали.
– Я хочу знать все! – каким-то странным, глухим голосом произнесла она. – Слышите – все! Вы сами сказали, что я имею на это право…
Кобылкин склонил в знак согласия голову.
– Да, – ответил он, – но вам будет тяжело, не лучше ли повременить?
– Нет, лучше сразу… Кто этот Гирш Эдельман?
– Позвольте мне тогда рассказать все сначала. Тогда вам будет все ясно, и вы легко поймете, какая облава велась на вас.
– Хорошо! Я слушаю.
– Так вот, изволите ли видеть: ваш отец был очень богатый человек, но главное богатство его было вовсе не в деньгах. Та сумма, которая находится в лондонском отделении банкирской конторы Морлей и К°, сущий пустяк в сравнении с тем, чем владел ваш отец и владеете вы. Ваше состояние – точной суммы я не знаю, да и надобности мне не было узнавать ее – простирается до нескольких десятков миллионов рублей на наши деньги, но повторяю опять, что ваше состояние не в деньгах, а в неистощимых золотых приисках, находящихся в маньчжурской провинции Китая, Хей-Лунь-дзинь, и смежных с нею. Кроме того, ваш покойный батюшка пользовался особенным влиянием в этих провинциях Манчжурии. Вы, таким образом, представлялись лакомой добычей для хищников.
– Почему непременно я? – перебивая Кобылкина, спросила Марья Егоровна.
– Кто же еще? Не ваш же отец! По отзывам, это был человек решительный, смелый, и с ним охотившимся на вас негодяям ничего не удалось бы сделать. Да и с вами, пожалуй, не явись им в помощь некоторое обстоятельство. Обстоятельством этим было непременное желание вашего отца выдать вас замуж за своего воспитанника Алексея Кудринского. Это – настоящий Кудринский, – Кобылкин протянул портрет болезненного молодого человека. – Он действительно был сыном погубленных вашим отцом людей… Вы простите меня, – перебил сам себя Мефодий Кириллович, – что я резко и грубо называю вещи их собственными именами, но в деловом разговоре иначе нельзя.
– Я понимаю! – ответила, не глядя на него, Марья Егоровна. – Что дальше?
– Что дальше?
– Дальше то, что отец ваш, мучимый совестью, решил, во что бы то ни стало…
– Знаю, выдать меня замуж за Кудринского…
– Да. Но он был уверен, что Кудринский очень скоро освободит вас, ибо, несмотря на все заботы вашего отца, кстати сказать, не очень раскошеливавшегося на своего питомца, его сводил в могилу такой злой недуг, как чахотка. Хищники и воспользовались этим обстоятельством.
– Вы все говорите: „хищники“. Кто же они такие?
– Во главе их был тот, кого вы знали под именем Джона Морлея, но это был вовсе не Морлей, а только заведующий лондонской конторой этого банкира, некий Вильям Уокер. Ему поручено было хранение завещания вашего отца и письма, которое он должен был передать вам лишь тогда, когда ваш отец умрет. Достаточно известна беспринципность англичан, в особенности там, где дело касается наживы. Уокер вскрыл письмо клиента своего патрона и ознакомился с содержанием. Положение дела в мельчайших подробностях его было ему известно. Он задумал овладеть всем состоянием вашего отца, то есть главным – золотоносными его землями в Манчжурии. Для этого он решил, что вашим мужем вместо Алексея Кудринского должен стать такой человек, который был бы ему предан до мозга костей и в то же время мог бы заменить Кудринского. До чего была велика выдержка этого человека, вы можете видеть из того, что шесть лет он приводил в исполнение свой план. Среди лондонского отребья он отыскал одного юношу, по происхождению русского еврея, попавшего в Лондон со своими родителями, которые там умерли. Этот юноша и был Гирш Эдельман – вот этот, – показал Кобылкин петербургский портрет, – которого вы в течение всего этого времени знали как Кудринского. Эдельман был мимом в таборе бродячих клоунов. У него были, как у большинства евреев, великолепные музыкальные способности, и при всем том он превосходно говорил по-русски. Среди того же лондонского отребья Уокер нашел еще одного русского. Имени я вам его не назову, ибо в России есть у этого несчастного родные, здесь же мы знали его как Николая Никитина. Сверх того, у Уокера был друг и поверенный в делах, немец Зальц, человек тоже способный вместе со своей супругой на что угодно. Так и собралась эта достойнейшая компания. Уокер сумел приручить их и выдрессировать просто на диво! Чем бы был этот человек, если бы он свои способности, свою энергию употребил на полезные и честные дела! Достаточно сказать, что он и сам выучился, и Зальца выучил довольно бегло говорить по-русски. Эдельман за это время тоже развил свои способности. Из балаганного мима он, благодаря необыкновенно подвижному лицу, стал замечательным актером – всякое душевное движение он, не чувствуя его, мог изображать на своем лице. Это и вы можете засвидетельствовать, и я… уж на что – стреляный воробей, ваш покорный слуга, а и то попался на эту удочку, и не стыжусь сознаться – так артистично выполнил свою роль этот Гирш… Говорят еще, что он прекрасно играл на скрипке…
– Я знаю. Дальше!
– Когда компания наладилась, роли были распределены, розданы, прорепетированы. Эдельман в сопровождении четы Зальц, отправился в Россию, в Москву. Там он подружился с Алексеем Кудринским, да так, что стал поверенным всех его дум и тайн. Впрочем, у Кудринского и тайн-то быть не могло… Сдружились они так, что их, по пословице, и водою разлить нельзя было, и понятно, что Гирш этой дружбой пользовался для выполнения своего плана. Он выпытал у Кудринского все, вплоть до самых мельчайших подробностей его жизни, и мало-помалу начал внушать ему мысль, что, стоя на краю могилы, нельзя заедать чужую, то есть вашу, жизнь. Болезненный и уже по одному этому лишенный воли, Кудринский так проникся этими мыслями, что готов был на все, лишь бы не стать виновником вашего несчастья. Тогда Эдельман стал действовать на него с другой стороны: он стал внушать ему мало-помалу, но постепенно и постоянно, что он должен пожертвовать собой. Но тут инстинкт самосохранения взял верх. Покончить с жизнью у Кудринского не хватило силы воли. В это время ваш покойный отец приказал ему отправиться в Петербург и приготовить здесь помещение для себя и вас, ибо Егор Павлович предполагал обвенчать вас и Кудринского, как только доберется сюда. Скрепя сердце Кудринский отправился, а Эдельман остался в Москве… За несколько дней до вашего приезда Кудринский получил от своего приятеля письмо, в котором тот умолял его непременно приехать на Иматру и встретиться с ним у водопада. Место встречи, а также путь до него были описаны подробно. Но в письме Эдельман умолял друга ни словом не заикаться о нем и объяснял это тем, что ни в Петербург, ни в Финляндию ему показаться нельзя. Кудринский приехал и встретился с Гиршем.
– А тот сбросил его в водопад?
– Не знаю… Все эти подробности мне известны от мнимого Морлея… Когда он бежал из Петербурга, разбился поезд, на котором он ехал, и этот Уокер тоже расшибся насмерть. Меня уведомили об этом, и я успел застать англичанина в живых. Перед смертью он рассказал мне все… Вот мой источник, и я не сомневаюсь в его достоверности… Что касается смерти Кудринского, то я думаю, что Эдельман тут не без греха…
– Зачем же понадобилась непременно Иматра? – спросила Воробьева, на лице которой отражалось ужасное волнение.
– А видите ли, тут опять свой расчет: Кудринский приехал, как его просили, поздно вечером. Вряд ли кто мог разглядеть его, Он, согласно просьбе своего друга, зашел в гостиницу, записался в книге для приезжающих и, не заходя в номер, прежде всего, отправился на водопад. Эдельман, знавший финский язык, – он нарочно его изучал на этот случай, – скрывался в ближней деревне и явился на место свидания никем не замеченный. Ах, да! При Кудринском все время в качестве слуги-друга был Зальц… Таким образом, Уокеру и Эдельману было известно все, что ни делал этот несчастный… Когда там, на водопаде, все, так или иначе, было кончено, в гостиницу явился Эдельман, с той поры преобразившийся в Кудринского… Этим он, так сказать, подтверждал, что Кудринский живым и невредимым вернулся с водопада. Его видели до и после посещения Иматры, а если и выброшен был труп – то кто бы мог сказать, чей он… Все оправдалось. Иматра выбросила труп, обезображенный до неузнаваемости. Никаких подозрений не возникло, все сошло как по маслу, только одному кельнеру кинулась в глаза странность: пошел как будто один, а возвратился другой. Но и этот долгое время ничего не говорил. Между тем разыгралась трагедия с вашим отцом. Всю дорогу от Москвы вы ехали в отдельном купе, но рядом с вами в том же вагоне находились: с одной стороны Зальцы, муж и жена, с другой – Морлей и Никитин. У обеих пар в кожаных мешках было по ядовитой змее, из тех, чей яд не оставляет по себе следов. В стенках вагона негодяи проделали отверстия; чтобы впустить в них змею, достаточно было приложить открытый мешок и пропустить змею, а чтобы удержать ее – у негодяев припасены были особые распорки, которыми они всегда могли ущемить гадину. Вы слышали сами свист и шипенье. Это Никитин подпустил к вашему отцу ужалившую его в ногу змею… Вот и все… План выполнен был безукоризненно, но в нем оказалась некоторая задоринка. Вашего отца ужалила ядовитейшая из индийских змей – кобра. Когда же нужно было вернуть ее обратно в мешок, не удалось захватить ее, как нужно, распоркою, и часть ее туловища оказалась вне мешка. Спасая себя, действовавший с коброй Уокер выбросил ее за окно, и она найдена была через несколько дней несчастным Кондратьевым. Когда пошли толки, Никитин, живший под именем мастерового, отправился на окраину, где обитали железнодорожные рабочие, и там узнал грозную для всех новость. Появление змеи, по всей вероятности, так и осталось бы необъясненным, но Кондратьев нашел в вагоне оброненную вашим отцом карточку настоящего Кудринского. Это угрожало уже полным крушением всего плана. Тогда Никитин, всегда носивший у себя на груди в кожаной сумке вторую змею – песчаную гадюку, – решился сам действовать. Он узнал от Кондратьева, что тот передал фотографию жене. Выручить ее не удалось. Хотя сцепщик и бегал к жене за нею, но воротить ее не пришлось, так как та отдала карточку жившей в Петербурге дочери. Но Кондратьева была баба грамотная; она прочитала подпись на карточке, а это, как ясно поняли охотники, несомненно, могло навести меня на их след. Никитин напоил Кондратьева допьяна и пустил под его одежду змею. Опасный свидетель погиб; тогда тот же Никитин отправился, якобы посланный мужем, к жене Кондратьева, напоил и ее, но в водку он прибавил ей наркотических средств и, когда она заснула, разжег в печке каменный уголь, не открывая трубы. Он ушел, а Кондратьева погибла от угара… После этого Зальц увез дочь Кондратьева за город, где передал ее своей жене. Они намеревались незаметно для девушки найти в ее вещах столь нужную им карточку, но тут начались их неудачи. Девица Кондратьева отдала карточку, которой никакой цены и значения не придавала, одной из своих подруг, жившей в другом конце нашей столицы. Та повесила портрет в рамочку, а у нее и нашли мы портрет вашего нареченного жениха, когда узнали, что нам нужно искать. Да, еще одно. Эти ловкие господа узнали из болтовни прислуги, – Никитин, но уже не в платье рабочего, был всюду, где был я и власти, и, следовательно, сбирался народ, – что еще одному человеку, имевшему ко мне отношение, известно о карточке, найденной Кондратьевым, и что этот человек долго говорил со мной. Они ухитрились заманить его и напоили такими средствами, которые, вызывая страшные приливы крови к голове, лишают человека чувств, разума, памяти… Тогда они на свободе принялись за вас… Да, еще два слова. Эти люди были так смелы и так ловки, что сыграли удавшуюся, было, штуку. Смелость города берет, и всякие подозрения отклоняет и успокаивает. Кудринский сперва мне дерзил, справедливо рассчитав, что лучшим доказательством его непричастности является дерзость. На той же струнке сыграл со мною и Уокер, и Никитин дал себя взять, чтобы появиться у меня и своим рассказом сбить меня с пути… Признаюсь, и ему удалось меня провести.
Кобылкин помолчал.
– Теперь и конец близок, – снова заговорил он, – мне помог доктор Колоколенский, видавший трупы Кондратьевой и вашего отца. Он понял, что раньше, чем подействовал угар, Кондратьева приняла наркотик. Он и при осмотре тела Егора Павловича заметил на ноге следы укуса… Колоколенский поделился со мною своими наблюдениями, и я понял все.
Мефодий Кириллович опять смолк. Он сообщил затем о записке Ракиты, о поисках фотографии Кудринского и о том, что в Москве в посланной им карточке признали Гирша Эдельмана. Потом он рассказал, как он ездил сам на Иматру и как ему, благодаря рассказу Ивинена и Ситонена, удалось проникнуть в тайну водопада.
– Теперь понимаете, к чему все клонилось? – спросил он.
– Не совсем…
– Ну как же. Ведь это так ясно! Уокеру с компанией нужно было женить на вас Эдельмана. Тогда бы все богатство вашего отца попало в руки этих негодников, ведь не отказали бы вы в доверии мужу… И им бы удалось… да вот, на их беду, осталась фотография в вагоне. Кабы не эта случайность, ничего бы, пожалуй, мы не нашли. Что же касается лично вас, то все, что ни говорил вам Эдельман, все его поступки – все было подготовлено и рассчитано, он играл роль… Появление его у вас после Морлея-Уоркера со скрипкой – видите, я и это знаю – было одной из эффектнейших сцен… Он знал, что вам будет открыта тайна вашего отца, и его появление сразу же после этого непременно произведет желанный эффект… А удалось ему, правда?
Мефодий Кириллович лукаво посмотрел на Марью Егоровну. Та густо покраснела, вспомнив, как она ползала в ногах Эдельмана.
– Правда? – переспросил, улыбаясь, старик.
– Да, – сказала Марья Егоровна. – Но что с ними теперь?
– Что же? Уокер умер. Никитин вырвался из рук, когда его взяли, но его, к сожалению, сразу же не обыскали, а между тем, у него наготове для такого случая был яд… Он тоже умер. Осталась мелочь – Зальцы и Эдельман. Их прямо нельзя обвинить в гибели вашего отца. Нет улик против них. Главные деятели были Уокер и Никитин. Эдельман же будет привлечен за самозванство. Процесс выйдет очень негромкий, а так как о змеях не будет помина, то, пожалуй, он пройдет совершенно незамеченным. А что вы думаете делать с собою?
Марья Егоровна задумалась, потом подняла голову и заговорила:
– Мефодий Кириллович, все, что я пережила, так ужасно, так тяжело, что я будто совсем переродилась. Я не прежняя беззаботная, невинная девочка, не знающая жизни, смотрящая на нее так, как указывают другие. Я поняла многое, если не все, и глаза мои открылись, благодаря вам. Спасибо вам за это!
– Не стоит благодарности! – сгаерничал Кобылкин.
Марья Егоровна не обратила внимания на его выходку.
– Пока вы говорили, я обдумывала, что мне делать далее. Я не хочу мести этим жалким людям. Жалки они, правда! Пусть им мстит за их преступления судьба. Но я здесь тоже не могу более оставаться. Я отправлюсь на свою далекую родину – на Амур. Там люди проще и честнее… Сколько пробуду я там, не знаю, но уверена, что эта поездка принесет мне пользу.
– Ну, еще бы, – согласился Мефодий Кириллович, – только хотите вы знать мое мнение?
Воробьева вопросительно посмотрела на него.
– Так вот что. В Манчжурию-то вы поезжайте не одна, подыщите женишка себе, отпразднуйте свадебку, и распрекрасное выйдет свадебное путешествие. Так будет вернее.
Марья Егоровна покачала головою.
– Нет!… Людишки все и жалки, и противны, я не могу их видеть теперь.
– Ну, как знаете, обойдетесь еще! Я очень рад, что мне удалось оберечь вас… Еще бы немного – и вышло бы совсем плохо… Я вас и теперь поберегу. Вы ведь без крова и пристанища? Так я вот что порекомендую: вы поселитесь в том же отеле, где и жили, но возьмите к себе на время одну женщину с ее ребятишками. Женщина славная, ее зовут Вера Ивановна Ракита. Благодаря мужу ее, мы и в тайну змей, и в тайну водопада проникли. Она вас в обиду не даст. А пока я прикажу вас проводить моему помощнику.
Кобылкин встал, показывая, что разговор кончен.
Марья Егоровна простилась с ним и, сопровождаемая Савчуком, отправилась на прежнее свое пепелище.
Проводив ее, Мефодий Кириллович покачал головой и громко проговорил сам себе:
– В Манчжурию отправляется… Эх-хе-хе! Маньчжурское золото, маньчжурское золото, – он покачал головой, – сколько оно еще всяких „делов“ наделает!…