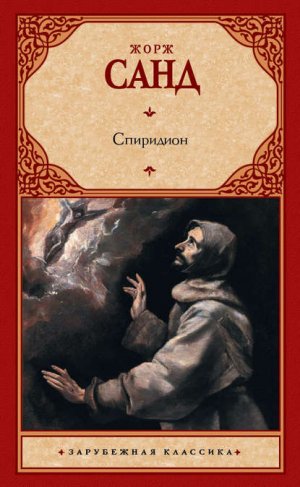
Жорж Санд
Спиридион
От автора
Я писала «Спиридиона» в картезианской обители Вальдемоза, под завывания северного ветра, гулявшего под полуразрушенными монастырскими сводами. Конечно, эти романтические места достойны лучшего поэта. Однако радости творчества, к счастью, измеряются не достоинствами творения, но чувствами творца; когда бы не заботы и тревоги, подчас весьма горькие, жизнь в келье величественного монастыря, куда меня привел случай или, скорее, нужда и отсутствие другого приюта, доставила бы мне наслаждения самые возвышенные; лучшее место для завершения этой книги, начатой в Ноане, найти было трудно.
Ноан, 25 августа 1855 года
Спиридион
Г-ну Пьеру Леру
Друг и брат по возрасту, отец и наставник по добродетели и мудрости, примите одну из моих повестей – не как труд, достойный вас, но как залог дружбы и преклонения.
Жорж Санд
Когда я поступил послушником в бенедиктинский монастырь, мне едва минуло шестнадцать лет. Поначалу мой мягкий и смирный нрав, казалось, снискал мне доверие и приязнь монахов; однако очень скоро их благожелательность сменилась холодностью, а отец казначей, единственный, кто сохранил ко мне хоть немного сочувствия, несколько раз отводил меня в сторону и шепотом внушал мне, что если я не буду более сдержан, то непременно навлеку на себя немилость настоятеля.
Напрасно пытался я добиться от него разъяснений; он прикладывал палец к губам и вместо ответа говорил с таинственным видом:
– Вы прекрасно понимаете, сын мой, что я хочу сказать.
Тщетно старался я отгадать, чем провинился. Как бы строго ни судил я свое поведение, я не находил никаких оснований для упреков. Шли недели, месяцы, а монахи по-прежнему взирали на меня с молчаливым неодобрением. Напрасно удваивал я усердие и послушание, напрасно следил за всеми своими словами, за всеми своими мыслями, напрасно был истовее всех на молитве и ревностнее всех в труде; с каждым днем окружающие отдалялись от меня все сильнее. Все друзья покинули меня. Никто со мной не разговаривал. Самые ленивые и недостойные из послушников, кажется, считали себя вправе презирать меня. А иные, проходя мимо, даже прижимали к себе полы сутаны, словно боясь коснуться прокаженного. Хотя я отвечал уроки без единой ошибки и делал большие успехи в церковном пении, лишь только мой робкий голос стихал, как в классной комнате воцарялось глубочайшее молчание. Для меня у наставников и учителей не находилось ни единого одобряющего взгляда, а между тем самые беспечные и бездарные послушники утопали в похвалах и наградах. Настоятель при виде меня отворачивался, как если бы сама мысль о моем приветствии была ему омерзительна.
Я исследовал все движения собственного сердца, я строго спрашивал себя, не вызваны ли мои страдания уколами оскорбленного самолюбия. Возможно, в чем-то я ошибался, но во всяком случае знал наверное, что сделал все возможное для подавления любых ростков тщеславия и что если сердце мое объято глубокой печалью, то причиной тому – одиночество, на которое обрекли меня окружающие, и отсутствие любви, а не недостаток забав и похвал.
Я решился искать помощи у единственного монаха, который не мог отвергнуть мои признания, – у моего духовника. Я бросился к его ногам, я поведал ему о моих муках, о стараниях заслужить участь менее горькую, о борьбе с духом роптанья и обиды, рождавшимся в моем сердце. Каково же было мое отчаяние, когда духовник отвечал мне ледяным голосом:
– До тех пор пока вы не откроете мне свое сердце с полной искренностью и совершенным смирением, я ничем не смогу вам помочь.
– О отец Эжезип! – отвечал я ему. – Сердце мое открыто вам всецело, ибо я никогда ничего от вас не скрывал.
Тогда он встал и произнес устрашающим тоном:
– Жалкий грешник! Низкая и подлая душа! Вы прекрасно знаете, что скрываете от меня страшную тайну и что совесть ваша есть бездна лжи. Но вам не обмануть Господа, не спастись от Его карающей десницы. Ступайте прочь, я не в силах более слушать ваши лицемерные песни. До тех пор пока стыд не тронет вашего сердца и вы не искупите искренним раскаянием пороки вашего ума, я отрешаю вас от исповеди.
– О отец мой! Отец мой! – воскликнул я. – Не отталкивайте меня, не предавайте во власть отчаяния, не заставляйте усомниться в милости Господней и в мудрости Его приговоров. Я невинен перед Богом; имейте жалость к моим страданиям…
– Дерзкая тварь! – вскричал он громовым голосом. – Как смеешь ты святотатствовать и призывать имя Господне в подтверждение своим лживым клятвам; прочь с моих глаз, ты, закосневший в грехе! Вид твой мне отвратителен!
С этими словами он стал вырывать из моих рук свою сутану, за край которой я схватился, моля его о пощаде. Я, однако, в некоем помрачении ума не выпускал его платья, тогда он изо всей силы оттолкнул меня, и я упал ничком. Он вышел из ризницы, где разыгралась вся эта сцена, хлопнув дверью. Я остался в потемках. Оттого ли, что я сильно ударился при падении, или оттого, что слишком велико было мое горе, но какой-то сосуд лопнул у меня в горле, и я стал харкать кровью. Подняться я не мог, силы очень скоро оставили меня, и я потерял сознание.
Не знаю, сколько времени пролежал я без чувств в луже крови. Придя в себя, я почувствовал приятную прохладу; свежий ветерок обдувал мне лицо и ерошил волосы, потом улетал и, казалось, еле слышно высвистывал под потолком какую-то неясную мелодию, а затем возвращался ко мне, словно для того, чтобы вдохнуть в меня силы и заставить подняться.
Я, однако, никак не мог решиться это сделать, ибо испытывал неизъяснимое блаженство и, пребывая в каком-то бездумном забытьи, упивался шепотом этого летнего ветерка, украдкой проникавшего в комнату сквозь решетчатые ставни. И тут мне показалось, что из глубины ризницы доносится чей-то голос; звучал он, однако, так тихо, что слова различить было невозможно. Я не шевелился и весь обратился в слух. Незнакомец, казалось, произносил одну из тех отрывистых молитв, которые мы называем «горячими». Наконец я четко различил слова: «Дух истины, спаси жертв невежества и лжи». «Отец Эжезип! – произнес я еле слышно. – Это вы вернулись за мной?» Ответа не последовало. Я приподнялся на локтях и стал прислушиваться, но больше ничего не услышал. Тогда я встал на ноги и огляделся; я упал так близко от единственной двери, ведущей в эту небольшую комнатку, что после ухода моего духовника никто не мог бы зайти сюда, не споткнувшись о мое бесчувственное тело; вдобавок дверь эта, запиравшаяся на задвижку старинной конструкции, открывалась только внутрь. Я подергал ее и убедился, что она закрыта. Несколько мгновений я стоял, не решаясь тронуться с места. Прислонившись к двери, я всматривался в полумрак, царивший в углах комнаты. Из слухового окошка, закрытого дубовым ставнем, на середину комнаты падал бледный солнечный луч. Ветерок, терзавший ставень, то раскрывал его пошире, то почти совсем захлопывал, лишая комнату даже и этого слабого источника света. В этой полуосвещенной части ризницы я разглядел скамеечку для молитвы, украшенную изображением черепа, несколько разбросанных на полу книг и висящий на стене белый стихарь; все они, казалось, колыхались вместе с тенью листвы за окном, которую колебал ветер. Удостоверившись, что, кроме меня, в ризнице никого нет, я устыдился своей робости; осенив себя крестом, я собрался было полностью открыть ставень, как вдруг глубокий вздох, раздавшийся с той стороны, где стояла скамеечка для молитвы, пригвоздил меня к полу. Ведь я достаточно хорошо различал эту скамеечку, чтобы сказать с уверенностью, что она пуста. Тут мне в голову наконец пришла успокоительная мысль: я решил, что кто-то стоит в саду рядом с окном и молится, не подозревая, что я его слышу. Но какой же смельчак мог высказывать пожелания столь дерзновенные?
Любопытство, единственная страсть и единственное развлечение, дозволенные в монастыре, овладело мною. Я направился к окну, однако лишь только я сделал шаг, как черная тень, отделившаяся, как мне показалось, от скамеечки для молитвы, метнулась в том же направлении. Тень эта, которую я принял за человеческое тело, промелькнула передо мной, как молния, и движение ее было столь стремительным, что я даже не успел посторониться и едва не лишился чувств вторично, на сей раз от ужаса. Однако я ровным счетом ничего не почувствовал; впору было подумать, что я в самом деле имел дело с тенью, которая пролетела сквозь меня, а затем исчезла где-то в левом углу.
Я подбежал к окну, поскорее открыл ставни и осмотрел ризницу; кроме меня, в ней никого не было; я осмотрел сад; он был пуст, и только цветы покачивались под дуновением полуденного ветра. Постепенно ко мне возвратилось мужество, я осмотрел все углы ризницы, заглянул – поскольку она была немалых размеров – за скамеечку для молитвы, встряхнул священнические одежды, развешанные на стенах; ни в чем не было ничего необычного, ни в чем не мог я найти объяснения случившемуся. Увидев, сколько я потерял крови, я решил, что ослабел и стал жертвой галлюцинации. Я удалился в свою келью и не покидал ее до следующего утра.
День и ночь я провел в слезах. Истощение, потеря крови, пустые страхи, пережитые в ризнице, – от всего этого я чувствовал себя совершенно разбитым. Никто не пришел меня поддержать и утешить, никто не поинтересовался, что со мною сталось. Из окошка я увидел, как в сад высыпала толпа послушников. Сторожевые псы, охранявшие монастырь, весело бросились навстречу людям, и послушники принялись их ласкать. Сердце мое сжалось при виде этих животных, с которыми люди обращались во сто крат лучше, чем со мной, и которые были во сто крат счастливее меня.
Я так свято верил в свое призвание, что даже не помышлял о бунте или бегстве. В своем одиночестве, во всех унижениях и несправедливостях, какие выпали мне на долю, я видел испытание, посланное мне небесами, и возможность заслужить их одобрение. Я молился, клялся в своей покорности, бил себя в грудь, вверял себя покровительству Господа и всех святых. И к утру забылся сладким сном. Разбудило меня странное видение. Мне привиделся отец Алексей: грубо тряся меня за плечо, он повторил мне почти те же слова, которые произнесло таинственное существо в ризнице: «Вставай, жертва невежества и лжи!»
Но какое отношение мог иметь отец Алексей к этим словам? Этого я понять не мог. Все дело в том, решил я, что сцена в ризнице постоянно занимает мои мысли, вот я и приписал услышанные там слова отцу Алексею, который – я мог видеть это из окна своей кельи – за час до рассвета, как раз когда на небе гасла луна, возвратился в монастырь из сада.
Столь ранняя прогулка отца Алексея ничуть меня не удивила. Отец Алексей был самым образованным из наших монахов: он прекрасно разбирался в астрономии и умел обращаться с многочисленными измерительными инструментами и физическими приборами из монастырской обсерватории. По ночам он проводил опыты и наблюдал за светилами; он жил по своему собственному расписанию и был освобожден от обязанности посещать заутреню и службу после заутрени. Но раз уж отец Алексей явился мне во сне, я задумался о нем и сообразил, что он человек загадочный, вечно чем-то озабочен, часто произносит непонятные фразы, бродит по монастырю как неприкаянный – одним словом, решил я, очень возможно, что именно отец Алексей стоял подле окошка ризницы, именно он пробормотал поразившие меня слова и именно его тень промелькнула по стене, испугав меня, о чем сам отец Алексей и не подозревал. Я замыслил поговорить с ним об этом и, пытаясь предугадать, как он воспримет мои расспросы, обрадовался поводу свести с ним знакомство. Я вспомнил, что этот мрачный старец был единственным, кто ни разу не оскорбил меня ни словом, ни взглядом, единственным, кто ни разу не отвернулся от меня с омерзением, и вообще единственным, кто вовсе не считал для себя обязательными решения, принятые монастырской общиной. Правда, я никогда не слышал от него и ласкового слова, никогда не встречался с ним глазами; похоже, что он вообще не помнил о моем существовании, однако с тем же безразличием взирал он и на других послушников. Он жил в собственном мире, погруженный в мысли о науке. Никто не знал, как он относится к религии; он обсуждал только мир внешний и видимый и, кажется, очень мало заботился о мире ином. Никто не говорил о нем ни плохо, ни хорошо, если же послушники позволяли себе отпустить на его счет какое-нибудь замечание или задать какой-нибудь вопрос, монахи самым суровым тоном советовали им замолчать.
Быть может, подумал я, узнав о моих мучениях, он даст мне добрый совет; быть может, он, чья жизнь так же одинока и печальна, не останется равнодушен к послушнику, который впервые за долгие годы явился к нему с просьбой о помощи. Несчастные тянутся друг к другу и друг друга понимают. Быть может, он тоже несчастен; быть может, он посочувствует мне. Прежде чем отправиться к отцу Алексею, я зашел в трапезную. Один из послушников резал хлеб; я сказал ему, что голоден, и он швырнул мне ломоть хлеба, как швырнул бы его бродячей собаке. Я предпочел бы любые оскорбления этой молчаливой и грубой снисходительности. Меня считали недостойным человеческого слова и бросали мне пищу на землю, уравнивая меня, отверженного, с животными.
Съев этот горький хлеб, смоченный моими слезами, я направился в келью отца Алексея. Располагалась она вдали от всех остальных, на самом верхнем этаже, рядом с астрономической лабораторией. Чтобы попасть туда, нужно было пройти по узкому балкону, опоясывающему купол собора. Я постучал в дверь; никто не ответил; я вошел. Отец Алексей спал в кресле с книгой в руке. Во сне он имел вид столь мрачный и задумчивый, что я едва не отказался от своего намерения. Отец Алексей был старик среднего роста, крепкий, широкоплечий, согбенный не столько под тяжестью лет, сколько под грузом познаний. Лысый его череп окаймляли сзади завитки темных волос. Волевое лицо было, однако, не лишено известной тонкости и отличалось непостижимым смешением дряхлости и мощи. Я постарался пройти мимо его кресла бесшумно, боясь разбудить спящего и тем рассердить; однако, несмотря на все предосторожности, он заметил мое присутствие и, не поднимая отяжелевшей головы, не открывая впалых глаз, не выказывая ни раздражения, ни удивления, произнес:
– Я тебя слышу.
– Отец Алексей… – робко начал я.
– Почему ты зовешь меня отцом? – спросил он, не меняя ни позы, ни тона. – Обычно ты обращаешься ко мне иначе. Я тебе не отец, а скорее сын, хотя меня иссушили годы, а ты – ты вечно молод, вечно прекрасен!
Эти странные речи смутили меня. Я хранил молчание. Монах продолжал:
– Ну что же, говори, я тебя слушаю. Ты знаешь, что я люблю тебя, как сына, которого произвел на свет, как отца, который дал мне жизнь, как солнце, которое меня освещает, как воздух, которым я дышу, и даже больше, чем все это, вместе взятое.
– О отец Алексей! – воскликнул я, изумленный и растроганный столь ласковыми словами, слетевшими с уст столь суровых. – Ваши нежные речи относятся не ко мне. Я слишком жалок и недостоин такой любви, нет на свете существа, кому бы я сумел ее внушить; но раз уж я пришел к вам в ту минуту, когда вы видите счастливый сон, раз память о друге согревает вашу душу, молю вас, добрый отец Алексей, не оставьте меня вашей благосклонностью и по пробуждении взгляните на меня без гнева: я смиренно склоняю перед вами голову, посыпанную пеплом в знак горя и раскаяния.
С этими словами я опустился на колени перед отцом Алексеем, ожидая, что он бросит на меня взгляд. Однако не успел он увидеть меня, как вскочил, объятый разом яростью и ужасом. Глаза его сверкали гневом, по безволосым вискам струился холодный пот.
– Кто вы такой? – воскликнул он. – Что вам нужно от меня? Что вы здесь делаете? Я вас не знаю!
Тщетно я пытался успокоить его своей смиренной позой и молящим взором.
– Вы послушник, – сказал он, – а я с послушниками дела не имею. Я не духовник, не раздатчик милостей и поблажек. Зачем вы явились шпионить за мной во время моего сна? Проникнуть в мои мысли вам не удастся. Ступайте назад к тем, кто вас послал, скажите им, что мне недолго осталось жить и что я прошу напоследок оставить меня в покое. Ступайте, ступайте прочь; у меня много дел. В мою лабораторию посторонним вход воспрещен; отчего вы нарушили запрет? Вы подвергаете опасности свою жизнь и мою тоже; ступайте прочь!
Я печально повиновался и медленным шагом, объятый отчаянием, полуживой от горя, пошел назад. Отец Алексей проводил меня до конца внешней галереи, словно желая удостовериться, что я в самом деле ухожу. Поставив ногу на первую ступеньку лестницы, ведущей вниз, я обернулся и увидел, что он следит за мной: в глазах его по-прежнему сверкала ярость, губы кривились в недоверчивой усмешке. Властным жестом он приказал мне удалиться поскорее. Я попытался исполнить приказание, но у меня не было сил идти, не было сил жить. Потеряв равновесие, я упал и покатился вниз по лестнице; еще немного, и я перевалился бы через перила и рухнул с самого верха на мощенный камнями монастырский двор. С кошачьим проворством отец Алексей бросился ко мне, с силой схватил меня за плечи и, прижав к себе, спросил резко, но участливо:
– Да что с вами такое? Вы больны, отчаялись, лишились разума?
Я пробормотал что-то невнятное и, спрятав голову у него на груди, разрыдался. Тогда он взял меня на руки, словно младенца, отнес к себе в келью, усадил в свое кресло, растер мне виски спиртом, а потом смочил им же ноздри и похолодевшие губы. Затем, увидев, что я постепенно прихожу в себя, он принялся осторожно меня расспрашивать. Я открыл ему всю душу: рассказал о тревогах, с которыми мне приходится сражаться в одиночку, ибо мне отказывают не только в помощи и сочувствии, но даже в праве исповедаться. Я уверял его в моей невинности, добрых намерениях и терпеливости, я горько жаловался на тяжесть выпавших на мою долю испытаний и отсутствие хотя бы одного друга, способного утешить меня и укрепить мои силы.
Поначалу он слушал меня с прежним страхом и недоверием, но постепенно его суровое чело просветлело, а когда я закончил рассказ о своих злоключениях, крупные слезы покатились по его впалым щекам.
– Бедное дитя! – сказал он. – Точно так же они мучили и меня! О несчастная жертва, жертва невежества и лжи!
Те же самые слова я слышал в ризнице; мне показалось, что я узнал голос, их произнесший, и, довольный тем, что разгадал эту загадку, я не стал рассказывать новому другу о том, что пережил давеча; однако смысл этого восклицания поразил меня, и, видя, что отец Алексей глубоко погрузился в собственные размышления, я попросил его еще немного поговорить со мной: среди моих бедствий мне было так сладко слышать голос дружеский и сочувственный.
– Юноша, – сказал он, – понимали ли вы, что делаете, когда уходили в монастырь? Отдавали ли вы себе отчет в том, что сделаться монахом – значит смолоду заживо похоронить себя, обвенчаться со смертью?
– О отец мой, – отвечал я ему, – я это понял, я отдавал себе в этом отчет, я этого хотел и хочу до сих пор; но я хотел умереть для жизни мирской, жизни светской, жизни плотской…
– И ты поверил, дитя, что тебе оставят жизнь духовную? Ты, предавший себя в руки монахов, мог в это поверить?
– Я хотел возродить свою душу, хотел возвысить и очистить свой дух, дабы жить Богом и в Боге; и вот, вместо того, чтобы приветить меня и протянуть мне руку помощи, меня безжалостно разлучают с Господом и ввергают во тьму сомнения и отчаяния…
– «Gustans gustavi paululum mellis, et ecce morior!» [1] – мрачно произнес монах; усевшись на свою постель, он скрестил худые руки на груди и погрузился в размышления.
Через некоторое время он встал и принялся мерить келью быстрыми шагами.
– Как ваше имя? – спросил он.
– Брат Анжель, готовый славить Господа и чтить вас, – отвечал я.
Он, однако, не слушая моего ответа, промолвил, помолчав несколько мгновений:
– Вы совершили ошибку; если вы желаете быть монахом, если желаете жить в монастыре, вам нужно отказаться от вашего образа мыслей; иначе вы погибнете.
–Неужели мне в самом деле суждено умереть из-за того, что я однажды вкусил благодати, что я уверовал, проникся надеждой, воззвал к Господу и молил у Него любви?
– Да, из-за этого ты погибнешь ! – громко и свирепо вскричал монах, а затем вновь предался своим грезам, не обращая на меня ни малейшего внимания. Мне сделалось не по себе; отрывистые слова, срывавшиеся с уст отца Алексея, его грубость и раздражительность, всплески чувствительности, сменявшиеся глубочайшим безразличием, – все в нем обличало умственное расстройство. Внезапно он повелительным тоном повторил давешний вопрос:
– Ваше имя?
– Анжель, – отвечал я кротко.
– Анжель! – повторил он, глядя на меня с видом человека, на которого снизошло вдохновение. – Мне было сказано: «К скончанию дней твоих ниспошлют тебе ангела, и узнаешь ты его по стреле, пронзившей его сердце. Придет он к тебе и попросит: «Извлеки стрелу из сердца, ибо причиняет она муку смертную». И если извлечешь ты эту стрелу, тотчас отпадет та, коя мучает тебя, и затянется рана твоя, и будешь жив».
– Отец мой, – сказал я, – эти слова мне незнакомы, я нигде их не читал.
– Все дело в том, что ты еще очень мало знаешь, – отвечал он, ласково погладив меня по голове, – все дело в том, что ты еще не встретил человека, способного исцелить твою рану; а я умею понимать речи Духа и знаю тебя. Ты тот, кто должен был явиться мне; теперь я узнаю тебя; волосы твои светлы, как у того, кто тебя послал. Сын мой, будь благословен, и пусть исполнишься ты волею Духа… Ты сын мой возлюбленный, и тебе отдам я всю свою любовь.
Он прижал меня к своей груди и поднял очи горе; лицо его приняло выражение донельзя возвышенное. Мне доводилось видеть такое выражение лишь у святых и апостолов на фресках в монастырской церкви. То, в чем я прежде подозревал умственное расстройство, теперь обернулось в моих глазах вдохновением. Мне показалось, что передо мной архангел, и я пал перед ним на колени, а затем простерся ниц.
Он возложил руки мне на голову со словами:
– Страданиям твоим настал конец! Да прекратит острие боли терзать твою душу; да прекратит ядовитое жало несправедливости и гонений впиваться в твою грудь; да прекратит кровь твоего сердца орошать бесчувственный мрамор. Утешься и исцелись, будь силен и благословен. Встань!
Я встал; душу мое залило такое безмерное счастье, ум мой укрепился столь безграничной надеждой, что я вскричал:
– Да, свершилось чудо, и теперь я признаю, что вы святой перед Господом.
– Не говори так, дитя мое, о человеке слабом и несчастном, – отвечал он печально, – я всего лишь невежественное и ограниченное существо, к которому Дух в милосердии своем порой выказывает снисхождение. Восславим его, ибо ныне он дал мне силу исцелить тебя. Ступай с миром; будь осторожен, никто не должен видеть, как мы разговариваем, никто не должен догадываться, что ты бываешь у меня.
– Не гоните меня так скоро, отец мой, – попросил я, – кто знает, когда я смогу вернуться? Послушников, которые приближаются к вашей лаборатории, карают так сурово, что я, возможно, еще очень долго не смогу вновь насладиться беседой с вами.
– Мне надобно покинуть тебя и размыслить, – отвечал отец Алексей. – Может случиться так, что за доброе отношение ко мне тебя станут преследовать; но Дух даст тебе силы преодолеть все препятствия, ибо он предсказал мне твое появление, а что сказано, должно сбыться.
Он снова сел в кресло и погрузился в глубокий сон. Долго я любовался его лицом, исполненным покоя и сверхъестественной красоты; теперь оно казалось мне совсем не таким, каким предстало вначале. Наконец, поцеловав край его серой сутаны, я тихонько вышел из кельи.
Присутствие отца Алексея производило на меня действие поистине колдовское; когда же я расстался с ним и чары рассеялись, все случившееся начало казаться мне сном. Какими же словами пленил он меня, такого набожного, такого правоверного в мыслях и делах, меня, содрогающегося от ужаса и отвращения при одном только упоминании о ереси? Каким заклинанием заставил меня встать на путь тайный, обречь себя судьбе неведомой? Алексей вселил в меня мятежный дух, восстановил меня против моих наставников, людей, которых я был обязан считать и всегда считал безупречными. Он говорил мне о них с глубоким презрением, с еле сдерживаемой ненавистью, а я поддался его темному красноречию. Теперь память моя подсказывала мне все то, что должно было заставить меня усомниться в вере Алексея, и я с ужасом вспоминал, как он на каждом шагу поминал и призывал Духа, ни разу не прибавив к этому имени священный эпитет, каким обозначаем мы третье лицо святой Троицы. Быть может, он возложил руки на мою голову от имени духа зла. Быть может, принимая ласки и утешения от этого подозрительного монаха, я заключил союз с духами тьмы. Я пребывал в смятении, в тревоге; за ночь я не сомкнул глаз ни на минуту. Как и прошлой ночью, заснул я только под утро и проснулся поздно. Со стыдом поняв, как давно не исполнял я долг благочестия, я направился в церковь и вознес к Святому Духу пламенную молитву, прося его просветить меня и избавить от лукавого.
Молитва ничуть не укрепила меня, а печаль лишь сильнее завладела моим сердцем, так что из церкви я вышел, пребывая в твердой уверенности, что вот-вот погублю свою душу, и решил исповедаться. Я написал записку отцу Эжезипу, умоляя выслушать меня; он отказался, передав мне свое мнение на словах через одного из самых грубых послушников, и притом в выражениях донельзя пренебрежительных. В то же самое время от послушника этого я узнал, что настоятель запрещает появляться в церкви прежде окончания вечерней службы. Более того, если кто-нибудь из монахов задержится на молитве в хоре [2] или пожелает исполнить какой-либо обет, мне надлежало немедленно избавить Божий храм от своего нечистого присутствия, дабы место мое занял истинный служитель Божий.
Этот несправедливый приговор так больно ранил меня, что мною овладела безрассудная ярость. Как одержимый, принялся я колотить кулаком по стенам храма. Послушник вытолкал меня вон из церкви, браня богохульником и святотатцем.
Выходя из хора в сад, я от горя и гнева вновь едва не лишился чувств. Какая-то пелена поплыла у меня перед глазами, я покачнулся, однако гордость придала мне сил; я устремился в сад и на пороге едва не столкнулся с внезапно возникшим передо мной незнакомцем. То был юноша изумительный красоты, одетый на иностранный манер. Он, правда, был облачен такую же черную сутану, как и настоятели нашего ордена, но поверх нее имел жакет из тонкого сукна, перетянутый кожаным поясом с серебряной пряжкой, вроде тех, какие носили в старину немецкие студенты. Обут он был вместо монашеских сандалий в плотно облегающие ногу ботинки, также напоминавшие обувь немецких школяров; на отложной воротник его белоснежной рубашки падали светлые кудри – прекраснейшие из всех, какие мне довелось видеть. Почтение и робость боролись в моей душе, и потому я поклонился нерешительно и неловко. Он не поклонился мне вовсе, но улыбнулся так доброжелательно, а прекрасные голубые глаза, прежде столь строгие, так явственно смягчились при виде меня и глянули на меня с такой добротой и таким сочувствием, что черты его навеки врезались мне в память. Я остановился, надеясь, что он заговорит со мной, и не сомневаясь, что человек столь величественной внешности сумеет стать мне защитником; однако послушник, шедший за мной следом и, кажется, не обративший на незнакомца никакого внимания, вынудил его отступить к стене, а меня толкнул так грубо, что я едва не упал. Не желая вступать в борьбу с этим подлым хамом, я поспешил выйти в сад, но, сделав несколько шагов, обернулся и увидел, что незнакомец стоит на прежнем месте и провожает меня взглядом сочувственным и заботливым. Кудри его сияли в солнечных лучах. Он вздохнул и, подняв прекрасные глаза к небесам, словно для того, чтобы заступиться за меня перед вечным судией и поведать ему о моих несчастьях, медленно повернулся к храму, вошел внутрь и растворился во тьме – ибо день стоял такой солнечный, что внутренность храма казалась темной. Несмотря на запрет, мне хотелось воротиться в храм, подойти к благородному чужестранцу и рассказать ему о моих бедах; но был ли он расположен знать о них и мог ли положить им конец? Вдобавок, хотя душа моя влеклась к нему, он внушал мне некий страх, ибо в лице его было ничуть не меньше суровости, чем доброты.
Я поднялся к отцу Алексею и рассказал ему о постигших меня новых гонениях.
– Отчего же вы поддались сомнениям, о маловер? – грустно спросил он. – Вы зоветесь Анжель, а сами, вместо того чтобы прислушаться к духу жизни, который трепещет внутри вас, вознамерились пасть к ногам человека невежественного, стали просить жизни у трупа! Безграмотный духовник отталкивает вас и унижает. Вы наказаны по грехам вашим, причем в мученичестве вашем нет ни благородства, ни пользы, ибо вы приносите все силы вашего разума в жертву идеям ложным или скудным. Впрочем, я предвидел все это; вы боитесь меня, вы не знаете, слуга ли я ангелов или раб демонов. Всю ночь вы обдумывали мои слова, а утром решили выдать меня моим врагам в обмен на отпущение грехов.
– О нет, не думайте так обо мне! – воскликнул я. – Я говорил бы только о себе самом и не произнес бы вашего имени. Увы! неужели и вы тоже будете ко мне несправедливы? Неужели мне суждено быть отверженным всегда и везде? Доступ в храм Господень для меня закрыт, неужели так же закроется для меня и ваше сердце? Отец Эжезип обвиняет меня в безбожии; а вы, отец мой, обвиняете меня в трусости и низости!
– Я обвиняю вас, потому что вы в самом деле вели себя трусливо и низко, – отвечал отец Алексей. – Могущество монахов смущает вас, ненависть их вас пугает. Вы завидуете их ничтожным любимчикам. Вы не умеете жить в одиночестве, страдать в одиночестве, любить в одиночестве.
– Что ж, вы правы, отец мой, я не умею жить без любви; я признаюсь в этой слабости, если угодно, в этой низости. Быть может, характер мой слаб, но душа моя нежна, и я нуждаюсь в друге. Господь так велик, что Его присутствие повергает меня в трепет. Ум мой столь несмел, что я не нахожу в себе сил принять в себя этого всемогущего Господа и вырвать из Его грозной руки дар благодати. Мне потребен посредник между небесами и мной. Я нуждаюсь в поддержке, в советах, в опоре. Мне нужен человек, который любил бы меня, который ради меня и вместе со мной пекся бы о моем спасении. Мне нужен человек, который молился бы вместе со мной, который вселял бы в меня надежду и сулил мне вечное блаженство. Иначе говоря, я сомневаюсь не в благости Господней, но в чистоте моих собственных намерений. Я боюсь Господа, потому что боюсь самого себя. Воля моя слабеет, отчаяние овладевает мною, я чувствую дыхание смерти, мысли мои мешаются, я перестаю отличать голос неба от голоса ада. Я ищу опору; я скорее соглашусь повиноваться суровому наставнику, который будет карать меня без устали и без жалости, нежели наставнику снисходительному, которому не будет до меня никакого дела.
– Бедный ангел, сбившийся с пути! – сказал отец Алексей, смягчившись. – Огонек любви, вырвавшийся из нимба Господня и обреченный тлеть под пеплом жалкой земной жизни! Слушая рассказ о твоих мучениях, я узнаю в тебе ту божественную искру, которая животворила и меня в юности, до тех пор, пока душа моя не зачерствела, а глаза не перестали различать свет, до тех пор, пока пылающее сердце мое не сдавила ледяная власяница, до тех пор, пока сношения мои с Духом не сделались тягостными и редкими, мучительными и полными недоговоренностей. Эти люди сделают с тобой то же, что сделали со мной. Они поселят в твоем сердце невыносимые сомнения, ребяческие сожаления, глупые страхи. Они нашлют на тебя болезни, преждевременную старость, слабоумие, а когда ты наконец стряхнешь с себя все цепи невежества и лжи, когда почувствуешь себя достаточно просвещенным для того, чтобы порвать пелену суеверий, у тебя уже не хватит на это сил. Чувствительность твоя притупится, взор помутится, руки задрожат, мозг ослабеет от усталости и лени. Ты захочешь поднять глаза к звездам, но отяжелевшая голова твоя бессильно рухнет на грудь; ты захочешь читать, но перед глазами твоими запляшут призраки; ты захочешь предаться воспоминаниям, но истощенная память не предъявит тебе ничего, кроме смутной игры тысячи блеклых огней; ты захочешь погрузиться в размышления, но заснешь, не дойдя до постели. А если во сне тебе явится Дух, речи его будут столь темны, что, пробудившись, ты не сумеешь их объяснить. О бедная жертва! Я сочувствую тебе, но спасти тебя я не в силах.
Произнося эти слова, отец Алексей дрожал, как в лихорадке: от его жаркого дыхания воздух в келье, казалось, делался более разреженным, вид же его обличал такое полное изнеможение, что можно было подумать, будто жить ему осталось всего несколько мгновений.
– Неужели, – сказал я ему, – сочувствие ваше ко мне уже истощилось? да, я был слаб и пуглив; но вы казались мне таким сильным, таким живым; я надеялся, что вам достанет душевного тепла, чтобы простить мне мои заблуждения, забыть их и укрепить меня на верном пути. Душа моя чахнет вместе с вашей; неужели вы не можете, как вчера, сотворить чудо и вдохнуть жизнь в нас обоих?
– Сегодня со мной нет Духа, – отвечал он. – Я печален, я сомневаюсь во всем и даже в тебе. Приходи завтра, быть может, на меня снизойдет озарение.
– Но что же мне делать до завтра?
– Дух силен, Дух добр; быть может, он сам позаботится о тебе. А покамест, дабы смягчить твою горькую участь, я дам тебе совет. Я знаю, отчего монахи так неумолимо жестоки в обращении с тобой. Они ведут себя так со всеми, в ком подозревают прирожденную тягу к справедливости и прямоту суждений. Они со страхом угадывают в тебе человека честного, чувствительного к оскорблениям, сочувствующего страждущим, врага бесчеловечности и низости. Они понимают, что в лице такого человека обретут судью, но не сообщника, и хотят поступить с тобою так же, как поступают со всеми, чья добродетель их пугает, а простодушие смущает. Они хотят превратить тебя в животное, гонениями намереваются заставить тебя забыть разницу между справедливостью и несправедливостью, бесполезными страданиями надеются истребить в тебе все великодушные порывы. Посредством тайных, подлых заговоров, посредством загадок, не имеющих разгадок, и наказаний, не имеющих причины, они желают насильно приучить тебя любить и уважать только самого себя, не искать сочувственников, не верить в родство душ и презирать дружбу. Они хотят, чтобы ты разуверился в милости Господней, чтобы ты разлюбил молитву, научился лгать или предавать твоих братьев во время исповеди, чтобы ты сделался завистлив и лжив, стал клеветником и доносчиком. Они хотят превратить тебя в человека развращенного, тупого и подлого. Они хотят внушить тебе, будто на свете нет ничего лучше невоздержанности и праздности, а для того, чтобы предаваться им в свое удовольствие, надобно все опошлить, все предать, унизить все великие воспоминания, убить все благородные поползновения. Они хотят научить тебя лицемерить и ненавидеть, выжидать и мстить, бояться сильных и истязать слабых. Они осуждают твою душу на смерть за то, что она вскормлена медом, за то, что она кротка и невинна. Одним словом, они хотят сделать из тебя монаха. Вот чего они хотят, сын мой; вот за что они взялись, вот чем занимаются они все сообща, одни по расчету, другие по душевной склонности, лучшие по слабости характера, по природной покорности и трусости.
– Что я слышу? – вскричал я. – Сердце мое содрогается от рассказа о таких беззакониях! Отец Алексей, о отец Алексей! В какую же бездну суждено мне низвергнуться, если рассказ этот правдив! Но быть может, вы ошибаетесь? Быть может, вас ослепляет память о нанесенной вам обиде? Неужели все здешние монахи так черны душой? Если злой демон изгнал из этих проклятых стен людей искренне верующих, милосердных не на словах, а на деле, где же мне искать их?
Говоря так, я ломал руки в отчаянии.
– Напрасно будешь ты искать монастырь, менее погрязший в скверне, монахов, более преданных добродетели; все они одинаковы. На земле более не осталось веры; порок здесь наслаждается безнаказанностью. Твой удел – труд и боль, ибо жить – значит трудиться и страдать.
– Я согласен, согласен! Но я хочу сеять и пожинать урожай. Я хочу трудиться, исполненный веры и надежды; я хочу страдать во имя милосердия. Я покину это отвратительное вместилище пороков; я изорву эти белые одежды, лживый символ чистоты. Я вернусь в мир или удалюсь в пустыню, дабы там, неподвластный соблазну, оплакивать заблуждения рода человеческого…
– Что ж, – сказал отец Алексей, сжав мои руки, – мне мил этот взрыв гнева и этот проблеск мужества. И я мучился подобными сомнениями, и я принимал подобные решения. И я хотел бежать, и я желал жить среди мирян или затвориться в недоступных подземельях; выслушай, однако, советы, какие дал мне Дух в пору моего испытания, и запечатлей их в своей памяти:
«Не говори: я буду жить среди людей и буду лучшим из них, ибо всякая плоть слаба, и дух твой ослабеет среди плотских соблазнов, как ослабел их дух.
Не говори также: я удалюсь в пустыню и буду жить там духом единым, ибо дух человеческий подвержен гордыне, а гордынею дух развращается.
Живи с теми, кто тебя окружает. Остерегайся их козней. Умей быть одиноким среди людей. Умей отворачивать свой взор от их черных дел и смотреть в глубь собственной души; не питай против них злобы, но не вздумай подражать им. Делай добро людям сегодняшним, не отнимая у них ни сердца, ни руки своей. Делай добро людям завтрашним, не затворяя духа своего для света Духа.
Жизнь мирская расслабляет, жизнь пустынническая возбуждает.
Оставьте инструмент под открытым небом, и от непогоды струны его провиснут; спрячьте его в футляр, и от недостатка воздуха струны его порвутся.
Внимая смыслу слов человеческих, ты забудешь Духа и не сможешь его понимать. Но, закрыв свой слух для звуков голоса человеческого, ты забудешь людей и не сможешь их наставлять».
Отец Алексей произносил стихи этой неведомой Библии, заглядывая в книгу, которую я и прежде видел у него в руках; можно было подумать, что он справляется с ее текстом, однако страницы этой книги были белы и пусты.
При виде явления столь удивительного тревоги мои проснулись вновь и я принялся наблюдать за отцом Алексеем с еще большим любопытством. В лице его, однако, ничто не обличало не только смятения, но даже и волнения. Он тихонько закрыл книгу и обратился ко мне совершенно хладнокровно:
– Итак, не вздумай возвращаться в мир, ибо ты слаб, и ветер страстей может погасить факел твоего ума. Если вожделение и тщеславие вонзят в тебя свое жало, ты, возможно, не устоишь. Что до меня, я бежал от мирской жизни, поскольку был силен, а сильного человека страсти доводят до исступления. Обольщения самонадеянности и сластолюбия я бы превозмог, но уступил бы соблазнам честолюбия и ненависти, сделался бы суров, нетерпим, мстителен, горделив, иначе говоря, стал бы эгоистом. И ты, и я, мы оба созданы для жизни монастырской. Человек, услышавший голос Духа, пусть даже голос этот раздался один-единственный раз и прозвучал еле слышно, должен все бросить и пойти за Духом туда, куда он поведет, какими бы бедами это ни грозило. Воротиться он уже не властен, ибо тому, кто однажды презрел радости плоти ради велений духа, назад путь заказан: оскорбленная плоть мстит духу и гонит его в свой черед. Тут разыгрывается в сердце человеческом страшная борьба между плотью и духом; они пожирают друг друга, и человек гибнет, не изведав жизни. Те, кто живет духом, ведут жизнь возвышенную, однако жизнь эта трудна и горька. Не из пустой предосторожности отгораживаются монахи каменными стенами и медными решетками от мирских соблазнов и плотских радостей. Так сильны суетные желания, что их не подавить иначе, как похоронив себя заживо. Впрочем, отрадно при этом видеть подле себя других людей, которые – пусть даже только по видимости – посвятили себя поклонению духу. Мысль об основании религиозных общин – мысль мудрая. Где, однако, те времена, когда монахи любили друг друга по-братски, трудились сообща и милосердно помогали друг другу призывать дух и отвергать грубые подсказки материи? Некогда монастыри служили источниками света, прогресса и величия; но они же сделаются для света, прогресса и величия темной могилой, если хоть кто-то из нас не будет ежедневно вступать в жестокую схватку с невежеством и ложью во имя истины. Станем же сражаться, не жалея сил; станем исполнять свой долг, пусть даже против нас выступят все силы ада, вместе взятые. Если нам отрубят обе руки, ухватимся за борт корабля зубами и спасемся, ибо с нами Дух. Он живет здесь, и горе тому, кто оскверняет его святилище! Сохраним же верность ему и веру в него, ибо лучше бесполезное мученичество, нежели трусливое бегство.
– Вы правы, отец мой, – отвечал я, пораженный его речами. – Уроки ваши – уроки мудрости. Я хочу быть вашим учеником и поступать лишь так, как велите вы. Скажите же, что я должен делать, чтобы сохранить силу и продолжать борьбу за спасение своей души, невзирая на гонения.
– Ты снесешь гонения с легкостью, – отвечал отец Алексей, – если будешь помнить о том, как мало стоит уважение монахов и как мало власти имеют они над нами. Разумеется, если на твоих глазах другую невинную жертву будут мучить так же, как мучают тебя, и несчастный собрат твой будет страдать так же, как страждешь ты, ярость может вспыхнуть в твоем сердце; однако когда дело касается тебя самого, твой долг – улыбаться, и улыбка твоя станет самым лучшим ответом на тщетные усилия твоих врагов. Вдобавок, чем беспечнее будешь ты держаться, тем скорее утихнет их злоба. Их главная цель – притупить твою чувствительность; их помощник в этом деле – боль; ты же призовешь на помощь отвагу и разум. Они грубы; их легко обмануть. Осуши слезы, прими равнодушный вид, не проси об исповеди, не появляйся в церкви, а появившись, будь угрюм и холоден. Когда они увидят тебя таким, они перестанут тебя бояться и, прекратив разыгрывать грязную комедию, сделаются к тебе снисходительны, как бывает снисходителен ленивый учитель к нерадивому ученику. Сделай так, как говорю я, и, ручаюсь, через три дня настоятель объявит тебе, что ты прощен.
Перед тем как проститься с отцом Алексеем, я рассказал ему о незнакомце, которого встретил, выходя из церкви, и спросил, не знает ли он, кто это. Поначалу он слушал меня с большой неохотой и качал головой, как бы желая сказать, что не знает и не желает знать никого из тех, кто стоит во главе ордена; однако после того, как я в подробностях описал облик и наряд незнакомца, в глазах отца Алексея вспыхнул живой интерес и он забросал меня быстрыми, отрывистыми вопросами. Я отвечал так обстоятельно, что образ того, кто, кажется, до сих пор стоит у меня перед глазами и кого мне больше не суждено увидеть, навсегда запечатлелся в моей памяти.
В конце концов отец Алексей схватил меня за руки и голосом нежным и радостным воскликнул:
– Может ли это быть? Может ли это быть? Неужели ты его видел? Значит, он вернулся? Значит, он снова с нами? Он знает твое имя? Он окликнул тебя? Он извлечет стрелу из твоего сердца! Итак, именно тебе, дитя мое, тебе дано было увидеть его!
– Но кто же он, этот незнакомый друг, к которому тотчас повлеклось мое сердце? Познакомьте меня с ним, отец мой, отведите меня к нему, попросите его, чтоб он любил меня так, как я люблю вас и как вы, кажется, любите меня. С какой признательностью обнял бы я того, чей вид исполняет такой радостью вашу душу!
– Не в моей власти пойти к нему, – отвечал отец Алексей. – Он сам волен прийти ко мне, а я могу только ждать. Вероятно, сегодня я увижу его, а затем открою тебе то, что будет мне позволено открыть; до этого же не задавай мне вопросов; ибо мне запрещено говорить о нем, а ты не рассказывай никому того, что рассказал мне.
Я возразил, что незнакомец, сколько я могу судить, не делал тайны из своего появления, и послушник, вытолкнувший меня из церкви, наверняка видел его. Отец Алексей с улыбкой покачал головой.
– Людям, повинующимся велениям плоти, не дано его видеть.
Мучимый любопытством, я тем же вечером снова поднялся к отцу Алексею, но он отказался впустить меня в свою келью.
– Оставь меня одного, – сказал он. – Я нынче печален, я не смогу тебя утешить.
– А ваш друг? – спросил я робко.
– Молчи, – отвечал он тоном, не терпящим возражений, – он не пришел ко мне; он удалился, не повидав меня; быть может, он еще вернется. Не думай об этом. Он не любит, когда о нем говорят. Ступай к себе, а завтра веди себя так, как я сказал.
Я уже собирался уходить, когда он вдруг окликнул меня.
– Анжель, – спросил он, – день нынче был солнечный?
– Да, отец мой, солнце сияло очень ярко, особенно с утра.
– А в ту минуту, когда ты встретил этого человека, оно сияло так же ярко?
– Да, отец мой.
– Славно, славно. Итак, до завтра.
Я последовал совету отца Алексея и назавтра весь день провел у себя в келье. Вечером я спустился в трапезную в тот час, когда там собрался весь капитул, и, набросившись на дымящееся жаркое, стал со звериной жадностью поглощать кусок за куском; затем, вместо того чтобы, как прежде, внимать чтению жития, я уронил голову на стол и притворился, будто меня сморил сон. Тогда остальные послушники, те самые, которые с отвращением отводили глаза, когда я пребывал во власти скорбей и раскаяния, принялись хохотать над моим скотским состоянием, а монахи вторили их грубым шуткам. Три дня я ломал эту комедию, а на третий день к вечеру меня, как и предсказывал отец Алексей, позвали к настоятелю. Я предстал перед ним, приняв вид боязливый и приниженный; я изобразил человека с неловкими манерами, неповоротливым умом, нечистой совестью. Я разыгрывал все это не ради того, чтобы примириться с этими людьми, которых начинал презирать, но чтобы проверить, верно ли описал их нрав отец Алексей. Я убедился в правоте его суждений, ибо настоятель объявил, что меня несправедливо обвинили в проступке, совершенном другим послушником, но теперь все разъяснилось и я оправдан.
Из сострадания к виновному, который покаялся в своем прегрешении, сказал настоятель, он не станет открывать мне имя этого преступника и существо его преступления; затем он объявил, что дозволяет мне присутствовать на молитве в церкви и на занятиях в классе, и настоятельно советовал не таить в сердце ни печали, ни злобы, после чего, внимательно глядя на меня, прибавил:
– Тем не менее, сын мой, вы страдали без вины и имеете право на публичное удовлетворение или усладительную награду. Выбирайте, что вам милее: чтобы те послушники, которые, по нашим сведениям, возвели на вас напраслину, принесли вам извинения в присутствии всей общины или чтобы вас на месяц освободили от обязанности присутствовать на ночной службе?
Желая продолжить поставленный опыт, я выбрал второе, после чего настоятель стал обращаться со мною совсем ласково и по-свойски. Он обнял меня и сказал вошедшему в это мгновение отцу казначею:
– Все улажено, этот юноша не требует за страдания, которые мы невольно ему причинили, ничего, кроме права спокойно спать по ночам в течение месяца; ему необходимо подкрепить силы, истощенные выпавшим на его долю испытанием. Впрочем, он смиренно принимает негласные извинения своих обвинителей и вообще смотрит на все это дело с великой кротостью и похвальной беспечностью.
– В добрый час! – отвечал казначей с грубоватым хохотом и не без развязности потрепал меня по щеке. – Вот такие ребята нам нужны; вот такой мирный и незлобивый характер нам по душе.
Отец Алексей дал мне и другой совет; он велел сказать настоятелю, что я мечтаю заняться изучением естественных наук и потому прошу дозволения сделаться учеником отца Алексея и его помощником в физических и химических опытах.
– Они дозволят тебе это с превеликой охотой, – сказал отец Алексей, – потому что более всего в здешних стенах боятся воодушевления и аскетизма. Все, что может отвлечь ум от истинной его цели и обратить его к вещам материальным, удостаивается поощрения со стороны настоятеля. Он сотню раз предлагал прислать мне помощника, но, подозревая в его избранниках шпионов и предателей, я неизменно находил предлоги для отказа. Однажды мне попытались навязать помощника насильно; я объявил, что, если меня не оставят в покое, если мне не позволят жить в одиночестве, я заброшу науку и перестану заниматься обсерваторией. Они уступили, потому что им некем меня заменить, а между тем монахи обожают выказывать свою ученость и хвастать лабораториями и библиотеками; кроме того, они чувствуют мою энергию и предпочитают, чтобы я растрачивал ее на научные штудии, в которых они ничего не понимают, и не мешался в их монастырские дела; ведь они знают, что в этой борьбе не смогли бы меня сломить. Итак, ступай; скажи им, что получил от меня разрешение проситься мне в помощники. Если они не согласятся сразу, выкажи неудовольствие, напусти на себя мрачный вид; несколько дней подряд побольше молись, постись, вздыхай, выставляй напоказ свое отчаяние и благочестие – чтобы не дать тебе сделаться святым, они постараются сделать из тебя ученого.
Я последовал совету отца Алексея. Против ожиданий, настоятель тотчас же согласился удовлетворить мою просьбу. Больше того, пока я благодарил его, он даже бросил на меня пристальный взгляд, в котором сквозило нечто язвительное, сатирическое; казалось, будто он мысленно потирает руки. В душе его родилась мысль, которую не смогли угадать ни я, ни отец Алексей.
Меня немедленно освободили от большей части обязанностей послушника, дабы я мог посвящать все время учебе, и даже отвели мне крохотную келью рядом с той, где жил отец Алексей; предполагалось, что так нам будет легче вместе наблюдать по ночам звездное небо.
Именно с этих пор я по-настоящему сдружился с отцом Алексеем. С каждым днем я открывал в его душе новые сокровища и с каждым днем любил его все сильнее. Ни у кого на земле не знал я такой кроткой души и такого ангельского терпения, ни от кого не видел такой отеческой заботы. Он принялся учить меня с беспримерным усердием и тщанием. С какой же тревогой убеждался я в хрупкости его здоровья! С какой заботой ухаживал за ним днем и ночью, с каким вниманием ловил движенья его потухших глаз, пытаясь угадать малейшие его желания! Мое появление, кажется, вдохнуло жизнь в его сердце, долгое время не ведавшее человеческих привязанностей и, как он сам говорил, изголодавшееся по любви, ум же его, утомленный одиночеством и уставший сражаться с самим собой, обрадовался собеседнику. Однако чем более крепким и деятельным становился дух отца Алексея, тем слабее делалось тело. Он почти не спал, желудок его переваривал только жидкую пищу, ноги и руки то и дело надолго отнимались. Он ждал смерти спокойно, не испытывая ни страха, ни нетерпения. Что же до меня, то я не мог видеть, как он угасает, без отчаяния, ибо он открыл мне неведомый мир; сердце мое, жадное до любви, купалось в той жизни чувства, в той атмосфере доверительных бесед и сердечных излияний, какую я узнал благодаря этому внезапно обретенному другу.
Все мои первоначальные подозрения относительно расстройства его ума рассеялись без следа. Теперь охватывавшие его приступы загадочного возбуждения казались мне порывами гения; темные речи его делались для меня все более ясными, если же по временам я понимал эти речи не до конца, то винил в этом собственное невежество и жил надеждою на то, что однажды смогу понять их вполне.
Однако блаженство мое не было безоблачным. Несмелую совесть мою грыз червь. Мне казалось, что отец Алексей верит в Бога не так, как велит христианская церковь. В открытый спор мы с ним, впрочем, никогда не вступали, ибо он избегал обсуждения религиозных догматов и говорил со мною только о науке. Казалось, что мы заключили негласное соглашение: он обязался не нападать на католическую религию, я – не вступаться за нее. Если же мне случалось упомянуть в разговоре с отцом Алексеем сложный моральный казус или нерешенную теологическую проблему, он отказывался сообщить мне свое мнение на этот счет.
– В таких делах я не судья, – говорил он. – Ступайте к вашим богословам, они разбираются во всем этом, а я предпочитаю обходить схоластические лабиринты стороной; я служу своему владыке так, как считаю нужным, и не нуждаюсь в духовниках, которые указывали бы мне, что я должен думать и чего не должен; совесть моя чиста, а учиться этой казуистике мне уже поздно.
Больше всего он любил рассуждать о плоти и духе, причем, никогда открыто не объявляя о своих разногласиях с христианской доктриной, трактовал эти темы скорее как философ-метафизик, чем как преданный слуга Римско-католической церкви.
Тревожило меня и еще одно обстоятельство. Заботясь об углублении моих познаний в области естественных наук, отец Алексей учил меня проводить химические опыты, однако благодаря его же урокам я ясно видел, что опыты эти страдают приблизительностью и необязательностью; впрочем, не успевал я начать необходимые манипуляции, как он прерывал меня и отсылал к неведомым мне книгам, в которых, по его уверению, содержались истины самые драгоценные. Я открывал названную им страницу и читал ему вслух часы напролет. Тем временем он мерил шагами комнату, с воодушевлением поднимал глаза к небу, поглаживал высокий лоб и то и дело восклицал: «Славно! Славно!» Очень скоро я убедился, что книги эти содержали не строгие и точные научные выкладки, но страницы, вдохновленные дерзкой философией и странной моралью. Читая их из уважения к отцу Алексею, я втайне надеялся, что он прервет меня; однако, видя, что он не собирается этого делать, я начинал опасаться за свою веру и, отложив книгу, спрашивал:
– Не кажется ли вам, отец мой, что книги, которые мы читаем, наполнены ересями, не думаете ли вы, что сочинения эти, при всей их красоте, противны нашей священной религии?
Слыша эти слова, отец Алексей внезапно останавливался, с подавленным видом забирал у меня книгу и, швырнув ее на стол, говорил:
– Не знаю! не знаю, дитя мое; я всего лишь больное, ограниченное создание; я не вправе судить о таких вещах; я читаю эти книги, не объявляя их ни хорошими, ни дурными. Не знаю! Ничего не знаю! Вернемся к нашим трудам!
И мы оба в молчании брались за работу; я не смел углубляться в свои мысли, он – делиться со мной своими.
Более всего раздражала меня его привычка постоянно ссылаться на откровения некоего всемогущего Духа, о котором я не мог составить ясного понятия. Отец Алексей употреблял слово «Дух» в самом широком и смутном значении. Порой он, казалось, именовал Духом Бога, сотворившего мир и вдохнувшего в него жизнь; порой подразумевал под Духом всего-навсего некоего домашнего гения, с которым вступал, подобного Сократу, в тайные сношения. Меня сношения эти приводили в такой ужас, что лишали сна; смежив очи, я вверял себя покровительству своего ангела-хранителя и шепотом заклинал бесов всякий раз, когда перед моим внутренним взором начинали мелькать сонные видения. В эти минуты дух мой делался так немощен, что я испытывал острое желание исповедоваться во всем отцу Эжезипу; не делал я этого только из любви к отцу Алексею, ибо боялся погубить его своими признаниями, как бы осторожны и сдержанны они ни были. Впрочем, с двуми привычками, более всего пугавшими меня, наставник мой скоро простился. Во-первых, заснув в книгой в руках, он по пробуждении уже не пересказывал мне суждения, которые, по его уверению, прочел в этой книге. Во-вторых, он больше не доставал ту тетрадь с чистыми страницами, к которой прежде так любил обращаться, делая вид, будто читает по ней. Я счел, что странные эти обыкновения объяснялись временным расстройством его ума, которое ныне прекратилось и о котором сам он забыл. Боясь огорчить его, я остерегался напоминать об этих эпизодах. Если физическое состояние отца Алексея становилось все хуже и хуже, ум его, казалось, вполне окреп; наставник мой больше не грезил; он мыслил.
Нимало не заботясь о своем здоровье, он презирал любые диеты. Я потерял всякую надежду на его выздоровление. Он отвергал все мои просьбы подумать о себе и, обнаруживая христианскую – чтобы не сказать мусульманскую – покорность судьбе, говорил, что участь его предрешена. Все же, когда однажды я бросился к его ногам и со слезами стал умолять его показаться прославленному врачу, который в это время находился в окрестностях монастыря, он с грустной снисходительностью уступил моим настояниям.
– Ты этого хочешь, – сказал он, – и напрасно. К чему все это? Что может сделать один человек для другого? Ненадолго укрепить физическую оболочку, на несколько лишних дней удержать в теле животную силу! Дух повинуется лишь силе Духа, а Дух, властвующий надо мной, никогда не покорится слову врача, человека из плоти и крови! Когда пробьет мой час, искру моей души сможет разжечь вновь лишь тот огонь, из которого она родилась. Что станешь ты делать с мужчиной, впавшим в детство, старцем, потерявшим разум, телом, лишившимся души?
Тем не менее он согласился принять врача. Тот удивился, найдя человека еще не старого (отцу Алексею было лет шестьдесят, не больше) и обладающего от природы столь крепким телосложением, в состоянии крайнего истощения. Врач счел, что умственные труды подточили физическое здоровье человека, нисколько не заботившегося о своем теле; форма, в которую он облек свой приговор, поразила меня.
– Отец мой, – обратился он к отцу Алексею, – нож изрезал ножны.
– Одним жалким вместилищем меньше, одним больше, какая разница? – с улыбкой отвечал мой наставник. – Главное ведь в том, что лезвие вечно и никому не под силу его уничтожить!
– Да, – согласился доктор, – однако, лишенное защиты, лезвие может заржаветь.
– Если лезвие с зазубринами, пользоваться им все равно нельзя; пусть ржавеет, – сказал отец Алексей. – Чтобы пустить в дело, его надобно переплавить.
Видя, что я единственный, кого всерьез тревожит судьба отца Алексея, доктор отвел меня в сторону и принялся расспрашивать в подробностях об образе жизни больного. Узнав о его нескончаемых ученых занятиях и беспрестанном возбуждении его ума, он произнес, обращаясь к самому себе:
– Очевидно, что печь перегрелась; надежды мало, возвышенный огонь все истребил; единственное, что осталось, – попытаться хотя бы немного угасить этот пламень.
Он велел мне в точности следовать его предписаниям, а после попросил у больного разрешения поцеловать его: за то недолгое время, что врач провел у постели отца Алексея, тот успел покорить его сердце. Это проявление сочувствия к моему наставнику растрогало и опечалило меня; поцелуй слишком походил на прощальный. Доктор намеревался возвратиться в наши края лишь через несколько месяцев.
Средства, им прописанные, вначале оказали действие поистине чудесное. Добрый мой наставник окреп и встал на ноги; пищеварение его улучшилось, по ночам он спал спокойным сном. Но радовался я недолго, ибо чем лучше становилось физическое состояние отца Алексея, тем хуже чувствовал он себя в отношении моральном. Он впал в меланхолию, меланхолия сменилась печалью, печаль – оцепенением, оцепенение – расстройством ума. Затем разные эти фазы стали сменять одна другую по нескольку раз в день, что окончательно расшатало деятельность всего организма. Отец Алексей вновь стал предаваться грезам и размышлять о химерах. Откуда-то вновь явилась ненавистная мне проклятая книга с чистыми страницам, причем он не только читал по ней, но и ежедневно, вооружившись пером, которое он и не думал обмакивать в чернила, покрывал ее страницы невидимыми буквами. Казалось, что глубочайшая тоска и тайное беспокойство грызут его измученную душу и лишают ее равновесия. Впрочем, ко мне он, несмотря ни на что, относился с прежней добротой, с прежней нежностью; как я ни противился, он пытался продолжать наши занятия, однако не проходило и нескольких минут, как он погружался в сон, а затем, проснувшись так же внезапно, хватал меня за руку и говорил:
– Но ведь ты видел его, в самом деле видел? Неужели ты видел его всего один-единственный раз?
– Добрый мой учитель! – отвечал я. – Как хотел бы я привести к вам этого друга, который так дорог вашему сердцу! Присутствие его смягчило бы ваши страдания и оживотворило вашу душу.
Слыша эти слова, он просыпался окончательно и обрывал меня:
– Молчи, несчастный! Молчи! Как смеешь ты говорить об этом? Ты что же, хочешь, чтобы он никогда больше не вернулся и я умер, не повидав его?
Я не смел ни о чем его спрашивать; любопытству не было больше места в моем сердце. Там безраздельно царило сострадание, к которому порой примешивался смутный страх.
Однажды усталость сморила меня и я заснул раньше обычного. Сон мой был глубок и крепок. Мне снился прекрасный незнакомец, разлука с которым так сильно печалила моего наставника. Он приблизился к моей постели и, склонившись надо мной, прошептал: «Не говорите ему, что я здесь, иначе этот упрямый старец непременно постарается меня увидеть, а я хочу прийти к нему не прежде его смертного часа». В ответ я принялся объяснять, как ждет отец Алексей его прихода, я умолял незнакомца навестить моего наставника, чьи душевные муки достойны сострадания. На этом месте я проснулся и сел на постели; ум мой был так потрясен этим сном, что, дабы убедиться, что незнакомец мне пригрезился, мне пришлось открыть глаза и вытянуть руки. Юноша этот, исполненный красоты и кротости, являлся мне трижды. Голос его звучал у меня в ушах, подобно отдаленным звукам лиры, а исходившее от него благоухание напоминало аромат лилий на утренней заре. Трижды я молил его предстать перед моим наставником; трижды просыпался и обнаруживал, что все происходящее – только сон. На третий раз, однако, меня вернул к реальности взволнованный голос отца Алексея; он звал меня. Я бросился к нему в келью; он сидел на кровати, и как ни тускло светил ночник, но я различил всклокоченную бороду и сверкающие глаза учителя и понял, что он вне себя от возбуждения.
– Вы видели его! – вскричал он громким и грубым голосом, какого я никогда от него не слышал. – Вы видели его, а мне об этом не сказали! он говорил с вами, а вы меня не позвали! он покинул вас, а вы не послали его ко мне! Какую же змею пригрел я на своей груди! Вы украли у меня друга! отняли учителя! вы предали, подло обманули, убили меня!
Он упал навзничь на постель и на несколько минут лишился чувств. Я подумал, что он кончается, и принялся растирать ему виски той жидкостью, к которой он обычно прибегал, чувствуя приближение обморока. Я пытался согреть ему ноги полами моей сутаны, а руки – моим дыханием. Однако его дыхания я не слышал, а пальцы его оледенели, словно их сковал могильный холод. Я начинал уже терять надежду, когда он пришел в себя, медленно приподнялся и, уткнувшись лбом мне в плечо, произнес с несказанной кротостью:
– Анжель, зачем ты здесь в такой час? Неужели ты думаешь, что я совсем плох? Бедное дитя, как сильно ты тревожишься за меня, как сильно устаешь, ходя за мной.
Мне не хотелось рассказывать ему о том, что произошло; еще меньше хотелось мне расспрашивать его о причинах непостижимого совпадения наших грез; я боялся, как бы он снова не начал бредить. Кажется, все, что случилось до обморока, полностью изгладилось из его памяти. Он велел мне возвратиться в мою келью, я повиновался, но продолжал прислушиваться к тому, что происходит за стеной; отец Алексей спал, но дышал с трудом; по временам из груди его вырывался хрип, похожий на отдаленный шум прибоя. Наконец я решил, что ему полегчало, и забылся сном, но не прошло и нескольких минут, как меня разбудил мощный голос, очень мало походивший на голос отца Алексея.
– Нет, ты никогда не знал меня, никогда меня не понимал, – говорил этот суровый голос, – сотню раз я являлся тебе, а у тебя ни разу не достало мужества предаться в мою власть; впрочем, чего и ждать от монаха, кроме колебаний, трусости и софизмов?
– Но я любил тебя! – жалобно, еле слышно отвечал голос отца Алексея. – Ты знаешь, что я молил тебя, искал тебя; я употребил все силы моей души на то, чтобы постичь смысл твоих притч; я преклонял пред тобою колени; я бросил иудейскую веру, я оставил бога евреев и язычников корчиться в муках на окровавленном кресте и не проронил над ним ни слезинки, не обратил к нему ни единой молитвы.
– Кто же велел тебе поступать так? – продолжил голос. – Невежественный монах, бездушный философ! Мученик, не ведающий ни энтузиазма, ни веры! Разве приказывал я тебе когда-нибудь презирать назарянина?
– Нет, ты никогда не удостаивал меня объяснениями, никогда не соглашался озарить своим светом того, кто стал бы ради тебя поклоняться любым кумирам. Ты ведь знаешь! ты знаешь! стоило тебе захотеть, и я разодрал бы сутану и препоясался ратным оружием. Голос мой звучал бы повсюду; огнем и мечом проповедовал бы я твое Евангелие во всех странах света; я перевернул бы жизнь народов повсюду, от севера до юга, от восхода до заката, и заставил бы весь род человеческий поклоняться тебе. Я имел бы волю, имел бы власть; тебе довольно было сказать только одно слово: «Иди!», довольно было вложить факел в мою руку и двинуться впереди меня путеводной звездой; ради тебя я остановил бы волны морские, сдвинул бы с места горы. Отчего же ты не захотел этого! Ты обрел бы алтари, а я – жизнь; ты был бы богом, а я – твоим пророком!
– Да, да, – отвечал незнакомый голос, – гордости и честолюбия тебе не занимать; ободри я тебя, ты и сам согласился бы стать богом.
– О владыка! Не презирай меня, не смейся надо мной! Подобные склонности дремали в моей души, но я истребил их. Ты осудил мои дерзкие мечты, мою безрассудную смелость, и я принес в жертву тебе все мои грезы. Ты сказал мне, что насилие не способно править миром, что Дух чуждается потоков крови и бряцанья оружием. Ты сказал мне, что искать Дух надобно в сумраке и уединении, в тишине и сосредоточении. Ты сказал мне, что искать его надобно в ученых занятиях, в самоотречении, в жизни смиренной и безвестной, в бессонных ночах и глубоких размышлениях, в неустанной работе души. Ты сказал мне, что искать его надобно в недрах земли, в книжной пыли, в могиле, кишащей червями; я искал его повсюду, но не смог найти, и вот теперь я умираю, мучимый сомнениями, снедаемый ужасом перед бездной!..
– Замолчи, подлый богохульник! – перебил громовой голос. – Сожаления твои рождены твоей жаждой славы, отчаяние твое – плод твоей гордыни. Спесивый червь, не желающий сойти в могилу, не выведав секрета всемогущего Господа! Да разве есть дело неумолимому прошлому и незнаемому будущему до безвестного монаха, который жил во лжи и умер в невежестве? Разве страшен верховному уму ропот ничтожного бенедиктинца? Разве поколеблется бесконечное могущество высшего судии оттого, что монастырский астроном не сумел измерить его, вооружившись компасом и подзорной трубой?
Безжалостный хохот раздался в келье отца Алексея, наставник же мой ответил жалобным стоном. Я слушал этот диалог, пребывая во власти тревоги и ужаса. Стоя босиком на каменном полу, прильнув к полуоткрытой двери, затаив дыхание, я пытался увидеть грозного незнакомца, беседовавшего с моим учителем, однако лампа погасла, а взор мой мутился от ужаса и ничего не различал во тьме. Впрочем, сострадание придало мне мужества; я вошел в келью отца Алексея, с помощью фосфорной спички зажег лампу и подошел к постели больного. В комнате были только мы двое; ни малейший шум, ни малейший беспорядок не обличали стремительного исчезновения страшного гостя. Собравшись с силами, я попытался помочь моему учителю, чье отчаяние разрывало мне сердце. Он сидел на постели, согнувшись пополам, как если бы исполинская рука переломила ему позвоночник и, уткнув лицо в дрожащие колени и стуча зубами, рыдал в голос; потоки слез текли по его седой бороде. Я опустился на колени рядом с его кроватью, я заплакал вместе с ним и принялся утешать его так ласково, как мог бы утешить сын; тронутый моим сочувствием, он на несколько мгновений очнулся и, бросившись мне на грудь, повторил несколько раз:
– Я умираю! Умираю без надежды! Умираю, не изведав земной жизни и не ведая, суждена ли мне жизнь вечная!
– Отец мой, возлюбленный мой наставник, – говорил я ему, – не знаю, какие горестные видения смущают мой и ваш сон, не знаю, кто этот призрак, явившийся к нам нынче ночью, дабы искушать и грозить, но кем бы он ни был – посланником Бога живого, который внушает нам спасительный страх, или духом тьмы, который истребляет в нас веру в милосердие Господне и осуждает нас на адские муки, – молю вас, положите конец этим видениям, вернитесь в лоно святой матери Церкви. Изгоните демонов, кои вас осаждают, либо завоюйте благорасположение ангелов, кои вас посещают, а для того причаститесь святых таинств и дозвольте мне вознести молитву в вашем присутствии…
– Оставь, оставь меня, любезный Анжель, – отвечал он, мягко отстраняя меня, – не изнуряй мой ум ребяческими уговорами. Оставь меня одного, не нарушай больше ни своего, ни моего сна пустыми страхами. Все это только сон; теперь мне гораздо лучше; слезы смягчили мои страдания, слезы – все равно что дождь после грозы, они несут освобождение. Тебя не должно удивлять то, что я произношу во сне. Чуя близость смерти, душа пытается разорвать узы материи и тоскует страшно и странно; однако говорят, что в последнее мгновение Дух укрепляет и возвышает ее.
Наутро я получил приказание явиться к настоятелю. Я спустился к нему в комнату; мне сказали, что он занят, и велели подождать по соседству, в зале для собраний капитула. Залу эту я видел второй раз в жизни и воспользовался случаем осмотреть ее; облик ее показался мне величественным и суровым. Впрочем, в ту минуту все это занимало меня лишь в очень малой степени; ночные впечатления угнетали мою душу, смущали и страшили мою совесть и, главное, наполняли мое сердце тревогой за возлюбленного наставника, страдавшего и духовно, и телесно. Тревожил меня и грядущий разговор с настоятелем; ведь с тех пор, как я сделался учеником Алексея, я, хотя сам постоянно и упрекал себя за это, непростительно пренебрегал исполнением религиозного долга.
Тем не менее, обводя меланхолическим взором залу, где я очутился, и пытаясь на время забыть о своих печалях и страхах, я был поражен красотой этих древних сводов, силой и дерзостью, какую обнаружил их творец и о какой могут только мечтать архитекторы наших дней. Парусы свода, покрытые каменной вязью, смыкались в вышине, а под ними висели портреты прославленных членов ордена. Эта череда картин в роскошных рамах, эта галерея важных людей в черном имела вид внушительный и мрачный. Шли последние дни осени. Солнечные лучи, проникавшие сквозь высокие окна, озаряли бледно-золотистым светом суровые лица этих почтенных покойников, а заодно расцвечивали и массивную позолоту рам, почерневшую от времени. В монастырских дворах и садах стояла глубокая тишина, и только эхо моих шагов раздавалось под гулкими сводами.
Вдруг мне послышались еще чьи-то шаги, причем человек этот шагал так твердо и величаво, что я принял его за настоятеля. Я обернулся, чтобы поздороваться, но никого не увидел и решил, что ошибся. Я вновь двинулся вперед и вновь услышал чужие шаги, хотя находился в зале капитула в полном одиночестве. Когда это повторилось в третий раз, давешние страхи вновь проснулись в моей душе и я уже совсем собрался бежать из залы, однако необходимость дождаться настоятеля остановила меня, и я попытался преодолеть приступ малодушия, убеждая себя в том, что причина моих грез в истощении тела и ума. Чтобы прийти в себя, я опустился на скамью напротив картины, висевшей в самом центре. Она изображала основателя нашего ордена, святого Бенедикта. Я надеялся, что вид этого прекрасного полотна прогонит мучившие меня видения, однако, присмотревшись, я нашел в бледном, страдальческом и вдохновенном лице великого святого разительное сходство с незнакомцем, с которым столкнулся однажды утром на пороге церкви. Я встал, снова сел, подошел поближе, отошел подальше, и чем внимательнее я смотрел, тем больше убеждался в том, что вижу те же самые черты, то же самое выражение лица; вся разница заключалась в том, что спутанные волосы святого были откинуты назад и открывали лоб, а черты обличали более зрелый возраст. Кроме того, святой на портрете был бос и одет в одну лишь черную сутану. Открытие мое привело меня в восхищение и преисполнило гордости. Мне радостно было думать, что мне явился наш святой покровитель и что дух его бережет меня. Вдобавок я с восторгом подумал, что, следовательно, отец Алексей находится на верном пути и что он тоже святой, раз сам святой Бенедикт является ему и то осыпает его благодетельными упреками, то ободряет нежными похвалами.
Я сделал шаг вперед, желая преклонить колени перед священным изображением; тут мне в очередной раз послышалось, что кто-то идет за мною следом, и я опять обернулся, но опять никого не увидел. Однако в это мгновение взор мой упал на картину, висевшую напротив портрета святого Бенедикта; каково же было мое удивление, когда я обнаружил на ней человека с тем же кротким и серьезным выражением, с теми же прекрасными волнистыми волосами, какие были у незнакомца, явившегося мне на пороге церкви! Человек, изображенный на этом втором портрете, еще сильнее походил на мое видение. Он стоял точно в такой же позе, в какой видел его я. Он был одет в тот же плащ и те же ботинки, талию его перетягивал тот же пояс. Большие, немного впалые голубые глаза, окаймленные ровными дугами бровей, смотрели вниз задумчиво и проницательно. Полотно было так прекрасно, что я счел его творением того же художника, который создал портрет святого Бенедикта, человек же, на нем изображенный, был прекрасен до такой степени, что все мои подозрения на его счет рассеялись и уступили место бесконечному счастью, которое подарила мне новая встреча пускай не с ним самим, а с его изображением. Нарисован он был с книгой в руке; много книг лежало и у его ног. Те, что валялись на земле, он попирал ногами равнодушно и презрительно, зато на ту, которую он держал в руке, смотрел с величайшим почтением, словно повторяя слова, начертанные на ее переплете: «Hic est veritas!» [3]
В то время как я с восторгом любовался его обликом, твердя себе, что человек, чей портрет висит в этих стенах, не может не быть особой, достойной почтения, дверь в глубине зала отворилась и отец казначей, человек в высшей степени разговорчивый, пришел помочь мне скоротать время до прихода настоятеля.
– Вас, я вижу, привели в восторг здешние картины, – сказал он. – Наш святой Бенедикт, как говорят, настоящий шедевр. Иные любители даже приписывали его кисти Ван Дейка; однако он создан уже после смерти этого художника. Скорее всего нашего святого Бенедикта написал один из учеников Ван Дейка, в совершенстве усвоивший его манеру. В датах ошибки быть не может: Петр Эброний появился здесь около тысяча шестьсот девяностого года, а в это время Ван Дейка уже не было в живых; между тем, как вы, должно быть, заметили, святой Бенедикт писан с Петра Эброния, которому в ту пору было немногим больше тридцати.
– Да кто же такой этот Петр Эброний? – спросил я.
– Как! Неужели вы не знаете? Это тот, кого здесь именуют аббатом Спиридионом; именно этот почтенный священнослужитель основал нашу общину. Как видите, – сказал отец казначей, указывая на портрет моего незнакомца, – он был одним из красивейших людей своего времени, так что живописцу трудно отыскать более подходящую модель для изображения святого.
– Значит, он умер? – воскликнул я, забывшись.
– В тысяча шестьсот девяносто восьмом году или около того, – подтвердил казначей, – примерно сто лет назад. Как видите, на портрете он держит в руках одну книгу и попирает ногами многие другие. Говорят, что та, которая у него в руках, – это «Четвертое предостережение, к протестантам обращенное», писанное Боссюэ, а остальные – богомерзкие книги Лютера и его последователей. В этом изображении усматривают намек на свершившееся незадолго до того обращение Петра Эброния и его переход в истинную веру, которой он служил не за страх, а за совесть, ибо постригся в монахи, а все свое состояние отдал на строительство нашей святой обители.
– В самом деле, – сказал я, – мне доводилось слышать, что основатель нашего монастыря был человек в высшей степени достойный и что он жил и умер в святости.
Казначей с улыбкой покачал головой.
– Вести правильную жизнь нетрудно; правильно встретить смерть – куда труднее! Если монах с головой уходит в научные изыскания, это до добра не доводит. Ум возбуждается, гордыня подчас кружит самые светлые головы, и люди обнаруживают, что им наскучило верить одним и тем же истинам. Тогда они пускаются на поиски истин поновее и очень скоро сбиваются с пути. Дьяволу это на руку; порой под видом прекрасной философии, вдохновленной небесами, он подсовывает вам плоды чудовищных заблуждений, от которых оказывается очень трудно отречься в последний, решающий час. Люди сведущие говорили мне по секрету, что под конец жизни аббат Спиридион, хотя и продолжал вести жизнь аскетическую и святую, чересчур пристратился к чтению дурных книг, которые изучал якобы для того, чтобы более убедительно их опровергнуть, и вот мало-помалу яд заблуждения проник в его ум. Слывя образцовым монахом, втайне он, кажется, впал в ересь куда более чудовищную, чем та, адептом которой он был в юности. Чудовищные сочинения иудея Спинозы и адские доктрины философов той же школы превратили аббата Спиридиона в пантеиста, иначе говоря, в безбожника. Да, мой возлюбленный сын, учтите это, и да не заведет вас никогда любовь к науке – в сущности, не что иное, как пустое любопытство, – в такие страшные дебри! Говорят, что в последние годы жизни Эброний наплодил бесчисленное множество гнусных писаний. К счастью, на смертном одре он раскаялся и сжег их своей собственной рукой, дабы в дальнейшем яд их не погубил простецов, которые стали бы их читать. Умер он по видимости в мире с Господом, и те, кто знал его только издали и принимал за святого, были удивлены отсутствием чудес на его могиле. Люди же прямые и судившие о нем более справедливо, воздерживались объявить вслух о своих сомнениях относительно его загробной участи. Были, между прочим, и такие, кто полагал, будто он доходил до занятий колдовством, а у смертного его одра явился сам дьявол. Впрочем, наверное тут ничего сказать нельзя, а потому было бы неосторожно и даже опасно рассуждать на эту тему. Упокой Господь его душу! Он щедро помогал неимущим и основал наш монастырь, а потому за гробом ему, возможно, даровано было прощение; в знак этой надежды и висит здесь его портрет.
Наш разговор был прерван появлением настоятеля. Казначей, прижав руки к груди, поклонился до земли и оставил нас вдвоем.
Настоятель смерил меня глазами и сухо потребовал у меня отчета о моих долгих бдениях в обществе отца Алексея и о тех голосах, которые слышатся каждую ночь из его кельи. Я попытался списать все на болезнь моего наставника, однако настоятель сказал, что особа, достойная доверия, поднималась перед рассветом на башню, дабы завести монастырские часы, и слышала доносившиеся из наших келий угрозы, крики и проклятия.
– Надеюсь, – прибавил настоятель, – что вы ответите мне просто и прямо; любой проступок можно простить, если виновный признает свою вину и раскается в ней, если же вы не сумеете дать мне удовлетворительные объяснения добровольно, вас принудят к этому посредством самым суровых наказаний.
– Преподобный отец, – отвечал я, – не знаю, в чем могут подозревать меня при этих обстоятельствах. Отец Алексей в самом деле всю ночь разговаривал громко и даже с превеликим возбуждением; однако разговор этот был не что иное, как следствие лихорадки и бреда. Что до меня, я плакал, не в силах спокойно видеть его мучений; он же, когда приходил в себя, обращал к Богу жаркие молитвы. Я молился вместе с ним, вторя его словам и чувствам.
– Придумано складно, – презрительным тоном заметил настоятель, – любопытно, однако, узнать, что вы скажете о ярком свете, который озарил вдруг ваши кельи и весь купол, а также и о пламени, которое вырвалось сверху из башни и рассеялось в небесах, оставив ужасный запах серы? Какое объяснение приищете вы всему этому?
– Не постигаю, преподобный отец, – отвечал я, – отчего человеку дозволено сидеть ночью у постели больного и молиться за него, но не дозволено зажечь лампу с помощью фосфора и серы? Возможно, я был недостаточно осторожен при употреблении этой смеси, и оттого неприятный запах распространился по всему дому; осмелюсь утверждать, однако, что запах этот не несет с собою никакой опасности; ни при каких условиях фосфорная спичка не может стать причиною пожара. Умоляю вас, преподобный отец, простите мне мою неосторожность, в которой виноват только я один.
Настоятель устремил на меня пристальный взгляд, словно желая узнать, как далеко может зайти мое бесстыдство, затем поднял глаза к небу, всем своим видом выражая величайшее негодование, и вышел, не удостоив меня ни единым словом.
Оставшись один, я, томимый страхом не за себя, но за отца Алексея, над которым, судя по всему, нависла гроза, невольно обратил взор на портрет Эброния и молитвенно сложил руки, охваченный неодолимым порывом любви и надежды. В эту минуту солнце озарило лицо основателя монастыря, и мне показалось, что голова его, а затем рука и все туловище отделились от полотна и наклонились вперед. Волосы его пришли в движение, глаза сверкнули и устремили на меня взгляд совершенно живой. Тут сердце мое забилось с удвоенной силой, в ушах зашумело, в глазах помутилось, и, чувствуя, что отвага моя на исходе, я поспешно удалился.
Печаль и тревога овладели мною. Потому ли, что ненависть и клевета выдали те поступки отца Алексея, которые мне казались сомнительными, за несомненные преступления, потому ли, что я, как и он, стал жертвою духа зла, и очевидцы, достойные доверия, заметили в его поведении нечто более предосудительное, чем замечал я, но я предчувствовал, что несчастный мой наставник станет жертвой гонений и последние минуты его жизни, и без того столь мучительные, будут омрачены упреками и обвинениями. Я предпочел бы скрыть от него наш разговор с настоятелем, однако не видел иного способа отвести от него сгущавшиеся над ним тучи, кроме как уговорить его возвратиться в лоно Церкви.
Мой рассказ и мои мольбы он выслушал с полным безразличием, а когда я замолчал, сказал:
– Не тревожься; Дух с нами, а люди из плоти бессильны нам повредить. Дух суров, Дух требователен, Дух разгневан; но он на нашей стороне. И если даже на нас обрушатся кары, если даже наши тела – твое, юное и нежное, и мое, старое и готовое к смерти, – заключат в сырую и мрачную темницу, Дух поднимется к нам из недр земли, как он опускается к нам сейчас вместе с лучами солнца. Не бойся, сын мой; там, где веет Дух, там царят свет, тепло и жизнь.
Я хотел расспросить его подробнее, но он знаком показал, что нуждается в покое, и, усевшись в кресло, погрузился в размышления; безволосый его череп и глаза, устремленные в землю, были исполнены беспримерного величия и покоя. В душе его жила неведомая добродетель, которая подавляла все мои подозрения и заглушала все мои страхи. Я любил его сильнее, чем сын любит отца. Его страдания были моими, и если бы Господь проклял его, я, несмотря на всю свою богобоязненность, пожелал бы себе той же участи. До этой минуты меня мучили сомнения, однако ощущение грозившей отцу Алексею опасности придало мне силы; отныне я больше не колебался. Мне предстояло сделать выбор между голосом собственной совести и воплем его тоски; сознаюсь, выбор этот я сделал, движимый чувствами сугубо человеческими. Если ему не суждено спастись в загробной жизни, думал я, пусть же он, по крайней мере, мирно окончит жизнь земную, а если за это желание я буду наказан, что ж – да свершится воля Господня!..
Под вечер, когда он тихо дремал, а я молился у его постели, дверь внезапно отворилась и перед мной предстало чудовище. Испуг мой был так силен, что я не мог вымолвить ни единого слова, не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Волосы мои стали дыбом, а глаза были прикованы к ужасному видению; я смотрел на него не отрываясь, как смотрит птица на змею. Учитель мой спал, а отвратительное чудовище замерло у подножья его постели. Я зажмурился, чтобы не видеть этого страшного гостя и чтобы призвать на помощь силу своего разума. Когда я открыл глаза, чудовище оставалось на прежнем месте. Тогда я попытался закричать, однако, как я ни старался, из груди моей вырвался лишь глухой хрип, который, однако, разбудил моего наставника. Он увидел чудовище, но, не выказав ни отвращения, ни ужаса, произнес с легким удивлением:
– Ну-ну!
– Ты звал меня; я пришел, – произнес призрак.
Учитель мой пожал плечами и, повернувшись ко мне, спросил:
– Тебе страшно? Ты считаешь, что это дух, дьявол? Нет-нет, разуверься, духи не принимают такой формы, а будь они так бессмысленно уродливы, они не имели бы возможности являться людям. Разум человеческий пребывает под охраной духа мудрости. Это вовсе не призрак, это человек из плоти и крови.
С этими словами он встал, подошел к чудовищу и, железной рукой схватив его за горло, приказал:
– А теперь снимите маску и не воображайте, будто этот гнусный маскарад способен меня испугать.
Призрак упал на колени, Алексей сорвал с него маску, и я узнал послушника по имени Доминик – того самого, что некогда выгнал меня из церкви.
– Возьми лампу! – велел мне Алексей громким и твердым голосом; глаза его светились издевательской веселостью. – Иди вперед; мне надо вывести этих негодяев на чистую воду. Ну, ступай же! Не мешкай! Неужели ты трусливее зайца?
Я все еще не мог прийти в себя, и руки у меня дрожали так сильно, что с трудом удерживали лампу.
– Открой дверь, – властно приказал мне мой наставник.
Я повиновался; однако, увидев, как он тащит за собою по полу, словно мешок с ветошью, несчастного Доминика, я пришел в ужас; дело в том, что в припадке ярости отец Алексей не знал удержу, и я боялся, как бы он не сбросил мнимого демона со страшной высоты.
– Пощадите, отец мой, пощадите его! – взмолился я, вставая между отцом Алексеем и нашим непрошеным гостем. – Неужели вы запятнаете руки кровью?
Отец Алексей пожал плечами и сказал:
– Ты глуп! Раз ты не хочешь идти передо мной, иди следом!
По-прежнему таща за собою послушника, который вообще-то был человеком крепкого сложения, однако теперь, казалось, повиновался некоей сверхчеловеческой силе, отец Алексей покинул балкон, опоясывающий купол собора, и быстро пошел вниз по лестнице. Тут страхи мои немного рассеялись, и я последовал за ним. Внизу меж тем собралось немало монахов; по всей вероятности, они ожидали рассказа о признаниях, которые мнимому демону удалось вырвать у моего учителя, однако, услышав ужасный шум и увидев сцену, сильно отличавшуюся от той, какую они надеялись увидеть, монахи натянули капюшоны и скрылись во тьме. Впрочем, мы успели рассмотреть их одеяния и убедились, что в большинстве своем это были послушники. Ни один из монахов не участвовал в этом кощунственном фарсе, однако, как мы узнали позже, задуман он был настоятелем и его присными.
Алексей тем временем продолжал столь же быстрым шагом спускаться вниз, таща своего пленника за собой. Тот порой делал попытки освободиться, однако учитель мой исполинской рукой сдавливал ему горло и швырял обратно на ступени лестницы. Пальцы Алексея покраснели от крови, а у Доминика глаза вылезали из орбит. Я по-прежнему шел за ними следом, и таким манером мы добрались до самого низа лестницы, ведшей во внутренние монастырские галереи. В этом месте издавна висел большой колокол, в который звонили только в тех случаях, когда умирал кто-то из монахов, и который поэтому носил название articulo mortis [4] . Держа одной рукой поверженного им демона, Алексей другой схватился за веревку колокола и стал звонить с такой силой, что разбудил всех обитателей монастыря. Тотчас повсюду стали открываться двери, отовсюду стал слышен шум шагов. Монахи, послушники, слуги – все сбежались на звук колокола, и вскоре монастырский двор наполнился народом. Эти перепуганные, смятенные люди, освещенные одним только мерцающим светом моей лампы, напоминали обитателей долины Иосафатовой, которые пробудились от смертного сна при звуках трубы, возвестившей начало Страшного суда. Тщетно собравшиеся спрашивали отца Алексея о причине этого трезвона, тщетно пытались вырвать из его рук несчастного Доминика: наставник мой, движимый, казалось, сверхъестественной силой, продолжал звонить, подавляя толпу и гулом колокола, и звуком своего громового голоса.
– Мне недостает еще кое-кого, – повторял он, – когда этот недостающий появится, я все объясню, покорюсь всему, но пока он не придет, как пришли все остальные, я не перестану звонить.
Наконец самым последним к нам присоединился настоятель; только после этого отец Алексей выпустил из рук колокольную веревку. Впрочем, он по-прежнему попирал ногами отвратительное чудовище, и облик его в эту минуту был исполнен такой красоты и мощи, глаза сверкали так победоносно, что на память приходил архангел Михаил, поражающий дракона. Все смотрели на него, затаив дыхание и словно оцепенев. И вот среди этой могильной тишины старец возвысил голос и обратился к настоятелю:
– Взгляните, отец мой, что здесь творится! Вместо того чтобы дать мне спокойно встретить свой смертный час, насельники этой святой обители, именующие себя моими братьями, омрачают мои последние минуты подлым любопытством и низким обманом. Они подсылают ко мне вот этого негодяя по имени Доминик! (С этими словами он поднял голову послушника достаточно высоко, дабы все присутствующие могли убедиться, что это именно он.) Они подсылают его, напялив на него эту омерзительную маску, велят ему подойти к моей постели и прокричать мне в ухо отвратительные угрозы, которые призваны пробудить меня от сна – быть может, последнего сна в моей земной жизни! На что они надеялись? На то, что им удастся запугать меня, поразить мой ослабевший ум ужасным видением и вырвать у меня постыдные слова и чудовищные признания? Если бы они и впрямь имели дело с человеком слабого ума, если бы адское видение и впрямь убило меня, не давши мне времени прийти в себя и прочесть молитву, если бы по этой причине душа моя отправилась в ад – кто, скажите мне, был бы в этом виноват? Я обращаюсь к вам, люди здравомыслящие и благонамеренные, к вам, собравшимся здесь в этот час, я тревожусь не за себя, ибо моя жизнь кончена, я тревожусь за вас, ибо ваша жизнь еще впереди и я хочу, чтобы вы могли испить свою чашу в спокойствии; именно ради этого я прошу вас вместе со мной потребовать справедливого суда у нашего духовного отца, который стоит теперь перед нами, и у
Отца Небесного, который выше нас. Справедливого суда, отец мой! Я жду, я требую справедливого суда!
Тут все люди благожелательные и прямодушные закричали хором, вторя отцу Алексею: «Справедливого суда! Мы требуем справедливого суда!»
Настоятель взирал на эту сцену с лицом совершенно непроницаемым. Впрочем, он казался бледнее обычного. Несколько минут он молчал, и только легкое подрагивание бровей выдавало владевшее им волнение. Наконец он произнес:
– Сын мой Алексей, прости этого человека.
– Да, я прощу ему, но при условии, что вы, отец мой, его накажете, – отвечал Алексей.
– Сын мой Алексей, – возразил настоятель, – разве подобают такие чувства человеку, который, по его словам, готовится предстать перед Божьим судом? Я прошу вас простить этого человека и дать ему свободу.
Алексей помедлил мгновение, но затем понял, что если он не смирит свою ярость, то это будет на руку его врагам. Он сделал два шага вперед и, толкнув своего пленника к ногам настоятеля, но все еще не выпуская его на свободу, произнес:
– Преподобный отец, я прощаю, потому что таков мой долг и ваше желание, но поскольку оскорбление было нанесено не мне, а небесам, поскольку вызов брошен вашей добродетели, вашей мудрости и вашему авторитету, я оставляю виновного у ваших ног и сам преклоняю колени рядом с ним, умоляя ваше преподобие простить его и вознести молитву для того, чтобы Всевышний также его простил.
Враги моего наставника надеялись, что своей гневливостью и строптивостью он навредит себе, однако выказанное им смирение разрушило все их злокозненные замыслы, те же, кто принял его сторону, встретили его поступок с таким воодушевлением, что настоятель был вынужден также одобрить его поведение, по крайней мере на словах.
– Сын мой Алексей, – сказал он, поднимая его с колен и целуя, – я тронут вашим смирением и милосердием; однако я не вправе простить этому человеку так, как простили ему вы. Ваш долг заключался в том, чтобы заступиться за него, мой же состоит в том, чтобы сурово его покарать, что и будет исполнено, как того требует небесное правосудие и устав нашего ордена.
Все, кто услышал этот суровый приговор, содрогнулись от ужаса, ибо святотатство каралось суровее всех прочих прегрешений, и ни один монах не знал заранее, каким именно наказаниям подвергаются виновные в этом преступлении. Больше того, наказанным было строго-настрого запрещено говорить о том, что происходило в ними в темнице; за нарушение запрета та же самая кара грозила им вторично. Судя по тому, в каком состоянии выходили на свободу те, кто испил свою чашу, в темнице им довелось испытать ужаснейшие муки; некоторые из этих несчастных умерли вскоре после освобождения. По всей вероятности, учитель мой не принял всерьез грозные речи настоятеля, ибо на губах у него блуждала странная улыбка; тем не менее настоятель уважил его волю, и он счел возможным наконец выпустить свою добычу. Правая рука его так крепко держала врага за шиворот, что ему пришлось разжимать ее пальцы левой рукой. Доминик упал без чувств к ногам настоятеля; тот знаком подозвал четырех послушников, которые и унесли своего собрата. Больше его в монастыре никогда не видели. Произносить его имя и упоминать о его странном проступке было запрещено; по нем отслужили заупокойную службу, но никому из нас не дозволено было узнать о его судьбе; впрочем, впоследствии я увидел его вне стен монастыря; он был толст, бодр и весел, а когда ему напоминали об эпизоде, послужившем причиной его изгнания из обители, лицемерно посмеивался.
Учитель мой оперся на мою руку, пошатнулся, побледнел и внезапно утратил всю ту чудесную силу, которая двигала им до той минуты; с трудом я довел его до постели и поднес ему лекарство; проглотив несколько капель, он сказал:
– Анжель, мне кажется, я убил бы его, начни настоятель его выгораживать.
После этого, не произнеся больше ни единого слова, он заснул.
Назавтра отец Алексей проснулся довольно поздно: он был спокоен, но очень слаб; я помог ему подняться с постели, и он не сел, а скорее рухнул в кресло, испустив тяжкий вздох. Я не мог постичь, каким образом это хилое тело способно было накануне творить такие чудеса.
– Отец мой, – спросил я у него с тревогой, – вам хуже? Вы страдаете больше обычного?
– Нет, – отвечал он, – нет, мне хорошо.
– Но какая-то мысль, кажется, гнетет вас.
– Я размышляю.
– Вы размышляете над всем, что произошло вчера, отец мой. Согласен: здесь есть над чем подумать, но, кажется мне, здесь есть и чему порадоваться. Вы можете быть спокойны: мы заглянули в эту бездну и убедились, что на самом деле злые духи вовсе не покушаются на вас.
Алексей улыбнулся мягко, но насмешливо и, покачав головой, сказал:
– Неужели ты все еще веришь в существование злых духов, бедный мой Анжель? Ты заблуждаешься! Заблуждаешься! Неужели и ты, как физики в старину, полагаешь, что природа не терпит пустоты? Что же сталось бы с человеком, существом разумным, порождением духа, если бы дурные страсти и низменные плотские инстинкты могли, принимая форму отвратительную или причудливую, смущать его вечерний покой, вторгаться в его ночной сон? Нет, все эти демоны, все эти адские создания, о которых ежедневно твердят невежды и лжецы, суть не что иное, как пустые призраки, измышляемые воображением одних людей ради того, чтобы устрашить других. Человек сильный, наделенный чувством собственного достоинства, смеется в душе своей над жалкими выдумками, посредством которых враги испытывают его отвагу, и, уверенный в их бессилии, засыпает без тревог и просыпается без боязни.
– Между тем, – отвечал я, не скрывая своего изумления, – в этой самой келье произошло нечто такое, что заставляет меня придерживаться мнения совершенно противоположного. Давеча ночью отсюда доносились два голоса, и второй, куда более громкий, чем ваш, сурово бранил вас, а вы отвечали ему с болью и страхом. Меня все это испугало, я вошел в вашу келью, желая вам помочь, и застал вас в одиночестве; вы были подавлены и лили горькие слезы. Что же это было?
– Это был он.
– Он! Кто он?
– Ты сам знаешь, ведь он приходил к тебе, он трижды взывал к тебе, как дух Господень трижды взывал к Самуилу, когда тот лежал в храме.
– Откуда вы об этом знаете, отец мой?
Алексей, кажется, не слышал моего вопрос. Несколько мгновений он сидел неподвижно, уронив голову на грудь и погрузившись в размышления; затем, не поднимая головы и не шевелясь, он заговорил вновь:
– Скажи, Анжель, ты видел его средь бела дня?
– Да, отец мой, в поддень. Вы уже спрашивали меня об этом.
– А солнце светило ярко?
– Оно освещало его лицо.
– Ты видел его только один раз?
Я не смел ответить; я боялся, что стал жертвой иллюзии и собственными заблуждениями лишь укреплю те, во власти которых пребывает Алексей.
– Ты видел его еще один раз! – вскричал он нетерпеливо. – Видел и ничего не сказал мне!
– Добрый мой учитель, что вам за дело до видений, которые, возможно, суть не что иное, как плоды случайного совпадения или простой игры света?
– Анжель, что вы говорите? Сами умолчания ваши для меня красноречивее слов. Говорите, я требую! Если вы не расскажете мне всего, что знаете, я не смогу умереть спокойно!
Не в силах противиться его напору, я рассказал об ужасе, который испытал в ризнице, когда, очнувшись от продолжительного обморока и будучи уверен, что нахожусь в полном одиночестве, услышал чьи-то слова и увидел чью-то тень, причем не мог приискать ни тому, ни другому правдоподобных объяснений.
– Что же это были за слова? – спросил Алексей.
– Обращение к Господу с просьбой спасти жертв невежества и лжи.
– А как он звал того, к кому обращался? Он говорил: «О Дух?» Или: «О Иегова?»
– Он говорил: «О Дух мудрости!»
– А на что была похожа та тень?
– Не знаю. Она явилась из тьмы и растворилась в луче света, падавшем из окна, так быстро, что у меня недостало ни времени, ни отваги, чтобы ее рассмотреть. Но послушайте, учитель, я был уверен, что эти слова произнесли вы, я думал, что вы стояли у окна и говорили с самим собой…
Алексей недоверчиво покачал головой.
– Разве можете вы знать наверное, что не делали этого? Ведь вы в ту пору постоянно бродили по саду и были, как всегда, погружены в собственные мысли?
– Скажи, видел ли ты его еще когда-нибудь? – перебил меня Алексей с силой и страстью. – Ты не хочешь сказать мне всей правды, ты хочешь, чтобы я умер, не открывшись родственной душе, не завещав никому моей тайны! Ответь мне, по крайней мере, на другой вопрос. Когда в солнечные дни ты прохаживался в одиночестве по уединенным аллеям сада и, предаваясь горестным размышлениям, призывал на помощь милосердное провидение, не слышал ли ты за своей спиной звука чужих шагов?
Я вздрогнул и признался, что этот звук преследовал меня не далее как вчера в зале капитула.
– И ты никого не видел?
Я рассказал о чудесном действии, какое оказали солнечные лучи на портрет основателя монастыря. Отец Алексей исступленно сжал руки и несколько раз повторил:
– Это он, это он!.. Он избрал тебя, он тебя послал, он хочет, чтобы я открылся тебе. Что ж! Я расскажу тебе все. Слушай внимательно и оставь пустое любопытство. Прими мою исповедь, как принимают цветы на заре сладостную небесную росу. Слышал ли ты когда-нибудь о Самуиле Эбронии?
– Да, отец мой, если это то же самое лицо, что и аббат Спиридион.
И я пересказал ему все то, что услышал давеча от казначея. Отец Алексей презрительно пожал плечами и начал свой рассказ:
– В мире плотском люди завещают своим близким богатства материальные. Но бывают узы более благородные и наследство более святое. Тот, кто всю жизнь всеми возможными способами, напрягая все силы, искал истину и в результате усердных трудов и ученых занятий сделал кое-какие открытия в безграничной сфере умственной, тот, не желая унести с собой в могилу отысканное сокровище и позволить исчезнуть во тьме сверкнувшему перед его взором лучу света, спешит избрать среди своих современников человека более молодого, который был бы близок ему по духу и которому он мог бы перед смертью поверить свои мысли и знания, дабы святое дело не прекратилось за смертью первого труженика, дабы другие подхватили его, углубили и расширили и, продолжаясь из рода в род, оно в конце времен осуществилось бы сполна. И поверь, сын мой, что тому, кто берется за продолжение подобных трудов, кто принимает подобное наследство, потребен благородный ум и великое самоотвержение, ведь человеку этому известно заранее, что он не узнает той великой тайны, разгадке которой посвятит всю свою жизнь. Прости мне мою гордыню, дитя мое; быть может, она останется единственной наградой, которую получу я за всю мою многотрудную жизнь; быть может, она окажется единственным колосом, выросшим на каменистом поле, которое я всю жизнь рыхлил в поте лица моего. Я – духовный наследник отца Фульгенция, а ты, Анжель, станешь моим наследником. Отец Фульгенций был здешним монахом; в юности он имел счастье знать основателя монастыря, нашего высокочтимого учителя Эброния, или, как его именуют здесь, аббата Спиридиона. В ту пору Фульгенций сделался для Эброния тем, чем ты, сын мой, сделался для меня; он был юн и добр, неопытен и робок, как ты; учитель любил его, как люблю тебя я, и посвятил его не только в иные из своих тайн, но и в историю своей жизни. Таким образом, то, что я расскажу тебе, я знаю от наследника нашего учителя.
При рождении своем Петр Эбронии носил другое имя. Его звали Самуилом. Он был иудей и появился на свет в деревушке неподалеку от Инсбрука. Родные его, люди очень богатые, позволили ему самостоятельно избрать в ранней юности род занятий. Занятия же, к которым он с самого детства выказывал склонность, были самые серьезные. Он любил уединение и проводил дни, а порою и ночи в прогулках по скалистым горам и узким лощинам родного края. Часто усаживался он на берегу быстрых потоков или тихих озер и долгое время оставался недвижим, внимая плеску волн и пытаясь разгадать смысл, какой вкладывает природа в их голос. Чем старше он становился, тем любознательнее и серьезнее делался его ум. Родители поняли, что надобно дать ему солидное образование, и отправили его в один из немецких университетов. Прошло чуть больше ста лет со дня смерти Лютеpa, и память о нем и о его учении еще жила в сердцах и умах верных его учеников. Новая вера продолжала завоевывать сторонников и, казалось, переживала пору наивысшего расцвета. Реформаты пылали тем же рвением, что и в первые дни, хотя чувство их сделалось более просвещенным, более умеренным. Прозелитизм их ничуть не угас и каждый день завоевывал Лютеровой вере новых адептов. Слыша, как последователи Лютера проповедуют мораль и толкуют догматы, унаследованные лютеранством от католицизма, Самуил не мог сдержать восхищения. Будучи наделен от природы умом искренним и смелым, он тотчас сравнил те доктрины, о каких рассказывали ему теперь, с теми, в поклонении которым он был воспитан, и сравнение это помогло ему понять несовершенство иудаизма. Он сказал себе, что религия, которая создана для одного-единственного народа и отторгает от себя все остальное человечество, религия, которая не дает уму ни удовлетворения в настоящем, ни уверенности в будущем, которая презирает живущую в сердце человеческом благородную потребность в любви и дает людям в качестве закона одно лишь варварское правосудие, – такая религия не подобает прекрасным душам и великим умам, а тот, кто объявляет свою переменчивую волю средь громовых раскатов и внушает свои недалекие мысли рабам, объятым низким страхом, не может быть Богом истинным. Человек искренний и последовательный, Самуил всегда говорил то, что думал, и делал то, что говорил; поэтому, прожив год в Германии, он торжественно отрекся от иудейской веры и принял веру реформатскую. Не умея ничего делать наполовину, он решил, насколько было это в его силах, совлечься ветхого человека с делами его и облечься в нового [5] ; в эту-то пору он и поменял имя и из Самуила сделался Петром. В течение некоторого времени он исследовал новую веру и укреплялся в ней. Вскоре изощрил он свои познания до такой степени, что стал искать противников, с которыми мог бы поспорить, и возражений, которые мог бы опровергнуть. Отважный и деятельный от природы, он, не долго думая, взялся за предприятие самое трудное. Первым католическим автором, которого он принялся изучать, был Боссюэ. Приступил он к нему с некоторым пренебрежением; свято веруя в то, что религия, которую он только что избрал, есть средоточие чистой истины, он презирал все возможные нападки, которым может она быть подвергнута, и опрометчиво почитал смешными неопровержимые доводы Орла из Мо [6] . Однако ироническая его недоверчивость очень скоро сменилась изумлением, а затем и восторгом. Когда он увидел мощную логику и грандиозную поэзию, посредством которых французский прелат защищает Римско-католическую церковь, он сказал себе, что дело, отстаиваемое таким адвокатом, заслуживает по меньшей мере почтения, а затем, следуя естественному ходу мыслей, пришел к выводу, что великие умы посвящают себя лишь великим идеям. Тогда он принялся изучать католическую доктрину с тем же рвением и с тем же беспристрастием, что и доктрину лютеранскую, причем подспорьем служили ему не придирки и насмешки, к каким обычно прибегают сектанты, но разыскания и сопоставления. Он отправился во Францию, дабы получить сведения о церкви-прародительнице от славнейших ее священнослужителей, подобно тому как получил он в Германии сведения о реформатской церкви от священнослужителей-реформатов. Он свел знакомство с великим Арно, с Фенелоном – достойным преемником Григория Назианзина – и даже с самим Боссюэ. Под руководством этих наставников, чья добродетель внушала почтение к исповедуемым ими верованиям, он быстро постиг тайны католической морали и католических догматов. Он нашел в католицизме все то, что составляло в его глазах величие и красоту протестантизма, а именно веру в Бога единого и вечного, которую обе эти религии переняли у иудаизма, а равно и те догматы, которые, казалось бы, естественно вытекали из этого, главного, но которые, однако же, остались иудаизму чужды: веру в бессмертие души, в свободу воли в земной жизни и воздаяние за добрые и злые поступки в жизни загробной. Он нашел в католичестве ту возвышенную мораль, которая проповедует людям равенство, братство, любовь, милосердие, преданность ближним и забвение самого себя, причем мораль эта имела у католиков вид едва ли не более чистый и величественный, чем у адептов всех прочих вероисповеданий. Вдобавок он обнаружил в католичестве всемогущую силу и всеобъемлющую целостность, каких недоставало религии Лютера. Правда, эта последняя завоевала для людей право на свободу суждения, в которой натура человеческая также испытывает большую нужду, и провозгласила господство индивидуального разума; однако тем самым она отказалась от принципа непогрешимости, представляющего собой необходимое основание и условие существования всякой религии, явленной в откровении, ибо всякая вещь может существовать лишь в согласии с законами, предшествовавшими ее рождению, и значит, одно откровение может быть подтверждено и продолжено лишь с помощью другого. А непогрешимость и представляет собою не что иное, как откровение, длящееся по воле самого Господа или Слова, воплощенного в его наместниках. Лютеранская же религия, притязавшая на общее с католичеством происхождение и, следовательно, тщившаяся опереться на то же самое откровение, разорвала узы, которые от века связывали христианство в целом с этим откровением, и таким образом подорвала своими собственными стараниями здание своей веры. Подвергнув свободному обсуждению дальнейшее существование религии, некогда явленной в откровении, она тем самым поставила под сомнение и первоначальный ее этап, а следовательно, покусилась на тот неприкосновенный исток, который роднил ее с религией-соперницей. Поскольку ум Эброния жаждал в ту пору не критики, а веры и нуждался не столько в спорах, сколько в убеждениях, он естественным образом предпочел убежденность и властность католицизма свободе и сомнениям протестантизма. Тяга к католицизму лишь усиливалась в нем при виде тех следов священной древности, какие запечатлело время на обрядах церкви-прародительницы. Наконец, роскошь и блеск римско-католического культа представлялись этому поэтическому уму гармоническим и неизбежным выражением религии, явленной в откровении Богом славы и всемогущества. После продолжительных размышлений он признал себя искренне и всецело убежденным в превосходстве католической веры и принял новое крещение от самого Боссюэ. К имени Петр прибавил он имя Спиридион, дабы двойное это именование напоминало ему о том, как дважды воссиял ему свет духа. Решившись посвятить всю свою жизнь поклонению новому, католическому Богу, призвавшему его к себе, и все более и более глубокому постижению католического учения, он отправился в Италию и там на деньги, оставленные ему одним из родственников, который, подобно ему, перешел в католичество, выстроил тот самый монастырь, где пребываем мы с тобой. Верный закону, в согласии с которым были созданы первые религиозные общины, Эброний собрал вокруг себя монахов, прославленных умом и добродетелью, дабы вместе с ними отдаться поискам истины и с помощью науки споспешествовать утверждению и процветанию веры. Поначалу предприятие его, казалось, имело успех. Поощряемые примером самого Эброния, товарищи его в течение нескольких лет ревностно предавались ученым занятиям, молитвам и размышлением. Они избрали своим покровителем святого Бенедикта и приняли устав его ордена. Когда настал час избрать духовного главу, они единогласно остановили свой выбор на Эбронии, и папа римский утвердил это решение. Новый настоятель, гордый доверием братьев по духу, продолжил свои труды с еще большим рвением и еще большими надеждами, чем прежде. Однако иллюзии его очень скоро рассеялись. По прошествии недолгого времени он понял, что жестоко ошибся в отношении тех людей, которых избрал себе в соратники. Поскольку все они принадлежали к числу беднейших монахов Италии, то в первые годы пребывания в монастыре охотно выказывали рвение и тщание. Привыкнув к существованию суровому и многотрудному, они легко согласились выполнять волю Эброния и жить так, как предписывал он. Однако достаток развратил их, они стали отлынивать от работы и постепенно уподобились изъянами и пороками более богатым своим собратьям, чьи излишества, памятные им с прежних лет, оказали на них пагубное воздействие. Умеренность уступила место невоздержанности, трудолюбие – лености, добротворение – эгоизму; днем они больше не молились, ночью не бодрствовали; злословие и чревоугодие, две нечистые страсти, правили бал в монастыре; следом туда проникли невежество и грубость, обратившие храм, предназначенный для строгих добродетелей и благородных трудов, во вместилище постыдных наслаждений и подлой праздности.
Эброний, доверчивый от природы и погруженный в глубокие размышления, долгое время не замечал роковых превращений, производимых в непосредственной близости от него низкими плотскими инстинктами. Когда же он открыл глаза, было уже слишком поздно: не успев заметить, как и когда все эти жалкие душонки променяли добро на зло, отстоя от них слишком далеко, чтобы понять их слабости, он проникся к ним безграничным отвращением и, вместо того чтобы снизойти до этих грешников и попытаться возродить в их сердцах прежние добродетели, он с презрением отворотился от них и, навсегда порвав с людьми, устремил свой взор к небу. Однако, подобно ужаленному змеей орлу, который, несмотря на разливающийся по крылу яд, все-таки пытается взмыть к солнцу, Эброний, даже пребывая в возвышенном уединении, не мог забыть гнусные картины, поразившие его взор. Мысль о развращенности и низости примешивалась ко всем его богословским рассуждениям и, подобно постыдным язвам, пятнала саму идею веры. Несмотря на всю свою предрасположенность к мышлению отвлеченному, он не мог не отождествить отдельных католиков с католицизмом в целом. После этого, сам того не сознавая, он принялся искать в католической доктрине не сильнейшие ее стороны, как он это делал когда-то, а стороны слабейшие и опаснейшие. Незаурядная способность к исследованию и анализу помогла ему найти искомое незамедлительно, однако, подобно тем дерзким магам, которые сначала заклинали духов, а затем, когда те являлись на их зов, не могли сдержать страха, он сам ужаснулся собственным открытиям. Горячность молодости покинула его; он говорил себе, что, в третий раз отринув избранную им религию, не найдет четвертой, которая дала бы ему поддержку и опору. Поэтому он постарался укрепить свою пошатнувшуюся веру, а для этого решил взяться за чтение прекраснейших сочинений, писанных нынешними защитниками Церкви. Естественно, он возвратился к Боссюэ, однако образ мыслей его переменился, и то, что прежде казалось ему убедительным и неопровержимым, теперь предстало во многих отношениях спорным и даже неверным. Перечитывая рассуждения католического богослова, он вспомнил о возражениях протестантов и вновь восхитился свободой суждения, которой некогда пренебрег. Принужденный бороться в одиночку против учения непогрешимого, он перестал отрицать авторитет индивидуального разума. Больше того, вскоре он принялся использовать свободу суждения куда более дерзко, чем все ее прежние защитники. Поначалу он колебался, но, раз поддавшись порыву, уже не останавливался. Переходя от одного пункта христианского учения к другому, он дошел до первоначального откровения, подверг его тому же логическому анализу, что и все остальное, и заставил религию, желавшую спрятать голову на небесах, спуститься на землю. Дав вере этот решительный бой, он едва ли не поневоле продолжал наступление, стремясь воспользоваться плодами победы – роковой победы, стоившей ему многих горьких слез и многих бессонных ночей. Усомнившись в божественном происхождении отца христианской веры, он дерзнул потребовать у него и его преемников отчета в их земных деяниях. Он ставил вопросы, не зная жалости, и стремился дойти до самой сути. Он пришел к выводу, что христианство принесло людям много добра и в то же самое время много зла, что оно открыло великие истины, но в то же самое время примешало к ним великие заблуждения. На великом поле католической религии плевел выросло, пожалуй, ничуть не меньше, чем отборной пшеницы. Ум Эброния был устроен так, что мысль о Боге, который, будучи чистым духом, извлекает из самого себя материальный мир и способен уничтожить его точно таким же способом, каким он был создан, – мысль эта казалось ему порождением болезненной фантазии, плодом желания любой ценой изобрести хоть какую-нибудь теологическую доктрину. Вот собственные слова Эброния, которые он повторял очень часто: «Человеку подобает иметь суждения и верования, согласные с его восприятием; вправе ли он в таком случае утверждать, что возможно сотворить нечто из ничего, а затем снова превратить это нечто в ничто? Да и какую же постройку можно возвести на подобном фундаменте? Что делать человеку в этом материальном мире, порожденном чистым духом из самого себя? Человек был создан из материи, помещен в материальный мир Богом, которому открыто грядущее, и осужден сносить испытания, сущность и исход которых всецело зависят от Божьей воли; иными словами, осужден бороться против опасности, которой не может избежать, и искупать прегрешения, которых не мог не совершить».
Мысль о том, что людей, не спрашивая их согласия, обрекают на земную жизнь, полную опасностей и тревог, и на жизнь загробную, полную для большинства из них страданий вечных и неизбежных, исторгала из чистой души Эброния вопли боли и возмущения. «Да, – восклицал он, – да, вы, христиане, – прямые потомки тех неумолимых иудеев, которые, покорив город, истребляли в нем все и вся вплоть до детей, женщин и новорожденных ягнят, а Бог ваш – вошедший в силу сын того жестокосердого Иеговы, который говорил людям, ему поклонявшимся, только о гневе и мести!»
Итак, Эброний полностью разочаровался в христианстве, однако, не зная иной, лучшей религии, он, сделавшись осторожнее и покойнее, решился не давать повода для обвинений в непостоянстве и вероотступничестве и продолжал исполнять все внешние обряды той религии, от которой отрекся внутренне. Мало было, однако, расстаться с заблуждениями, следовало еще отыскать истину. Несмотря на все старания, Эброний не находил ничего на нее похожего. Тогда наступила для него пора страданий непостижимых и ужасных. Сражаясь один на один с сомнением, этот искренний и набожный ум ужаснулся своему одиночеству, и, словно у Христа в Гефсиманском саду, стал пот его как капли крови. А поскольку не имел он иной цели и иной страсти, кроме познания истины, и ничто, кроме нее, не интересовало его в мире земном, он предавался горестным размышлениям всей душою; взгляд его безуспешно блуждал в смутном мире, подобном океану без берегов, а рука безуспешно силилась достать до постоянно ускользавшего горизонта. Сомнения, в которых он тонул, были столь глубоки, столь безысходны, что голова его начинала кружиться, а разум – мутиться. Затем, устав от тщетных поисков и безнадежных попыток, он падал без сил, без мыслей, без желаний и всем своим существом предавался глухой боли, которую ощущал, но не понимал.
Однако у него оставалось еще достаточно воли, чтобы скрывать свои душевные терзания от окружающих. Бледность его чела, медлительность походки, слезы, украдкой стекавшие порой по впалым щекам, выдавали муки, терзавшие его душу, однако источник этих мук оставался неизвестен. Покров печали укрывал тайну настоятеля от глаз монахов. Он никому не открывал причину своей тоски, и потому никто не мог сказать, проистекала ли она от безнадежного неверия или от чересчур пламенной жажды веры, которую ничто на земле не способно было утолить. Впрочем, никто бы и не заподозрил аббата Спиридиона в безверии. Он с такой безукоризненной четкостью следовал всем предписаниям католической церкви и так образцово исполнял все ее обряды, что не давал врагам ни повода, ни причины для упреков. Неподкупная добродетель воздвигала преграду на пути пороков, которым предавались монахи, а неутомимое трудолюбие служило укором их подлой лености, и потому все они дружно его ненавидели и жадно искали способов его погубить; однако, не находя в его поведении и намека на прегрешение, они были вынуждены копить злобу и удовлетворяться зрелищем тех мучений, какие он причинял себе сам. Эброний видел монахов насквозь и, хотя и презирал их беспомощные потуги, возмущался их бессердечием. Поэтому в те редкие мгновения, когда он отвлекался от своих внутренних тревог и бросал взгляд вовне, он жестоко мстил монахам за их козни. Насколько мягко держался он с людьми добрыми, настолько же сурово порицал людей дурных. Сострадая слабым и сочувствуя немощным, он не прощал распутников и не знал жалости к лжецам. Больше того, верша сей справедливый суд, он, казалось, ненадолго забывал о своих терзаниях. Возвышенная душа по-прежнему алкала возможности творить добро. Утратив четкие правила и разочаровавшись в абсолютных законах, он, однако же, повиновался во всех своих поступках голосу некоего инстинктивного разума, которого не отринул бы и не ослушался ни при каких обстоятельствах и который указывал ему путь к истине и справедливости. Пожалуй, именно это и стало той нитью, что связала его с жизнью; ощущая зарождение в своей душе этих благородных чувствований, он говорил себе, что священная искра еще не полностью погасла в нем, что Господь, хотя и укрытый непроницаемым покровом от ума его, не оставил его сердце своим покровительством. Эта ли мысль или что-либо иное вдохнуло в него силы, но постепенно чело его просветлело, а глаза, поблекшие от слез, вновь обрели прежний блеск. Он с нерастраченным пылом взялся за недоконченные труды, а потому сделался еще большим затворником, чем прежде. Враги Эброния поначалу возрадовались, ибо сочли его уединенную жизнь следствием болезни, однако заблуждение их продлилось недолго. Настоятель не только не слабел, но с каждым днем набирался сил и, кажется, черпал бодрость в ежедневном исполнении нелегких работ, какое сам вменил себе в обязанность. С вечера до утра свет не гас в его окне, а когда любопытствующие подходили к его двери, желая узнать, чем он занимается, до их слуха неизменно доносился шорох стремительно переворачиваемых страниц или скрип пера, бегущего по бумаге, или покойные, размеренные шаги человека, который расхаживает по комнате, предаваясь размышлениям. Порой до слуха соглядатаев долетали даже невнятные речи, крики ярости или вопли восторга, при звуках которых они застывали на месте от изумления или спасались бегством, объятые ужасом. Монахи, не понимавшие причин печали аббата, не могли понять и причин его радости. Они принялись искать разгадку его блаженства, цель его трудов и, по неизбывной своей глупости, не нашли ничего лучше, кроме как заподозрить его в приверженности магии. Магии! Как будто великие люди стали бы унижать свой бессмертный ум, низводя его до колдовства, стали бы на страх малым детям вызывать из ада демонов с собачьими хвостами и козлиными копытами! Однако невеждам не понять логики человеческого духа, совам не узнать тех путей, какими орлы взмывают к солнцу.
Впрочем, презренная монашеская свора не осмелилась высказать свое мнение открыто и распространяла свои наветы тайно, не дерзая напасть на учителя в открытую. Ужас, который внушали этим глупцам привидевшиеся им колдовские проделки, охранял настоятеля куда более надежно, чем почтение, какого заслуживали его гений и добродетель. Монахи ожидали, что, подобно огню поядающему из облака, из глубокой тайны, окружающей аббата, родится некое страшное чудо. Благодаря этому Эброний смог провести последние годы, ему отпущенные, в спокойствии. Почувствовав же приближение смертного часа, он призвал к себе Фульгенция, к которому питал чувства отеческие. Он сказал Фульгенцию, что отличил его среди прочих монахов по причине искренности его сердца и пламенной любви ко всему прекрасному и истинному, что уже давно назначил его своим духовным наследником и что хочет открыть ему душу. Рассказав Фульгенцию историю своих исканий и дойдя до последнего периода, он на мгновение задумался, словно не осмеливаясь произнести слова решающие, окончательные, а затем промолвил: «Дорогое дитя мое, я посвятил тебя в историю всех моих борений, всех моих сомнений, всех моих верований. Я поведал тебе обо всем хорошем и обо всем плохом, обо всем истинном и обо всем ложном, что нашел я во всех религиях, какие исповедовал. Тебе быть судьей, тебе произнести приговор. Если ты сочтешь, что я не прав, если католическая религия, которую ты исповедуешь с самого детства, удовлетворяет в равной мере и твой ум, и твое сердце, тогда не следуй моему примеру, сохрани свою веру. Человеку надлежит оставаться там, где ему хорошо. Переход от одной веры к другой пролегает через такие бездны, что я не стану понуждать тебя к этому против твоей воли. Премудрость господня оделила каждое растение особой почвой и особым ветром: роза цветет на равнине, овеваемая бризом, кедр растет в горах, колеблемый ураганом. Есть умы дерзкие и любознательные, которые алчут истины и повсюду ищут ее одну; есть другие умы, более робкие и скромные, которым нужнее всего покой. Если бы ты походил на меня, если бы первой потребностью твоей души были знания, я без колебаний открыл бы тебе все мои мысли. Я дал бы тебе испить из чаши истины, которую наполнил я моими слезами, и не боялся бы напоить тебя допьяна. Однако ты, увы, не таков! Ты создан не для познания, а для любви, сердце в тебе сильнее ума. Ты привязан к католицизму – так, по крайней мере, мне кажется – узами чувства, которые ты не смог бы разорвать без боли; а сделай ты это, истина, во имя которой ты пожертвовал своими привязанностями, не вознаградила бы тебя за твои жертвы. Возможно, вместо того чтобы вселить в тебя силы, она бы их у тебя отняла. Для хрупких организмов эта пища слишком тяжела; одних она животворит, других же удушает. Я не хочу посвящать тебя в то учение, которое составляет гордость моей жизни и утешение моих последних дней, ибо тебе оно, возможно, не принесет ничего, кроме горя и отчаяния. Что знаем мы о душе ближнего? Однако же именно потому, что ты полон любви, от поклонения красоте ты, возможно, перейдешь к потребности в истине, и тогда, быть может, искренний ум твой возжаждет абсолюта. Я не хочу, чтобы в этот час ты тщетно призывал небеса на помощь и чтобы безнадежное невежество исторгало у тебя бесплодные слезы. Я оставляю тебе лучшую часть себя, квинтэссенцию своего ума; в этих нескольких страницах – плод целой жизни, посвященной размышлениям и трудам. Из всех сочинений, писанных мною бессонными ночами, оно одно не стало добычею пламени, ибо оно одно доведено до конца. В нем я высказал себя сполна; в нем – истина. А ведь мудрец велел не зарывать сокровище в землю. Итак, сочинению этому не должно попасть в руки тупых и жестоких монахов. Однако поскольку должно ему оказаться лишь в тех руках, какие достойны к нему прикоснуться, должно открыться лишь тем глазам, которые способны его прочесть, я хочу поставить перед наследниками своими одно условие, хочу подвергнуть их одному испытанию. Я унесу этот труд с собою в могилу, дабы тот из вас, кто захочет его прочесть, отважился одолеть ложные страхи и добыть мою рукопись из гроба, в коем упокоится мой прах. Слушай же мою последнюю волю. Лишь только я испущу дух, положи рукопись мне на грудь. Я сам спрятал ее в чехол из пергамента, который на несколько столетий убережет ее от тленья. Не позволяй никому дотрагиваться до моего тела; обязанность приготовить мой труп к отправлению в последний путь слишком печальна, никто не станет ее у тебя оспаривать. Облачи мои иссохшие кости в саван собственноручно и не спускай глаз с моих останков до тех пор, пока меня вместе с моим сокровищем не укроет земля; ибо и для тебя также не настал еще час познакомиться с написанными мною строками. Ты поверишь мне на слово, но веры твоей недостанет для того, чтобы отражать каждодневные атаки, которые обрушит на тебя католицизм. У каждого поколения, у каждого человека свои умственные потребности, предел коих обозначает и предел тех открытий и завоеваний, какие ему суждено предпринять. Лишь тогда, когда ум твой, подобно моему, ощутит нужду в полном обновлении, лишь тогда сможешь ты с пользою прочесть эти строки, которые я вверяю безмолвию могилы. Лишь тогда сбросишь ты без страха и сожаления старые одежды и с чистой совестью облачишься в новые. Когда этот день наступит, тогда, ни о чем не тревожась и не опасаясь прогневить Господа, не страшась ни камня, ни металла, открой мой гроб и без колебаний погрузи руку в ту горсть иссохшего праха, что прежде была мною. О! в этот час, кажется мне, мое остановившееся сердце затрепещет, подобно заледеневшей траве под первыми лучами весеннего солнца, а ум мой, прервавши круг бесконечных превращений, войдет в непосредственное сношение с твоим: ибо ум не умирает, ум вечно рождает другой ум и вечно его питает; он служит пищей тому, чему дает жизнь, и подобно тому, как в мире материальном всякое разрушение одного здания влечет за собою построение другого, так в мире умственном всякому порыву вдохновения служит ответом другой порыв, связанный с первым узами невидимыми; сообща поддерживают они огонь в святилище ума».
При этих словах жажда познания не разгорелась в сердце Фульгенция сильнее, чем прежде; учитель его был совершенно прав: час искать знаний для этого монаха еще не пробил. Вероятно, аббат мог бы открыть свою тайну людям, наделенным умом более острым и более дерзким; в ту пору он еще сумел бы отыскать таковых в своем монастыре. Однако – и это тоже очень вероятно – Спиридион не мог быть уверен в их искренности и бескорыстии; должно быть, он опасался, как бы сокровище его, попав в руки человека властолюбивого, не стало орудием земного могущества и мирской славы, а сделавшись известным человеку, чья душа бесплодна, а ум чужд любви, не оказалось источником безбожия и рассадником атеизма. Спиридион знал, что Фульгенций, как сказано в Писании, сделан из чистого золота и что он может не найти в себе сил воспользоваться завещанною святыней, но никогда не употребит ее во зло. Увидев, как смиренно и безропотно слушает возлюбленный ученик признания учителя, аббат с радостью почувствовал, что, решив предоставить ему выбор, поступил совершенно правильно, и взял с него лишь одну клятву – в том, что перед смертью и он в свой черед поведает о священном даре наследнику, достойному воспринять эту тайну. Фульгенций поклялся, а затем воскликнул:
– Но как же, учитель, узнаю я этого человека? А если никто не внушит мне достаточного доверия, могу ли я надеяться, что вы и из могилы возвысите свой голос, дабы выбранить меня за слепоту или робость? Ведь если свет погаснет, мне трудно будет самому отыскать дорогу во мгле.
– Никакой свет никогда не гаснет, – отвечал аббат, – а мгла, окутывающая то, что доступно разуму, легко рассеивается перед человеком великодушным и искренним. Ничто не пропадает; не умирает даже внешний облик человека; разве можно будет сказать, что я исчез из этого мира и что образ мой изъеден могильными червями, если он сохранится в сокровенных глубинах твоей памяти? Разве смерть разорвет узы нашей дружбы? Разве можно назвать ушедшим из жизни то, что сберегается в сердце друга? Разве для созерцания возлюбленного существа душе потребно зрение телесное, разве не является она сама зеркалом, в котором все отражения сохраняются вечно? Скорее море перестанет отражать небесную лазурь, чем образ любимого исчезнет из памяти любящего; да и художники, запечатлевающие физический облик человека на полотне или в мраморе, также даруют умершим род бессмертия.
Таковы были последние беседы Спиридиона с его другом. Между тем вскоре Фульгенцию довелось пережить целый ряд происшествий, о которых он не однажды рассказывал мне самым подробным образом и на которые я призываю тебя обратить самое пристальное внимание.
Фульгенций не мог свыкнуться с мыслью о близкой смерти учителя и друга. Напрасно врачи убеждали монаха в том, что настоятелю осталось жить совсем немного дней, ибо болезнь его вступила в такую фазу, когда медицина становится бессильна, а надежды – беспочвенны; Фульгенций не верил, что этот человек, чей ум и характер сохраняют прежнюю мощь, вот-вот испустит дух. Никогда еще не выказывал Спиридион такой ясности и выразительности в речах, такой тонкости в суждениях и такой широты во взглядах. Стоя на пороге иной жизни, он сохранял еще довольно энергии и силы, чтобы входить в мельчайшие подробности жизни земной. Не оставляя монахов своими попечениями, он увещевал каждого так, как тот заслуживал: злых горячо призывал возвратиться к добру, добрых укреплял отеческими наставлениями. Горе Фульгенция трогало и тревожило его куда больше собственных физических мук, а любовь к этому юноше заставляла забыть о том торжественном и страшном шаге, какой предстояло сделать ему самому.
Тут отец Алексей, видя, что глаза мои наполнились слезами, а губы припали к его ледяной руке, прервал свой рассказ: слишком сильно было сходство между нашим с ним положением и тем, какое он описывал. Он понял меня, с силой пожал мне руку и продолжал:
– Спиридион, предчувствуя, что после того, как прервется нить его жизни, нежное и страстное в своих привязанностях сердце Фульгенция не выдержит утраты и разобьется, пытался смягчить тот ужас, какой вызывает в сердце каждого католика мысль о смерти; он описывал своему ученику этот переход от существования скоротечного к жизни вечной тоном самым безмятежным и умиротворенным.
– Я плачу не о вашей смерти, – отвечал Фульгенций, – я плачу о нашей разлуке. Не ваше будущее тревожит меня, я знаю, что из моих объятий вы перейдете в объятия любящего вас Господа; но сам я останусь стенать на бесплодной земле, сам я осужден влачить безрадостное существование среди людей, из которых ни один никогда не заменит мне вас!
– О дитя мое! Не говори так, – отвечал аббат. – Провидение печется о людях добрых, о сердцах любящих. Отняв у тебя друга, который выполнил свой долг по отношению к тебе, оно подарит тебе в старости нового друга – верного товарища, любящего сына, преданного ученика, который скрасит твои последние дни так же, как ты скрашиваешь мои.
– Никто не сможет любить меня так, как я люблю вас, – продолжал Фульгенций, – ибо я никогда не буду достоин такой любви, какую вы внушаете мне; а если даже я и удостоюсь подобной награды в старости, то до этого пройдет еще так много долгих лет: ведь я еще совсем молод! Подумайте о том, как сильно буду я страдать все эти годы без поддержки и опоры, как плохо мне придется без ваших советов и вашего ободрения!
– Послушай, – отвечал ему аббат, – я поделюсь с тобой одной мыслью, она уже несколько раз посещала меня, но до сих пор я не придавал ей значения. Тебе известно, что никто не чужд так, как я, грубым выдумкам, к которым прибегают монахи, желая запугать паству; ничуть не больше нравятся мне экстатические видения, посредством которых невежественные фантазеры или подлые обманщики удовлетворяют свою ненасытную алчность или свое жалкое тщеславие; однако я верю в видения и сны, которым случалось порой внушать благодетельный страх или вселять животворную надежду в умы чистые, вдохновенные и набожные. Мне кажется, что самый холодный, самый просвещенный разум не может не верить в чудеса. К числу явлений сверхъестественных, которые не только не отвращают от себя мой ум, но, напротив, служат ему предметом сладостных мечтаний и смутных верований, принадлежат непосредственные сношения наших чувств с тем, что осталось в нас и вокруг нас от людей умерших, но горячо нами любимых. Я не верю, что труп способен отвалить камень от гроба и на какое-то время ожить, однако порой мне кажется, что некоторые части нашего существа не распадаются мгновенно, что перед тем, как исчезнуть навсегда, мы отбрасываем вовне отражение, которому отпущен более долгий срок жизни, чем нам самим, – так солнце, уже скрывшись за горизонтом, некоторое время еще продолжает слепить наши глаза своим блеском. Признаюсь тебе откровенно: в семье моей жило предание, которое я никогда не имел силы отвергнуть полностью. Согласно этому преданию, предки мои обладали такой огромной жизненной силой, что душа их, расставаясь с телом, переживала потрясение странное, неслыханное. В эти минуты умирающие видели, как собственный их образ отделяется от них и, двоясь, а то и троясь, предстает перед их взором. От матери я знаю, что мой дед-раввин утверждал перед смертью, будто видит по обе стороны своей постели призраки, похожие на него самого и одетые в ту одежду, какую надевал он в праздничные дни, отправляясь в синагогу. Надменному разуму так легко опровергнуть подобное предание, что я никогда не брался его опровергать. Предание это возбуждало мое воображение, и мне было бы огорчительно произнести ему приговор, не подлежащий обжалованию. Я вижу, что речи мои тебя удивляют. На твоих глазах я осуждал так сурово все фантазии наших духовидцев, высмеивал так безжалостно все их галлюцинации, что ты, того и гляди, сочтешь меня утратившим остроту и трезвость ума. Я же, напротив, ощущаю необычайный прилив умственной силы: мне кажется, что никогда еще я не различал так ясно те дали, какие открывает передо мною мир идей новых и неведомых. Когда для смертного наступает пора отказаться от услуг гордого разума, человек искренний, чувствуя, что ему нет больше нужды противиться страху смерти, отбрасывает щит и спокойным взором осматривает поле битвы, им покидаемое. В это-то мгновение он и может понять, что разум и наука, подобно невежеству и лжи, также страдают порою предрассудками и заблуждениями, так же грешат огульным отрицанием и узколобым упрямством. Да что я говорю! В это мгновение человек понимает, что человеческий разум и человеческая наука суть не что иное, как предварительные наброски, новооткрытые перспективы, за которыми открываются перспективы куда более далекие, бесконечные и неизведанные, и перспективы эти кажутся человеку непостижимыми по той причине, что скоротечность его жизни и слабость его сил не позволяют ему проделать хотя бы часть открывающегося перед ним пути. Иными словами, он понимает, что разум и наука его века могущественны лишь по сравнению с разумом и наукой века предыдущего, и с трепетом говорит себе, что те заблуждения, о которых он не может слышать без улыбки, казались его предшественникам последним словом человеческой мудрости. Он догадывается, что и его преемники будут так же смеяться над его премудростью, что все труды его жизни уподобятся дереву, которое однажды принесло плоды, а затем засохло и должно быть срублено под корень. Пусть же ощутит он в это мгновение свою ничтожность, пусть воззрит с философическим спокойствием на череду поколений, которые жили до него, и череду поколений, которые придут после него; пусть улыбнется при виде той промежуточной точки, где прозябал он сам – безвестный атом, незаметное звено бесконечной цепи! – пусть скажет: «Я пошел дальше моих предков, я приумножил или приукрасил сокровище, которое они завоевали». Но пусть не говорит: «То, чего я не сделал, сделать невозможно, то, чего я не понял, есть непостижимая тайна, те преграды, какие встретились на моем пути, не преодолеть ни одному смертному». Ибо подобные речи прозвучали бы кощунственно, и именно они послужили бы предлогом для разжигания тех костров, в какие инквизиторы бросают сочинения новаторские.
В тот день Спиридион не стал продолжать свой рассказ; он закрыл глаза и не промолвил больше ни слова. Однако назавтра он вновь вернулся к разговору, который, казалось, был ему приятен и отвлекал его от мучений физических.
– Фульгенций! – сказал он. – Что может означать слово «прошлое»? Какое действие может скрываться за словами «его не стало»? Не продиктованы ли эти слова заблуждениями наших чувств и беспомощностью нашего разума? Возможно ли, чтобы то, что существовало, исчезло полностью? Возможно ли, чтобы то, что существует, не существовало от века?
– Значит ли это, учитель, – спросил простодушный Фульгенций, – что вы не умрете? Или что я увижу вас и после того, как вас не станет?
– Меня не станет, но существование мое не прервется, – отвечал учитель. – Если ты будешь любить меня с прежней силой, ты будешь видеть, чувствовать, слышать меня повсюду. Облик мой будет стоять у тебя перед глазами, потому что его сохранит твоя память; голос мой будет звучать в твоих ушах, потому его сохранит память твоего сердца; ум мой будет беседовать с твоим умом, потому что душа твоя понимает меня и знает в совершенстве. Быть может даже, – прибавил он, охваченный неким вдохновением и как будто пораженный новой мыслью, – быть может, после смерти я открою тебе то, что мое и твое невежество не позволяют нам узнать и поведать друг другу. Быть может, твои мысли оплодотворят мои; быть может, семена, посеянные мною в твоей душе, принесут много плода, когда ты согреешь их своим дыханием. Молись, молись – и не плачь. Вспомни, как юный пророк Елисей попросил у Господа одной-единственной милости – чтобы дух пророка Илии был на нем вдвойне. Нынче, дитя мое, мы все пророки. Мы все ищем слово жизни и дух истины.
В свой последний час аббат соборовался с достоинством и спокойствием человека, который исполняет обряд, не веря в него, но уважая чужие верования. Он простился со всеми монахами, благословил их в последний раз, а затем обратился к Фульгенцию, который, видя своего наставника исполненным силы и покоя, надеялся, что кризис миновал и смерть отступила:
– Вели им уйти, Фульгенций; я хочу остаться с тобой наедине. Поторопись, я умираю.
Фульгенций в отчаянии повиновался; когда они остались одни, ученик, трепеща и проливая слезы, спросил, отчего учитель, с виду столь покойный, так твердо убежден, что жизнь его вот-вот окончится?
– В самом деле, я чувствую себя превосходно, – отвечал Спиридион, – тело мое и душа испытывают блаженство, какого не знали прежде, и я с радостью поверил бы, что дни мои вовсе не сочтены. И тем не менее смерть уже пришла за мной, это очевидно: только что я видел свой призрак, он указал мне на песочные часы и знаком дал понять, что пора удалить отсюда людей бесполезных или недоброжелательных. Взгляни: сколько еще песку осталось в часах?
– О учитель! меньше половины.
– Хорошо, дитя мое… Подай мне рукопись… положи ее мне на грудь и укрой меня саваном.
Фульгенций повиновался; на лбу его выступил холодный пот. Аббат взял его за руку и вновь повторил:
– Я не исчезаю полностью… Все частицы моего существа возвращаются к Господу, а часть меня переходит в тебя.
Сказав это, он закрыл глаза и погрузился в размышления. Через полчаса он открыл глаза и произнес:
– Ощущение неизъяснимое: никогда еще я не был так счастлив… Фульгенций, сколько еще осталось песку?
Фульгенций устремил взор, мутный от слез, на часы. Весь песок уже просыпался вниз, наверху оставалось всего несколько песчинок. Терзаемый невыразимой болью, он судорожно сжал руки учителя и почувствовал, как быстро они холодеют. Аббат отвечал ему рукопожатием сильным и твердым, а потом сказал с улыбкой: «Пора!»
В это мгновение Фульгенций ощутил, как рука теплая и даже горячая мягко опускается на его затылок. Он резко обернулся и увидел перед собою мужчину, очень похожего на аббата; незнакомец смотрел на него серьезно и любовно. Фульгенций перевел взор на умирающего; тот лежал, вытянув руки вдоль тела, закрыв глаза. Земная его жизнь окончилась.
Фульгенций не осмелился оглянуться. Охваченный ужасом и отчаянием, он припал к краю постели и на несколько мгновений лишился чувств. Однако очень скоро, вспомнив о возложенной на него обязанности, он собрался с духом и тщательно укутал тело возлюбленного учителя саваном. Уложив рукопись на грудь аббата, он, по обычаю, положил сверху распятие и сложил руки покойного на груди. Не успел он сделать это, как руки Спиридиона сделались тверды, как сталь, и Фульгенцию показалось, что ни одному человеческому существу не удалось бы вырвать рукопись у этого безжизненного тела.
В церкви Фульгенций ни на минуту не отлучался от гроба. Он простерся перед катафалком и оставался в этом положении, не взявши в рот ни крошки и не сомкнув глаз, до тех пор пока не настал час похорон: тогда он своими руками заколотил гроб, а затем своими глазами увидел, как его укрыли могильной плитой. После этого он пал ниц на эту плиту и омыл ее горькими слезами. В эту минуту чей-то голос шепнул ему на ухо: «Разве я покинул тебя?» Фульгенций не дерзнул оглянуться. Он закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Однако голос, который говорил с ним, без сомнения, принадлежал его другу. Меж тем под сводами храма еще звучали заупокойные песнопения, еще тянулась траурная процессия.
На этом, – продолжал отец Алексей, немного передохнув, – кончаются откровения, слышанные мною от Фульгенция. Он счел своим долгом поведать мне без утайки обо всем, что касалось жизни и смерти его учителя, однако, то ли из боязни оскорбить христианскую религию, то ли из безмерного почтения к памяти Спиридиона, не стал рассказывал мне о своих сношениях с тенью, которая исправно навещала его после смерти аббата. У меня есть основания полагать, что поначалу призрак являлся Фульгенцию очень часто, но монах так боялся этих свиданий и так старался их избежать, что со временем они сделались реже и мимолетнее. Фульгенций был человек нерешительный и робкий. Лишившись наставника, оказывавшего на него влияние постоянное и безраздельное, он испугался всего, что услышал, а возможно, и того, что совершил, схоронив в гробу рукопись. Никто лучше его не знал, сколь несправедливо было бы обвинять аббата, человека величайшей мудрости и острейшего ума, в колдовстве. И тем не менее, слыша после смерти Спиридиона разговоры о том, что он предавался этому гнусному занятию и вступал в сношения с демонами, Фульгенций ужаснулся как тем сверхъестественным происшествиям, которые свершились на его глазах, так и тем, которые, по всей вероятности, продолжали свершаться в его душе, а ужаснувшись, стал искать в тщательнейшем исполнении всех обязанностей христианина защиту от света, слепившего его немощный взор. Достойно восхищения, что человек этот, наделенный характером благородным и прямым, отыскал в сердце своем силы, которых недоставало его уму, и, устояв перед угрозами исповедников и перед их коварством, не выдал ни одной тайны своего учителя. Никто не узнал о существовании рукописи, а перед смертью Фульгенций в точности исполнил последнюю волю Спиридиона и открыл мне все то, о чем я сейчас рассказал тебе.
Спиридион записал в устав нашего аббатства особое правило, согласно которому всякий монах, пораженный тяжелой болезнью, вправе прибегнуть, помимо санитара, к помощи послушника или монаха, любезного его сердцу. Аббат ввел в действие это правило незадолго до смерти, в благодарность за то участие, какое принял в нем самом Фульгенций; Спиридион желал, чтобы Фульгенций и другие монахи в последний час были окружены заботой друзей и в ней черпали предсмертное утешение. Так вот, когда Фульгенция разбил паралич, он призвал к себе меня. Выбор его показался мне удивительным, ибо его окружало множество ревностных последователей и услужливых друзей, со мной же он был едва знаком и никогда и ничем меня не отличал. После смерти Спиридиона он в течение долгих лет претерпевал гонения от монахов, но в конце концов его кротость и доброта одержали верх над их злобной подозрительностью. Монахам наскучило требовать у Фульгенция, чтобы он открыл им местонахождение еретических трудов, вышедших из-под пера Эброния, и они решили, что настоятель их сжег. С тех пор как дух XVIII столетия просочился сквозь стены нашего монастыря, поиски философского камня вышли из моды. Среди братии имелся добрый десяток монахов-философов, которые тайком читали Вольтера и Руссо и в вольнодумстве своем заходили так далеко, что не соблюдали постов и мечтали о браке. Один лишь монастырский привратник, старик восьмидесяти лет, ровесник Фульгенция, примешивал к сегодняшней гордыне вчерашние суеверия. О старых временах он говорил с восхищением, об аббате Спиридионе – с таинственной улыбкой, а о самом Фульгенции отзывался пренебрежительно как о невежде и лентяе, который мог бы поделиться с братьями своим секретом и озолотить монастырь, но не делает этого из страха перед дьяволом и пустой заботы о спасении своей души. Тем не менее даже в мое время находились еще молодые умы, которых мучила загадка жизни и смерти Эброния. К их числу принадлежал и я сам; однако должен сказать, что, если загробная участь этой великой души и внушала мне некоторые сомнения, я не разделял нелепых страхов тех глупцов, которые не осмеливались молиться за Эброния, потому что боялись повстречаться с его тенью. Согласно предрассудку, который будет жить ровно столько, сколь будут существовать на земле монастыри, тень настоятеля была обречена скитаться по земле до тех пор, пока благодаря его раскаянию и людским молитвам перед нею не откроются двери чистилища. А поскольку монахи свято верили, что тени имеют обыкновение докучать живым, имевшим неосторожность помянуть их в своих молитвах, они остерегались молиться за аббата Спиридиона.
Что же до меня, я много размышлял над тем, что рассказывали послушники о тени аббата, которая являлась иным обитателям монастыря в прежние времена. Ни один из моих ровесников не утверждал, что видел или слышал Духа сам, однако из уст в уста передавались предания, сопровождавшиеся невежественными и трусливыми комментариями – обычными плодами монастырского воспитания. Старые монахи, гордившиеся своей просвещенностью, смеялись над этими сказками, не признаваясь, что в молодости сами их распространяли. Я же вслушивался в них с жадностью: воображение мое воспламенялось при звуках этих волшебных рассказов, а разум не стремился искать им объяснение. Особенно любил я одну историю, которую хочу рассказать тебе.
В последние годы аббат Спиридион взял за правило прогуливаться с полудня до часу дня по длинной зале капитула. То было единственное отдохновение, какое он себе позволял, да и этот час посвящал он размышлениям самым серьезным и самым мрачным; если кто-либо осмеливался прервать его прогулку, он приходил в бешенство. Поэтому послушники, желавшие о чем-нибудь его попросить, собирались в галерее, прилегающей к зале капитула, и там с трепетом ожидали, когда пробьет час дня; аббат, свято чтивший распорядок жизни, им же самим для себя установленный, никогда не заканчивал прогулку ни минутой раньше, ни минутой позже. Через несколько дней после смерти Спиридиона преемник его аббат Деодатий в начале первого вошел в залу капитула, а уже через несколько мгновений выбежал оттуда бледный как смерть и лишился чувств; братья, прохаживавшиеся по галерее, едва успели его подхватить. Что именно так напугало Деодатия, узнать никому не удалось, ибо поведать об увиденном в зале он наотрез отказался. С тех пор ни один монах не осмеливался входить в залу в этот час, а послушниками овладел такой страх, что они проводили ночи напролет в молитвах, а иные даже занемогли. Однако у некоторых любопытство превозмогло страх, и нашлись такие храбрецы, которые решились провести роковой час в галерее. Галерея эта, как тебе известно, расположена на несколько футов ниже, чем зала капитула. Пять стрельчатых окон залы, выходящих в галерею, в ту пору всегда оставались занавешены гардинами из красной саржи. Вообрази же, каковы были изумление и ужас отважных послушников, когда на фоне гардин перед их взором вдруг возникла высокая тень аббата Спиридиона, которую нетрудно было узнать по прекрасным развевающимся волосам! Послушники не только видели, как призрак прогуливается по зале из конца в конец; они слышали ровный и быстрый звук его шагов. Все обитатели монастыря пожелали стать свидетелями этого чуда; вольнодумцы – ибо таковые находились среди монахов уже в ту пору – заподозрили было в человеке, расхаживающем по зале, Фульгенция или еще кого-нибудь из прежних любимцев аббата. Однако очень скоро скептики убедились, что предположения их не имеют под собой никакого основания: все монахи, послушники и работники без изъятия собрались на галерее, а призрак продолжал разгуливать по зале, и пол, как и прежде, скрипел у него под ногами.
Все это продолжалось довольно долго. Монахи множили молитвы и мессы, дабы, как они говорили, упокоить эту неприкаянную душу, но чудо прекратилось, лишь когда со смерти Эброния прошел год. Однако весь следующий год монахи все равно не осмеливались переступать порог залы капитула с полудня до часу дня. Поскольку в монастырях всем вещам присваивают условленные наименования, этот роковой час назвали Miserere: ведь все то время, пока продолжалась прогулка призрака, послушники, назначаемые настоятелем, пели в галерее именно этот псалом. После того как призрак перестал являться в залу, она вновь сделалась доступной для монахов с полудня до часу дня, однако обитатели монастыря утверждали, что, если в полдень луч солнца падает на портрет Эброния, глаза его загораются и оживают.
Я никогда не смеялся над этим преданием, никогда не презирал его. Оно нравилось мне до чрезвычайности, и задолго до того, как я близко узнал Фульгенция, меня волновала судьба ученого аббата, чья мятежная душа, возможно, до сих пор не нашла упокоения на небесах из-за отсутствия друзей достаточно отважных или христиан достаточно набожных, чтобы вымолить ему прощение. Так простодушна была моя вера, что я вознамерился стать защитником Спиридиона перед судом Господа и каждый вечер перед сном с чувством молился за него и пел De profundis [7] . Спиридион умер за четыре десятка лет до моего рождения, однако потому ли, что меня пленяло величие характера этого человека, запечатленное во множестве дошедших до моего слуха историй, потому ли, что я смутно предчувствовал необходимость сделаться его наследником, но мысль о нем пробуждала в моей душе живое сочувствие и некую благочестивую нежность. Впрочем, я питал отвращение к ересям и, живо сожалея о том, что аббат Спиридион отдал дань этому заблуждению, предпочитал не слушать рассказов о его последних годах.
Осторожность, однако, заставляла меня скрывать сочувствие к Спиридиону. Монахи-инквизиторы не оценили бы чистоты моей симпатии. Решение Фульгенция, избравшего меня своим другом и утешителем, удивило меня не меньше, чем всех остальных. Иных решение это оскорбило, но никто не счел возможным поставить его мне в вину; я не искал дружбы Фульгенция, и потому никто не заподозрил меня в сговоре с ним. В ту пору я был самым правоверным и ревностным католиком; больше того, я с такой горячностью исполнял все католические обряды, что снискал если не расположение, то, по крайней мере, уважение настоятеля и его присных. Прошло уже четыре года с тех пор, как я принес обеты, но я еще не утратил пресловутой пылкости новообращенного. Я любил католическую религию со страстью, она казалось мне священным ковчегом, в котором я всю жизнь смогу чувствовать себя недосягаемым для волн и ураганов моих страстей; страсти между тем бурлили в моей душе, и я чувствовал, что они способны разбить все доводы мудрости, словно стеклянную перегородку; принудить меня к повиновению могли лишь те идеи, что скрывались за словом таинство, ибо они одни были способны приказывать моему воображению или, по крайней мере, усыплять его. Я лелеял мысль о божественном откровении, которое кладет конец всем спорам и обещает людям даровать в обмен на покорность ума вечное блаженство души. Откровение это казалось мне несравненно выше всех мирских философий, творцы которых тщетно ищут счастья в скоротечном мире и не умеют с помощью своих рассуждений побороть отпущенные ими же самими на волю инстинкты физические! Я овладел едва ли не всеми построениями схоластики и проповедовал богословие с воодушевлением апостола, употребляя все имевшиеся у меня способности к спору и анализу для прославления веры, не признающей ни анализа, ни споров.
Итак, на первый взгляд не было человека, менее подходящего для того, чтобы унаследовать тайну Эброния. Однако был в моей жизни поступок, доказавший старому Фульгенцию твердость моего характера. Один послушник рассказал мне о совершенном им проступке, и я посоветовал ему покаяться в содеянном своему духовнику. Он моего совета не послушался, прегрешение его сделалось известно, равно как и моя о том осведомленность. Молчание мое сочли едва ли не соучастием и, чтобы дать мне возможность обелить себя, попытались склонить меня к более подробному рассказу о прегрешении этого юноши, иначе говоря, к доносу. Вместо этого я предпочел взять вину на себя. В конце концов он во всем признался, а меня оправдали. Однако запирательство мое было сочтено великим грехом, и настоятель в присутствии всей братии бросил мне упреки в выражениях весьмах оскорбительных, особенно для человека с нравом гордым и обидчивым. Настоятель наложил на меня суровую епитимью и, видя изумление и уныние, которые этот приговор вызвал у собравшихся вокруг меня испуганных послушников, прибавил:
– Нам жаль карать так строго монаха, который до сих пор отличался столь исправным поведением и столь ревностным исполнением своего долга. Мы охотно простили бы вам этот проступок, ставший первым серьезным прегрешением в вашей монашеской жизни. Мы сделали бы это с радостью, если бы вы выказали больше доверия к нам, если бы вы смиренно склонились перед нашей отеческой властью и, признав свою неправоту, торжественно пообещали никогда более не выказывать такой строптивости, согласной лишь с мирскими представлениями о честности и порядочности.
– Отец мой, – отвечал я, – по всей вероятности, грех мой велик, раз вы осуждаете меня; однако Господу не угодны дерзкие обеты, и если мы не желаем его оскорбить, то должны возносить к небесам не клятвы, но смиренные пожелания и пламенные молитвы. Его проницательности нам все равно не обмануть, слабость же наша и самонадеянность не вызовут у Него ничего, кроме смеха. Итак, я не могу обещать вам того, чего вы требуете.
Такие речи монахам вести не пристало; однако вспыхнувшее в моей душе возмущение помогло мне ощутить, сколь велика разница между самой верой и тем, как используют ее люди в сутанах. Настоятель не знал, как опровергнуть мои слова. Поэтому он сказал мне с лицемерным состраданием и плохо скрытой досадой:
– Я буду вынужден оставить в силе свой приговор, раз вы не хотите обещать мне, что в будущем не совершите подобного проступка вторично.
– Отец мой, – отвечал я, – я предпочту принять наказание вдвое более суровое за то, что совершил сейчас.
Я исполнил обещание; я умерщвлял свою плоть так безжалостно, что мне приказали прекратить эти истязания. Карая себя сам по велению собственной гордыни, я становился неуязвим для кар, измышленных другими людьми, и таким образом, не подозревая об этом или, во всяком случае, этого не желая, настраивал против себя настоятеля с присными и вселял в их сердца тревогу. Характер мой благодаря этому эпизоду открылся с совершенно неожиданной стороны, и Фульгенций поразился моему упорству. У него даже вырвались удивительные слова: во времена аббата Спиридиона, сказал он, ничего подобного произойти не могло.
Тут уже поразился я и, оставшись наедине с Фульгенцием, спросил у него объяснения этих слов.
– Слова эти означают две вещи, – отвечал Фульгенций, – во-первых, что аббат Спиридион никогда не стал бы требовать от монаха, чтобы он выдал чужую тайну, а во-вторых, что, если этого попытался бы потребовать кто-нибудь другой, Спиридион покарал бы любителя доносов и вознаградил их ненавистника.
Я был донельзя удивлен этим признанием – быть может, единственным, на какое отважился Фульгенций за долгие годы монастырской жизни. Вскоре старик занемог и призвал меня ходить за ним. Поначалу он чувствовал себя со мною весьма принужденно и не желал объяснить, по какой причине выбор его пал именно на меня. Я же, хотя и очень хотел проникнуть в ход его мыслей, чувствовал, как нескромно было бы расспрашивать его на этот счет, и, не требуя объяснений, старался дать ему понять, что горжусь оказанной мне честью. Он был мне благодарен за отказ от расспросов, и вскоре отношения наши приняли характер нежной привязанности: он любил меня, как сына, я был предан ему, как отцу. Однако он по-прежнему не мог решиться доверить мне свою тайну, хотя мы с ним говорили о многом и по видимости совершенно непринужденно. Доброму старцу, судя по всему, нравилось вспоминать о годах его молодости и делиться с учеником тем восхищением, которое некогда вызывал в нем самом его возлюбленный учитель Спиридион. Я слушал Фульгенция с удовольствием, не испытывая ни малейшей тревоги относительно крепости моей веры; вскоре предмет этот сделался мне до такой степени интересен, что, когда старец заговаривал о чем-нибудь другом, я сам просил его вернуться к брошенному рассказу. Конечно, упоминания о таинственных трудах, каким посвятил Спиридион последние годы своей жизни, могли бы меня насторожить, не повествуй о них такой правоверный католик, как Фульгенций; однако все, что исходило от этого человека, казалось мне достойным полного доверия, а чем больше я узнавал из его рассказов о Спиридионе, тем с большей охотой отдавался тому странному и всепоглощающему чувству симпатии, какое внушал мне характер этого человека, и нимало не задумывался о его богословских убеждениях. Непритворная истовость и неподкупная прямота, какую выказывал Спиридион во всех своих поступках, затрагивала неведомые мне самому струны моей души. Постепенно я проникся к этому славному покойнику таким же нежным чувством, какое испытывал бы к другу, избранному среди живых. Фульгенций говорил о Спиридионе и событиях шестидесятилетней давности так, как если бы все это случилось вчера; очарование и правдивость нарисованных им картин были так велики, что я не мог им сопротивляться; в конце концов я начинал верить, что учитель находится среди нас или вот-вот к нам вернется. Подчас я оставался во власти этой иллюзии очень долгое время, а когда она наконец рассеивалась и я возвращался к реальности, то ощущал неподдельную печаль и сокрушался о своей ошибке с простодушием, которое вызывало у доброго Фульгенция и смех, и слезы.
Несмотря на смиренное терпение, с каким монах этот переносил свой недуг, несмотря на мое присутствие, скрашивавшее его жизнь и доставляшее ему радости откровенной беседы, было очевидно, что его непрестанно грызет какая-то забота; чем острее предчувствовал он свою кончину, тем невыносимее, кажется, становилась эта тяготившая его душу таинственная тоска. Наконец, когда смерть подошла совсем близко, он полностью открылся мне и сказал, что благодаря твердости принципов и характера я единственный, кто достоин узнать священную тайну. Твердость принципов должна была, по его мнению, уберечь меня от погружения в бездны ереси, а твердость характера – от искушения выдать секрет Спиридионовой рукописи. Фульгенций желал уберечь меня от знакомства с нею, однако добавил, что, по мнению Спиридиона, если бы я окончательно потерял веру и предался атеизму, рукопись его, хотя и сама не свободная от мыслей еретических, несомненно возвратила бы меня к вере в Бога и к основам истинной религии. В этом отношении рукопись представляла собою сокровище, которое не следовало оставлять под спудом, поэтому Фульгенций взял с меня клятву, что, если у меня самого не возникнет потребности познакомиться с творением Спиридиона, я не унесу его тайну в могилу и перед смертью передам ее надежному другу. Признания доброго старца были путанны и противоречивы. Казалось, его мучили сразу две совести: одну тревожил неисполненный долг дружбы, другую – боязнь адских мук. Тревога Фульгенция умиляла меня, и мне не приходило в голову строго судить его в минуту столь торжественную и столь мучительную. С другой стороны, я начинал ощущать себя в том же положении, что и он. Я был католиком и еретиком одновременно; творя одной рукой крестное знамение по законам Римско-католической церкви, я погружал другую руку в могилу Спиридиона, дабы напитаться духом мятежа и анализа или, по крайней мере, дабы стать этому духу защитником. Понимая вполне муки умирающего Фульгенция, я скрывал от него те муки, какие испытывал сам. Старый монах сохранял ясность ума до тех пор, пока потребность в признании боролась в его душе с сомнениями верующего. Однако лишь только он сделал выбор, как начал дряхлеть на глазах: память его ослабела, и очень скоро он, кажется, забыл все, вплоть до имени своего друга. На смертном одре он стремился в точности исполнить мельчайшие предписания Церкви, а я, оставаясь подле него, беспрестанно читал молитвы и пел псалмы. Он засыпал с четками в руках, а просыпался со словами: Miserere nobis [8] . Можно было подумать, что этими наивными мелочами он желал искупить то колоссальное усилие, какое совершил, исполняя последнюю волю своего друга. Зрелище это меня печалило. Чего же стоит целая жизнь, прожитая в покорности и ослеплении, думал я, если, дожив до восьмидесяти лет, человек обречен умирать, объятый ужасом? Как же переходят в мир иной распутники и безбожники, если святые встречают смерть, бледнея от страха и не веруя в справедливость Господнего суда?
Однажды ночью Фульгенцию стало хуже; его мучили кошмары. Он попросил меня посидеть рядом с ним и разбудить его, если он забудется сном. Ему постоянно мерещился приближающийся к его постели призрак; впрочем, спустя какое-то время он признавался, что никакого призрака не видел и те смутные и зыбкие формы, которые проплывали перед его глазами, порождены одни лишь страхом. Ночь стояла лунная, и это обстоятельство пугало Фульгенция особенно сильно. Именно в ту ночь, движимый эгоистическим любопытством, я вырвал у него признание, которое он не решался сделать прежде, и заставил его рассказать о встречах с призраком Спиридиона. Рассказ этот, однако, был весьма сбивчивым, ибо разум умирающего мутился. Мне удалось узнать только одно: призрак не являлся Фульгенцию больше пятидесяти лет, но примерно за год до начала смертельной болезни видение стало повторяться вновь. При полной луне Фульгенций просыпался и видел аббата Спиридиона. Тот сидел возле его постели, не говоря ни слова, и смотрел на ученика с видом печальным и суровым, словно упрекая его в забывчивости и напоминая ему о данном некогда обещании. Заключив из этого, что смерть близка, Фульгенций стал искать человека, которому смог бы доверить свою тайну, и понял, что выбор должен пасть на меня. Он не хотел говорить мне об этом заранее, чтобы не привлекать к нашим отношениям внимания настоятеля с присными и не подвергать меня гонениям с их стороны.
Ночь прошла спокойно; призрак не появился. На заре Фульгенций грустно покачал головой и сказал:
– Кончено; больше он не придет. Он приходил мучить меня, потому что был мною недоволен; теперь я исполнил его волю, и он меня покинул! О учитель, учитель! ведь ради вас я рисковал спасением моей души; быть может, любя вас сильнее, чем самого себя, я обрек себя на вечные муки!
Этот последний порыв любви, одолевшей страх, растрогал меня до чрезвычайности. Кто же был этот человек, который через шесть десятков лет после смерти продолжал внушать такой сильный ужас, оставаться предметом столь великой преданности и столь нежных сожалений? Фульгенций заснул и проснулся около полудня.
– Надежды нет, – сказал он, – с каждой минутой я все яснее чувствую, что жизнь оставляет меня. Возлюбленный брат мой, я хотел бы собороваться. Созови скорее братьев и скажи, что мне надобно причаститься святых тайн. Увы! – добавил он озабоченно. – Значит, я умру, так и не узнав, простила ли меня его душа! Я спал глубоким сном и не слышал его голоса. Сомнений быть не может, свою книгу он любил больше, чем меня! Я знал это и раньше! Я говорил ему, когда он еще жил среди нас: «Учитель, все ваши привязанности – от ума; сердцу вашему мы безразличны. Люди сильные не чета людям слабым. Сильные снисходят до того, чтобы просить нашей помощи, когда их дух доволен нами; мы – другое дело; одобряем мы спекуляции их ума или нет, сердце наше все равно хранит им верность».
– Не говорите так, отец Фульгенций, – воскликнул я и, охваченный невольным порывом, сжал его в своих объятиях; впрочем, я и не подумал принять на свой счет упрек, ко мне не относившийся. – Иначе вы в первый и единственный раз в своей жизни впадете в ересь. Люди, наделенные настоящей силой, способны на страстную любовь, и вы любили так сильно именно потому, что принадлежите к их числу. Не теряйте мужества в свой последний час. Если вы даже преступили законы Церкви ради того, чтобы сохранить верность дружбе, Господь простит вас, ибо для Него любовь выше ума.
– Ах! ты говоришь точно так же, как говорил наш учитель, – воскликнул Фульгенций. – За последние шестьдесят лет я впервые слышу слова, которые мне по душе. Благословляю тебя, сын мой. Повторю тебе благословение Спиридиона: «Да подарит тебе Всемогущий в старости друга верного и нежного, каким был ты для меня!»
Он соборовался, как самый набожный сын Церкви. У смертного его одра собралась вся братия. Те монахи, для которых не нашлось места в келье, преклонили колени на галерее; они вытянулись в два ряда от кельи отца Фульгенция до главной лестницы. Впереди были монахи, а за их спинами – послушники. Внезапно Фульгенций, который, казалось, впал уже в блаженное беспамятство, оживился и, привлекши меня к себе, прошептал мне на ухо: «Он пришел, он поднимается по лестнице; ступай ему навстречу». Не понимая этого приказания, но повинуясь ему с той покорностью, с какой мы обязаны исполнять волю умирающих, я тихонько вышел из кельи и, стараясь не обеспокоить молящихся монахов, устремил свой взор в сторону лестницы, которая в эту пору плавала в солнечной дымке. Внезапно глазам моим предстал человек, быстро поднимавшийся по ступеням. Походка его была разом и легка, и величава, как у человека деятельного и облеченного властью. По высокому росту и изящному облику, по развевающимся светлым волосам и старинному платью я сразу узнал его. Он был в точности такой, каким мне его не раз описывал Фульгенций. Пройдя сквозь двойной ряд молящихся монахов, которые вполголоса читали молитвы, он остался никем не замеченным, хотя я видел его так же ясно, как солнце на небе, и совершенно отчетливо слышал мерный звук его быстрых шагов.
Он вошел в келью. В ту минуту, когда он проходил мимо меня, я упал на колени. Не останавливаясь, он повернул голову и пристально посмотрел на меня. Я по-прежнему не сводил с него глаз. Он подошел к постели, взял Фульгенция за руку и сел подле него. Фульгенций не шевелился. Рука его бессильно покоилась в руке учителя; рот был полуоткрыт, взгляд мутен и неподвижен. Все то время, что звучали молитвы, призрак, не двигаясь, сидел подле умирающего. Когда же молитвы смолкли, Фульгенций внезапно сел и, судорожно сжав руку того, кто находился с ним рядом, громко выкрикнул: «Sancte Spiridion, ora pro nobis» [9] , после чего упал на постель бездыханным. В то же мгновение призрак исчез. Я огляделся, чтобы узнать, какое впечатление эта сцена произвела на остальных, однако их лица обличали такое спокойствие, что я тотчас понял: видеть призрака было дано мне одному.
Двадцать четыре часа спустя тело Фульгенция опустили в могилу; я был одним из четырех монахов, которым выпало поместить его гроб в склеп, находящийся в поперечном нефе нашей церкви. Ты, должно быть, не раз видел в центре этого нефа длинный узкий камень, украшенный странной надписью: «Hie est veritas».
– Надпись эта, – перебил я отца Алексея, – не однажды привлекала мой взор и занимала мои мысли во время молитв. Помимо воли я пытался разгадать смысл этой фразы, которая казалась мне противоположной духу христианства. Как, спрашивал я себя, может быть истина скрыта во гробе? Каких уроков могут живые ждать от праха умерших? Разве после того, как искра жизни покинет нашу бренную плоть, а душа освободится от земных уз, не к небесам должны мы обращать наши взоры?
– Теперь, – отвечал Алексей, – ты можешь понять таинственный смысл этой надписи. Спиридион, в ту пору восторженный поклонник Боссюэ, приказал художнику, рисовавшему его портрет, вложить ему в руку книгу епископа из Мо и начертать на ее переплете эти слова. Затем, когда, повинуясь своей неизменно прямой душе, он в последний раз переменил убеждения, то, дабы засвидетельствовать, что, какие бы метаморфозы ни претерпевал его ум, сердце его остается прежним, он решил сохранить этот девиз и повелел выбить его на своей надгробной плите. Благородная ревность отважного ума, который ничто не способно разлучить с его добычей и который желает покоиться в могиле вместе с открытой им истиной, как победоносный полководец – со своим военным трофеем! Монахи не поняли, что этот возглас умирающего никак не связан с учением Боссюэ; у некоторых, правда, слова эти вызвали смутные подозрения, однако почтение и страх, какие аббат продолжал внушать даже после смерти, были так велики, что никто не осмелился возвысить против его последнего желания свой святотатственный голос.
В день похорон Фульгенция плиту подняли, и мы спустились в склеп, где рядом с гробом Спиридиона было, согласно его воле, оставлено место для его друга. Дубовый гроб, который мы несли, весил очень много, ноги наши поскальзывались на крутых ступенях, братьев, помогавших мне, хилых подростков, пугала мрачная торжественность погребальной церемонии. Факел в руке монаха, шедшего первым, дрожал. Один из тех, кто нес гроб, оступился и, вскрикнув, покатился по ступенькам лестницы; крик его товарищей был ему ответом. Монах, показывавший дорогу, выронил факел, тот наполовину погас, и свет его сделался тускл и еще более мрачен. Робких юношей, вскормленных предрассудками грубой веры и заранее предубежденных против памяти аббата из-за распространявшихся в монастыре нелепых слухов, охватил ужас. По всей вероятности, они решили, что перед ними вот-вот предстанет призрак Спиридиона или что злой дух, пробужденный их криками, начнет изрыгать бледный огонь из темной могилы.
Что до меня, то я был более крепок телом и более стоек духом и потому ощутил волнение, но не испытал страха; мысль, что я приближаюсь к месту последнего упокоения великого человека, пробуждала в моей душе почтительную радость. Когда один из моих товарищей оступился и упал, я продолжал удерживать на своем плече гроб со священными останками учителя, однако после того как двое других монахов последовали примеру первого, я также не сумел устоять и рухнул вместе с гробом Фульгенция на гроб Спиридиона. Я тотчас поднялся, но, вставая, оперся рукой на свинцовый саркофаг, в котором покоился прах аббата, и был поражен тем, что вместо холодного металла ощутил тепло, казавшееся теплом жизни. Быть может, все дело в было в том, что при падении я слегка расшиб лоб и на саркофаг упали несколько капель моей собственной крови. Однако в первое мгновение я не заметил своей раны и, повинуясь странному, неизъяснимому влечению, припал губами к этому гробу с такой же страстью, как если бы прижимал к своей трепещущей груди останки родного отца. Впрочем, заметив, что в подземелье спустился еще один монах и что он, подобрав с земли факел, наблюдает за этой страшной сценой, я поспешил оторваться от саркофага.
О той ночи, что последовала за похоронами, я не могу вспоминать без смущения. Я преклонил колени на могильной плите Фульгенция, но мысли мои были заняты Спиридионом: пораженный бесстрашием его ума и чудесной силой, не иссякнувшей и через много лет после его смерти, я внезапно ощутил в себе страстное желание последовать его примеру. Юность надменна и дерзка, и дети мнят, будто им довольно протянуть руку, чтобы завладеть скипетром предшественников. Я воображал себя во всем подобным Спиридиону – настоятелем монастыря, обладателем таинственной книги, средоточием познаний и мудрости, способных перевернуть мир. Сущность доктрины Спиридиона была мне неизвестна, однако, что бы в ней ни содержалось, я принимал ее заранее, ибо знал, что она создана величайшим мыслителем своего века. Движимый этими чувствами, я был готов тотчас отправиться за книгой Спиридиона и уже начал обдумывать способы приподнять могильный камень, однако боязнь запятнать себя поступком святотатственным остановила меня, и все сомнения, внушенные религией, вновь проснулись в моей душе. Я был зачарован, измучен, напуган. Гордыня человеческая и христианское смирение сошлись в схватке, и я не знал, за кем останется победа, однако подозревал, что истребить чувство, которое за один час забрало надо мною такую власть, какую другое завоевывало в течение десяти лет, будет непросто. Внутренняя борьба эта длилась несколько дней. Наконец ум мой пришел на помощь гордыне, и вместе они победили. Вера уступила разуму, а покорство не устояло перед тщеславием.
Впрочем, я отрекся от католической веры не сразу, а по здравом размышлении. В ту пору, когда я дал уму моему право анализировать мою веру, я был еще так сильно привязан к этой обессилевшей религии, что льстил себя надеждой укрепить свои верования, переплавив их в тигле ученых штудий и серьезных раздумий. Если она рухнет от первого же натиска ума, говорил я себе, значит, она выстроена из материала чересчур ненадежного и непрочного. Закон, предписывающий разуму покорно склоняться перед таинствами и не стремиться их разгадать, был, надо думать, писан для умов слабых и беспомощных. Эти божественные таинства, по всей вероятности, суть не что иное, как возвышенные образы, смысл которых слишком обширен и слишком ужасен для умов ограниченных. Но возможно ли, чтобы Господь судил уму человеческому, Им же самим и порожденному, влачиться в потемках, имея путеводною нитью один только страх? Нет, подобное предположение оскорбительно для Господа; пророкам буква была так же внятна, как и дух. Отчего же душе, которая воспаряет над землей и жаждет вознестись к высотам мысли, не последовать примеру пророков? Чем больше тайн она раскроет, тем более твердо и мудро сможет отвечать атеистам. Ведь атеизм – дитя, которое боится себя самого, пусть даже воля его непреклонна, а цель величественна.
Вдобавок, говорил я себе, кто знает, не воздвиг ли Спиридион в своей книге памятник католицизму? Фульгенцию недостало мужества; быть может, осмелься он вступить в наследство, оставленное ему учителем, выяснилось бы, что все опасения напрасны. Быть может, обнаружилось бы, что после долгих колебаний и мучительных исканий Эброний, озарив свой разум светом нового знания, припав к неведомому прежде источнику силы, провозгласил в последнем своем сочинении победу тех самых идей, которые он в течение десяти лет подвергал всестороннему рассмотрению. Думая об этом, я вспоминал басню о крестьянине, который, желая, чтобы сыновья его работали не покладая рук, уверил их, будто на поле его зарыт клад, меж тем как истинным кладом была сама земля, нуждавшаяся, однако, в тщательной обработке. Спиридион, говорил я себе, рассуждал следующим образом: не стоит полагаться на чужие мнения, не стоит, подобно неразумным тварям, тупо следовать по пути, проложенному впереди идущими. Каждый обязан искать собственную дорогу к небу; того, чьи намерения чисты, а взор не затуманен гордыней, всякий путь приведет к истине. Вера только тогда по-настоящему действенна, когда избрана свободно, и только тогда подлинно тверда, когда удовлетворяет все потребности души и занимает все ее силы.
Итак, я решил приняться за серьезное и глубокое изучение природы Бога и человека, к книге же Эброния прибегнуть лишь в самом крайнем случае, иначе говоря, лишь если мои собственные силы окажутся недостаточны для исполнения дела столь нелегкого, если сомнения сменятся в моей душе отчаянием, а иссякшие способности не позволят мне продолжать начатый труд.
Решение это позволяло примирить потребности моего разума, которые влекли меня к постижению тайн науки, с потребностями моей души, которая оставалась по-прежнему привержена католической религии. Прежде чем утвердиться в своем намерении, я пережил множество тревог, изведал множество мук. Когда же решение было наконец принято, я в порыве радостного одушевления пожелал присягнуть своей новой философии на манер совершенно католический. Я дал обет, а именно обещал самому себе, что, какие бы жгучие сомнения ни терзали меня, какие бы блистательные прозрения меня ни осеняли, не стану прибегать к книге Эброния до тех пор, пока мне не исполнится тридцать лет. Именно столько лет было аббату Спиридиону, когда, отрекшись уже от двух предшествующих исповеданий, он страстно предался католицизму и поклялся ему в нерушимой верности. Мне было двадцать четыре года, и я полагал, что шести лет мне достанет для проникновения во все тайны и раскрытия всех загадок. Пребывая в этой уверенности, я вновь преклонил колени на могильном камне, которому в монастыре присвоили название Hic est, и там, в тишине и уединении, произнес вполголоса страшную клятву: прикоснувшись к книге Эброния прежде зимы 1766 года, я обрек бы свою душу на вечное проклятие. Памятуя о смятении, в которое приводит ум человеческий скорбная возвышенность ночных часов, я не захотел давать эту клятву во мраке ночи; я вознамерился сделать это в полдень, при ярком свете солнца. Стояла невыносимая жара; настоятель, как это случается летней порой, позволил всем обитателям монастыря предаться отдыху. Я остался в церкви совсем один; кругом царило абсолютное безмолвие; садовники прекратили работу, поэтому из сада также не доносилось ни единого звука; замолкли даже птицы, погрузившиеся в некое восторженное забытье.
Душа моя преисполнилась горделивого восторга, и я храбро вверил себя Провидению; в моем уме теснились мысли самые веселые и самые поэтические. Все предметы, по которым скользил мой взгляд, расцветали, казалось, неведомой красой. Золотые стенки дарохранительницы сверкали, как если бы на святыню снизошел божественный свет. Цветные витражи, вспыхивая от солнца и отражаясь в плитах пола, образовывали между колоннами целые мозаики из брильянтов и самоцветов. Мраморные ангелы, казалось, изнемогали от жары и от тяжести карнизов; они клонили лица долу, стремясь, подобно прекрасным птицам, спрятать прелестные головки под крыло. Мерный и таинственный ход башенных часов напоминал биение сердца, охваченного страстью, а тусклый белый свет лампады, ни на минуту не гаснущей перед алтарем, соперничал с сиянием солнца и служил мне эмблемой человеческого ума, который прикован к земле, но всякую минуту мечтает раствориться в немеркнущем свете ума божественного. Именно в это мгновение, объятый блаженством равно и умственным и физическим, я принялся произносить вполголоса слова своей клятвы. Однако при первых же моих словах дверь из сада тихонько отворилась и под сводами храма с неизъяснимой гармонией раздался звук шагов, которые я тотчас узнал, ибо ни одно человеческое существо не способно ступать таким образом. Шаги приблизились ко мне и смолкли лишь возле того места, где я преклонил колени. Исполненный почтения и радости, я возвысил голос и продолжил произносить свою клятву громко и внятно. Договорив, я обернулся, надеясь увидеть за своей спиной того, кого уже видел однажды у смертного одра Фульгенция, однако церковь была пуста. Дух явил себя лишь одному из моих чувств. По всей вероятности, я еще не был достоин вновь увидеть его. Он продолжил свое невидимое движение, и вскоре шаги его смолкли в отдалении. Тогда я пожалел о том, что не заговорил с ним. Быть может, думал я, ему не понравилось мое молчание; быть может, он ожидал от меня изъявления чувства более пылкого и не ответил мне лишь оттого, что ожидания эти остались тщетны. Тем не менее я не дерзнул последовать за ним, не осмелился просить его возвратиться; неудержимое влечение к нему смешивалось в моей душе с великим страхом. То был не ребяческий страх, какой испытывают люди слабые, сталкиваясь с явлением, нарушающим привычный ход событий и непостижимым для умов ограниченных. Эти редкие, выходящие из ряда вон случаи, какие совершенно напрасно именуют чудесными или сверхъестественными, какими бы необъяснимыми ни казались они мне по причине моего невежества, нисколько меня не страшили. Аббат был человеком столь выдающимся, что и после смерти внушал мне почти такое же безграничное почтение, с каким я бы отнесся к нему, будь он жив. Я не допускал, что некая невидимая сила наделила его правом вредить мне или меня пугать; я знал, что этот чистый дух читает в моей душе и понимает все происходящее в ней еще более ясно и глубоко, чем понял бы в ту пору, когда был еще скован узами материи. В отличие от людей пугливых и робких, которые дрогнули бы при его появлении, я боялся лишь одного – как бы он не счел, что я недостоин лицезреть его вторично. Потеряв надежду увидеть его в день моей клятвы, я опечалился и уверился в своем ничтожестве. К тому времени я уже убедил себя, что Спиридион перед смертью отринул ересь и что душа его не мучается в чистилище, но, напротив, пребывает на небесах и вкушает вечное блаженство. В его явлениях я видел знак милости Господней, небесное благословение, чудо, свершившееся ради Фульгенция и ради меня; память об этом наполняла мою душу радостью и гордостью, просить же о большем я не дерзал.
С того дня я со всем возможным пылом предался ученым трудам; меньше чем за два года я проглотил все книги монастырской библиотеки, в которых шла речь о естественных науках, истории и философии. Однако, сделав этот первый шаг, я обнаружил, что так и не сумел выйти за пределы того узкого круга, в который католицизм заключил мою прошлую жизнь. Я чувствовал себя усталым, а между тем ясно сознавал, что ничего не добился; я принялся за дело храбро и решительно, однако под тяжестью средневековых контроверз, отличающихся невероятной изощренностью и требующих немыслимого терпения, ум мой ослабел и изнемог. Вере моей в непогрешимость Церкви ничто не угрожало, ибо все сочинения, мною прочитанные, имели целью защиту и прославление римско-католических оракулов; однако именно потому, что я сражался, не имея противника, и одерживал победу, не подвергаясь опасности, душа моя оставалась холодна и не знала радости. Вера моя утратила ту бесшабашную мощь, то возвышенное поэтическое очарование, какие отличали ее прежде. Искры гения, сверкавшие порой среди вороха схоластических писаний, не искупали бесполезного пустословия остальных прочитанных мною книг. Вдобавок эти пламенные опровержения доктрин, знакомство с которыми было мне запрещено, не могли удовлетворить ум, вознамерившийся все познать и все понять самостоятельно. Я решился прочесть сочинения еретиков. В ту пору монастырская библиотека не располагалась, как ныне, в одном-единственном помещении. Собрание еретических авторов, безбожников и язычников, к чьим сочинениям столько раз обращался Спиридион, хранилось отдельно от священных книг, в комнате, куда молодым монахам доступ был запрещен. Находилась она за большой залой капитула, той самой, по которой аббат Спиридион любил прогуливаться до и после смерти. Редкостное это собрание вызывало у одних отвращение и страх, у других же – и эти последние составляли большинство – равнодушие и презрение. Почтение к памяти основателя монастыря не позволяло монахам уничтожить еретические книги, невежество и суеверие не позволяли знакомиться с ними. По всей вероятности, со времен Эброния я первым дерзнул стряхнуть пыль с этих драгоценных томов.
Решился я на это не без тайного страха; однако следует признать, что к страху примешивалось жгучее, радостное любопытство. Итак, волнение, владевшее мною, было скорее приятным, нежели мучительным; под своды святилища я вступил, так глубоко погруженный в свои чувства, что даже не подумал попросить разрешения у настоятеля. Между тем получить такое разрешение было, как ты сам понимаешь, Анжель, трудно, а то и вовсе невозможно; мне неизвестен ни один монах, который имел бы достаточно мужества, чтобы его испросить, или достаточно ловкости, чтобы его выпросить.
Что же касается меня, то я о необходимости получить разрешение даже не вспомнил. Борьба между жаждой познания и косностью веры, разворачивавшаяся в моей душе, была для меня в тысячу раз важнее любого спора с людьми. В тот день я, как это многократно случалось со мною на протяжении всей жизни, ясно ощутил, что мне нет никакого дела до внешнего мира и что единственное существо, способное меня устрашить, – это я сам.
Я мог бы, отперев дверь с помощью какой-нибудь отмычки, ночью, тайком проникнуть в кабинет, где хранились еретические сочинения, взять нужные мне книги и унести их в свою келью. Однако подобная осторожность, подобная скрытность претили моей натуре. Я вошел в залу капитула среди бела дня, ровно в полдень; уверенным шагом я пересек ее, нимало не заботясь о том, не идет ли кто-нибудь за мной по пятам. Я направился прямиком к двери… роковой двери, на которой судьба вывела для меня слова Данте: «Per me si va nell’eterno dolore». [10]
Я толкнул эту дверь с такой решительностью, с такой силой, что она отворилась, хотя была надежно заперта на замок. Я переступил порог и тотчас замер от изумления: в библиотеке кто-то был, и этот кто-то не пошевелился при моем появлении, не заметил грохота, с которым я открыл дверь, и даже не поднял на меня глаз. Однажды я уже видел его и не спутал бы ни с каким другим существом. Он сидел перед высоким стрельчатым окном, и солнце обнимало своими горячими лучами его светлые кудри; казалось, он полностью погружен в чтение. Полминуты я стоял неподвижно и любовался им, а затем бросился вперед, чтобы пасть на колени, однако кресло, где он сидел, уже опустело: видение растворилось в солнечном блеске.
Я был так потрясен, что в тот день даже не притронулся к книгам. Я подождал несколько мгновений, хотя и не льстил себя надеждой, что Дух явится вновь; тем не менее его мимолетное присутствие воодушевило и укрепило меня. Я ждал, ибо думал, что, если моя дерзость ему не по нраву, он известит меня об этом посредством какого-нибудь нового чуда; однако ничего необычного не произошло; в библиотеке царило такое спокойствие, что на мгновение я даже усомнился в том, что в самом деле видел призрак, и счел его плодом своего воображения. Назавтра я возвратился в библиотеку, нисколько не тревожась о том, что могли подумать монахи, обнаружив сломанный замок и отпертую дверь. Зала была пустынна и тиха; дверь в библиотеку, которую я давеча закрыл на задвижку, оставалась в том же самом положении, и было не похоже, чтобы кто-нибудь заметил мой проступок. Итак, я совершенно беспрепятственно проник в библиотеку, прикрыл за собою дверь изнутри и начал изучать корешки книг, толпившихся перед моим взором. Первым мне бросился в глаза том Абеляра, однако не успел я прочесть и нескольких страниц, как раздался звон колокола, созывавший на молитву, и, как бы ни претила мне необходимость действовать тайком, подобно преступнику, я решил спрятать драгоценную книгу под сутаной и унести с собой в келью. Ведь доступ в залу капитула был мне открыт всего один час в сутки, а утолить снедавшую меня жажду за столь короткое время я не мог. Я стал искать способы беспрепятственно продолжать чтение и решился действовать осмотрительно. Быть может, согласись я пойти на поклон к настоятелю и унизиться до просьб, я добился бы своего. Для этого, однако, я был чересчур горд; мне пришлось бы убеждать настоятеля в том, что, движимый неколебимой верой, я ощущаю страстное желание разбивать доводы еретиков и доказывать их несостоятельность. Меж тем это было бы ложью. Мною двигало желание познать истину; католическая наука больше не могла меня удовлетворить, и я стремился расширить круг изучаемых сочинений не ради торжества религии, а из любви к науке.
Я жадно проглотил творения Абеляра, изучил то, что дошло до нас от сочинений Арнольда Брешианского, Петра Вальда и других прославленных еретиков XII и XIII веков. Убеждения этих знаменитых людей, которые хотя бы отчасти взяли под защиту свободу выбора и права разума, так отвечали тогдашним потребностям моей души, что я зашел гораздо дальше, чем ожидал. Ум мой вступил в новую фазу, и, несмотря на все муки, какие я претерпел в ходе своего развития, несмотря на мой бесславный конец, я убежден, что поступил правильно. Да, Анжель, какие бы суровые испытания ни подстерегали нас на пути к истине, мы обязаны искать ее неустанно; лучше ослепнуть, глядя на солнце, нежели оставаться зрячим, не видя ничего, кроме земли, и пряча глаза от сияющего света. Итак, из весьма образованного католического богослова я превратился в пламенного еретика, тем менее склонного примиряться с учением римско-католической церкви, что, подобно Абеляру и прочим моим учителям, я был совершенно искренне и глубоко убежден в чистоте моей веры. В глубине души я не сомневался в своем праве и даже в своей обязанности верить только в то, что кажется мне понятным и полезным. Я был уверен, что взгляд этих философов на богодухновенность Платона и святость великих языческих философов, предшественников Христа, совершенно точно соответствует тем представлениям, какие христианин должен иметь о доброте, справедливости и величии Господа. Я сурово осуждал священнослужителей эпохи Абеляра и полагал, что на Санском соборе дух Господень пребывал не с гонителями, а с гонимыми. Если в мыслях своих я еще не ниспроверг в ту пору все здание католической религии, то лишь потому, что по природной уступчивости допускал: Церковь могла заблуждаться, наследники же сбившихся с пути прелатов не отказываются от заблуждений предшественников по причине покорности и осторожности, продиктованных соображениями сугубо человеческими и политическими. Я говорил себе, что на месте папы также отказался бы от мысли публично оправдать Абеляра и его школу, однако я был уверен, что не стал бы запрещать знакомство с их сочинениями и укрыл бы расположение к ним под покровом терпимости. Участь моя, впрочем, была достойна сожаления, ибо я подрывал авторитет Церкви, не помышляя о расставании с нею. Я стремился разрушить здание, на которое можно нападать только снаружи; я между тем находился внутри, и обломки накрыли бы меня с головой. Подобные удивительные противоречия нередко бывают присущи людям искренним и во всех прочих отношениях вполне рассудительным. Привычная неприязнь к протестантской церкви, привычная же, инстинктивная привязанность к церкви римско-католической заставляют таких людей хранить верность колыбели, в которой они взросли, тогда как неодолимое притяжение истины и потребность в независимости и справедливости влекут их из этой колыбели, давно уже сделавшейся тесной и неуютной, в иные края. Пытаясь разобраться в своих противоречивых ощущениях, я не замечал главного. Главное же заключалось в том, что я перестал быть католиком. Поверив, что еретики лишь усовершенствовали католическое учение, я стал поклоняться им с величайшим усердием; я так искренне восхищался их величием, так живо сочувствовал их несчастьям, что проникся к ним почтением едва ли не большим, чем к отцам церкви. Ведь отцы церкви безраздельно владели моей душою в прошлом, а теперь я нуждался в новых друзьях.
Сказать, что от Абеляра я перешел к Виклифу, от Виклифа к Яну Гусу, от Яна Гуса к Лютеру, а от Лютера к скептицизму, значит изложить историю человеческого ума на протяжении предшествующих столетий, ибо в своем умственном развитии я прошел, не пропустив ни одной, все стадии, какие переживало человечество. Этого требовала логика моего становления; однако, познакомившись с протестантизмом, я не мог уже вернуться назад. Вера моя в откровение пошатнулась; религия приняла форму сугубо философическую; я обратился к древним мыслителям, к учениям Пифагора и Зороастра, Конфуция и Эпикура, Платона и Эпиктета, одним словом, всех тех, кто еще до Иисуса Христа страстно желал разгадать тайну происхождения и предназначения рода человеческого.
В уме, предающемся занятиям спокойным и размеренным, в душе, которая ничем не связана с людским обществом и, ведя жизнь однообразную и лишенную событий, впитывает каплю за каплей жизнь небесную из источника вечно полного и вечно прозрачного, – в таком уме и в такой душе интеллектуальные превращения свершаются незаметно, так что невозможно отделить одну фазу от другой. Ты, милый мой Анжель, был когда-то малым ребенком и, взрослея постепенно, день за днем, незаметно для самого себя, сделался сначала отроком, а потом юношей; точно так же я сделался из католика реформатом, а из реформата философом.
До поры до времени все шло неплохо; до тех пор пока занятия мои сохраняли характер сугубо исторический, они доставляли мне живейшие умственные и душевные наслаждения. Я испытывал неизъяснимое блаженство, когда, освободясь от католических пут и оговорок, исследовал жизнь множества доселе неизвестных гениев, когда озарял свой разум великолепным светом множества доселе непонятых шедевров. Однако чем глубже я погружался в эти штудии, тем острее ощущал необходимость избрать себе какую-либо систему, ибо предчувствовал невозможность связать воедино все эти различные верования и доктрины. Я не мог верить в откровение после того, как получил столько драгоценных наставлений от многочисленных философов и мудрецов, не числивших среди своих заслуг особенных сношений с Господом. Я не считал, что апостол Павел богодухновенностью превосходит Платона; Сократ, казалось мне, был столь же достоин искупить грехи рода человеческого, что и Иисус из Назарета. Для меня было очевидно, что в Индии о Боге знали ничуть не меньше, чем в Иудее. Юпитер, каким описывали его великие языческие мыслители, представал, на мой взгляд, божеством, ничем не уступающим Иегове. Одним словом, сохраняя в душе величайшее почтение и чистейшую любовь к Распятому, я не видел никаких оснований, считая его сыном Божьим, отказывать в этом звании Пифагору; что же касается учеников этого последнего, они казались мне такими же пламенными апостолами веры, что и последователи Иисуса. Говоря короче: читая реформатов, я перестал быть католиком; читая философов, я перестал быть христианином.
Моим исповеданием веры сделались страстная тяга к Божеству и надежда на него, нерушимое чувство справедливости, величайшее почтение ко всем религиозным доктринам и всем философским учениям, любовь к добру и потребность в истине. Быть может, мне следовало прекратить поиски и жить спокойно, сочетая эти добрые чувства с великим смирением; однако именно этот покой, пожалуй, и недоступен для католика, именно в этом история личности отличается самым решительным образом от истории поколений. Течение времени преобразует природу человеческого ума. Отцы избавляются от своих заблуждений постепенно, неспешно, и тем не менее детям своим они сообщают понятия куда более ясные, чем те, какие имелись у них самих: ведь сами они до конца своих дней оставались скованы привычкой и привязаны к прошлому потребностями ума, порожденными этим прошлым, тогда как дети их, рождающиеся с другими потребностями, быстро приобретают другие привычки, которые на закате жизни этого нового поколения не мешают ему, однако, впитать зачатки новых идей, – тех самых, что будут вполне усвоены лишь следующим, третьим поколением. Таким образом, прошлое, настоящее и будущее присутствуют в жизни человека в разной мере. Если настоящее человека сформировано его прошлым – прошлыми трудами и прошлой мудростью, то будущее можно уподобить семени; возможно, оно даст плод, но человеку этому, как бы гениален и добродетелен он ни был, не удастся его отведать. Люди никогда не умели познать вечную истину сполна и всегда лишь смутно предчувствовали ее; поэтому они оставались христианами или, по крайней мере, считали себя таковыми, хотя на их глазах христианство меняло свой облик, переходя от учения апостола Павла к учению Блаженного Августина, от проповедей святого Бернарда Клервоского – к проповедям Боссюэ. Все дело в том, что эти перемены осуществлялись в течение долгих веков, отдельный же человек не смог бы ни пережить, ни совершить подобные перевороты, не лишившись рассудка или, по крайней мере, не свернув с того пути, какой был заповедан ему от века и каким он шествовал до тех пор, пока судьбу его вершили труд и воля.
Положение мое было самое ужасное! Рожденный в восемнадцатом столетии, я получил воспитание католическое и вполне средневековое; в двадцать пять лет я знал об античности немногим больше, чем монах одиннадцатого века. И вот из этого-то мрака я внезапно вознамерился прозреть и будущее, и прошлое. Я говорю о будущем потому, что, отброшенный собственным невежеством на шесть сотен лет назад, я воспринимал все случившееся за это время с изумлением; события и идеи, для других людей давно ушедшие в прошлое, представали передо мной во всем блеске новизны. Я находился в положении слепого, который, внезапно прозрев в полдень, пожелал бы еще до вечера составить представление о восходе и закате солнца. Разумеется, он имел бы право отнести оба эти зрелища к будущему, хотя в прошлой жизни солнце многократно всходило и садилось перед его незрячими глазами. Так и католик, стоит ему отворить свой ум свету истины, либо закрывает глаза от этого слепящего сияния, либо оступается и падает в бездну. Католик ничем не связан с историей человечества и сам не способен ничто связать с христианством. Он мнит, что начало и конец рода человеческого заключены в нем самом. Именно ради него была создана земля; именно ради него бесчисленные поколения мелькали на земле, словно бесплотные тени, и, отмеченные печатью проклятия, погружались в вечную тьму, дабы ужасная их участь служила примером и назиданием ему, католику; именно ради него Господь сошел на землю в человеческом облике. Именно ради славы и спасения католика адские пропасти беспрестанно наполняются жертвами, дабы верховный судия мог сравнивать грешников с праведниками, а католик, вознесшийся на небо, наслаждался там вечными стонами и сетованиями тех, кого он не сумел покорить своей власти при жизни: по этой-то причине католик и не находит себе в истории рода человеческого ни отцов, ни братьев. Он не питает сыновнего уважения и священной признательности ни к одному из великих людей, живших до него, исключая древних иудеев. Столетия, когда католицизм еще не появился на свет, в счет не идут; те, кто выступал против католицизма, осуждены на проклятие; те, кто решится с ним покончить, приблизят конец света, ибо в роковой день, когда римская церковь падет под ударами своих противников, с нею вместе повергнется в прах и весь мир.
Если же католик утрачивает свое слепое почтение к католической церкви, куда ему податься, где искать спасение? До тех пор пока он сохранит веру в откровение, прибежищем ему будет христианство, но если и откровение изменит, ему не останется ничего другого, кроме как плыть по океану времен, подобно суденышку, лишившемуся и руля, и компаса; ведь он не привык считать мир своим отечеством, а людей – своими братьями. Он всегда обитал на скалистом острове, куда не было доступа посторонним, никогда не вступал в сношения с окружающими. На мир он смотрел лишь как на возможную добычу католических миссионеров, на людей, чуждых его вере, – как на бессловесных и бездушных тварей, которых он один способен приобщить к цивилизации. В какую землю отправится он искать тайну небесного происхождения, у какого народа будет испрашивать наставлений человеческой мудрости? Он будет приставать к разным берегам, но не сумеет истолковать следы, которые там увидит. Письмена, запечатлевшие плоды человеческой науки, суть начертания, ему непонятные, как непонятна ему история сотворения мира. Вне римской церкви нет для него спасения, вне Священного Писания нет для него науки. Итак, для католика середины не существует: он обречен либо оставаться католиком, либо стать неверующим. Единственная истинная религия для него – та, какую исповедует он сам; разочаровавшись в ней, он разочаровывается и во всех остальных.
Именно к этому пришел в конце концов я, и к этому же пришел мой век. Разница между нами, однако, заключалась в том, что век мой пришел к этому постепенно, по воле Провидения, и нынешнее его положение нисколько его не тревожило: век не верил, но неверие его было исполнено безразличия. Утратив вкус к вере отцов, он наслаждался философической беспечностью, по всей вероятности, потому, что предчувствовал: Провидение не позволит семени жизни, дремлющему в его лоне, погибнуть от зимней стужи. Иное дело я, изверившийся христианин, я, вчерашний католик, пожелавший разом преодолеть ту дистанцию, какая отделяла меня от моих современников: радость победы, кружившая мне голову, была недалека от отчаяния и безумия.
Кто опишет страдания души, которая привыкла исполнять веления католической доктрины – терпеливо выверенной, безмерно пунктуальной, продуманной до мелочей – и вдруг очутилась в водовороте разнородных учений, ни одно из которых не унаследовало от католицизма ни его слепой веры, ни его наивного энтузиазма? Кто поймет, какая одуряющая скука дурманила мой ум в церкви после захода солнца, когда, преклонив колени, я вынужден был часы напролет слушать заунывное пение моих братьев, которое более не имело для меня ни смысла, ни очарования? Прежде, в пору, когда меня снедал религиозный жар, часы эти казались мне слишком коротки, теперь же они тянулись медленно, как века. Напрасно пытался я машинально произносить слова молитв, занимая мозг спекуляциями высшего порядка; ум работал, но сердце молчало. Молитва удивительна тем, что трогает самые возвышенные струны души, пробуждает самые человеческие оттенки чувства. Христианская же молитва отличается от всех прочих тем, что приводит в действие разом и духовные, и умственные силы человека. Ни в какой другой религии человек не чувствует себя стоящим так близко к своему Богу; ни в какой другой Бог не предстает исполненным такой безграничной отеческой любви и такого великого терпения, таким человечным, таким доступным и таким нежным. Аскетическая книга «Подражание Иисусу Христу» есть не что иное, как восхитительное рассуждение о дружбе – странной, неизъяснимой дружбе, не имеющей подобия в других религиях; узы этой тесной, доверительной, предупредительной, братской дружбы связывают Господа Иисуса Христа и благочестивого христианина. Разве может человек, познавший эту любовь, променять ее на привязанность к какому-либо земному существу? разве может земной ум удовлетворить в одно и то же время и в одной и той же степени все потребности сердца? Христианская доктрина смиряет все пылкие тревоги ума, говоря своему адепту: «Тебе нет нужды быть великим: люби и будь смирен; люби Христа, потому что он был смирен и кроток». Если же сердце, до краев наполненное любовью, готово излить ее на людей из плоти и крови, доктрина останавливает христианина, говоря ему: «Помни, что ты велик и не можешь любить никого, кроме Христа, ибо он один истинно велик и совершенен». Доктрина эта не стремится закалить плоть человека, сделав ее нечувствительной к боли; она расслабляет ее ради того, чтобы укрепить, она заставляет человека познавать наслаждение в муках. Эпикурейство учит человека обретать покой ценой умеренности; христианство учит находить радость ценою слез; разум стоика сносит пытку; энтузиазм христианина ищет мучений. Итак, философский камень христианства – это развитие умственной силы посредством изощрения нравственного чувства, молитва же есть неиссякаемый источник, в котором обе эти силы смешиваются и обретают новую жизнь.
Душа, подобно телу, имеет повседневные потребности; подобно ему, привыкает она удовлетворять эти потребности так, а не иначе. В бытность мою христианином и монахом я привык постоянно изливать в молитве любовь и восторг, переполнявшие мое сердце. Особенное блаженство доставляла мне вечерняя служба, во время которой я открывал Спасителю всю душу без остатка. В эту пору, когда день уже отошел, а ночь еще не опустилась на землю, когда своды храма освещает лишь дрожащий свет лампады, зажженной перед алтарем, а на еще бледном небосводе вспыхивают первые звезды, я обычно прерывал молитву и отдавался обуревавшим меня святым и сладостным чувствам. Место, где я молился, располагалось напротив высокого окна, узкий проем которого разрезал прозрачную синеву неба. Каждый вечер за окном зажигались три прекрасные звезды, которые, казалось, улыбались мне и озаряли мою душу лучом любви и надежды. Так вот: поэтическое чувство было во мне так тесно переплетено с чувством религиозным, а религиозное чувство так крепко связано с католической доктриной, что, перестав слепо подчиняться ей, я лишился всего – и поэзии, и молитв, и священного исступления, и пламенного вдохновения. Я сделался так же холоден, как те мраморные плиты, которые попирал ногами. Тщетно пытался я устремиться душою ввысь, к Творцу всего сущего. Прежде Он представал моему воображению в определенном облике, который теперь утратил; после того, как мысли мои сделались более возвышенны, а стремления – более грандиозны, разум мой явил мне Бога несравненно более могущественного и более совершенного, и этот новый Бог слепил мой взор; Его необъятность, равно как и безграничность сотворенного Им мира, напоминали мне о моем ничтожестве. Прежний облик, до какой-то степени доступный чувствам благодаря картинам и мистическим аллегориям, постепенно таял, уступая место бескрайнему Божьему лону, в котором я ощущал себя мельчайшим атомом, причем мысли мои не занимали в нем никакого места и не имели никакой цены, а Божество не снисходило до общения со мною иначе чем через посредство – посредство, можно сказать, роковое – жизни всеобщей. Итак, я больше не пытался сообщаться с Богом. Я был уверен, что этому исполину не пристало слушать меня; обращая к Нему свои мольбы или восторги, словно к земному царю, я боялся оскорбить Его небесное величие, боялся совершить поступок святотатственный. А между тем я по-прежнему ощущал потребность молиться, потребность любить и порой пытался смиренно и боязливо воззвать к этому грозному Божеству. Однако при этом я либо невольно возвращался к католическим оборотам и мыслям, либо произносил молитву собственного сочинения, столь странную и наивную, что сегодня она вызвала бы у меня улыбку, если бы не напоминала о невыносимых страданиях. « О Ты, – говорил я, – Ты, не имеющий имени и пребывающий в пределах недоступных! Ты, чересчур великий, чтобы слушать меня, чересчур далекий, чтобы меня услышать, чересчур совершенный, чтоб меня любить, чересчур сильный, чтобы обо мне пожалеть!.. Я взываю к Тебе, не надеясь на ответ, ибо знаю, что не должен ни о чем Тебя просить, знаю, что единственный способ заслужить Твое одобрение – жить и умереть в безвестности, не ведая ни гордыни, ни мятежа, ни гнева, страдать без жалоб, ждать без желаний, надеяться без притязаний…»
На этих словах я замолкал, устрашенный открывавшейся мне печальной участью рода человеческого, которую молитва моя, точно отражая мою мысль, изображала так коротко и безнадежно. Я спрашивал себя, как можно любить бесчувственного Бога, который влагает в душу человека влечение к небу, дабы тот ощутил весь ужас своего пленения и своей беспомощности; как можно любить Бога слепого и глухого, который гнушается даже повелевать молниями и так надежно прячется в золотом дожде своих светил и миров, что ни одно из этих светил, ни один из этих миров не могут похвастать тем, что видели или слышали Его. О, я куда охотнее имел бы дело с оракулом иудеев, с голосом, наставлявшим Моисея на горе Синайской; я охотнее имел бы дело со Святым Духом, воплотившимся в голубя, или с сыном Божьим, принявшим облик человека из плоти и крови, такого же, как я сам! Эти земные боги были внятны моему разумению. Ласковые ли, грозные ли, они слушали меня и мне отвечали. Гнев мстительного и сумрачного Иеговы страшил меня меньше, нежели бесстрастное молчание и ледянящая справедливость нового моего повелителя.
Вот когда в полной мере ощутил я всю пустоту, всю смутность той философии, имя которой – теизм; ведь, должен тебе признаться, именно в этой современной философии, вошедшей в большую моду, попытался я отыскать разгадку тех тайн, какие не сумел разгадать ни с помощью прочитанных книг, ни посредством напряженных раздумий. По всей вероятности, мне следовало воздержаться от знакомства с этой философией, ибо ничто не было так противно моему тогдашнему расположению духа, как она. Однако мог ли я это предвидеть? Разве не имел я оснований предположить, что самые передовые умы моего века сумели лучше меня извлечь выводы из всего, что успело изучить и пережить человечество? Мне этот опыт и эти знания были в новинку; мало кто из врачей смог бы предугадать, как сумеет мой организм переварить эту незнакомую ему пищу; между тем люди прилежные и простодушные, живущие вдали от света, имеют наивность искать в нашумевших писаниях своих современников средоточие премудрости и панацею от всех зол. Каково же было мое изумление, когда, готовый полюбить этих знаменитых французских авторов, навлекших на себя гнев Ватикана и оттого снискавших еще большую славу, я жадно открыл одно из тех дешевых изданий, какими Франция наводнила всю Европу, включая земли, пребывающие под властью самого папы, и какие свободно проникали даже под своды монастырей! Я не поверил своим глазам: так груба показалась мне критика, так слепа злость, так невежественны или легкомысленны рассуждения; я, однако, боялся, что судить беспристрастно мне мешают не полностью истребленные христианские предрассудки, и решил продолжить свое знакомство с литературой такого рода. По сути мнение мое не изменилось, однако довольно скоро я убедился в том, какую важную общественную роль играет критический и мятежный дух, готовящий крах инквизиции и освященного деспотизма всех родов. Постепенно привык я жить, видеть и чувствовать если и не точно таким же образом, как Вольтер и Дидро, то, во всяком случае, весьма сходно с их школой. Есть ли на свете человек, способный, пусть даже затворившись в монастыре, пусть даже ведя жизнь отшельническую, быть свободным от духа своего века? Привычки мои, симпатии и потребности отличались от тех, какими славились легкомысленные писатели моего поколения, однако те желания и стремления, какие еще сохранялись в моей душе, были бесплодны: я ощущал неизбежность и предначертанность великой философской, социальной и религиозной революции, но ни я, ни мой век не имели достаточно силы, чтобы отворить человечеству двери нового храма, в котором оно нашло бы прибежище от атеизма, холода и смерти.
Постепенно я и сам охладел настолько, что усомнился в собственных чувствах. Сомнения в доброте и отеческой любви Господа жили в моей душе уже давно, теперь же к ним прибавились сомнения в моей собственной сыновней любви к Господу. Я начал думать, что, возможно, привязан к Нему лишь по привычке, лишь благодаря данному мне воспитанию и что привязанность эта – вовсе не неотъемлемая принадлежность моей природы, а всего лишь одно из тысячи заблуждений, плод привычки либо предрассудка. Посему я стал истреблять в сердце своем дух милосердия с таким же тщанием, с каким прежде разжигал в нем небесный огонь. Глубочайшая скука охватила меня, и, подобно человеку, который не может жить, лишившись друга, я, лишившись предмета моей любви, чахнул и влачил свои дни в тоске.
Поглощенный этими тревогами и этими заботами, я едва заметил, как пролетели шесть лет. Шесть прекрасных лет, на которые пришлась моя зрелость, пали в бездну прошлого, а я не только не обрел ни счастья, ни добродетели, но даже не приблизился к ним. Юность моя растаяла, как сон. Любовь к учению, казалось, подавила во мне все прочие способности. Сердце мое дремало; не испытывай я порой при виде тех несправедливостей, жертвой которых становятся братья-монахи, и при мысли обо всех тех злодеяниях, которые творятся постоянно на нашей земле, приливов жгучего гнева и глубокого разочарования, я мог бы подумать, что во всем моем существе жив один только мозг, сердце же давно умерло. По правде говоря, обольщения, с которыми так мучительно сражались на моих глазах другие монахи, обошли меня стороной; можно сказать, что у меня вовсе не было юности. Покуда я был христианином, я любил только Бога; став философом, я не смог полюбить Божьи создания, не смог прилепиться душою к вещам земным.
Тебе, должно быть, хочется знать, Анжель, какое место среди новых моих привязанностей занимали память о Фульгенции и мысль о Спиридионе. Увы! Если вначале я поверил рассказам Фульгенция и собственным глазам, то теперь то и другое казалось мне всего лишь плодом воспаленного воображения, и я стыдился своей доверчивости. Современная философия обливала людей, верящих в призраки, таким презрением, что я не знал, куда деваться от мучительного воспоминания о собственной слабости. Такова гордыня человеческая: пусть даже внутренняя жизнь наша протекает в глубочайшей тайне, пусть даже о наших предрассудках и наших отречениях от прошлого не знает никто, кроме нашей собственной совести, все равно мы краснеем за свои заблуждения и желали бы скрыть их от самих себя. Я пытался забыть те чувства, какие испытал в пору душевной смуты, когда я пребывал в состоянии некоего исступления, когда во всем моем существе совершался переворот и жизненные силы, долгое время дремавшие в моем уме, вырывались наружу. Именно этими обстоятельствами объяснял я роль, сыгранную Фульгенцием и Эбронием в истории моего разрыва с христианством. Я уверял себя (и, возможно, не ошибался), что разрыв этот был неминуем; что он, так сказать, был мне написан на роду, ибо уму моему суждено было развиваться и идти вперед в любых условиях. Я говорил себе, что, не услышь я легенды об Эбронии, я нашел бы другой предлог для расставания с христианством, ибо я от рождения был обречен искать истину без отдыха и, возможно, без надежды. Изнемогая от усталости, впав в глубочайшее уныние, я, однако, с сомнением спрашивал себя, так ли радостен был утраченный мною покой. Простодушная вера моя осталась так далеко позади, сомнения же охватили меня так рано, что воспоминания о блаженстве неведения почти стерлись из моей памяти. Возможно даже, что этого блаженства я никогда и не знал. Для иных беспокойных умов бездействие есть пытка, а покой – оскорбление. Итак, оглядываясь назад, я не мог не испытывать к самому себе некоторого презрения. С тех пор как я взялся за нелегкий труд познания, я забыл, что такое счастье, но, по крайней мере, ощущал, что живу, и не стыдился того, что рожден на свет, ибо без устали трудился на ниве надежды. И если урожай оказался скуден, а почва бесплодна, виной тому была не моя лень, а бессилие рода человеческого.
Впрочем, я не забыл о существовании рукописи – возможно, драгоценной и, без сомнения, любопытной, – которая хранилась во гробе аббата Спиридиона. Я намеревался рано или поздно извлечь ее оттуда, однако для того, чтобы сделать это тайно, требовалось время; необходимо было действовать осторожно и, по всей вероятности, обзавестись помощником. Я не спешил браться за это дело, ибо ежедневно без счета тратил время и силы на дела другого рода. Конечно, я помнил о своей клятве извлечь рукопись из могилы в день, когда мне исполнится тридцать лет, однако ребяческий этот обет казался мне столь позорным, что я отгонял о себя мысль о нем; я решился ни в коем случае его не исполнять и не считал себя связанным клятвой, не имевшей для меня более ни смысла, ни цены.
Оттого ли, что я предпочитал не вспоминать о том, что я называл презренными обстоятельствами, при которых этот обет был дан, оттого ли, что ученые штудии увлекли меня еще сильнее обычного, но день, когда обет следовало исполнить, наступил совершенно неожиданно и незаметно для меня; возможно, он так и остался бы мною не замеченным, если бы не одно чрезвычайное обстоятельство, которое едва не переменило весь мой образ мыслей полностью.
Я по-прежнему тайком проникал в библиотеку, расположенную в конце залы капитула, и брал оттуда книги. Поначалу мне претило украдкой вкушать этот запретный плод, однако вскоре любовь к знаниям возобладала над сомнениями, рожденными честностью и гордыней. Я унизился до всех необходимых ухищрений; после того как сломанный мною замок починили, впрочем, не обнаружив злоумышленника, виновного во взломе, я сам изготовил подходящий ключ. Раз в неделю глубокой ночью я пробирался в святилище науки и обновлял свой запас книг, не привлекая к себе внимания и не вызывая подозрений – так, по крайней мере, мне казалось. Ночи напролет я читал, а утром прятал свои сокровища под соломенным тюфяком, который служил мне постелью. Спать я приспособился во время утренней службы; преклонив колени и укрыв лицо капюшоном, я погружался в неглубокий и часто прерываемый сон. Впрочем, убедившись, как сильно такой образ жизни вредит моему здоровью, я отыскал способ использовать церковные службы для чтения. Вложив свои мирские книги в обложку от молитвенника, я предавался их изучению, делая вид, будто поглощен чтением молитв.
Тем не менее, несмотря на все эти предосторожности, я навлек на себя подозрения; за мной установили слежку и поймали меня с поличным. Однажды ночью, не успел я проникнуть в библиотеку, как из залы капитула до слуха моего донеслись чьи-то шаги. Я тотчас погасил лампу и замер, надеясь, что нежданный досмотрщик явился не по мою душу. Шаги приблизились, и я услышал, как чья-то рука взялась за ключ, который я опрометчиво оставил снаружи в замке. Незнакомец повернул ключ на два оборота и вынул его из замочной скважины; затем он запер дверь на два тяжелых железных засова и, лишив меня таким образом возможности бежать, медленно удалился. Я остался один в темноте; враги мои имели полное право торжествовать победу.
Ночь показалась мне невыносимо долгой: тревога и обида, равно как и стоявший в библиотеке страшный холод, не позволили мне сомкнуть глаза ни на минуту. Особенно раздражало меня отсутствие света: из-за того что, заслышав шаги в зале, я погасил лампу, я даже не мог скоротать эту злосчастную ночь за чтением. Впрочем, я не думал, что подвергаюсь особенно большой опасности. Я льстил себя надеждой, что человек, заперший дверь в библиотеку, не видел меня. Я убеждал себя, что человек этот вовсе не желал мне навредить; по всей вероятности, он и не подозревал, что в библиотеке кто-то есть. Скорее всего, думал я, дежурный послушник просто-напросто решил навести порядок в зале капитула. Я упрекал себя в том, что струсил и сразу не заговорил с ним; ведь в этом случае мне было бы куда проще выбраться из библиотеки, чем при свете дня. Впрочем, говорил я себе, не все потеряно; послушник этот наверняка вернется утром, чтобы подмести залу; вот тут-то я и подам голос. В ожидании своего спасителя я не спал и, как мог, боролся с холодом, стараясь смотреть на вещи как можно более философическим образом.
Однако время шло, наступил день, бледное январское солнце взошло на небосклон, а из залы капитула до меня так и не донеслось ни звука. Прошел день, а я по-прежнему не знал, как выбраться на свободу. Я напрягал все силы, стараясь выломать дверь, но после первого взлома ее укрепили так надежно, что все мои попытки ни к чему не привели: замок не поддавался.
Прошли еще одна ночь и еще один день, а я по-прежнему оставался под замком. По всей вероятности, дверь в залу капитула заколотили. Ведь обычно в определенные часы ее заполняли монахи и послушники, теперь же она, казалось, опустела навеки; значит, пленение мое вовсе не было результатом случайности. Во-первых, залу не могли закрыть, не имея на то особых причин; во-вторых, в монастыре не могли не заметить моего отсутствия, а если оно обеспокоило настоятеля и его помощников, им следовало бы не запирать двери, а, напротив, отворить их все настежь и пуститься на поиски. Итак, было очевидно, что меня хотят наказать за мой проступок; меж тем наступил третий день моего заключения, и я начинал находить наказание это чересчур жестоким и чересчур напоминающим времена инквизиции, когда узники выходили из темницы на свободу лишь для того, чтобы в последний раз увидеть белый свет и испустить дух от истощения. Холод и голод мучили меня так сильно, что, как ни призывал я на помощь свой стоицизм, как ни старался до тех пор, пока не стемнеет, занимать себя чтением, но все же на третью ночь силы начали меня оставлять. Отчаяние овладело моей душой, и я решил больше не сопротивляться холоду и позволить смерти положить конец моим мучениям. Ноги у меня подкашивались; поскольку неведомый гонитель убрал из библиотеки кожаное кресло, стоявшее прежде перед окном, сесть мне было некуда, и я устроил себе ложе из книг. Завернувшись в сутану, я улегся на эту неуютную постель и забылся лихорадочным сном – как мне казалось, последним в моей жизни. Утратив физические силы, я, к своему удовлетворению, сохранил силу нравственную и не поддался искушению подать голос и позвать на помощь. Впрочем, единственное окно библиотеки выходило во внутренний двор, куда послушники забредали очень редко. Три дня я тщетно высматривал, не появится ли там кто-нибудь из обитателей монастыря; двор оставался пуст; по всей вероятности, дверь, ведущую туда, заколотили так же прочно, как дверь залы капитула. Итак, я был лишен возможности потихоньку подать знак человеку сочувствующему или безразличному; унизься я до просьб о помощи, мне пришлось бы оглашать воздух громкими криками. Меж тем я слишком хорошо знал, что в таких случаях сочувственники выказывают себя беспомощными трусами, противники же делаются тем более жестокими и мстительными, чем ниже падает их жертва. Я знал, что стенания мои вызовут у одних тупой страх, а у других свирепую радость; я понимал, что палачей мои жалобы приведут в восторг, и не хотел доставлять им подобного удовольствия. Итак, это искушение я преодолел; вдобавок от голода, которого я, впрочем, уже почти не чувствовал, я так ослабел, что криков моих все равно никто бы не услышал. Я положился на волю Провидения и мысленно воззвал к Эпиктету и Сократу, а равно и к Иисусу Христу – философу, замученному фарисеями и книжниками.
Несколько часов я пролежал в забытьи и очнулся лишь оттого, что часы в зале капитула пробили полночь. И тут до слуха моего донеслись негромкие шаги; мне показалось, что кто-то приближается к двери моей темницы. Услышав шаги, я не испытал ни радости, ни удивления; у меня не осталось больше ни мыслей, ни чувств. Тем не менее легкость и быстрота этих шагов, равно как и их торжественная четкость, пробудили в моей душе некие смутные воспоминания. Казалось, особа, которой они принадлежали, была мне знакома, и я испытывал инстинктивную радость от сознания, что ко мне приближается именно она, однако сказать, кто эта особа и при каких обстоятельствах я с ней познакомился, я не мог.
Меж тем дверь в библиотеку отворилась, и чей-то нежный и мелодичный голос произнес мое имя. Я затрепетал; мне почудилось, что я возвращаюсь к жизни, однако, как ни пытался я встать или заговорить, мне это не удалось.
– Алексей! – повторил тот же голос доброжелательно, но властно. – Неужели душа твоя сделалась такой же бесчувственной, как и твое тело? Отчего ты нарушил свой обет? Ты сам назначил этот день и этот час… Сегодня исполнилось тридцать лет с того дня, как ты появился на свет нагим и в слезах, подобно всем сыновьям Евы. Сегодня тебе надлежало возродиться, отыскав среди праха, в который обратились мои бренные останки, искру, коя вновь разожгла бы в твоей душе небесный огонь. Неужели покойники, выходя из могил, обречены встречать на земле живых людей, ставших холоднее и бесчувственнее трупов?
Я снова попытался ответить, но преуспел ничуть не больше, чем в первый раз. Тогда он продолжал со вздохом:
– Возвратись же к жизни телесной, раз уж жизнь духовная в тебе угасла…
Он приблизился и коснулся меня, однако я ничего не увидел; когда, совершив немыслимое усилие, я очнулся от летаргического сна и сумел встать на колени, в библиотеке вновь наступила тишина; ничто не напоминало о том, что еще недавно я был здесь не один.
Меж тем я ощутил дуновение холодного ветра; мне показалось, что дует от двери. Я с трудом добрался до нее. О чудо! она была открыта.
Безумная радость охватила меня. Я плакал, как ребенок, я целовал дверь, словно надеясь отыскать на ней следы рук, ее открывших. Не знаю, почему я был так рад вновь обрести жизнь, с которой еще недавно был так искренне готов расстаться. Спотыкаясь от слабости и ни на шаг не отходя от стены, я двинулся вперед по зале капитула. Шел я, как пьяный; чем сильнее хотелось мне покинуть эту роковую залу, тем труднее было отыскать выход из нее. Я блуждал в потемках, и смятенный мой ум обращал просторное и свободное помещение в запутаннейший из лабиринтов. Полагаю, что я скитался по зале капитула не меньше часа, пребывая во власти невыразимой тревоги. Философия, защищавшая меня до тех пор, пока я оставался под замком, больше ничем не могла мне помочь. Свобода и жизнь манили меня, но я не имел сил сделать шаг им навстречу. Кровь моя, на мгновение убыстрившая свой бег, вновь охладела. Я бредил, как в лихорадке. Тысячи видений проплывали перед моим взором. Ноги больше не держали меня, и, обессилев от усталости и отчаяния, я рухнул на пол подле холодной стены и вновь ощутил в себе решимость умереть. Однако мысли мои мутились, и мудрость, казавшаяся прежде нерушимым щитом, в ту минуту сделалась бессильна заслонить меня от страха смерти.
Внезапно воспоминание о голосе, который я слышал во сне, ожило в моей памяти, и, с ребяческой доверчивостью препоручив себя этому таинственному покровителю, я повторил слова, которые за мгновение до того, как испустить дух, произнес Фульгенций: «Sancte Spiridion, ora pro me».
И тут зала озарилась бледным светом, как если бы в ней вспыхнула молния. Свет этот погас только через минуту, и за это время я успел заметить, что исходит он от портрета основателя монастыря, а точнее – от его глаз; казалось, аббат желал показать мне вожделенную дверь из залы капитула, подле которой я, сам того не ведая, провел последнюю четверть часа. «Будь же благословен, о блаженный дух!» – воскликнул я и, ощутив внезапный прилив сил, бросился вон из залы.
Послушник, занятый в нижних залах некими приготовлениями, смысл которых остался мне непонятен, едва не принял меня за привидение. Впавшие щеки, воспаленные глаза, смятенный вид – все это так напугало его, что он выпустил из рук миску с рисом и факел, который я поспешил подобрать, прежде чем он успел погаснуть. Утолив голод, я возвратился в свою келью; спокойный сон подкрепил мои силы, и на следующее утро я смог отправиться в церковь.
Странная суета, царившая в монастыре, и звон всех колоколов навели меня на мысль, что грядет какая-то важная церемония. Я взглянул на календарь и, не обнаружив никакого религиозного праздника, решил, что от истощения я потерял счет времени и не могу определить, какой сегодня день. Я тихонько пробрался на свое место в церкви; никто не обратил на меня ни малейшего внимания. Монахи и послушники, чем-то озабоченные, погрузились, казалось, в глубокую задумчивость. Церковь была украшена, как в дни больших праздников. Началась служба. Меня удивило отсутствие настоятеля; я осведомился о его здоровье у соседа. Тот взглянул на меня с изумлением, принужденно улыбнулся, как если бы он не расслышал вопроса, и ничего не ответил. Я поискал глазами отца Донасьена, который, как мне было известно, ненавидел меня сильнее всех и которого я считал виновником моего пленения. Я заметил, что он тщетно пытается рассмотреть мое лицо, укрытое капюшоном, и убедился, что на его лице написаны удивление и страх: он явно не ожидал увидеть меня в церкви и, по-видимому, задавался вопросом, не призрак ли занимает мое место.
Я понял, что произошло, только к концу службы, когда монах, совершавший богослужение, прочел поминальную молитву о настоятеле, испустившем дух в полночь 10 января 1766 года, иначе говоря, ровно за час до того, как меня заперли в библиотеке. Тут-то я и догадался, отчего Донасьен, уже давно мечтавший стать во главе монастыря, заточил меня в библиотеке именно сейчас. Он знал, что я ничуть не уважаю его и что, как ни мало я стремлюсь к власти и как ни чуждаюсь интриг, все же и у меня могут найтись сторонники. Я имел репутацию опытного богослова, снискавшую мне почтение иных простодушных братьев; я славился справедливостью и беспристрастностью, сулившими всем равные права. Донасьен боялся меня: он уже два года занимал место помощника настоятеля и, подчинив своей воле его ближайшее окружение, сумел сохранить обстоятельства кончины старца в глубокой тайне; вне всякого сомнения, прежде чем огласить весть о его смерти, Донасьен решил повидаться со мной, выведать мои намерения и попытаться обольстить меня либо устрашить. Не найдя меня в келье и, как выяснилось впоследствии, хорошо зная мои обыкновения, он прокрался следом за мной в залу капитула, а затем, словно по недосмотру, запер дверь в библиотеку. Затем он лишил монахов и послушников доступа в залу капитула и внутренний двор, куда выходят окна библиотеки, чтобы мне неоткуда было ждать помощи, и лишь после этого объявил братии горестную весть и приступил к выборам нового настоятеля.
Благодаря своему влиянию на монахов Донасьен сумел нарушить все монастырские обычаи и правила устава. Вместо того чтобы на три дня выставить набальзамированное тело покойного в часовне, он приказал похоронить его как можно быстрее – якобы по той причине, что настоятель скончался от заразной болезни. Он пренебрег установленным порядком, сократил время, которое монахам надлежало провести в уединенных размышлениях, и уже собрался было приступить к выборам нового настоятеля, как вдруг – поистине чудом – я вновь обрел свободу. После окончания службы братия запела «Veni Creator», а затем каждый монах пал ниц на своем месте в церкви и провел четверть часа в молитве и вопрошании Господа. Когда часы пробили полдень, братия медленно потянулась в залу капитула, дабы принять участие в общем голосовании. В течение всей этой церемонии я сохранял величайшее спокойствие и полнейшее безразличие к происходящему. Меньше всего мне хотелось навязывать голосующим свою волю; даже имей я на это время, я пальцем бы не шевельнул для того, чтобы помешать Донасьену исполнить свой честолюбивый замысел. Однако когда из урны для голосования извлекли пятидесятый листок бумаги с именем моего врага и лицо его озарила победоносная ухмылка, я ощутил вполне естественный прилив негодования и ненависти.
Быть может, взгляни он на меня в эту минуту смиренно или, по крайней мере, боязливо, я простил бы его – из презрения; однако мне показалось, что он бросает мне вызов, и я имел глупость этот вызов принять и попытаться сбить спесь со своего врага, хотя, вступая с ним в схватку, сам опускался до его уровня. Я дождался окончания подсчетов. За меня подали всего два голоса. Итак, никто не заподозрил бы меня в корысти. В то мгновение, когда секретарь провозгласил имя Донасьена и тот с деланным смущением поднялся, дабы принять поздравления, я тоже поднялся и заговорил. С мнимым спокойствием, которое произвело действие особенно устрашающее, я объявил выборы недействительными.
– Они недействительны, – сказал я, – ибо устав ордена был грубо нарушен. Одного неучтенного или утаенного голоса довольно, чтобы опровергнуть решение всего капитула. Так записано в уставе аббата Спиридиона, и вот я, Алексей, монах этого ордена и слуга Господень, объявляю, что нынче не подал своего голоса, ибо, в отличие от других, не имел времени предаться уединенным размышлениям, поскольку меня – случайно или по злому умыслу – отстранили от общего обсуждения и, не зная до последней минуты о кончине нашего досточтимого настоятеля, я не имел возможности обдумать в спокойствии кандидатуру его преемника.
Речь моя прозвучала для Донасьена как гром среди ясного неба; доведя ее до конца, я сел на свое место и отказался отвечать на множество вопросов, которыми засыпали меня монахи. На мгновение дерзость моя смутила Донасьена, однако очень скоро он оправился и объявил, что мой голос не только бесполезен, но и не может быть принят в расчет, поскольку во время обсуждения кандидатуры нового настоятеля я искупал тяжкий грех, снося унизительное наказание, и, следовательно, в соответствии с уставом не имел права голосовать.
– Кто же установил степень тяжести моего греха? – осведомился я. – Кто дерзнул меня за него покарать? Помощник настоятеля? Он не имел на это права. Чтобы на законном основании отстранить меня от участия в голосовании, следовало созвать шестерых старейших членов капитула и подвергнуть мой проступок их рассмотрению; торжественно заявляю, что это сделано не было.
– А откуда вам известно, что это не было сделано? – спросил один из этих старейших монахов, принадлежавший к числу ревностных сторонников моего неприятеля.
– Я утверждаю, что это не было сделано, ибо я имел право быть об этом извещенным: о суде надо мной следовало уведомить сначала меня самого, а потом и всю братию; следовало, наконец, вывесить извещение об этом в церкви, прямо над моим местом, меж тем никакого извещения там нет и никогда не было.
– Прегрешение ваше таково, – воскликнул Донасьен, – что…
– Вам угодно называть тяжким мое прегрешение, – перебил я его, – мне же угодно высказаться относительно наказания, которому вы меня подвергли; объявляю вам, что почитаю его унизительным не для меня, а для вас. Скажите же, в чем заключалось мое прегрешение! Я требую, чтобы вы сказали об этом здесь, перед всей братией, а после я скажу, на какое наказание вы обрекли меня, не имея, впрочем, на это никакого права.
Видя, что я вне себя от гнева и что монахи с любопытством прислушиваются к моим словам, Донасьен поспешил положить конец нашему спору, призвав на помощь осторожность и хитрость. Он подошел ко мне и с сокрушенным видом попросил, во имя Спасителя рода человеческого, прекратить выяснение отношений, недостойное монахов и противное духу милосердия, который должен царить в монастыре. Он добавил, что я ошибаюсь, обвиняя его в кознях столь коварных, что речь наверняка идет о недоразумении, которое непременно разъяснится в ходе дружеской беседы.
– Что же касается ваших прав, брат мой, – продолжал он, – мне казалось и кажется до сих пор, что вы их утратили. Возможно, следовало бы подвергнуть этот вопрос обсуждению всей братии; однако вы обвинили меня в том, что я отстранил вас от участия в выборах, потому что видел в вас соперника. Подозрение это для меня столь тягостно, что я обязан рассеять его как можно быстрее. Посему объявляю, что желаю тотчас же включить вас в число соискателей. Умоляю братию снять с вас все обвинения и, вне зависимости от того, имеете ли вы на это право, позволить вам принять участие в следующем голосовании. Я умоляю братьев поступить таким образом, но при необходимости перейду от просьб к приказам; ведь до тех пор, пока не окончится голосование по вашей кандидатуре, этой досточтимой обителью управляю я.
Хитрая эта речь была встречена приветственными кликами; однако я воспротивился намерению возобновить голосование тотчас же. Я объявил, что желаю предаться уединенным размышлениям, причем, поскольку остальные удовлетворились тремя днями вместо предписанных сорока, я последую их примеру, однако вовсе лишать себя этого права не стану ни при каких обстоятельствах.
Донасьен зашел слишком далеко, чтобы пойти на попятный. Он сделал вид, будто задержка эта ничуть его не раздражает, и смиренно попросил братию не чинить мне никаких препятствий. Намерение мое вызвало, правда, некоторый ропот, но, вероятно, отнюдь не такой громкий, как надеялся Донасьен. Сильнейшая из всех страстей, владеющих монахами, – любопытство; братья сгорали от желания узнать тайну моих отношений с Донасьеном. Исчезновение мое удивило многих. Прежде чем подчиниться новому настоятелю, с виду такому медоточивому и кроткому, иные из братьев захотели получить более подробное представление об истинном его характере. Сведения такого рода надеялись они узнать от меня. Смирение, с каким Донасьен выслушал в присутствии всего монастыря обвинения, столь страшные для человека надменного и честолюбивого, одним казалось возвышенным, другим – разумным, большинству же – странным и сулящим немало бед. Против избрания Донасьена высказались тридцать монахов, не имевших, впрочем, единой кандидатуры, которую могли бы ему противопоставить. Было очевидно, что теперь они отдадут голоса мне. Три дня, посвященные новым размышлениям и сбору более подробных сведений, могли лишить Донасьена немалого числа сторонников. Это понимали все, и большинство, поначалу застигнутое врасплох и как бы одурманенное смутьянами, обрадовалось отсрочке, полученной моими стараниями.
Через час после того, как заседание, прошедшее столь бурно, окончилось, ко мне в келью уже ломились мои сторонники, ибо помимо воли я обзавелся сторонниками, и притом весьма пылкими. Донасьен пробуждал во многих сердцах жгучую ненависть, и я не погрешу против истины, если скажу, что все наименее подлые и наименее развращенные обитатели монастыря принадлежали к числу его противников. Тем временем я постепенно успокоился; лестные предложения, мне делаемые, не вызывали у меня ни малейшего желания ими воспользоваться. Я был честолюбив, но честолюбив на свой лад: монастырь был мне тесен, я мечтал о деяниях возвышенных, великих, как сама Вселенная. Мне хотелось бы сделать научное или философское открытие, постичь некую истину и возвестить о ней человечеству, породить одну из тех идей, какие воодушевляют целые поколения; я хотел править своими современниками, оставаясь, однако, в своей келье и не пятная рук грязью дел общественных; я хотел царить над умами посредством ума, над сердцами с помощью сердца, одним словом, уподобиться Платону или Спинозе. Понятно, что перспектива командовать сотней невежественных монахов нимало меня не прельщала. Убогие преимущества такой роли не вызывали в моей душе ничего, кроме отвращения; однако я понял, какие выгоды сулит мне мое положение, и не стал разочаровывать своих сторонников. К вечеру тридцать человек, проголосовавших против Донасьена, решили отдать свои голоса мне. Донасьена это не столько испугало, сколько разгневало. Он явился ко мне в келью и попытался меня запугать. Если я откажусь от своих притязаний, говорил мой враг, он не станет предъявлять мне обвинение в ереси, хотя еретические мои взгляды хорошо ему известны; если я удовлетворюсь той промежуточной победой, какую одержал, отсрочив выборы, все еще может кончиться хорошо для нас обоих; если же я по-прежнему буду стремиться занять место настоятеля, он расскажет всем о том, чем я занимался, что читал и даже о чем думал в течение последних пяти лет. Он угрожал открыть всем глаза на обман и непослушание, которыми я запятнал себя за эти годы: ведь я украдкой добывал запрещенные книги и во время богослужения, прямо в храме Господнем, приобщался к доктринам подлым и лживым.
Спокойствие, с каким встретил я его угрозы, сильно смутило Донасьена. По всей вероятности, он надеялся, что, увлекшись, я заговорю с ним о своих верованиях; возможно, он приказал своим приспешникам подслушивать нашу беседу нарочно для того, чтобы засвидетельствовать мое вероотступничество. Я, однако же, был настороже и мог убедиться, как легко человеку самому простодушному взять верх над человеком самым хитрым, если этот последний движим недобрыми чувствами. Разумеется, я был вовсе не так искушен в интригах, как мой хитрый и двуличный противник, однако презрение мое к предмету нашего спора сообщало мне большие преимущества. Непоколебимое хладнокровие служило мне надежной броней; чем спокойнее звучали мои ответы, тем в большее замешательство приводили они Донасьена. Он вышел от меня, окончательно сбитый с толку. Прежде, сказал он мне с деланной веселостью, он меня недооценивал. Он полагал, что я не интересуюсь ничем, кроме книг, и никогда бы не подумал, что я способен выказать столько осторожности и расчетливости в делах мирских. Хорошо бы, добавил он угрюмо, чтобы подозрения в ереси были с меня полностью сняты, ибо в этом случае я оказался бы наиболее подходящим кандидатом на звание настоятеля.
Назавтра мои тридцать сторонников принялись за дело так рьяно, что партия моя увеличилась еще на полтора с лишним десятка человек. Донасьена в монастыре боялись и ненавидели, поэтому люди трусливые легко согласились отказать ему в поддержке; однако все старые монахи по-прежнему хранили ему верность, ибо знали, что этот тайный атеист будет и дальше закрывать глаза на их пороки. Для монастыря нет ничего страшнее, чем настоятель искренне благочестивый. Такой настоятель чтит устав, для монахов страшный и ненавистный, он не дает им в спокойствии предаваться лени и излишествам; движимый пламенным рвением, он каждый день измышляет для них новые испытания, предъявляет к ним суровые требования, обрекает их на лишения и труды. Имея дело с горсткой фанатиков, Донасьен умело выдавал себя за ревнителя благочестия; имея дело с равнодушным большинством, он так же умело потакал слабостям каждого, хотя старался не нарушать правил и сохранял мнимое почтение к обрядам. Таким образом, он предоставлял злу безграничную свободу и с помощью чужих пороков удовлетворял собственные порочные наклонности. Подобный способ править людьми за счет их развращенности сулит верный успех; будь я фаворитом какого-нибудь короля, я непременно посоветовал бы ему чаще прибегать к этому средству.
Тем не менее монахи не спешили покориться власти Донасьена, ибо слишком хорошо знали его мстительный нрав. Всякий, кто однажды обидел его, искупал свою вину в течение долгих лет, поэтому обитатели монастыря опасались, что, став настоятелем, Донасьен начнет сводить счеты с теми, кого невзлюбил в бытность свою простым монахом. Люди слабохарактерные голосовали за избрание Донасьена исключительно из страха: они почитали этого человека всемогущим и боялись прогневить его своим неповиновением.
Однако стоило им узнать, что у Донасьена появился соперник, готовый их защитить, как они с легкостью изменили прежнему покровителю, и на третий день большинство уже изъявляло готовность голосовать за меня. Не могу выразить, Анжель, как больно мне было видеть эту скорую измену, продиктованную банальнейшим эгоизмом, но облыжно выдаваемую за плод уважения и любви. Заискивания этих подлых трусов мне претили; ничуть не меньшее отвращение и презрение вызывали у меня ласковые речи других интриганов, которые надеялись, что я и на посту настоятеля буду, как прежде, предаваться научным спекуляциям, а они тем временем станут править монастырем вместо меня.
– Вы победите, – заверяли меня эти низкие льстецы, покидая мою келью.
– Боже меня упаси! – отвечал я, подождав, пока за ними закроется дверь.
В день выборов на заре ко мне явился сам Донасьен. Всю ночь он не сомкнул глаз, я же, в отличие от него, спал совершенно спокойно. Увидев, что он меня разбудил, Донасьен спросил:
– Вы спите сном триумфатора. Неужели вы так уверены в своей победе?
Он притворялся спокойным, однако голос его дрожал, смятенный внешний вид обличал внутреннюю тревогу.
– Мой сон спокоен вдвойне, – сказал я с улыбкой, – во-первых, я твердо знаю, что одержу победу, во-вторых, победа эта мне глубоко безразлична.
– Брат Алексей, – отвечал Донасьен, – мастерство, с каким вы ломаете комедию, выше всяких похвал.
– Брат Донасьен, – согласился я, – вы совершенно правы. Я ломаю комедию, ибо вербую сторонников, чьими голосами не собираюсь воспользоваться. Не желаете ли у меня их выкупить?
– По какой же цене? – осведомился он, делая вид, что подыгрывает мне; однако губы его побледнели от нешуточного волнения, а в глазах горело неподдельное любопытство.
– Цена у меня очень скромная – моя свобода, ничего больше. Я люблю учиться и ненавижу повелевать: оставьте меня в покое, дайте мне полную независимость в стенах моей кельи. Я желаю получить ключи от всех монастырских книгохранилищ, доступ ко всем физическим и астрономическим инструментам и право распоряжаться средствами, которые основатель монастыря оставил на их содержание; я желаю поселиться в келье при обсерватории, которая пустует с тех пор, как умер последний монах, интересовавшийся астрономией; наконец, я желаю иметь право не присутствовать при богослужениях; исполните все эти условия, и вы не услышите обо мне ни слова, как если бы меня уже давно не было на свете. Я буду распоряжаться в башне, вы – в монастыре, и мы не будем иметь между собой ничего общего. Если я вмешаюсь хотя бы в одно мирское дело, можете приказать мне жить по уставу; но если вы обеспокоите меня хотя бы одним мирским делом, тогда – не сомневайтесь – я сумею еще раз доказать вам, что пользуюсь в монастыре некоторым влиянием. Раз в три года, когда вас будут переизбирать, мы будем продлевать наш договор – если, конечно, он вас устраивает. Согласны? Колокол зовет нас в церковь: поторопитесь.
Он согласился на все мои условия, но вышел от меня, ничему не веря и ни на что не надеясь. У него не укладывалось в голове, что, имея все возможности завоевать власть, можно по доброй воле от нее отказаться.
Мука, исказившая его лицо в то мгновение, когда выяснилось, что настоятелем большинством в десять голосов избран я, не поддается описанию. Он имел вид человека, который возносился к небесам, но в последнюю минуту был поражен молнией. Подумать только: держать меня под замком три дня и три ночи, быть уверенным, что я умер от голода и холода, – и вдруг обнаружить, что я не только жив, но и способен вырвать победу из рук соперника и занять место, столь для него желанное!
Все бросились обнимать меня; я безмятежно принимал поздравления, дожидаясь, чтобы и тот, над кем я одержал победу, также заключил меня в братские объятия. Когда он решился и на это унижение, я взял его за руку и передал ему знаки отличия, только что мне врученные: надел ему на палец кольцо, вложил в руку посох, а затем подвел его к кафедре и, опустившись на колени, попросил у него отеческого благословения.
Капитул остолбенел; поначалу мне стоило большого труда убедить братьев согласиться на эту замену победителя побежденным; однако в конце концов люди трусливые и слабодушные снова оказались в большинстве и снова поступили так, как хотелось мне. Голосование, проведенное в тот же день, желаемого результата не принесло, но назавтра моими стараниями настоятелем был избран счастливец Донасьен. Соперник мой почтил меня своим недоверием – до последней минуты он сомневался в моей искренности и подозревал, что я лишь притворяюсь смиренником ради того, чтобы на всю жизнь захватить безраздельную власть над монастырем. Как правило, человека, однажды избранного настоятелем, переизбирали на этот пост каждые три года до самой его смерти; тем не менее устав предписывал проводить выборы, и наличие влиятельного соперника могло осложнить положение победителя. Поэтому Донасьен полагал, что я выставляю напоказ свою добродетель и романическое бескорыстие ради того, чтобы раз и навсегда завоевать симпатии даже самых преданных его сторонников и быть уверенным, что через три года они мне не изменят. Должен, впрочем, заметить, что именно положение устава о перевыборах раз в три года обеспечило мне спокойную жизнь в монастыре. С того дня, как Донасьен был избран настоятелем, гонения, которым я подвергался прежде и о которых умолчал в своем рассказе, ибо они мало что значили в сравнении с муками куда более острыми и глубокими, прекратились. Впрочем, бояться меня и втайне натравливать на меня своих присных Донасьен перестал только совсем недавно, увидев, что дни мои сочтены.
Когда избрание его наконец состоялось и он убедился в искренности моих обещаний, признательность его приняла формы столь раболепные и преувеличенные, что я поспешил избавить себя от этой чести.
– Заплатите ваш долг, – шепнул я ему на ухо, – и не благодарите меня за поступок, который с моей стороны отнюдь не является жертвой.
Донасьен поспешил объявить, что предоставляет в полное мое распоряжение библиотеку и кабинет, отведенный для научных коллекций и изысканий. В тот день я получил полную свободу для выбора занятий и все возможности для учения.
Желая поскорее переселиться в новую келью, я направился к выходу из залы капитула, но перед тем как покинуть ее, случайно взглянул на портрет основателя монастыря; в эту минуту воспоминание о сверхъестественных событиях, происшедших в этой зале совсем недавно, явилось мне с такой потрясающей ясностью, что я задрожал от ужаса. Заботы, связанные с выборами настоятеля, не оставляли мне времени на то, чтобы обдумать случившееся; вернее сказать, та часть мозга, которая сберегает впечатления, именуемые поэтическими и чудесными (ибо язык наш не имеет выражений, способных описать то, что ниспосылается нам Богом), оцепенела и не побуждала мой разум как-либо объяснить чудесное мое освобождение из темницы. Если я и вспоминал об этом чуде, то лишь как о некоей туманной грезе – так вспоминают о поступках, совершенных во хмелю или в жару. Итак, я взглянул на портрет Эброния и совершенно отчетливо увидел его живые и горящие глаза; воспоминания о прошлом так причудливо переплелись с впечатлениями настоящего, что мне почудилось, будто портрет снова оживает и смотрит на меня глазами, полными жизни. Однако на сей раз взгляд этих глаз выражал боль и упрек. Мне показалось даже, что они наполнились слезами. Я едва не лишился чувств. Никто не обращал на меня внимания, и только мальчик двенадцати лет от роду, племянник одного из монахов, учившийся у него богословию, по чистой случайности очутился перед портретом и тоже взглянул на него.
– Отец Алексей! Смотрите! – вскрикнул он с ужасом, ухватив меня за край сутаны. – Портрет плачет!
Сделав огромное усилие, я взял себя в руки и ответил:
– Замолчите, дитя мое; сегодня подобные речи неуместны более, чем когда-либо; вы можете навлечь опалу на вашего дядюшку.
Мальчик не понял моих слов, но испугался и, сколько мне известно, не сказал никому о том, что увидел. Вскоре он заболел и год спустя скончался в доме своих родителей. Я не знаю подробностей его смерти, но до меня дошли слухи о том, что в последние мгновения ему явился некто, кого он именовал «pater Spiridion». Мальчик этот был исполнен веры, кротости и ума. Я не успел как следует узнать его на земле, но верю, что еще встречусь с ним в сферах более возвышенных. Он принадлежал к числу тех существ, которые не могут долго оставаться на нашей земле; тело их еще живет земной жизнью, а душа уже отчасти пребывает на небесах.
Несколько дней я наводил порядок в обсерватории, отыскивал мои любимые книги и расставлял их на полке у себя в келье, одним словом, обживался в новых своих владениях. Монастырь еще не успокоился после выборов настоятеля: одни строили планы на будущее, предаваясь честолюбивым мечтаниям, другие, обманувшиеся в своих надеждах, утешались, предаваясь излишествам, я же тем временем радовался, как дитя, возможности не иметь ничего общего с этой бессмысленной толпой и вкушать мирные наслаждения вдали от нее. Книги, экспонаты естественнонаучных коллекций, физические и астрономические инструменты уже много лет пребывали у нас в полном небрежении; я с таким усердием занимался наведением порядка среди этих сокровищ, что каждый день к вечеру едва не падал от усталости; наконец труды мои подошли к концу, и однажды вечером, возвратившись в свою келью, я ощутил величайшее блаженство. Я не сомневался, что победа, одержанная мною, куда важнее, чем та, какую одержал Донасьен: ведь мне удалось устроить всю мою грядущую жизнь на единственных основаниях, ей подобающих. Мною владела одна страсть – к учению; отныне я мог предаваться ей безраздельно и беспрепятственно. Как же верно я поступил, когда преодолел искушение бежать из монастыря – искушение, так часто дразнившее меня прежде! Утратив веру, не питая более никакого сочувствия к католицизму, я безмерно страдал от необходимости исполнять все мелочные предписания католической религии и тратить на это драгоценное время! Как часто случалось мне презирать себя за ложное чувство чести, превращавшее меня в раба собственных обетов.
«Безумные обеты, безбожные клятвы! – восклицал я сотню раз. – Не из страха перед Богом и не из любви к нему я их произнес; не из страха или любви соблюдаю. Бог этот не существует и никогда не существовал. К чему же хранить верность призраку, к чему исполнять обещания, данные во сне и не имеющие силы? Клятвы эти властны надо мною лишь по причинам сугубо земным. Я не слагаю с себя монашеского сана только потому, что некогда, движимый юношеской нетерпимостью и безудержным благочестием, громко порицал монахов-расстриг и отстаивал абсурдную мысль о том, что клятвы людские нерасторжимы; итак, нынче я остаюсь монахом только потому, что опасаюсь презрения людей, которых сам презираю без меры!»
Вот что я говорил себе в те годы, вот в чем себя упрекал; я мечтал бежать, сбросить монашескую сутану и отправиться искать свободу совести и образования в странах, где царят просвещение и терпимость, – таких, как Франция или Германия; но мне недоставало храбрости исполнить это решение. Тысячи соображений, продиктованных ребяческими страхами или глупой гордыней, останавливали меня. Теперь же, по понятной причине, соображения эти, некогда побудившие меня отказаться от решения бежать, начали мне казаться превосходными, ведь теперь монашеское состояние и жизнь в монастыре полностью отвечали моим чаяниям. Исчисляя самому себе эти соображения, я вспомнил и о рукописи Спиридиона, которою по-прежнему желал завладеть, ибо не сомневался, что в ней содержатся сведения поистине драгоценные. Не успело это воспоминание мелькнуть в моем уме, как воображение мое тотчас породило тысячу самых фантастических картин. От усталости и желания спать мысли мои мутились. Я испытывал ощущения странные и давно позабытые. Надменный мой разум презирал видения, навеянные мне католической верой; он объяснял чудеса, свершившиеся в ночь на 10 января, причинами самыми естественными и сугубо физиологическими. Голод, горячка, истощение нравственных сил, безмерное отчаяние при мысли о неизбежности столь страшной кончины – все это, должно быть, привело мой рассудок в состояние, близкое к безумию. Неудивительно, что я начал слышать замогильный голос и что речи его несли на себе отпечаток сильных впечатлений, испытанных мною в бытность мою набожным католиком. Болезненное мое состояние позволило призракам, порожденным некогда моим воображением, воротиться назад, а физическое изнеможение помешало разуму оценить их так, как они того заслуживали. Обязанный своим освобождением счастливому стечению обстоятельств – например, помощи служителя, случайно забредшего в залу капитула, – я, в это время метавшийся в бреду, не замедлил приписать свое спасение силам сверхъестественным; совершавшаяся во мне борьба между желанием выжить и невозможностью что-либо предпринять из-за полного упадка сил объясняет все то, что привиделось мне впоследствии. Таким образом, разум мой находил слова для истолкования всего случившегося, но слова не способны заменить идей, и потому, хотя половина моего существа оставалась совершенно удовлетворена подсказками горделивого разума, другая пребывала в величайшем смятении и не знала покоя.
Объятый непостижимой тревогой, я чувствовал, что разум мой, как бы могуч он ни был и на какие бы уловки ни пускался, не способен защитить меня от страшных наваждений, рождаемых болезнью. Ведь галлюцинации мои были столь правдоподобны, что я ни на минуту не усомнился в их реальности. Более того, совсем недавно, пребывая в здравом уме и прекрасном настроении, я умудрился увидеть слезы в глазах человека, изображенного на картине, и услышать подтверждение этого домысла из уст ребенка.
Частичным оправданием мне служило то обстоятельство, что о портрете этом ходили легенды. Еще в бытность мою правоверным католиком я слышал рассказы о том, что основатель монастыря, изображенный на портрете, плачет всякий раз, когда новым настоятелем избирают человека недостойного; вскормленные этими сказками, мы оба – и я, и перепуганный ребенок – приняли за правду плоды нашего воображения. Сколько раз целые толпы, пребывая во власти фанатического энтузиазма, проникались уверенностью в том, что видели чудо, и заражали своею уверенностью толпы еще более громадные! Поэтому меня ничуть не удивляло, что обольщению поддались одновременно два человека; удивляло и унижало меня другое – то, что одним из этих двоих оказался я, что именно я принял на веру басни, каким поверил несмышленый ребенок. Неужели, думал я, лживые выдумки христианского фанатизма оставляют в душе такой глубокий след, что годы разочарований и борений не приносят человеку желанной свободы? Неужели я осужден до конца своих дней страдать этим недугом? Неужели не существует никакого способа обрести нравственную силу, способную разогнать призраков и рассеять тени? Неужели в наказание за то, что некогда я был католиком, мне никогда не дано будет сделаться человеком, неужели любая тяжесть в желудке, любой приступ лихорадки будут предавать меня во власть ребяческих страхов? Увы! Быть может, все это есть не что иное, как справедливое наказание за слабость, побуждающую человека оставаться в плену грубейших заблуждений. Быть может, истина в отместку за долгое небрежение ею отказывается просвещать до конца иные умы; быть может, те несчастные, что, подобно мне, поклонялись кумирам и обожали ложь, отмечены несмываемой печатью невежества, безумия и трусости; быть может, когда наступит смертный час, изнуренный ум мой начнут мучить страхи еще более презренные; быть может, терзать меня явится сам Сатана, а умру я с именем Иисуса на устах, как умерли многие незадачливые философы, подверженные тем же умственным расстройствам и лишний раз подтвердившие своим примером немощность человеческого разума перед лицом света небесного?
Предаваясь этим мучительным размышлениям, я забылся беспокойным сном; я боялся вновь стать жертвой какого-нибудь видения, причем страх этот был тем острее, чем яснее разум разъяснял мне причины и следствия моего состояния.
Сон, приснившийся мне в ту ночь, был странен. Мне снилось, что я вновь сделался послушником. На щеках моих едва пробивался легкий пушок; облаченный в белые шерстяные одежды, я прогуливался в обществе юных своих товарищей; с нами был и Донасьен, просивший нас избрать его настоятелем. Дабы не навлекать на себя гонений, я, как и остальные, не раздумывая, подал голос за Донасьена. Не успел он удалиться, бросив на нас взгляд торжествующий и презрительный, как к нам приблизился прекрасный юноша, в котором мы без труда узнали человека, изображенного на легендарном портрете в зале капитула.
Поначалу это нас удивило, однако, как это часто случается во сне, очень скоро мы сочли совершенно естественным то обстоятельство, что основатель монастыря живет среди нас; кому-то даже стало казаться, что так было всегда. Что касается меня, то я смутно помнил о своем давнем знакомстве с ним и, повинуясь то ли привычке, то ли симпатии, подошел к нему без робости, желая его обнять. Он, однако, с негодованием оттолкнул нас.
– Несчастные дети! – воскликнул он, причем голос его звучал чарующе и певуче даже в гневе. – Как можете вы обнимать меня после того подлого поступка, который только что совершили? Неужели в эгоизме своем вы пали так низко, что выбираете настоятелем не самого добродетельного и одаренного из монахов, но того, который более всего снисходителен к порокам и чужд великодушия? Так-то вы блюдете мой устав? Так-то сохраняете тот дух, какой хотел я насадить среди вас? Такими-то я обретаю вас после разлуки?
Затем он заговорил обо мне.
– Вот, – произнес он, указав на меня остальным, – тот, кто виновен больше других; ведь умом он взрослее вас и сознает зло, им совершенное. Вы берете с него пример, потому что знаете его за человека образованного и напитавшегося чужой мудростью. Вы уважаете его, но сам он уважает себя еще больше. Опасайтесь его; он гордец, а гордыня заглушает голос совести.
Я слушал эти слова, исполненный стыда и печали; прекрасный юноша бросал мне суровые упреки в эгоизме, в том, что я принес заботу о справедливости и любовь к истине в жертву пустому увлечению наукой; речь его была исполнена гнева, но по щекам текли слезы сочувствия. Я плакал еще горше, ибо змеи раскаяния вонзали свое жало в мое разбитое сердце. Тогда он с отеческой нежностью прижал меня к груди; впрочем, речи его, обращенные ко мне, звучали по-прежнему горестно.
– Я плачу о тебе, – повторил он мне несколько раз, – ибо самое большое зло ты причинил самому себе, и искупать эту ошибку тебе предстоит до конца своих дней. Разве имел ты право отьединиться от братьев и сказать: «Отныне все зло, какое будет твориться здесь, меня не касается, ибо я не разделяю верований этих людей, ибо они заслужили, чтобы с ними обращались как с собаками, а я тем временем буду наслаждаться покоем, книгами и свободой»? О Алексей! Несчастное дитя! Тебя ждет безотрадная старость, ибо ты разучился любить добро и ненавидеть зло, ибо долгу ты предпочел удовольствие и своими руками воздвигнул трон Ваала в монастыре, куда удалился ради того, чтобы насаждать добро и служить Богу истинному!
Как ни ворочался, как ни метался я в постели, пытаясь заглушить эти упреки, проснуться мне не удавалось: укоризненные речи, отличавшиеся удивительным правдоподобием, логичностью и точностью, преследовали меня безостановочно; они исторгали у меня слезы столь горькие и приводили меня в смятение столь ужасное, что я по сей день не могу сказать, что это было – сон или видение? Постепенно голос Спиридиона стал звучать глуше, а черты его лица сделались менее отчетливыми; тут к нему приблизился разъяренный Донасьен. Призывая своих мерзких приспешников, он кричал:
– Истребите его! Истребите его! Что делает он среди живых! Его место в могиле, его участь – небытие !
Монахи принесли дрова и факелы, намереваясь сжечь Спиридиона; однако на месте живого человека, который осыпал меня упреками и орошал слезами, я увидел портрет основателя монастыря; приверженцы Донасьена вырвали его из рамы и бросили в костер. Но лишь только огонь коснулся полотна, как свершилось ужасное чудо. Портрет вновь ожил; живой Спиридион ломал руки среди языков пламени и кричал:
– Алексей! Алексей! Это ты меня убиваешь!
Я бросился к костру, но нашел там лишь пепел от сгоревшего портрета. Несколько раз живой Эброний и безжизненное полотно, его изображающее, менялись местами перед моим изумленным взором: порой среди пламени мне являлось лицо учителя, обрамленное прекрасными белокурыми волосами, и взор мой встречался с его взором, полным боли и гнева, порой же я видел, как под грубый смех монахов в костре сгорает портрет основателя монастыря. Наконец я проснулся – весь в поту, едва живой от усталости. Подушка моя была мокра от слез. Я встал и подошел к окну. Занимавшийся день окончательно пробудил меня и развеял впечатления ночи, однако так неопровержимы, так справедливы были упреки, услышанные мною ночью и продолжавшие звучать в моем уме, что забыть их я не мог.
С тех пор меня начало мучить раскаяние. Я узнавал в зловещем сне голос моей совести, который кричал мне, что, какую религию ни исповедуй, какой философии ни придерживайся, вручать бразды правления мошеннику и вступать в торги с негодяем преступно. Разум на сей раз пребывал в полном согласии с совестью; он напоминал мне, что Спиридион был человеком справедливым, суровым, неподкупным, что он всей душой ненавидел ложь и эгоизм; разум говорил мне, что, даже оказавшись на этой грешной земле в самом ложном положении, среди самых развращенных существ, мы обязаны сражаться со злом во имя добра. Инстинктивная тяга к благородству и человеческому достоинству по-прежнему сохранялась в моей душе, и этот инстинкт подсказывал мне, что в тех случаях, когда сотворить добро не в наших силах, лучше умереть, сопротивляясь злу, чем жить, трусливо ему потакая. Ученые книги, о чтении которых я мечтал так страстно, мне опротивели. Угнетенная душа искала утешения в пустых софизмах и тщетно пыталась заслониться ими от недовольства самой собой. Пребывая в этом болезненном и мрачном расположении духа, я боялся стать жертвою новых галлюцинаций и несколько ночей подряд не смыкал глаз. В результате я впал в нервное возбуждение, оказавшееся еще хуже, чем сонная одурь. Призраки, которых я боялся, теперь являлись мне не во сне, а наяву и были еще страшнее прежних. Мне чудилось, что на всех стенах выступает написанное огненными буквами имя Спиридиона. Возмущенный собственным малодушием, я решил, что единственный способ положить конец всем этим мучениям – проявить мужество и забрать рукопись из гроба основателя монастыря. Я не спал уже три ночи. На четвертую ночь около полуночи я вооружился долотом, лампой, рычагом и, стараясь ступать беззвучно, проник в церковь, намереваясь увидеть останки, которым воображение мое вот уже шесть лет сообщало небесные черты и которые разуму моему надлежало исследовать спокойно и беспристрастно, с тем чтобы возвратить их в вечное небытие.
Добравшись до камня Hiс est, я без труда приподнял его и стал спускаться по лестнице; я помнил, что в ней двенадцать ступеней. Но не успел я пройти и половины пути, как рассудок мой начал мутиться. Не знаю, что со мной происходило: не испытай я этого на собственном опыте, я бы никогда не поверил, что за отвагой, воодушевляемой тщеславием, может скрываться столько малодушия и подлой трусости. Я дрожал, как в лихорадке, зубы мои стучали от страха; я выронил лампу; ноги больше не держали меня.
Человек прямодушный сразу смирился бы с неудачей и не стал продолжать попытку, оказавшуюся ему не по силам; он отложил бы намеченное предприятие до другого раза и терпеливо дожидался, пока рассудок его просветлеет. Но я стыдился самого себя, я ненавидел себя за проявленную слабость; воля моя желала сломить воображение и принудить его к покорству. Я продолжал спускаться по лестнице в потемках; вот тут-то рассудок окончательно изменил мне и оставил меня во власти иллюзий и призраков.
Мне чудилось, будто я по-прежнему иду вниз, будто я спускаюсь в царство Эреба. Когда я наконец достиг ровной поверхности, до слуха моего донесся мрачный голос, исходивший, казалось, из самых пропастей земли:
– Наверх ему не выйти.
И тотчас из невидимой бездны тысяча грозных голосов затянула в ответ странную песню:
– Истребим его! Его надобно уничтожить! Что делает он среди мертвецов? Его место – среди живых ! Его участь – страдания !
Тут тьму прорезал слабый луч света, и я увидел, что стою на последней ступеньке лестницы, широкой, как подножье горы. За моей спиной горели тысячи ступенек из раскаленного железа; передо мной простиралась эфирная бездна; над головой и под ногами у меня раскинулась одна и та же темно-синяя ночь. Голова у меня закружилась, и, даже не подумав о том, чтобы вернуться наверх, я с богохульными речами шагнул в пустоту. Но не успел я договорить свою святотатственную фразу, как пустота наполнилась смутными формами и красками, и постепенно передо мною начала вырисовываться гигантская галерея, под своды которой я вступил, объятый трепетом. Кругом по-прежнему было темно, но вдали горел красный огонь, освещавший причудливые и страшные очертания громоздкой постройки, словно высеченной в железной горе или среди сгустков черной лавы. Поначалу я не видел почти ничего, но чем дальше я шел, тем яснее представали моему взору предметы, меня окружавшие, и тем ужаснее они мне казались; с каждым шагом страх мой возрастал. Огромные столбы, поддерживавшие свод, и самые узоры этого свода представляли собою изображения людей исполинского роста, подвергаемых немыслимым мукам: одни, подвешенные за ноги и сдавливаемые чудовищными змеями, впивались зубами в мраморный пол; других, вросших по пояс в землю вниз или вверх ногами, тащили наружу, причиняя им бесчисленные страдания, человеческие особи, расположившиеся на потолке в виде капителей. Некоторые столбы были составлены из человеческих фигур, которые, сплетясь в смертельном объятии, пожирали друг друга; многие из них уже лишились ног, а иные и туловища, но головы их продолжали жить и яростно впиваться зубами в свою добычу. Были тут люди с наполовину содранной кожей, которые пытались оторвать оставшиеся лоскуты от капителей или цоколя, были и такие, которые вырывали клочья собственной кожи друг у друга из рук, и на лицах у них изображалась невыразимая ненависть и неизъяснимая мука. Вдоль фриза или, скорее, вместо фриза тянулись по обеим сторонам два ряда отвратительных существ, внешне похожих на людей, но чудовищно уродливых; они расчленяли трупы, пожирали человеческие члены, вытягивали из животов кишки, лакомились кровавыми лохмотьями. С потолка вместо розеток свисали изувеченные дети, которые, казалось, испускали жалобные крики и, пытаясь ускользнуть от пожирателей человеческой плоти, устремлялись вниз, предпочитая размозжить себе голову о мраморный пол.
Чем дальше я шел, тем больше все эти изваяния становились похожи на существа из плоти и крови; свет, мерцавший в глубине галереи, позволял увидеть, что выполнены они с правдоподобием, недоступным земным мастерам. Можно было подумать, что видишь живых людей, навсегда окаменевших в результате какого-то неведомого катаклизма и почерневших, словно обожженная глина. Так поразительно было выражение отчаяния, ярости или предсмертной муки на этих искаженных лицах; так точно было передано напряжение мускулов, ожесточение борьбы, трепет изнемогающей плоти, что никто не смог бы смотреть на все это без отвращения и ужаса. Пожалуй, оттого, что кругом царили тишина и неподвижность, зрелище это производило на меня впечатление особенно устрашающее. Я так обессилел, что остановился и готов был воротиться назад.
Но в эту минуту до слуха моего донесся смутный рокот, похожий на звук шагающей толпы; источник его был во тьме, там, откуда я пришел. Вскоре голоса сделались более отчетливыми, а крики более буйными; шаги звучали все громче и приближались с невероятной быстротой: толпа бежала нестройно, неровно, но с каждой минутой производимый ею шум становился все более близким, все более неистовым и все более грозным. Я решил, что эта бешеная толпа преследует меня, и в поисках спасения устремился в глубь галереи, окаймленной мрачными изваяниями. Однако тут мне стало казаться, что извания эти оживают, что они истекают потом и кровью, а зрачки их эмалевых глаз приходят в движение. Внезапно я понял, что все они следят за мной, все наклоняются ко мне – одни с омерзительным смехом, другие с неприкрытым отвращением. Все протягивали ко мне руки и, казалось, готовились раздавить меня своими трепещущими членами, которые они тщетно вырывали друг у друга. Были и такие, которые наступали на меня, держа в руках собственную голову или тела детей, выдранные из розеток на потолке.
Если взору моему представало чудовищное зрелище оживающих изваяний, то слух мой полнился зловещим шумом приближающейся погони. Передо мной располагались предметы ужасные, за мной слышались звуки еще более ужасные: смех, вой, угрозы, рыдания, богохульства, внезапно сменявшиеся несколькими мгновениями тишины, в течение которых толпа, казалось, оставляла позади огромные расстояния и в сотню раз сокращала дистанцию, отделявшую ее от меня.
Наконец шум приблизился настолько, что я потерял надежду спастись бегством и попытался укрыться среди столбов, поддерживающих своды галереи; но тут мраморные изваяния ожили окончательно и алчно устремили руки ко мне, располагая схватить меня и сожрать.
Тогда я снова выскочил на середину галереи, недосягаемую для статуй; толпа между тем приближалась, голоса ее заполняли пространство галереи, шаги ее сотрясали пол. Это напоминало бурю в лесной чаще, ураган в открытом море, извержение вулкана. Казалось, воздух в галерее раскалился; казалось, в ней задул ветер, клонящий долу все живое. Словно осенний листок, я понесся вдаль, подхваченный вихрем теней.
Все они были одеты в черное; горящие их глаза сверкали из-под темных капюшонов, словно глаза тигра из глубины его логова. Одни, казалось, пребывали во власти беспредельного отчаяния, другие предавались безумному, свирепому веселью, третьи молчали, но ожесточенное это молчание леденило мне кровь и страшило еще больше, чем крики горя или радости. Чем ближе подходили призраки, тем сильнее извивались и выгибались медные и мраморные изваяния; в конце концов им удавалось разомкнуть свои страшные объятия, вырвать ноги из мраморного пола, а руки и плечи из карнизов; те, чьи изувеченные тела распластались на потолке, также высвобождались и, по-змеиному сползая по стенам, спускались на землю. После чего все эти исполинские людоеды, все эти люди с содранной кожей и оторванными конечностями присоединялись к толпе призраков, увлекавшей меня с собой, и, окончательно ожив, принимались кричать и завывать точно так же, как и остальные; толпа эта разливалась во тьме, словно река, прорвавшая плотину, однако свет, мерцавший в конце галереи, по-прежнему манил ее к себе, и, распространяясь вширь, она, однако же, не переставала продвигаться вперед. Внезапно тусклый этот свет засиял ярче, и я понял, что мы добрались до цели. Толпа разделилась на несколько потоков, растеклась по боковым галереям, а передо мной в бесконечной дали возник памятник, какого человеческим рукам возвести не дано. Взору моему предстала внутренность готического храма, подобного тем, какие католики строили в одиннадцатом столетии, в ту пору, когда, достигнув вершины своего могущества, они принялись возводить эшафоты и разжигать костры. Стройные пилястры, стрельчатые арки, символические животные, причудливые орнаменты, – все чудеса гордой и своенравной архитектуры были здесь явлены в постройке таких гигантских размеров, что под ее сводами запросто поместился бы миллион человек. Свод этот, однако, был сделан из свинца, а верхние галереи, где толпился народ, имели потолки ниже человеческого роста, так что разглядывать то, что происходило у меня под ногами, в головокружительной глубине, мне приходилось, согнувшись в три погибели.
Поначалу я различал только стены храма: нижние его части растворялись во мраке, средние же были видны немного лучше благодаря красным огонькам, которые мерцали во тьме, словно отблески скрытого от моих глаз пожара. Постепенно этот зловещий огонь осветил всю внутренность здания, и взору моему предстало множество коленопреклоненных фигур; они располагались по краям нефа, а между ними медленно тянулась процессия священнослужителей в богатых одеждах; они направлялись в сторону хора, распевая на один и тот же лад:
– Истребим его! истребим его! то, что принадлежит могиле, должно уйти в могилу!
Мрачное это пение вновь пробудило мои страхи; я оглянулся и обнаружил, что нахожусь на галерее в полном одиночестве; толпа заполонила другие галереи и, кажется, не обращала на меня ни малейшего внимания. Тогда я вознамерился покинуть это страшное место, скрывавшее, как подсказывал мне внутренний голос, какую-то жуткую тайну. За моей спиной виднелось несколько дверей, однако все они находились под охраной омерзительных медных чудовищ, которые, ухмыляясь, обещали друг другу:
– Мы истребим его, разорвем на куски и сожрем!
Леденея от ужаса, я попытался спрятаться и сел на корточки около каменной балюстрады. То, что должно было свершиться, страшило меня так сильно, что я закрыл глаза и заткнул уши. Натянув поглубже капюшон и уткнув голову в колени, я попытался убедить себя, что все увиденное – не более чем сон, что на самом деле я сплю у себя в келье и стоит мне проснуться, как кошмар окончится. Я страстно желал пробудиться и уже решил было, что мне это удалось, но, открыв глаза, обнаружил себя в той же самой галерее, в окружении тех же самых призраков, что меня туда привели; между тем процессия священнослужителей дошла до середины хора, где свершалась ужасная сцена, которой я никогда не забуду. В самом центре, окруженный толпою священников, стоял гроб, в котором покоился человек, и человек этот был жив. Он не жаловался, не сопротивлялся, но из груди его вырывались сдавленные рыдания и глубокие вздохи, тонувшие в безмолвии храма. Толпа взирала на гроб угрюмо и бесчувственно, не произнося ни слова, а священники держали наготове гвозди и молотки, чтобы заколотить гроб сразу после того, как из груди лежащего в нем человека вырвут сердце. Все по очереди погружали окровавленные руки в раскрытую грудь мученика, все рылись в его утробе и выворачивали ее наизнанку, но никому не удавалось совладать с непобедимым, неприступным сердцем. Время от времени палачи испускали яростный вопль, ответом которому служили проклятия и свист, доносившиеся с галерей. Что же касается коленопреклоненных людей, то они предавались размышлениям и молитвам, не шевелясь и не обращая внимания на мерзости, происходившие в непосредственной близости от них.
Внезапно один из палачей, как был весь в крови, приблизился к балюстраде, отделяющей хор от нефа, и обратился к коленопреклоненной толпе:
– Возлюбленные братья, христиане набожные и чистые, молитесь! Не жалейте молений и слез, дабы свершилось чудо и вы смогли бы вкусить тело и испить кровь Христа, божественного нашего Спасителя.
Тут верующие начали молиться вполголоса, бить себя в грудь и посыпать голову пеплом, палачи же продолжали терзать несчастного, который со слезами в голосе повторял одни и те же слова:
– О Боже, спаси этих жертв невежества и лжи!
Мне казалось, что эхо, отражавшееся от сводов, таинственным голосом шепчет эти слова мне на ухо. Я, однако, был объят таким ужасом, что, вместо того чтобы ответить мученику и возвысить голос против его мучителей, не сводил глаз с призраков, меня окружавших, ибо опасался, как бы они не догадались, что я им чужой, и не набросились на меня.
Затем я опять попытался проснуться, и на несколько мгновений воображение мое принялось рисовать мне сцены счастливые и радостные. Стояло прекрасное утро, я находился в своей келье, в окружении любимых книг… однако новый стон жертвы прервал это сладостное видение, и глазам моим опять предстала бесконечная агония и безжалостные палачи. Я смотрел на несчастного, которого они терзали, и мне казалось, что он все время меняет облик. Сначала то был Христос, потом Абеляр, потом Ян Гус, потом Лютер… Я опять попытался отвести взор от этого отвратительного зрелища, и мне показалось, что я вновь вижу солнечный свет и прелестную поляну, по которой мне так легко и приятно бежать. Но свирепый хохот очень скоро положил конец этой обольстительной иллюзии, и я догадался, что человек, чье сердце тщетно пытаются вырвать из груди подлые палачи, есть не кто иной, как Спиридион. Затем Спиридион превратился в старого Фульгенция; он взывал ко мне, он вопрошал:
– Алексей! Сын мой Алексей! Неужели ты не придешь мне на помощь? неужели ты не спасешь меня?
Не успел он произнести мое имя, как я увидел на его месте в гробу себя самого; это моя грудь была раскрыта, это в мое сердце впивались когти и клещи. А между тем я по-прежнему находился на галерее, я по-прежнему сидел на корточках подле балюстрады и оттуда наблюдал, как другой «я» претерпевает смертную муку. Кровь заледенела у меня в жилах, холодный пот омыл все мое тело, и я едва не лишился чувств: теперь от тех пыток, которым подвергали моего призрака, страдала моя собственная плоть. Собрав последние силы, я попытался в свой черед воззвать к Спиридиону и Фульгенцию. Глаза мои закрылись, а губы машинально пробормотали какие-то слова, неведомые разуму. Когда я открыл глаза, то увидел подле себя прекрасную коленопреклоненную фигуру. Человек этот был совершенно спокоен и даже не смотрел в мою сторону. Взгляд его был устремлен к свинцовому своду, я взглянул туда же и увидел широкое отверстие, сквозь которое в храм проникал солнечный свет. Свежий ветер легонько шевелил золотые кудри человека, чьи черты были исполнены невыразимой печали, смешанной с надеждой и жалостью.
– О ты, чье имя мне известно, – прошептал я ему, – ты, остающийся невидимым для всех этих страшных призраков и являющийся мне одному, ибо я знаю и люблю тебя! Спаси меня от этих ужасов, избавь меня от этой пытки!..
Он обернулся и взглянул на меня; в светлых бездонных глазах его читалось разом и сочувствие к моим страданиям, и презрение к моей слабости. Затем с ангельской улыбкой он простер руку, и все призраки растворились во тьме. Теперь до моего слуха доносился только его голос, голос друга; вот что он говорил:
– Все увиденное тобою – не что иное, как порождение твоего мозга. Страшный сон, от которого ты пытался избавиться, есть плод твоего воображения. Пусть же это научит тебя смирению; вспоминай о слабости своего духа всякий раз, как решишь взяться за дело, которое тебе еще не по силам. Демонов и призраков рождают на свет фанатизм и суеверие. Много ли пользы принесла тебе твоя философия, если ты до сих пор не научился отличать чистые откровения, ниспосылаемые тебе Небом, от грубых наваждений, внушаемых страхом? Заметь: все, что тебе примерещилось, происходило в твоей собственной душе; обманутые твои чувства просто-напросто сообщили форму мыслям, уже давно тебя тревожившим. Медные и мраморные изваяния, пожирающие ближних и пожираемые ими, – это символ душ, изувеченных католицизмом и ожесточившихся под его влиянием, это образ борьбы, которую вели в недрах оскверненной Церкви целые поколения, пожиравшие друг друга, вымещавшие друг на друге причиненное им зло. Толпа разъяренных призраков, увлекшая тебя за собой, – это безверие, буйство, атеизм, лень, ненависть, алчность, зависть и все прочие дурные страсти, которые забрали власть над Церковью после того, как Церковь утратила веру; череда страдальцев, чье сердце пытались вырвать священнослужители, – это Христы, мученики, отдающие жизнь за новую истину, это святые грядущих времен, терзаемые обманщиками, завистниками и предателями. Объятый благородным честолюбием, ты увидел в этом окровавленном гробу себя самого, ты вообразил самого себя жертвою гнусного духовенства и бессмысленного народа. Однако ты раздвоился в собственных глазах, и в то время, когда прекраснейшая половина твоего существа мужественно сносила пытку и отвергала сговор с фарисеями, другая, подлая и эгоистичная, пряталась в тени и, дабы не попасть в руки врагов, оставалась глуха к мольбам старого Фульгенция. Ибо – о Алексей! – любовь к истине сумела уберечь твою душу от низких страстей черни, но – о монах! – забота о собственном благополучии и собственной свободе сделала тебя сообщником лицемеров, среди которых ты обречен жить. Пробудись же и постарайся обрести в добродетели ту истину, какую ты не сумел отыскать в науке.
Не успели замолкнуть звуки его речи, как я проснулся и обнаружил себя в монастырской церкви подле наполовину поднятой могильной плиты, украшенной словами Hiс est veritas. Уже рассвело; за окнами весело щебетали птицы; недавно вставшее солнце бросало пурпурно-золотые лучи в глубь хора. Я совершенно ясно увидел, как тот, кто говорил со мной, вошел внутрь солнечного луча и растворился в нем, словно смешавшись со светом небесным. Я с ужасом ощупал свое тело. Оно отяжелело от смертного сна, окоченело от могильного холода. Колокол сзывал монахов к заутрене; я поспешил поставить могильный камень на место и успел выйти из церкви прежде, чем туда вошла горстка истовых богомолов, не пропускавших ни одной утренней службы.
Назавтра тело мое испытывало величайшую усталость, а душу тяготили мрачные воспоминания. Многообразные чувства, пережитые мною, приводили в смятение изнуренный мозг. Мне казалось, что и отвратительный кошмар, и небесное видение суть порождения болезненной фантазии; я отрекался и от того, и от другого и был склонен объяснять свое спасение исключительно просветлением собственных мыслей и утренней прохладой.
Начиная с того дня я мечтал лишь об одном, стремился лишь к одному – мне надобно было охладить мое воображение так же, как я охладил свое сердце. Я полагал, что, если раньше я отринул католическую веру, дабы открыть моему уму поприще более обширное, теперь я должен отринуть всякий религиозный энтузиазм, дабы вывести мой разум на дорогу более прямую, поставить его на почву более твердую. Новейшая философия не сумела побороть суеверий, живших в моей душе; я решил обратиться к истокам этой философии и принялся изучать те труды, из которых выросли несовершенные доктрины, меня пленившие. Я прочел Ньютона, Лейбница, Кеплера, Мальбранша, а главное – отца геометров Декарта, прочел всех тех, чьими стараниями была подорвана вера в традицию и откровение. Я убедил себя в том, что, опираясь на опыты естествоиспытателей и рассуждения метафизиков, я не только обрету доказательства бытия Божия, но и сумею наконец обрести Бога своей мечты – покойного, неколебимого, бесконечного.
Тогда наступила для меня пора новых трудов, новых забот и новых страданий. Я полагал, что мой ум сильнее ума тех мыслителей, у которых я желал научиться вере; я знал, что они, желая доказать существование Бога, потеряли веру в Него; но я приписывал это роковое заблуждение ослаблению их умственных способностей – неизбежному следствию усиленных занятий. Я намеревался более бережно тратить силы, избегать мелочной дотошности, какой иногда грешили мои чересчур обстоятельные предшественники, без колебаний отбрасывать все их многочисленные натяжки – одним словом, одолеть одним махом ту дорогу, по которой они двигались с черепашьей скоростью. Гордыня, как и всегда, сослужила мне дурную службу; это обнаружилось очень скоро. Мне так и не удалось превзойти своих учителей твердостью и решительностью; вместо того чтобы исполнить хвастливые обещания и подняться на вершину горы, я скатился в болото, да там и застрял. Громады науки подобны скалам; ум способен их одолеть, чувство же остается у их подножия; я взобрался наверх, но атеизм вскружил мне голову. Гордясь тем, что я поднялся так высоко, я не понял, что достиг самое большее первой ступени той науки, что занята познанием Господа; я мог более или менее логично объяснить устройство мира, но не мог постичь ту мысль, какой руководствовался его творец. Я охотно соглашался видеть в мире всего лишь машину; мне казалось, что мысль Господня не имеет ни к созданию, ни к существованию мира никакого отношения и я спокойно могу ею пренебречь. Постепенно я привык доверяться очевидности и презирать голос чувства – как если бы чувство не лежало в основе всякого достоверного знания. Одним словом, способ видеть, разбирать и описывать вещи, мною избранный, был узок и груб, и я сделался самым упрямым, тщеславным и ограниченным из ученых.
В этих невидимых миру трудах я провел десять лет – десять лет, выброшенных в бездну, по краям которой не взросло ни единой травинки. Не зная устали, я сражался с холодным разумом. Чем ближе, однако, становилась безрадостная победа, тем сильнее она страшила меня; я спрашивал себя, что же сделаю я со своим сердцем, если оно когда-нибудь очнется. Впрочем, постепенно восторги тщеславия заглушили эту тревогу. Мало кто сознает, как опрометчиво и легкомысленно может вести себя человек, по видимости погруженный в занятия самые серьезные. Побежденная трудность имеет огромную власть над людьми, которые посвятили себя естественным наукам; мимолетный триумф ума пьянит так сильно, что в жертву ему без колебаний приносится все: доводы рассудка, порывы сердца, целомудрие души. Чем чаще вкушал я подобные триумфы, тем более химерическими казались мне те победы, о каких я мечтал прежде. Наконец я убедил себя, что эти последние не только недостижимы, но еще и бесполезны; я решился оставить поиск метафизических истин, к которым обращался мыслью все реже и реже, и всецело предаться штудиям физическим. Я изучал тайны природы, движение и покой небесных тел, неизменные законы, управляющие миром как в безграничных просторах, так и в едва заметных мелочах; я различал повсюду железную руку некоего исполина, глубоко равнодушного к благородным чувствам человеческим, беспредельно щедрого и неистощимо изобретательного во всем, что касается удовлетворения материальных нужд человека, однако хранящего непреклонное молчание относительно всего, что касается его нравственного существа, его непомерных желаний, чтобы не сказать – непомерных потребностей. Разве, думал я, та жадность, с которой иные избранные представители рода человеческого стремятся установить сношения с Божеством, не свидетельствует об изъяне их мозга? Разве нельзя уподобить этих людей растениям с неправильным развитием или животным с неумеренными инстинктами? Разве не гордыня – другой недуг, присущий большинству смертных, – заставляет этих людей расписывать яркими красками и цветистыми фразами умственную горячку, свидетельствующую не столько о силе и здоровье, сколько о слабости и усталости? Нет, восклицал я, желание воспарить к небу есть желание бесстыдное и безумное, а главное – жалкое. Всякий школяр, имеющий хотя бы смутное понятие об устройстве небесной сферы, знает, что неба этого не существует! Только чернь верит, будто из грубого фимиама, возносящегося с земли, на небе воздвигнут трон, а на нем, затерянный в воздушных просторах, словно песчинка на склонах гор Атласских, восседает идол, скроенный по образу и подобию земных людей! Только толпа воображает, будто после смерти души человеческие, словно перелетные птицы, отправляются в путь по небу – бесконечному воздушному эфиру, усеянному неисчислимыми светилами и мирами, – из дома в дом, из края в край; только жалкие риторы от богословия убеждены, что созвездия будут служить им жильем, а солнечные лучи – одеждой! Небо и человек – это все равно что бесконечность и атом! Как же можно их сравнивать, как можно их противопоставлять! Кому первому взбрела на ум мысль столь смешная, столь безрассудная? А нынче? Подумать только, папа, именующий себя царем душ человеческих, настежь открывает своим ключом врата вечности всякому, кто преклоняет колени перед ним и просит: «Впустите меня!»
Таков был ход моих мыслей, и мысли эти сопровождались горьким смехом; швыряя на землю возвышенные сочинения отцов церкви и философов-спиритуалистов всех времен и народов, я с яростью топтал их ногами и повторял любимую фразу Эброния, которая, как мне казалось, таила в себе решение всех моих проблем: «Сколько невежества! Сколько лжи!»
– Ты бледнеешь, дитя мое, – обратился Алексей ко мне, на мгновение прервав свое повествование, – твоя рука дрожит в моей, а глаза смотрят на меня растерянно и тревожно. Успокойся, не бойся стать жертвою тех же заблуждений: рассказ мой, надеюсь, убережет тебя от них.
Человек не ведает мыслей Господних и часто отрицает само их существование, однако, на его счастье, Господь сотворил не только мир, но и людей, его населяющих, с любовью и тщанием. Он наградил людей способностью стремиться к добру и раскаиваться во зле. Если в обществе человек зачастую ощущает себя для общества потерянным, в одиночестве он никогда не остается потерянным для Бога, ибо до тех пор, пока жизнь теплится в его груди, в груди этой могут зазвучать неведомые струны, и много струн разорвется в душе человека, полюбившего истину, до тех пор, пока за ним не придет смерть. Часто возвышенные способности человеческие дремлют, подобно зерну в лоне земли, и лишь после долгого сна расцветают с нежданным блеском. Потому-то я и ставлю так высоко уединение и покой, потому-то и продолжаю хранить верность монашеским обетам, что знаю, как никто, не только опасности, которыми чреваты эти долгие беседы один на один с собственной совестью, но и победы, которыми они увенчиваются. Живи я в миру, я бы погиб безвозвратно. Люди истребили бы во мне те добрые задатки, какие вложил в меня Господь. Я не выдержал бы искушения суетной славою, любовь моя к науке, питаясь чужим одобрением, разрасталась бы и крепла, так что я жил бы, пьянея от ложной радости и не ведая счастья истинного. Иное дело жизнь монастырская: никем не понимаемый, предоставленный самому себе, побуждаемый к изысканиям исключительно собственной гордостью и собственной любознательностью, я в конце концов утолил свою жажду и пресытился уважением к самому себе. Пребывая в разлуке с небесным другом, я ощутил потребность поделиться своими радостями и горестями с каким-нибудь земным существом, – ощутил безотчетно и помимо воли. Гордыня и надменность сделались из свойств ума также и чертами моего характера; вдобавок жил я в окружении людей, с которыми не имел ничего общего: ответом на мои сердечные излияния стали бы грубость и злоба. Впрочем, это, пожалуй, уберегло меня от многих бед. Общество людей умных разожгло бы во мне жажду беседы, потребность в споре, и это лишь утвердило бы меня в моей склонности к отрицанию; напротив, долгими вечерами, проведенными в одиночестве, я, несмотря на безраздельную преданность атеизму, ощущал порой приливы страстной любви к тому самому Богу, веру в которого именовал заблуждением молодости, и, как бы ни презирал я себя в эти мгновения, не подлежит сомнению, что именно тогда я вновь становился добр, именно тогда сердце мое храбро сопротивлялось собственному разрушению.
В тяжких болезнях наступает такой период, когда сильное ухудшение оборачивается значительным улучшением; страшный кризис сменяется чудесным выздоровлением. В пору, предшествовавшую моему возвращению к вере, я почитал себя убежденным адептом чистого разума. Я сумел полностью заглушить в себе голос сердца и находил удовольствие в презрении к каким бы то ни было верованиям, в забвении каких бы то ни было религиозных чувствований. Но не успел я ощутить эту безграничную философическую мощь, как меня охватило отчаяние. Однажды несколько часов подряд я обдумывал некий научный вопрос; мысль моя работала с небывалой четкостью, и я в очередной раз, причем яснее, чем когда-либо, ощутил всемогущество материи и невозможность существования иного творца и зиждителя, кроме той силы, которую я, прибегая к языку естествоиспытателей, именовал витальными свойствами материи. В эту-то самую минуту ледяной холод пронизал все мое тело, и я слег в постель со всеми признаками горячки.
Прежде я никогда не заботился о своем здоровье. Болел я долго и трудно. Жизни моей ничто не угрожало, однако нестерпимые боли не позволяли мне предаваться занятиям умственным. Глубочайшая скука овладела мною; бездействие, одиночество и страдания навевали на меня смертную тоску. Я не желал ничьей помощи, однако настоятель, движимый деланным сочувствием, подослал ко мне послушника по имени Христофор, чтобы тот ходил за мной. Мне пришлось согласиться терпеть его общество по ночам; меня мучила страшная бессоница, Христофор же, являвшийся якобы за тем, чтобы помочь мне скоротать время, каждый вечер забывался рядом с моей постелью тяжелым, глубоким сном. Христофор этот был человек превосходнейшего нрава и ограниченнейшего ума. Монахи прощали ему чрезвычайную тупость за чрезвычайную же доброту. Обращались они с ним как с неким домашним животным – работящим, зачастую очень полезным и неизменно безобидным. Жизнь его представляла собою непрерывную цепь благодеяний и самопожертвований. Поскольку монахи постоянно прибегали к помощи Христофора, он уверовал в свою незаменимость, и эта вера, которую я ни в малейшей степени не разделял, раздражала меня особенно сильно. Тем не менее чувство справедливости, которое атеизм не смог истребить в моей душе, заставляло меня сносить общество Христофора терпеливо и кротко. В первое время мне случалось вспылить и выгнать его из моей кельи. Он, однако, нисколько не обижался на меня и тревожился лишь о состоянии моего здоровья; он гнусавым голосом затягивал у меня под дверью долгую молитву, а наутро я обнаруживал, что он никуда не ушел и спит, сидя на лестнице и уткнув голову в колени; конечно, ему было холодно и неуютно, но он не смел провести в своей постели те часы, которые рассчитывал посвятить мне. Терпение и самоотвержение этого человека покорили меня. Чтобы доставить ему удовольствие, я сносил его общество; ведь, к моему великому сожалению, других больных в ту пору в монастыре не имелось, а когда Христофору не за кем было ходить, он становился несчастнейшим человеком в мире. Постепенно общество Христофора и его собачки, которая настолько сжилась с хозяином, что переняла его характер и его обыкновения и, кажется, отличалась от него только неумением готовить больным отвар и щупать пульс, сделалось для меня привычным. Эти двое пробуждались и отходили ко сну одновременно. Когда монах ходил по комнате на цыпочках, собачка тоже старалась производить как можно меньше шума; если хозяин засыпал, животное мирно следовало его примеру. Когда Христофор молился, Бакко с важным видом усаживался перед ним и, навострив ушки, самым внимательным образом следил за движениями рук и головы молящегося. Когда же Христофор обращался ко мне с глупыми утешениями и избитыми уверениями в том, что я скоро поправлюсь, Бакко становился на задние лапы подле моей постели и, очень аккуратно и деликатно опираясь о нее передними лапами, принимался с величайшей нежностью лизать мне руку. Я так привык к этой паре, что уже не мог обходиться без них. Пожалуй, в глубине души я отдавал предпочтение собаке, ибо она была гораздо умнее хозяина, не храпела во сне, а главное, не умела разговаривать.
Физические страдания мои тем временем сделались поистине нестерпимы. К концу года я так измучился, что не имел сил даже желать смерти: ведь она могла причинить мне мучения еще более страшные. Теперь пределом мечтаний стало для меня простое отсутствие боли. Я был так плох, что постоянно нуждался в присутствии Христофора. Мне нравилось смотреть, как он ест: его здоровый аппетит забавлял меня. Все, что раньше коробило меня в нем, теперь стало казаться мне привлекательным, – все, включая тяжелый сон, бесконечные молитвы и нелепые истории, которыми он пытался меня позабавить. Я получал удовольствие даже от его уговоров и каждый вечер нарочно отказывался пить микстуру, после чего он добрых четверть часа без устали донимал меня своими глупыми увещеваниями и простодушными уловками, которые представлялись ему верхом хитрости. То было мое единственное развлечение, дарившее мне толику веселья, и добряк, судя по всему, об этом догадывался, хотя губы мои, увядшие, искаженные болью, разучились улыбаться.
Лишь только я начал выздоравливать, как грянул гром: в монастыре началась эпидемия страшной, неизлечимой болезни. Она обнаружилась внезапно; спастись от нее было невозможно. Одним из первых заболел мой бедный Христофор. Я позабыл о собственной немощи и о грозившей мне опасности; покинув свою келью, я провел три дня и три ночи подле его постели. На четвертую ночь он испустил дух у меня на руках. Смерть эта потрясла меня так сильно, что я сам оказался на краю могилы. Тем не менее мне удалось выжить; во мне совершилась удивительная перемена: я выздоровел быстро и окончательно; но этого мало: нравственное существо мое очнулось после долгого сна, и, впервые за долгие годы, я сердцем почувствовал людские беды. После смерти Фульгенция Христофор был единственным человеком, к которому я привязался. Быстрая и горестная его кончина напомнила мне о первом моем друге, о моей молодости, набожности, чувствительности – обо всех тех усладах, которые я потерял навсегда. Я возвратился в свою уединенную келью, но теперь одиночество не радовало, а страшило меня. За мной последовал Бакко: я был последним больным, которого пользовал его хозяин, пес привык находиться в моей келье и, кажется, хотел полюбить меня так же сильно, как любил Христофора, но ему это не удалось: горе его оказалось безутешным. Пес не спал, постоянно обнюхивал кресло, в котором обычно засыпал его покойный хозяин и которое я ставил по ночам у изголовья своей постели в память о моем бедном друге. Бакко охотно принимал мои ласки, но тревога не покидала его. При малейшем шорохе он вскакивал и со смесью надежды и отчаяния смотрел на дверь. В эти минуты я испытывал неодолимую потребность говорить с Бакко, как с разумным существом.
– Он не придет, – убеждал я пса, – теперь ты должен любить одного меня.
Я уверен, что он меня понимал: при этих словах он подходил ко мне и с видом грустным и покорным лизал мне руку. Затем он пробовал заснуть, но спал беспокойно и во сне издавал слабые стоны, надрывавшие мне душу. Когда же он потерял всякую надежду увидеть того, кого не переставал ждать, он решил умереть. Лежа в кресле своего хозяина, он отказывался от еды и в конце концов угас, глядя на меня укоризненно, как будто именно я был причиной его горя, виновником его смерти. Когда глаза его закатились, а тело похолодело, я не смог сдержать потока слез; я плакал еще горше, чем в день смерти Христофора. Мне казалось, что я потерял друга во второй раз.
Происшествие это, на первый взгляд столь незначительное, окончательно низвергло меня с высоты, куда я вознесся на крыльях гордыни, в бездну отчаяния. Много ли пользы видел я от этой гордыни? Много ли проку видел я от своего ума? Болезнь поразила мой гордый ум бессилием; смирение добросердечного человека, верность любящего животного помогли мне куда больше, чем все мои познания. Теперь, когда смерть разлучила меня с теми двумя, кого я любил, разум, который я поставил на место Бога, твердил мне взамен утешения, что эти предметы моей сердечной привязанности исчезли бесследно и потому мне надлежит начисто их забыть. Смириться с этим абсолютным исчезновением я не мог, а между тем наука моя запрещала мне в нем сомневаться. Я попытался продолжить свои ученые занятия, надеясь таким образом побороть терзавшую меня тоску; однако это позволяло мне скоротать всего несколько часов. Лишь только я возвращался в свою келью, лишь только укладывался в постель, одиночество принималось терзать меня с новой силой; словно малое дитя, я обливал слезами подушку; я сожалел о физических страданиях, которые некогда казались мне нестерпимыми; теперь я охотно согласился бы терпеть их вновь, будь мне при этом позволено вновь увидеть подле себя Христофора и Бакко.
Именно в ту пору я всем существом почувствовал, что дружба существа самого незначительного есть дар более драгоценный, нежели все открытия гения; что самое простое движение души приносит отраду более сладостную и более насущную, нежели все обольщения тщеславия. Нутро мое подсказало мне, что человек создан для любви, а одиночество, не скрашенное ни верой, ни любовью Божественной, есть не что иное, как могила, вдобавок лишенная загробного покоя! Вновь обрести веру я даже не мечтал; эта прекрасная греза, к великому моему сожалению, растаяла навеки; то, что я именовал моим разумом и моими познаниями, изгнало ее из моей души безвозвратно. Мне суждена была бесплодная жизнь в иссушающем мире. Отчаяние внушало мне замыслы самые безрассудные. Я был готов оставить монастырь, броситься в вихрь света, предаться пьянству или даже разврату – лишь бы убежать от самого себя. Впрочем, желания эти угасли очень быстро; слишком рано я задушил в себе страсти – воскресить их я был не в силах. Самый атеизм, плод ученых занятий и глубоких размышлений, лишь укрепил во мне привычку к аскетическому образу жизни. А кроме того, какие бы превращения я ни претерпевал, ничто не могло вытравить из моей души тягу к прекрасному, потребность в идеале; ум сколько-нибудь возвышенный подобные чувства отринуть не способен. Я больше не обольщался грезами относительно божественного совершенства; но один только вид мира материального, одно только величие звездного неба и стройность законов мироздания вселяли в меня такую страстную любовь к порядку, долговечности и красоте всего сущего, что любая попытка покуситься на эти возвышенные, гармонические идеи вызывала во мне непреодолимое отвращение.
Я попытался отыскать новые предметы сердечной привязанности; в монастыре мне их найти не удалось. Повсюду я встречал злобу и хитрость; когда же мне попадались люди более простодушные, за кротостью их я очень скоро различал трусость. Я попытался свести знакомство с мирянами. Во времена аббата Спиридиона все выдающиеся люди из числа местных жителей и образованных путешественников имели обыкновение посещать наш монастырь, невзирая на то, что он расположен в местности дикой и труднодоступной. Однако с тех пор, как обитель наша сделалась рассадником лени, невежества и пьянства, сюда изредка забредали лишь люди равнодушные либо праздно-любопытные, да и те по чистой случайности. Мне некому было открыть душу, и я предавался унынию в полном одиночестве.
Недели, месяцы напролет я жил, не зная радости, но, пожалуй, не испытывая и горя: душа моя, истомленная скукой, разучилась чувствовать. Наука утратила для меня всякую привлекательность и постепенно сделалась мне противна: она только и могла, что напоминать мне о страшном уделе человека, который живет на земле, обреченный на страдания и гибель, не имея будущего, не питая надежд, не ожидая воздаяния. Я спрашивал себя, для чего же в таком случае жить, но не понимал также и для чего умирать. Смысла не было ни в том, ни в другом, и потому я наблюдал, как течет время и выпадают мои волосы, не противясь этому медленному дряхлению тела и души, призванному в конце концов даровать мне покой – вечный и печальный.
Наступила осень, и вид увядающей природы немного смягчил горечь моих мыслей. Мне нравилось ступать по сухой листве и следить за стаями перелетных птиц, которые ровными рядами двигались к югу и оглашали окрестность тревожными криками. Я завидовал этим созданиям, которые повинуются инстинктам и не знают, что такое неудовлетворенные желания, ибо желают лишь того, что им по силам; конечно, им постоянно приходится защищать свою жизнь, зато они не знают скуки – томительнейшей из мук. Нравилось мне и любоваться цветением последних осенних цветов. Даже этим эфемерным созданиям, думал я, выпала участь счастливее участи человеческой; я привязался к ним и поспешил обнести изгородью возделанный мною уголок сада, чтобы ничья грубая нога не растоптала мои посадки, ничья святотатственная рука не покусилась на мои цветы. Праздношатающихся монахов я отгонял от своего цветника так яростно, что, к великой радости настоятеля, был сочтен помешанным.
Осенними вечерами воздух свеж, но приятен; днем я работал в саду, надеясь, что физическая усталость прогонит бессонницу, а на закате нередко ложился на скамейку, которую сам же сложил из дерна, и надолго погружался в смутные мечтания. Мысли мои уносились вдаль, подобно листьям, сорванным с дерева осенним ветром; я привыкал вести растительный образ жизни; мне хотелось разучиться думать. Постепенно я впадал в забытье, которое нельзя назвать ни явью, ни сном, ни страданием, ни блаженством; иных, более острых наслаждений я уже не искал. Мало-помалу я начал с большей легкостью впадать в это оцепенение и находить в нем известную приятность. Особенное удовольствие доставляла мне возможность не вспоминать о прошлом и не опасаться будущего. Я всем своим существом предавался настоящему. Я постигал жизнь природы, наблюдал за мельчайшими подробностями ее бытия, проникал в самые сокровенные ее тайны. Я вслушивался в ее прихотливую музыку, и сознание моей причастности к этой гармонии, недоступной умам суетным, отвлекало меня от мыслей о самом себе. Благостные эти восторги облегчали томление сердца, не знающего, кого любить и кем восхищаться. Я любовался изяществом ветки, нежно колеблемой ветром, я со слезами на глазах внимал слабому и печальному пению кузнечика. Я благодарил цветы за их ароматы, я гордился их красотой, которую взращивал и лелеял. Впервые за долгие годы я вновь ощутил, какой поэтической может быть жизнь в монастыре, в этом святилище, выстроенном на возвышенности, дабы человек, удалившись от мирского шума, предавался там созерцанию небесной сферы. Ты знаешь то место над морем, где стоит белая мраморная беседка, увитая виноградом. Там растут четыре пальмы – их посадил я; там же росли некогда и мои цветы, от которых нынче не осталось и следа; теперь место моей клумбы и прекрасного сада, разбитого Эбронием, занял монастырский огород. В пору, о которой я веду речь, место это, по признанию редких путешественников, его видевших, было одним из живописнейших уголков на земле. В то время воды мраморных фонтанов, которые теперь служат для удовлетворения нужд низменных и презренных, струились лишь для услаждения музыкального слуха истинных ценителей. Прозрачная родниковая вода падала из одной красномраморной раковины в другую и скрывалась под сенью кипарисов и смоковниц, унося с собой свою тайну. Ветви лимонов и цератоний низко нависали над цветником и, переплетаясь, укрывали его, к моей радости, от посторонних взоров. Впрочем, с той стороны, где склон горы отвесно спускается к берегу, я оставил проем среди деревьев: в этой раме из цветов и листьев взору моему представало величественное зрелище морских волн, которые разбивались о прибрежные скалы, а на горизонте вспыхивали огнем заката или рассвета. Погруженный в бесконечные грезы, я проводил в своем саду дни и ночи напролет; здесь, думал я, мне открывается гармония, невнятная грубым чувствам прочих людей, здесь до слуха моего доносится и жалобная песнь, принесенная южными ветрами с мавританского берега, и песнопение затерянного среди бесплодных громад Атласских гор безвестного дервиша, который ведет жизнь нищую и отшельническую, но вкушает куда больше радостей, чем я, ведущий жизнь сытую и безбедную, ибо он верит, а я нет.
Мало-помалу мельчайшие перемены в жизни природы наполнились для меня глубоким смыслом. Отдаваясь своим впечатлениям с тем простодушием, на какое способны лишь люди, испившие чашу уныния до дна, я нечувствительно раздвигал узкие рамки достоверного до более широких рамок возможного, а вскоре возможное, воспринятое любящим сердцем, открыло мне еще более широкие горизонты – те, каких разум мой не дерзал даже вообразить. Во всем, что прежде казалось мне достоянием слепого рока, я находил теперь следы таинственного промысла. Мне открылся смысл счастья, который я так бездарно позабыл. Прежде я размышлял только о страданиях живых существ, теперь я обратил свой взор на их радости и поразился тому, как равномерно распределены среди смертных те и другие. Все живые существа, обретя новый облик и новый голос, поведали мне секреты, о каких холодное и поверхностное наблюдение, принимавшееся мною за науку, не могло дать мне ни малейшего понятия. Природа развернула передо мною список бесконечных тайн и опровергла скороспелые суждения людей полуобразованных. Одним словом, жизнь обрела в моих глазах священный характер и великую цель, какой не могли сообщить ей ни религия, ни наука и о какой мой заблудший ум смог узнать лишь от моего прозревшего сердца.
Однажды вечером я вслушивался в рокот морских волн, лениво набегающих на песчаный берег; я пытался понять, отчего через равные промежутки времени море, словно следуя какой-то вечной мелодии, посылает на сушу три волны выше и сильнее остальных; тут до меня донесся голос рыбака, который, растянувшись на корме лодки, обращал свою песню к звездам. Конечно, мне и прежде не раз доводилось слышать пение рыбаков – и этого певца, возможно, ничуть не реже других. Слух мой, однако, оставался невосприимчив к музыке, а мозг – к поэзии. Народные песни казались мне выражением одних лишь грубых страстей, и я от всей души презирал их. В тот вечер я, как обычно, испытал раздражение при звуках голоса, который заглушал шепот волн и мешал мне размышлять о них. Однако спустя несколько мгновений я заметил, что рыбак невольно следует в своей песне ритму морских волн, и подумал, что, возможно, слышу одного из тех великих, истинных художников, воспитанием которых занимается сама природа и которые по большей части живут и умирают в безвестности. Поскольку догадка эта вполне соответствовала обычному ходу моих тогдашних размышлений, я стал терпеливо слушать полудикое пение этого полудикого музыканта, который неспешно и печально восхвалял тайны ночи и ласки ветра. В стихах его было мало рифм и мало складу, в словах – мало смысла и еще меньше поэзии, однако колдовская прелесть его голоса, простодушное обаяние ритма и удивительная красота напева, печального, тягучего и монотонного, словно мелодия моря, поразили меня так сильно, что внезапно мне открылось самое существо музыки. Мне показалось, что музыка – это и есть истинный поэтический язык человека, не зависящий ни от слов, ни от писаной поэзии, подчиняющийся особой логике и способный выражать идеи самые возвышенные и столь грандиозные, что никакой иной язык передать их не в силах. Я решился заняться музицированием, чтобы проверить это предположение, и в самом деле, как ты, возможно, слышал, добился на этом поприще некоторых успехов. Лишь одно смущало меня: в прежние годы я заплатил слишком большую дань логике, чтобы безболезненно отринуть ее теперь. Оттого мне так и не удалось научиться сочинять музыку самому, а ведь мечтал я именно об этом. Убедившись, что я не способен выразить свои мысли на этом языке, по всей вероятности чересчур возвышенном для меня, я обратился к поэзии и стал сочинять стихи. Результат получился столь же неутешительный: я страстно хотел говорить стихами, но мало заботился об их источнике, а между тем поэзия нуждается в источнике, в сильном и глубоком чувстве, которое бы ее питало; понятия об этом чувстве я имел лишь самые смутные, и потому поэзия моя была несовершенна.
Недовольный своими стихами, я перешел к прозе, которой силился придать вид как можно более лирический. Единственный предмет, который я мог описать со знанием дела, была моя собственная печаль и те муки, какие я претерпел, ища истину. Вот образчик моего творчества:
«О величие мое! О моя сила! Грозовой тучей нависли вы над землей, огненной молнией пали на нее. Смертью и бесплодием поразили вы все плоды и цветы на поле моем. Обратили вы его в унылую пустыню, и воссел я один среди развалин. О величие мое! О моя сила! Добрую службу сослужили вы мне или злую?О гордыня моя! О моя наука! Жгучим вихрем взметнулись вы, точно самум в пустыне. Под песком и пылью погребли вы пальмы, замутили и иссушили водоемы. Искал я родник, чтоб напиться, и не нашел родника; не помнит безумец, возмечтавший о надменных вершинах Хорива, укромного пути к тенистому ручью. О наука моя! О моя гордыня! Бог ли послал вас мне или дьявол?
О добродетель моя! О мое воздержание! Встали вы, точно башни, протянулись, точно стены мраморные, выросли, точно медные щиты. Скрыли вы меня под ледяными сводами, погребли в мрачных склепах, где царят тревога и страх; жестко и холодно было мне спать, и часто грезил я о теплом небе и мирах изобильных. Искал я солнечный свет, но света не нашел, ибо во тьме потерял я зрение, и отказали мне ноги, и не дошел я до края бездны. О добродетель моя! О мое воздержание! Гордыня ли питала вас или вдохновляла мудрость?
О вера моя! О моя надежда! Утлым, ненадежным челном обернулись вы для меня, и носился я по безбрежным морям, среди лживых туманов и пустых иллюзий, смутных образов неведомого отечества. Когда же, устав сражаться с ветром и стенать под его порывами, спросил я, куда вы ведете меня, тогда зажгли вы огни на скалах, и узнал я, чего мне бежать, но не узнал, к чему стремиться. О вера моя! О моя надежда! Кто внушил вас – грезы безумия или таинственный голос Бога живого?»
Все эти невинные занятия возвратили покой моей душе и бодрость моему телу; однако ровное течение моей жизни было прервано новым, нежданным бедствием. На смену заразной болезни, обрушившейся на монастырь и его окрестности, пришла чума, поразившая весь наш край. У меня имелись некоторые соображения относительно способов предотвратить эпидемические заболевания посредством весьма простых гигиенических мер. Особам, с которыми я поделился этими соображениями, они сослужили добрую службу, и потому я прослыл человеком, знающим лекарство от чумы. Отказываясь от репутации столь лестной, я, однако же, охотно обнародовал свои скромные открытия. Тогда страждущие потянулись ко мне со всех сторон, и вскоре у меня уже едва хватало времени и сил на то, чтобы принять всех желающих; более того, в виде исключения настоятелю пришлось даже разрешить мне покидать монастырь в любое время суток и отправляться к больным. Однако чем больше жертв уносила чума, тем меньшее место занимали в душах монахов благочестие и сострадание, поначалу заставлявшие их держаться милосердно и человеколюбиво. Эгоистичный, подлый страх вытеснил из их сердец все добрые чувства. Мне запретили иметь сношения с больными чумой; двери монастыря закрылись для несчастных, нуждающихся в помощи. Я не мог скрыть от настоятеля своего возмущения. В другие времена он заточил бы меня в темницу, но в ту пору страх смерти до такой степени ослабил его дух и волю, что он выслушал меня с величайшим спокойствием и предложил мне поселиться в двух лье отсюда, в пустыни Святого Гиацинта, и жить в обществе тамошнего отшельника до тех пор, пока эпидемия не прекратится и возвращение мое в монастырь не перестанет грозить опасностью нашим братьям. Оставалось узнать, согласится ли отшельник делить хлеб и кров с новоявленным лекарем. Получив разрешение побывать в пустыни и поговорить с ее обитателем, я немедля отправился в путь. Я мало надеялся услышать благосклонный ответ: отшельник, раз в месяц приходивший к воротам монастыря просить милостыню, никогда не внушал мне симпатии. Хотя благочестивые простецы не оставляли его в нужде, он обязан был во исполнение своих обетов, не столько ради пропитания, сколько для смирения собственной гордыни, регулярно просить милостыню. У меня обычай этот вызывал величайшее презрение; угрюмый, молчаливый отшельник с его вытянутым лицом и блеклыми, глубоко посаженными глазами, которые, казалось, не выносили солнечного света, с его сгорбленной спиной, седой бородой, пожелтевшей от непогоды, и тощей длинной рукой, которую он протягивал скорее настоятельно, нежели смиренно, сделался для меня воплощением фанатизма и лицемерной гордыни.
Поднявшись на гору, я взглянул на море; вид его пленил меня. Сверху оно казалось огромной лазурной равниной, резко кренящейся к громадным береговым скалам; волны его, в эту пору пребывавшие в относительном спокойствии, напоминали ровные борозды, проведенные плугом. Эта голубая бездна, вздымавшаяся подобно холму и представлявшаяся твердой и плотной, словно исполинский сапфир, привела меня в такой головокружительный восторг, что, борясь со страстным желанием броситься вниз, я был вынужден ухватиться за ветки ближайшего масличного дерева. Мне чудилось, что при виде этого великолепия тело должно обрести силу духа и обнаружить умение летать. Я вспомнил тогда Иисуса, идущего по воде, и стал думать об этом божественном человеке, великом, как горы, сияющем, как солнце. «Кто бы ты ни был, метафизическая аллегория или греза восторженной души, – воскликнул я, – в тебе есть величие и поэзия, какой нет во всех наших достоверных фактах и логических рассуждениях, во всех наших замерах и подсчетах!..»
Не успел я произнести эти слова, как слух мой поразило некое заунывное пение, едва слышная скорбная молитва, раздававшаяся, казалось, из самых недр горы. Я обернулся. Некоторое время я пытался понять, откуда несутся эти странные звуки; наконец, взобравшись на соседний утес, я заметил в расщелине поодаль отшельника; голый по пояс, он рыл в песке могилу. У ног его лежал завернутый в циновку труп; из грубого савана торчали ноги, изъеденные чумными язвами. Из полуразверстой ямы, в которой не далее как вчера были в спешке зарыты другие трупы, исходило зловоние. Подле нового покойника лежал невысокий, грубо сколоченный деревянный крест – единственное украшение общей могилы; тут же стояла глиняная плошка с кропилом из ветки иссопа; костер из веток можжевельника очищал воздух. Падавшие отвесно солнечные лучи немилосердно жгли лысый череп и хилые плечи отшельника. С длинной янтарной бороды на грудь стекали струи пота. Охваченный почтением и жалостью, я кинулся к нему. Не выразив ни малейшего удивления, он, отбросив лопату, знаком велел мне взять труп за ноги, а сам подхватил его за плечи. После того как мы предали тело несчастного земле, отшельник вновь установил крест, окропил могилу святой водой, затем, попросив меня подбросить веток в костер, опустился на колени, прочел короткую молитву и удалился, не обращая на меня ни малейшего внимания. Он заметил, что я иду за ним следом, лишь когда мы достигли его пустыни; посмотрев на меня не без удивления, он осведомился, не нуждаюсь ли я в отдыхе. Я постарался как можно короче объяснить ему цель моего прихода. В ответ он молча пожал мне руку и, открыв дверь своего жилища, выдолбленного в скале, показал нескольких больных, лежавших на циновках; было видно, что дни их сочтены.
– Это рыбаки и контрабандисты, которых родные, страшась заразиться, выбросили на улицу. Я не могу вылечить этих несчастных; я утешаю их словами веры и любви, а затем, когда их страданиям приходит конец, предаю тела земле. Не входите, брат мой, – остановил он меня, видя, что я ступил на порог, – этим людям вы уже не поможете, а воздух там внутри насквозь отравлен; сберегите свою жизнь для тех, кого еще можно спасти.
– А за себя, отец мой, вы не боитесь? – спросил я.
– Нет, – отвечал он с улыбкой, – у меня есть верное средство.
– Какое же?
– Мое дело, – отвечал он вдохновенно. – Пока оно не исполнено, я неуязвим. Когда же во мне не будет больше надобности, я стану как другие люди. Если я заболею, то скажу: «Господи, да исполнится воля Твоя; раз Ты прибираешь меня, значит, Тебе больше нечего мне приказать».
При этих словах тусклые глаза его загорелись и, казалось, принялись излучать впитанный ими солнечный свет. Они сияли так ярко, что я вынужден был отвести взгляд и невольно посмотрел на море, сверкавшее у наших ног.
– О чем вы думаете? – спросил отшельник.
– О том, как Иисус шел по воде.
– Что же в этом удивительного? – не понял меня этот достойный старец. – Меня удивляет лишь одно: что святой Петр, видевший Спасителя своими глазами, мог усомниться в нем.
Я тотчас воротился в монастырь, желая рассказать настоятелю об успехе своего предприятия. Впрочем, я мог бы избавить себя от этого труда, если бы вспомнил, что монахам нет дела до устава, особенно когда ими владеет страх. Монастырские ворота были наглухо закрыты, а когда я постучался, привратник крикнул, что, чем бы ни кончился мой поход, в монастырь меня не впустят. Итак, я отправился назад в пустынь.
В обществе отшельника я прожил три месяца. Старец этот был настоящий святой, человек, какие встречались лишь на заре христианства. Пожалуй, во всем, что не касалось служения ближним, его можно было счесть существом весьма заурядным, но зато необходимость помогать страждущим обращала его в подлинного гения милосердия. Более всего восхищали меня его напутствия умирающим. В эти минуты он казался поистине богодухновенным; слова теснились в его душе и изливались бурно, подобно горному потоку. Горькие слезы омывали усталое лицо, изборожденное морщинами. Он знал дорогу к сердцам человеческим. Со страхом смерти он сражался так же бесстрашно, как Георгий Победоносец – со змием. Каким-то чудом он угадывал страсти, некогда волновавшие умирающих, и умел найти для каждого особые слова, даровать каждому особую надежду. Я с удовлетворением отмечал, что сильнее всего он желал облегчить каждому последние минуты пребывания на этой земле; соблюдение пустых формальностей, предписываемых Церковью, волновало его куда меньше. Эта снисходительность была тем драгоценнее, что, когда дело шло о нем самом, он соблюдал католические обряды с величайшей дотошностью и непреклонностью, однако милосердие есть дар Божий, чья власть выше Церкви и ее угроз. Одна слеза умирающего казалась отшельнику важнее всей церемонии соборования; мне случилось услышать от него фразу, поразительную в устах католика. Он поднес распятие к губам человека, стоявшего на пороге смерти; тот отвернулся и поцеловал вместо распятия руку отшельника, после чего испустил дух.
– Ничего! – произнес отшельник, закрывая покойнику глаза. – Тебе простится, ибо ты знал, что такое благодарность; если ты умел оценить самоотверженность человека в этом мире, ты сумеешь понять доброту Господню в мире ином.
Лето кончилось, а вместе с летним зноем прекратилась и эпидемия. Однако прежде чем монахи набрались храбрости и позволили мне воротиться в монастырь, я еще несколько времени прожил в пустыни. И я, и отшельник, мы оба нуждались в отдыхе; должен сказать, что эти дни поздней осени, проведенные в покое и прохладе, на лоне прекраснейшей природы, какую только можно вообразить, в полной независимости и бок о бок с человеком, воистину достойным уважения, доставили мне наслаждение ни с чем не сравнимое. Скудная и суровая жизнь, какую вел отшельник, нравилась мне, главное же, я чувствовал, что стал иным человеком: самоотверженный труд на благо ближних переродил меня. Сердце мое расцвело, словно цветок под дуновением весеннего ветерка. Только теперь я понял, что значит – любить всех людей, как братьев, что значит – служить всему человечеству, что скрывается за разговорами о милосердии и самопожертвовании; говоря короче, я понял, что такое жизнь души. Конечно, после того, как существование наше возвратилось в привычную колею, я стал различать в образе мыслей моего товарища некую ограниченность. Когда энтузиазм не служил ему опорой, в нем пробуждался узколобый святоша; однако я не пытался спорить с его предрассудками; слишком велико было мое почтение к вере, переплавленной в горниле подобной добродетели.
Наконец я получил приказ воротиться в монастырь; в то время я слегка приболел; болезнь моя не имела ничего общего с чумой, однако настоятеля эта весть напугала так сильно, что он согласился терпеливо ожидать полного моего выздоровления. Мне было дано позволение оставаться вне монастырских стен столько, сколько потребуется; я решил провести это время с как можно большей пользой.
До той поры я не разрывал обет по преимуществу из боязни скандала: не то чтобы я дорожил мнением света, с которым не желал иметь ничего общего; не то чтобы меня волновало уважение монахов, которых сам я не уважал ни в малейшей степени, однако природная твердость характера, глубокая убежденность в том, что всякая клятва священна, а главное, неодолимое почтение к памяти Эброния удерживали меня. Теперь, когда монастырь, можно сказать, сам исторг меня из своих пределов, я счел, что смогу оставить его, не подавая дурного примера и не изменяя собственным убеждениям. Я размышлял о жизни, какую вел в монастыре и какую мог бы продолжать, останься я в его стенах. Я спрашивал себя, может ли выйти из моего монастырского существования что-нибудь великое или полезное. Спиридион желал вести жизнь ученого бенедиктинца, однако для меня жизнь эта, какую он избрал для себя и какой, по всей видимости, желал для своих преемников, сделалась невозможной. Должно быть, первые спутники Спиридиона вселили в его душу мечту об уединенных ученых занятиях, о великих трудах, совершаемых под древними сводами святилища науки людьми сведущими и упорными. Спиридион успел узнать последних замечательных людей, воспитанных в монастыре, и тем не менее, по рассказам очевидцев, перед смертью он окончательно разочаровался в своем создании и не питал иллюзий относительно его будущего. Что же касается меня, то могу сказать о себе – без гордости, ибо имею право хвастать отнюдь не славными свершениями, а всего лишь тяжкими трудами, – что я был последним бенедиктинцем этого века, однако я ясно сознавал, что даже избранная мною роль мирного ученого более мне не подходит. Для покойных ученых занятий потребен покойный ум, а разве мог я сохранять хладнокровие в то время, когда род человеческий переживал грозные потрясения? Я видел государства, пребывающие на грани крушения, видел троны, колеблющиеся словно тростник в бурю, видел народы, просыпающиеся после долгого сна и грозящие отомстить всем своим врагам, видел добрых и злых, вместе стремящихся разорвать цепи, вместе питающих ненависть к прошлому. Я видел, что скоро разодрана будет завеса в храме надвое сверху донизу, как в час воскресения Распятого, и предстанут гневному взору народов, за коих страдал он, все гнусности, творящиеся за церковными стенами. Как же мог я взирать равнодушно на все эти предвестия великого переворота? Как мог я оставаться глух к рокоту людского океана, который грозил сломать плотины и затопить империи? В ожидании катастрофы, свидетелями которой все мы станем очень скоро, последние монахи могут в спешке опустошать винные погреба, дабы, напившись допьяна и наевшись до отвалу, растянуться на нечистой постели и ожидать гибели во хмелю. Но мне подобная участь не мила; мне потребно знать, как и зачем я жил, зачем и как должен умереть.
Всесторонне обдумав способы распорядиться обретенной свободой, я понял, что создан исключительно для трудов умственных. Разумеется, в первые годы моего разочарования в католицизме я вынашивал честолюбивые замыслы и предавался дерзким мечтаниям; я намеревался реформировать Церковь куда решительнее, чем Лютер; я желал усовершенствовать протестантизм. Ибо, подобно Лютеру, я был христианином; вскормленный в лоне Церкви, я не мог вообразить себе религию, рожденную вне
Церкви. Однако, перестав верить в Христа, сделавшись философом вослед своему веку, я не видел больше возможностей обновить Церковь; все они были уже испробованы и исчерпаны. В отношении свободы принципов я зашел так же далеко, как и прочие, и видел, что, дабы построить что-либо в мире, состоящем из одних руин, надобно предложить разрушителям хоть какой-нибудь план созидания. Я мог бы сделать нечто полезное в области естественных наук и, пожалуй, должен был это сделать, однако перспектива составить себе имя на открытиях такого рода нимало меня не привлекала; более того, я чувствовал, что хочу и могу заниматься только одним – исследованием вопросов философических. Я изучал естественные науки лишь в надежде, что они станут для меня путеводной нитью в лабиринтах метафизики и приведут к познанию Верховного существа. Потерпев неудачу, я разлюбил эти занятия, с самого начала имевшие для меня интерес второстепенный; утрата же каких бы то ни было верований оказалась испытанием столь нелегким, что я не стремился объявлять о нем людям. Да и что значил бы лишний голос в том громком хоре проклятий, который звучал по адресу гибнущей Церкви? Было бы подло бросать камень в установление умирающее, ставшее вдобавок жертвой французской революции, последствия которой, Анжель, скажутся в наших краях куда сильнее и скорее, чем полагают здешние обитатели. Вот почему я столько раз советовал тебе не покидать поста, на котором, возможно, ты в самое ближайшее время сможешь встретить лицом к лицу опасность, достойную отпора. Что же касается меня, то хотя дух у меня уже давно не монашеский, платье я ношу монашеское и никогда его не сброшу. Я принадлежу к этому сословию; не скажу, что оно ничем не хуже других, но оно существует, и чем хуже его репутация, тем важнее людям, к нему принадлежащим, вести себя с достоинством. Если нам придется жить в миру, мы, уверяю тебя, встретим не один иронический или презрительный взгляд; печальным ночным птицам, пятнадцать столетий скрывавшимся за темными и пыльными старыми стенами, нелегко выйти на свет. Сколько ни отращивай волосы, они все равно не спрячут лежащей на нас несмываемой печати нашего сословия – тонзуры; будем же идти по жизни с гордо поднятой головой, не стыдясь этого стигмата, прежде вызывавшего у народов почтение, а теперь пробуждающего в них ненависть. Разумеется, Анжель, нам придется нести наказание за преступления, которых мы не совершали, за пороки, которых мы не знали. Пусть спасается бегством тот, кто чувствует себя виновным; пусть прячет лицо тот, кто заслужил пощечину. Но мы – иное дело; пусть ударят нас по щеке, пусть свяжут нам руки, мы сохраним в уме и в душе память о крестной муке Христа, этого возвышенного философа, чье имя я произношу редко, ибо слишком часто твердят его вокруг меня уста нечистые, я же стараюсь упоминать это славное имя, лишь когда веду речь о вещах серьезнейших, о чувствах глубочайших.
Как же мог я с толком распорядиться своей свободой? Я искал ответа на этот вопрос, но не находил его. Конечно, если бы меня влекла светская суета, охота к перемене мест и зрелищ, я бы уехал надолго, а быть может, и навсегда. Я исследовал бы дальние страны, пересек бескрайние моря, познакомился с дикими племенами. Подобные соблазны не раз дразнили меня. Я мечтал вместе с каким-нибудь ученым миссионером покинуть шумные молодые нации и вкусить спокойной жизни среди народов, свято хранящих законы и верования древности. В Китае и тем более в Индии открылось бы мне обширное поприще для разысканий и наблюдений. Однако стоило мне вообразить этот замогильный покой, на который я обрек бы себя еще при жизни, как меня охватывало непреодолимое отвращение. Мне не хотелось видеть народы, которые умерли в отношении умственном, которые, точно быки с ярмом, смиряются с законами далеких предков и живут, спеленутые по рукам и ногам, точно египетские мумии. Какой бы страшной, жестокой и кровавой ни оказалась развязка драмы, готовившейся в непосредственной близости от меня, я знал, что это – история, это – вечный круговорот вещей, это – злой рок или воля Провидения, одним словом, это – жизнь, кипящая у моих ног, словно лава. Я скорее согласился бы уподобиться травинке, уносимой этим бурлящим потоком, нежели отыскивать под охладелым пеплом окаменелые останки жизни давно угасшей.
Не успел я утвердиться в этих мыслях, как меня посетило новое искушение; теперь я вознамерился броситься в самый водоворот событий, покинуть здешние края, еще не очнувшиеся от дремоты, и отправиться туда, где сверкают молнии и гремит гром. Забыв, что я монах и намерен оставаться монахом до конца своих дней, я почувствовал себя мужчиной, причем мужчиной, полным энергии и страсти; я стал воображать себе жизнь действенную и, наскучив размышлениями, ощутил, словно юный школяр (вернее было бы сказать, словно юный скакун), настоятельную потребность двигаться, растрачивать свои силы. Тщеславие мое принялось дурманить меня лживыми обещаниями. Оно шептало мне, что там, в миру, я, возможно, смогу принести пользу, что философические идеи сделали свое дело и настал момент воплотить их в жизнь; что нынче общество нуждается в высоких чувствах, что скоро для всех людей пробьет час испытания, и тут-то выяснится, что возвышенные сердца столь же необходимы, сколь и редки. Я ошибался. Великие эпохи порождают великих людей; одно великое дело влечет за собой другое. Французская революция, многократно оболганная тупицами, которых она приводит в ужас, и святошами, которых она грозит истребить, ежедневно – хотя ты, Анжель, об этом не подозреваешь – рождает на свет фаланги героев: в здешних крах этих людей осыпают бранью, но наступит день, когда ты станешь с жадностью выискивать их имена в анналах современной истории.
Что же до меня, я покину этот мир, так и не узнав до конца разгадку великой революционной загадки, поставившей в тупик множество узколобых гордецов и дерзких умников. Я не рожден для знания. Можно сказать, что жизнь моя представляла собою не что иное, как стремительное скольжение в бездну, куда я ринулся, не успев оглядеться по сторонам и не принеся никакой пользы человечеству, если не считать таковыми мои страдания – крохотную точку на циферблате вечности. Тем не менее, когда я вижу, что сегодня люди совершают еще больше зла во имя будущего, чем совершали мы во имя прошлого, я говорю себе, что все это зло не может не принести много добра; ибо сегодня я верую в Провидение, верую в то, что человечество безотчетно, по наитию исполняет великие и глубокие замыслы Господа.
С этим новым приступом честолюбия – последним порывом сердца, которое отказывается взрослеть, стареть и набираться опытности, – совладать мне было нелегко. Меня манила американская революция; французская революция манила меня еще сильнее. Буря заставила пристать к нашему берегу корабль, плывший во Францию. Пока моряки готовили судно к продолжению пути, иные из пассажиров поднялись к пустыни, намереваясь отдохнуть здесь от тягот плавания. То были люди выдающиеся; во всяком случае, мне они показались таковыми, ибо я испытывал страстную потребность услышать свободные речи о последних политических событиях и философическом движении, их породившем. Люди эти были исполнены веры в будущее, веры в самих себя. Они расходились в представлениях о средствах достижения цели, однако нетрудно было понять, что в минуту опасности всякое средство покажется им превосходным. Этот способ решения сложнейших вопросов социальной справедливости был мне приятен и страшен одновременно. Отвага и самоотверженность находили отзвук в моей душе и будили дремлющие в ней чувства; страсть к насилию и безоглядному разрушению, напротив, противоречила моему понятию о справедливости и привычке терпеть страдания.
Среди людей этих был юный корсиканец, чьи суровые черты и пронзительный взгляд никогда не изгладятся у меня из памяти. Небрежность его наряда вкупе с величайшей сдержанностью манер, речи энергические и краткие, светлые проницательные глаза, римский профиль, очаровательная неловкость, проистекавшая, кажется, из некоего недоверия к самому себе и готовая при малейшем вызове превратиться в дерзкую отвагу, – все в этом юноше поразило меня, и, хотя он делал вид, будто презирает все современное и почитает лишь спартанскую суровость, я, как мне казалось, угадал страстное его желание броситься в водоворот жизни, где, предчувствовал я, ему суждена блестящая будущность. Не знаю, прав я был или ошибся. Быть может, юноша этот так до сих пор и не сумел прославиться, быть может, напротив, имя его ныне уже у всех на устах, а быть может, он пал на поле боя, подкошенный, словно юный колос задолго до времени жатвы. Если он живет и здравствует, да помогут ему небеса употребить могучие силы на следование строгим принципам, а не на поощрение тщеславных порывов! Старый отшельник не вызвал у него ни малейшего интереса, я же привлек его внимание, хотя был этого куда менее достоин, и мы провели то недолгое время, что было нам отведено судьбой, прогуливаясь по каменистой террасе рядом с пустынью. Он шел быстрым, но неровным шагом, то и дело меняя ритм, подобно морю, к шуму которого он постоянно прислушивался, замирая от восторга, ибо он был равно чувствителен и к поэзии жизни, и к ее действительности. Ум его, казалось, обнимал и небо, и землю, но был больше привержен земле, нежели небу, так что промысел Божий представлялся ему не чем иным, как заступником рода человеческого и его великих судеб. Богом его была воля, идеалом – могущество, жизненною стихией – сила. Я хорошо помню порыв энтузиазма, охвативший его в ту минуту, когда я попытался заговорить с ним о его религиозных убеждениях.
– О! – вскричал он живо. – Я не хочу знать никого, кроме Иеговы, ибо это бог силы. Долг, дарование закона на горе Синайской, тайна пророков – все это сводится к одному-единственному – к силе! Все существа алчут силы, ибо без силы нет развития. Всякая вещь хочет существовать, ибо существование есть ее долг. У кого нет сил желать, тому суждено погибнуть; вот судьба всех – от человека без сердца до травинки без почвы. О отец мой! тебя влекут тайны природы, склонись же перед силой! Взгляни окрест: какая страсть к господству, какая воля к сопротивлению! Как алчет лишайник покорить камень! Как обвивает плющ деревья и, не умея пронзить их кору, сжимает ее в гибельном объятии, словно разъяренный аспид! Взгляни, как скребет землю волк, как разрывает снег медведь, прежде чем устроиться на ночлег. Увы! Как же могут люди и народы не идти войной друг на друга? Как может жизнь общественная не быть постоянным столкновением противных воль и нужд, когда вся жизнь природы есть беспрестанная борьба, когда волны морские налетают одна на другую, когда орел камнем бросается на зайца, а ласточка вонзает клюв в дождевого червя, когда иней истачивает мрамор, а снег не тает на солнце? Подними голову; взгляни на эти гранитные глыбы, которые нависают над нами, точно великаны: много столетий подряд они противостоят бешеным порывам ветра! Чего ищут эти каменные боги, против которых бессилен сам Эол? Отчего Атласские горы не рушатся под тяжестью материи? Отчего свершаются циклопические труды в бездонных недрах вулкана, отчего извергает он наружу кипящую лаву? Оттого, что всякая вещь ищет занять свое место и заполнить как можно большее пространство; оттого, что потребна огромная внешняя сила, дабы оторвать крупицу гранита от этих скал; оттого, что всякое существо и всякий предмет несут в себе зародыши своего рождения и смерти; оттого, что весь Божий мир есть не что иное, как зрелище великой битвы, и порядок в пространстве и времени зиждется исключительно на борьбе – борьбе всеобщей и бесконечной. Будем же трудиться, о смертные, во имя собственного нашего существования! О человек! Переделывай свое общество, если оно дурно; бери пример с трудолюбивого бобра, строящего себе дом. Охраняй свое общество, если оно хорошо; бери пример с рифа, умеющего устоять под натиском хищных волн; ведь если ты опустишь руки, если положишься на волю вздорного случая и не позаботишься о своем будущем, если покоришься игу и не станешь бороться за собственную свободу, ты умрешь в пустыне, подобно роптавшим сынам Израилевым. Если предашься трусости, если согласишься терпеть беды знакомые, дабы избежать тех, каких еще не знаешь, если станешь терпеть жажду, потому что не веришь роднику в горах и жезлу пророка, по заслугам покинет тебя небо, захлестнет тебя море равнодушной волной. Да, и еще раз да, лень и равнодушие – вот величайшее зло, кое способен сотворить человек, вот величайшее кощунство, коим способен он себя запятнать. Грех тем, кто именует священным словом «смирение» сию трусливую и беспечную покорность, тем, кто славит человека за то, что он безропотно сносит наглость и деспотизм других людей; будь проклята та дорога, которой ведут человечество эти ложные пророки!
Так говорил он, а морской ветер раздувал его длинные темные волосы. Не стану и пытаться передать тебе силу и сжатость его речей; мне это не удастся; в памяти моей осталась лишь суть его идей, а перед глазами у меня долго стояло его лицо. Я проводил его; я доплыл с ним в лодке до борта корабля. Когда настал час прощания, он с силой пожал мне руку и спросил:
– Что же, поедемте с нами?
Сердце мое дрогнуло в ту минуту и забилось так сильно, словно хотело выскочить из груди; оно звало меня последовать за этим юношей, чья энергия тронула неведомые струны моей души. Однако в то же самое время другая, непостижная сторона характера корсиканца приводила меня в ужас, и я выпустил белую его руку, холодную, как мрамор. С вершины прибрежных скал я долго следил глазами за кораблем и видел своего нового знакомца на верхней палубе: он рассматривал в бинокль морские рифы; обо мне он тотчас забыл. Когда корабль исчез за горизонтом, я пожалел, что не сообразил спросить имя корсиканца.
И вот я остался в одиночестве; казалось, будто на моих глазах погас последний луч солнца и я погрузился в вечную тьму. Сердце мое сжалось; хотя стоял белый день и солнце палило немилосердно, для меня свет померк. Тут-то пришли мне на память слова из моего сна, и в порыве отчаяния я произнес их вслух:
– То, что принадлежит могиле, должно уйти в могилу!
Остаток дня я пребывал в величайшем волнении. Пока путешественники уговаривали меня последовать за ними, я не сомневался, что, отвергая их советы, поступаю правильно; теперь же, когда они уплыли навсегда, мне стало казаться, что отказ мой продиктован не мудростью, но трусостью. Я был подавлен, я пребывал во власти сомнений; свет вокруг меня померк, черная сутана тяготила, словно свинцовый колпак; я опротивел самому себе. Из последних сил добрался я до своего камышового ложа и заснул, мечтая никогда не просыпаться.
Впервые за двенадцать лет я увидел во сне аббата Спиридиона. Мне снилось, что он вошел в пустынь, миновал мирно спящего отшельника и спокойно уселся подле меня. Я различал его нечетко, но знал, что вижу и слышу именно его; я узнавал его голос, тот же самый, что и в предыдущих снах, хотя не слышал его уже много лет. Он говорил со мной долго, страстно, и речи его взволновали меня. Проснувшись, я не мог вспомнить ни единого слова, однако мне было ясно, что Спиридион в чем-то упрекал меня, и весь день я томился, словно ребенок, застигнутый врасплох и не сознающий тяжести своего прегрешения. Мысль о Спиридионе не покидала меня, да я и не думал ее прогонять; прежде я опасался, как бы она не оказалась предвестием душевной болезни, теперь же был готов потерять разум при условии, что безумие мое будет не буйным; при моей склонности к меланхолии тихое помрачение ума казалось мне куда привлекательнее трезвого отчаяния.
Следующей ночью тот же сон повторился; и в третью ночь Спиридион снова пришел ко мне. Я перестал задаваться вопросом, следует ли считать его посещение результатом мании, завладевшей смятенным разумом, или же сношения между душами живых и мертвых в самом деле возможны. Если не ум, то сердце мое пребывало в покое, ибо с некоторых пор я посвящал все свое время делам милосердия. Я больше не стремился сделаться более просвещенным и более сведущим, теперь мне хотелось стать более честным и более справедливым. Итак, я положился на судьбу. Последняя жертва моя, как ни дорого она мне далась, принесла свои плоды: я уверился в том, что поступил правильно. Не знаю, осуждала ли тень, навещавшая меня с таким постоянством, мои сомнения; главное, что я больше не боялся ее; навсегда порвав с живыми, я почувствовал в себе довольно силы, чтобы пренебречь мнением мертвых.
На четвертый день стало известно, что церковное начальство велит мне возвратиться в монастырь. До епископа дошли слухи о моем общении с путешественниками, которые попали в наши края так неожиданно, что ускользнули от его надзора. Высшее духовенство опасалось, как бы я не установил тайных связей с местными мятежниками или с неблагонадежными иностранцами; мне предписывали немедленно вернуться на прежнее место. Я покорился этому приказу с полнейшим безразличием. Тронули меня только сожаления доброго отшельника. Правда, почтение к воле начальства не позволило ему воспротивиться моему уходу или высказать свое недовольство, однако, увидев, что я вот-вот скроюсь среди деревьев, он окликнул меня, обнял, а затем оттолкнул и быстрым шагом направился в свою молельню. Тогда я в свой черед бросился за ним и, впервые за долгие годы преклонив колени перед человеком, да притом перед священником, испросил у него благословения. Мы простились навеки; следующей зимой он умер; ему шел девяностый год, и он был человеком слишком безвестным, чтобы в Риме удосужились причислить его к лику святых. Меж тем мало кто из христиан был этого так достоин. Окрестные крестьяне разрезали на мелкие кусочки его грубое монашеское одеяние и до сих пор носят эти лоскутки ткани у себя на груди вместо ладанок. Контрабандисты, всегда находившие приют в его пустыни, заказали в приходской церкви великолепную службу за упокой его души.
Я расстался с отшельником около полудня и берегом моря направился в монастырь; я избрал самую длинную дорогу, ибо знал, что наслаждаюсь свободой в последний раз в жизни; плечи мои сгибались под тяжестью прожитых лет, а сердце щемила печаль.
День выдался жаркий; на солнечных склонах скал было уже заметно наступление весны. Дорогу, которою я шел, проложили не люди; ее отвоевали у камней морские волны, и борьба этих двух стихий еще не пришла к концу, о чем свидетельствовали тысячи неровностей почвы. После двухчасового пути под раскаленным солнцем я, выбившись из сил, присел отдохнуть на черном гранитном валуне, омываемом белыми пенистыми волнами. Дикий этот уголок полнился мрачным рокотом моря. Старая полуразрушенная башня, приют буревестников и чаек, грозила обрушиться мне на голову. Камни ее, изъеденные соленой водой, цветом и шероховатостью, не отличались от соседних утесов, так что создание рук человеческих почти полностью сливалось с созданиями природы. Я сравнивал себя с этим покинутым обиталищем, постепенно разрушаемым бурями, и задавался вопросом, обязан ли человек так же ожидать полного своего уничтожения от времени или случая; не имеет ли он права, исполнив все обязанности и принеся все жертвы, приблизить час перехода в мир иной, туда, где ему уготован вечный покой; мысли о самоубийстве смущали мой ум. Волнуемый ими, я поднялся и стал расхаживать по краю валуна; я ходил так стремительно и так неосторожно, что не свалился в море лишь по чистой случайности. Внезапно что-то прошелестело за моей спиной, как будто край чьего-то платья задел за ветви кустарника. Я обернулся, но никого не увидел. Не успел я, однако, сделать и нескольких шагов, как шелест за моей спиной послышался вновь, а на третий раз ледяная рука легла на мой пылающий лоб, и тогда я узнал Духа и сказал, объятый страхом:
– Открой мне твою волю, и я исполню ее, если то будет воля родителя и друга, а не фантазия прихотливого призрака; ибо я могу найти защиту от всего, и даже от твоих приказов, в смерти.
Ответа я не услышал, но ледяная рука отпустила мой лоб, а взглянув вперед, я увидел в некотором отдалении аббата Спиридиона в старинном платье – точно таком же, в каком он предстал мне у смертного ложа Фульгенция. Спиридион стремительно удалялся по длинной огненной полосе, зажженной в море солнечными лучами. Дойдя до горизонта, он обернулся, сам сияя, словно солнце, и одной рукой указал мне на небо, а другой – на дорогу, ведущую в монастырь. Затем он исчез, а я продолжил свой путь, исполненный радости и восторга. Пускай я лишился ума, зато меня посетило видение величавое и возвышенное».
– Отец Алексей, – перебил я рассказчика, – должно быть, вам было нелегко вновь свыкнуться с монастырской жизнью.
«Разумеется, – отвечал он, – жизнь отшельническая больше отвечала моим вкусам, нежели та, какую следовало вести в монастыре; однако это волновало меня очень мало. Не суетного земного счастья я искал; не ребяческое стремление к благополучию двигало мною; единственное, чего я желал, было обретение если не веры в Бога, то, по крайней мере, надежды на него. Сумей я усовершенствовать свою душу так, чтобы она открылась истине, мудрости и добродетели, я почитал бы себя счастливым настолько, насколько может быть счастлив человек на этой земле; но увы! – даже принеся последнюю, громадную жертву, я не избавился от сомнений. Правда, я вел теперь жизнь более добродетельную, чем в ту пору, когда покинул монастырь. Устав возделывать бесплодное поле чистого ума или, вернее сказать, осознав, как велики те просторы души, которые ложная философия желает свести к холодным метафизическим спекуляциям, я ощущал суетность всего, что прежде пленяло меня, и мечтал о мудрости, которая сделала бы меня лучше и чище. Самоотвержение возвратило мне способность быть милосердным; дружба научила сердечной нежности; поэзия и искусство внушили предчувствие жизни вечной; Спиридион, мой добрый гений, возвратил веру и энтузиазм; однако я сделал еще не все необходимое; оставалось исполнить свой долг, но прежде надобно было понять, в чем он заключается. Заботу о нескольких больных, которым я облегчил физические страдания, я не мог поставить себе в заслугу: я помог им походя, Провидение же вознаградило меня за это сторицею, даровав мне дружбу двух возвышенных душ – отшельника на земле и Эброния на небе. Итак, возвратившись в монастырь, я занялся поисками своего предназначения. Порой я по-прежнему испытывал недоверие к тому, что в другое время назвал бы наваждением, фантазиями ума, склонного к вере в чудеса; я спрашивал себя, какую пользу может принести монах, затворившийся в стенах монастыря, в наш век, когда великие труды монастырских эрудитов прошлых столетий уже принесли свои плоды и все сокровища, прежде скрытые от людских глаз, явлены роду человеческому для его обучения и просвещения; в наш век, когда – и это куда более важно! – религия перестала нуждаться в монастырском уединении, а люди перестали нуждаться в религии. Что же могу я сделать для настоящего, если сам прикован к прошлому? Как могу идти и показывать дорогу другим, если сам связан по рукам и ногам?
Вот великий, единственный поистине великий вопрос, какой поставила перед мною жизнь. Разрешению его посвятил я свои последние годы; не скрою от тебя, бедный мой Анжель, что ответа я не нашел. Мне осталось одно – с грустью признать, что больше я ни на что не способен, и смириться со своей участью.
О дитя мое! До сих пор я не предпринимал ничего, чтобы разрушить в тебе католическую веру. Я не сторонник обучения чересчур стремительного. Не стоит спешить с разрушением идей твердо усвоенных, если на их место хочешь поставить идеи новые, неизведанные; не стоит торопиться низвергнуть юный ум в бездну сомнения. Сомнение есть необходимое зло. Можно даже сказать, что оно есть великое добро и что сомнение человека страждущего, смиренного, нетерпеливо алчущего обрести веру есть одно из величайших достоинств прямой души перед Господом. Да, разумеется, человек, закосневший в безразличии к истине, подл, человек, находящий отраду в циническом отрицании, безумен или порочен, но тот, кто плачет над собственным невежеством, достоин почтения, а тот, кто для борьбы с невежеством не жалеет ни времени, ни сил, велик, даже если труды его не принесли еще плода. Однако для того, чтобы пересечь бурное море сомнения и не пойти ко дну, потребны могучая душа или зрелый разум. Многие юные умы отважились пуститься вплавь по этому морю и, не имея компаса, навсегда сгинули в пучине, стали добычей подводных чудищ, жертвой страстей, ничем не сдерживаемых. Расставаясь с тобою, я вверяю тебя Провидению. Оно позаботится о физическом и нравственном твоем спасении. Просвещение нашего века, пролившее такой яркий свет на прошлое и бросившее лишь несколько слабых лучей в будущее, придет тебе на помощь даже под этими темными сводами. Встреть его без страха, но не пленяйся им сверх меры. В порыве отвращения или гнева люди могут разрушить свой дом очень быстро, но отстроить его заново так же быстро им не удастся. Будь уверен, что жилище, которое они предложат тебе, окажется тебе не по росту. Построй же свой дом сам, и пусть он укроет тебя от бурь. У меня нет для тебя иных наставлений, кроме истории моей жизни. Я хотел преподать тебе этот урок чуть позже, но время идет быстро, события свершаются стремительно. Я умру, и, если тридцать лет страданий принесли мне хотя бы несколько чистых истин, я хочу завещать их тебе: распорядись ими согласно велениям своей совести. Я сказал тебе, и не удивляйся спокойствию, с каким я это повторяю, что жизнь моя представляла собою долгое противоборство веры и отчаяния; окончится она в печали и смирении. Однако это – удел моей бренной оболочки, душа же моя полна надежды на жизнь вечную. Не смущайся тем, что видел меня во власти великих сомнений; это также должно послужить тебе уроком. Помни, что человеческий разум и сознание человеческое не созданы для отчаяния, ибо, какую бы власть ни имели надо мною софизмы гордыни, доводы безверия, горести уныния, тревоги страха, в преддверии смерти я вновь питаю надежду. Надежда, сын мой, есть вера нашего века.
Но продолжу свой рассказ. Я возвратился в монастырь в состоянии крайнего возбуждения. Не успел я, однако, переступить порог обители, как эти ледяные своды, под которыми я по доброй воле решился погрести себя вторично, легли мне на плечи исполинским грузом. Когда ворота с ужасным грохотом захлопнулись за мной, эхо, словно очнувшись, повторило этот мрачный звук на тысячи ладов. Этот похоронный марш ужаснул меня невыразимо, и, повернув назад, я бросился к роковым воротам. Будь они приоткрыты, полагаю, я бежал бы из монастыря навсегда. Привратник осведомился, не забыл ли я чего-нибудь за воротами.
– Да, – отвечал я в смятении. – Я забыл там свою жизнь.
Я надеялся найти утешение в саду и устремился туда, не успев даже явиться к настоятелю. Там, где некогда красовались мои клумбы, теперь не росло ни единого цветочка; все заполонил огород; беседки мои были разрушены начисто, прекрасные растения вырваны с корнем, от прошлого остались одни пальмы, которые, страдая от жажды, грустно клонили головы долу, словно пытаясь отыскать на перекопанной земле следы трав и цветов, произраставших некогда в их сени. Я возвратился в свою келью; здесь все оставалось точно таким же, как в день моего ухода из монастыря, но пробуждало в моей душе воспоминания самые тягостные. Я пошел к настоятелю; по выражению моего лица он тотчас заметил, как сильно я опечален, и не скрыл оскорбительной радости победителя. Презрение, переполнявшее мою душу, помогло мне собраться с силами, и, хотя беседа наша, по видимости, касалась лишь предметов самых общих, я в немногих словах дал ему понять, что не заблуждаюсь относительно дистанции, которая отделяет его, хранящего верность монастырскому уставу исключительно из низкой корысти, от меня, возвратившегося под ярмо из благородного самоотречения. Несколько дней я был для монахов предметом подлого и недоброго любопытства. Убежденные, что я вернулся в монастырь исключительно из страха наказания, они радовались, предвкушая мои страдания. Я не доставил им ожидаемого удовольствия: ни единого вздоха не вырвалось в их присутствии из моей груди, ни единого роптания не сорвалось с губ. Я не показал им своих чувств; один я знаю, чего мне это стоило.
От восторга, который вселило в мою душу чудесное видение, явившееся мне на берегу моря, очень скоро не осталось и следа, ибо, вопреки моим надеждам, видение не повторялось; поэтому, очутившись лицом к лицу с печальной действительностью, я вновь уверился в том, что видения эти были лишь плодами временного умопомрачения и что мне следует трезво отдавать себе в этом отчет до конца своих дней. В другую эпоху подобные видения могли бы сделать из меня святого; но в наш век я был вынужден скрывать их как признак слабости или болезни; они вдохновляли меня только на унизительные раздумья о странной нищете человеческого ума. Впрочем, размышления мои приводили меня и к другим выводам: я говорил себе, что, раз природа души загадочна, способности ее загадочны в не меньшей степени; не подлежит сомнению справедливость одного из двух утверждений: либо ум мой временами обретал способность оживлять в моем воображении то, что смерть сделала достоянием прошлого; либо тот, кого сразила смерть, обладал способностью оживать для общения со мной. Между тем в сфере идей подобные способности испокон веков считаются делом совершенно обыкновенным. Никому и в голову не придет им удивляться. Разве можно поверить, что шедевры науки и искусства, приводящие в трепет наши сердца и исторгающие у нас слезы, суть творения мертвецов? Разве смерть истребляет память о великом человеке? Разве по прошествии времени не начинает эта память блистать еще ярче прежнего? Разве в умах и сердцах потомков занимает она место наравне с прочими воспоминаниями? Нет, эта память особая, живая, никогда не перестающая излучать свет и тепло. Разве Платон и Христос не присутствуют среди нас вот уже много столетий? Они думают и чувствуют через посредство миллионов душ, действуют через посредство миллионов тел. Да и что такое, в сущности, само воспоминание? Разве не вправе мы назвать его величественным воскрешением людей и событий, достойных избежать гибели в пучине забвения? И разве воскрешение это не свидетельствует о могуществе прошлого, являющегося на встречу с настоящим, и о могуществе настоящего, отправляющегося на свидание с прошлым? Философам-материалистам угодно было утверждать, что смерть истребляет все живое и мертвецы оказывают на нас лишь то влияние, каким мы наделяем их из приязни или подражания. Однако в согласии с ходом мысли более передовым следует возвратить прославленным людям бессмертие более полное и объединить усилия мертвых и живых, связанных в веках узами нерушимыми. Лишив нас не только доступа на небо, но и бессмертия на земле, философы заплатили слишком большую дань небытию.
А между тем бессмертие на земле существует столь несомнительно, что кажется, будто мертвые воскресают в живых; что до меня, я верую, свято верую в бесконечную преемственность душ – преемственность, которая подчиняется не законам материи, но иным, таинственным законам, зависит не от уз крови, но от иных, невидимых уз. Порой мне случалось задаваться вопросом, не являюсь ли я сам Эбронием, но Эбронием, преображенным в соответствии с наступившим новым веком. Однако поскольку мысль эта была чересчур дерзкой, чтобы оказаться полностью правдивой, я говорил себе, что Эброний мог сделаться мною, не переставая быть самим собой, так же как в мире физическом человек, повторяющий предков статью, чертами и наклонностями, воскрешает их в своем облике, оставаясь при этом существом самостоятельным. Из чего я сделал вывод, что в мире существует два бессмертия, оба материальные и нематериальные разом: одно, принадлежащее земному миру, сберегает для человечества наши идеи и чувства посредством наших творений и свершений; другое, принадлежащее миру небесному, даруется нам по нашим заслугам и мукам и сообщает нам чудесную власть над людьми и вещами в мире земном. Теория эта позволяла мне, не греша самодовольством, признать, что Спиридион живет разом и во мне, и надо мной; во мне – как человек, хранивший при жизни верность долгу и питавший любовь к истине; надо мной – как человек, в награду и утешение за земные муки обращенный в некое божество.
Погруженный в эти мысли, я нечувствительно забывал внешний мир, звуки которого так волновали меня в то недолгое время, когда я имел возможность их слышать. Неистовые порывы, пробудившиеся во мне под влиянием этого мира, утихли, и я сказал себе, что, если одни призваны улучшать устройство общества с помощью героических поступков, другим суждено искать решение великих проблем, подспудно волнующих человечество, с помощью уединенных размышлений. Ведь люди, взявшиеся за оружие, пролагали дорогу в новый мир, еще не освещенный ни одним лучом солнца. Они сражались в потемках, отстаивая для начала свое священное право на свободу. Однако я знал, что после того, как они уяснят и защитят свои права, им придется вспомнить о долге, до которого в продолжение бурной ночи, когда они нередко поражали братьев вместо врагов, им не было никакого дела. Причиной такого грандиозного переворота, как французская революция, не могла быть одна лишь потребность бедняков в хлебе и крове; несмотря на все, что свершилось во Франции, и все, чего там свершить не удалось, я убежден, что революция эта преследовала цели гораздо более высокие. Она должна была не только даровать народу заслуженное благополучие, она должна была довершить начатое до нее и даровать всему роду человеческому полную свободу совести, свободу мысли и веры, и, что бы ни случилось, она – не сомневайся в этом, сын мой, – исполнит свой долг. Но какое употребление приищут люди новообретенной свободе? Какое понятие будут они иметь о своем долге, если обратятся в отважных солдат, которые только и знают, что днем и ночью с оружием в руках отстаивать свои права? Увы! Всякий солдат, павший на поле боя, в последний час устремляет глаза к небу и спрашивает себя, за что он сражался, за что умирает мученической смертью? Вне всякого сомнения, он предчувствует воздаяние; ибо если долг его заключался в том, чтобы отстоять права – свое собственное и своих потомков, то этот долг он исполнил, а всякий, кто исполнил свой долг, достоин воздаяния; однако солдат ясно видит, что воздаяние он получит не на этом свете, ибо своим правом он воспользоваться не успел. Быть может, им воспользуются, в полной мере и к вящей радости, грядущие поколения, которые будут жить на земле в эпоху, когда люди придут к обоюдному согласию относительно своих обязанностей; однако довольно ли будет этого для счастья человека? Если тело мое не будет знать нужды, а свобода будет ограждена от вражеских посягательств, успокоит ли, насытит ли это мою душу, терзаемую жаждой бесконечности? Какой бы мирной и сладостной ни сделалась жизнь на этом свете, сумеет ли она удовлетворить потребности человеческие; как бы широко ни раскинулась земля, не будут ли ее просторы тесны для человеческих мыслей? О, не отвечайте мне на этот вопрос утвердительно, я все равно вам не поверю. Я слишком хорошо знаю, что такое жизнь, сведенная к удовлетворению нужд эгоистических; я слишком хорошо знаю, что такое думы о будущем без надежды на жизнь вечную! В бытность мою монахом я жил, не ведая опасностей и лишений, но меня терзала скука – ложка дегтя, отнимавшая вкус у любой пищи. В бытность мою философом я стремился подчинить все сердечные чувствования власти холодного разума, но меня терзало отчаяние – бездна, стерегущая всякого, кто доверяется одной лишь мысли. О, не говорите мне, что человек познает счастье, когда подле него не останется ни государей, принуждающих его к тяжкому труду, ни священников, грозящих ему загробными муками. Разумеется, ни тираны, ни фанатики ему не нужны, но ему потребна религия, ибо у него есть душа, а значит, он нуждается в Боге.
Вот почему, следя с величайшим вниманием за политическими событиями, свершавшимися в Европе, и видя, сколь химерическими были мои мимолетные мечтания, сколь неосуществимо было намерение посеять и собрать урожай за столь короткий промежуток времени, сколь далеко отбросили людей действия от их цели нужды сиюминутные и сколь часто, прежде чем сделать шаг вперед, сбиваются эти люди с непроезжего пути то вправо, то влево, – видя все это, я примирялся со своей участью и признавал, что не рожден человеком действия. Конечно, я ощущал в своей груди страсть творить добро, упорство и энергию, но жизнь свою я провел в размышлениях; я слишком пристально всматривался в судьбы всего человечества в целом, чтобы начать прокладывать дорогу в чащобе умов человеческих. Я с сочувствием и уважением взирал на бесстрашных первопроходцев, которые, решившись возделывать нераспаханную землю, двигают горы, рушат скалы и, залитые кровью, не страшась ни терний, ни пропастей, поражают с равным хладнокровием и грозного льва, и пугливую лань. Им приходится отвоевывать землю у кровожадных племен, насаждать правила человеческого общежития среди особей, руководствующихся одними лишь слепыми инстинктами физическими. Им все дозволено, ибо все необходимо. Альпийский стрелок убивает не только грифа, но и ягненка, которого тот несет в когтях. Бедствия частных людей раздирают душу наблюдателю; однако бедствия эти неизбежны, ибо их требует благо всеобщее. В злоупотреблениях и крайностях войны не виновато ни дело, за которое бьются воины, ни воля их полководцев. Изображая великую битву, художник непременно рисует на заднем плане ужасные детали, которые производят на нас впечатление тягостное. Замки и храмы рушатся, охваченные огнем; дети и женщины гибнут, раздавленные копытами лошадей; храбрый боец испускает дух среди скал, орошая их своей кровью. Между тем на переднем плане мы видим фалангу победителей; они торжествуют, и пролитая кровь нисколько не умаляет их славы; с ними Бог воинств, и чело их сияет оттого, что дело их – святое и правое.
Так думал я о людях, за которыми отказался последовать. Я восхищался ими, но понимал, что не смог бы подражать им, ибо слишком различна наша природа. Они могли действовать, как не мог действовать я, но я мог мыслить, как не могли мыслить они. Ими владела героическая, хотя и романическая, убежденность в том, что цель близка и что, пролив еще немного крови, они окажутся в царстве справедливости и добродетели. Они заблуждались; равнинные туманы и дым сражений заслоняли от их взоров то, что хорошо различал я, пребывавший на вершине горы; однако если бы не это святое заблуждение, у них недостало бы сил сдвинуть с места весь мир и помочь ему освободиться от пут, его связывавших! Дабы человечество шло вперед по воле Провидения, каждому поколению потребны люди двух родов: одни живут надеждой, верой, иллюзией, и труды их не знают завершения; другие живут предусмотрительностью, терпением, определенностью, и труды их клонятся к завершению того, чего не закончили первые, пусть даже дело это кажется бесплодным и безнадежным. Одни суть матросы, другие – кормчие; одни пускаются в плавание и, смотря по тому, в какую сторону дует ветер судьбы, либо огибают рифы, либо разбиваются насмерть; другие видят рифы и возвещают о них; но, что бы ни случилось с теми и другими, корабль плывет, ибо человечество не может ни погибнуть, ни прервать вечное свое движение.
Итак, я был слишком стар, чтобы жить в настоящем, и слишком молод, чтобы жить в прошедшем. Я сделал выбор, я возвратился к ученым трудам и философическим размышлениям. Я начал все сначала, ибо имел основания считать неудавшимся все сделанное прежде. Я перечел с холодным терпением все те книги, какие прежде поглощал с неистовой жадностью. Я снова дерзнул исследовать землю и небо, творение и Творца, я вознамерился отыскать разгадку жизни и смерти, обратить сомнения в веру, возвратиться на развалины тех построек, которые сам же и разрушил, и возвести их на новых основаниях. Одним словом, я с тем же упорством стремился вернуть Божеству его возвышенную тайну, с каким прежде старался его этой тайны лишить. Именно тогда понял я, как легко разрушать и – увы! – как трудно строить. Одного дня довольно, чтобы уничтожить то, что созидалось в течение столетий. Движимый сомнением и отрицанием, я летел вперед семимильными шагами; возжаждав обрести толику веры, я предпринял труды, на которые ушли годы, и какие годы! Годы, полные тягот, колебаний и печалей! Каждый день их был полит слезами, каждый час наполнен борениями. Анжель, Анжель, несчастнейший из смертных есть тот, кто, взявшись за дело исполинское, поняв его величие и важность, забыв из-за него покой и сон, ощущает, что изнемог в пути и что силы его на исходе. Злополучнейший из сынов человеческих есть тот, кто возмечтал о премудрости, уму его недоступной! Прискорбнейшая из участей есть участь поколения, которое в муках и тревогах тщится добыть знания, скрытые от человеческих взоров вплоть до лучших времен! На зыбучих песках желал я воздвигнуть святилище нерушимое; однако недостало мне ни кирпичей, ни фундамента. Век мой имел понятия ложные, обладал познаниями неполными, выносил о прошлом и о настоящем суждения ошибочные. Я знал это, хотя изучал историю людей и Божьего мира по книгам, слывшим безупречными; я знал это, ибо, на беду, всемогущая логика души моей всякую минуту опровергала логику этих книг. О если бы мог я перенестись на крыльях мысли к источнику всех человеческих знаний, исследовать всю поверхность земного шара и все его недра, угадать далекое прошлое земли по тому праху, коему служит она гигантской усыпальницей, и по тем руинам, в коих погребли бесчисленные поколения память о своей жизни! Но мне приходилось удовлетворяться наблюдениями и предположениями ученых и путешественников несведущих, высокомерных и легкомысленных. Порой, движимый жаждой познания, я принимал решение сделаться миссионером, дабы самолично исследовать славные руины, чей язык остался непонятым, самолично извлечь из-под спуда неведомые сокровища, чьи тайны остались нераскрытыми. Но я был стар; здоровье мое, ненадолго поправившееся благодаря свежему горному воздуху, вновь ухудшилось из-за монастырской сырости и ночных бдений над книгами. И то сказать, как много времени потребовалось бы мне для того, чтобы приподнять хотя бы уголок той завесы, что скрывает тайну мироздания! Вдобавок мелочи – не моя стихия; упорный труд людей дотошных и прилежных восхищает меня, но сам я создан для другого. Я знал, что человеком действия мне не быть ни в политике, ни в науке; мне пристали рассуждения более общего и более возвышенного порядка; я желал возводить постройки гигантские, желал выстроить на основе всевозможных сочинений и всевозможных штудий просторный портик – вход в науку грядущих веков.
Меня влек не анализ, но синтез. Из всего я жаждал извлечь вывод, но вывод не подтасованный и не навязанный извне; даже под страхом смерти я не принял бы того, с чем не согласны мое сердце и мой разум, мои чувства и мой рассудок, и это свойство обрекало меня на вечную муку, ибо жажда истины неутолима, и всякий, кто не может довольствоваться подсказками гордыни, страсти или невежества, обречен страдать беспрерывно. О! – восклицал я нередко, отчего не могу я уподобиться тупому монаху из картезианской обители, отчего не могу, как он, впасть в состояние скотское, отчего не могу, как он, страшиться ада и трудиться, как ломовая лошадь, на монастырском огороде в ожидании того дня, когда останки мои удобрят этот клочок земли? Отчего не могу зарабатывать покой, читая молитвы, а нагуливать аппетит и прогонять докучные мысли, работая мотыгой, отчего не могу умертвить ум свой еще при жизни?
Порой мне случалось даже завидовать тем из наших монахов, кто составлял исключение из общего правила и сохранил истинное благочестие. Помнишь отца Амбруаза, который умер в прошлом году, как они выражаются, в святости: он изнурял себя постами и умерщвлял свою плоть не из лицемерия, а по зову сердца. Однажды ночью лампа моя погасла, а я не успел закончить работу и решил попросить огня у кого-нибудь из монахов; дверь в келью Амбруаза была открыта, и я вошел туда бесшумно, ибо предполагал, что хозяин кельи молится, и не хотел ему мешать. Амбруаз, однако, спал, причем лампа светила ему прямо в глаза. Каждую ночь уже сорок лет кряду он укладывался спать при зажженной лампе, ибо боялся заснуть слишком глубоко и хотя бы на минуту опоздать в церковь на службу. Свет, падавший отвесно на его увядшее лицо, подчеркивал губительные последствия добровольной муки. Амбруаз спал не лежа, а полусидя и притом одетым, ибо не хотел тратить ни единой минуты на бесполезную заботу о собственном удобстве. Долго смотрел я на его вытянутое лицо, на черты, обострившиеся от поста духовного даже сильнее, чем от поста телесного, на впалые щеки, напоминавшие тончайший пергамент, на высокий желтый лоб, блестевший так, как будто его натерли воском. Поистине то был не живой человек, а скелет, иссохший вместе с кожей, труп, который люди забыли похоронить, а черви отказались есть, потому что плоть была слишком тоща. Сон его походил не на покой жизни, а на бесчувственность смерти: ни единый вздох не волновал его грудь. Мне стало страшно, ибо передо мной был человек и не живой, и не мертвый; глазам моим предстала жизнь в смерти, нечто, не имеющее ни названия в языке человеческом, ни места в мире Божьем. И вот это-то святой? – думал я. Разумеется, даже первые пустынники не держали более сурового поста, не обращали к Богу более ревностных молитв. И тем не менее я не испытывал к этому святому ни почтения, ни сочувствия; вид его не вызывал в моей душе ничего, кроме ужаса. Разве мог Господь сжалиться над этим смертным, самовольно приближающим свою кончину? А я, человек, разве мог я восхищаться этой бесплодной жизнью, этим ледяным сердцем? Каждую ночь, старик, ты зажигаешь лампу, подобно страннику, спешащему покинуть ночлег до зари, – но кому ты сам указал дорогу в ночи? Кого ты сам направил по верному пути при свете дня? Кому помог ты в своем долгом благочестивом хождении? Земле ты не дал ничего – не оставил наследника физического, не создал плода умственного, ничего не сделал руками, никого не полюбил сердцем. Ты думаешь, что Господь создал землю исключительно ради того, чтобы ты мог очищаться от скверны; ты полагаешь, что исполнишь свой долг перед нею, завещав ей свои кости! О, недаром ты страшишься и трепещешь, готовясь предстать перед Предвечным! Найдешь ли ты в свой последний час слова, которые откроют тебе врата райские? Раскаешься ли хоть на минуту в страшнейшем из преступлений – в том, что ты не любил никого, кроме самого себя? С этим мыслями я вышел бесшумно, не став даже зажигать свою лампу от лампы этого эгоиста; с того дня собственное ничтожество казалось мне предпочтительнее того, в каком коснеют святоши.
Душа моя, тщетно искавшая верный путь, пребывала в вечном смятении и вечной тревоге, однако я должен был испить до конца чашу усталости и отчаяния, чтобы согласиться со страшным приговором: я бессилен сделать то, что хотел. Сегодня я не стану лукавить: я знаю, что грешу гордыней. Да, я убежден, что с самого начала был гордецом и остался им по сей день. Всепоглощающая жажда истины – чувство почтенное, однако и ему опасно предаваться сверх всякой меры. Нам надобно напрягать все силы, дабы возделывать поле грядущего; однако когда силы иссякают, надобно смиренно довольствоваться тем немногим, что удалось сделать; надобно уподобиться наивному пахарю и сесть подле борозды, нами проведенной. Небесный друг, являвшийся мне, не раз наставлял меня на сей счет, но я так и не сумел воспользоваться его уроками. Воистину жажда бесконечности сводила меня с ума. Живи я в миру и не питай видов более возвышенных, я алкал бы славы и побед; я брал бы пример с Карла Великого или Александра Македонского, а не с Пифагора или Сократа; я мечтал бы о власти над миром; я сделал бы, возможно, немало зла. Благодарение Богу, жизнь моя подходит к концу, и главное преступление мое состоит в том, что я никому не сделал добра. Воротившись в монастырь, я мечтал продолжить свои ученые занятия с пользою для человечества и написать обширный труд о возвышеннейших вопросах религиозных и философических. Я, однако, не взял в расчет свой возраст, не расчислил своих сил. Мне уже исполнилось пятьдесят, а каждый год моих двадцатипятилетних страданий стоил века; вдобавок мне не хватало для работы сочинений, заслуживающих доверия, поэтому я решил ограничиться закладкою фундамента и набросать план моего труда, дабы мне было что завещать человеку, способному продолжить мои разыскания самостоятельно или с помощью третьих лиц; размышляя об этом, я вспомнил свою юность, тайну, которую завещал мне Фульгенций и которая была завещана ему Спиридионом; я пришел к выводу, что настала пора извлечь рукопись из могилы. Теперь мною двигало не заурядное тщеславие, не холодное любопытство, но и не суеверное покорство: теперь меня вела искренняя потребность расширить круг собственных знаний и принести пользу людям, извлекши из этого документа – по всей вероятности, драгоценного – важные сведения касательно тех проблем, какие я стремился разрешить. Мне казалось, что мой долг заключается в том, чтобы рано или поздно обнародовать таинственную рукопись, ибо, как бы ни относился я к тем странным узам, какие связывали мой дух с духом Эброния, я продолжал быть уверенным в величии этого человека.
Итак, однажды ночью я в третий раз за двадцать пять лет предпринял попытку добыть рукопись из гроба. На сей раз исполнить намеченное мне помешало обстоятельство совершенно заурядное и естественное, однако разбудившее во мне бездну дум.
Я вооружился теми же орудиями, что и в прошлый раз. Как ни длинен мой рассказ, ты, надеюсь, не забыл, что случилось в ту давнюю ночь; ты помнишь, что тогда мне пошел тридцать первый год и под действием горячки я стал жертвой ужасного кошмара. Я тоже помнил об этой страшной галлюцинации, но не боялся ее повторения. Есть образы, которые покидают наш мозг навсегда после того, как иные идеи и чувства навсегда покидают нашу душу. С годами я окончательно разорвал те цепи, какими сковывал меня католицизм; цепи эти так тяжелы, так крепки, что на освобождение от них уходит целая жизнь, однако именно по этой причине, однажды освободившись от них, покориться им вновь уже невозможно.
Ночь стояла светлая и прохладная; я чувствовал себя довольно бодро; я нарочно выбрал такую ночь, ибо предвидел, что мне предстоит нелегкая физическая работа. И что же! Вообрази, Анжель, как я ни старался, камень Hiс est не только не сдвинулся с места, но даже не пошатнулся. Я провел подле него три часа, подступал к нему с разных сторон, убеждал себя, что его держит на месте лишь его собственная тяжесть, видел даже следы долота, с помощью которого я прошлый раз отвалил этот камень быстро и без всякого труда. Все было тщетно; камень не поддавался. Взмокнув от пота, не помня себя от усталости и огорчения, я вернулся в свою келью и рухнул в постель.
Первая неудача меня не обескуражила. Неделю спустя я предпринял вторую попытку; она оказалась ничуть не успешнее первой. Неудачным оказался и третий приступ, на который я решился через месяц; после этого мне пришлось навсегда проститься с надеждой добыть рукопись, ибо в этой бесплодной борьбе с могилой я растратил те немногие физические силы, какие у меня еще оставались. Могила между тем оставалась безгласна, мертвецы были глухи, смерть – неумолима; я выбросил долото и рычаг в садовые заросли и возвратился, покойный и печальный, к этой могиле, не желавшей отдавать скрытые в ней сокровища.
Погруженный в раздумья, я сидел на могильной плите до восхода солнца. Утренняя прохлада обратила в лед капли пота, струившиеся по моему телу, и меня разбил паралич; я утратил не только способность двигаться, но и волю; я не услышал колоколов, созывавших к мессе, не обратил ни малейшего внимания на собравшихся в церкви монахов. Я был один во всей Вселенной; между Богом и мною не было никого, кроме этой могилы, которая не желала ни принять меня в свое лоно, ни отпустить на свободу; этот символ всего моего существования поразил меня своею точностью и заворожил мне ум и сердце! Когда меня попытались поднять, выяснилось, что я не могу ни ходить, ни говорить; монахи решили, что мозг мой парализован, как и все остальные члены. Они ошибались; рассудок не отказал мне ни на мгновение за все время болезни, последовавшей за этим происшествием. Разумеется, все объясняли его чистой случайностью; об истинных причинах никто не догадался.
На смену смертному холоду пришел горячечный жар; я страдал сильно и долго, но бредовые видения меня не посещали; у меня хватало даже сил не показывать, насколько тяжело я болен, чтобы за мной не ходили больше, чем мне того хотелось, и почаще оставляли меня одного. В те часы, когда келью мою освещали лучи солнца, болезнь отступала; меня посещали мысли более спокойные и радостные, зато ночью неизбывная печаль завладевала мною безраздельно. Для деятельных умов бездействие невыносимо; скука, худшая из мук, какие влечет за собою болезнь, терзала меня немилосердно. Вид моей кельи мне опротивел. Стены ее, вызывавшие у меня в памяти все порывы энтузиазма и приступы уныния, какие я испытал в тщетном стремлении к истине; постель, на которой я так часто метался в жару и потерял здоровье в борениях со смертью; книги, которые я читал без пользы, астролябии и телескопы, служившие лишь для исследования бездушной материи, – все это пробуждало во мне угрюмую ярость. К чему жить человеку, который пережил самого себя? – думал я. К чему жить человеку, который ничего не сделал? О безумец, ты хотел осветить грядущее лучом своего ума, но не нашел в себе сил сдвинуть могильный камень и узнать, что написано в спрятанной под ним рукописи! О несчастный, пока ты был юн и пылок, ты стремился охладить свой ум и сердце, а теперь, когда близится смерть, ум и сердце твои вздумали воспылать! Умри же, раз тебе изменили разом и голова, и руки; ибо если сердце твое еще дерзает жить и гореть любовью к идеалу, этот божественный пламень сумеет лишь сжечь дотла твое нутро и осветить безжалостным светом твое бессилие и ничтожество.
Мысли эти заставляли меня ворочаться на моем жалком одре и проливать слезы ярости. Внезапно чистый голос нарушил ночную тишину:
– Неужто ты полагаешь, что тебе не в чем покаяться, – тебе, дерзающему жаловаться так горько? – спросил меня этот голос. – Кого винишь ты в своих несчастьях? Не ты ли сам свой единственный, свой заклятый враг? Кто наградил тебя преступной гордыней, кто внушил тебе бесконечную, слепую любовь к самому себе, кто заворожил мыслью, будто наука приблизит тебя к идеалу, кто заставил искать этот идеал исключительно в глубинах собственного ума?
– Ты лжешь! – вскричал я гневно, не успев даже задуматься о том, кто может задавать мне такие вопросы. – Ты лжешь! Я всегда ненавидел себя; я всегда был скучен, противен, мерзок себе самому. Я искал идеал повсюду, как ищет олень жарким днем прохладный водоем; меня снедала жажда идеала, и если я не нашел его…
– То виной тому идеал, не так ли? – перебил меня тот же голос с холодным участием. – Господь Бог обязан предстать перед людским судом и открыть тайну, какой он дерзнул окутать участь человека и к какой человек соблаговолил проявить интерес, – и это, по-вашему, не называется гордыней?
– По-вашему? – переспросил я с удивлением. – Но кто ты сам, взирающий с такой жалостью на род человеческий и, по всей вероятности, почитающий себя свободным от его слабостей?
– Я тот, – отвечал голос, – кого ты не хочешь знать, ибо ты всегда искал меня там, где меня нет.
При этих словах пот прошиб меня, а сердце едва не выскочило из груди, и, приподнявшись на постели, я спросил его:
– Неужели ты тот, кто спит под камнем?
– Ты искал меня под камнем, – отвечал он, – и камень не поддался тебе. Разве ты не знаешь, что рука человеческая слабее цемента и мрамора? Зато ум человеческий двигает горами, а любовь способна воскрешать мертвых.
– О учитель мой! – вскричал я в исступлении. – Я узнаю тебя. Это твой голос, это твои речи. Будь же благословен ты, кто приходишь ко мне в час скорби. Но где надобно было искать тебя и где найду я тебя на земле?
– В сердце своем, – отвечал голос. – Устрой в нем приют для меня. Очисти его, укрась, как украшают дом к приходу дорогого гостя, воскури благовония. А иначе – что сделаю я для тебя?
Голос замолк, и тщетно я вопрошал его: ответа мне не было. Я остался один во тьме. Волнение душило меня, и я заплакал. Объятый скорбью, я исследовал всю свою жизнь в сердце своем. Я понял, что жизнь эта в самом деле была не чем иным, как нескончаемой битвой и нескончаемым заблуждением, ибо я всегда желал сделать выбор между разумом и чувством и никогда не имел силы их примирить. Вечно желая опереться на доказательства неопровержимые, на основания рукотворные и вечно находя основания эти ненадежными, я не имел ни гения, который позволил бы мне пренебречь мнениями человеческими, ни могучей уверенности – достояния великих душ, – которая позволила бы мне их исправить. Я не осмелился отвергнуть положения метафизики и геометрии, противоречившие голосу моей совести. Сердцу моему не хватило жара, а мозгу – мощи для того, чтобы сказать науке: «Ты ошибаешься; мы не знаем ничего, нам предстоит долгая учеба. Раз путь, которым мы идем, не приводит нас к Богу, значит, мы сбились с пути; возвратимся в исходную точку и попытаемся отыскать Бога: ибо мы блуждаем впотьмах вдали от него, и сколько бы люди ни убеждали нас, что мы и сами благодаря своей сноровке уже сделались богами, мы чувствуем смертный холод и устремляемся в пустоту, уподобляясь тем небесным светилам, что гаснут, нарушая вечный закон мироздания».
С того дня я дал волю самым пылким своим чувствованиям, и тогда свершилось великое чудо. Я старел, но сердце мое, вместо того чтобы охладевать нравственно, оживало и возрождалось; чем сильнее дряхлело тело, тем моложе становилась душа. Как сбрасывают изношенное платье, так я освобождаюсь от животных инстинктов; но чем меньше завишу я от своей телесной оболочки, тем сильнее верю в свое бессмертие. Небесный друг приходил не раз, но не жди от меня подробного рассказа об этих посещениях. Они так же загадочны для меня, как и прежде, и я не пытаюсь разгадать эту загадку, ибо остерегаюсь подвергать случившееся со мной холодному анализу: я слишком хорошо знаю, чем чреват пристальный разбор подобных впечатлений: ум леденеет, а впечатление рассеивается. Хотя в сочинениях, с которыми ты познакомишься после моей кончины, я почел своим долгом изложить нынешнее мое исповедание веры как можно более логично и упорядоченно, все же я позволил себе набросить покрывало поэзии на те часы, когда потемки мира физического рассеивались для меня и, весь во власти энтузиазма и умиления, я входил в прямые сношения с этим высшим духом. Есть вещи сокровенные, которые лучше хранить в тайне и не выставлять на поругание. В бесхитростной истории моей жизни, жизни безвестной и горестной, о Спиридионе не говорится ни слова. Если самого Сократа обвиняли в шарлатанстве и обмане за рассказы об общении с тем, кого он называл своим домашним гением, сколько упреков в фанатизме навлек бы на себя монах вроде меня, дерзни он признаться, что вел беседы с призраком! Я не сделал этого признания и делать его не собираюсь. И тем не менее я запросто мог бы объясниться на сей счет с ученым скромным и добросовестным, который согласился бы без иронии и предрассудков обсуждать чудеса, старые как мир, но ждущие нового объяснения. Где, однако, отыскать в наши дни такого ученого? Сегодня наука спешит отвергнуть все рассказы о явлениях сверхъестественных, ибо ими слишком долго злоупотребляли невежество и ложь. Если политики вынуждены пускать в ход меч, дабы разрешить вопросы социальные, ученые почитают себя обязанными, дабы открыть новые просторы для исследования, без разбора предавать огню и заклинания колдунов, и жития святых. Придет, однако, час, когда все, что должно быть разрушено, исчезнет с лица земли, – тогда люди примутся разыскивать среди развалин прошлого бессмертную истину, которую отличат от заблуждений и домыслов по приметам несомнительным: так некогда Крез понял, что все оракулы лгут, кроме дельфийской Пифии, ибо она непостижимым образом прознала о самых потаенных его деяниях. Быть может, тебе позволено будет увидеть зарю этой новой науки, без помощи которой невозможно объяснить судьбу человечества и постигнуть смысл его истории. Быть может, ты доживешь до времени, когда чудеса, предсказания и предзнаменования древности перестанут казаться всего лишь проделками колдунов или глупыми выдумками священников, измышленными для запугивания паствы. Разве уже теперь наука не дала удовлетворительного объяснения многим явлениям, которые предки наши почитали сверхъестественными? Отчего же не допустить, что иные факты, кажущиеся невероятными и лживыми в наши дни, получат истолкование не менее естественное и убедительное в ту пору, когда наука расширит людские горизонты. Что же до меня, то, хотя я не вижу смысла прибегать к слову «чудо», ибо ежеутренний восход солнца ничуть не менее чудесен, чем явление мертвеца живому, я не пытался пролить свет на эти сложные вопросы: мне недостало времени. Я слышал о Месмере; не знаю, обманщик он или пророк; по рассказам он вызывает у меня недоверие, ибо выводы его слишком смелы, а так называемые свидетельства очевидцев слишком многочисленны для открытия столь недавнего. Я не успел понять, что разумеют они под словом «магнетизм»; исследовать это в должное время и в должном месте надлежит тебе. Я же не мог позволить себе тратить время на разбор этих смелых теорий; более того, я, как мог, боролся против их притягательной силы. Я был обязан исполнить долг куда более очевидный и неотложный – занести на бумагу отдельные фрагменты вечной моей думы, плода бесед с Духом».
Тут Алексей на мгновение замолчал и положил руку на книгу, которая была мне прекрасно известна, ибо он нередко справлялся с нею, хотя я, к своему великому изумлению, видел, что все страницы в ней чисты и ни единого слова на них не написано. Поскольку я взглянул на него с изумлением, учитель мой отвечал с улыбкой:
– Я не сошел с ума, не бойся; книга эта написана особыми чернилами, и тот, кто знает их состав, прочтет ее без всякого труда. Я счел необходимым прибегнуть к этой предосторожности, дабы не стать жертвою монастырских шпионов. Я научу тебя простому способу, который позволит тебе в назначенный срок сделать невидимые буквы видимыми. Не знаю, сможет ли эта рукопись когда-либо кому-либо принести пользу; до тех пор, пока нужды в ней не возникнет, спрячь ее. В том виде, какой она имеет сейчас, – недописанная, не приведенная в порядок, не завершающаяся никакими выводами, – она недостойна обнародования. Людям нового поколения – тебе ли или кому-то иному – предстоит написать ее заново. Единственное ее достоинство заключается в том, что она содержит честный рассказ о жизни, полной тягот, и бесхитростный набросок нынешнего моего образа мыслей.
– Но позволено ли будет мне, отец мой, узнать побольше об этом образе мыслей?
– Я обрисую тебе его тремя словами, выражающими всю мою теологию без остатка, – отвечал он, открывая свою книгу на первой странице. – «Верить, надеяться, любить». Если бы католическая церковь могла привести все положения своей доктрины в согласие с этим возвышенным определением трех теологических добродетелей: веры, надежды, милосердия, – она сделалась бы воплощенной мудростью и справедливостью, одним словом, истиной на земле. Но римская церковь нанесла себе последний, роковой удар; она сама подписала себе смертный приговор в тот день, когда изобразила Господа неумолимым, а проклятие вечным. В тот день все благородные сердца отвернулись от нее; католическая философия забыла о любви и сострадании, а теология сделалась простой игрой ума, чередой софизмов, забавой великих умов, тщетно пытающихся заставить молчать голос своего чувства, покровом для ненасытных амбиций, маской для чудовищных несправедливостей…
Тут отец Алексей снова замолчал и внимательно посмотрел мне в глаза, желая узнать, какое впечатление произведет на меня этот суровый приговор. Я понял его тревогу и, крепко сжав его руки, сказал твердо и с улыбкой, призванной доказать, как безгранично я ему доверяю:
– Значит, отец мой, мы больше не католики?
– Не только не католики, – отвечал он громко и уверенно, – но и не протестанты. Но также и не философы вроде Вольтера, Гельвеция или Дидро; и не социалисты вроде Жан-Жака и членов французского Конвента; но в то же самое время мы не язычники и не атеисты!
– Но кто же мы такие, отец Алексей? – удивился я. – Ведь вы сами сказали, что у нас есть душа, что Бог существует и что нам потребна религия.
– И у нас она есть, – вскричал он, приподнимаясь на постели и простирая исхудавшие руки к небу в порыве энтузиазма. – Наша религия – единственно истинная, единственно всеобъемлющая, единственно достойная Божества. Мы верим в Божество, иными словами, мы знаем его и к нему стремимся; мы надеемся на Божество, иными словами, мы желаем обладать им и ради этого трудимся, не жалея сил; мы любим Божество, иными словами, мы ощущаем его и мысленно им обладаем; сам Бог есть не что иное, как возвышенная троица, слабым отблеском коей и становится наша смертная жизнь. Что у человека вера, то у Бога – наука; что у человека надежда, у Бога – мощь; что у человека милосердие, или, говоря иначе, благочестие, добродетель, трудолюбие, то у Бога – любовь, или, говоря иначе, вечное сотворение, сохранение и совершенствование. Итак, Бог знает нас, зовет и любит; именно Бог открывает нам Бога, именно Бог внушает нам потребность в Боге, именно Бог разжигает в нас любовь к Богу; одно из величайших доказательств бытия Божия обретается в человеке и его инстинктах. Человек постоянно задумывает, лелеет и предпринимает в своей конечной сфере то, что Бог знает, хочет и может в своей сфере, имя которой – бесконечность. Если бы Бог мог перестать быть средоточием ума, мощи и любви, человек низвел бы себя до состояния скотского, и всякий раз, когда человеческий ум отрицает умное Божество, он убивает самого себя.
– Но как же, – перебил я его, – быть с теми великими атеистами нашего века, чьи познания и красноречие пользуются такой славой?
– Атеистов не существует, – с жаром отвечал отец Алексей, – нет, не существует! Бывает так, что в эпохи философических исканий рождаются на свет люди, которые, наскучив заблуждениями прошлого, решают отыскать новую дорогу к истине. Тогда принимаются они блуждать по тропам неизведанным. Одни, выбившись из сил, усаживаются на земле и предаются отчаянию. Что же такое это отчаяние, как не вопль, который исторгает из их душ любовь к Божеству, скрывающему свой лик от их усталых глаз? Другие с жаром устремляются на штурм всех вершин и с простодушной самоуверенностью полагают, будто достигли цели и выше подняться невозможно. Что же такое эта самоуверенность, что такое это ослепление, как не безудержное, нестерпимое желание поскорее припасть к Божеству? Нет, эти атеисты, справедливо превозносимые за их интеллектуальное величие, суть люди глубоко религиозные, которые стремятся к небу, но в стремлении своем выбиваются из сил или сбиваются с пути. Если же следом за ними увязываются люди низкие и развращенные, которые поминают небытие, случай и грубую природу лишь для того, чтобы оправдать свои постыдные пороки и низменные склонности, то и в этом нетрудно разглядеть еще одно свидетельство Божьего величия. Ибо для того, чтобы избавить себя от стремления к идеалу, от честного труда во славу человеческого достоинства, люди вынуждены обрушивать на этот идеал хулу. Между тем если бы внутренний голос не нарушал подлый покой развратника, тот не отрицал бы с таким пылом существование верховного судии. Взывая к Провидению, природе, законам творения, философы нашего века по-прежнему взывали к Богу истинному, давая ему, однако же, новые имена. У всемирного Провидения или у неисчерпаемой природы философы эти искали защиты от мрачных сект, обрушивавших одна на другую страшные проклятия, от злодеяний инквизиции, от нетерпимости и деспотизма. Когда при виде звездного неба Вольтер толковал о великом часовщике, когда Руссо вел своего ученика на вершину горы, дабы преподать ему первые понятия о Творце при виде восходящего солнца, эти доказательства бытия Божия были, разумеется, неполны и несовершенны сравнительно с теми неопровержимыми, ослепительно яркими доказательствами, какие будут явлены человечеству в будущем, и тем не менее и Вольтер, и Руссо обращались к тому самому Богу, какого славили под разными именами, какому поклонялись в разных формах все поколения рода людского.
– Но откуда же мы извлечем эти ослепительно яркие доказательства, – спросил я, – если мы отрицаем откровение, а одним внутренним чувством обойтись не можем?
– Мы не отрицаем откровение, – живо отвечал отец Алексей, – а внутренним чувством можем обойтись до определенной степени; мы, однако, подкрепляем его доказательствами другого рода: в том, что касается прошлого, это опыт всего человечества в целом, в том, что касается настоящего, это единение всех чистых душ в поклонении Божеству и красноречивый глас собственного нашего сердца.
– Значит, вы принимаете в откровении то, что есть в нем вечно Божественного, – великие представления о Божестве и бессмертии, понятия о добродетели и долге, из них вытекающие?
– Человек, – отвечал отец Алексей, – похищает понятия об идеале у самого неба, так что покорение возвышенных истин, пролагающих дорогу к идеалу, есть не что иное, как договор, брак между человеческим умом, который ищет, надеется и просит, и умом Божественным, который тоже ищет – ищет сердце человека, надеется покорить его и соглашается царить в нем. Потому мы признаем наставников, какие бы имена ни были им присвоены. Герои, полубоги, философы, святые или пророки – мы склоняем голову перед всеми этими отцами и учителями человечества. Мы можем почитать в человеке, наделенном возвышенными познаниями и возвышенными добродетелями, прекрасный отблеск света Божественного. О Христос! Придет время, и тебе воздвигнут алтари новые, более достойные тебя, тебе возвратят истинную славу – славу спасителя и сына земной женщины, славу друга человечества и пророка идеала.
– И преемника Платона, – добавил я.
– Как Платон был преемником других провозвестников, славу которых мы почитаем, дело которых мы продолжаем.
Алексей ненадолго замолк, словно желая дать мне время обдумать его слова, а затем вновь заговорил:
– Да, мы продолжаем дело этих провозвестников, но мы продолжаем его, оставаясь свободными. Мы имеем право исследовать их учение, комментировать его, обсуждать, даже исправлять; ибо сила гения в них – от Бога непогрешимого, а слабость разума – от природы человеческой. Посему не только дозволено, но и должно, и суждено нам толковать их заветы, продолжать их труды.
– Нам, отец мой! – вскричал я с ужасом. – Но по какому же праву?
– По праву людей, родившихся позже них. Господу угодно, чтобы мы не останавливались на на мгновение; во все времена по его воле являются на свет пророки; зачем? Чтобы толкать человечество вперед, а не для того, чтобы тащить его за собой; первое – удел людей; второе – участь подлого скота. Когда Иисус приступил к расслабленному, он не сказал ему: «Пади ниц и ползи за мною следом». Он сказал: «Встань и ходи».
– Но куда пойдем мы, отец мой?
– Мы пойдем в будущее; пойдем, полные памяти о прошлом, пойдем, заполняя настоящее учеными занятиями, сосредоточенными размышлениями и постоянным стремлением к совершенству. Выказывая отвагу и смирение, черпая в созерцании идеала волю и силу, обретая в молитве энтузиазм и веру, мы добьемся того, чего алчем: Бог просветит нас и поможет нам передать наши знания людям… Каждый из нас сделает то, что ему по силам; мои силы, дитя мое, на исходе. Я не сделал того, что мог бы сделать, ибо был воспитан в лоне католицизма. Ты знаешь, ценою каких долгих тягот завоевал я право теперь, у врат могилы, произнести всего два слова: «Я свободен!»
– Но зато два эти слова стоят множества других, отец мой! – вскричал я. – Услышанные из ваших уст, они имеют надо мною безраздельную власть, и только из ваших уст я могу слышать их без недоверия и смятения. Быть может, не услышь я от вас этих слов, я всю жизнь коснел бы в заблуждении. Живи я до конца дней в этом монастыре, я, должно быть, изнемог бы под игом фанатизма. Живи я в вихре света, я, пожалуй, уступил бы гибельному влиянию человеческих страстей и соблазнов безбожия. Благодаря вам я утвердился на верном пути. Я надеюсь, что уже никогда не поддамся на обольщения атеизма; я чувствую, что навсегда освободился от оков суеверия.
– Пусть даже слова эти, произнесенные мною, – единственное добро, какое сумел я сделать за всю мою жизнь, слова, произнесенные тобою мне в ответ, – награда достойная, – отвечал Алексей растроганно. – Значит, не будет сказано, что я умер, не живши, ведь цель жизни состоит в том, чтобы передать жизнь следующему за тобой. Я всегда полагал, что безбрачие – состояние возвышенное, но совершенно исключительное, ибо влечет за собою обязанности необъятные; я полагаю также, что тот, кто отказывается продолжить свой род в отношении физическом, обязан, по крайней мере, оставить на земле наследников умственных, напитав их своими трудами и познаниями. Посему я благоговею перед плодоносящим целомудрием Христа. В юности, преисполненный гордыни, я возлагал надежды на науку и добродетели, однако прошли годы, я состарился, не довершив ни одного великого дела, и раскаяние овладело мною; я устыдился собственной слабости, ибо не смог возвыситься до состояния, мною избранного. Теперь же я вижу, что не уподоблюсь древу бесплодному. Семя жизни оплодотворило твою душу. У меня есть сын, сын не физический, а духовный, но оттого лишь более драгоценный. Ты – дитя моего ума.
– И твоего сердца! – вскричал я, падая перед ним на колени. – Ибо у тебя прекрасное сердце, о отец Алексей, даже более прекрасное, нежели твой ум! И когда ты говоришь: «Я свободен!», – в этих великих словах слышатся мне слова другие: «Я люблю и верую!»
– Люблю, верую и надеюсь, – да, именно так! – подхватил он растроганно. – А иначе я не был бы свободен. Зверь в лесной чащобе не ведает над собою закона, и тем не менее он живет в рабстве, ибо не знает цены свободе и не умеет ею пользоваться. Человек, лишенный идеала, есть раб самого себя, своих материальных инстинктов, своих кровожадных помыслов, а это – тираны куда более самовластные, повелители куда более своенравные, нежели все те, кого он низверг, прежде чем преклонился под власть неизбежности.
Долго еще мы вели эту беседу. Отец Алексей посвятил меня в великие тайны пифагорейства, платонизма и христианства, относительно которых утверждал, что все они суть одно и то же учение и, несмотря на все изменения, главная мысль их одна, и мысль эта есть абсолютная истина – абсолютная, но не неподвижная, говорил он, в том смысле, что ныне она еще хоронится за плотными покровами и уму человеческому предстоит разорвать их один за другим все до самого последнего, прежде чем она явится ему во всем своем блеске. Он постарался изложить мне все доводы, на коих основывал он свою веру в Бога-Совершенство, как он его называл. Он утверждал, во-первых, что величие и красота мира, подвластного суждениям человеческой науки, свидетельствуют о существовании Творца, чьи атрибуты – порядок, мудрость и всезнание; во-вторых, что тяга людей к жизни общественной, а также то обстоятельство, что люди в обществе испытывают приязнь друг к другу, защищают друг друга и исповедуют одну и ту же религию, свидетельствует о существовании всемирного законодателя, чей атрибут – высшая справедливость; в-третьих, что постоянное стремление человеческого сердца к идеалу свидетельствует о бесконечной любви, которую отец людей щедро изливает на великую людскую семью и которую открывает каждому человеку в святилище его души. Из этого отец Алексей заключал, что человеку надлежит исполнять обязанности троякие. Первая – по отношению к внешней природе: обязанность изучать науки, дабы изменять и усовершенствовать окружающий физический мир. Вторая – по отношению к общественной жизни: обязанность уважать или учреждать установления, свободно принимаемые людской семьей и благоприятствующие ее развитию. Третья – по отношению к жизни внутренней: обязанность совершенствовать себя, памятуя о совершенстве божественном, и постоянно искать для себя и других пути истины, мудрости и добродетели.
На эти беседы и наставления ушло у нас едва ли не столько же времени, сколько на рассказ, им предшествовавший. Они продлились несколько дней и поглотили нас обоих до такой степени, что мы с трудом прерывали их даже ради сна. К учителю моему на то время, пока он передавал мне свои знания, возвратилась, кажется, прежняя сила. Читая мне свою книгу и объясняя места не вполне понятные, он забывал о своих страданиях сам и заставлял забыть о них меня. Книга его была произведение странное, исполненное возвышенного величия и величественной простоты. По его собственному признанию, он не успел придать ей логическую форму и создал, подобно Монтеню, ряд «опытов», в которых запечатлел с замечательным простодушием и свои религиозные порывы, и приступы грусти и уныния. «Я почувствовал, – сказал он мне, – что уже не смогу создать для своих современников такой грандиозный труд, о каком мечтал в дни, когда был еще снедаем благородным, но слепым честолюбием. Тогда, согласив мой слог с жалким моим положением, а мои чаяния со слабостью моего организма, я решил открыть на этих страницах все мое сердце без остатка, дабы воспитать ученика, который, поняв вполне желания и потребности души человеческой, употребит свой ум на поиски способов удовлетворить эти желания и потребности, важность которых рано или поздно поймут все люди, даже те, кто сейчас помышляет только о делах политических. Я сам – не что иное, как горестное порождение той эпохи, в какую я явился на свет, и потому могу лишь испускать вопли отчаяния и умолять, чтобы мне возвратили то, что было у меня отнято: веру, догматы, богослужение. Я прекрасно знаю, что время для ответа еще не настало и что я умру вне храма, полный смятения и страха, и сложу к ногам верховного судии только то упорство, с каким я отстаивал мои религиозные чувства от растлевающего влияния века безрелигиозного. Но я не перестаю надеяться, и самое отчаяние рождает во мне новые надежды, ибо чем больше я страдаю от своего невежества, чем больше я страшусь небытия, тем яснее ощущаю, что душа моя имеет священные права на то небесное наследство, коего она алкает неустанно…»
Беседа наша длилась уже три ночи, и, несмотря на всю ее притягательность, я внезапно ощутил такой приступ усталости, что уснул прямо подле постели моего учителя, под еле слышный звук его слабеющего голоса, во тьме, ибо лампа погасла, а заря еще не занялась. Не прошло и нескольких мгновений, как я проснулся; с уст Алексея еще слетали некие невнятные звуки: он как будто говорил сам с собой. Я из последних сил боролся со сном, однако разобрать слова было невозможно и усталость взяла свое: я снова заснул, уронив голову на край постели учителя. И вот тут-то, во сне, я услышал голос кроткий и мелодичный, который, казалось, продолжал речи Алексея, и я слушал его слова, не просыпаясь и не понимая их смысла. Наконец мне почудилось, будто волос моих коснулось освежающее дуновение, и голос сказал мне: «Анжель, Анжель, час настал». Я решил, что учитель мой отходит, и, с трудом проснувшись, простер к нему руки. Его руки, однако, были по-прежнему теплыми, а ровное дыхание обличало спокойный сон. Я встал, чтобы зажечь лампу, и вдруг почувствовал, что существо неведомой природы стоит у меня на пути и мешает мне двинуться вперед. Нисколько не испугавшись, я спокойно спросил его:
– Кто ты и чего ты хочешь от меня? Ты тот, кого мы любим? Ты хочешь что-то приказать мне?
– Анжель, – отвечал голос, – рукопись лежит под камнем, а сердце твоего наставника не успокоится до тех пор, пока ты не исполнишь воли того, кто…
Тут голос смолк; теперь в комнате слышалось только слабое, но ровное дыхание Алексея. Я зажег лампу и убедился, что он спит, что мы одни и что все двери закрыты; сомнения и тревога мучили меня. Прошло несколько минут, и я решился: бесшумно выйдя из кельи, я, держа в одной руке лампу, а в другой – стальной брус, отыскавшийся в обсерватории, направился в церковь.
Не могу объяснить, откуда взялись у меня, до тех пор столь юного, робкого и суеверного, воля и отвага, потребные для совершения подобного поступка. Знаю только, что ум мой достиг в тот час высшей мощи, – потому ли, что я пребывал во власти странного возбуждения, потому ли, что безотчетно повиновался какой-то высшей силе, вселившейся в меня помимо моей воли. Но вот что не подлежит сомнению: я приступил к камню Hiс est без колебаний и отвалил его без труда. Я спустился в склеп; свинцовый гроб стоял там в нише из черного мрамора. С помощью рычага и ножа я легко приподнял крышку гроба; на груди покойного рука моя нащупала клочки ткани, опутавшие мои пальцы, словно паутина. В том месте, где прежде билось благородное сердце, я без страха ощутил холод костей. Пакет, за которым я пришел, скатился на дно гроба, поскольку истлевший саван больше его не удерживал; я поднял его и, поспешно опустив крышку гроба, возвратился в келью Алексея и положил рукопись ему на колени. Тут голова у меня закружилась, и я едва не лишился чувств; однако воля моя вновь одержала победу; Алексей тем временем уже развернул рукопись рукою твердой и торопливой.
– «Hiс estveritas!» – прочел он любимый девиз Спиридиона, служивший эпиграфом к рукописи. – Анжель, что я вижу? Верить ли мне своим глазам? Взгляни, взгляни сам, мне кажется, что я брежу.
Я заглянул в рукопись; перед нами был прекрасный манускрипт тринадцатого столетия, писанный с четкостью и изяществом, какими не может похвастать ни одна печатная книга; то был плод ручной работы, смиренного и терпеливого труда некоего безвестного монаха; текст же этой рукописи, как очень скоро убедились мы с Алексеем – я с изумлением, а он с горестным недоумением, – представлял собой не что иное, как Евангелие от Иоанна!
– Нас обманули! – сказал Алексей. – Кто-то подменил рукопись. Либо Фульгенций во время похорон своего наставника утратил бдительность, либо Донасьен подслушал наши разговоры и положил на место книги Спиридиона слова Христа, не допускающие возражений и не подлежащие комментированию.
– Постойте, отец мой, – воскликнул я, внимательно рассмотрев рукопись, – перед нами памятник весьма редкий и весьма драгоценный. Он писан рукою знаменитого аббата Иоахима Флорского, калабрийского монаха-цистерцианца… Подпись его тому порукой.
– Да, – подтвердил Алексей, взяв у меня рукопись и всмотревшись в нее, – это творение того, кого называли человеком в льняных одеждах, того, кого в начале тринадцатого века считали богодухновенным пророком, мессией нового Евангелия! Какое глубокое волнение охватывает меня при виде этих начертаний. О искатель истины, как часто на жизненном пути приходилось мне встречать твой след! Смотри внимательнее, Анжель, ничто не должно ускользнуть от нашего взора; ведь Эброний наверняка недаром положил себе на сердце этот драгоценный манускрипт; видишь ты вот эти буквы, превосходящие все остальные величиной и изяществом?
– Вдобавок они писаны другим цветом; быть может, это не единственный отрывок такого рода; давайте искать, отец мой!
Мы стали перелистывать Евангелие от Иоанна и отыскали в этом каллиграфическом шедевре аббата Иоахима три отрывка, писанные более крупными и красивыми буквами, чем весь остальной текст; писавший пользовался в каждом из этих трех случаев чернилами разного цвета, словно хотел привлечь особенное внимание читателя к этим важнейшим фрагментам. Первый, писанный лазурными буквами, шел в самом начале Евангелия от Иоанна; то были великолепные слова, его открывающие:
«В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО, И СЛОВО БЫЛО У БОГА, И СЛОВО БЫЛО БОГ. ОНО БЫЛО В НАЧАЛЕ У БОГА. ВСЕ ЧРЕЗ НЕГО НАЧАЛО БЫТЬ, И БЕЗ НЕГО НИЧТО НЕ НАЧАЛО БЫТЬ, ЧТО НАЧАЛО БЫТЬ. В НЕМ БЫЛА ЖИЗНЬ, И ЖИЗНЬ БЫЛА СВЕТ ЧЕЛОВЕКОВ. И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ, И ТЬМА НЕ ОБЪЯЛА ЕГО. БЫЛ СВЕТ ИСТИННЫЙ, КОТОРЫЙ ПРОСВЕЩАЕТ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА, ПРИХОДЯЩЕГО В МИР».
Второй отрывок был писан пурпурными буквами:
«НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ, КОГДА И НЕ НА ГОРЕ СЕЙ, И НЕ В ИЕРУСАЛИМЕ БУДЕТЕ ПОКЛОНЯТЬСЯ ОТЦУ. НАСТАНЕТ ВРЕМЯ, И НАСТАЛО УЖЕ, КОГДА ИСТИННЫЕ ПОКЛОННИКИ БУДУТ ПОКЛОНЯТЬСЯ ОТЦУ В ДУХЕ И ИСТИНЕ». И наконец, третий отрывок был писан буквами золотыми:
«СИЯ ЖЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ, ДА ЗНАЮТ ТЕБЯ, ЕДИНОГО ИСТИННОГО БОГА, И ПОСЛАННОГО ТОБОЮ ИИСУСА ХРИСТА».
Внимание наше привлек и четвертый фрагмент, писанный, правда, чернилами того же цвета, что и вся остальная рукопись, но несколько более крупными буквами; то была глава десятая; в ней переписчик выделил вот какие слова:
«ИИСУС ОТВЕЧАЛ ИМ: МНОГО ДОБРЫХ ДЕЛ ПОКАЗАЛ Я ВАМ ОТ ОТЦА МОЕГО; ЗА КОТОРОЕ ИЗ НИХ ХОТИТЕ ПОБИТЬ МЕНЯ КАМНЯМИ? ИУДЕИ СКАЗАЛИ ЕМУ В ОТВЕТ: НЕ ЗА ДОБРОЕ ДЕЛО ХОТИМ ПОБИТЬ ТЕБЯ КАМНЯМИ, НО ЗА БОГОХУЛЬСТВО И ЗА ТО, ЧТО, БУДУЧИ ЧЕЛОВЕК, ДЕЛАЕШЬ СЕБЯ БОГОМ. ИИСУС ОТВЕЧАЛ ИМ: НЕ НАПИСАНО ЛИ В ЗАКОНЕ ВАШЕМ: «Я СКАЗАЛ: ВЫ БОГИ»? ЕСЛИ ОН НАЗВАЛ БОГАМИ ТЕХ, К КОТОРЫМ БЫЛО СЛОВО БОЖИЕ, И НЕ МОЖЕТ НАРУШИТЬСЯ ПИСАНИЕ: ТОМУ ЛИ, КОТОРОГО ОТЕЦ ОСВЯТИЛ И ПОСЛАЛ В МИР, ВЫ ГОВОРИТЕ «БОГОХУЛЬСТВУЕШЬ», ПОТОМУ ЧТО Я СКАЗАЛ: «Я СЫН БОЖИЙ»?
– Анжель! – воскликнул Алексей. – Как могли слова эти не поразить христиан, когда явилась им идолопоклонническая идея изобразить Иисуса Христа Богом Всемогущим, членом Божественной Троицы? Разве не высказал он сам своего мнения об этой пресловутой Божественности? Разве не отверг он эту идею, усмотрев в ней кощунство? О да, именно это завещал нам сей Божественный человек! Мы все боги, мы все дети Божии, в том смысле, какой вложил апостол Иоанн в начало своего Евангелия: «А тем, которые приняли Его (слово Божие), верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими». Да, слово есть Бог, откровение есть Бог, ибо оно есть явленная истина божественная, и человек также есть Бог, в том смысле, что он сын Божий и воплощение Божества; однако он есть воплощение конечное, и один только Бог есть Троица бесконечная. Бог был в Иисусе, Слово говорило через Иисуса, но Иисус не был Словом.
Однако нам надобно изучить и постигнуть и другие сокровища, Анжель; ведь перед нами не одна рукопись, а целых три. Умерь свое любопытство, Анжель, как я смиряю свое. Будем действовать по порядку и взглянем сначала на вторую рукопись, а уж потом на третью. Порядок, в каком Спиридион расположил три рукописи, должен быть для нас священен; он поможет нам узнать, как развивалась, шла вперед и уточнялась его мысль.
Мы развернули вторую рукопись. Она оказалась ничуть не менее драгоценной и не менее любопытной, чем первая. То была книга, в течение многих столетий считавшаяся потерянной, неизвестная поколениям, отделяющим нас от времени ее появления на свет; книга, подвергавшаяся преследованиям Парижского университета, вначале удостоившаяся снисхождения, а затем осужденная и в 1260 году приговоренная папским престолом к сожжению, – то было прославленное «Введение в вечное Евангелие», писанное рукою самого автора, знаменитого Иоанна Пармского, генерала ордена францисканцев и ученика Иоахима Флорского. При виде этого еретического сочинения мы оба, и Алексей и я, невольно вздрогнули. Мы держали в своих руках экземпляр, по всей вероятности, единственный в мире; что суждено нам было узнать из этого сочинения? С изумлением прочли мы краткое его содержание, помещенное на первой странице:
«Религия имеет три эпохи, и соответствуют они царствиям трех лиц Троицы. Царствие Отца длилось до тех пор, пока люди исполняли закон Моисеев. Не суждено длиться до скончания века и царствию Сына, иначе говоря, религии христианской. Церемонии и таинства, какие принесла с собою эта религия, не вечны. Настанет время, когда придет им конец, и тогда воцарится религия Святого Духа, и не будет более у людей нужды в таинствах, и станут они поклоняться Верховному Существу в духе своем. Царствие Святого Духа было предсказано апостолом Иоанном, и царствие это придет на смену христианской религии, как христианская религия пришла на смену закону Моисееву».
– Как! – вскричал Алексей. – Неужели именно в этом смысле надобно понимать слова, сказанные Иисусом самарянке: «Наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине». Да, учение вечного Евангелия, учение свободы, равенства и братства, родившееся в ту эпоху, что пролегла между Григорием Седьмым и Лютером, толковало их именно так. Между тем эпоха эта – эпоха великая; именно она, некогда покорившая своему влиянию весь мир, до сих пор оплодотворяет мысль всех великих еретиков, всех гонимых сект. Осужденное, уничтоженное, вечное Евангелие продолжает, однако, жить в умах всех мыслителей, бывших нашими наставниками; искры костра, в котором было сожжено вечное Евангелие, вспыхивают в грядущих поколениях. Виклиф, Ян Гус, Иероним Пражский, Лютер! Все вы вышли из этого костра, все созрели под этим славным пеплом; даже Боссюэ, тайный протестант и последний епископ, и ты, Спиридион, последний апостол, и мы, последние монахи! Но как же думал Спиридион об этом откровении тринадцатого столетия? Неужели ученик Лютера и Боссюэ обратился вспять и поступил в учение к Амори Шартрскому, Иоахиму Флорскому и Иоанну Пармскому?
– Откройте третью рукопись, отец мой. Вероятно, в ней найдем мы ключ к двум предыдущим.
В самом деле, третья рукопись содержала сочинение аббата Спиридиона, и Алексей, которому нередко случалось видеть среди бумаг Фульгенция священные тексты, переписанные его рукой, тотчас узнал почерк нашего наставника. Сочинение Спиридиона было очень коротко:
«Иисус (видение пленительное) явился мне и сказал: «Из четырех Евангелий наиболее божественное, наименее замутненное мимолетными приметами той поры, когда свершал я предназначенное, – Евангелие от Иоанна, того, кто был при распятии моем, того, кому, умирая, сказал я взять к себе мать мою. Сохрани же лишь это Евангелие. Три других, писанных на земле для времени, когда были они писаны, полных угроз и анафем, уловок священнических и уступок закону Моисееву, пусть будут для тебя как небывшие. Отвечай: послушаешься ли ты меня?»
И я, Спиридион, слуга Господень, отвечал: «Послушаюсь».
Тогда сказал Иисус: «В христианском прошлом своем будешь тогда из школы Иоанновой, будешь иоаннитом».
И когда сказал Христос эти слова, простился я с существом моим. Понял я, что умираю. Не был я более христианином; но скоро понял я, что возрождаюсь и христианин больше прежнего. Ибо христианство явлено было мне в откровении, и услышал я голос, шептавший мне на ухо стих из семнадцатой главы Евангелия единственного: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа».
И сказал тогда Иисус:
«Будешь ты собирать в веках всех, кто из школы твоей».
И тогда вспомнил я все читанное прежде о школе апостола Иоанна, и те, кого так часто звал я еретиками, представились мне воистину живыми.
Иисус же прибавил:
«Но сотрешь и вычеркнешь со тщанием все ошибки духа пророческого, дабы сохранилось одно лишь пророчество».
Видение исчезло, но я, можно сказать, чуял тайную его жизнь в душе моей. Бросился я к книгам, и первое сочинение, мне попавшееся, было Евангелие от Иоанна, переписанное рукою Иоахима Флорского.
Второе было «Введение в вечное Евангелие» Иоанна Пармского.
Перечел я Евангелие от Иоанна, благоговея и любя.
Прочел я «Введение в вечное Евангелие», мучаясь и стеная. А когда закончил, осталась в уме моем одна только фраза: «Религия имеет три эпохи, и соответствуют они царствиям трех лиц Троицы».
Остальное исчезло и вычеркнулось из ума моего. Но эта фраза сверкала перед умственным взором моим, словно яркий маяк, который не погаснет вовеки.
Тогда снова явился мне Христос и сказал:
«Религия имеет три эпохи, и соответствуют они царствиям трех лиц Троицы».
Я отвечал: «Да будет так!»
Иисус продолжал:
«Христианство имело три эпохи, и эпохи эти истекли».
Сказал – и исчез. И прошли передо мной один за другим (видение пленительное) святой Петр, святой Иоанн и святой Павел.
За святым Петром стоял великий папа Григорий VII.
За святым Иоанном стоял Иоахим Флорский, святой Иоанн века тринадцатого.
За святым Павлом стоял Лютер.
Тут лишился я чувств».
После на бумаге следовал пробел, а за ним той же рукой написаны следующие строки:
«Христианство должно было иметь три эпохи, и все три истекли. Три ипостаси имела Божественная Троица, и так же три ипостаси имело понятие человеческого ума о Троице в лоне христианства, и одна сменяла другую. Первая, коей символом святой Петр, приходится на период создания и устроения иерархического Церкви воинствующей; так развивалась она до времени Гильдебранда, святого Петра одиннадцатого столетия; вторая, коей символом святой Иоанн, приходится на период от Абеляра до Лютера; третья, коей символом святой Павел, начинается Лютером и кончается Боссюэ. Это – царствие свободы совести, царствие познания, подобно тому как предшествующий период был царствием любви и чувства, а самый первый – царствием ощущений и деятельности. Тут кончается христианство, и начинается эра новой религии. Не будем же искать абсолютную истину в букве Евангелия, будем искать ее в откровениях, явленных всему человечеству, жившему прежде нас. Учение о Троице есть религия вечная; истинное постижение этого учения есть процесс бесконечный. Быть может, мы вечно проходим через эти три стадии, предаваясь либо деятельности, либо любви, либо науке, кои суть три принципа основополагающие, ибо этими тремя божественными принципами наделен каждый человек, являющийся в мир как сын Божий. И чем лучше сумеем мы объединить эти три стадии и предаться деятельности, любви и науке разом, тем ближе окажемся к совершенству божественному. Люди будущего, в вас осуществится это пророчество, если сможете сказать: с нами Бог. Грядет время нового откровения, новой религии, нового общества, нового человечества. Религия эта отвергнет не дух христианства, но одни лишь формы его. Станет она христианской религии дочерью, а религия христианская станет ей матерью: одна клонится к могиле, другая полна жизни. Новая религия, дщерь Евангелия, не отречется от матери, но продолжит дело ее; то, чего мать не поняла, объяснит ей, то, чего мать не дерзнула свершить, свершит; то, к чему мать лишь приступила, доведет до конца. Вот пророчество истинное, явленное великому Боссюэ в последний его час, под покровом траурным. Божественная Троица, прими и преобрази того, кого озарила ты своим светом, воспламенила своей любовью и создала из собственного существа своего, – слугу твоего Спиридиона».
Алексей свернул рукопись и спрятал ее на груди, после чего надолго погрузился в размышления. Лик его был светел и спокоен. Я сидел рядом неподвижно, не сводя глаз с учителя и пытаясь угадать, какие мысли его волнуют. Внезапно крупные слезы покатились по его изборожденным морщинами щекам, словно благодетельный дождь на иссохшую землю. «Я счастлив! – сказал он, обнимая меня. – О жизнь моя! Горестная моя жизнь! Все страдания, все тяготы были не напрасны, раз ценою их купил я этот несказанный миг света, веры и милосердия! Божественное милосердие, наконец-то постиг я твою сущность! Высшая логика, ты не могла меня подвести! Друг Спиридион, ты знал это, ведь ты говорил мне: «Когда полюбишь, поймешь». О пустая моя наука! о бесплодная ученость! Не вы открыли мне истинный смысл Писания! Лишь с тех пор, как познал я дружбу, а с дружбою – милосердие, с милосердием – энтузиазм, плод братства человеческого, – с тех пор стал я способен понимать слово Божие. Анжель, дозволь мне в то недолгое время, что суждено мне провести подле тебя, не расставаться с этими рукописями; но когда меня не станет, не хорони их вместе со мной. Ныне истине не пристало спать во гробе, пора ей действовать при свете солнца и пробуждать сердца людей доброй воли. Ты перечтешь эти Евангелия, дитя мое, и, комментируя их, заново изучишь историю; мозг твой, который я наполнил фактами, текстами и формулами, подобен книге, коя несет в себе жизнь, но того не знает. Так и я тридцать лет обращал собственный мой ум в пергамент. Тот, кто все прочел и все изучил, ничего не поняв, есть худший из невежд; тот же, кто, не умея читать, постиг мудрость божественную, есть величайший ученый на земле. Теперь прощай, дитя мое, тебе пора покинуть монастырь и возвратиться в мир.
– Что я слышу? – вскричал я. – Расстаться с вами? Возвратиться в мир? И это говорите вы, именующий себя моим другом? Вы даете мне подобный совет?
– Ты видишь сам, – отвечал он, – с нами все кончено. Скажем честно: Спиридион был последним монахом. О несчастный наставник! – воскликнул Алексей, подняв очи к небу. – Ты тоже много страдал, и страдания твои остались неведомы людям. Но Господь простил твои возвышенные заблуждения и в последние земные мгновения даровал тебе пророческий дар, утешивший тебя в твоих горестях; ибо, прозрев в грядущем стремление рода людского к идеалу, великое твое сердце не могло не забыть о собственных страданиях. То же случилось и со мной. Хотя ты посвятил жизнь свою исключительно штудиям богословским, а я изучил науки самые разнообразные, оба мы пришли к одному и тому же выводу: прошлое кончилось и не должно ему стоять на пути у будущего; в падении нашем столько же пользы, сколько в нашем существовании; не следует ни отрекаться от первого, ни проклинать второе. О Спиридион! В монастырской сени, в святилище своих дум ты превзошел своего учителя: ибо Боссюэ умер с криком отчаяния на устах, умер, думая, что Вселенная рушится, а ты упокоился с миром, исполненный Божественной надежды на грядущие судьбы рода человеческого. Да, Спиридион, ты мне дороже, чем Боссюэ, ибо ты не стал проклинать свой век, ты великодушно отрекся от длинной череды иллюзий – почтенных сомнений, возвышенных усилий души, пылающей страстью к совершенству. Будь же благословен, будь восславлен: Царство Небесное принадлежит тем, кто велик умом и прост сердцем».
Сказав это, он благословил меня возложением рук, а затем, сделав усилие, чтобы встать с постели, произнес:
– Ну что же, ты и сам знаешь, что час настал.
– Какой час, – удивился я, – и что намерены вы предпринять? Слова эти нынче ночью уже поразили мой слух, но я полагал, что их не слышал никто, кроме меня. Скажите же мне, учитель, что они значат?
– Я также слышал эти слова, – отвечал он, – ибо в то время, когда ты извлекал рукопись из гроба нашего учителя, я вел с ним здесь, в келье, долгую беседу.
– Вы видели его?
– Я никогда не видел его ночью, взору моему он являлся только днем, в сиянии солнца. Мне никогда не дано было видеть и слышать его одновременно: он приходит ко мне днем, а говорит со мною ночами. Нынче ночью он объяснил мне смысл тех слов, которые мы только что прочли, и не только их; приказывая тебе достать рукопись из гроба, он пекся лишь о твоей душе: он желал, чтобы никогда больше сомнение касательно того, что люди нашего века назвали бы выдумками и бредом, не посещало ее.
– Небесный бред этот заставил бы меня возненавидеть разум, сумей этот последний изгладить память о первом из моей души! Но не бойтесь, отец мой, эти священные восторги запомнятся мне навечно!
– Теперь пойдем! – сказал Алексей и, внезапно распрямив свою дряхлую спину, с юношеским проворством и легкостью решительно двинулся к двери кельи.
– Как! Вы ходите! Неужели вы поправились? – спросил я. – Ведь это чудо!
– Единственное чудо – это наша воля, а дарует ее нам Небо, – отвечал Алексей. – Иди за мной, я хочу снова увидеть солнце, пальмы, стены монастыря, могилу Спиридиона и Фульгенция; ребяческая радость владеет мною, душа моя ликует. Я должен поцеловать землю, рождающую страдания и надежды, землю, не напрасно политую нашими слезами, землю, где, устав от тягот, мы недаром преклоняли колени для молитвы.
Мы спустились вниз и направились было в сад; однако, проходя мимо трапезной, где как раз собрались все монахи, Алексей на мгновение остановился и бросил на них сочувственный взгляд.
Видя перед собою человека, которого они почитали стоящим одной ногой в могиле, монахи пришли в ужас, а один из послушников, прислуживавший им и потому находившийся у самой двери, прошептал:
– Мертвые воскресают – дурное предзнаменование.
– Да, без сомнения, – подтвердил Алексей, внезапно по какому-то наитию решившийся войти в трапезную. – Предзнаменования дурны; вас ждут великие бедствия.
Он говорил громко, с юношеским пылом, и глаза его горели огнем вдохновения:
– Братья, встаньте из-за стола, бросьте хлеб, который вы едите, раздерите ваши сутаны, оставьте этот дом, уже сотрясаемый грозой, – а иначе готовьтесь к смерти!
Монахи, устрашенные и подавленные, суетливо вскочили, словно ожидая чуда. Настоятель приказал им сесть.
– Разве вы не видите, – спросил он, – что этот старец бредит? Анжель, отведите его назад в келью, уложите в постель и не позволяйте ему вставать! Я приказываю вам сделать это.
– Брат, ты больше не вправе никому ничего приказывать, – отвечал Алексей спокойно и твердо. – Ты больше не начальник, ты больше не монах, ты никто. Говорю тебе: пора бежать; настал час – и твой, и наш.
Монахи вновь засуетились. Донасьен опять успокоил их и, боясь скандала, сказал:
– Сидите спокойно, а он пусть говорит; вы сами убедитесь, что речи его – горячечный бред.
– О монахи! – отозвался Алексей со вздохом. – Если кому горячка и помутила разум, так это вам самим, – вам, прежде предмету поклонения, ныне же – предмету ненависти; вам, из чьих рядов вышло столько ученых и пророков, коих Церковь подвергла гонениям и отправила на костер, вам, кои постигли дух Евангелия и мужественно попытались хранить ему верность! О последователи вечного Евангелия, духовные отцы великого Амори Шартрского, Давида из Динана, Петра Вальда, Сегарелли, Дульчино, Эона де л\'Этуаля, Петра из Брюи, Лолларда, Виклифа, Яна Гуса, Иеронима Пражского, наконец, Лютера! О монахи, постигшие, что такое равенство, братство, товарищество, милосердие и свобода, монахи, провозгласившие вечные истины, объяснить и осуществить которые предстоит потомкам, – о монахи, нынче вы не рождаете и не производите ровно ничего и ровно ничего не способны понять! Много лет прятались вы в складках плаща святого Петра, однако Петр не может больше вас защищать; много лет искали вы покровительства пап, много лет изъявляли покорство князьям, однако сильные мира сего больше не способны вам помочь. Близится царствие вечного Евангелия, но не вы следуете ему; вы не желаете возглавить восставшие народы и свергнуть иго тиранов, а потому будете истреблены как оплот тирании. Бегите, говорю, вам остался ровно час, а может быть, и того меньше! Раздерите ваши одежды, спрячьтесь в лесной чащобе и в горных пещерах, хоругвь Христа истинного веет в воздухе, и уже пала на вас ее тень.
– Он пророчествует! – вскричали одни монахи, бледные, объятые трепетом.
– Он богохульствует, он святотатствует! – возопили другие, объятые гневом.
– Уведите его, посадите его под замок! – воскликнул настоятель, дрожа от ярости.
Никто, однако, не дерзнул поднять руку на Алексея. Казалось, невидимый ангел защищает его.
Покинув трапезную, он взял меня за руку, ибо полагал, что я иду слишком медленно, и повлек в сад, к пальмам. Некоторое время он наслаждался зрелищем моря и гор, а затем, повернувшись к северу, сказал:
– Они близятся, близятся с быстротою молнии!
– Но кто же они такие, отец мой?
– Страшные мстители, защитники поруганной свободы. Быть может, мщение их окажется безрассудным. Способны ли люди, облеченные подобной миссией, сохранять хладнокровие и судить по справедливости? Времена настали, плод созрел и должен пасть; пускай при падении он раздавит несколько травинок – что за важность?
– Вы говорите о врагах нашей страны?
– Я говорю о мечах, сверкающих в руках Бога воинств. Они близятся, мне открыл это Дух, и день этот станет моим последним днем. Так говорят о смерти здесь, на земле. Но я не умру, я не покину тебя, Анжель, и ты это знаешь.
– Вы умрете? – вскричал я, в ужасе прижимаясь к нему. – О, не умирайте! Ведь я, кажется, только сегодня начал жить.
– Такова воля Провидения, таков закон, и, покорные ему, сменяются люди и вещи, – отвечал он. – О сын мой, преклонимся пред Богом бесконечным! О Спиридион! я не прошу тебя явиться предо мною сегодня; в мире, который открывается глазам души моей, вере не нужны формы человеческие; ты со мною, ты во мне. Мне не надобно более слышать скрип песка под твоими ногами, чтобы догадаться о твоей роли в моей жизни. Довольно видений, довольно чудес, довольно провидческих снов! Нет, Анжель, мертвецы не покидают могил, дабы, обретя форму осязаемую, наставлять или предостерегать нас; они живут в нас, как говорил Спиридион Фульгенцию, и разгоряченное наше воображение воскрешает их и являет нашему разуму, когда разуму этому недостает решимости и мудрости, дабы восприять свет, так что нам следовало бы…
Тут вдали за горным хребтом что-то глухо загрохотало, и глухой этот звук утонул в морской пучине.
– Что это? – спросил я Алексея, который вслушивался в далекий гул с улыбкой на устах.
– Это пушка, – отвечал он. – Это голос победителей, которые приближаются к нам.
Он продолжал прислушиваться; пушечные залпы следовали один за другим.
– Это не сражение, – сказал он, – это гимн победе. Мы побеждены, сын мой; Италии больше не существует. Но не горюй о потерянной родине. Италии не существует уже давно; сегодня приходит конец папской Церкви. Не будем же молиться за побежденных: победители не ведают что творят, но это ведает Господь.
Мы направились в церковь и по дороге встретили настоятеля в обществе нескольких монахов. Лицо Донасьена было искажено страхом.
– Что происходит? – спросил он. – Вы слышали пушки? Там идет бой?
– Бой уже кончился, – спокойно отвечал Алексей.
– Откуда вы знаете? – закричали монахи. – У вас есть новости? Расскажите скорее!
– Я не знаю, а всего лишь предполагаю, – так же спокойно продолжал Алексей, – но вам советую: либо спасайтесь бегством, либо готовьте ужин для гостей, которые вот-вот объявятся в вашем доме…
Больше Алексей ничего не сказал и, не отвечая на расспросы, вошел в церковь. Я шел следом. Не успели мы войти, как снаружи послышались невнятные крики и какая-то песня. Казалось, восторг победы смешался в ней с гневными угрозами. Ответом этой чужестранной песне было молчание. Местные жители в страхе бежали от победителей, как улетают робкие голуби, завидев ястреба. К нам приближался отряд французских солдат. Скитаясь в горах, эти мародеры заметили вдали монастырь и, соблазненные богатой поживой, ринулись к нему. Они обрушились на нас, подобно урагану. В одно мгновение пьяные солдаты сломали ворота и наводнили обитель, распевая хриплыми, страшными голосами песню, слова которой поразили меня:
Не знаю, что делалось в кельях. За стенами церкви слышались поспешные шаги: монахи в ужасе бросились врассыпную, чтобы не попасться в руки врагу. Вероятно, солдаты грабили, убивали, устраивали оргии… Алексей тем временем преклонил колени на камне Hiс est и, казалось, оставался глух ко всему происходящему. Погруженный в свои мысли, он имел вид надгробной статуи.
Внезапно дверь ризницы с грохотом отворилась, и в церковь вбежал солдат; поначалу он опасливо огляделся по сторонам, но, не заметив нас и сочтя, что в храме никого нет, бросился к алтарю, взломал острием своего штыка дарохранительницу и стал поспешно запихивать в свой ранец серебряные и золотые ковчежцы и чаши. Видя мое волнение, Алексей обернулся ко мне и сказал:
– Смирись, час настал; Провидение дозволяет мне умереть, но тебе повелевает жить.
В эту минуту в церковь с криками и бранью ворвались другие солдаты и затеяли с опередившим их товарищем спор из-за добычи. Дело скоро дошло бы до драки, если бы новопришедшие не торопились завладеть своей долей сокровищ до прихода всех остальных грабителей. Поэтому, оставив в покое первого солдата, они принялись наполнять ранцы, кивера и карманы всем, что могли унести. Они разбивали прикладами ружей ковчеги, ломали кресты. Алексей взирал на все это совершенно бесстрастно. Внезапно от распятия, венчавшего главный алтарь, оторвалась и с грохотом упала на пол фигура Христа.
– Глянь-ка! – завопил один из солдат. – Христос-санкюлот нам салютует!
Остальные покатились со смеху и бросились к упавшему изваянию, но, убедившись, что оно лишь казалось золотым и что под слоем позолоты скрывается дерево, начали в приступе грубого веселья презрительно топтать его ногами, а один из них схватил голову распятого и швырнул ее в сторону колонн, за которыми скрывались мы с Алексеем; она упала прямо к нашим ногам. Тогда Алексей встал и голосом, полным веры, произнес:
– О Христос! Алтари твои могут быть разбиты, образ твой может влачиться во прахе. Не тебе, Сыну Божьему, наносятся эти оскорбления. Пребывая в лоне Отца твоего, ты взираешь на них без боли и гнева. Ты ведаешь, что творят эти люди; они истребляют символ Рима, средоточия лжи и алчности, – истребляют во имя той свободы, которую ты первый провозгласил бы и прославил, верни тебя небесное Провидение на землю сегодня.– Смерть, смерть этому фанатику, который бранит нас на своем языке! – крикнул один из солдат и бросился к нам с ружьем наперевес.
– Старого инквизитора – на штык! – подхватили другие.
Один из них вонзил штык в грудь Алексея с криком:
– Долой инквизицию!
Алексей махнул мне рукой, жестом давая понять, чтобы я не вздумал защищать его, а другой рукой оперся о стену, чтобы не упасть. Солдаты меж тем схватили меня и связали мне руки.
– Сын мой, – произнес Алексей со спокойствием мученика, – мы сами тоже не что иное, как бренные изображения; когда мы перестаем воплощать те идеи, какие некогда сообщали нам силу и святость, нас разбивают. Такова воля Провидения; дело наших палачей свято, хотя сами они этого еще не понимают! Между тем они сказали, и ты это слышал: они оскверняют святилище церкви во имя санкюлота Иисуса. Так начинается царствие вечного Евангелия, предсказанное нашими учителями.
Сказав это, он упал ничком; другой солдат с силой ударил его по голове, и камень Hiс est обагрился кровью моего учителя.
– О Спиридион! – произнес Алексей слабеющим голосом. – Могила твоя очищена! О Анжель! Сделай так, чтобы кровь моя пролилась недаром! О Господь! Я люблю тебя! Сделай так, чтобы тебя узнали люди все до единого!..
И он испустил дух. Тогда лучезарная фигура явилась рядом с ним, а я лишился чувств.
О романе «Спиридион»
Роман Жорж Санд «Спиридион», первая редакция которого была напечатана в ноябре 1838 – январе 1839 года в журнале «Ревю де Де Монд» (отдельное изд. – февраль 1839), а вторая – издана отдельной книгой в 1842 году [11] , имел в России странную судьбу. Он никогда прежде не был переведен на русский язык [12] по причине своего религиозного содержания: до 1917 года неуместной казалась проповедь религии, свободной от догматов какой бы то ни было церкви (цензурный комитет в 1839 году мотивировал свое запрещение необходимостью защитить от поругания «истины и догматы христианской веры»), после 1917 года этот аргумент, казалось бы, отпал, но теперь одиозной оказалась религиозность сама по себе (пусть даже недогматическая). Тем не менее этот не изданный на русском языке роман оказал сильнейшее воздействие на нескольких замечательных русских литераторов.
Герцен во владимирской ссылке в 1839 году жадно поглощал «Спиридиона» в первой журнальной публикации. Лермонтов, заменивший первоначальный эпиграф к поэме «Мцыри» («Родина у всякого человека одна») на библейскую фразу «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю», по убедительному предположению исследователя его творчества, ориентировался не непосредственно на Ветхий Завет, а на роман Санд, где этой фразой из Первой Книги Царств описывает собственную жизнь главный герой, монах Алексей [13] . Следы чтения «Спиридиона» различимы в творчестве Достоевского (хотя прямых упоминаний этого романа писатель не оставил) от «Записок из подполья» [14] до «Братьев Карамазовых» [15] . Наконец, один замечательный русский мыслитель и литератор сам признавался в старости, что чтение «Спиридиона» коренным образом переменило его жизнь.
Я имею в виду Владимира Сергеевича Печерина (1807—1885) – первого русского «невозвращенца», блестящего профессора-классика, который пренебрег открывавшейся перед ним университетской карьерой, самовольно остался в Европе, принял католичество и сделался монахом-редемптористом. В своих воспоминаниях он признается, что «Жорж Занд имела решительное влияние» на его переход в католичество [16] ; переворот этот свершился в 1840 году в Льеже, причем сильнее всего подействовал на Печерина именно роман «Спиридион»: «Важнейшая эпоха моей жизни сложилась из страниц «Спиридиона» точно так же, как первые годы моей юности сложились из стихов Шиллера» [17] . «Спиридион» был не единственным сочинением Жорж Санд, потрясшим Печерина [18] , но он оказался, по словам Печерина, самым «важным». Чтобы объяснить, что именно произвело на него такое сильное действие, Печерин выписывает в воспоминаниях по-французски пассаж из «Спиридиона» (цитируем его в нашем переводе):
«Душа моя преисполнилась горделивого восторга, и я храбро вверил себя Провидению; в моем уме теснились мысли самые веселые и самые поэтические. Все предметы, по которым скользил мой взгляд, расцветали, казалось, неведомой красой. Золотые стенки дарохранительницы сверкали, как если бы на святыню снизошел Божественный свет. Цветные витражи, вспыхивая от солнца и отражаясь в плитах пола, образовывали между колоннами целые мозаики из брильянтов и самоцветов. Мраморные ангелы, казалось, изнемогали от жары и от тяжести карнизов; они клонили лица долу, стремясь, подобно прекрасным птицам, спрятать прелестные головки под крыло. Мерный и таинственный ход башенных часов напоминал биение сердца, охваченного страстью, а тусклый белый свет лампады, ни на минуту не гаснущей перед алтарем, соперничал с сиянием солнца и служил мне эмблемой человеческого ума, который прикован к земле, но всякую минуту мечтает раствориться в немеркнущем свете ума Божественного», а затем добавляет: «Вот что меня увлекло, очаровало, обольстило! Для человека, живущего одним воображеньем, этого было довольно. Я сидел на диване и читал, читал – долго ли, коротко ли, не знаю – и думал крепкую думу и, наконец, порешил – идти прямо в знаменитую картезианскую обитель, La grande Chartreuse, что близ Гренобля, поселиться там и, если нужно, принять католическую веру. Заметьте, это важное обстоятельство: тут католицизм на втором плане, он был не целью, а средством, а главною целью была – поэтическая пустыня!» [19] Идеал свой в пору обращения в католичество и ухода в монахи Печерин представлял следующим образом: «Жить в совершенном уединении; но вместе с тем иметь возможность по временам выходить из него для того, чтобы навещать больных, страждущих и несчастных и помогать им словом и делом»; к этим словам он прибавляет: «Это было почти целиком взято из «Спиридиона» Жорж Занда» [20] . Но мало того, что роман Жорж Санд толкнул Печерина в монастырь, в этом романе, как выяснилось, был предсказан и позднейший уход из монастыря обратно в мир. В самом деле, отдав редемптористам два десятка лет жизни, Печерин в результате – точь-в-точь как герои «Спиридиона» – ощутил, что монастырская жизнь его душит, и вышел из ордена. «Некоторые книги лучше всякой ворожеи предвещают нам будущее», – подытоживает он в воспоминаниях. [21]
Разумеется, столь же внимательные и заинтересованные читатели были у «Спиридиона» и во Франции; роман этот служил им камертоном, точкой отсчета, вспомогательным средством для описания реальности; например, знаменитый историк церкви Эрнест Ренан, побывав в 1850 году в бенедиктинском монастыре Монте-Кассино и увидев там просвещенных монахов, проникнутых современным духом, резюмировал свои впечатления следующим образом: «Вообразите себе самое совершенное воплощение «Спиридиона» – и вы получите полное представление о Монте-Кассино». [22]
Итак, в тексте, который нам, торопливым и пресыщенным, может показаться риторическим упражнением, высокопарным плетением словес (и вообще, что это за роман без женщин и без любви, если не считать таковой любовь к неведомому Богу?), – в этом тексте люди XIX века, искавшие решение тех же духовных и социальных проблем, какие мучили сочинительницу «Спиридиона», видели спасение, рецепт, руководство к действию. Сама Жорж Санд, впрочем, считала, что ответы на мучительные вопросы ей неизвестны и единственное, что она умеет, – «проговаривать» эти вопросы, важные не для нее одной, сообщать им более или менее внятную форму. В письме к одной из своих читательниц она объясняла это так:
«“Спиридион” – это всего лишь роман, если угодно, всего лишь кошмар. Я никогда не притязала на решение каких бы то ни было вопросов. Это – роль не для меня. Я, наверное, потрачу всю жизнь на поиски истины и не найду даже малой ее части. Каждому свое. Я знаю, на что способна я. Я родилась романистом и сочиняю романы, иначе говоря, употребляю определенные средства для того, чтобы вызвать чувство, чтобы тронуть, взволновать, пожалуй, даже встряхнуть сердца тех из моих современников, кто способен испытывать чувства и кому потребны волнения. Те, кто на это не способен, говорят, что я подмешиваю к питью отраву, тогда как я всего-навсего добавляю немного осадка в вино их хмельного бесстыдства. Те, кого судьба наградила верой, спокойствием и силой, в моих романах не нуждаются. Они их не читают, они не ведают об их существовании; я восхищаюсь такими людьми и уважаю их больше всех на свете. Пишу я, однако, не для них, а для людей ума более среднего.
Те, кто находит мои романы порочными, порочны сами. Те, кто находит в них страдание, слабость, сомнения, стремления и, главное, беспомощность, – видят в них то же самое, что вижу в них я. Спорила ли я когда-нибудь с такими критиками и с такими критическими суждениями? Никогда. Я вызвала волнение, а волнение ведет к размышлениям, к поискам. Именно этого я и добивалась. Заставить усомниться во лжи, пользующейся всеобщим доверием, напомнить о позабытой истине – для меня это цель более чем достаточная; на большее я и не притязаю». [23]
Что же касается проблем, которые решают для себя герои «Спиридиона» (а это прежде всего проблема поисков новой религии, которая не отвергала бы Бога, но предложила бы формы поклонения ему, не имеющие ничего общего с догматами какой бы то ни было из существующих церквей), то о них Санд знала не понаслышке. Личная жизнь писательницы, и в самом деле достаточно бурная, благодаря сплетням и легендам представляется прямо-таки вакханалией, поэтому не для всякого читателя очевидно, что Жорж Санд – это не только борьба женщин за свои права (читай: адюльтер и разврат) и романы с Мюссе и Шопеном, это еще и напряженные духовные и интеллектуальные поиски, начавшиеся с юности.
В мемуарной книге «История моей жизни» Санд признавалась: «Пожелай я изобразить серьезную сторону моей натуры, я рассказала бы о жизни, которая долгое время куда более походила на жизнь монаха Алексея (героя не слишком занимательного романа «Спиридион»), чем на жизнь страстной креолки Индианы» [24] . В самом деле, хотя Жорж Санд из бульварной легенды очень далека от монаха Алексея, которому является в солнечном луче светлый и мудрый дух другого монаха, тем не менее многие переживания, какими она наделила этого монаха и других персонажей «Спиридиона», имеют автобиографический характер. В «Истории моей жизни» Санд рассказывает о том, как она в пятнадцать лет вдруг уверовала в Бога. Будущая писательница, звавшаяся в ту пору Авророй Дюпен, воспитывалась в монастыре Английских августинок, однако до определенного момента относилась к религии весьма равнодушно; она была уверена, что устраивать вместе с другими маленькими «чертовками» (как они именовали себя сами) пакости монахиням гораздо более забавно, чем молиться. Но однажды в церкви ее взгляд упал на картину Тициана, изображавшую Христа в Гефсиманском саду: картина эта висела прямо напротив Авроры, но довольно далеко, и рассмотреть ее детали она могла только в один-единственный момент: «когда заходящее солнце бросало свои лучи на багряные одежды ангела и белую обнаженную руку Христа» (тот же образный ряд – портрет, «оживающий» в лучах солнца, – играет огромную роль в «Спиридионе»). В церкви была и другая картина: на ней был изображен Блаженный Августин; к нему устремлялся чудесный луч (опять тот же мотив!), в котором горели знаменитые слова «Tolle, lege» [Возьми, читай! – лат. ], по легенде, обратившие Августина к чтению Нового Завета (опять-таки нетрудно разглядеть параллель с романом, где аббат Спиридион на портрете держит в руках книгу с латинской надписью «Здесь пребывает истина»). Под влиянием этой картины «чертовка» Аврора стала читать Евангелия, однако поначалу они оставили ее равнодушной. «Прозрение» случилось, когда однажды вечером она оказалась в церкви в одиночестве: «Время шло, служба окончилась […] Я все забыла. Я ощущала неизъяснимое наслаждение, ощущала его не столько чувствами, сколько душой. Внезапно все мое существо пробрала дрожь, перед глазами у меня сверкнула белая молния. Какой-то голос шепнул мне на ухо: Tolle, lege. Я обернулась […] В церкви не было никого, кроме меня» [25] . Аврора Дюпен сочла случившееся не чудом, а галлюцинацией, но тем не менее с того дня она уверовала.
Однако вера эта с трудом могла соответствовать стандартам «официальной», догматической католической набожности. И дело не только в том, что официальная Церковь не могла принять и одобрить поведение писательницы, расставшейся с мужем, открыто меняющей любовников, носящей мужское платье и взявшей себе мужской псевдоним. Дело в том, что самой Жорж Санд официальный католицизм был «тесен». Она объясняла это многократно (в том числе и устами монаха Алексея – героя «Спиридиона»); приведем фрагмент, где ее отношение к католическому вероисповеданию выражено особенно четко. Это отрывок из уже цитированного выше письма к Анриетте де Ла Биготьер:
«Подумайте о том, что помешало Иисусу стать Богом, а Евангелию – сделаться словом вечным. Вы легко поймете это, а поняв, возможно, только сильнее полюбите этого божественного человека, в котором в самом деле было нечто от Бога и который слышал обращенные к нему речи Бога.
Но Бог не открывает людям в один прекрасный день абсолютную истину ради того, чтобы затем замолкнуть и предоставить им мучиться в сомнениях и путаться в толкованиях. Он продолжает говорить с каждым из нас, говорить более или менее внятно в зависимости от того, насколько мы этого достойны; Евангелие же – эта совершеннейшая из истин, явленных человеку 1800 лет назад, – останется всего-навсего мертвой буквой, если мы не будем развивать и животворить его всеми силами своей души. Вот уже 1800 лет как Церковь убивает Евангелие, ибо она желает только сухо толковать его, тогда как необходимо его продолжать. […] Христос был человек богодухновенный, но не Бог, ибо что это за странный Бог, который знал далеко не все, который, приняв материальный облик и явившись к нам, чтобы нас наставить и спасти, не пожелал сказать нам всего, что нам надобно было знать!
Итак, думайте, вглядывайтесь в собственную душу, испытывайте собственную веру – не для того, чтобы ее потерять, подобно тем грубым умам, которым, чтобы уверовать, потребна тайна, а чтобы повиноваться – символ, но для того, чтобы очистить эту веру, возвеличить ее всею мощью вашего ума и сделать ее достойною того Бога, которому поклонялся Иисус, славный мученик, распятый за то, что знал больше, чем Моисей и его пророки. […] если вы веруете в то, что Иисус был Богом, а Евангелие представляет собою последнее слово божественной мудрости […] значит, вы никуда не движетесь, значит, вы пребываете в покое, а мне такой покой не нужен. В душе моей раздается голос, который велит мне отринуть этот покой, велит сражаться с усталостью и ленью. Конечно, я с большим удовольствием мирно заснула бы в лоне религии, готовой к употреблению, знающей ответы на все вопросы, просеянной сквозь сито восемнадцати столетий; спать на такой подушке – великое счастье. Однако я тревожусь вовсе не о собственном счастье! Разве я его заслужила? Разве я имею на него право? Я тревожусь о собственном долге и желаю узнать, в чем он заключается. И я полагаю, что Иисус сказал мне о нем недостаточно. Он оставил слишком много вещей непроясненными. Он не решил земной участи рода человеческого. Он и не мог этого сделать, ведь он не был Богом! […] Он сам в своем собственном Евангелии запретил мне принимать его за Бога и считать его конечной точкой моих исканий. Он запретил мне искать счастья для самой себя, но велел искать его для других. Меж тем решения той проблемы, которую именуют ныне социальной
(Иисус говорил о царстве Божием на земле), он не нашел, и всякий, кто не ищет это решение, не может считаться ни верующим, ни набожным, ни даже христианином». [26]
Более лаконично Санд сформулировала свои убеждения в другом письме к тому же адресату: «Вы простираетесь ниц перед непогрешимым христианством, а я – перед христианством совершенствующимся. Вы поклоняетесь Церкви прошлого, я – Церкви будущего! Поверьте: это та же самая Церковь, наша общая мать, колыбель нашего разума и наших добрых чувств, наших благородных страстей и наших кротких добродетелей. Но ваша Церковь закрыла свои двери, а наша их открывает». [27]
Санд не была религиозным мыслителем и не считала себя таковым; в своих религиозных исканиях она шла за теми, чьи взгляды и убеждения были ей близки. Хорошо информированный современник, прославленный критик Сент-Бев, сообщал в частном письме в ноябре 1838 г., вскоре после начала публикации «Спиридиона» в «Ревю де Де Монд»: «…говорят, что отец Алексей – это г-н де Ламенне, а знаменитая книга, написанная Духом, – это «Энциклопедия» Леру» [28] . Названные два имени: Ламенне и Леру – первостепенно важны для понимания «Спиридиона». Поэтому о личностях этих двух мыслителей и об их творчестве необходимо сказать несколько слов.
Аббат Фелисите-Робер де Ламенне (1782—1854), в 1810-е гг. один из самых страстных защитников традиционализма в делах веры, к концу 1820-х гг. сделался, напротив, сторонником либерального католицизма, идеи которого пропагандировал в издававшейся им газете «L’Avenir» [Будущее]. После того как папа римский Григорий XVI осудил деятельность издателей «Будущего» в энцикликах от 15 августа и 18 сентября 1832 г., Ламенне (в отличие от некоторых своих соратников, покаявшихся и возвратившихся в лоно Церкви) пошел на открытый разрыв с Ватиканом. Удалившись в свое бретонское имение Ла Шене, он написал там книгу «Речи верующего» (1834), – по его собственному определению, «евангелие бунта», в котором непосредственным следствием евангельского учения представлена демократия. «Речи верующего» были осуждены в очередной папской энциклике, а Ламенне продолжал выпускать брошюры, направленные и против Рима, и против правительства короля Луи-Филиппа. Мятежного аббата Ламенне, с которым Санд была лично знакома с 1835 года, к которому она испытывала огромное уважение и которого в статьях 1830-х гг. защищала от нападок критиков, роднит с отцом Алексеем из «Спиридиона» многое: от жизненной позиции (монах, идущий на разрыв с церковью во имя поиска более совершенной религии) до поэтических опытов (самое знаменитое произведение Ламенне, «Речи верующего», написано той же поэтической прозой, стилизованной под евангельские притчи, что и образец прозаической лирики отца Алексея, приведенный в романе). Однако Ламенне был не единственным и не главным вдохновителем Жорж Санд (о различиях в их взглядах свидетельствует, среди прочего, мелкий, но выразительный эпизод: в 1837 г. Ламенне напечатал в выпускаемой им газете «Монд» «Письма к Марсии» Жорж Санд, но настоятельно попросил ее исключить оттуда рассуждения о благотворности развода).
Гораздо большим обязана писательница другому мыслителю, которому, собственно, «Спиридион» и посвящен, – Пьеру Леру (1797—1871). Не случайно про другое свое произведение – вторую редакцию романа «Лелия», создававшуюся почти одновременно со «Спиридионом», она писала их с Леру общей знакомой: «Попросите его [Леру], чтобы он выправил гранки «Лелии», не типографически (точки с запятыми – это дело Бюлоза [издателя]), а философически. Там, должно быть, много неточных слов и неясных доказательств. Я предоставляю ему полную свободу действий. Он возьмет на себя этот труд и из дружеского расположения ко мне, и из верности тем идеям, о каких я веду речь…». [29]
В «Спиридионе» идей Леру не меньше, чем во второй редакции «Лелии». Санд познакомилась с Леру в 1836 году и очень скоро обнаружила в его философии ответы на многие мучившие ее вопросы. В первой редакции «Лелии» (1833) она наделила заглавную героиню своими исканиями и своей неспособностью уверовать в католического Бога. Леру предложил ей другую, менее узкую и более «человеческую» веру, и эти идеи окрасили как вторую редакцию «Лелии» (1839), так и «Спиридиона».
Главной отличительной чертой творчества Леру была вера в неостановимый прогресс человечества; именно эта вера послужила причиной его разрыва с сенсимонистами, чьи идеи он разделял до конца 1820-х гг. Леру смущала чрезмерная авторитарность наследников Сен-Симона, но в первую очередь он не разделял их взгляда на течение истории. Сен-Симон считал, что история состоит из чередования эпох «критических» (революционных) и «органических» (созидательных); его последователи, принимая эту схему, выводили из нее утверждение, что свобода критики уместна только в критические эпохи, в органические же эпохи должна торжествовать неподвижная догма (и сами такую догму навязывали окружающим). В отличие от них, Леру выступал за постоянное и свободное развитие разума, утверждал, что человечество создано для непрерывного прогресса, непрерывного созидания. Главное же, что проповедовал Леру и что с радостью переняла от него Жорж Санд, – это мысль о том, что человечеству необходима религия, но религия новая. Если Ламенне оставался христианином (хотя, разумеется, христианином, предлагавшим христианство реформировать, преобразовать), то Леру выступал проповедником новой, «гуманитарной» религии, религии человечества. Это религия, призванная пойти дальше католичества или любого другого существующего вероисповедания; в основу ее положена вера в Человечество, вера в Народ, который развивается (идет путем прогресса) в соответствии с Божьим замыслом. Религия эта демократична; она продолжает наследие французской революции и перенимает ее лозунг: «Глас народа – глас Божий»; однако при этом она чуждается как сенсимонистского авторитаризма и социалистического пристрастия к идее ассоциации, так и чрезмерного возвеличивания индивидуального разума, которым грешат либералы.
Пьеру Леру роман «Спиридион» обязан очень многим и в общем, и в мелочах. От Леру у Жорж Санд – исторический оптимизм, протипоставляемый безрадостному, безнадежному существованию адептов «традиционного» христианства, в рамках которого «людей, не спрашивая их согласия, обрекают на земную жизнь, полную опасностей и тревог, и на жизнь загробную, полную для большинства из них страданий вечных и неизбежных» (характерны размышления, которые вызывает у отца Алексея смерть его наставника Фульгенция: «Чего же стоит целая жизнь, прожитая в покорности и ослеплении, думал я, если, дожив до восьмидесяти лет, человек обречен умирать, объятый ужасом? Как же переходят в мир иной распутники и безбожники, если святые встречают смерть, бледнея от страха и не веруя в справедливость Господнего суда?»).
К Леру восходит и убежденность главного героя-идеолога, отца Алексея, в необходимости создания новой, не католической и не протестантской, не языческой и не деистской религии – «единственно истинной, единственно всеобъемлющей, единственно достойной Божества». Наконец, заметное в речах отца Алексея пристрастие к «триадам», Троицам как фундаменту религиозных и историософских построений – тоже плод уроков Леру, который постоянно приискивал составляющим Троицы новые «облики»; например: Бог Отец – Реальность, Бог Сын – Идеал, Святой Дух – прогресс. Это «триадное», троичное мышление лежит и в основе чрезвычайно важной как для Леру, так и для героев Санд веры в то, что на смену Ветхому и Новому Завету должен прийти некий новый, третий Завет.
Впрочем, мысль о необходимости нового Евангелия, разумеется, не являлась изобретением Леру. Мыслители XIX века продолжали в этом случае доктрины тех, кого они избрали своими духовными наставниками, – средневековых еретиков, осмеливавшихся по-новому переосмысливать учение официальной Церкви. В «Спиридионе» особая роль отведена двум таким еретикам: Иоахиму Флорскому и Иоанну Пармскому. Если в этом романе и есть какая-то сюжетная загадка, то это – судьба и содержание той таинственной рукописи, которую аббат Спиридион в буквальном смысле унес с собой в могилу и которую один из его наследников должен оттуда достать. Так вот, если в первой редакции романа (1839) рукопись эта представляла собою только пространное сочинение самого Спиридиона, то в окончательной редакции (1842) Алексей и Анжель обнаруживают в «замогильном» пакете три текста: Евангелие от Иоанна, переписанное рукою Иоахима Флорского, «Введение в вечное Евангелие» Иоанна Пармского и, наконец, текст самого Спиридиона (гораздо более лаконичный, чем в первом издании). Иоахим Флорский (ок. 1132—1201), аббат цистерцианского ордена, из-за чрезмерной самостоятельности покинувший орден и основавший собственный монастырь в горах Калабрии, изложил свою доктрину в комментариях на Апокалипсис. Суть этой доктрины, получившей название «вечного Евангелия», или «иоахимизма», заключалась в утверждении, что вслед за царством Бога Отца (эпоха Моисеева закона) и царством Бога Сына (эпоха Нового Завета) должно наступить царство Святого Духа – эпоха свободной любви, царство Церкви Иоанновой, которая упразднит Церковь Петрову. Мечты эти об обновлении мира и возрождении Церкви Святым Духом были сочтены еретическими и осуждены Римским престолом, однако им было суждено большое будущее. В XIII веке учение Иоахима нашло продолжателей среди францисканцев; именно в этой среде было создано «Введение в вечное Евангелие» (второй текст, спрятанный в могиле Спиридиона), который Санд, вслед за Жюлем Мишле, приписывает генералу францисканского ордена Иоанну Пармскому, хотя на самом деле он, по всей вероятности, был написан другим францисканцем, Герардино из Борго-Сан-Доннино (до нас он не дошел, поскольку был осужден папским престолом как еретический, и содержание его известно преимущественно по гневным отзывам противников иоахимизма). [30]
Впрочем, для Санд важно, разумеется, не авторство этого текста, а то, что Иоахим Флорский и Иоанн Пармский выступали провозвестниками нового Евангелия – «Евангелия ума и духа», которое придет на смену Евангелию «церковному», Евангелию буквы. Санд вообще (и это проявилось не только в «Спиридионе», но и в других романах, например в «Графине Рудольштадт») относилась с величайшим интересом и симпатией ко всем еретическим учениям, поскольку видела в них проявление свободных исканий, не скованных догматами окостеневшей официальной Церкви. В «Спиридионе» она не один раз перечисляет этих носителей свободной мысли, при этом важны для нее не столько конкретные особенности учений, созданных Амори Шартрским или Давидом из Динана (в перечень попало даже одно имя, которое, вообще говоря, не является именем собственным: Санд упоминает некоего Лолларда, меж тем лоллардами назывались участники антикатолического крестьянского движения XIV века, возникшего в Нидерландах и распространившегося в Англии), сколько их духовная независимость. Санд так дорожит памятью об этих предшественниках, разочаровавшихся в официальном культе, что даже о великом католическом теологе и проповеднике Жаке-Бенине Боссюэ сообщает, что он «умер с криком отчаяния на устах, умер, думая, что Вселенная рушится», хотя, безусловно, этот приступ страха на смертном одре – не самый главный и определяющий штрих в биографии епископа из города Мо, который традиционно считается одним из столпов католицизма. Для Санд важнее всего подчеркнуть, что официальная церковь уже очень давно не может удовлетворить духовные потребности верующих, что поиски новой, свободной религии велись испокон веков.
Что же касается Иоахима Флорского и его учения – «иоахимизма», то здесь не место останавливаться на его содержании более подробно, и не только потому, что богословские тонкости плохо уживаются с жанром послесловия к роману. Дело в том, что пророчества сами по себе всегда туманны; абстрактность заложена в их природе. Так было и в XII, и в XIX веке, и Санд, используя в своем романе старинные еретические доктрины и современные «гуманитарные» учения, сохраняет их изначальную неопределенность: царство духа наступит, но в чем оно будет заключаться конкретно, сказать затруднительно. Однако, с другой стороны, Санд создает не философский трактат и не богословское рассуждение; она пишет роман, в котором философские и богословские абстракции должны обретать более или менее конкретную, осязаемую форму. С литературной точки зрения «Спиридион» чрезвычайно интересен именно теми средствами, которые использует Санд для своего рода «материализации» теоретических идей.
«Спиридион» – роман, в котором действующими лицами являются не только и не столько люди, сколько идеи. Поэтому здесь совершенно естественно звучат пассажи, где роль подлежащих исполняют абстрактные существительные, обозначающие разнообразные человеческие свойства: «Умеренность уступила место невоздержанности, трудолюбие – лености, добротворение – эгоизму; […]; злословие и чревоугодие, две нечистые страсти, правили бал в монастыре; следом туда проникли невежество и грубость, обратившие храм, предназначенный для строгих добродетелей и благородных трудов, во вместилище постыдных наслаждений и подлой праздности». Поэтому традиционная завязка «Спиридиона», напоминающая «черный», готический, монастырский роман (таинственные гонения, которым подвергают злобные и лицемерные монахи юного послушника), обманчива: если в готическом романе в монастырских декорациях разворачивается любовная драма, то драма, разыгрывающаяся в том монастыре, который описан в «Спиридионе», – совсем другого рода; это драма идеи и той рукописи, в которой эта идея запечатлена.
Сходным образом обманчива и мистическая атмосфера романа: призрак, являющийся главному герою, оживающий портрет (след чтения Гофмана, под сильнейшим влиянием которого Санд находилась в юности). На самом деле писательница тщательно стремится избежать и мистики, и вульгарных бытовых интерпретаций. Отец Алексей поначалу мучительно выбирает одно из двух истолкований тех странных видений, которые предстают его взору: сумашествие или чудо? Между тем Санд усвоила от Пьера Леру доктрину бессмертия души как постоянного метемпсихоза, постоянного возрождения каждой личности в людях, принадлежащих к следующим поколениям. Эта доктрина помогает героям романа «снять» дилемму «безумие или чудо» как несущественную. До тех пор, пока человека и его мысли помнят потомки, он жив.
«Скорее море перестанет отражать небесную лазурь, чем образ любимого исчезнет из памяти любящего, – внушает Спиридион своему ученику Фульгенцию, – да и художники, запечатлевающие физический облик человека на полотне или в мраморе, также даруют умершим род бессмертия».
Спиридиону много лет спустя вторит Алексей, объясняющий, что люди прошлого, прежде всего люди-творцы, оживают благодаря потомкам, воскрешающим их в своей памяти.
Санд свято верила в то, что созидаемая ее учителями новая религия – религия просвещенная (отчасти по этой причине во второй редакции Спиридион сделан бенедиктинцем; этот орден, в отличие от францисканцев, к которым принадлежал аббат в первой редакции, известен своей приверженностью к ученым трудам), что она не будет отвергать достижений науки, а, напротив, вберет их в себя. Эта убежденность материализуется в романе с помощью лейтмотива света. Призрак аббата Спиридиона – Дух, носитель истины – является героям исключительно в луче света и в нем же и растворяется, а в могилу с собой уносит, среди прочего, переписанное его духовным наставником Иоахимом Флорским Евангелие от Иоанна, где одна из подчеркнутых переписчиком (то есть особенно важных) фраз гласит: «И свет во тьме светит». Весь позитивный образный ряд романа связан со светом. Отшельник, наделенный даром деятельного добра, «впитывает солнце»: «При этих словах тусклые глаза его загорелись и, казалось, принялись излучать впитанный ими солнечный свет. Они сияли так ярко, что я вынужден был отвести взгляд и невольно посмотрел на море, сверкавшее у наших ног». Отец Алексей внушает своему ученику: «Да, Анжель, какие бы суровые испытания ни подстерегали нас на пути к истине, мы обязаны искать ее неустанно; лучше ослепнуть, глядя на солнце, нежели оставаться зрячим, не видя ничего, кроме земли, и пряча глаза от сияющего света». Стремясь убедить ученика в благотворности революции (несмотря на все ее эксцессы), тот же персонаж говорит: «Ведь люди, взявшиеся за оружие, пролагали дорогу в новый мир, еще не освещенный ни одним лучом солнца. Они сражались в потемках, отстаивая для начала свое священное право на свободу».
Конечно, «Спиридион» – роман идей и абстрактных понятий. Однако в его тексте абстракции «материализуются», причем весьма оригинальным образом. Роман начинается в атмосфере совершенно оторванной от реальности: непонятно не только, за что преследуют монахи невинного послушника Анжеля, непонятно, в какое время и в какой стране все это происходит: читатель не знает, ни где расположен монастырь, куда удалился Анжель, ни какой год или хотя бы какой век на дворе. Некоторые уточнения даются читателю очень постепенно: сначала из биографии аббата Спиридиона выясняется, что действие происходит в XVIII веке и что монастырь расположен где-то в Италии. Но поначалу и эти сведения остаются просто констатацией, они никак не используются и не обыгрываются; лишь в дальнейшем из монолога отца Алексея, который несколько раз апеллирует к «своему веку», выясняется, что где-то за пределами монастыря выпускают книги французские философы, что во Франции произошла революция. Но главный сюжет продолжает разворачиваться не столько в исторической действительности, сколько в душе героев, выясняющих отношения с Богом [31] . Между тем эта самая историческая действительность постепенно приближается к монастырю: в рассказе отца Алексея возникает фигура безымянного молодого корсиканца, адепта воли и силы, в котором нетрудно опознать будущего императора Наполеона, а еще через несколько страниц вдали раздается канонада: это стреляют французы, завоевавшие Италию. Тут время повествования наконец определяется с точностью до года – 1796; канонада звучит все громче: французская армия приближается к монастырю, а вместе с ней к монастырским стенам приближается сама история, которая и врывается в бенедиктинскую обитель более чем грубо и зримо – в лице пьяных и алчных французских солдат, сбрасывающих с алтаря изображение «Христа-санкюлота». И здесь, буквально на полуслове, роман обрывается – точно так же, как, по мнению Санд, во время революции прервалось, не завершившись, создание новой религии (национальной, республиканской и социальной), которую замыслили Робеспьер и Сен-Жюст – «люди великие, хотя и запятнанные страшной эпохой, их породившей». [32]
Иначе говоря, главная мысль Пьера Леру и его верной ученицы Жорж Санд – мысль о постоянном движении человечества вперед, к новым истинам – материализуется в строении романа, в его постепенном движении из «безвоздушного пространства», в котором он начинается, к конкретности – страшной конкретности – реальной жизни. Впрочем, эта-то реальная жизнь в романе не описана. В полном соответствии с установками «гуманитарной», социальной религии Пьера Леру Санд посылает своего героя «в мир»: «Теперь прощай, дитя мое, тебе пора покинуть монастырь и возвратиться в мир». Однако Санд честно предупреждала, что умеет ставить вопросы, но далеко не всегда умеет отыскивать ответы. Что именно делать герою в миру, она сказать не могла – и потому роман обрывается как бы на полуслове. Герой-повествователь лишается чувств; судьба его неясна.
Но зато ясно, что для самой писательницы (и, как показала история восприятия романа, для его читателей) роман «Спиридион» имел огромную «терапевтическую» силу. В процессе его сочинения Жорж Санд нашла выход из того «экзистенциального» отчаяния, в котором пребывала еще несколькими годами раньше, в пору сочинения первого варианта «Лелии». Впереди у писательницы был разрыв с Пьером Леру, обретение новых духовных наставников, участие в политической и общественной деятельности во время революции 1848 года, а затем разочарование в ней, однако тот оптимизм и та вера в человечество, какими она прониклась в конце 1830-х годов, остались при ней до конца жизни. Убеждения и идеалы, обретенные ею в этот период и укрепившиеся в дальнейшем, дали основания Достоевскому сказать в «Дневнике писателя»:
«Жорж Занд не мыслитель, но это одна из самых ясновидящих предчувственниц […] более счастливого будущего, ожидающего человечество, в достижение идеалов которого она бодро и великодушно верила всю жизнь. […] Она основывала свой социализм, свои убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстве человека, на духовной жажде человечества, на стремлении его к совершенству и к чистоте, а не на муравьиной необходимости. Она верила в личность человеческую безусловно (даже до бессмертия ее), возвышала и раздвигала представление о ней всю жизнь свою – в каждом своем произведении и тем самым совпадала и мыслию, и чувством своим с одной из самых основных идей христианства, то есть с признанием человеческой личности и свободы ее (а стало быть, и ее ответственности). Отсюда и признание долга, и строгие нравственные запросы на это, и совершенное признание ответственности человеческой». [33]
Кому-то рассказ об исканиях аббата Спиридиона и монаха Алексея может показаться чересчур риторическим и отвлеченным, однако заинтересованные читатели-современники, от француза Эрнеста Ренана до русского Владимира Печерина, англичанина Мэтью Арнольда и американца Ральфа Эмерсона, видели в этом романе живую реальность, слово, обращенное к ним напрямую, касающееся их лично. «Лень и равнодушие – вот величайшее зло, кое способен сотворить человек, вот величайшее кощунство, коим способен он себя запятнать. […] Самоотвержение возвратило мне способность быть милосердным; дружба научила сердечной нежности; поэзия и искусство внушили предчувствие жизни вечной; […] душа же моя полна надежды на жизнь вечную» – Мэтью Арнольд вписал эти фразы из «Спиридиона» в записную книжку, куда заносил самые дорогие для него мысли [34] . Для него, как и для Ренана или Печерина, эти слова были не только словами.
В. Мильчина
Примечания
1
Вкушая, вкусих мало меда и се аз умираю ( лат. ). – Здесь и далее примеч. пер.
2
Хором в западноевропейских церквях называется вся восточная (алтарная) часть церковного здания.
3
Здесь пребывает истина (лат.).
4
Смертный час ( лат. ).
5
См. Послание к Колоссянам (3, 8—11): «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие от уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея…»
6
Прозвище Жака Бениня Боссюэ (1627—1704), французского теолога и проповедника, который с 1681 г. был епископом в городе Мо.
7
Из глубины ( лат. ) – покаянный псалом, поющийся при отпевании.
8
Помилуй нас ( лат .).
9
Святой Спиридион, молись за нас ( лат .).
10
Через меня дорога к вечной муке ( ит. ).
11
В данном издании печатается перевод второй редакции, выполненный по изд.: Sand G. Spiridion: Texte de 1842 / Avant-propos de O.-A. Haac; Introduction de M.Hecquet. Genève, 2000.
12
Перевод финала, сделанный И.И. Панаевым для Белинского, который преклонялся перед Жорж Санд, но не мог читать ее в подлиннике, остался неопубликованным (см.: Панаев И.И. Литературные воспоминания. М., 1950. С. 242, 248).
13
См.: Вагин Е. Об эпиграфе поэмы «Мцыри» (Лермонтов и Жорж Занд) // Новый журнал. 1978. Кн. 130. С. 82—91).
14
При всем их ерничестве рассуждения «подпольного человека» о хрустальном дворце, в котором человек откажется жить и предпочтет «язык ему выставить», потому что любит отнюдь не только «одно нормальное и положительное», отнюдь не «одно благоденствие», имеют много общего с взволнованным вопрошанием отца Алексея в «Спиридионе»: «…грядущие поколения […] будут жить на земле в эпоху, когда люди придут к обоюдному согласию относительно своих обязанностей; однако довольно ли будет этого для счастья человека? Если тело мое не будет знать нужды, а свобода будет ограждена от вражеских посягательств, успокоит ли, насытит ли это мою душу, терзаемую жаждой бесконечности? Какой бы мирной и сладостной ни сделалась жизнь на этом свете, сумеет ли она удовлетворить потребности человеческие; как бы широко ни раскинулась земля, не будут ли ее просторы тесны для человеческих мыслей? О, не отвечайте мне на этот вопрос утвердительно, я все равно вам не поверю. Я слишком хорошо знаю, что такое жизнь, сведенная к удовлетворению нужд эгоистических; я слишком хорошо знаю, что такое думы о будущем без надежды на жизнь вечную! […] О, не говорите мне, что человек познает счастье, когда подле него не останется ни государей, принуждающих его к тяжкому труду, ни священников, грозящих ему загробными муками».
15
Исследователи, специально занимавшиеся вопросом о параллелях между «Спиридионом» и «Братьями Карамазовыми», оценивали степень близости двух текстов по-разному; тем не менее представляется очень вероятным, что несколько ключевых проблем романа: взаимоотношения старца Зосимы и его юного ученика Алеши; выбор этим последним жизненного пути (в монастыре или в миру); судьба наследия Христа в руках его формальных последователей – имеют одним из ближайших подтекстов именно «Спиридиона» (выразительно, среди прочего, и совпадение имен: монаха-богоборца у Санд зовут Алексеем; пребывающего на распутье послушника у Достоевского – Алеша). Подробнее об этом см.: Genevray F. Geoige Sand et ses contemporains russes. P., 2000. P. 309—323.
16
Русское общество 30-х годов XIX в.: Мемуары современников. М., 1989. С. 231.
17
Русское общество 30-х годов XIX в. С. 237.
18
К таковым он причисляет также роман «Мопра» и очерк «Зима на Майорке», откуда выписывает фрагмент, посвященный келье картезианского монастыря – той самой обители Вальдемоза, где был закончен «Спиридион» (Санд провела на Майорке зиму 1838—1839 гг.).
19
Русское общество 30-х годов XIX в. С. 303.
20
Там же. С. 244.
21
Там же. С. 232.
22
Цит. по: Каренин В. Жорж Санд, ее жизнь и произведения. Пг., 1916. Т. 2. С. 209—210.
23
Sand G. Correspondance. P., 1969. Т. 5. P. 827 (письмо к Анриетте де Ла Биготьер от конца декабря 1842 г.).
24
Sand G. Oeuvres autobiographiques. P., 1971. Т. 2. P. 160.
25
Sand G. Oeuvres autobiographiques. P., 1970. Т 1. p. 948—949, 953—954.
26
Sand G. Correspondance. P., 1969. Т. 5. P. 825—826.
27
Sand G. Correspondance. Т. 5. Р. 814—815.
28
Sainte-Beuve Ch.-A. Correspondance. Т. 6. P. 486.
29
Sand G. Correspondance. P., 1968. Т. 3. P. 572.
30
См.: Добиаш-Рождественская О. Иоахимизм // Христианство: Энцикл. словарь. М., 1993. Т. 1. С. 634—635. О том, что это учение хорошо помнили в XIX веке, свидетельствует, в частности, посвященный ему очерк Ренана (Renan E. Nouvelles études d’histoire religieuse. P., 1884. P. 217—322). Больше того, история восприятия иоахимизма в XIX веке так богата, что два английских исследователя посвятили ей целую книгу: Reeves M., Gould W. Joachim of Fiori and the Myth of the Eternal Evangel in the Nineteenth Century. Oxford, 1987.
31
Следует заметить, что именно этим отсутствием национального колорита объясняется то обстоятельство, что в итальянском монастыре все герои носят французские имена. Так, на французский манер, эти имена и переданы в нашем переводе; исключения сделано лишь для отца Алексея. Нам показалось более правильным приблизить имя этого главного героя романа, в честь которого, возможно, был впоследствии наречен Алексеем младший из Карамазовых, к той форме, какую носит в русской традиции имя его патрона – Алексея Божьего человека.
32
Sand G. Oeuvres autobiographiques. P., 1970. Т. 1. P. 416—417.
33
Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Л., 1981. Т. 23. С. 36—37.
34
См.: Haag О.-A. Avant-propos// Sand G. Spiridion. Genève, 2000. P. 32—33.