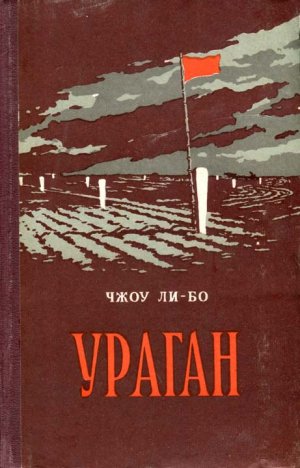
ПРЕДИСЛОВИЕ
Величайшая победа китайского народа, одержанная под руководством коммунистической партии над соединенными силами гоминдановской реакции и американского империализма, привела Китай в лагерь демократии и социализма. Эта победа открыла в истории Востока новую славную страницу. Освобожденный Китай вступил на путь широчайших демократических преобразований, перестройки всей своей экономики, создания новой культуры.
Еще во времена антияпонской войны (1937–1945) в освобожденных от врага районах коммунистическая партия Китая начала закладывать фундамент этих преобразований. Уже тогда коммунисты провели снижение арендной платы и долговых процентов, а затем и изъятие части земельных излишков у помещиков. Однако основные земельные площади все еще оставались в руках эксплуататорских классов. После разгрома японского империализма компартия, учитывая требования крестьян, развернула борьбу за окончательное упразднение феодальной системы землевладения, проводя политику передачи помещичьей земли, имущества и сельскохозяйственных орудий трудящимся.
То обстоятельство, что крестьяне получили землю не в административном порядке, а в результате ожесточенной классовой борьбы, вызвало небывалый рост активности масс, пробудило в них гордое чувство человеческого достоинства и веру в свои силы. Почувствовав себя подлинными хозяевами земли, крестьяне поняли, что отныне они должны отстаивать завоеванные права, свои посевы, свои дома. Широкое крестьянское движение за передел земли способствовало укреплению демократического правительства, помогало Народно-освободительной армии в ее героической борьбе с вооруженными силами реакции, которые пытались вернуть потерянные для гоминдана районы страны и уничтожить в них народную власть.
Весть о разделе помещичьей земли, проникнув в ряды гоминдановских войск, состоявших в основном из мобилизованных крестьян, ускорила разложение гоминдановской армии. Солдаты на каждом шагу убеждались, что только компартия борется за интересы народа, а гоминдан, окончательно разоблачивший себя как банда американских наймитов, как банда казнокрадов и спекулянтов, лишь обирает народ и продает страну иностранному капиталу.
Освобожденная Советской Армией от японских оккупантов Маньчжурия, — где развертывается действие романа Чжоу Ли-бо, — представляла лакомый кусок для гоминдановской клики и американских монополий. Здесь, как известно, — богатейшие залежи каменного угля и железных руд, широко разветвленная железнодорожная сеть. Кроме того, Маньчжурия — крупнейший промышленный район Китая. Неудивительно, что борьба гоминдана за Маньчжурию, после того как оттуда были эвакуированы советские войска, приобрела невиданно ожесточенный характер.
В Маньчжурии, особенно в маньчжурской деревне, подавляющую часть населения которой составляли безземельные и батраки, развернулась непримиримая классовая борьба.
Следует сказать, что у маньчжурских крестьян были не только экономические счеты со своими эксплуататорами. Многие помещики, стараясь сохранить и приумножить свои владения, в прошлом активно сотрудничали с японскими захватчиками, работали в органах японской разведки, расправляясь с крестьянами при помощи иностранных штыков, что не могло не вызвать урагана народного гнева против поработителей и изменников родины.
Реакционные элементы маньчжурской деревни (помещики, кулаки, чиновники, офицеры бывшей армии Маньчжоу-го) встретили аграрную реформу актами саботажа, тайным и явным вредительством, диверсиями и вооруженными выступлениями. В таких условиях передел помещичьей земли не мог, конечно, пройти мирно.
С другой стороны, успешному проведению реформы мешали недостатки организационно-политического характера, которые допускали в своей деятельности еще неопытные партийные и административные работники. Случались порой и серьезные ошибки.
Бригады, организованные для проведения земельной реформы, приступали к работе неуверенно, наощупь, часто даже не зная, сколько у помещиков земли и как ею распорядиться. Некоторые молодые работники, недостаточно осмыслив порученное им задание, предпочитали проводить раздел земли в административном порядке, забывая, что их задача состоит прежде всего в том, чтобы помочь бедноте объединиться и тогда уже сводить счеты с помещиками.
Помещики и кулаки, разумеется, постарались использовать в своих интересах эти ошибки. Они укрывали от учета наиболее плодородные земли, отдавая крестьянам плохие участки. Бывало и так, что крестьяне, боясь расправы в случае возвращения гоминдановских войск, или совсем отказывались брать помещичью землю, или, не раздумывая, соглашались с любым ее перераспределением. В результате многие бедняки и после проведения реформы фактически оставались ни с чем. В Маньчжурии это образно называли «недоваренным обедом». Там, где работа не доводилась до конца и помещичье землевладение продолжало существовать, местная власть порою вновь оказывалась в руках врага и его пособников.
Другая категория ошибок сводилась к недооценке роли середняков. Последних, в лучшем случае, просто оттесняли от участия в общественной и экономической жизни села, а в худшем — конфисковали у них скот и имущество. Это явно противоречило политике коммунистической партии Китая. Мао Цзе-дун еще в 1947 году указывал:
«Курс нашей политики таков: опираясь на бедняка, держа прочный союз с середняками, ликвидировать систему феодальной и полуфеодальной эксплоатации класса помещиков и кулаков[1].
Со временем все эти ошибки были исправлены, и повсюду, где прошла аграрная реформа, крестьяне навсегда покончили с помещичьей кабалой.
Огромное прогрессивное значение аграрной реформы сказалось не только в том, что она улучшила жизнь народа и способствовала быстрому росту классового сознания деревенской бедноты. Реформа создала также условия для развития всех производительных сил страны, закладывая таким образом основы экономической и политической независимости Китая.
Аграрная реформа, явившаяся необходимым условием для строительства независимой Народной республики Китая, естественно, стала одной из центральных тем современной китайской литературы. Жизненное значение этой темы для современной китайской литературы, которая использовала лучшие достижения демократической литературы прошлого, и особенно литературы периода антияпонской войны, заключается также и в том, что она наиболее полно раскрывает процесс формирования нового человека из народа.
Народная в своей сущности, пользующаяся живым языком, доступным для понимания широких масс трудящегося населения Китая, современная китайская литература развивается по пути, указанному Мао Цзе-дуном еще в 1942 году.
«Мы должны, — говорил тогда Мао Цзе-дун, — поднимать и возвеличивать народные массы, труд и борьбу народа, народную армию, народную партию… Все, что мы пишем, должно способствовать объединению, движению вперед, единодушию в боевом порыве, уничтожению всего отсталого, подъему всего революционного»[2]. Эти указания вождя коммунистической партии Китая, открывшие новую главу в истории китайской литературы, с каждым годом находят все более и более яркое выражение в творчестве таких народных писателей, как Чжао Шу-ли, Лю Бай-юй, Чжоу Ли-бо, Лю Цин, Цао Мин и др., литературная деятельность которых началась в период национально-освободительной войны китайского народа против японских захватчиков.
Национально-освободительная борьба китайского народа всегда была частью мировой революционной борьбы, а порожденная ею китайская демократическая литература — частью мировой революционной литературы. Развитие этой борьбы и становление этой литературы проходило в Китае под непосредственным влиянием Великой Октябрьской социалистической революции.
«Октябрьская революция, — писал Мао Цзе-дун, — помогла прогрессивным элементам мира и Китая применить пролетарское мировоззрение для определения судьбы страны и пересмотра своих проблем. Идти по пути русских — таков был вывод»[3].
Сначала русская классическая, а затем советская литература явилась для китайского народа, как неоднократно указывал основоположник китайской реалистической литературы Лу Синь, учителем и другом. «Она, — подчеркивал Лу Синь, — дала возможность разглядеть, что в мире существует два рода людей — угнетатели и угнетенные…»
Влияние советской литературы на современную китайскую литературу многогранно.
«Именно советскую литературу, — говорит Чжоу Ли-бо, — избрали мы нашим учителем. Наши писатели нашли в ней самые прогрессивные творческие методы, которые учат глубокой идейности, тесной связи с народом, правдивому изображению жизни и борьбы трудящихся. Эти методы, в соответствии с учением Ленина и Сталина, превращают литературу в дело исключительной партийности»[4].
Благодаря советской литературе китайские писатели сумели убедительно показать нового героя — борца за демократию, человека непреклонной воли и цельного характера, для которого личное неотделимо от общественного, а интересы родины и народа превыше всего.
Нового героя породила китайская действительность, закалила освободительная борьба, воспитала коммунистическая партия, а советская литература помогла китайским писателям, и в частности Чжоу Ли-бо, вглядеться в черты этого героя и правдиво нарисовать его образ.
Чжоу Ли-бо родился в 1909 году в одной из деревень уезда Иян Хунаньской провинции, где отец его был учителем. Любознательного и способного юношу не удовлетворил трехгодичный курс средней школы, которую он окончил в уездном городе, и в 1927 году Чжоу Ли-бо отправился в Шанхай. Там, преодолевая лишения и невзгоды, будущий писатель работал, изучал китайскую литературу, там он впервые познакомился с произведениями русских классиков и творчеством советских писателей.
В 1932 году японская военщина при активном содействии предателя родины Ван Цзин-вэя, который возглавлял тогда гоминдановское правительство, напала на Шанхай и устроила на его улицах кровавую бойню.
Чжоу Ли-бо примкнул к национально-освободительному движению шанхайского пролетариата, за что был арестован и два года просидел в тюрьме. Но варварский тюремный режим не сломил воли молодого патриота. Оказавшись на свободе, Чжоу Ли-бо вступил в Лигу революционных писателей, руководимую Лу Синем. В журналах Лиги, которая боролась за создание реалистической литературы, служащей целям национально-освободительного движения, появились первые статьи и очерки Чжоу Ли-бо, посвященные вопросам языка и литературы.
Чанкайшистская охранка, жестоко расправлявшаяся со всеми прогрессивно настроенными людьми, вскоре разгромила организации Лиги. Начались аресты, похищения и предательские убийства писателей из-за угла. Ускользнув из рук гоминдановских палачей, Чжоу Ли-бо перебрался в один из освобожденных районов, где вступил в ряды китайской Красной армии.
В 1939 году молодой писатель оказался в Яньане — столице освобожденного Китая — и здесь несколько лет преподавал на литературном факультете Академии литературы и искусств имени Лу Синя, которая готовила высококвалифицированных культработников для армии.
После капитуляции Японии Чжоу Ли-бо направляется в освобожденную советскими войсками Маньчжурию и становится там участником одной из бригад по проведению земельной реформы.
Чжоу Ли-бо принадлежит к той плеяде писателей-реалистов, которых вырастил и воспитал Лу Синь, которым он привил свою любовь к советской литературе и завещал пропагандировать эту литературу среди широких масс Китая.
Первой большой работой Чжоу Ли-бо был перевод романа Михаила Шолохова «Поднятая целина». Работа над переводом выдающегося произведения советской литературы оказала огромное влияние на все последующее творчество писателя.
Роман «Поднятая целина» был впервые опубликован на китайском языке в апреле 1946 года.
Гоминдановская охранка обрушила в это время на прогрессивных деятелей и демократические организации все виды полицейского террора, а реакционная пресса, раболепствуя перед американскими интервентами, начала неистовую травлю коммунистов и усилила распространение клеветы на Советский Союз. В подобных условиях издание такой книги явилось не только литературным событием, но и политическим выступлением.
Чжоу Ли-бо предпослал переводу предисловие. В нем он открыто объявил себя сторонником Советского Союза и противопоставил счастливую жизнь советских колхозников жалкому прозябанию крестьян в гоминдановском Китае.
В 1947–1948 годах Чжоу Ли-бо опубликовал роман «Ураган», доставивший автору широкую известность.
В этом романе нашли отражение наиболее характерные черты тех грандиозных событий, которые произошли в китайской деревне вслед за разгромом японского империализма.
Автор ограничил действие рамками одной маньчжурской деревни, но это ни в какой степени не снизило познавательного значения романа. Все, что происходило в деревне Юаньмаотунь, было характерно почти для всех районов великого Китая. Чжоу Ли-бо удалось мастерски показать рост сознания многомиллионного китайского крестьянства, которое с помощью коммунистической партии поднялось на борьбу со своими вековыми угнетателями. Чжоу Ли-бо правдиво описал китайских коммунистов — организующую и руководящую силу китайского народа, их беззаветное служение своей родине.
В высказываниях героев романа гоминдановские прислужники Уолл-стрита и их опора внутри страны — помещики и ростовщики — получили убийственную характеристику.
Все это не могло не содействовать популярности романа, доступного по своей форме и языку самым широким массам народа.
События, описанные в романе «Ураган», основаны на исторических фактах. Но изображение борьбы крестьян против системы феодального землевладения, обрекавшей их на голод и нищету, не представлялось автору самоцелью. Это было лишь средство для показа того, как в результате нарастания и развития борьбы за землю рождается и формируется новый человек.
Центральная идея романа — пробуждение крестьянства к политической деятельности и воспитание компартией из темных забитых людей смелых, сознательных борцов за коренное переустройство общества — делает его произведением актуальным, направленным на преодоление пережитков феодализма в сознании тружеников китайской деревни.
Роман «Ураган» выгодно отличается от других китайских произведений, посвященных аграрной реформе, широтой и богатством затронутых в нем тем.
Автор показывает и непосильный труд бедняков, и праздность, которая царит в помещичьих домах. Он повествует о том, как крестьяне, покончив со своим злейшим врагом Хань Лао-лю, грудью становятся на защиту родной деревни, когда с гор спускается гоминдановская банда. Он изображает, наконец, новую счастливую жизнь, расцветающую на освобожденной земле.
Попутно автор поднимает и такие актуальнейшие темы, как перевоспитание нетрудовых элементов, как тяга крестьян к коллективным методам работы, раскрепощение женщины и привлечение ее к общественной деятельности.
На страницах романа Чжоу Ли-бо вывел целую галерею типов китайской деревни. Многих из них автор сознательно наделяет чертами шолоховских героев. Самый яркий пример — возчик Сунь, образ которого настолько полюбился Чжоу Ли-бо, что он пронес его через все свое произведение. Этот хитрец и веселый балагур — родной брат деда Щукаря из Гремячего Лога.
Помещик Хань Лао-лю некоторыми чертами своего характера напоминает кулака Лапшинова. Он также не брезговал ничем, стяжая себе состояние, предусмотрительно припрятывал ценности, надеясь, что ураган пронесется мимо него.
Отдельные черты шолоховских героев проявляются в характерах и других персонажей романа, но все-таки ни о каком копировании или механическом заимствовании говорить здесь, разумеется, нельзя. Образы романа «Ураган» так же глубоко самобытны и оригинальны, как самобытна и неподражаема породившая их среда.
Чжоу Ли-бо хорошо знал и обстоятельно изучил людей, которых он сделал героями своего произведения.
Особенно удался автору образ главного героя — начальника бригады Сяо Сяна. Это — простой, обаятельный человек, преданный партии и народу коммунист, всегда спокойный и сдержанный. У него железная воля, широкий ум государственного человека, беспощадная требовательность к самому себе и ясное понимание своей ответственности перед родиной. Целиком отдавший себя борьбе за освобождение и счастье своего народа, Сяо Сян — воплощение мудрости и совести партии.
С большой теплотой и искренностью очерчены автором руководители крестьянского союза. Павший смертью героя первый председатель союза Чжао Юй-линь надолго запомнится читателям, как образ народного вожака, человека большой любви к своему народу и ненависти к угнетателям. Последовательно, с чувством горячей симпатии создает Чжоу Ли-бо образ бывшего батрака Го Цюань-хая, вкладывая в него лучшие национальные черты китайского народа — упорство, самоотверженность, трудолюбие и глубокую житейскую мудрость. Автор наделяет этого человека чертами нового, желая видеть в нем будущего деятеля свободного и независимого Китая. Мастерски изображены в романе колоритные фигуры Бай Юй-шаня и Дасаоцзы. Но автор не ограничивается только этим. Одновременно он дает типичную для современного Китая картину становления и идейного роста передовых людей китайской деревни. Судьба Бай Юй-шаня и Дасаоцзы, превратившихся из обездоленных батраков в руководителей крестьянской бедноты, — таков сейчас путь многих деятелей Народной республики Китая.
Нельзя не пожалеть о том, что Чжоу Ли-бо не имел возможности уделить работе над романом достаточно времени. Над первой книгой он трудился урывками, так как был в то время перегружен работой по проведению земельной реформы. За вторую ему удалось взяться лишь через год, который он провел в армии. Это, естественно, привело к отдельным недостаткам, придало роману некоторую растянутость и рыхлость композиции.
Наряду с законченными и живыми образами в романе встречаются персонажи, которые хотя и отнесены к определенной классовой группе, но лишены индивидуальных черт. Таков, например, помещик Тан Загребала. О нем известно лишь то, что он горестно вздыхает и поклоняется изображению хорька. Почему же в таком случае крестьяне ненавидели его? Помещик Добряк Ду, который хотя и хранил у себя оружие и составлял, подобно Якову Лукичу из «Поднятой целины», списки деревенских активистов, в романе почти не показан как угнетатель и эксплуататор.
Однако все эти недостатки ни в какой степени не могут снизить той идейной ценности и того познавательного значения, которые делают этот роман выдающимся произведением современной литературы великого китайского народа.
Вл. Рудман.
Чжоу Ли-бо
УРАГАН
Скоро во всех провинциях Центрального, Северного и Южного Китая поднимутся сотни миллионов крестьян. Их натиск будет стремителен и грозен, как ураган, и никаким силам предотвратить его не удастся.
МАО ЦЗЕ-ДУН.
КНИГА ПЕРВАЯ
I
Было раннее июльское утро. Солнце только что всходило, окрашивая стебли кукурузы и гаоляна в золотистый цвет. Роса на листьях соевых бобов и симаньгу сверкала ослепительными серебряными бусами. Над глинобитными лачугами курился сероватый дымок. Готовили утренний завтрак.
Пастух в остроконечной соломенной шляпе, верхом на неоседланном коне, гнал скотину на пастбище.
На шоссе показалась большая телега. Грохот колес и крики возчика привлекли внимание пастуха. Он позабыл о своем стаде и не заметил, как бык, углубившись в посевы, стал обгладывать кукурузу.
— Смотри! Смотри! — закричали люди в телеге. — Жрет кукурузу!
Пастух спрыгнул с коня, подбежал к быку и сильно хлестнул его бичом.
Телега, запряженная четверкой, которую местный пастух встретил в июльское утро 1946 года на шоссе юго-восточнее Харбина, направлялась из уездного города в деревню Юаньмаотунь.
Когда телега миновала мост, возчик с такой силой принялся щелкать кнутом, что, казалось, палили из винтовок. Испугавшиеся лошади понеслись вскачь, обрызгивая грязью придорожную полынь, листья кукурузы, телеграфные столбы. Но вскоре коренная покрылась испариной, зафыркала и стала замедлять бег.
— Что, устала? — ворчал возчик. — Проголодалась, что ли? Просяной соломы не желаешь? На соевый жмых да гаолян поглядываешь, а работать не хочешь! Смотри у меня! Если не отстегаю тебя как следует, не быть мне, старику Суню, лучшим на деревне возчиком.
Но это были одни разговоры, и коренная понимала, что старый Сунь только языком почешет, а зря рукам воли не даст.
Запыхавшиеся лошади перешли на шаг. Телега, покачиваясь, медленно покатилась по шоссе.
Оглянувшись, старый Сунь пересчитал своих пассажиров. Пятнадцать. Сидят, тесно прижавшись друг к другу, одеты по-разному: кто — в военную форму защитного цвета, кто — в черную куртку. Одни вооружены маузерами, другие — винтовками.
«Из какой же это они части Восьмой армии и что их сюда несет? — недоумевал возчик. — А впрочем, мне-то что за дело? Заплатят деньги — все будет в порядке».
Вчера он возил в город дрова и заночевал на постоялом дворе Вана. Здесь старого Суня нашел секретарь уездного управления и подрядил его. «Что ж, плохо ли, хорошо ли — все-таки не порожняком возвращаться», — подумал старик. Кто откажется заработать на бутылку водки?
Вскоре телега остановилась. Возчик спрыгнул. Колеса по самую ось погрузились в грязь. Он выругался, снова сел и что было силы принялся стегать коренную.
Сзади показался четырехконный экипаж на резиновых шинах. Кучер объехал по обочине. Так как лошади мчались во весь дух, а экипаж был легче телеги, он не завяз и, поровнявшись, окатил Суня жидкой грязью.
Узнав старика, кучер нагло усмехнулся и пролетел мимо. Сунь, вытирая рукавом лицо, вполголоса выругался:
— Чтоб тебе! Безглазый чорт!
— Чей экипаж? — спросил один из пассажиров, человек лет тридцати на вид.
Сунь посмотрел на пассажира и вспомнил: «Тот самый, что приходил вчера на постоялый двор вместе с секретарем уездного управления».
— У кого же быть еще такому экипажу? — пробурчал старик. — Взгляни на рыжего коня! Такой гладкий, что вся шерсть лоснится. Бежит — земли копытом не заденет…
— Чей же в конце концов? — продолжал допытываться пассажир.
Это был начальник бригады по проведению земельной реформы Сяо Сян.
Настойчивые расспросы испугали старика, и он замолчал.
Начальник бригады, видя, что возчик не расположен отвечать, попросил его ехать быстрее. Пассажиры соскочили с телеги и стали ее подталкивать. Старый Сунь принялся стегать коренную, и наконец общими усилиями телегу вытащили на сухое место. Передохнув, они снова тронулись в путь.
— Старина Сунь, чего ты все время стегаешь коренную? — снова спросил Сяо Сян.
— Сама виновата. Она сильнее всех, — рассмеялся возчик.
Сяо Сян удивился:
— Выходит, раз сильнее, нужно бить больнее?
— Товарищ, как ты не понимаешь? Если застряли в грязи, стегай самую сильную лошадь, а то никогда не сдвинешься с места. Слабенькую лошаденку хоть убей — ничего не получится. Каждый свое дело знает. Можешь мне поверить, товарищ: у нас в деревне четыреста дворов, и среди возчиков я если не на первом месте, так на втором обязательно.
— Сколько же лет ты работаешь? — поинтересовался Сяо Сян.
— Скоро тридцать восемь будет. И все на чужих людей…
Старик прищурил левый глаз и поглядел на дорогу. Грязи спереди не было. Он успокоился и стал рассказывать, как на восьмом году царствования императора Кандэ[5] решил бросить извоз и заняться сельским хозяйством. Поднял пять шанов целины, засеял, а осенью снял пятьдесят с лишним даней кукурузы. Едва-едва в двух амбарах уместилось. Старик думал: вот и мой дом посетил наконец бог богатства. Но кто мог предвидеть, что он заболеет тифом, и все пятьдесят даней за одну зиму целиком пойдут на лечение, налоги и всякие поборы. А весной, в довершение всего, землю забрали японские колонисты. Пришлось снова заняться извозом.
— Богатство зависит от судьбы, товарищ начальник, — рассуждал возчик. — Если пятьдесят с лишним даней утекли, как вода, то скажи: разве это не судьба? Плохо мне тогда пришлось! А тут еще в деревню Юаньмаотунь нагрянули бандиты: все разграбили дочиста. Сидим мы на кане, а в котле и варить нечего. Вот тут и подоспел к нам третий батальон триста пятьдесят девятой бригады Восьмой армии. Бандитов прогнали, открыли помещичьи амбары и роздали народу кукурузу и чумизу. Моя семья тоже получила один дань. Есть пословица: «Когда телега подкатит к горе — дорога найдется», а есть и другая: «Бог не даст помереть с голоду и слепому воробью». Сейчас, товарищ начальник, мы хоть и не очень сытые, да и голодными нас не назовешь. Чего еще надо? Эй, ты, куда тебя понесло! — крикнул он на коренную.
Сяо Сян спросил:
— Сколько у тебя сыновей?
Сунь улыбнулся:
— Какие могут быть сыновья у бедного возчика?
— Почему же?
Старик махнул кнутом:
— Разве небо пошлет мне сына, если я все время бью да мучаю лошадей?
Самый молодой из пассажиров, Сяо Ван, вмешался в разговор:
— А сколько лет твоей жене?
— Пятьдесят девять.
— Тогда еще успеет родить. Недаром говорят: «Восемьдесят восемь лет, а конца приплоду нет!» — пошутил Сяо Ван.
Все расхохотались. Засмеялся и сам возчик.
Чтобы показать свое искусство, возчик так погнал лошадей, что они понесли. Лошади слушались старика во всем, и Сунь правил ими с той же легкостью, с какой лодочник на Сунгари правит своею лодкой.
Вскоре он указал рукой на кирпичные дома:
— Вон смотри! Это был поселок японских колонистов. Пятнадцатого августа[6] японцы бежали. Все наши кинулись подбирать их пожитки. Моя старуха ко мне: «Ты почему не идешь?» А я говорю: «Мне судьбой не положено. Подберем — все одно растеряем. Недобрый приход, недобрый и расход будет». Соседи мои натаскали себе всего. Кто приволок целые тюки материи, кто даже и винтовки прихватил. Тут старуха ругать меня начала: «Ты, говорит, голодранец! Так тебе и надо. И пусть нищета все кости твои переломает! Всю жизнь я с тобой мучаюсь. Люди подбирают, а тебе хоть бы что! «Судьбой не положено!» А я ей отвечаю: «Поживем — увидим». Не прошло и полмесяца, как Хань Лао-лю организовал отряд и давай отбирать все, чем люди от японцев поживились. Лошадей, винтовки, патроны, одежу, материю и домашнюю утварь — все позабирал, даже сита никому не оставил. «Мне, говорит, брошенные японцами вещи охранять поручено». А кто не отдавал, того вязали, приводили на большой двор к Хань Лао-лю и так секли, что кожа клочьями летела. Тут я своей старухе и говорю: «Кто был прав?» Молчит. Бабы все такие: дальше своего носа ничего не видят.
— Вот ты сказал про Хань Лао-лю. Это кто же такой? — спросил начальник бригады.
— Наш помещик.
— А что он за человек?
Старик покосился на седоков и промолчал.
— Да ты не бойся. Здесь все свои, — поспешил успокоить его Сяо Сян.
— Чего мне, старому Суню, бояться? Что есть, то и выкладываю. А Хань Лао-лю? Что ж, человек, как человек… Ты лучше посмотри, какая мелкая кукуруза нынче уродилась! — указал он кнутом на поле, чтобы замять разговор о помещике. — И все из-за бандитов. Опять, должно быть, голодать будем…
Сяо Сян перевел речь на бандитов:
— Бандиты, говоришь, налетали на вашу деревню?
— Конечно, налетали! В середине мая два раза. Днем по деревне ставили караулы и никого не пропускали, а ночью отправлялись баб насиловать, окаянные.
— Как звали главаря этих бандитов?
— Лю Цзо-фэй.
— А кто еще у них был?
— Этого уж не знаю… — Старик был явно напуган. «Старые люди боятся тигра перед собой, а волка — за спиной», — вспомнил поговорку Сяо Сян и замолчал.
Осматривая поля, начальник бригады заметил, что листья кукурузы пожелтели, полынь густо разрослась. Колосья пшеницы терялись среди сорных трав.
Вдруг из зарослей кустарника торопливо выскочил заяц. Сяо Ван выхватил маузер и выстрелил. Старик Сунь до того перепугался, что свалился с телеги. Сяо Ван хотел выстрелить снова, но начальник бригады удержал его:
— Не надо расходовать патроны. Они еще пригодятся.
Сяо Ван послушно спрятал маузер. Опасливо поглядывая в сторону Сяо Вана, Сунь снова залез на свое место.
У постоялого двора сделали остановку. Возчик накормил лошадей и выкурил трубку.
Поехали дальше. Молодежь запела, а Сяо Сян углубился в размышления. Ему вспомнилась речь Линь Бяо[7] и вчерашняя дискуссия в уездном комитете. Он был согласен с комиссаром Чжаном, который заявил: «Массы еще дремлют. Для уничтожения многовекового господства феодализма необходим ураган, а вызвать его — нелегкое дело. Многие наши работники не поднимают массы на борьбу, потому что боятся хаоса. Они стремятся ограничить действия масс. Это совершенно недопустимо…»
«С чего же начинать, однако?..» — спрашивал сам себя Сяо Сян.
— Подъезжаем! Смотри, вот там! Это и есть Юаньмаотунь! — воскликнул возчик.
Восклицание возчика прервало размышления Сяо Сяна. Начальник бригады быстро поднял голову. Он увидел в тумане горы и длинный ряд глинобитных лачуг, над которыми темнела густая зелень деревьев.
В деревню въехали через западные ворота. В стороне от дороги еще сохранились укрепления третьего батальона.
Человек с маленькой головкой на непомерно длинной шее, держа корзину с пирожками, крикливо предлагал свой товар. Увидев телегу, он подбежал к возчику и спросил:
— Из уезда?
Старик кивнул. Торговец с длинной шеей сразу отошел и, завернув за угол, пустился бежать. Он скользнул в черные облицованные железом ворота. Большой двор огораживали высокие стены из серого кирпича, под которыми проходил ров и тянулась ивовая изгородь. По углам поднимались высокие башни. Их бойницы, словно чертовы глаза, стерегли соломенные крыши лачуг, шоссе и проезжающие мимо телеги.
Так как калитка осталась открытой, Сяо Сян увидел часть двора. На северной его стороне стоял дом, крытый черепицей. Оконные стекла были чисто вымыты и блестели на солнце.
— Чья усадьба? — осведомился начальник бригады.
Возчик огляделся по сторонам и, удостоверившись, что посторонних нет, неопределенно ответил:
— У кого же еще может быть такая большая усадьба? Посмотри только на башни, какие высоченные!
— Усадьба Хань Лао-лю, что ли?
— М-да… — промычал старик, мотнув головой.
Приезд бригады всполошил семью Хань Лао-лю, всколыхнул тишину деревни, поднял на ноги обитателей глинобитных лачуг и кирпичных домов. На дорогу высыпали люди в тряпье, в одежде из старых мешков. Жители деревни с удивлением разглядывали незнакомых людей, которые им приветливо улыбались.
Телега наконец остановилась у ивовой изгороди. Сяо Сян, увидав сквозь ветки застекленные окна пустой школы, предложил:
— А если нам здесь поселиться?
Все согласились и начали проворно перетаскивать вещи.
Сяо Сян подошел к Суню, расплатился и, дружески похлопав его по плечу, сказал:
— Встретились незнакомыми, теперь познакомились. Непременно приходи в гости.
— Как не прийти, как не прийти! Теперь будем друзьями. — Он с поклоном принял деньги и поспешил за водкой.
II
Приезд бригады по проведению земельной реформы произвел полный переворот в жизни крестьян деревни Юаньмаотунь. Все знали: поднялся ветер — значит скоро будет дождь. Но какой силы будет дождь? Кто мог это угадать? Даже хитрому пройдохе Хань Лао-лю, который моментально узнавал все новости, это было пока неясно.
Последнее время в доме помещика Хань Лао-лю день и ночь горели опийные лампы. Лежа на кане, хозяин то и дело прикладывался к трубке. Он беседовал с приходящими людьми, отдавал приказания и расспрашивал о делах. Помещик был не менее занят, чем в те горячие дни, когда сколачивал в деревне отряд. Только сейчас он был сильно удручен, и на его желтом восковом лице не появлялось даже тени улыбки.
С тех пор как части Восьмой армии изгнали бандитов из деревни Юаньмаотунь, характер помещика заметно изменился к худшему. Он стал раздражителен, нередко бил посуду, ругал кого попало и скандалил со старшей женой. Даже младшей и любимой жене нередко доставалось.
У знаменитого Хань Фын-ци, прозванного Хань Лао-лю, было шесть братьев. Ему, шестому по счету, в нынешнем году исполнилось сорок семь лет, но выглядел он значительно старше. У него был изнуренный вид, дряблая желтая кожа и большие залысины: уж слишком много он курил опиума. В глаза люди величали его «господин Шестой в роде», за глаза — просто Хань-шестой, а чаще всего — Хань Большая Палка. Последнее прозвище повелось за ним еще со времен Маньчжоу-го. В ту пору он был старостой деревни Юаньмаотунь и, собирая осенью арендную плату или заставляя людей сдавать японцам лен и листья дикого винограда, прихватывал с собой большую палку. Если что-нибудь не нравилось Ханю-шестому, он пускал ее в ход.
Теперь палка без всякого дела валялась в углу да и сам ее хозяин редко выходил из дому. Большую часть дня он лежал на кане, припав к опийной трубке. О всех новостях ему докладывали приспешники и платные агенты. Продавец пирожков был одним из них.
— Дядюшка… приехали!.. — крикнул продавец, вбегая в комнату.
Хань Лао-лю отшвырнул трубку и вскочил:
— Как, уже приехали?
Впопыхах он задел рукавом шелковой рубашки опийную лампу и опрокинул ее. На черный узорный поднос разлилось зеленое масло. Залысины Хань Лао-лю покрылись мелкими бусинками пота.
Несколько дней назад одна его родственница прислала ему из уезда Бинся письмо, в котором сообщала, что к ним уже приехала бригада, то есть коммунисты, которые призывают бедных крестьян к расправе с помещиками, к разделу помещичьей земли, имущества и домов. Никто не знает, что они еще выдумают.
Получив это письмо, Хань Лао-лю уже подготовился к приезду бригады. Дележа земли и домов он не боялся: «Ветер землю не сдует, а вода не снесет». Пусть берет кто хочет. Все равно настанет время, и помещик потребует ее обратно. Кто посмеет тогда не вернуть ему хотя бы одной грядки? Что же касается дома — хотел бы он, Хань Лао-лю, поглядеть, у кого это хватит храбрости проникнуть за черные ворота. Чего он действительно опасался, так это конфискации имущества. Вот почему два его экипажа уже седьмой день без передышки сновали то в уездный город, то на станцию Имяньбо. Но они не успели перевезти и половины того, что надо было укрыть. Кто же мог думать, что эта проклятая бригада явится так скоро!
— Значит, приехали? — переспросил помещик, словно все еще не веря сообщению. — Сколько человек? Где остановились?
— Человек пятнадцать. Остановились в школе…
Обычно торговец пирожками не смел сидеть в присутствии помещика, но теперь, почувствовав, что в нем нуждаются, он непринужденно сел на кан и добавил:
— У всех маузеры, браунинги и винтовки.
Хань Большая Палка, уже успевший несколько оправиться от неожиданности, предупредил:
— Смотри, теперь будь осторожнее…
— Я знаю, дядюшка, все знаю… — вполголоса отозвался торговец пирожками.
Звали этого человека Хань Ши-цай, а так как его маленькая голова сидела на непомерно вытянутой шее, за ним утвердилась кличка Длинная Шея. Он состоял в родстве с Хань Лао-лю, приходясь ему племянником, и был хитер не меньше своего дяди.
Раньше Длинная Шея жил в довольстве, но, питая излишнее пристрастие к женщинам, картам и опиуму, постепенно обеднел. Последние годы он так нуждался, что не имел денег даже на курение, и ему приходилось впрыскивать себе раствор опиума под кожу, отчего на руках появились темные пятна и желваки. Он похудел, шея у него еще больше вытянулась.
В девятом году царствования Кандэ дела у Длинной Шеи пошли совсем скверно. Не на что было купить даже новый шприц.
Недолго думая, он продал жену в публичный дом в городе Шуанчэнцзы. Из-за этого ему, правда, пришлось подраться с тестем, но он перехитрил простоватого родственника и даже оказался в выгоде. Во время потасовки Длинная Шея сам нарочно порезал себе руку, упал и поднял крик, что его убивают. Перепугавшийся тесть, чтобы избежать неприятностей, откупился. На этом распря и закончилась.
После продажи жены Хань Длинная Шея занялся перекупкой старья и торговлей пирожками. Однако денег все же не хватало ни на опиум, ни на еду. Хань Лао-лю изредка что-нибудь дарил племяннику, и Длинная Шея стал его верным псом.
Жители деревни Юаньмаотунь говорили: какое бы темное дело ни затевал Хань Лао-лю, без Длинной Шеи ему не обойтись.
— Ничего, Ши-цай, как они ни важничают, долго им не продержаться, — вновь заговорил помещик, стараясь ободрить племянника, а больше всего самого себя.
— Что и говорить, — подтвердил Длинная Шея.
— Но теперь нужно быть особенно осторожным: как бы они не узнали, что ты со мной заодно. Помни, что я и твоя тетка одной ногой стоим в могиле. Не возьмем же мы имущество с собою в гроб. И если его удастся сохранить, разве не получишь ты своей доли? Только будь начеку: коммунистов не легко провести. Во времена Маньчжоу-го один из них, Чжао Шэн-чжи[8], тут такое натворил, что у командования Квантунской армии голова кругом пошла.
Хань Лао-лю помолчал, а затем деловито осведомился:
— У тебя в чем сейчас нужда?
— Кое-как перебиваюсь, — пробормотал Длинная Шея, — однако…
— Поди-ка сюда! — крикнул Хань-шестой так, чтобы было слышно в соседней комнате.
На голос вышла старшая жена, похожая на финиковую косточку: с толстой серединкой и заостренными концами. Она была одета в черный шелковый халат. В зубах ее дымилась трубка с длинным чубуком из зеленой яшмы.
Племянник тотчас вскочил и почтительно поклонился:
— Тетушке…
Хань Лао-лю, зажигая опийную лампу, спросил:
— Деньги, которые позавчера принес Ли Чжзнь-цзян, остались еще?
— Немного осталось, мелочь какая-то, — скрепя сердце буркнула Финиковая Косточка.
— Принеси и отдай Ши-цаю, — распорядился муж.
— Не надо! Не надо!.. Тетушка, не беспокойтесь… — запротестовал Хань Ши-цай.
Но двигался только его язык. Сам же Длинная Шея не сделал ни шагу, чтобы остановить тетку. Когда Финиковая Косточка принесла пачку денег и опустила в карман его пожелтевшей куртки, он весь просиял и, бормоча слова благодарности, заторопился уходить.
— Уходишь… — сказал Хань Лао-лю. — Не забудь только передать Ли Чжэнь-цзяну и Тянь Вань-шуню, чтобы зашли ко мне.
Он снова примостился к опийной лампе, а старшая жена, усевшись на кане, принялась ворчать. Она была всем на свете недовольна и особенно ненасытностью своего бедного родственника. Уж очень он зачастил последнее время, и карман у него, как бездонная яма: сколько ни клади — все мало!
— Ходит и ходит, — приговаривала Финиковая Косточка, — и раз за разом, как дикая кошка, кур таскает. Рад, что у него шея такая длинная — есть на чем бесстыжей башке держаться.
Хань Лао-лю, заслышав на дворе шаги, прикрикнул на жену:
— Много ты понимаешь! Только и разговору, что про деньги. Иди скорее: там кто-то пришел.
Финиковая Косточка послушно поднялась и вышла.
Появился человек в остроконечной соломенной шляпе и рваной синей куртке. Он был уже стар. Лоб и виски его бороздили глубокие морщины, а запыленная козлиная бородка походила на свалявшуюся кудель.
Войдя в комнату, человек обеими руками робко снял шляпу, приблизился к кану и закивал:
— Почтение «господину Шестому в роде»!
По комнате плавал ароматный дымок. Мерно посапывала опийная трубка. Хань Лао-лю не ответил.
Во дворе послышался шум. Кто-то прикрикнул на залаявшую было собаку:
— Ослепла, что ли? Не был несколько дней и уже не узнаешь!
— Заходи, заходи, старина Ли, — ласково позвал Хань Лао-лю.
Вошел улыбающийся Ли Чжэнь-цзян и снял черную шляпу с обвисшими полями.
— «Господин Шестой в роде»! Сегодня днем приехали какие-то люди. Говорят, бригада по проведению земельной реформы. Не знаю, как они будут разыгрывать свои фокусы, но думаю… О! И ты здесь, Тянь?
Ли Чжэнь-цзян поздоровался со стариком, сделав вид, что только сейчас его заметил.
Хань Лао-лю взял со столика чайник японского фарфора, украшенный голубым рисунком, хлебнул из носика и откашлялся. Пристально поглядев на вошедших маленькими, похожими на зеленые горошины глазками, он неторопливо проговорил:
— Арендуйте теперь землю у кого-нибудь другого. Мне земли и самому не хватает.
Тянь Вань-шунь так и прирос к месту, крепко стиснув в руках поля соломенной шляпы:
«Что делать теперь? Ведь лучшей земли не найти, да сейчас никак и не расплатиться с помещиком. Неужели же ему со слепой старухой идти побираться!»
Ли Чжэнь-цзян, однако, расстраиваться не торопился и, нахмурив широкие черные брови, на секунду задумался.
Сначала он предположил, что Хань Большая Палка собирается выкинуть какую-нибудь новую штуку. Так как цена на опиум поднялась, может быть, он собирается надбавить плату за аренду земли? Но затем догадался: «Определенно, Хань уже предупрежден о приезде бригады, ищет нашей поддержки и хочет сперва припугнуть».
Глаза Ли Чжэнь-цзяна заблестели. Он понимающе улыбнулся и с чуть заметной иронией проговорил:
— Земля, конечно, хозяйская. Если хотите отобрать, что можно сказать на это?
Помещик рассмеялся, поднялся с кана и, уведя Ли Чжэнь-цзяна в смежную комнату, о чем-то стал с ним шептаться.
Тянь Вань-шунь, словно пораженный громом, стоял посредине комнаты.
Как ни старался Ли Чжэнь-цзян приглушить свой грубоватый голос, старик Тянь услышал.
— Дело, говорю, хозяйское. Однако это и мое дело. Все силы приложу…
Дальнейшие его слова заглушил лай собак и гогот гусей на дворе.
После ухода Ли Чжэнь-цзяна Хань Лао-лю, улыбаясь уголками рта, вернулся в комнату. Но едва он взглянул на Тянь Вань-шуня, улыбка исчезла, и лицо приняло ехидное выражение.
Двадцать с лишним лет Хань Лао-лю всеми правдами и неправдами держал в страхе и повиновении своих арендаторов, батраков и других зависевших от него людей. Когда они бывали нужны ему, на его желтом лице с маленькими японскими усиками появлялась притворная улыбка. Когда же услуги этих людей не требовались, он презрительно не замечал их, а если они сами напоминали о себе, глаза помещика начинали метать молнии.
Раньше у Ханя-шестого было в обычае после обеда прогуливаться по деревне. Поклонов и приседаний бедняков он не замечал вовсе, зато почтительность людей состоятельных принимал охотно. Впрочем, искренним и откровенным не был он ни с кем.
«Если слово просится с языка, сдержи его», — вот что было его правилом, которому он никогда не изменял. Но однажды, хлебнув лишнего, Хань-шестой в разговоре со своим другом Тан Тянем высказал правду о себе: — Хочешь иметь деньги — знай пять слов: мошенничество, нахальство, изворотливость, коварство, беспощадность.
И сейчас, растянувшись на кане и посасывая свою опийную трубку, Хань Лао-лю, как всегда, делал вид, что старик Тянь для него не существует. Когда вновь появилась Финиковая Косточка, помещик слегка подмигнул ей и отвернулся. Она сразу смекнула в чем дело и обратилась к Тянь Вань-шуню с такими словами:
— Послушай, старина Тянь, все это совсем не потому, что нам пришла охота отбирать у тебя нашу землю. Для тебя же самого так будет лучше. Ведь земля у нас неплодородная, урожай на ней скудный. Возьми в аренду хорошую землю у кого-нибудь другого. Больше снимешь, тебе же больше останется.
— Господин… госпожа… — взмолился старик, сложив на груди руки. — Если вы не оставите мне землю, то даже в будущем моем перевоплощении я не смогу расплатиться с вами. Ведь у меня всего-навсего одна слепая лошадь. Как я смогу работать, если земля будет далеко от дома? Господин, я всегда соблюдал уговор, и не было такого случая, чтобы чего-нибудь не додал.
Хань Лао-лю поднялся и, взглянув старику прямо в лицо, спросил:
— Вот в деревню приехали коммунисты. Как ты считаешь, плохо это или хорошо?
— Я вас не понимаю, господин. Хорошие они или плохие, откуда мне, простому крестьянину, знать такое…
Он ответил так потому, что слыхал от людей: бригада по проведению земельной реформы и Восьмая армия — это одно и то же. А Восьмую армию старик очень уважал. Когда в деревне Юаньмаотунь стоял третий батальон, пятеро бойцов жили у него на квартире. Они чистили его двор, кололи дрова и во всем помогали ему. Сказать, что они плохие, было бы просто нечестно. Но разве можно хвалить бригаду в присутствии помещика?
— Теперь, когда приехала бригада, ты, должно быть, возликовал! — ядовито заметил Хань Лао-лю.
— Господин, да ты смеешься надо мной. Они мне не родственники и не друзья…
Помещик испытующе впился в него глазами:
— Я тебе так скажу: бригада долго здесь не продержится. Правительственные войска вот-вот должны переправиться через реку. Ты не гляди, что у коммунистов разные там маузеры да винтовки. Придет время, они, будь у них хоть заячьи ноги, удрать не успеют. Старина Тянь, мы с тобой — добрые соседи, и я всегда рад тебе помочь. Но если ты хочешь работать на моей земле и дальше…
Он остановился и украдкой скосил глаза на Тяня.
Слова «бригада долго не продержится» ранили Тянь Вань-шуня в самое сердце.
Именно этого он больше всего опасался. На морщинистом лице старика звездочками заблестели капли пота.
— Если ты и в дальнейшем хочешь быть спокоен, — продолжал Хань Лао-лю, довольный действием своих слов, — не связывайся с ними. О чем бы они тебя ни спрашивали, ты на любой их вопрос трижды отвечай: «не знаю».
Теперь Хань Лао-лю пригласил старика сесть и даже сам подошел к нему.
— Брат мой, — мягко проговорил он. — Мы всегда жили дружно. Случались, конечно, и между нами недоразумения, но ведь «железная ложка нет-нет да и стукнется о край котелка».
Хань Лао-лю намекал на историю с дочерью Тянь Вань-шуня. Он хотел было утешить старика, но затем решил лучше вовсе не касаться этой темы. Однако старик Тянь сам вспомнил о дочери, и сердце его болезненно сжалось. Какой смертью умерла она, бедняжка!
На глаза его навернулись слезы, губы задрожали, и ему стоило большого усилия сдержать волнение.
Помещик нахмурился и строго сказал:
— Конечно, если ты чувствуешь, что способен на такие дела, можешь меня не слушать. Иди вместе с этой шайкой и отличайся! А дальше сам увидишь, — Хань Лао-лю сделал угрожающий жест, — придет время и… раз!
Это страшное «раз!» громом прокатилось над головой старика. Не успел он прийти в себя, как во дворе раздались чьи-то голоса:
— Хозяин дома?
Хань Лао-лю сорвался с места и с любезной улыбкой поспешил навстречу.
Вошли двое: один — толстый, другой — худой. Помещик подал Тяню знак, чтобы он тотчас же убирался.
Фамилия толстого гостя была Ду Шань-фа, а кличка — Добряк Ду. Он приходился тестем одному из племянников Хань Лао-лю. Худого звали Тан Тянем, а прозвали Тан Загребала. Он почитался названным братом Хань Лао-лю. Оба являлись землевладельцами и вместе с Хань Лао-лю были известны в деревне Юаньмаотунь под именем «трех больших семейств». Если сложить все их имения в этих краях, составилась бы тысяча с лишним шанов самой лучшей земли, не считая участков песчаных или заросших кустарником. Им принадлежал также и винокуренный завод под вывеской «Счастье приносит добро», который находился в городе.
Добряк Ду и Тан Загребала отличались друг от друга не только внешностью, но и характерами.
Первый был ревностным приверженцем буддийского учения и держал у себя бронзовую статую Будды. Второй верил во всех богов и чертей и поклонялся изображениям лисицы и хорька.
Когда в семье Ду заболевала женщина, он ставил ей банки, затем отправлялся в кумирню у северного края деревни и давал Будде какой-нибудь обет.
Если заболевала женщина в семье Тана Загребалы, тот приглашал знахаря и молился хорьку.
Ду задыхался от ожирения, Тан Загребала вздыхал от скорби, которая вечно теснила его тощую грудь, и притворялся обиженным и обездоленным.
Добряк Ду любил поучать бедных:
— Братья! Учитесь справедливостью и кротостью зарабатывать себе блаженство в будущем перевоплощении.
Тан утешал их так:
— Ах! Вы куда счастливее меня! Раз у вас нечего взять, не о чем вам и горевать. Ох! Подумайте же, сколь тяжко тому, у кого есть земля. Ведь налоги и принудительные поборы прямо жить человеку не дают!
Услышав сегодня о приезде бригады, Ду и Тан, не сговариваясь, явились к Хань Лао-лю.
Их приход сразу переполошил весь дом. Прибежали младшая жена Хань Лао-лю, его сынишка, племянник, племянница и Финиковая Косточка.
Полог над дверью, ведущей в соседнюю комнату, колыхнулся, и из-за него вышли две накрашенные молодые женщины. На фоне белого полога их красные губы выделялись особенно ярко.
Одна из них, Хань Ай-чжэн, была дочерью помещика, другая — его невесткой. Во времена Маньчжоу-го обе нередко совершали с начальником японских жандармов Морита Таро увеселительные прогулки в Харбин, обе любили одеваться и заглядывались на мужчин. Только Хань Ай-чжэн держала себя более свободно и независимо, чем невестка, потому что была еще незамужней.
Когда наступил вечер и женщины и дети ушли к себе, Хань Лао-лю наказал Финиковой Косточке передать управляющему Ли Цин-шаню, чтобы тот никому из батраков не разрешал вступать в какие бы то ни было разговоры с членами бригады, и категорически запретил свинопасу У Цзя-фу заходить в школу.
— Если мальчишка ослушается, привязать его в конюшне, — добавил Хань-шестой.
Он зажег висячую лампу, и все трое расположились на кане за красным лакированным столиком. Лампа изливала свет на узорные голубые обои стен, темно-красный шкафчик, позолоченные таблицы предков и на головы дружески беседующих помещиков деревни Юань-маотунь.
Хань Лао-лю то и дело приподнимал занавеску и окидывал тревожным взором двор. Все было тихо под призрачным светом звезд.
Беседа затянулась до глубокой ночи. Когда гости собрались уходить, Хань Лао-лю приказал принести фонарь. Но, пораздумав, они решили не привлекать внимания и погасили его.
Хань Лао-лю провел помещиков по темному двору. Выйдя за черные ворота, гости расстались. Один направился на запад, другой — на восток. На обоих концах деревни залаяли собаки, но вскоре все стихло.
После ухода гостей на большом дворе, возле конюшни, застучали лопаты и кайла. Шум работы не стихал до первых петухов.
А когда начало светать, люди видели, как экипаж, доверху нагруженный мешками и плетеными чемоданами, промчался в сторону западных ворот. Это был тот самый экипаж, который вчера утром, возвращаясь порожняком, окатил грязью старого Суня.
III
Разместившись в деревенской школе и наладив телефонную связь с уездным городом, бригада открыла совещание. Скамеек не было, и люди пристроились как попало: кто на запыленном столе, кто на своих еще не развязанных вещах.
Сяо Ван, сидя боком на подоконнике, смотрел в окно. Поблизости проходило шоссе, вдоль которого тянулась живая изгородь. В густой зелени ивовых кустов прыгали и безумолчно чирикали воробьи. На телефонном проводе прихорашивалась ласточка. По шоссе бегали голые дети, играя в прятки. Завидев в окне человека, они пролезли между кустами изгороди, и один из мальчуганов, прижав лицо к стеклу, отчего нос его сплющился, состроил Сяо Вану гримасу.
Сяо Ван внезапно распахнул окно. Дети отпрянули и разбежались в разные стороны. Самый маленький из них споткнулся о камень, упал и заревел. Сяо Ван выпрыгнул, поднял его и стал заботливо вытирать ему слезы.
Когда Сяо Ван влез обратно в комнату, совещание уже началось. Обсуждался вопрос: созывать ли сразу общее собрание или прежде наладить связи с крестьянами-бедняками.
Лю Шэн настаивал на первом. Сяо Сян возражал:
— Боюсь, ты не много соберешь людей. Нужно сначала познакомиться с положением в деревне, а уж потом думать о собрании.
— А если мы не созовем людей, откуда они узнают о цели нашего приезда и как мы сможем в таком случае выяснить положение? — упорствовал Лю Шэн.
Он снял очки и протер их полою куртки.
Сяо Сян стал доказывать:
— Население понимает, зачем мы приехали. Но если сейчас, еще ничего не зная о действительном положении в деревне, мы созовем людей, получится такая картина: ты будешь рассказывать, а они — слушать. Внесешь предложение, все тебе ответят: «согласны». Но значит ли это, что они действительно будут согласны с тобой? Нет, не значит! Лишь когда они хорошо узнают тебя, ты сможешь рассчитывать на их доверие, и они откровенно расскажут все, что у них на сердце.
Лицо Лю Шэна раскраснелось.
— По-твоему, выходит, если мы созовем собрание и разъясним, что боремся с толстопузыми, что хотим помочь беднякам, они согласятся только на словах, а не сердцем?
Сообразив, что Лю Шэн намеренно искажает его мысль, Сяо Сян вспыхнул:
— Разве я так сказал?..
Он хотел добавить несколько резких слов, но сдержался, вспомнив о своей ответственности за партийное руководство бригадой. Впрочем, в утверждениях Сяо Сяна действительно были туманные места, и он спокойно разъяснил:
— Я высказал такую мысль: крестьяне еще не познакомились с нами близко. Сердцем они, конечно, ненавидят толстопузых. Однако отсюда еще не следует, что, увидев нас, они сразу же раскроют душу. Крестьяне не уверены, что мы в силах расправиться с толстопузыми. Не знают они и собственных своих сил, не верят, что мы продержимся долго. За их спиною непременно найдутся люди, которые станут распускать темные слухи.
Мнения разошлись — одни члены бригады, поддерживавшие Лю Шэна, говорили, что надо сейчас же созвать общее собрание. Другие, соглашаясь с начальником бригады, настаивали на необходимости прежде всего завязать с крестьянами дружбу и ознакомиться с положением в деревне. Когда вопрос поставили на голосование, Лю Шэн получил одним голосом больше. Он очень обрадовался, разыскал старика Суня и велел ему собирать людей.
Возчик, гремя в гонг, обошел всю деревню из конца в конец.
— Идите в школу на собрание! — кричал он. — По одному человеку от каждой семьи!
Едва стемнело, как раз в то самое время, когда трое помещиков вполголоса беседовали, сидя за столиком, крестьяне со всех углов деревни потянулись к школе.
При слабом свете звезд на школьной площадке стали собираться группки по три-пять человек. Это были по преимуществу старики или подростки. Лю Шэн разъяснил им цель собрания и призвал:
— Всем надо подняться и добить толстопузых. Мы, бедняки, должны теперь взяться за винтовки, чтобы завоевать власть. Лишь захватив власть, мы сможем расправиться с нашими врагами.
Он говорил еще долго и в конце концов спросил собрание:
— Согласны ли вы бороться с помещиками?
— Согласны! — ответило около десятка голосов.
— Я больше всех согласен! — закричал белобородый старик. Он повернул голову и подмигнул стоявшему позади него Ли Чжэнь-цзяну.
— А кто в вашей деревне толстопузые? — снова задал вопрос Лю Шэн.
Молчание длилось долго.
— Почему же вы молчите? — удивился он и пристально посмотрел на белобородого старика, который был «больше всех согласен».
— Вот ты и скажи, дедушка!
— Я переехал сюда только после пятнадцатого августа, как ушли японцы, и здешних толстопузых не знаю…
Ли Чжэнь-цзян шепнул ему что-то, и белобородый продолжал:
— … Но от других людей слыхал, что здесь помещиков нет. Да их и действительно нет!
— Зачем же ты сказал, что больше всех согласен бороться?
— Раз в этой деревне нет, пойдем в другие. Там толстопузых много, — предложил белобородый.
— Товарищи, я хочу сказать, — выдвинулся вперед старик в черной шляпе. — Вот не знаю только, захотите ли слушать? — продолжал он. — Испокон веков так заведено: «Человек подчиняется законам, а трава — ветру». Как начальство скажет, так тому и быть. Теперь начальство — это бригада. Раз товарищ из бригады говорит, что борьба с толстопузыми поможет беднякам сделать переворот, кто же от такой борьбы откажется? Вы только скажите: хотите вы или не хотите? — обратился он к окружающим.
— Хотим! — закричали с разных сторон старики и ребята.
Раздались отдельные хлопки.
Старик в черной шляпе продолжал:
— Товарищ, вы слышали? Они все хотят и просят… Однако время-то уже к полуночи подходит. Разойтись можно? Прошу товарища извинить меня: хочу уйти раньше. Завтра нужно кирпичи готовить, потому что осенью придется кан перекладывать. В прошлом году не переложил, так он только дымит, а тепла никакого. Зимой спать очень холодно. Моя старуха всю ночь трясется, до утра уснуть не может.
— А к чему ты все это говоришь? Кан-то еще рано перекладывать, — заметил кто-то сбоку.
— Если твоя старуха уснуть не может, так зачем знать об этом товарищу? — со смехом подхватил другой.
Все расхохотались. Воспользовавшись этим, белобородый локтем подтолкнул старика в черной шляпе к воротам:
— Если хочешь идти, так иди!
Когда тот скрылся в темноте, белобородый обратился к Лю Шэну:
— Товарищ, я извиняюсь, мне также нужно пораньше уйти. Завтра придется навестить дочку. У нее что-то глаз разболелся. Очень, очень извиняюсь, товарищ!
И поспешил уйти.
У других тоже оказались неотложные дела. Кому нужно было копать картошку, кому подковывать лошадь, кому полоть. У одного жена родила — придется самому готовить завтрак и поэтому встать пораньше.
Так по-двое, по-трое разошлись и остальные.
Возчик Сунь долго смотрел на уходивших и наконец с сердцем сказал:
— Вот маньчжоугоские головы!
Тем не менее, улучив минуту, когда никто не смотрел в его сторону, потихоньку и сам сбежал.
Вернувшись в школу, Лю Шэн сел в углу на свои вещи, Обхватив голову руками.
Прошло много времени, прежде чем он мрачно произнес:
— Совершенно непредвиденная неудача…
— Не непредвиденная! — отозвался Сяо Сян, посмотрев с участием на расстроенного товарища, но, стараясь ободрить его, добавил: — Это было неизбежно. Впрочем, есть и хорошая сторона в том, что мы созвали собрание. По крайней мере, узнали теперь, что положение в деревне сложное и что нельзя горячиться.
Снова было устроено короткое совещание, на котором единогласно приняли решение: с утра всем членам бригады разыскать самых бедных крестьян, постараться завести с ними дружбу, выявить возможных активистов, собрать сведения о помещиках и решить, с кем из них начать борьбу в первую очередь.
IV
Едва рассвело и не успели еще смолкнуть петухи, как члены бригады были уже на ногах. Вскипятили воду, закусили и разошлись в разные стороны искать семьи бедняков.
Условились по вечерам обмениваться мнениями, жить вместе, иметь при себе деньги и, покупая продукты, расплачиваться сразу.
Побывав в ближайших дворах, Сяо Ван направился в южную часть деревни.
Навстречу ему из калитки выбежал голый мальчуган. Сяо Ван узнал того самого малыша, который вчера, споткнувшись о камень, растянулся на дороге. Он взял его на руки и спросил:
— Как тебя зовут?
— Со-чжу, — ответил малыш и схватился ручонками за красный шелковый шнур маузера.
— Сколько тебе лет?
— Мама говорит — пять. Отец обещает, что через два года буду пасти свиней. Он меня всегда ругает: не могу, говорит, тебя кормить, уходи вон. А я не пойду и буду с мамой, пусть он сам уходит.
— А твой отец дома?
— Вот он.
Решетчатая дверь, оклеенная бумагой, отворилась. Показался человек, обнаженный до пояса. В руках у него была короткая трубочка. Человек остановился посреди двора. На вид ему можно было дать года тридцать два. Звали его Чжао Юй-линь. Зарабатывал он только на пропитание, а на одежду заработать никак не мог.
Зимой супруги Чжао слезали с кана лишь затем, чтобы принести дров или воды и приготовить еду. За ворота выйти было не в чем.
Летом, когда посевы поднимались настолько, что могли скрыть человека, жена Чжао Юй-линя уходила работать на поле в чем мать родила. В деревне долгое время не знали об этом и обнаружили случайно. Однажды, когда она пропалывала кукурузу, на краю поля кто-то крикнул. Женщина высунулась. Тут люди и увидели, что на ней ничего нет. С тех пор за всей семьей утвердилась кличка «голые Чжао».
В дни освобождения Маньчжурии одна из частей Советской Армии побывала в деревне Юаньмаотунь. Командир части, узнав о бедственном положении Чжао Юй-линя, подарил ему два комплекта военного обмундирования. Тогда «голые Чжао» оделись и могли даже принимать гостей.
— Товарищ, заходи, посиди, — пригласил Чжао Юй-линь.
Сяо Ван, держа в руках Со-чжу, вошел в лачугу.
На кане, поджав под себя ноги, сидела женщина, одетая в гимнастерку защитного цвета, и плела шляпу из тростника. Увидав гостя, она бросила работу и хотела встать, но Сяо Ван остановил ее:
— Работай, работай, не беспокойся.
Он поставил ребенка на кан, присел сам и взял предложенную Чжао Юй-линем трубку.
Заходя к беднякам, Сяо Ван всегда чувствовал себя непринужденно, словно был у себя дома.
Началась беседа. Поговорили о табаке, которым была набита трубка, и о том, какой табак лучше сажать. Потом перешли на посевы, на урожаи кукурузы.
Сначала хозяин только слушал и утвердительно кивал головой, но обнаружив, что гость неплохо разбирается в полевых работах, подумал: «наверное, из крестьян». Вскоре от застенчивости Чжао Юй-линя не осталось и следа.
— Сколько у вас кукурузы можно посеять на одном шане? — спросил Сяо Ван.
— Здесь земля неплохая, однако урожай зависит от того, как будешь ухаживать. «Люди стараются — и земля не ленится» — слова очень даже справедливые. Если в хорошую погоду сделаешь прополку, а потом пройдет теплый дождик, то что ни ночь кукуруза все выше и выше подымается. К осени получается прямо зернышко к зернышку.
— Тебе, наверное, пора идти в поле? — спохватился Сяо Ван.
— Нет, вторую прополку уже закончили. Сегодня надо лущить просо.
— Пойдем вместе, — предложил гость.
Они отправились к Лю Дэ-шаню и попросили позволения воспользоваться его просорушкой. Работая, продолжали беседу.
Чжао Юй-линь рассказывал обо всем, что приходило в голову, а Сяо Ван незаметно старался навести его на нужную тему, чтобы понять этого человека, образ его мыслей, узнать о жизни его семьи, и вместе с тем выяснить положение в деревне.
Сяо Ван легко сводил дружбу с крестьянами, потому что сам работал когда-то батраком и, действительно, хорошо разбирался в крестьянском труде.
Полная фамилия Сяо Вана была Ван Чунь-шэн. Мать назвала его так потому, что он родился весной[9]. Отец его был уроженцем уезда Хулань, что на левом берегу Сунгари, и служил инструктором батальона одной из частей антияпонской партизанской армии, которой командовал Чжао Шэн-чжи. Ходили слухи, что потом он стал секретарем районного комитета коммунистической партии в Северной Маньчжурии и зимой 1933 года был арестован маньчжурской полицией.
Отца пытали до полусмерти, но ничего не добились. Тогда его, израненного и изувеченного, зашили в мешок и сбросили со скалы в числе трехсот китайских партизан. На следующую ночь японцы свалили мешки в машины, вывезли на Сунгари и по одному спустили под лед.
Ван Чунь-шэн в ту пору был шестилетним ребенком. Через два года японские власти Маньчжурии еще больше усилили репрессии. Семья, потеряв связь с антияпонской армией, разбрелась в разные стороны. Дядя его бежал во Внутренний Китай, а Ван Чунь-шэн с матерью остались в Маньчжурии. Полуголодные, под дождем и ветром, они скитались несколько лет. Когда Ван Чунь-шэну исполнилось одиннадцать, он нанялся в деревне Байчэнцзы к помещику Чжану пасти свиней и через два года, как он сам выражался, «получил повышение в чине» и пас уже помещичьих лошадей.
С шестнадцати лет он батрачил, но так как был мал ростом, его принимали за малолетнего и платили лишь половину жалованья.
…Стоял август, и день выдался жаркий. Они долго шли, не встречая ни одной деревни. Клубились черные тучи. Вдруг совсем стемнело. На юго-западе от неба до земли протянулся сплошной дождевой занавес, словно в легенде об усах дракона[10]. Налетел сильный ветер, неся с собой гром и молнии. Мать, у которой были изуродованные бинтованием маленькие ножки, не могла бежать. Спрятаться было некуда, и путники попали под ливень. Наконец они добрались до развалин придорожной кумирни. С их тряпья ручьями стекала вода. Сяо Вана трясло от холода. Мать обняла сына, и слезы ее падали на его мокрое лицо.
— Сынок, сынок… — сказала она. — Вырастешь, не забудь, какой ужасной смертью умер твой отец!
Ван Чунь-шэн потерял мать, когда был батраком. Она умерла от чахотки. Эта старая неграмотная женщина с забинтованными ножками отказалась ради ребенка от личной жизни и сделала все, чтобы сын ее стал настоящим человеком. Умирая в полном сознании, она со слезами на глазах снова повторила то, что сказала тогда в придорожной кумирне:
— Сынок, не забудь, какой ужасной смертью умер твой отец!
И Ван Чунь-шэн не забывал ни страшной гибели отца, ни скорбных слез матери.
После 15 августа он вступил в ряды Демократической объединенной армии. Здесь молодой боец стал обучаться грамоте. Когда объявили мобилизацию двенадцати тысяч человек для проведения массовой работы в деревне, Сяо Ван был отозван из армии и зачислен в бригаду Сяо Сяна.
Закончив лущение проса, Сяо Ван и Чжао Юй-линь вернулись домой. Солнце уже клонилось к западу. Они пообедали и, покурив, вместе отправились на огород.
Чжао Юй-линь арендовал у Хань Лао-лю один шан плохой земли. Так как этот участок находился на пригорке, вода на нем не держалась, и урожаи были скудные. Того, что оставалось после уплаты аренды, не хватало на содержание семьи из трех человек. Поэтому Чжао арендовал еще два му у помещика Добряка Ду и сажал здесь фасоль, баклажаны, тыкву, лук, огурцы, картофель и подсолнухи. Земля Ду была значительно лучше. Чжао Юй-линь ежегодно продавал часть овощей и делал запасы на зиму. Весной и летом семья восполняла недостаток зерна овощами.
Сяо Ван, сразу определивший по говору, что Чжао Юй-линь — выходец из провинции Шаньдун, осведомился, как тот попал в Маньчжурию.
— Да вышло это так, — начал Чжао. — В 1932 году в наших краях случилась такая беда, что ни зернышка не уродилось. Пришлось оставить семью и бежать сюда. Приехал я в Маньчжурию, а без паспорта здесь не получишь земли в аренду. Поступил батраком к Ханю. Батраки надеялись, что сразу получат свой заработок: деньги, правда, небольшие, но если получить разом — и на них можно было кое-что справить. Однако помещик платил частями, по семь-восемь раз в год, и деньги разлетались нивесть куда. К осени все потратил, а получать уже нечего. Словом, в конце года оказался у него даже в долгу. Пришлось снести в заклад одежду, которую привез из Шаньдуна. На втором году работы у помещика приехали ко мне мать и жена. Так как деньги, собранные на дорогу, они не все истратили, я бросил батрачить и взял в аренду клочок земли. Кто же знал, что как раз во время прополки меня заставят отбывать трудовую повинность и землю придется бросить[11]. Там пробыл я четыре месяца и не успел вернуться, как забрали опять. Самое страшное было в городе Муданцзяне. По двадцати суток спать не приходилось, а кормили только лепешками из желудевой муки. Как поешь, живот раздувается и словно ножами тебя режут. Много людей там перемерло.
— Поверишь ли, товарищ Ван, — вскинул голову Чжао Юй-линь, — то, что я выжил — это уж поистине судьба. Вернулся, новая напасть на меня свалилась: мать, как оказалось, умерла, а жена с ребенком в чужой деревне побиралась. Когда я разыскал их, как они плакали!.. А у меня даже слез не было, товарищ Ван…
— Ты про какого это Ханя говорил? Про Хань Лао-лю, что ли? — подавив вздох, спросил Сяо Ван.
Чжао Юй-линь утвердительно кивнул.
— А сколько у него земли?
— Этого уж не могу сказать. — Чжао Юй-линь с опаской оглянулся по сторонам и вполголоса добавил: — Вон там за южными воротами большая равнина… Это все его земля. Наверно, двести шанов, не меньше. Сколько в других деревнях и провинциях, точно не знаю.
— А что он за человек… этот самый Хань Лао-лю? — с расстановкой спросил Сяо Ван, поглядывая сквозь листву на Чжао Юй-линя.
— Он? Люди говорят так: «Хорошего дела за ним не найдется, а плохое без него не обойдется».
Весь вечер вполголоса проговорили на огороде новые друзья. Чжао Юй-линь то и дело озирался на изгородь, Но если бы там кто-нибудь и подслушивал, он все равно бы ничего не разобрал. Голоса друзей звучали не громче жужжания пчел, кружившихся над цветами.
Из рассказов Чжао Юй-линя Сяо Ван узнал, что у Хань Лао-лю и здесь и в уездах Бинся и Цзямусы — всюду были имения. В 1938 году помещик стал старостой деревни и ревностно служил японцам: выколачивал из крестьян налоги, заставлял их сдавать кожи, кровь свиней и листья дикого винограда. За два года своего управления деревней Хань Лао-лю еще больше разбогател, засел дома и ничего уж не хотел делать.
Тогда же к нему переехал начальник японских жандармов. Одни говорили, что Морита Таро влюбился в его дочь, другие, что — в младшую жену, а третьи утверждали, что этот здоровенный жандарм «подцепил на одну стрелу двух орлиц». Но точно никто ничего не знал. Высоки были стены помещичьего двора, кто мог заглянуть за них? Однако каждый, кто не слеп, видел, что, с тех пор как Морита Таро поселился за этими стенами, Хань Лао-лю совсем заважничал.
Помещик ввел у себя барщину, и крестьяне должны были бесплатно таскать ему воду, возить дрова, перекладывать каны, строить заборы, работать на его огородах, а батраки использовались им на винокуренном заводе и маслобойне.
Невдалеке от черных ворот находился колодец. Когда его рыли, договорились так: Хань Лао-лю дает место, крестьяне свой труд — и колодец будет общим. Но как только колодец вырыли, управляющий Ли Цин-шань стал возле него и никому не позволил брать воду. Впоследствии тем, кто был ему угоден, Хань Лао-лю милостиво разрешал пользоваться водой, а тех, кто ему не нравился, просто гнал в шею. Наконец крестьяне решили выяснить в чем дело и пришли к помещику. Однако Ли Цин-шань задержал их среди двора и не пустил в дом. В окно высунулась лысая голова.
— Что за толпа? — строго спросил Хань Лао-лю.
— Мы пришли к господину поговорить насчет колодца… Как же так получилось? Ведь рыли-то его всей деревней, а вот теперь… — начал с приветливой улыбкой старик Чжан, стоявший впереди других.
— Если осмеливаешься предъявлять какие-то права на колодец, так давай документы! — вытаращил на него глаза помещик.
Такого оборота дела никто не ожидал. Да и откуда взять документы?
— Но, господин, разве не известно, что колодец рыла вся деревня? — попытался урезонить его старик.
— А на чьей земле колодец, я тебя спрашиваю?!
Чжан хотел было объяснить, но из дома выскочил Морита Таро и стал бить людей плеткой по головам. Что тут станешь делать? Все и разбежались.
На другой день старика Чжана забрали на принудительные работы и отправили в Лохэйшань, откуда он так и не вернулся.
А колодец перешел в полное владение Хань Лао-лю. Если хочешь брать из колодца воду, поработай каждый месяц три дня на помещика без всякой оплаты — и пей себе на здоровье. Тебе вода, а помещику прибыль! На этих даровых поденщиках Хань Лао-лю сберег немало денег.
В помещичьей конюшне стояло двадцать лошадей. Все упитанные и гладкие. Да как им не быть такими? Ведь чуть поспевали хлеба, Хань Лао-лю выгонял лошадей на поля крестьян. Так бывало из года в год, и никто не смел перечить. Люди соглашались скорее бросить свой участок, чем наживать себе неприятности.
— Брат, чего это ты забросил землю? — спрашивал Хань Лао-лю кого-нибудь.
Тот молчал. Хань-шестой прикидывался сочувствующим:
— А! Понимаю. Наверное, не в силах оплачивать расходы? Так хочешь, я выручу тебя на год, на два?
«Благодетель» нанимал людей, засевал чужую землю, и не проходило двух лет, как она становилась его собственностью. А если тебе потом придет охота доказывать, что ты поднимал целину, — пожалуйста, но давай документы! Что же касается Ханя-шестого, у него такой документ давно готов. Его старший брат, Хань-пятый, работавший агентом особой службы, заранее составит любую нужную бумагу и зарегистрирует ее в правительственных учреждениях.
Вот почему земли Хань Лао-лю тянулись на востоке до самых гор, а на западе доходили до владений японских колонистов.
Уж если говорить о колонистах, так их земли тоже служили для Ханя источником обогащения.
Как-то некий Сун взял в аренду у японцев два шана земли и посеял коноплю, чтобы внести обязательные поставки. Незадолго до уборки старший сын Хань Лао-лю Хань Ши-юань, знавший японский язык, явился на поле Суна в сопровождении японца. Они разговаривали о чем-то, оживленно жестикулируя.
— Господа, что вы хотите? — спросил Сун, дрожа всем телом и стараясь улыбнуться.
— Я хочу взять здесь большой участок, — ответил Хань Ши-юань.
— А как же мне быть с коноплей? Ведь скоро надо убирать урожай.
— Могу сказать только, что ты напрасно старался, — насмешливо бросил Хань Ши-юань и ушел вместе с японцем.
Суну так и не пришлось снять урожай. Урожай убрали батраки Хань Лао-лю, а Сун вынужден был продать единственную лошадь, купить на вырученные деньги коноплю и внести ее в счет поставок японцам.
За этими рассказами время пролетело совсем незаметно. Чжао Юй-линь взглянул на небо. Солнце садилось. Он набрал огурцов, фасоли, луку и сложил в свою соломенную шляпу. Беседуя, друзья направились к дому.
— Про дела этого Ханя рассказывать можно полдня, и все конца не будет, — продолжал Чжао Юй-линь еще тише. — Достаточно ему было пожаловаться как-то японскому жандарму, и в деревне расстреляли несколько человек. В те времена черные ворота казались адским храмом Яньвана[12]. Завидят люди где-нибудь Хань Лао-лю и, пока не поздно, сворачивают в сторону. А не успеешь свернуть, вытягивайся перед ним да почтительно жди, пока пройдет мимо. Если обратишься к нему с приветствием: «Господин Хань Шестой в роде, куда путь держите?», он поднимет голову, вылупит на тебя свои зеленые горошины да буркнет: «А тебе какое дело? На дороге стою, что ли?» Вот как важничал! Ну, мы пришли. Заходи, заходи!
На ужин были огурцы, лук и клейкая фасоль.
— Кушай, кушай, пожалуйста. Съешь, еще добавим, — потчевал гостя Чжао Юй-линь.
Заметив, что фасоль понравилась Сяо Вану, он пододвигал ему чашку за чашкой.
— Товарищ Ван, хоть еда и скудная, а в прошлом году и этого не имели, — говорил он, макая лук в соевый соус. — Если бы не пришел тогда третий батальон, перемерли бы мы с голоду.
После ужина Сяо Ван поднялся, Чжао Юй-линь тоже вскочил:
— Я провожу тебя.
Доро́гой Сяо Ван разъяснил ему смысл происходящих событий и указал, как нужно действовать. Разговорились и о том, с кем из помещиков начать борьбу.
— Вот ты и скажи: с кем? — спросил Сяо Ван.
— А ты почему не говоришь? — рассмеялся Чжао Юй-линь, уклоняясь от прямого ответа.
— А если начнем борьбу, хватит ли у тебя смелости, брат Чжао?
— Почему же не хватит? За такое дело и умереть не страшно!
Сяо Ван схватил его за руку и радостно воскликнул:
— Вот и хорошо! Это действительно хорошо! Однако нужно, чтобы было по пословице: «Хорошей лошади довольно одного удара кнута, хорошему человеку — одного слова». Ладно, сейчас пора домой. Завтра поговорим. Наша задача теперь объединить всех бедняков.
Он ушел. Чжао Юй-линь вернулся в свою лачугу. Было уже темно. Жена за перегородкой мыла посуду, а Со-чжу лежал на кане, поджидая отца. Сегодня у него счастливый день: в доме был гость, отец в хорошем настроении, и никто ни разу не шлепнул. Когда Чжао Юй-линь вернулся, мальчик бросился к нему, обнял и начал рассказывать:
— Я сегодня поймал в поле кузнечика, завтра еще поймаю. А в реке как рыбы много! У дедушки Чу кто-то украл вершу. А дедушка Лю закинул сеть и наловил рыбы целую корзину. Попались караси и щуки. Мы пойдем завтра с тобой ловить рыбу?
— Ты же хотел ловить кузнечиков?..
Со-чжу уже не ответил. Веки его слипались. Он уперся лбом в грудь отца и засопел. Чжао Юй-линь осторожно положил сына на кан и заботливо прикрыл его рваной курткой. Вошла жена и присела на край кана.
— Дров уже нет, — сказала она и посмотрела на мужа.
— Набери сухой травы. У меня завтра дела. — Чжао Юй-линь ушел за перегородку и закурил там трубку.
Жена прилегла около Со-чжу и вскоре уснула.
Чжао Юй-линь вернулся, сел на кан и, опершись о стену, курил и думал о своей жгучей ненависти к Хань Лао-лю.
Два года назад, когда он скрывался от трудовой повинности в лесах, Хань Лао-лю донес об этом своему жандарму. Чжао поймали, три месяца продержали в тюрьме, а потом отправили в Яньшоу. В прошлом году, когда он просрочил уплату аренды на три дня, Хань Лао-лю поставил его на колени на осколки битой посуды.
«Действительно, давно пора вышибить дух из этого черепашьего отродья». Такая мысль чрезвычайно обрадовала Чжао Юй-линя. Он прилег на кан и, довольный, продолжал курить свою трубку.
«Но возможно ли это? Так ли просто добить Хань Лао-лю, как говорил товарищ Ван?»
Чжао Юй-линь ворочался с боку на бок. Думы спугнули сон. Он встал, снова ушел за перегородку, разгреб золу в печи, прикурил и присел на корточки.
Чжао Юй-линь думал о скрытой силе помещика: один его брат в Харбине, другой — в горах Дациншаня. Старший сын Хань Ши-юань отсиживается в Чанчуне. В деревне у Хань Лао-лю много родственников, друзей, названных братьев и приспешников.
«А если ничего из этой борьбы не выйдет?» — спросил себя Чжао Юй-линь.
«Хватит ли у тебя смелости, брат Чжао?» — возникло перед ним ласково улыбающееся лицо Сяо Вана, и это вызвало прилив новых сил.
«Он такой молодой и ничего не боится, неужели я струшу?»
Ему вспомнились слова Сяо Вана: «Во Внутреннем и Внешнем Китае Восьмая армия и Демократическая объединенная армия насчитывают несколько миллионов человек, все хорошо вооружены».
Сяо Ван сказал также: «У всех бедных людей на свете одна фамилия — «Бедняки». Значит все они — одна семья. Бедняки же составляют большинство в мире». «Да, вот единственная настоящая правда. Завтра же пойду, соберу людей. Посмотрим, Хань-шестой, как ты с нами справишься».
Как только Чжао Юй-линь мысленно произнес эту фразу, ему почудилось, что помещик стоит перед ним и смотрит на него в упор.
— Нет, если его не уничтожить, никогда мне не освободиться от своей ненависти, — громко сказал Чжао Юй-линь и с сердцем выбил трубку об угол печи.
— Отец, ты почему не спишь? Скоро забрезжит… — услышал он голос жены.
Когда Чжао Юй-линь вошел в комнату и лег, петух уже захлопал крыльями и пропел свою первую песню…
Чжао Юй-линь поднялся тотчас после третьих петухов, надел соломенную шляпу и направился в школу.
Сяо Ван лежал на столе и протирал глаза. Увидев своего нового друга, он вскочил. Они вышли на площадку.
Чжао Юй-линь рассказал о своих ночных размышлениях и решительно объявил:
— Теперь все понял. Умру, но буду бороться до конца!
— Революцию обязательно надо доводить до конца, — подтвердил Сяо Ван.
«Хорошей лошади довольно одного удара кнута, хорошему человеку — одного слова», — вспомнил Чжао Юй-линь слова Сяо Вана.
И друзья пошли в деревню поднимать на борьбу других бедняков.
V
Начальник бригады решил сам побывать в лачугах. Выйдя из школы, он увидел у колодца человека средних лет.
— Как поживает товарищ начальник? — с заискивающей улыбкой приветствовал человек.
Отвечая на поклон, Сяо Сян заметил, что у нового знакомого широкие плечи и большие руки, одет он в рваную синюю куртку. «Крестьянин», — подумал Сяо Сян.
— Как тебя зовут?
— Фамилия Лю, имя Дэ-шань, — продолжая улыбаться, ответил тот.
Он любезно пригласил начальника бригады к себе, вскинул коромысло на плечи и перешел на другую сторону дороги. Сяо Сян пошел с ним рядом.
— Человека, которого люди называют «товарищ», я никогда не боюсь, — сказал Лю Дэ-шань. — Когда третий батальон выгнал из этой деревни бандитов, одно его отделение стояло в моем доме. Люди были хорошие. Утром, как встанут, принесут воды, дров наколют, двор подметут. Вот уж жалели крестьян. Вчера, только вы приехали, жена моего соседа Сюня давай скорей прятать свою черную курицу в сундук. А курица-то как раз снеслась и начала кудахтать от радости. Соседка чуть не помирает со страху. Я ей говорю: «Ты погоди, сейчас схожу и разузнаю: кто такие». Вышел ненадолго во двор и обратно вбежал. «Режь, — говорю, — живее, отряд как раз по деревне кур ищет». Она подумала, что правда, и схватила нож. Тогда я ее успокоил: «Я ж тебя надул. Это не чанкайшистская банда, а Восьмая армия. Сама курицу понесешь — начальник все равно не возьмет».
Слушая этот рассказ, Сяо Сян подумал: «По разговору ничего, посмотрим, что за семья и как настроена».
Они подошли к дому. Двор у Лю Дэ-шаня оказался просторный. В конюшне с деревянным настилом стояли три хорошие лошади.
Напротив ворот помещался трехкомнатный дом под соломенной крышей, почти совсем новый. В окнах небольшого флигеля на восточной стороне двора поблескивали стекла.
«Да он, по меньшей мере, зажиточный», — решил Сяо Сян.
Начальника бригады интересовали сейчас семьи бедняков, однако не зайти уже было бы неловко. К тому же, все равно, надо со всеми познакомиться.
Вошли во флигель со стеклянными окнами, закурили скрутки, а потом выпили чаю из поджаренного проса. Лю Дэ-шань принес горсть мелких слив и положил на стол перед Сяо Сяном.
Крестьянин сел на кан и заговорил, подбирая наиболее благозвучные слова и заискивающе посматривая на собеседника. Если гостю что-нибудь не нравилось, Лю Дэ-шань тотчас заговаривал о другом. Когда же говорил начальник бригады, он только кивал головой и поддакивал: «Да, да, конечно», «Ну само собой»…
Лю Дэ-шань был мастером на все руки: и пахать, и сеять, и скирдовать пшеницу, и ставить заборы. Во всех крестьянских делах имел он большой опыт. У него тоже были счеты с Хань Лао-лю. Начались они с того, что Лю Дэ-шань после 15 августа вывез из дальнего поселка японских колонистов полную телегу вещей. Тут были одеяла, одежда, мука, рис и домашняя утварь. Попались ему и винтовки, но взять их он побоялся. А Хань Лао-лю обвинил Лю Дэ-шаня именно в том, что тот будто бы привез винтовку, и под этим предлогом отобрал у крестьянина все, что было на телеге. Осталась только короткая военная шинель, перекрашенная в черный цвет. Лю Дэ-шань возненавидел помещика, однако открыто свою ненависть проявлять боялся.
Приезду бригады он искренне обрадовался, надеясь, что теперь Хань Лао-лю достанется. Но одно смущало его: ведь бригада состоит из коммунистов, а коммунисты вряд ли оставят ему трех лошадей и пять шанов земли. «Хотя бригада и прижмет Хань Лао-лю, однако для меня в союзники она тоже не годится», — подумал Лю Дэ-шань.
Он не спал всю ночь, а под утро принял решение: не озлоблять ни ту, ни другую сторону, постараться поладить с обеими, быть настороже и никому не раскрывать сердца. «Посмотрим, куда подует ветер, а там видно будет».
Посидев недолго, Сяо Сян распрощался и вернулся домой. В школе еще никого не было. Он достал записную книжку и занес в нее:
«Лю Дэ-шань. Зажиточный. Позиция: колеблющийся, но привлечь к работе можно».
В комнату вошел цветущего вида человек. Одет он был в белую куртку.
— Скажите, пожалуйста, кто здесь начальник Сяо?
— Я Сяо Сян.
Человек вынул из кармана красный конверт и обеими руками поднес его хозяину, поклонился и учтиво добавил:
— Моя фамилия Ли Цин-шань. Господин очень, очень просил передать начальнику Сяо, чтобы он непременно навестил его.
На красном конверте было написано: «Господину начальнику Сяо».
Раскрыв конверт, Сяо Сян прочел:
«В шесть часов вечера шестнадцатого числа сего месяца, почтительно приготовив угощение, имею честь ожидать вашего прибытия.
С глубоким уважением Хань Фын-ци».
Сбоку мелким почерком было приписано: «Угощение состоится в моем скромном доме».
Сяо Сян внимательно рассмотрел приглашение и особенно конверт со словами «господину начальнику» и улыбнулся:
— Совсем в стиле «Общества гармонии»[13]. Ваш хозяин пригласил еще кого-нибудь?
Ли Цин-шань перебрал пальцами пуговицы на куртке и снова поклонился.
— Больше никого, только начальника Сяо.
— А что же ваш хозяин приготовил вкусного? — поинтересовался Сяо Сян.
— Разве можно в нашей дикой местности найти что-нибудь вкусное? Хоть чем-нибудь да выразить почтение…
— Что еще за почтение! — перебил Сяо Сян.
— Ведь если бы мы и пригласили начальника приехать в нашу дикую деревушку, начальник не внял бы нашей просьбе, не случись у него важного дела к нашим крестьянам. Хозяин приглашает отведать водки с его собственного завода, чтобы отпраздновать прибытие начальника Сяо.
Сяо Сян наконец не выдержал:
— А ты кем ему приходишься?
— Я его батрак, пашу господскую землю…
— Пошел вон, негодяй! Кого ты обманываешь? Похож ли ты на пахаря!
Сяо Сян взглянул на тщательно приглаженные волосы Ли Цин-шаня и совсем распалился. Он разорвал приглашение в клочки и бросил в лицо посетителю. Кусочек картона больно ударил того в глаз.
На лбу управляющего вздулись жилы, а глаза перекосились от ярости. Он подался назад и сжал кулаки, приготовясь, очевидно, к драке.
— Что? Ты еще драться собираешься! — подскочил к нему вбежавший на шум Вань Цзя.
Одной рукой он вытащил маузер, другой схватил управляющего за шиворот:
— Пошел вон, собака!
Увидев маузер, Ли Цин-шань струсил и, отступая к двери, пробормотал:
— Хорошо… уйду.
Вань Цзя, проводив его до ворот, плюнул и выругался:
— Попробуй еще раз сунуться, собака!
И повернул обратно.
Его остановил старик Сунь, проходивший в этот момент мимо школы.
— С кем это ты, земляк? — спросил возчик.
Вань Цзя показал пальцем на удалявшегося Ли Цин-шаня:
— Приносил приглашение от господина Ханя-шестого, да попал носом в золу.
Старик, лукаво прищурившись, ухмыльнулся:
— А коли приглашают, почему бы и не пойти? Будь я начальником Сяо, непременно пошел бы.
— Чужое угощение язык связывает, — наставительно заметил Вань Цзя.
— Это необязательно. Ведь твой язык под твоим же носом, и прикусить его или развязать разве не от самого тебя зависит? Вот меня бы пригласил на угощение, я бы пошел. Покушал, выпил и рот вытер, а дело-делом, как полагается.
— Ты, я вижу, человек способный. Так и передам начальнику Сяо. Если еще получим приглашение от какого-нибудь толстопузого, тебя пошлем.
— Ладно, земляк, — опять прищурился старый Сунь и, подойдя ближе, вполголоса сообщил: — Теперь дело слушай: скажи начальнику Сяо, что во второй половине ночи у западных ворот опять лаяли собаки. Кто-то вывозил вещи.
— Кто? — спросил Вань Цзя.
— А кто же, по-твоему, еще?..
Старик указал пальцем на возвышающуюся над деревней черепичную крышу черных ворот, перешел на другую сторону дороги и направился к колодцу поить лошадей.
VI
Сяо Сян работал день и ночь. Он уже сжег привезенную с собой пачку свечей и теперь сидел над изучением материалов при бледном свете масляной лампы. Начальник бригады вникал в каждую мелочь. Знание обстановки — залог успеха всех мероприятий коммунистической партии.
Сведений о Хань Лао-лю было собрано порядочно. Сяо Сян и члены бригады обошли немало бедняцких семейств, познакомились с положением в деревне, привлекли к работе многих крестьян. Было решено пригласить их вечером в школу, но не на собрание, а просто на беседу.
Первым пришел Лю Дэ-шань. Он стоял у окна и рассказывал о третьем батальоне. Когда появился возчик Сунь, крестьяне сразу оживились. Его окружили. Старик знал много забавных и поучительных историй и рассказывал их охотно. Особенно любил он рассказывать про медведя.
— Этот черномазый здорово силен. Обхватит лапами сосну, раскачает и как рванет, так вместе с корнем и вырвет. По силе даже тигра с ним не сравнишь. У этого черномазого чорта только одна беда: придурковат. Вот как-то раз, например, затеял он драку с тигром. До того дрались, что уж оба дышать не в силах. Тогда тигр видит, что ему несдобровать, и говорит: «Давай подождем».
— А ты что же, их драку своими глазами видел?
Старик Сунь, считая, очевидно, что подобный вопрос не заслуживает внимания, прищурил глаза и продолжал:
— «Ладно, — говорит медведь, — подождем — так подождем». Отпускает он тигра, а сам без еды и отдыха начинает для драки место расчищать. Только и слышно, как большие и малые деревья с корнем из земли вырывает. Тигр тем временем сбегает в лощину, напьется, поест, отдохнет как следует — сил у него и прибавится. А черномазый все работает. Как он ни силен, но голодный да усталый свалить тигра уже не может. Начнут сначала, а тигр, как устанет, опять за свое: «Старичок Сюн, давай-ка еще подождем». Тигр — зверь хитрый и никогда не скажет «давай отдохнем»: боится, что медведь такое слово услышит, возьмет с тигра пример и тоже отдохнуть захочет. Медведь ему отвечает: «Что ж, подождем — так подождем». Тигр опять убежит, наестся, напьется и выспится. А медведь без отдыха все сосны да липы дергает. Тогда тигр — скок, одним прыжком свалит медведя и сожрет без остатка.
Пока возчик рассказывал, прибывали все новые и новые люди. Пришел и Чжао Юй-линь, сел на стол и закурил свою трубочку.
— Кончил про медведя? — улыбнулся Сяо Сян.
— Кончил, кончил, начальник, говори о своих делах.
— Хорошо, давайте поговорим о наших делах. Подвигайтесь поближе. Сегодня у нас не собрание. Сегодня мы просто обменяемся мнениями, то есть потолкуем, — пояснил Сяо Сян, опасаясь, что его не поймут. — Вот! В течение четырнадцати лет существования Маньчжоу-го нас все время преследовали и угнетали. Помещики же свирепствовали не четырнадцать лет, а много веков. У всех крестьян сердца наполнены горечью. Надо нам освободиться от этой горечи. Теперь царство бедняков.
— Правильно! Правильно! — подхватил Лю Дэ-шань. — Сегодня начальнику Сяо мы должны рассказать обо всех наших делах.
— Правильно. Что у кого есть, то и выскажем, — присоединился к нему человек, стоявший у окна.
Это был Ли Чжэнь-цзян. Он сдвинул шляпу на затылок, и тусклый свет масляной лампы упал на его лысину.
— Говорите, теперь все разрешается, — подзадоривал Лю Дэ-шань. — А кто в чем и ошибется — тоже не беда.
— Теперь у нас демократия, людей больше не бьют и не ругают. Правильно или неправильно сказал — никто к тебе не придерется. Говорите! Говорите! Кто первый? — шумел Ли Чжэнь-цзян.
Но говорили только они двое. Остальные молчали. Чжао Юй-линь задумчиво покуривал трубочку. Возчик Сунь, запрятавшись в дальний угол, тоже помалкивал. Старик Тянь с опаской поглядывал на стоявшего возле него Ли Чжэнь-цзяна, и в глазах его отражалось уныние. Тянь Вань-шунь боялся не начальника Сяо. Его страшил Ли Чжэнь-цзян: ведь он у Хань Лао-лю свой человек и сейчас же донесет обо всем хозяину.
Видя, что все молчат, Сяо Сян решил подбодрить людей:
— Не бойтесь. Выкладывайте все, что у кого есть.
— Правда, никого не надо бояться. Каждый говори, что хочешь, теперь не Маньчжоу-го, — с готовностью поддержал Ли Чжэнь-цзян.
Стало тихо. Слышалось только, как посапывала трубочка Чжао Юй-линя…
Сяо Сян зашагал по комнате, придумывая, как бы положить конец молчанию. Нужно было затронуть какой-то всем знакомый, но вместе с тем не слишком острый вопрос, о котором не побоялись бы говорить. Хмуря брови, он по привычке снял военную фуражку и почесал околышем бритую голову. Наконец он поднял глаза и обратился ко всем с вопросом:
— Кто из вас отбывал трудовую повинность?
— Все отбывали, — хором ответили присутствующие, только Ли Чжэнь-цзян промолчал. Он не отбывал трудовой повинности. Сразу же поднялся шум. Присутствующие оживленно заговорили, перебивая друг друга. Люди вспомнили голод и побои, которые пришлось испытать. На губах Ли Чжэнь-цзяна появилась усмешка.
— Меня вот забрали на трудовую повинность, когда еще и очередь не дошла. Вернулся через шесть месяцев, а за это время весь мой урожай пропал… — начал Чжао Юй-линь и выбил трубку о стол.
— Чего там про урожай вспоминать! — перебил его Хуа Юн-си. — В других семьях люди пропали. У меня жена заболела, а тут как раз на повинность стали забирать. Пошел я в деревенское управление и прошу начальника Гуна: подожди, пока ей не будет немного легче. А он, собака, выкатил на меня глаза и закричал: «Если твоя жена заболела, так мне за тебя идти прикажешь? Ты меня просишь, а мне кого просить?» Чем больше он кричал, тем больше свирепел и палкой на меня замахнулся. Ушел я от него и думаю: что будешь делать, идти придется. Ну и угнали. А когда через шесть месяцев вернулся, жена уже лежала давно в земле. Вот с той поры и живу бобылем.
— Подумаешь! Жену потерял! Другие люди свою жизнь потеряли. В том году как раз отправляли работать на Дунпинские угольные копи, а там за весь день давали три чашки жидкой каши да пару маленьких лепешек. Голод был такой, что живот к спине прилипал, — подал голос из своего угла возчик Сунь.
— Это еще ерунда! — вдруг осмелел старик Тянь, не обращая никакого внимания на злые взгляды Ли Чжэнь-цзяна. — Меня забрали на работу в Санькэшу. Вот там мы голодали — прямо страх! Ходили на горы и ели молодую полынь. А японцы как узнали об этом, запретили туда ходить, чтоб люди от работы не отрывались. Вечером всех заставляли рты открывать. У кого рот зеленый, того палками лупили. Из-за этих побоев и голода каждый день мерло по десяти человек, а то и больше.
— Нет, старина, ты еще не знаешь, как люди мрут, — расхрабрился Лю Дэ-шань, видя, что заговорил даже боязливый Тянь Вань-шунь. — Вот когда меня в первый раз призвали на трудовую повинность, попал я тоже на угольные копи. Давали там в день три чашки отвару, а было уже начало зимы, и лед промерз на три чи[14]. От холода и голода работать никаких сил не было. Слышу ночью толкает меня кто-то: «Скорей, скорей вставай! Иди уголь возить!» Продрал я глаза и говорю: «Да ведь еще не рассвело!» «Давай скорее, а то бить будут!» Вскочил я, прибежал на шахту. Протянул руку — пощупать, загружена ли вагонетка, и так перепугался, что сердце захолонуло. Крикнул и тут же получил бичом по спине: «Убью, если еще раз пикнешь, сучий сын!» Я сразу язык и прикусил. Что же, вы думаете, в вагонетке-то было? Трупы! Вот и катал я эти вагонетки и сбрасывал трупы в прорубь. Ты говоришь, у вас в день десять человек гибло. А мы вагонетку за вагонеткой возили. В те времена смерть на работах ровно ничего не значила. Спустят под лед — и дело с концом.
Когда речь зашла о страшных днях трудовой повинности, каждый вспомнил пережитые страдания. Сяо Сян не перебивал, и люди все рассказывали и рассказывали. Наконец начальник бригады поставил такой вопрос:
— Ведь правда счастье, что всем вам удалось домой вернуться?..
— Счастье! Счастье! — подхватило разом несколько голосов, не дав Сяо Сяну кончить.
— Не загреми пятнадцатого августа русские пушки, все оказались бы в проруби, — добавил Чжао Юй-линь.
— Это правильно, — продолжал Сяо Сян. — Теперь, скажите: а помещики отбывали трудовую повинность?
— Нет, не отбывали!
— А почему? — снова спросил начальник бригады.
Отвечали по-разному.
Кто говорил: имея деньги, можно было откупиться. По уверениям других, помещиков спасали от трудовой повинности их родственники, работавшие в разных учреждениях Маньчжоу-го. Третьи объясняли так: помещики, сыновья которых служили в армии или в полиции особого назначения, получали льготы и от трудовой повинности освобождались. Рассказывали, что, если помещиков и назначали на трудовую повинность, они ухитрялись посылать под своими именами батраков и мелких арендаторов.
— А кто в вашей деревне не отбывал трудовой повинности?
— Таких не мало! — тотчас откликнулся молчавший до этого Ли Чжэнь-цзян.
— Вот из семьи Хань Лао-лю отбывал кто-нибудь трудовую повинность? — поставил Сяо Сян прямой вопрос.
— Если бы людей нашей деревни назначали на трудовую повинность тысячами, до Хань Лао-лю все равно бы не дошло, — ответил Чжао Юй-линь, нервно раскуривая трубку.
Трое крестьян, воспользовавшись, что на них никто не смотрит, потихоньку выскользнули за дверь. Лю Шэн заметил это и хотел было их задержать, но Сяо Сян махнул ему рукой, не обращай, мол, внимания, и продолжал:
— Разве ваша жизнь сколько-нибудь схожа с жизнью семьи Хань Лао-лю? Разве вы так живете, едите и одеваетесь, как он?
— Кто же может с ним сравниться! — удивился Лю Дэ-шань.
Так как языки снова развязались, вставил свое слово и боязливый старик Тянь:
— Как же нас, бедняков, можно сравнивать с помещиками? У них одна судьба: на плече коромысла не таскают, в руках корзины не носят, вкусно едят, пьют водку, одеты в шелк, живут в высоких домах и просторных дворах. У нас судьба совсем другая: вставать до света, возвращаться затемно, пахать чужую землю, есть листья ивы, ходить в рваных мешках. А жилье какое? Даже глиняные лачуги, что мы строили, и те не наши…
Из воспаленных глаз старика брызнули слезы. Он хотел вылить накопившуюся в сердце горечь, но, увидев подстерегающие глаза Ли Чжэнь-цзяна, вдруг осекся и задрожал.
— Что с тобой, старина? — спросил его Сяо Сян.
Узнав у Чжао Юй-линя фамилию старика, начальник бригады подошел к Тяню, положил ему руку на плечо и с участием сказал:
— Старина Тянь, излей всю свою горечь. Поведай нам: какие у тебя обиды.
Старик опасливо покосился на Ли Чжэнь-цзяна и сдавленным голосом ответил:
— Начальник, мои обиды на роду мне написаны. Говорите о своих делах… Мой рассказ окончен.
Ли Чжэнь-цзян встал, поклонился сначала Сяо Сяну, потом всем присутствующим и неторопливо начал:
— Уж если никто не говорит, тогда я скажу. Я говорить не умею и прошу в том прощения. Моя фамилия Ли Чжэнь-цзян. Я арендую у Хань Лао-лю клочок земли. Старина Тянь тоже. Оба мы уже много лет знаем господина Ханя Шестого в роде и нрав его хорошо понимаем. Господин только на язык крепок, а сердцем он очень мягкий.
Лю Шэн и Сяо Ван возмущенно вскочили и подступили к Ли Чжэнь-цзяну.
— Кто тебя подослал? — крикнул Лю Шэн.
Ли Чжэнь-цзян струсил:
— Никто не подсылал…
— Зачем же ты пришел? — спросил Сяо Ван.
— Ни зачем… — Ли Чжэнь-цзян напрягал все силы, чтобы овладеть собой.
— Пусть говорит, пусть говорит, — вмешался начальник бригады, стараясь успокоить их.
Он опасался, как бы вспыльчивый Лю Шэн и горячий Сяо Ван не избили Ли Чжэнь-цзяна. Это только повредило бы делу воспитания масс и ослабило огонь, открытый по Хань Лао-лю.
— Значит, твоя фамилия Ли Чжэнь-цзян и ты арендатор, да? — миролюбиво спросил Сяо Сян. — Я как раз хочу спросить тебя: сколько же в конце концов земли у Хань Лао-лю?
— В нашей округе около ста шанов наберется.
— А в других местах?
— Это уж мне неизвестно, начальник.
— А сколько лошадей и телег?
— Лошадей около десяти, но точно не могу сказать.
— Это ты врешь! Кто не знает, что у Ханя-шестого двадцать с лишним лошадей? — донесся чей-то крик из темного угла.
Ли Чжэнь-цзян повернул голову, стараясь заприметить крикнувшего.
— Тебе совсем не надо примечать, — усмехнулся Сяо Сян. — Если ты даже и узнаешь, кто сказал, все равно ничего не сделаешь. Доносить теперь некому. Маньчжоу-го распалось, гоминдановец Лю Цзо-фэй сбежал, а Чан Кай-ши вроде глиняного Будды, переходящего в брод реку: того и гляди размокнет в воде без остатка. Некому спасать теперь ни лошадей, ни колесниц твоего господина Ханя Шестого в роде.
Сяо Сян говорил спокойно, но речь его поднимала и воодушевляла. Ему хотелось сейчас же сказать деревенским беднякам, что судьба помещиков уже всецело в их руках, но он понимал: пока массы не осознали своей силы, говорить об этом преждевременно.
— Я еще хочу спросить тебя вот о чем, — снова повернулся он к Ли Чжэнь-цзяну. — Что хорошего сделал для тебя этот Хань Лао-лю, что ты так верно служишь ему? Аренды ему не платишь, что ли?
— Как можно не платить… — пробормотал Ли Чжэнь-цзян, не смея поднять глаз на Сяо Сяна.
Это была ложь. Ли Чжэнь-цзян скрыл, что в тот день, когда приехала бригада, он договорился с Хань Лао-лю, и помещик обещал ему за помощь не брать с него арендной платы в течение трех лет.
Опасаясь, как бы разговор не отклонился в сторону и не утратил остроты, Сяо Сян не стал больше расспрашивать Ли Чжэнь-Цзяна и обратился ко всем:
— Как вы считаете: притеснял вас Хань Лао-лю или нет?
— Притеснял! — отозвалось более десятка голосов.
— А как он вас притеснял?
Одни говорили: если у помещика занимали зерно или деньги, он драл не меньше семи процентов в месяц. Другие добавляли: проценты так росли, что по истечении года должнику приходилось не только лишаться имущества, но и закабалять самого себя. Третьи вспоминали колодец. Жаловались и на то, что если помещику или его сыну приглядывалась чья-нибудь красивая жена или дочь, они ни перед чем не останавливались, чтобы опозорить ее.
Когда старик Тянь услышал об этом, в глазах его снова сверкнули слезы.
Сяо Сян, уже давно наблюдавший за ним, подошел и мягко, но настойчиво посоветовал:
— Старина Тянь, уж лучше рассказать людям, что у тебя на сердце.
— Да не о чем рассказывать, начальник, — кинув пугливый взгляд на Ли Чжэнь-цзяна, ответил старик.
Чжао Юй-линь решительно шагнул вперед и, расстегнув гимнастерку, выставил крепкую, обожженную солнцем грудь. Это была его привычка: разговаривать с таким видом, как будто он собирается драться. При этом ему всегда становилось жарко, и он разом расстегивал все пуговицы.
— Соседи! — возбужденно заговорил Чжао Юй-линь. — Моя фамилия — это фамилия всем вам известного бедняка, которому вы дали кличку «голый Чжао». Да я за это и не в обиде.
Кто-то засмеялся, но его одернули:
— Брось зубоскалить! Что у тебя совести нет, над бедняком потешаешься?
— Пусть потешается! — продолжал Чжао Юй-линь. — Начальник понимает, что бедность не позор. Вот моей жене надеть было нечего, зато дурными делами она никогда не занималась.
— Что правда — то правда, — вставил возчик Сунь, — твоя жена прямо золото!
— В летнее время, если человек и голый, и самого последнего лишен — это еще ничего, а вот зимой, как подует северо-западный ветер да подымется снежный буран, тут уж не знаешь, куда и деваться. Ночью бывало заляжем мы на кане, и у нас сразу все четыре времени года получаются: снизу — лето, сверху — зима, повернешься боком — как будто март или август. Так и ворочаемся с боку на бок всю ночь до утра.
— Что правда — то правда, — опять подтвердил старик Сунь, — всем беднякам пришлось испытать такие мучения.
— Однако у бедняка своя бедняцкая честь должна быть! Моей жене да и мне самому не приходится ходить перед людьми с опущенной от стыда головой. Ни у кого ничего не украли, никого не ограбили и всегда свой крестьянский долг соблюдали. Но все равно, чем смирнее — тем беднее! Расскажу вам, соседи, такой случай: как-то в декабре, а ведь зимой у бедняка только тогда еда, если он дичь поймает, не удалось мне изловить ни одного фазана и три дня в котле пусто было. Со-чжу и его старшая сестренка лежали на кане и плакали, а жена, глядя на них, тоже заливалась слезами.
Старик Тянь опустил голову. Так чутко к чужим страданиям сердце бедняка. Сяо Ван нахмурился, а Лю Шэн, отвернувшись к окну, смотрел на небо, полное июльских звезд. Даже у начальника бригады дрогнули губы.
— Говори, говори, брат Чжао, — подбадривал он Чжао Юй-линя.
— Что тут придумаешь! — продолжал Чжао Юй-линь. — Пошел к Хань Лао-лю, хотя и хорошо знал, что это ворота в ад. Не мог же я смотреть, как дети мучаются. На меня сразу кинулись четыре пса волчьей породы. Кое-как отбился от них. Тогда выбежал управляющий Ли Цин-шань и не пустил меня дальше двора. «Ты, — говорит, — такой грязный, не смей входить в комнату!» «Ли Цин-шань, кто это там»? — слышу хриплый голос Хань Лао-лю из восточного флигеля. Ли Цин-шань отвечает: «Это Чжао Юй-линь с южного края деревни». «Спроси, зачем пришел?» «Деньги понадобились». Тут сам вышел, ехидно смеется и говорит: «Что же это ты, Чжао, такой важный человек, и пришел просить у меня, бедняка? Если я откажу тебе — выйдет оскорбительно для твоей жены». Ли Цин-шань расхохотался во всю глотку. У меня сердце прямо огнем вспыхнуло: как снести такую обиду! «Хочешь денег замять? — спрашивает Хань Лао-лю. — Денег у меня много, сколько хочешь, но дам при одном условии. Боюсь, не согласишься». Я тут опять вспомнил о голодных детях: «Говори, какое твое условие? Подумаю». Хань Лао-лю открыл свой поганый рот: «Сегодня вечером, когда придет время ложиться спать, скажи жене, чтоб она сама пришла за деньгами». У меня прямо сердце разорвалось. Но что я мог сделать один? Повернулся и пошел, а Ли Цин-шань науськал на меня псов. Они мне последние штаны в клочья изорвали да в ногу так вцепились, что кровь потекла. На другой день небо все-таки не оставило человека в беде. Поймал я одного фазана. Только сели обедать, приходят за мной: собирайся на трудовую повинность! Пришлось пойти, а когда вернулся, никого дома не застал. Жена скиталась по чужим деревням. Дочка так и померла с голоду. Меня же Хань Лао-лю в наказание за то, что вовремя не внес платы за землю, велел поставить коленями на осколки битой посуды. Осколки вонзились в кожу, и так было больно, будто попал я в ад, где грешников прокалывают насквозь мечами и кинжалами. Вот глядите!..
Чжао Юй-линь поставил ногу на стол и засучил штанину:
— Видите, какой шрам остался?
Все окружили его.
— Соседи! — глухо сказал Чжао Юй-линь. — Теперь мы не одни. С нами бригада. Я должен отомстить, иначе никогда мне своей обиды не забыть. Скажите сами: во времена Маньчжоу-го, когда Хань был старостой деревни, по чьей только спине не гуляла его большая палка?
— По всем спинам гуляла! — отозвался из своего угла возчик Сунь.
— Правда, правда! — поддержал его Лю Дэ-шань.
— Пусть тогда скажут: кто довел до смерти Гу и Ченя с южного края деревни, кто убил сына Хуана, живущего у западных ворот? — крикнул Чжао Юй-линь.
Все молчали. Некоторые начали незаметно подвигаться к двери. Сяо Сян, чтобы не дать остыть закипевшему в сердцах гневу, быстро подошел к Чжао Юй-линю и вполголоса сказал:
— Надо сейчас же поднять людей. Действуй, старина, действуй…
Чжао Юй-линь решительно обратился к односельчанам:
— Скажите вы, плохой Хань Лао-лю или нет?
— Плохой! — отвечали все в один голос.
— Он притеснял нас, бедняков. Должны мы с ним рассчитаться или нет?
— Почему же не должны… — неуверенно отозвались некоторые.
— Удастся ли? — усомнились другие.
— Хватит у вас духу сейчас же пойти и рассчитаться с ним? — бросил вызов Чжао Юй-линь.
— Хватит! Хватит!
— Почему же не хватит? — присоединился стоявший возле Сяо Сяна Лю Дэ-шань.
— А раз, говорите, хватит, так пошли со мной! У революционера слово не должно расходиться с делом. Сегодня же ночью арестуем это черепашье отродье! Тогда крестьяне сразу смело заговорят.
Чжао Юй-линь бросился к двери, на ходу вытирая воротом расстегнутой гимнастерки льющийся с лица пот.
Поднялся шум. Люди в замешательстве толкались по комнате.
— Все пойдем с Чжао! — кричала молодежь.
— Если надо, так пойдем… — рассуждали люди среднего возраста.
Дремавшие до этого старики вдруг встрепенулись и начали уговаривать:
— Постойте! Сегодня Три звезды[15] уже высоко, пойдем-ка лучше завтра. И утром успеем. Никуда ему не уйти.
Молодые горячо возражали:
— А вдруг среди нас найдутся такие, которые предупредят Хань Лао-лю, и он сбежит.
Сяо Сян заметил, что Ли Чжэнь-цзян при этих словах вздрогнул.
Молодежь собиралась идти сейчас же, но пожилые удерживали ее:
— Куда он убежит? Сейчас государство коммунистическое, куда бы ни побежал — везде коммунисты…
— Семья его здесь, земля и имущество тоже здесь. «Монах убежит, монастырь останется».
— Кто смелый, за мной! — загремел, как гром, голос Чжао Юй-линя. — А кто трусит, пусть идет себе домой, пока не поздно, и спать ложится.
Он с презрением взглянул на Лю Дэ-шаня, который трусливо жался к двери, но не уходил, боясь, что люди его засмеют. Лицо Лю выражало полную растерянность.
— Лю Дэ-шань! — вызывающе бросил Чжао Юй-линь. — По-моему, тебе тоже пора домой.
— А зачем домой? Раз ты идешь, почему мне не идти, — деланно засмеялся Лю Дэ-шань.
Все члены бригады поддержали Чжао Юй-линя. Лю Шэн подпрыгивал от радости и, толкая командира Чжана, восклицал:
— Ты только погляди, какие храбрецы наши крестьяне, учись у них! — Лю Шэн забыл в этот момент, что его собеседник тоже крестьянин.
Сяо Ван озабоченно окликнул Чжао Юй-линя, который был уже у дверей, и, сняв с себя маузер, передал ему:
— Возьми. У этой змеюги может оказаться оружие. Тебе приходилось когда-нибудь обращаться с маузером?
— С маузером — нет, из ружья только стрелять умею, — ответил Чжао Юй-линь, беря оружие жилистой рукой.
— Ничего мудреного нет. Иди сюда, я тебя научу.
При свете масляной лампы он вынул маузер из коробки, зарядил обойму и спустил затвор.
— Вот теперь патрон в патроннике, нажмешь пальцем — выстрелит, еще нажмешь — еще выстрелит.
— Понятно, — сказал Чжао Юй-линь и повесил маузер на пояс.
— Постой! Возьми с собой эту штуку!
Сяо Ван развязал свои вещи и передал Чжао Юй-линю веревку.
— Арестуешь, вяжи крепче. С контрреволюционерами нужно только так поступать.
Начальник бригады всеми силами сдерживал поднявшееся в нем волнение. Он был таким же горячим, как Лю Шэн и Сяо Ван. Его чрезвычайно радовала решительность Чжао Юй-линя. Но, сознавая всю свою ответственность перед партией и делом освобождения, он должен был обдумывать каждый шаг. По привычке почесывая фуражкой голову, он рассуждал: «Закваска еще не готова, мобилизация не развернута… Следовательно, возможно, что Чжао Юй-линь, так быстро кинувшийся вперед, не сможет увлечь за собой массы, еще не осознавшие себя. Но обливать его холодной водой не годится. Помещика нужно арестовать. Чжао Юй-линь верно говорит: это прибавит крестьянам смелости. Ладно! Пусть арестуют! Посмотрим, что из этого выйдет». Тут он вспомнил, что Хань Лао-лю возглавлял когда-то отряд, и у него могло остаться оружие. «Как бы с Чжао Юй-линем не случилось чего-нибудь!»
— Сяо Ван! — крикнул начальник бригады.
Сяо Ван подскочил.
— Сяо Ван! Скажи Чжао Юй-линю, чтобы подождал.
— Командир отделения Чжан!
— Есть! — Чжан отдал честь.
Начальник бригады распорядился:
— Возьми восемь человек и иди вместе с Чжао Юй-линем. Четырех оставишь за воротами для охраны, а с остальными заходи во двор. Прикажи примкнуть штыки. Все должно быть готово, как к бою.
После ухода людей Сяо Сян задумался. «Совещание прошло неплохо, и результаты хорошие, — сказал он себе и улыбнулся. — А у старика Тяня сердце чем-то ранено. Завтра непременно надо повидаться с ним».
— Есть у вас вода? — обратился он к Вань Цзя. — Холодная тоже годится. Принеси таз. Я уже три дня не умывался. Потом пойди и посмотри, как там у них дела, арестовали уже или нет?
Чжао Юй-линь с маузером на боку крупными шагами шел по дороге впереди других. Было прохладно. На небе мерцала Серебряная Река[16]. Перекликались сверчки и цикады. В придорожных ивах шуршали разбуженные шумом воробьи, стряхивая с листьев росу на головы и плечи людей.
Когда вышли из школы, Ли Чжэнь-цзян пристроился позади толпы и вскоре исчез. Он свернул в огород и кратчайшим путем помчался к большому двору помещика.
Лю Дэ-шань начал постепенно отставать. Улучив подходящий момент, он спрятался в уборной, выждал, пока затих топот, затем высунулся, осмотрелся и, пригнув голову, бросился к дому. Он спешил не потому, что боялся погони. Ему хотелось поскорее укрыться куда-нибудь, чтобы никто не заметил его на улице и не подумал, что он сбежал перед боем.
Вооруженные и невооруженные люди шли толпой. Старики Сунь и Тянь, у которых были больные ноги, вразвалку плелись в хвосте. Штыки винтовок поблескивали при свете звезд и издали были похожи на брызги тусклого света, падающего с неба.
На всем пути лаяли собаки. Их лай разбудил крепко спавших крестьян и всполошил всю деревню.
VII
В эту ночь многие жители деревни Юаньмаотунь не спали.
В усадьбе Хань Лао-лю и в школе лампы горели до самого утра. Там и тут обстановка была одинаково напряженная. Там и тут готовились к схватке. У всех глаза были широко раскрыты; все с нетерпением ждали начала больших событий. Для одних это была безнадежная, обреченная на провал оборона, для других — полное надежд революционное наступление.
Толпа людей, предводительствуемая Чжао Юй-линем, подвигалась к большому двору. Когда прошли половину пути, все ясно увидели при свете звезд двух человек, идущих навстречу. Один из них был управляющий Ли Цин-шань, другой — сам Хань Лао-лю.
Неожиданная встреча заставила толпу остановиться. Даже Чжао Юй-линя она повергла в смятение. Он инстинктивно спрятал за спину веревку, которую держал в правой руке. Приблизившаяся к нему голова с залысинами принадлежала тому, кому крестьяне долгие годы не осмеливались смотреть прямо в лицо.
«Смогу ли я арестовать его?» — растерянно подумал Чжао Юй-линь.
Заметив смущение Чжао Юй-линя, Хань Лао-лю кинул на него свой обычный злобный взгляд и проговорил:
— Так… старина Чжао! Слышал, что ты намерен арестовать меня. Отлично! Видишь, я сам пришел.
Толпа невольно отступила и начала рассеиваться. Старик Тянь побоялся даже подойти. Возчик Сунь отошел в сторону и скрылся.
Около Чжао Юй-линя осталось лишь несколько молодых парней.
Помещик сделал еще шаг вперед и спросил:
— Почему же ты молчишь? Зачем у тебя эта веревка за спиной? Кто тебя поставил здесь начальником? Какие за мной преступления? Ведь если ты собираешься арестовать человека, должен предъявить какое-то обвинение. Я, Хань Лао-лю, только сберег доставшиеся мне по наследству от деда несколько грядок земли, дом, и никого не ограбил, ничего не украл. Вижу, что ты свой закон устанавливаешь. В чем же я повинен? И зачем ты в полночь по деревне слоняешься с веревкой в руках? Пойдем, пойдем вместе, разыщем товарищей из бригады и потолкуем.
— Давно уже перетолковали, — отрезал командир отделения Чжан, придя на помощь испуганному Чжао Юй-линю. — Какой параграф ни возьми, по любому тебя судить можно!
— А как ты заставил меня стоять на осколках битой посуды? Или забыл об этом? — почувствовав поддержку, осмелел Чжао Юй-линь.
Такая неслыханная дерзость «голого Чжао» на момент смутила помещика, и он ответил почти заискивающе:
— Ты здесь что-то путаешь, брат Чжао. Было ли что-нибудь подобное?..
Чжао Юй-линь вспыхнул:
— Ты еще спрашиваешь! Выходит, этого не было? Я с тобой ни о чем говорить не стану! Иди в бригаду и разговаривай с начальником Сяо.
— Что ж, идем… — Помещик уже овладел собой и с прежней самоуверенностью продолжал: — Хотя бы и с начальником Сяо! Все равно у вас должна быть какая-то законность. То, что на мне, Хань Лао-лю, нет ни единого пятна, так же верно, как то, что мост есть мост, а дорога — это дорога. Скажи, брат Чжао, мне ли бояться чьей-нибудь клеветы?
— Какой я тебе брат! — вспылил Чжао Юй-линь.
— Мы — люди одной деревни, — с тем же нарочитым спокойствием и рассудительностью пояснил помещик. — Что же тут удивительного, если у нас принято называть друг друга братьями? Мы долго прожили вместе. Если и случались между нами какие-нибудь недоразумения в словах или недостаточная почтительность в обхождении (всякое могло быть!), это только наши братские, семейные дела. Зачем кричать об этом на всю деревню? Другие люди смеяться будут. Недаром говорится: «ближайшие соседи лучше далеко живущих родственников».
— Идем, идем, нечего тут канитель разводить! — перебил его командир отделения Чжан.
— Пойдем! — подтвердил Чжао Юй-линь. — Сейчас поздно говорить об этом. Помнишь, когда ты поставил меня на осколки, я тебя просил: «Господин, не могу терпеть, прости на этот раз по-соседски». А ты что мне тогда ответил? «Кто тебе сосед, сукин сын?» Неужели и это забыл? А теперь говоришь: «ближайшие соседи лучше дальних родственников». Ты меня, должно быть, «по-соседски» и на принудительные работы загнал, хотя до меня еще и очередь не дошла? По твоей милости у меня тогда дочка умерла… Да что с тобой говорить? Только слова тратить попусту! Пошли живей!
— И пойду! Кого мне бояться? Хотя ты и наболтал на меня, ничего преступного за мной все равно нет, а «если нога прямая, обувью ее не покривишь».
— Так ничего, говоришь, преступного за тобой не числится? — придвинулся к нему Чжао Юй-линь. — А когда приходила сюда банда Лю Цзо-фэя, не ты ли три дня подряд праздновал встречу? А когда банда Чжоу Сянь-миня налетела, не ты ли присоветовал ему зайти со стороны западных ворот? Ведь у тебя бандиты ни зернышка, ни соломинки не тронули. Кому не ясно, что ты снюхался с ними? А еще хочу спросить тебя: куда сбежал твой брат Хань-седьмой?
— Когда бандиты налетели на деревню, разве я не стрелял по ним? Неужели ты не помнишь? Или память у тебя отшибло? — стал, в свою очередь, спрашивать Хань Лао-лю, чтобы замять опасный разговор о брате.
— Да ты просто в небо палил. Это же все знают…
— А где оружие? — неожиданно спросил начальник отделения Чжан.
— Сдал в город Имяньбо.
Чжан повернулся к Чжао Юй-линю:
— Он действительно сдал?
— А кто его знает.
— Идемте скорее, — уже сам предложил Хань Лао-лю, желая окончить разговор об оружии. — Мне как раз надо повидаться с начальником Сяо и спросить, почему это ты, Чжао Юй-линь, в глубокую ночь без всяких причин людей арестовываешь и по какому праву? Ведь ты просто оклеветал честного человека!
— Ну и жалуйся на меня!
Сяо Ван отвел Чжао Юй-линя к окну, и тот все рассказал. Подошел Сяо Сян и пожал руку Чжао Юй-линю. Внимательно выслушав, он проговорил:
— Ладно, все хорошо. Вот еще что: надо покрепче сплотить бедняков и на общем собрании как следует посчитаться с Хань Лао-лю. Займись этим, дружище.
Когда Чжао Юй-линь, отдав Сяо Вану маузер, собрался уходить, Сяо Сян остановил его:
— Постой-ка… Командир отделения Чжач! Выдать Чжао Юй-линю винтовку.
Чжан принес винтовку и три обоймы патронов.
— Будь бдительным, старина Чжао, — напутствовал Сяо Сян.
Хань Лао-лю, стоявший в почтительной позе посреди комнаты, терпеливо ждал, пока начальник бригады подойдет к нему. Но тот, казалось, не замечал помещика. Вань Цзя толкнул Хань Лао-лю в дальний угол:
— Стой там! — прикрикнул он.
Хань Лао-лю напрягал весь свой слух, стараясь разобрать, о чем говорил Сяо Сян с Чжао Юй-линем.
Когда Чжао Юй-линь ушел, Хань Лао-лю приблизился и, низко поклонившись, рассыпался подобострастным смешком:
— Начальник, верно, устал?..
Сяо Сян посмотрел на него: испитое желтое лицо, коротко подстриженные японские усики, похожие на щетку. Одет в белую шелковую рубашку и черные с разводами шелковые штаны, на ногах кожаные туфли.
Так вот каков этот пособник чанкайшистских бандитов, снабжавший их оружием, лошадьми и продуктами! А его младший брат Хань-седьмой — сам бандит, главарь шайки, все еще орудующей в Дациншане.
Об этом Сяо Сяну было известно и до приезда в деревню Юаньмаотунь, но теперь сведения его значительно пополнились.
— О… так вы и есть почтенный господин Хань Шестой в роде? — с иронией спросил Сяо Сян.
— Не смею считать себя тем, за кого изволите принимать меня. Я — простой крестьянин Хань Фын-ци, — еще раз поклонился Хань Лао-лю. — Вчера вы не удостоили меня своим вниманием. Конечно, я должен был первым явиться сюда и приветствовать вашу почтенную особу.
— Что ж, и сегодня не поздно, — рассмеялся начальник бригады.
Хань Лао-лю, вытащив из кармана пачку папирос, предложил начальнику бригады закурить, а когда тот отказался, закурил сам.
— Начальник! Если бы вы не стояли за нас, крестьян, вы, разумеется, не пожаловали бы в такую дикую и бедную деревушку. Здесь в школе очень неудобно: и кушать негде, и скамеек даже нет. Прошу, переезжайте завтра же ко мне. Почту за высокую честь освободить свой главный дом, чтобы начальник мог спокойно работать. Не могу не сознаться, что мы, грубая деревенщина, в делах демократии очень многого не понимаем. Если же начальник переедет в мой дом, я смогу постоянно приходить, чтобы получать указания.
— Ну что ж, ведь это случится завтра, завтра и поговорим. А сегодня останетесь здесь.
— К чему это? Разве меня взяли под арест? — растерянно спросил Хань Лао-лю, хотя и напрягал все силы, чтобы казаться спокойным.
Многого из того, что случилось с ним этой ночью, он никак не предвидел. Было совершенно непонятно, откуда взялась у Чжао Юй-линя такая дерзость и как это его, Хань Лао-лю, осмелились задержать?
В деревне Юаньмаотунь у него всюду были родственники, друзья, единомышленники. Он имел родных и друзей и в Харбине, и в Цзямусы, и в Имяньбо. Еще вчера он готов был биться об заклад, что положение его в деревне незыблемо, как скала. Кто мог тронуть его? А что произошло сейчас?.. Да в самом ли деле он под арестом?
Помещик предпринял еще одну попытку:
— Начальник, могу ли я сходить домой, а затем снова вернуться сюда?
— В этом кет никакой надобности! — отчеканил Сяо Сян.
— Начальник, вы говорите, что кет никакой надобности, а вот у меня есть надобность. Если вы запрещаете, то будьте любезны указать основания…
— Раз нельзя, значит нельзя! — стукнул кулаком по столу Сяо Ван. — Для помещика и предателя какие еще нужны основания?
— Молодой товарищ, ругаться совсем не годится, — обернулся к нему с улыбкой Хань Лао-лю.
— Еще и бить будем, — обнадежил Сяо Ван.
— Молодой товарищ, но ведь Восьмая армия и коммунистическая партия не бьют и не ругают людей… — с той же любезностью парировал Хань Лао-лю. Он остался доволен своей находчивостью: «здорово я его поддел!»
— Восьмая армия и коммунистическая партия не ругают и не бьют хороших людей, — строго заметил Сяо Сян. — Что же касается негодяев и наглецов, то это еще как сказать…
Комната вдруг наполнилась визгом и плачем. Прибежали старшая и младшая жены Хань Лао-лю. Первая крикливо рыдала и била себя кулаками в грудь, вторая потихоньку хныкала.
— Какие преступления сделал мой хозяин, что вы его арестовали?! — голосила старшая жена. — Убейте меня! Убейте всю семью!
— Начальник! — обратилась к Сяо Сяну младшая жена, вынув розовый шелковый платочек и кокетливо вытирая вспотевший кончик носа. — Вы арестовали нашего хозяина. Разве это не противоречит вашей великой политике?
Вслед за женами, как пчелиный рой, налетела целая куча родственников: невестка, жена племянника, сам племянник и еще племянница. Последней прибежала дочь Хань Лао-лю Хань Ай-чжэн. Она была хорошо одета. Из-под белого шелкового халата кокетливо выглядывала розовая батистовая рубашка.
Бросившись к отцу и уронив голову ему на грудь, она запричитала:
— Папа! Папа! Как тебя обидели…
Шум усилился. Пришли Добряк Ду и Тан Загребала, за ними в комнату разом ввалилось тридцать с лишним человек. Все окружили членов бригады.
Добряк Ду, стоявший впереди, поклонился Сяо Сяну. Поклон его был точной копией поклона Хань Лао-лю, но так как Добряк был тучен, огромный живот мешал ему сгибаться с такой же грацией и непринужденностью.
Тан Загребала поднес Сяо Сяну петицию, в которой говорилось следующее:
«Мирный гражданин Хань Фын-ци арестован вашей сиятельной бригадой. По-видимому, завистники семьи Хань, воспользовавшись вашим благородным доверием, дабы насытить собственную ненависть и злобу, ввели начальника в заблуждение. Нам всем известно, что Хань Фын-ци действительно — наилучший из жителей деревни. Поэтому просим вашу милость освободить его. Мы ручаемся, что он явится по первому же вашему требованию. С сим и прибегаем за содействием к начальнику бригады господину Сяо».
Под петицией стояли подписи тридцати двух человек, оттиски пальцев и личные печати.
Хань Длинная Шея тоже был в числе этих людей. Воспользовавшись суматохой, он пробрался к Хань Лао-лю, и они о чем-то зашептались.
Добряк Ду, задыхаясь от волнения, взывал к Сяо Сяну:
— Просим начальника освободить крестьянина Хань Фын-ци…
— Ручаемся, что он явится по первому же требованию, — присоединился Тан Загребала с горестным вздохом.
В этом шуме и гаме один начальник бригады оставался хладнокровным, не проявляя никаких признаков нетерпения или досады. Он невозмутимо сидел на столе, приглядываясь к участникам этого спектакля. При чтении поданной петиции на губах его то и дело появлялась усмешка. Дойдя до слов «Хань Фын-ци — действительно наилучший из жителей», Сяо Сян громко рассмеялся и обратился к выступившему вперед Тану Загребале:
— Хань Фын-ци во время Маньчжоу-го в течение двух лет был старостой деревни Юаньмаотунь. Его старший брат Хань-пятый являлся секретным сотрудником особой службы в уезде, а младший брат Хан-седьмой до сих пор находится в чанкайшистской банде. Кличка Хань Фын-ци — Хань Большая Палка. Многие люди неоднократно терпели от него побои… Он всячески издевался над женщинами и придумывал разные способы, чтобы завладеть чужой землей. Вы утверждаете, что он «наилучший из жителей деревни». А скажите: какого такого государства это наилучший житель? Вот что мне хотелось бы выяснить.
Все сразу притихли.
Хань Лао-лю понял, что начальник бригады отлично знаком со всем его прошлым. Подозвав Добряка Ду, он быстро сказал ему что-то, а затем с улыбкой обратился к друзьям и родственникам:
— Дорогие братья, я вас благодарю за поручительство. Но начальник Сяо вызвал меня сюда лишь за тем, чтобы побеседовать и никакого вреда мне не причинит. Поэтому вам лучше разойтись по домам. — Он обернулся к членам своей семьи и добавил: — Вы тоже ступайте домой. Ничего особенного не произошло. Начальник Сяо переговорит со мной и отпустит. — Младшей жене он наказал: — Ты пришли-ка мне пачку папирос, водки и закуску.
Члены семьи и поручители разошлись с поклонами и приседаниями.
Вскоре явился управляющий Ли Цин-шань. В руках у него был поднос из дорогого фарфора с изображением зеленого куста. На подносе стояла бутылка водки, а вокруг были расставлены блюдечки с холодной закуской.
Хань Лао-лю предложил Сяо Сяну выпить и, не смутившись отказом, обратился с тем же приглашением к Лю Шэну и Сяо Вану:
— Прошу подойти и отведать нашей маньчжурской кухни, товарищи. Попробуйте мясо дикой козули и гаоляновую водку.
Никто не ответил на его приглашение, и Хань Лао-лю пришлось пить и закусывать в одиночестве. Когда щеки его раскраснелись, он отставил рюмку и закурил. Выкурив папироску, Хань Лао-лю подпер голову руками и задумался.
Было что вспомнить и о чем подумать.
Хань Лао-лю начал богатеть еще задолго до образования Маньчжоу-го, а при японцах состояние его с каждым днем приумножалось. Часть капитала он вложил в акционерную компанию по лесозаготовкам, а часть — в винокуренный завод. На левом берегу реки он скупил тысячу шанов земли, в уезде Бинся — двести шанов, в деревне Юаньмаотунь — около ста. Чтобы не привлекать внимания, помещик поселился именно там, где у него было меньше всего земли.
Руки этого человека замараны кровью. «Не разоряя бедняков, сам не разбогатеешь», — таков был девиз всей жизни Хань Лао-лю. Он не боялся своих многочисленных врагов, так как был уверен, что Маньчжоу-го, которому он ревностно служил, спасет его от всех бед, и не представлял, что все развалится с такой молниеносной быстротой! Пятнадцатого августа, когда загрохотали советские пушки, японцы бежали, бросив его на произвол судьбы.
Хань Лао-лю решил, что все уже кончено, и впал в отчаяние. Однако неожиданно подоспел спаситель — командующий передовым отрядом чанкайшистских войск Лю Цзо-фэй. Генерал зачислил обоих его братьев в свою часть, а самого Хань Лао-лю назначил председателем временного комитета по поддержанию порядка.
Новый председатель с жаром принялся за организацию отряда помещичьей самообороны. Когда Лю Цзо-фэй приехал в деревню, помещики три дня чествовали его, и деньги, выжатые из бедняков, утекли как вода.
Но не прошло и двух недель, как нивесть откуда появился третий батальон триста пятьдесят девятой бригады Восьмой армии и чанкайшистским войскам опять пришел конец. Оружие Хань Лао-лю, конечно, припрятал.
Сейчас же приехала эта маленькая бригада и перевернула в деревне все вверх дном. Ни деды, ни прадеды не видывали ничего подобного!..
Как все это странно и непонятно.
А может быть, он, Хань Лао-лю, наевшись до отвала, спит, и ему снится дурной сон?.. Нет, на сон не похоже! Совершенно ясно, что он арестован и не знает, что еще может случиться с ним завтра. Помещика обуял непривычный страх, которому он всеми силами не хотел поддаться.
«Не может же это долго продолжаться, — мелькнула в голове мысль, несколько подбодрившая его. — Надо как-то пережить это «смутное время» и дождаться возвращения хорошей жизни! Но вернется ли эта жизнь?»
О старшем сыне, который ушел с гоминдановскими войсками, никаких вестей. Да и бригада по проведению земельной реформы, должно быть, не скоро уедет отсюда. Предстоит борьба.
«Ну что ж, борьба, так борьба! Посмотрим, чья возьмет?»
Хань Лао-лю украдкой взглянул на Сяо Сяна, и в сердце его еще сильнее разгорелась ненависть к этому человеку. Он вспомнил о распоряжении, которое дал Ханю Длинная Шея и подумал: «Сумеет ли он его выполнить?..»
Тем временем, пока Хань Лао-лю размышлял, Сяо Сян отвел Сяо Вана в сторону и велел ему взять с собой двух бойцов и выставить дозор на шоссе. Двум другим бойцам он приказал охранять арестованного. Остальным велел идти в деревню, разыскать активистов и предупредить их, чтобы завтра все шли на собрание.
Когда Сяо Сян вышел на улицу, три звезды стояли уже очень высоко. Повсюду лаяли собаки. Во дворах около маленьких лачуг с соломенными крышами мелькали тени людей.
Начальник бригады, засунув маузер за пояс, направился к большому двору. Хотелось посмотреть, что там делается после ареста Хань Лао-лю. Он не взял с собой никого. Годы партизанской жизни во Внутреннем Китае научили его бесстрашию…
В темноте около лачужки с разбитой дверью и изорванными бумажными окнами промелькнула тень.
— Кто здесь?
Но не успел замереть его голос, как раздался выстрел. Пуля взрыла землю, и комок ее больно ударил Сяо Сяна по ноге. Начальник бригады отскочил, спрятался за дерево и выпустил в ответ целую обойму.
— Кто стрелял? Не попал? — крикнул подоспевший Сяо Ван с маузером в руках. Его сопровождали двое бойцов.
— Нет, — отозвался начальник бригады, пряча маузер за пояс.
Прибежал запыхавшийся Лю Шэк:
— Кто стрелял?
— Скорей, догнать преступника! — кричал подоспевший Ван Цзя.
Явился с бойцами и начальник отделения Чжан. Все наперебой настаивали на том, чтобы сейчас же обыскать весь участок, но Сяо Сян возразил:
— Не надо. Нет никакой необходимости. Мы еще как следует не знаем положения в деревне. Как бы не попасть впросак. Во всяком случае, это — предупреждение для нас. В дальнейшем надо быть осторожнее. — Он обернулся к начальнику охраны Чжану и строго добавил: — Особенно бойцам ночного дозора!
Стрелявший в Сяо Сяна юркнул за лачужку, скрылся в кустах и бросился бежать по извилистой тропинке. Пробежав около половины ли, он остановился и прислушался: все было тихо. Человек постоял, вытер рукавом длинную шею и сунул револьвер за пояс.
Когда он, крадучись, добрался до дому, восток уже алел.
VIII
В эти дни всеми женщинами и мужчинами, стариками и молодежью деревни Юаньмаотунь овладело чувство необычной тревоги. За каждым шагом членов бригады следили настороженные глаза. Они выглядывали отовсюду: из окон, из-за деревьев, из-за ивовых кустов, смотрели с кукурузных и гаоляновых полей, с огородов, с проезжавших мимо телег. Выжидали, стараясь угадать: какие произойдут события и как они развернутся.
К приезду бригады люди отнеслись по-разному, в зависимости от своего имущественного и социального положения. Одни радовались назревающим событиям, другие, напротив, старались остановить их развитие, третьи колебались, не зная, радоваться им или огорчаться. Находились и такие, которые, затаив горечь и злобу, притворялись довольными. Но не было никого, кто бы оставался равнодушным.
Едва рассвело и из очагов поднялся дым, возвещающий наступление нового трудового дня, как по всей деревне Юаньмаотунь, словно черные вороны, разлетелись слухи:
— Ты слышал, что начальник бригады выпивал вчера с Хань Лао-лю?
— Кто сказал?
— Ли Чжэнь-цзян. Сам, говорит, видел. Начальник бригады просил Ханя-шестого: «Не поможете ли нам? Мы — люди новые и здешних дел не знаем». А господин в ответ: «Сделайте одолжение, чем могу — помогу».
— А где это стреляли ночью?
— Возле большого двора.
— Я сам считал: дан! дан!.. одиннадцать раз. Думал, на деревню опять бандиты налетели.
— А правда ли болтают, будто брат господина Хань-седьмой воротился с гор Дациншань, чтобы освободить Хань Лао-лю?
— Я слыхал так: Хань-седьмой прискакал к школе, пальнул разок и говорит: «Немедленно освободить моего брата!» В ответ — молчание. Тогда Хань-седьмой выпустил целую обойму. Тут вышел Хань Лао-лю, руками замахал и говорит: «Мы с начальником Сяо порешили помогать друг другу, так что в доме у нас все спокойно, а ты, брат, езжай обратно». Тут Хань-седьмой перед начальником Сяо, конечно, прощения просил: «Простите, говорит, ошибка». И ускакал себе в горы.
Чем больше росли слухи, тем удивительнее они становились.
Уже рассказывали, что начальник Сяо и Хань Лао-лю именуют друг друга названными братьями.
— Господин Хань-шестой очень даже одобряет приезд бригады и чествовать ее собирается.
После завтрака старый Сунь снова зазвонил в гонг и обошел всю деревню:
— Идите в школу на собрание. Будем с Хань Лао-лю счеты сводить!
Чжао Юй-линь, с винтовкой за плечами прикладом вверх, явился первым.
Лю Шэн поручил ему взять бойцов отделения охраны и приготовить место для собрания.
В центре школьной площадки между двумя тополями соорудили из столов и досок трибуну. На деревьях прилепили две полосы бумаги. На одной написали: «Собрание, посвященное перевороту в деревне Юаньмаотунь», а на другой: «Борьба с помещиком-злодеем Хань Фын-ци». Оба текста были творением Лю Шэна.
Площадка постепенно начала наполняться народом. Все были в остроконечных соломенных шляпах. Некоторые обнажены до пояса. Одни, окружив трибуну, глазели, как Лю Шэн расставляет столы, другие с интересом слушали человека, рассказывающего смешную историю о том, как медведь рвал кукурузу:
— Оборвет пару початков, подмышку себе сунет и прижмет. Оборвет еще пару, поднимет лапу и туда же. Первая пара, конечно, вываливается, а он и не видит. Опять рвет и опять кладет подмышку и опять рвет. До тех пор не успокоится, пока за ночь ни одного початка кукурузы на стеблях не оставит, а в лес только с парой початков и уйдет.
Люди смеялись и одобряли рассказчика, которым был, конечно, возчик Сунь.
Старый Тянь тоже пришел, одиноко сел на корточки у стены школы и поник головой. На нем была все та же старенькая соломенная шляпа.
Ребятишки карабкались на наличники окон, с любопытством разглядывая сквозь стекла арестованного помещика.
О борьбе с Хань Лао-лю никто не говорил, но вопрос этот волновал все сердца, и крестьяне с нетерпением ждали начала собрания.
Члены семьи Хань Лао-лю, его родственники и друзья — все были здесь. Они толкались в толпе и, хотя ни с кем не разговаривали, зорко приглядывались к каждому. Крестьяне, напуганные их присутствием, старались показать вид, что зашли сюда случайно и вовсе ничем не интересуются.
Ли Чжэнь-цзян, подсев к старику Тяню, завел разговор о посевах.
— Как у тебя соевые бобы?
— Пропали. Сорняк задавил, а меж грядками все вода стоит… — рассеянно ответил Тянь. — И кукуруза пропала…
Старику хотелось отвести сердце и сказать, что во всем повинны проклятые чанкайшистские бандиты, налеты которых сорвали полевые работы. Но, поглядев на Ли Чжэнь-цзяна, он вспомнил, с кем имеет дело: Ли Чжэнь-цзян — однофамилец, а может быть, и родственник управляющего Ли Цин-шаня, а Ли Цин-шань — всем известно кто — лазутчик бандитов. Старик удержал слово, вертевшееся на кончике языка, и только вздохнул.
— Ничего, старина Тянь, — шепотом заговорил Ли Чжэнь-цзян, оглянувшись по сторонам. — Ты не тужи. Господин посулил в нынешнем году не брать с тебя платы за аренду. Если тебе сейчас нечего есть, пойди к господину и займи у него зерна. Он не откажет.
Ли Чжэнь-цзян смешался с толпой и принялся уговаривать других крестьян.
Хань Длинная Шея между тем поспевал всюду, что-то нашептывал людям и с улыбкой хлопал всех по плечу.
На трибуну поднялся Лю Шэн. Крестьяне стали подвигаться ближе, все время поглядывая на двери школы. Наконец Чжао Юй-линь вывел Хань Лао-лю и велел ему подняться на трибуну. В дверях школы показался Сяо Сян. Он оглядел безучастные лица крестьян, прошелся по площадке и, заметив подозрительно снующего Ли Чжэнь-цзяна, подозвал Ван Цзя:
— Скажи этому пройдохе, что, если он будет нарушать порядок, его выгонят.
При появлении Сяо Сяна Длинная Шея юркнул в толпу. Сяо Сян не знал его. А люди, хотя и знали, что Длинная Шея — прихлебатель помещика, выдать его боялись.
Хань Лао-лю увидел в толпе свою семью, родственников и друзей, Ханя Длинную Шею и Ли Чжэнь-цзяна. Все были в сборе. На побледневшем лице помещика мелькнула улыбка. Он достал из кармана папиросы и предложил одну Лю Шэну, сидевшему на столе. Тот молча отвернулся. Тогда Хань Лао-лю закурил сам и пристроился рядом. Беззаботно пуская колечки дыма, он делал вид, что с ним ровно ничего не случилось. В толпе пошли разговоры:
— Гляди, гляди, вместе сидят!..
— Недаром говорят, что ночью начальник Сяо выпивал с Ханем Большая Палка.
Люди стали расходиться. Сяо Сян послал Вань Цзя предупредить Лю Шэна, чтобы тот не сидел рядом с помещиком, и открыл собрание.
Лю Шэн приблизился к краю трибуны:
— Этот Хань Лао-лю ненавидим всеми. Бригадой от жителей деревни получено на него немало жалоб. Утверждают, что Хань Лао-лю угнетал и эксплуатировал людей. Вчера вечером мы вызвали его в бригаду, а сегодня должны обсудить, как нам рассчитаться с ним.
После краткого вступления Лю Шэн перешел к делу:
— У кого какие обиды на помещика, пусть, не боясь, высказываются!
— Правильно! Правильно! Не надо бояться! — крикнул из толпы Ли Чжэнь-цзян.
Все молчали.
Сяо Ван многозначительно взглянул на Чжао Юй-линя. Тот понял и пробрался к трибуне. Напускная беззаботность помещика взбесила его. Он сразу вспотел, расстегнул гимнастерку и, указывая пальцем на Хань Лао-лю, заговорил:
— Ты такой предатель, что похуже японских угнетателей будешь! Ты помнишь, как с помощью своего японского жандарма отправил меня отбывать трудовую повинность, хотя черед до меня еще и не дошел. Из-за тебя пропали все мои посевы, дочка моя умерла, жена стала побираться, а ты все равно требовал арендную плату. Я просил повременить, а ты поставил меня на колени на осколки битой посуды. Хань-шестой, ты не позабыл этого?!
Чжао Юй-линь обернулся к толпе:
— У меня все! У кого еще какие обиды — говори скорей!
По толпе пробежало волнение. Хотя родственники и друзья Хань Лао-лю и бросали на людей свирепые взгляды, это уже не действовало.
Лю Шэн спросил:
— Кто еще хочет говорить?
Выступило трое. После них на трибуну вскочил молодой парень. Он был одет в безрукавку, на которой пестрело такое количество красных, серых, черных и полосатых заплат, что невозможно было определить, из чего она была сшита. Парень сделал шаг вперед и с жаром заговорил:
— Хань Лао-лю, ты, держась за японскую власть, обирал и калечил бедняков. Ты действительно страшнее японцев! Я батрачил на тебя целый год, а когда стал просить заработанные деньги, так ты выгнал меня. Я спросил: «Почему?», ты ответил: «Не отдам и все». На другой же день по твоему наущению начальник Гун отправил меня на принудительные работы. Ответь: было такое дело?
— Долой помещиков! Долой предателей! — выкрикнул Сяо Ван.
Многие подхватили и толпа зашумела: «Бей его!»
Но трибуна была слишком высока, и это остановило людей.
Вначале Хань Лао-лю сидел спокойно, заложив ногу за ногу, и покуривал папиросу. Но после того как выступил Чжао Юй-линь и толпа дружно подхватила лозунг Сяо Вана, он забеспокоился и уже не мог скрыть своего волнения.
В этот момент стоявший возле Ханя Длинная Шея белобородый старик, решительно засучив рукава, растолкал людей и ринулся вперед.
— Я тоже хочу рассказать о своей обиде!
Его пропустили. Это был тот самый старик, который на прошлом собрании заявил, что больше всех согласен бороться с толстопузыми.
Подбежав к трибуне, он погрозил Хань Лао-лю кулаком и быстро заговорил:
— Во времена Маньчжоу-го ты только и делал, что обижал людей! Однажды моя кобыла, стоявшая в твоей конюшне, подралась с твоим жеребцом. Ты выбежал и, не расспросив у меня в чем дело, стал стегать мою лошадь бичом. «Зачем, старая черепаха, поставил лошадь в мою конюшню?» — раскричался ты и изругал меня, старика, матом. Каково тебе будет, если я сейчас такими же словами обзову твою матушку?
— Сделай одолжение, — улыбнулся помещик.
Зная, что мать Хань Лао-лю умерла много лет назад и ругательство очень запоздало, все рассмеялись, и это сразу понизило общее воинственное настроение. После первых же слов Белой Бороды лицо помещика просветлело. Он достал папиросу и закурил.
— Хань Лао-лю! — надрывался белобородый. — Ты многих понапрасну обидел. Что ты думаешь делать теперь?
— Что люди скажут, то и буду делать, — выпустив дым колечком, ответил Хань Лао-лю.
— Нет, постой, ты не юли! Ты сам нам скажи! — тигром зарычал Белая Борода.
— Я скажу, я скажу, — заторопился Хань Большая Палка. — Я тут не при чем. Это все натворил мой брат Хань-седьмой. А если я и виноват, я все исправлю.
— А где твой брат Хань-седьмой? — спросил белобородый, стараясь перенести возмущение толпы на отсутствующего брата.
— Он сбежал на сопку Дациншань. Если бы соседи изловили этого недостойного человека, они уничтожили бы злодея, позорящего всю мою семью. Бейте его, расстреляйте или посадите в уездную тюрьму — делайте с ним, что хотите. Я, Хань Лао-лю, кроме благодарности, ничего не скажу!
— Ты не о Хане-седьмом, ты о себе говори! — закричал Чжао Юй-линь.
— А что за мной есть? Вы хотя бы подсказали! Если я преступление какое совершил, пусть понесу наказание. Что у меня? Всего несколько лишних шанов плохой земли, вот и все богатство. И еще до приезда бригады я намеревался отдать вам эту землю для раздела.
— Сколько же ты можешь дать? — спросил белобородый.
— У меня семьдесят шанов. Это мой прадед тяжким трудом добыл, работая от зари до зари. Теперь я по своему собственному желанию отдаю пятьдесят из них. Остальные двадцать шанов прошу соседей оставить мне. У меня в семье более десяти едоков. Ведь мы односельчане и, думаю, вы не допустите, чтобы моя семья умерла с голоду.
Услышав, что такой важный человек согласен добровольно отдать свою землю, крестьяне совсем размякли. Кроме того, погода стояла хорошая, все торопились на прополку, и долго раздумывать было некогда. Этим и воспользовались приспешники Хань Лао-лю.
— Да у него только земли много, а другого ничего и нет, — убеждал крестьян один из помещичьих прихлебателей.
— Верно, верно, — поддакивал другой. — А то, что Хань Лао-лю как староста кого и обидел, вспоминать не стоит. Тогда же время такое было. Да и старостой его другие поставили… Какая же за ним вина?
— Вы слышали? Ведь он сам раскаивается. Чего же еще от него требовать? — вразумлял третий.
— Если согласен дать пятьдесят шанов земли для раздела, пусть даст еще и несколько лошадей.
Хань Лао-лю сейчас же согласился:
— Ладно! Дам пять лошадей.
Один из родственников помещика крикнул во все горло:
— Видите, и лошадей отдает добровольно!
— Вот многим одеться не во что! Отдай лишнее и округлим счет, — закричал белобородый.
— Могу, что ни скажете, все могу. Есть у меня черная шелковая курточка на вате и черные хлопчатобумажные штаны на подкладке, теплые, а у жены еще халат голубого цвета. Берите кому годится.
Белобородый подошел к Сяо Сяну и поклонился.
— Начальник бригады, видишь, дело какое? Хань Лао-лю сам отдает землю, посулил лошадей и вещи. Это для него и будет наказанием. Отпусти его домой и отдай нам, крестьянам, на поруки. Если что случится, не трудно будет опять посчитаться с ним. Как ты на это смотришь, начальник?
Сяо Сян промолчал. Он отлично видел, что за человек этот белобородый.
Крестьяне стали расходиться. Одни — с досадой и раздражением, другие — с тупой покорностью. Многие понимали, что это очередная хитрость изворотливого помещика, но говорить вслух не осмеливались. Нашлись, впрочем, и простачки, которые думали: раз Хань Лао-лю сам отдал землю, лошадей и одежду, пожалуй, можно его и простить.
Возчик Сунь ушел, а старик Тянь все еще сидел под тополем и, опустив голову, молчал.
Лю Дэ-шань с заискивающей улыбочкой подошел к Ханю Длинная Шея.
— Теперь другие времена настали. Кто же не помнит, с каким уважением люди относились к господину Ханю Шестому в роде при Маньчжоу-го!
А Чжао Юй-линь откровенно признался Сяо Вану:
— Хотел бы я отдубасить его как следует!
— Кого это? — спросил тот, глубоко удрученный новой неудачей.
— Белую Бороду. Ведь эта сволочь — названный брат Хань Лао-лю.
Чжао Юй-Линь ушел в глубь двора, сел под стеной и обхватил винтовку.
Время приближалось к обеду. Сяо Сян через связного передал Лю Шэну, чтобы тот кончал собрание и не задерживал больше помещика.
Лю Шэн объявил собрание закрытым.
Хань Лао-лю спустился с трибуны и, сопровождаемый старшей женой, вышел из ворот школы. Позади следовали младшая жена и родственники.
Эта картина привела Сяо Вана в такую ярость, что у него голова пошла кругом. Он бросился к Сяо Сяну и, задыхаясь от возмущения, выкрикнул:
— Почему ты освободил Хань Лао-лю?
— Не освободить нельзя.
Начальник бригады хотел что-то добавить, но, взглянув на разъяренного друга, подумал: «Придется с ним обстоятельно побеседовать, иначе он не поймет…» И не прощаясь, нагнал в воротах Тяня.
— Надо будет нам встретиться, старина Тянь, да потолковать обо всем. Заходи, когда время будет.
Люди разошлись. Школьная площадка опустела.
Под вечер управляющий Ли Цин-шань привел пять лошадей, принес одежду и от имени помещика объявил, что землю, находящуюся у западных и южных ворот деревни, крестьяне могут поделить в любое время.
На другой день утром Лю Шэн и Чжао Юй-линь поделили между крестьянами лошадей и одежду Хань Лао-лю. Оки старались, чтобы имущество попало в руки самых бедных. Но вскоре крестьяне, получившие помещичьи вещи, принесли их назад в школу. Была возвращена и кобыла, доставшаяся в совместное владение старику Суню и трем его соседям.
— Почему же ты не берешь? — спросил возчика Сяо Сян. — Трусишь, что ли?
— Зачем трусить… — начал оправдываться тот. — Несподручно мне с ней. Придется траву косить, вставать ночью кормить ее. Я уже старик, и ноги у меня слабые. Словом, не могу за ней ходить…
Другие тоже настаивали, чтобы лошадей и вещи оставили в школе.
— Для чего вам это нужно? — недоумевал Сяо Сян.
— Верните лучше Хань Лао-лю. Нам не надо.
Чжао Юй-линь в мрачном молчании ушел домой. Лю Шэн начал складывать свои пожитки и, завернув их в коричневое одеяло из японского военного сукна, принялся искать веревку.
Сяо Сян подошел к нему:
— Что ты делаешь?
— Уезжаю, — буркнул Лю Шэн, вытирая что-то пальцами под очками — не то пот, не то слезы.
— Куда это ты уезжаешь?
— В Харбин. Поднимаем, поднимаем, все никак не поднимем. Зачем я сюда приехал? Нервы себе трепать или вести массовую работу?
Сяо Сян засмеялся:
— А вернувшись в Харбин, что будешь делать? Если мы в деревне работу наладить не умеем, где уж нам Харбин удержать. А если Харбин не удержим, тогда куда отправишься?
— На восток, пока не перейду на тот берег Уссури[17].
— Здорово придумал!
Сяо Сян с трудом сдержался, чтобы не высказать Лю Шэну, что тот заботится только о самом себе, и по-дружески, но вместе с тем строго произнес:
— Не годится, товарищ. Хочешь для себя спокойной жизни, а народ что же? Отдать на милость американским империалистам и чанкайшистской банде, чтобы они здесь второе Маньчжоу-го установили? Ведь так получается. В массовой работе, как и во всякой другой революционной работе, нужно держаться до конца и быть терпеливым. Массы не сухая трава, которой достаточно одной спички, чтобы пожар охватил всю степь. Легких дел не бывает, а сейчас в особенности. Сколько дней, как мы приехали? Всего четверо суток, а крестьяне под кнутом помещиков изнывали много сотен лет. Много сотен лет, товарищ!.. Подумай обо всем хорошенько. Решишь ехать, я, конечно, не могу тебя задерживать. Если, вернувшись в Харбин, ты бросишь работу, тогда дело другое. Но если станешь продолжать ее, будь готов: не раз встретишься и с более значительными трудностями. Трудности неизбежны в каждой работе. Революционный процесс — это именно непрерывное преодоление трудностей!
Лю Шэн молчал. Он не настаивал больше на своем решении и отложил вещи в сторону.
Теперь Сяо Сян обнаружил исчезновение Сяо Вана.
Еще до начала разговора Лю Шэна с начальником бригады Сяо Ван ушел из школы. Дойдя до восточного края деревни, он присел возле стога пшеницы. Он злился на всех, а больше всего на Сяо Сяна:
«Зачем было освобождать Хань Лао-лю? Какая нерешительность при выполнении указаний Центрального Комитета партии! А что если тут сговор с помещиками?»
Сяо Ван заметил, что с западного конца деревни идет Сяо Сян. Он притворился, что не видит его, и отвернулся.
— Ты здесь? А я тебя ищу, — весело проговорил начальник бригады, садясь рядом.
— Начальник! — Сяо Ван назвал его «начальником» вместо обычного и дружеского «старина Сяо» или «товарищ Сяо Сян». — Начальник! — повторил он с ударением. — Я совершенно не понимаю, зачем освободили этого Хань Лао-лю.
— Боимся его, — рассмеялся Сяо Сян.
— Если будем поступать так и дальше, получится, по-моему, не только боязнь, а прямо капитуляция! — весь вспыхнул Сяо Ван. — Если ты будешь продолжать в том же роде, я… завтра же уеду.
— Завтра — поздно! Лю Шэн сегодня собирается. Вот и поезжайте вместе, счастливого пути! — со смехом отозвался Сяо Сян, но вслед за тем быстро поднялся и внушительно добавил: — Арестовать помещика — дело легкое, отпустить на его долю один патрон из маузера — еще того легче. Но вопрос вовсе не в этом: мы еще не успели поднять на борьбу массы. Выходит, не они, а мы боремся вместо них. Разве это дело? Если мы не будем терпеливы в нашей работе и не сумеем воодушевить людей на то, чтобы они в своем гневе сровняли с землей эту многовековую феодальную крепость, феодализм никогда не рухнет. Что толку в том, что убьем одного Хань Лао-лю? Явится другой Хань Лао-лю.
— Ты его отпустил. А вдруг он убежит? — спросил Сяо Ван.
— Я думаю, что этого не случится. Он как раз полагает, что скорее мы убежим. А впрочем, если и убежит, рано или поздно мы его найдем. Когда массы по-настоящему поднимутся, мы раскинем такие сети, что будь он самым Но́-чжа[18] все равно ему не ускользнуть.
Сяо Ван встал, и они вместе вышли на шоссе.
— Сегодня выступал один паренек, одетый в безрукавку с заплатами всех цветов. Ты обратил на него внимание? — спросил Сяо Сян.
— Чжао Юй-линь сказал, что его зовут Го Цюань-хай. Раньше он батрачил у Хань Лао-лю, а теперь работает батраком у арендатора Хань Лао-лю Ли Чжэнь-цзяна.
— По-моему, это наш человек. Разыщи его и побеседуй.
Когда они вернулись в школу, ужин был готов и ждали только их.
IX
Сяо Ван попросил Чжао Юй-линя помочь ему разыскать Го Цюань-хая. Они нашли его у колодца. Он поил лошадь. Здороваясь, парень широко улыбнулся, показав белые ровные зубы. На нем была та же безрукавка со множеством заплат. Чжао Юй-линь познакомил их.
— Вы тут побеседуйте, а у меня еще дела есть, — сказал он и ушел.
Сяо Ван помог крутить ворот колодца. Го Цюань-хай вылил в каменное корыто полное ведро воды и погладил жеребца по ровно подстриженной гриве.
— Еще молодой да горячий, но в работе хорош, — заметил Го Цюань-хай, когда они повернули к дому. — Ты посмотри, ноги у него какие сильные.
Разговаривая, они подошли к дому Ли Чжэнь-цзяна. Большой двор был обнесен деревянным забором и чисто выметен. На северной его стороне находился пятикомнатный дом. Амбары помещались направо от дома, конюшня и крупорушка — налево.
Го Цюань-хай провел Сяо Вана в свою лачужку в левом углу двора. На крошечном кане не было даже цыновки. Ее заменяла набросанная кое-как трава, прикрытая рваными мешками.
— Если я перееду к тебе жить, как ты посмотришь на это? — спросил Сяо Ван.
— Что ж, будет хорошо. Не побрезгуешь моей бедностью, переезжай.
Сяо Ван ушел и вскоре вернулся со своей постелью.
С того дня как они поселились вместе, расставаться им приходилось лишь на самое короткое время, когда Сяо Ван уходил в школу обедать. Оба были молоды, сошлись характерами и быстро сделались настоящими друзьями. С утра Го Цюань-хай отправлялся в поле. Сяо Ван шел с ним. Потом Го Цюань-хай работал на огороде. Сяо Ван помогал ему. Они вместе резали солому и жмых на корм лошадям, кормили свиней, мололи кукурузу. Разговаривали же они день и ночь, и Сяо Ван многое узнал о своем новом друге.
Го Цюань-хаю было двадцать пять лет, однако возле глаз его уже обозначились морщинки. Он рано потерял мать и с самого детства узнал нищету. Отец его Го Чжэнь-ган батрачил у Хань Лао-лю, а сам Го Цюань-хай с тринадцатилетнего возраста пас помещичьих лошадей.
Как-то вечером, в конце года, Хань Лао-лю устроил у себя картежную игру. Удобно расположившись на теплом кане, он послал за Го Чжэнь-таном и, когда тот явился, предложил:
— Старина, у нас не хватает партнера. Садись играть.
— Да я совсем не умею, — замахал руками робкий Го Чжэнь-тан и хотел было уйти.
Хань Лао-лю схватил его за рукав и, раздраженный отказом, прикрикнул:
— Я не погнушался тобой, а ты отказываешься! Значит ты мною гнушаешься?
— Как можно, господин! Я совсем не потому… — залепетал испугавшийся старик.
— Тогда садись и не бойся. Ручаюсь, что не проиграешь. У тех, кто не умеет играть, рука счастливая. Давай, брат, давай.
Го Чжэнь-тану ничего не оставалось, как подчиниться господской воле.
В первую половину ночи он действительно немного выиграл. Но куда рабочему человеку, который без отдыха трудится весь день, сидеть по ночам за картами. Кроме того, он уже несколько дней чувствовал недомогание. Его немного знобило, а во всем теле была какая-то непонятная вялость. Во второй половине ночи голова Го Чжэнь-тана совсем отяжелела и веки стали слипаться.
— Господин, вот тебе мое слово… никак не могу больше играть!.. — взмолился наконец старик.
— Уходить собираешься? — скосил на него глаза Хань Лао-лю. — Значит, выиграл и уходишь? Ты всегда ищешь только выгоды. Я сказал: нельзя! Раз уж сел, надо обязательно играть до утра.
Го Чжэнь-тан опять остался, хотя был так утомлен, что ничего уже не видел. Как в тумане, он проиграл весь выигрыш и чистоганом спустил и те сто девяносто пять юаней, которые заработал вместе с сыном за целый год.
Когда перед утром старик вернулся в свою лачужку, он еле держался на ногах. В сердце были гнев на помещика, досада на самого себя и стыд перед сыном. На другой день он почувствовал себя совсем плохо. Поднялся жар, дыхание сделалось тяжелым и сильно болела грудь. Он так стонал, что слышно было во дворе.
Хань Лао-лю вызвал управляющего Ли Цин-шаня и раздраженно сказал:
— Сегодня праздник, первый день нового года. Скажи этому старику, пусть прекратит свои «ахи» да «охи»!
Через две недели Го Чжэнь-тан уже головы поднять не мог. Как раз выпал большой снег, началась пурга, и северный ветер подул с такой силой, что лачужки бедняков, казалось, вот-вот повалятся набок. Никто, кроме молодежи, не решался выходить из дому. Люди сидели на канах, жались к стеке, в которой проходила теплая труба. Двери и окна были наглухо закрыты. На стеклах и оконной бумаге образовались наросты льда. В такой холод легко отморозить не только нос, но и ноги.
Вот в такую-то непогоду, когда Хань Лао-лю, одетый в шубу и шапку из выдры, положив ноги на бронзовую печь, беседовал со своим сватом Добряком Ду, вбежал Ли Цин-шань и доложил:
— Го Чжэнь-тан кончается…
Хань Лао-лю так перепугался, что у него захватило дыхание.
— Выноси скорей на улицу, не то он еще в моем дворе окачурится! — прохрипел помещик.
— Совершенно верно. Оставишь такое несчастье в доме, вся семья заболеет, — поспешил вставить свое слово Добряк Ду.
— Тащи скорей за ворота, чего стал, мертвый, что ли! — заревел хозяин.
Ли Цин-шань пулей вылетел во двор, крикнул старшего батрака Чжана, и они побежали в лачужку. Хань Лао-лю придвинулся к окну и начал дуть на стекло. Проделав глазок в корке льда, он выглянул. Снег все еще валил. Его подхватывал и крутил воющий ветер.
— Чего медлят? Почему еще не выносят! — волновался помещик, колотя кулаком по раме.
Когда Ли Цин-шань и старший батрак ворвались в лачугу, Го Цюань-хай растирал грудь умирающего.
Старик открыл глаза.
— Нет… я уже никуда не гожусь, сынок…
Бедняга хотел еще что-то сказать, но у него не хватило сил.
— Пошел вон отсюда! — крикнул Ли Цин-шань и отшвырнул мальчика.
Он оторвал створку двери и плашмя кинул на кан.
— Дяденька, что вы с ним будете делать? — дрожа всем телом, спросил Го Цюань-хай.
— Залезай на кан, приподымай его за плечи! — не обращая внимания на мальчика, приказал Ли Цин-шань батраку Чжану.
Они положили старика на створку двери и понесли. Го Цюань-хай с плачем бросился за ними:
— Дяденьки, оставьте, он помрет на холоде! Дяденьки, не несите!
— Иди проси господина! — отмахнулся Ли Цин-шань.
И слова его были так же холодны, как снег, что бил в лицо.
Старика выкинули за ворота. Снег все крутился, ветер выл по-прежнему, и Го Чжэнь-тан вскоре обледенел.
— Отец! Отец! — рыдал мальчик, припав к груди мертвеца. — Что же мне теперь делать?
Из конюшен и лачуг вышли батраки и молча стали возле замерзшего Го Чжэнь-тана. Одни утирали слезы рукавами, другие уговаривали мальчика:
— Не надо плакать, не надо плакать…
Иных слов у них не было.
— Выгоните его, чтоб он не ревел тут! — крикнул Хань Лао-лю через окно.
Го Цюань-хай замолк и, упав перед батраками на колени, поклонился им до земли.
Батраки собрали в складчину немного денег, купили старый ящик и уложили в него покойника. Молча они вынесли «гроб» за северные ворота и оставили его на занесенном снегом кладбище. В том же молчании все вернулись домой.
Шел пятый год царствования императора Кандэ, и в январе этого страшного года Го Цюань-хая за ненадобностью выгнали на улицу. Несколько лет он скитался по соседним деревням, собирал за гроши листья дикого винограда, которые население было обязано сдавать японцам, работал на поденщине, батрачил за половинную плату и жил впроголодь.
Через пять лет Го Цюань-хай стал уже настоящим батраком, его сильные руки никогда не знали отдыха. В это время лихая судьба опять свела Го Цюань-хая с Хань Лао-лю.
— Ты хороший парень! Я это всегда говорил и еще с малолетства тебя приметил… — с улыбкой сказал ему помещик.
Когда у Ханя Большая Палка появлялась надобность в человеке, он умел широко и приветливо ему улыбаться. Когда же надобность проходила, он переставал этого человека узнавать.
Го Цюань-хаю хорошо были известны и притворные улыбки и коварные повадки Хань Лао-лю. Не забыл он и лютой смерти отца. Но человеку нужно есть — и он должен работать!
Го Цюань-хай собирался было подрядиться к Тану Загребале, но они не сошлись в цене, а Хань Лао-лю сразу же предложил:
— Приходи ко мне. Со знакомыми людьми всегда можно будет договориться. Батраков у меня много, работа не тяжелая. Сколько бы ты хотел?
— Дашь шестьсот? — спросил Го Цюань-хай.
Он был уверен, что на такие условия Хань Лао-лю ни за что не пойдет, но тот и глазом не моргнул:
— Шестьсот, так шестьсот. Я такой человек, что даже перед убытком не постою.
— А сразу заплатишь?
— Там посмотрим, — уклонился от прямого ответа помещик.
Го Цюань-хай снова стал батраком Хань Лао-лю. Тяжело было думать об отце и заходить в лачугу, в которой они когда-то жили вместе. Невыносимо было стоять за воротами, где умер отец. Го Цюань-хай старался уходить на работу в поле еще до петухов, а возвращаться в темноте. Так под дождем и ветром проработал он целый год, но не получил пока ни гроша.
К концу года помещик зарезал свинью и часть мяса продал своим же батракам. Пять фунтов он принес Го Цюань-хаю.
— Возьми к новому году и поешь пельменей. Ты только взгляни, какое мясо! А сало! Пойдешь покупать в деревню, там тебя обязательно надуют.
Го Цюань-хай вспомнил пословицу: «Если хорек приходит с новогодним поздравлением к курице, едва ли у него добрые намерения», и отказался от подарка.
— Если отказываешься, значит ты хозяина не уважаешь, — рассердился Хань Лао-лю.
Го Цюань-хай подумал: «Стоит ли озлоблять помещика, если деньги за работу еще не получены?»
— Ладно, — уступил он, — давай.
Взяв мясо, он отправился к своему другу Бай Юй-шаню, и они два раза поели пельменей.
На следующий год Го Цюань-хай опять остался батрачить у Хань Лао-лю. Он совсем не хотел этого, да разве бедняки вольны в чем-нибудь? Ведь землю есть не будешь? Кроме того, и рубашка его изорвалась в клочья: надо было покупать новую.
Однажды Го Цюань-хай решился спросить у помещика свой заработок за прошедший год. Тот удивленно выпучил глаза:
— Какой заработок?
— Ведь я на тебя целый год трудился под дождем и ветром, вставая до света, ложась заполночь, — обозлился Го Цюань-хай.
— Съел мясо и еще деньги какие-то требуешь! — раскричался помещик.
Это окончательно взорвало Го Цюань-хая. Он кинулся в соседнюю комнату за ножом, но в дверях его перехватил управляющий Ли Цин-шань:
— Ты куда, бандит!
Во времена Маньчжоу-го назвать человека «бандитом» было равносильно вынесению смертного приговора.
Хань Лао-лю схватил револьвер Морита Таро и навел на Го Цюань-хая:
— Только пошевелись у меня, сволочь!
— Собака! — выругался по-японски прибежавший на крик жандарм.
— Пошел вон! Ждешь, пока тебя не избили до полусмерти? — прошипел Ли Цин-шань и вытолкал батрака вон.
Так, проработав на Хань Лао-лю год и два месяца, Го Цюань-хай получил за труды всего пять фунтов мяса. На следующий день начальник Гун отправил его отбывать трудовую повинность в Мишань, откуда он вернулся лишь после 15 августа.
— У нас к Хань Лао-лю кровная ненависть, — заключил свой рассказ Го Цюань-хай.
— Что же ты на собрании молчал? — спросил Сяо Ван.
— Выступать, когда со всех сторон его домочадцы и родственники глаза пялят? Немного тут наговоришь! Да и какой толк? Попробуй играть барабанными палочками без барабана.
— Давай начнем объединять людей, — предложил Сяо Ван. — Найди таких, чтобы они не были двурушниками и по-настоящему ненавидели бы этого Хань Лао-лю.
— Лучшего, чем Бай Юй-шань, для такого дела и не найти, — подумав, сказал Го Цюань-хай.
— А где он живет?
— На южном конце деревни.
— Так идем к нему сейчас, — вскочил с кана Сяо Ван.
Они пошли.
У Бай Юй-шаня был всего один шан настолько скверной земли, что он сам говаривал: «На этой желтой глине такие тощие всходы, что даже зайцы сюда не забегают по нужде».
Во времена Маньчжоу-го после оплаты всех налогов и поборов Бай Юй-шаню почти ничего не оставалось: ни на еду, ни на одежду. Это, впрочем, не огорчало его, потому что принадлежал он к числу людей неунывающих, с покладистым характером и очень миролюбивым нравом. Но у него был один недостаток: уж очень он любил поспать и никакого сна ему не хватало. Если во время прополки выдавалась ненастная погода, Бай Юй-шань радовался этому:
— Дай, небо, дождичка. Пусть хоть наводнение, лишь бы поспать вволю, — говорил он, позевывая.
— Если решил спать, так при чем тут дождь? Сам ведь хозяин в доме, как решишь, так и будет, — подтрунивали над ним соседи.
Бай Юй-шань в таких случаях неизменно кивал на жену: при ней не поспишь!
Жена его, Дасаоцза, была трудолюбивой, старательной хозяйкой, искусной рукодельницей и усердной в полевых работах. При прополке и сборе урожая редкий мужчина мог сравниться с ней по быстроте и ловкости.
Так как в первые дни супружеской жизни Бай Юй-шань неожиданно для себя потерпел в стычке с молодой женой жестокое поражение, он стал ее побаиваться и со временем свыкся с мыслью, что такую женщину ему не одолеть.
Как-то раз, когда у людей был досуг и они коротали время в разговорах, один задира спросил:
— Эй, ребята, кто из вас не боится своей жены?
— Кто боится, пусть не хорохорится! — рассмеялся сосед.
Бай Юй-шань, сидевший тут же, сделал вид, что не слышит.
— Старина Бай, а ты что скажешь? — не унимался задира.
— А почему ты у меня спрашиваешь? — огрызнулся Бай Юй-шань.
— Да так, ничего… — хихикнул задира и обратился ко всем: — Вот вы скажите: боится наш брат Бай жены или не боится?
— Не болтай пустого! — вскочил обиженный Бай Юй-шань. — Кого я боюсь? Никого я не боюсь!..
В этот момент появилась Дасаоцза с кочергой в руках.
— Так вот ты где! — накинулась она на мужа, угрожающе подняв кочергу. — Я по всей деревне бегаю, а он здесь посиживает! Ни воды не принес, ни дров не наколол, в гости отправился!
Бай Юй-шань пробормотал что-то невнятное и покорно пошел за женой, провожаемый дружным хохотом.
Надо сказать, что лень одолела этого хорошего человека не со дня рождения. Когда он поселился в деревне Юаньмаотунь, то был совсем другим человеком. Своими руками поднял он пять шанов целины и немало потрудился, чтобы обработать их и засеять. Год выдался удачный, дожди выпали вовремя, и каждый шан принес десять даней кукурузы.
Бай Юй-шань почувствовал себя состоятельным человеком и женился.
А летом следующего года на его поле побывали лошади Хань Лао-лю и потравили большую часть посева. Он поругался из-за этого с управляющим Ли Цин-шанем. Тот донес хозяину и прибавил еще кое-что от себя. Помещик разъярился, вскочил на серого жеребца, ветром примчался к Бай Юй-шаню и перебил палкой всю его посуду и глиняные чаны для воды и сои.
Бай Юй-шань кинулся в деревенское управление и, ничего не добившись, отправился в уездный город и подал жалобу в суд. Когда Хань Лао-лю, блаженствуя около своей опийной лампы, услышал об этой дерзости крестьянина, он холодно усмехнулся и спросил:
— Он на меня жаловаться вздумал? Хорошо, буду судиться, лежа на кане. Мне придется израсходовать несколько листков бумаги, только и всего. Посмотрим, во что ему это обойдется.
Крестьянин, конечно, проиграл тяжбу с помещиком, был обвинен в клевете на достойного человека и посажен в уездную тюрьму. Дасаоцзе пришлось продать четыре шана земли, на эти деньги она выкупила мужа. Земля перешла к тому же Хань Лао-лю, а у Бай Юй-шаня остался всего один шан, да и то сплошная глина.
С этих пор Бай Юй-шань потерял к работе всякий интерес и постепенно обленился.
«Чего там, много ли, мало ли, ка еду хватит и ладно», — успокаивал он себя и жену, залеживался на кане, когда все давно уже были в поле, радовался дождю: «Вот можно и передохнуть денек-другой», а наступала хорошая погода — глядел на небо и вздыхал: «Экая жара стоит: ни облачка! Должно быть, все драконы посохли».
Работая в поле, он не мог дождаться обеда, а пообедав, не спешил браться за мотыгу.
Как-то Дасаоцза, принеся мужу обед, долго искала его по полю, пока не нашла спящим в борозде между всходами гаоляна. В другой раз он не вернулся домой, хотя уже совсем стемнело. Жена долго бегала по всей деревне, спрашивала крестьян, свинопасов, возчиков, но никто его не видел. Дасаоцза встревожилась и попросила соседа помочь ей найти пропавшего мужа. «Уж не медведь ли его задрал, не утонул ли?» — причитала она.
Наконец, когда над лачугами уже взошла полная луна, повстречавшийся на дороге старик Чжао сказал ей: «Чего ты сокрушаешься? Он храпит себе в бурьяне на берегу реки». Отыскав мужа, Дасаоцза так обрадовалась, что, несмотря на всю досаду, не стала в эту ночь сводить с ним счеты.
Вот какой беззаботный был этот человек!
Худенькая, полуголодная Дасаоцза только и делала, что горевала да сетовала: то чумиза вся кончилась, то дрова все вышли, то соли в доме нет. И ее красивые брови, черные, как вороново крыло, сходились у переносья.
А Бай Юй-шань никогда ни о чем не горевал и не заботился. «Есть, чем подкрепиться, и ладно», — говаривал он. На самом же деле, не всегда у них была пища. Поэтому супруги Бай напоминали осьти пшеничного колоса, и все время кололи друг друга.
— Мне с тобой всю жизнь не везет, — упрекала жена.
— Ты и с другим человеком счастья себе не найдешь. Тебе бедность на роду, видно, написана, — огрызался муж.
— Вся наша бедность оттого и получается, что ты лодырь!
— Ты, вот хоть и старательная, а богатства у тебя тоже что-то не видно. Где твои куры? Все передохли. Где твой поросенок?..
Но тут Бай Юй-шань разом умолкал и всегда раскаивался в сказанном. Как только дело доходило до поросенка, Дасаоцза заливалась слезами.
Поросенка она купила для того, чтобы выкормить и продать, а на вырученные деньги справить одежду себе и мужу. С какой заботой она ходила за ним, каких трудов он ей стоил! Когда поросенок подрос, угораздило же его забраться в сад к Хань Лао-лю и подрыть куст георгинов. Помещик, застав поросенка за таким занятием, схватил винтовку и прицелился. В этот момент подоспела Дасаоцза со своим Коу-цзы на руках. Она кинулась к помещику, ухватилась за ствол винтовки, умоляя простить ее оплошность.
— Простить? Я уже много чего прощал вам! Если не хочешь, чтобы я пристрелил поросенка, заплати за куст георгинов! — заорал на нее Хань Лао-лю.
Он с такой силой рванул винтовку, что женщина отлетела в сторону, упала и выронила из рук ребенка. Трехлетний Коу-цзы ударился виском об острый камень, и у него хлынула кровь. Дасаоцза, подняв его, побежала домой и стала присыпать висок золой. В это время послышался выстрел. Хань Лао-лю все-таки пристрелил поросенка.
Через две недели Коу-цзы умер.
После похорон Дасаоцза проплакала на кане три дня. Муж стоял возле нее и молчал. Никогда не унывавший Бай Юй-шань даже похудел от этого несчастья.
Прошел месяц, и люди деревни Юаньмаотунь, занятые своими бедами, позабыли о несчастье семьи Бай Юй-шаня. Однако рана в сердце матери была по-прежнему свежа. Дасаоцза каждую ночь просыпалась в слезах, будила мужа и укоряла за то, что он не идет судиться с Хань Лао-лю.
— Судиться? — спрашивал муж. — Да ты, должно быть, позабыла, чем кончилось дело в прошлый раз. Хочешь, чтоб я опять угодил в уездную тюрьму?
И сейчас этот неосторожный вопрос о поросенке вновь разбередил незажившую рану. Бай Юй-шань пожалел о вырвавшихся у него словах, но было поздно. Пристыженный, он взял топор и пошел рубить хворост. Нарубив хворосту на целых три месяца, успокоился, вытер вспотевший лоб и вернулся в комнату. Жена лежала на кане, все еще вздрагивая от рыданий.
— Бай Юй-шань дома? — спросил кто-то за окном.
— Дома. Это ты, Го Цюань-хай?
Бай Юй-шань вышел навстречу. Увидев вместе с другом Сяо Вана, он посторонился:
— Заходи, товарищ.
Когда они вошли в комнату, Дасаоцза уже сидела лицом к окну и вытирала слезы.
— Дасаоцза, чего ты такая невеселая? Опять ссоришься с мужем? — спросил Го Цюань-хай.
— А ты чего суешься не в свои дела, — рассмеялся Бай Юй-шань.
Он пригласил гостей сесть на кан, достал коробочку с табаком, сделал самокрутку и поднес Сяо Вану.
Дасаоцза принесла слив, положила перед гостями и, взяв старую куртку, принялась чинить.
Поговорив о том, о сем, Сяо Ван приступил к делу:
— Нужно объединить всех бедняков на борьбу с этим злодеем Ханем. У тебя хватит духу пойти с нами? Не струсишь?
— Зачем трусить! — воскликнул Бай Юй-шань. — А ты чего уши навострила? — повернулся он к жене, поймав ее пристальный взгляд. — Женщинам разве годится вмешиваться в мужские дела?
Дасаоцза усмехнулась и, желая подразнить мужа, заглотила Го Цюань-хаю:
— Ты же знаешь, что он у меня все на кане валяется. Свою землю и ту обработать не может. Разве можно на него надеяться!
— Дасаоцза, не срами мужа, — наставительно сказал Го Цюань-хай. — Как, по-твоему, Бай Юй-шань, нужно нам бороться с Ханем Большая Палка?
— Ты ее спроси об этом! — кивнул Бай Юй-шань на жену.
Услышав имя Хань Лао-лю, Дасаоцза вскинула голову:
— Почему вы его не застрелите? Застрелите, отомстите за моего маленького Коу-цзы!
— Кто этот маленький Коу-цзы? — спросил Сяо Ван.
Дасаоцза рассказала о гибели сына. Сяо Ван выслушал ее с большим сочувствием.
— Так вот, — сказал он. — Мы и собираемся повести борьбу против помещика. Скажи: ты решишься рассказать людям о своей обиде?..
Дасаоцза долго молчала.
— Не знаю, — проговорила она наконец. — Наверно, не выйдет у меня как надо…
— С мужем ведь ты постоянно воюешь, — засмеялся Го Цюань-хай.
— Это другое дело.
— Если ты не сможешь, пусть Бай Юй-шань за тебя расскажет, — предложил Го Цюань-хай.
На том и перешили.
Сяо Ван и Го Цюань-хай вскоре попрощались и ушли. Вернувшись домой, они опять проговорили до первых петухов.
X
В деревне Юаньмаотунь был создан крестьянский союз. В него вступили тридцать беднейших семейств крестьян и ремесленников. Председателем избрали Чжао Юй-линя, а заместителем — Го Цюань-хая, который руководил одновременно комиссией по разделу земли. На Бай Юй-шаня возложили руководство комитетом самообороны и комитетом безопасности. Лю Дэ-шаня сделали руководителем производственного комитета. Члены союза были разбиты на группы, во главе которых стояли старосты. В числе старост оказались старики Сунь (Сунь Юн-фу) и Тянь Вань-шунь.
Крестьянский союз постановил: все члены союза должны вовлекать в организацию трудовое крестьянство. Дело пошло успешно. Союз стал быстро расти.
Старик Сунь вовлек в свою группу пять новых членов, все были возчиками.
— Действительно, «сазан ищет сазана, а карась — карася», — рассмеялся начальник бригады, узнав об этом.
Когда Сунь зашел в школу, он сказал ему:
— Старина Сунь, поставь тебя председателем крестьянского союза, ты непременно превратил бы его в транспортную контору.
— А разве не ты, начальник, велел искать единомышленников? Эти бедные возчики и есть первейшие мои единомышленники.
Наиболее энергичными членами крестьянского союза стали Го Цюань-хай и Бай Юй-шань. Они увлекали за собой всю деревню Юаньмаотунь.
Когда Го Цюань-хай был избран заместителем председателя, Сяо Ван перебрался обратно в школу. — Ты вовлекай в работу как можно больше людей. Это сейчас твоя основная задача, — сказал, уходя, Сяо Ван.
Го Цюань-хай, встретив как-то Ян Фу-юаня, по прозвищу Братишка, который полгода проработал у Хань Лао-лю старшим батраком, а теперь промышлял перепродажей старья, решил привлечь и его. Нельзя сказать, конечно, что это был удачный выбор. Братишка Ян был труслив, завистлив и падок до денег.
— Долго ли еще может продержаться Восьмая армия? — без обиняков спросил он Го Цюань-хая, когда они остались наедине.
— А кто тебе сказал, что она долго не продержится? — подозрительно покосился на него Го Цюань-хай.
— Никто не сказал… Так просто спрашиваю… — заметив его взгляд, замял разговор Братишка Ян, боясь, как бы не проговориться, что слышал это от Длинной Шеи.
Го Цюань-хай, решив, что такой вопрос задан просто по наивности, постарался разъяснить:
— Запомни крепко-накрепко: если мы, бедняки, хотим сделать переворот, нам только на самих себя надо надеяться. Председатель Чжао Юй-линь говорит так: «Глина скрепляет глину — вырастает стена, если бедняки помогут беднякам — у них будет свое государство». Создадим настоящую крестьянскую организацию, тогда бояться нам нечего.
— Это, конечно, правильно, — согласился Братишка Ян, хотя думал иначе.
— Ты тоже старайся вовлекать людей.
— Как же… постараюсь.
Го Цюань-хай ушел. Он был очень занят: надо всюду поспеть, растолковать людям обо всем и спросить у Сяо Вана или у начальника о том, чего не понимал сам. Собственно говоря, твердо он знал только одно: в мире существуют бедняки и богачи, и если бедняки хотят сделать переворот, они должны добить помещиков. Слова эти, правда, стали для крестьян общеизвестной истиной, но в изложении Го Цюань-хая они приобретали особую ясность и значительность. Бедняки любили его, верили ему, шли за ним.
— Брат, ты говорил, Восьмая армия не уйдет, а бригада тоже здесь останется?
— Обязательно останется!
— Стало быть, когда бедняки заберут власть, это и будет настоящий переворот? Если так, мы тебе поможем, брат Го!
— Правильно. Это и значит «один за всех и все за одного», — отвечал им Го Цюань-хай словами, которым научил его Сяо Ван.
Но были в деревне и другие люди, которые льстили, завидовали или даже угрожали.
— Председатель Го — человек с головой. По-моему, даже председателя Чжао умом превзошел, — заискивали льстецы, приглашая его к себе и именуя «председателем».
— Он теперь председатель и станет ли водиться с нами, простыми крестьянами? Хоть лестницу подставь, все равно до него не доберешься, — язвили завистники.
— Вырядился в халат и воображает, — шушукались обитатели богатых домов.
— Пусть себе воображает. Придут войска центрального правительства, обернись он зайцем, и то убежать не успеет, — злопыхали ненавистники новых порядков.
Го Цюань-хаю было хорошо известно, откуда шли все эти разговоры. Он был местным старожилом и помнил, кто и как нажил себе богатство, кто и почему обеднел. От него Сяо Сян, Сяо Ван и Лю Шэн много узнали о людях деревни, а он воспринял от них новые идеи и умел каждому все разъяснить. Поэтому крестьяне постоянно обращались к нему за советами. В дождливую погоду, когда у них случался досуг, лачужка во дворе Ли Чжэнь-цзяна бывала битком набита народом. Сюда приходили не только мужчины, но даже и женщины с грудными детьми.
Как-то ранним утром, когда вся деревня отправилась на прополку, Го Цюань-хай столкнулся у ворот с Длинной Шеей. Тот потянул его за рукав.
— Чего тебе? — удивился Го Цюань-хай.
— Здесь людно. Пойдем на огород, там и поговорим… Имею к тебе одно дельце…
— Если есть дело, говори здесь. Мне недосуг, — высвободил руку Го Цюань-хай.
— Послушай… — с видом заговорщика зашептал Длинная Шея. — Сегодня утром господин сказал, что ты работаешь за всех, а за труд ни гроша не получаешь. Поесть после работы как следует и то не в состоянии. Как можно человеку всегда быть голодным! Вот господин и приказал дать тебе потихоньку эти деньги на мелкие расходы. Это он просто из уважения посылает…
Длинная Шея сунул пачку денег Го Цюань-хаю и повернулся, чтобы уйти.
Го Цюань-хай остановил его, швырнул пачку ему в лицо и замахнулся мотыгой.
— Кому нужны твои поганые деньги!
Длинная Шея побледнел, закрыл руками голову, весь как-то съежился и вдруг бросился бежать.
Кругом захохотали и захлопали в ладоши. Старик крестьянин, указывая на Го Цюань-хая, одобрительно воскликнул:
— Правильно, правильно! Вот какой молодец!
— Что ж ты не угостил этого пройдоху как следует! — прошамкал беззубым ртом другой.
А на следующий день по деревне поползли зловещие слухи:
— Слыхали? Го Цюань-хай, оказывается, в Восьмую армию девок мобилизовать будет.
— Не только девок, красивых молодых баб тоже.
— Зачем же они ему понадобились?
— Кто знает? Говорят, будто хочет свезти во Внутренний Китай и выставить в кооперативной лавке. Кому нужно, тот и получай.
— Смотри, какая сволочь! Так вот зачем он всегда людей-то расспрашивает: какая у тебя семья, да хватает ли тебе еды; какой год пошел твоей жене? Гнать его надо! Вон какими делами промышляет, как хорек бегает к курице с новым годом поздравлять!
Диор Ли Чжэнь-цзяна, в котором бывало так шумно, сразу опустел. Люди перестали заглядывать туда даже в дождливую погоду.
Го Цюань-хай сразу заметил отчуждение. Ему не улыбались больше, а завидев издали, старались свернуть в сторону. Когда он заходил к кому-нибудь, его уже не встречали с прежним радушием: уходили из комнаты или просто не пускали в дом — у нас дети заболели оспой. Были и такие, которые, едва Го Цюань-хай появлялся на улице, запирали двери, завешивали тряпками окна, а с крыши спускали полоску красной бумаги с надписью: «Невестка только что родила, чужим входить нельзя».
Наконец заместитель председателя крестьянского союза, расстроенный до такой степени, что еле держался на ногах, пришел в школу, сел на пороге и уронил голову на грудь.
— Что с тобой? — встревожился начальник бригады.
Подошел и Сяо Ван.
— Не буду здесь работать больше. Что бы ни сказали, все равно не буду. Хотите, чтобы работал, посылайте в другое место.
Сяо Сян удивленно взглянул на Сяо Вана:
— Да в чем дело, в конце концов?
— Кто знает?.. — пожал тот плечами.
— Не могу больше! Все от меня отвернулись… бегут, как от чумы… — прохрипел Го Цюань-хай.
— Что такое?
— Никто ко мне не приходит, а куда ни пойду — прячутся и подойти боятся.
Сяо Сян нахмурился и стал подробно расспрашивать, сразу догадавшись, что кто-то распустил новые слухи.
— Иди к председателю Чжао, — сказал он наконец, — посоветуйся. Собери самых близких людей, разузнай, а потом обо всем расскажешь. Никакое дело, друг, мигом не делается. Одним взмахом лопаты колодца не выроешь. Надо иметь терпение, и главное — не горячиться.
Чжао Юй-линь был расстроен не меньше Го Цюань-хая и по той же причине. Они поговорили между собой, потом собрали бедняков и стали расспрашивать. Все сразу объяснилось.
— Так зачем же вы слушали все эти враки? — возмутился Го Цюань-хай.
— И я то же говорю, — поддержал старик Тянь. — Бригада несколько тысяч ли проехала, чтоб нам, крестьянам, помочь наладить новую жизнь, а вы разные сплетни слушаете. Кто не знает, что у товарищей из бригады в мыслях только одно хорошее. Если бы им нужны были девки да бабы, этого товара и в Харбине хоть отбавляй. Зачем тащить такую невидаль из нашей дикой деревушки?
— Вы взгляните на начальника Сяо, какой он достойный человек! — добавил Чжао Юй-линь.
— Правда! Правда! — подхватил возчик Сунь. — Действительно, взгляните на начальника Сяо, товарища Вана и товарища Лю. Таких стоящих людей из ста одного найдешь, и то не сразу. На что им ваши бабы сдались? Сами станете навязывать, они ни за что не возьмут. Уж я-то верно знаю! Что касается товарища Сяо Вана, так товарищ Сяо Ван даже земляком нам приходится. Он тоже из Маньчжурии. Когда я вез сюда бригаду, я ему так прямо и сказал: «Товарищ Сяо Ван, такой человек, как ты, это поистине всей Маньчжурии гордость и слава!». А вот догадайтесь, что мне на это товарищ Сяо Ван ответил? Посмотрел он на меня и говорит: «Вот что, в Маньчжурии живет такой диковинный возчик, как старина Сунь, — вот это, действительно, слава так слава!» Я застыдился даже. А он опять говорит: «Ты, старина Сунь, и лошадьми править можешь, и смело идти вперед по пути революции тоже можешь». Вот как! А начальник Сяо нам тоже самый первый друг. Уж я-то верно знаю, ведь бригада на моей телеге прикатила! Проехали мы полдороги, начальник Сяо меня и спрашивает: «Старина Сунь, скажи-ка, согласен ли ты в деревне переворот сделать?» А я ему отвечаю: «Почему не согласен? Кому охота всю жизнь на других работать!» Тут начальник Сяо засмеялся и сказал всем: «Уж если старина Сунь нас уважит, дело революции обеспечено». Я ему тогда опять говорю: «Начальник Сяо, я тебя не обманываю, я, старик Сунь, везде побывал, и у меня смелость большая в сердце».
— Помещичью лошадь взять и то испугался, а говоришь смелый, — пошутил Чжао Юй-линь.
Грянул дружный хохот.
— Э-э… да… это совсем иное дело, — пробормотал старик. — Ты меня не перебивай! Я людей спрашиваю: начальник Сяо разве не хороший человек? Очень даже хороший! А я, старый Сунь, с хорошими людьми дружить большой охотник. Вчера мы с начальником опять разговаривали, и я ему сказал: «Если хочешь в уездный город прогуляться, только скажи мне, я мигом запрягу и ручаюсь головой, что в грязи не завязнем».
Веселая дружеская беседа успокоила людские сердца. Тревога рассеялась, как дым, подхваченный свежим ветром.
В лачугах Чжао Юй-линя и Го Цюань-хая опять стало людно. Со всех концов деревни сходились сюда крестьяне узнать новости, потолковать о своих делах.
С тех пор как Ли Чжэнь-цзян узнал об избрании своего батрака заместителем председателя крестьянского союза, он забеспокоился и решил в ближайший же вечер тайком наведаться к Хань Лао-лю и спросить совета. Он доложил помещику обо всем, что ему было известно, и вопросительно уставился на него.
— Чем же тебе плохо, что этот Го живет у тебя в доме? — спросил Хань Ляо-лю. — Напротив, это очень хорошо. Зайди к нему, послушай, разузнай, о чем они там толкуют, и сообщи мне.
Вернувшись из помещичьей усадьбы, Ли Чжэнь-цзян, не теряя времени, направился в лачугу к своему батраку. Погода стояла жаркая, дверь и окна были раскрыты. Люди издали заметили улыбающегося хозяина и тотчас замолчали. Тот потоптался, сделал попытку завязать разговор. Ему не ответили. Раздосадованный неудачей, Ли Чжэнь-цзян прошел к себе и угрожающе прошипел:
— Что ж, поживем — увидим…
Угроза была выполнена на следующий же вечер.
Го Цюань-хай задержался в бригаде и пришел домой, когда совсем стемнело. Ворота оказались запертыми. Во дворе кто-то был, однако сколько ни стучал Го Цюань-хай, никто не отозвался. Он легко перемахнул через ивовый плетень. Но едва нога коснулась земли, огромный сторожевой пес вцепился ему в ногу.
Положение Го Цюань-хая в доме Ли Чжэнь-цзяна сделалось совсем невыносимым. Жена хозяина Ли Хань-ши тоже имела свои основания злиться на батрака и лишь искала повода для придирки. Еще совсем недавно при виде широких плеч и могучей груди Го Цюань-хая у этой толстухи так разгорались глазки, словно батрак был сочной румяной грушей. Однако с некоторых пор она затаила на него обиду. Случилось это тихим вечером, когда мужа не было дома, сыновья тоже куда-то отлучились, а дочка играла за воротами. Воспользовавшись удобным случаем, Ли Хань-ши прилегла на кан, и из восточного флигеля послышались жалобные вздохи и стоны. Го Цюань-хай неподалеку мастерил себе дождевой плащ из травы и тотчас услыхал тихий, сдавленный голос хозяйки:
— Цюань-хай, поди сюда… У меня голова болит, скорей поставь мне банки.
Парень бросил работу, разыскал банки и вошел в дом. Разрумянившаяся, полуобнаженная хозяйка лежала на кане в самой соблазнительной позе. Когда батрак показался на пороге, хозяйка чуть повернула голову и с легкой усмешкой посмотрела на него. О банках она уже больше не говорила.
«Она совсем не больная», — решил Го Цюань-хай, положил банки на кан и вышел.
Едва он дошел до середины двора, как из восточного флигеля понеслись уже не вздохи, а отборные ругательства.
Все же, несмотря на такое оскорбление, хозяйка не оставила мыслей о батраке и улыбалась ему по-прежнему. Но с той поры, как Го Цюань-хай стал заместителем председателя крестьянского союза и к нему начали ходить не только мужчины, но и женщины, то есть, как она предполагала, ее соперницы, Ли Хань-ши мучила ревность. Глаза хозяйки уже не улыбались больше молодому батраку.
Однажды за обедом дочка Ли Чжэнь-цзяна разбила чашку. Ли Хань-ши бросила палочки для еды и так ударила девочку, что та заревела во весь голос.
— Сейчас же замолчи! — накинулась на нее мать. — Ты, гадкая девчонка, целыми днями лодырничаешь, работать не хочешь, только даром ешь и пьешь. Нам, бедным пахарям, откуда взять еду, чтобы кормить тебя! Наешься, напьешься — и в гости, только о себе и думаешь!
Го Цюань-хай сразу понял, к кому относится эта брань. Он взглянул на Ли Чжэнь-цзяна. Тот уткнулся носом в чашку и сделал вид, что ничего не слышит. Батрак отложил в сторону палочки и, сдерживая закипающий гнев, спокойно сказал:
— Хозяйка, ты брось, ругая собаку, замахиваться на курицу!.. Кто это у тебя ест и пьет задаром? Скажи напрямик: кого поносишь?
— Кто откликнулся, того и поношу! — взвизгнула Ли Хань-ши и разразилась новым потоком брани.
На крики Ли Хань-ши и рев девочки прибежали соседи. Они столпились в кухне и с нескрываемым любопытством заглядывали в комнату.
Го Цюань-хай вскочил. Губы его дрожали, но он так привык к разного рода неприятностям, в которых у него никогда не бывало недостатка, что выработал в себе умение сдерживаться. Взяв себя в руки, он спокойно проговорил:
— Что ж, давай тогда посчитаемся, хозяйка. Интересно, почему это я ем и пью у тебя даром? Триста с лишним дней в году я работаю на вас, как лошадь. Только плуг брошу, за мотыгу берусь… Мотыгу повешу, окучивать принимаюсь. Окучил, сорняк рву, пшеницу убираю, ставлю стога, строю заборы, делаю кирпич и перекладываю вам каны во всем доме. А там, гляди, и осенняя уборка подходит. Урожай собран — надо лес возить, солому резать, жернов крутить, дрова колоть, кукурузу лущить. Вот и скажи: сколько у меня в году праздничных дней получается? Вы арендуете двадцать с лишним шанов земли. А есть ли такой шан или грядка, которые бы Го Цюань-хай потом своим не полил? А еще говоришь, даром ем и пью!
Ли Хань-ши даже подпрыгнула.
— Соседи! — закричала она. — Слышите, что он такое говорит? Всего два дня в председателях ходит, а уже нос задрал! Что ж это мы, бедные крестьяне, жертвоприношениями тебя, как Будду, ублажать должны? Кланяться тебе? Так, что ли? Мерзавец!
Заметив, что Ли Чжэнь-цзян собирается улизнуть из комнаты, она схватила его за ворот:
— Ты всегда в стороне! Помалкиваешь да посматриваешь, как этот грубиян издевается надо мной. Ты, должно быть, за тем и нанял его, чтобы он мучил меня!
Го Цюань-хая увели из комнаты.
— Зачем связался с этой бабой! Только себя мараешь. Иди и занимайся своими делами.
Едва Го Цюань-хай вышел из ворот, его нагнал запыхавшийся Ли Чжэнь-цзян.
— Го Цюань-хай, куда ты?
Тот не ответил, даже головы не повернул.
— Ты в бригаду? Послушай: нельзя там говорить об этом. Ведь это же наше, семейное дело. Люди мы свои и уладим все по-свойски. Я прикажу жене, чтобы она попросила у тебя прощения. Постой! Подожди!..
Когда Го Цюань-хай пришел в школу, он весь горел от возмущения. Хотелось сейчас же рассказать обо всем Сяо Сяну и Сяо Вану. Те бы успокоили его и наверняка сразу бы нашли выход. Но начальник бригады неожиданно спросил:
— Скажи-ка мне, приятель, кто это такой Бай-лай?
— Главарь бандитов, — ответил Го Цюань-хай, не понимая, почему Сяо Сян ни с того ни с сего задал ему такой вопрос.
— Ты его видел когда-нибудь?
— Нет.
Теперь Го Цюань-хай окончательно убедился: тут что-то есть.
— Начальник Сяо, я тебя не совсем понимаю…
— А я как раз разыскивал тебя, чтобы показать вот эту бумажку.
Улыбаясь, он достал из кармана клочок бумаги, на котором каракулями была написана одна строчка. Так как Го Цюань-хай был неграмотен, Сяо Сян прочел ему:
«Го Цюань-хай — бандитский лазутчик с сопки Дацин-шань».
Подписи не было.
— Начальник Сяо, я прошу проверить такое дело…
— Давно уже проверил, — рассмеялся Сяо Сян.
— Начальник Сяо, если вы верите этой бумажке, посадите меня в тюрьму, — сказал Го Цюань-хай.
Мало того, что на сердце была такая горечь после скандала. Тут еще новая, точно с неба свалившаяся обида! У парня глаза наполнились слезами. Он опустил голову.
— Поверь я этой бумажонке, давно бы арестовал тебя и без твоей просьбы, — с теплой дружеской улыбкой сказал Сяо Сян.
Он подошел ближе и пояснил, что записка три дня назад была найдена на подоконнике. Почерк похож на тот, которым написана визитная карточка Хань Лао-лю, хотя и сильно изменен. Дело тут ясное.
— Ты получше работай. Помещики и их подпевалы будут, конечно, прилагать все силы, чтобы навредить тебе, только ты, друг, никого не бойся. Помни, что именно теперь настало время отомстить за все, — ободрил его на прощание начальник бригады.
Го Цюань-хай, не проронив больше ни слова, попрощался и вышел. Умолчал он и о стычке с женой Ли Чжэнь-Цзяна.
Только что прошел дождь, и дорога была грязная. Го Цюань-хай шлепал по лужам, ничего не видя и не слыша.
«Действительно, — думал он, — не будь здесь начальника Сяо, помещики давно стерли бы нас всех в порошок…»
Чем больше он думал об этом, тем жарче разгоралась его ненависть к врагам. Она жгла сердце, заставляла кипеть кровь, укрепляла решимость навсегда уничтожить их власть, их силу, их влияние.
«Разруби меня теперь на восемь частей, я все равно пойду вместе с коммунистической партией и до конца буду бороться против всех ее врагов», — сказал он самому себе.
Так, ничего не видя кругом, не заметил Го Цюань-хай, как оказался у ворот Ли Чжэнь-цзяна. Возвратиться в свою лачужку он уже не мог.
Он вошел во двор Бай Юй-шаня и, заглянув в окно, спросил:
— Бай Юй-шань дома?
Дасаоцза, нахмурив брови, мыла посуду и злилась. Она сердито вскинула глаза и отрезала:
— Нету!
— Куда он пошел?
— Кто его знает.
Гю Цюань-хай почувствовал, что опять произошло неладное, но расспрашивать счел неудобным и ушел.
Он прошелся по шоссе. Идти было некуда. Вдруг кто-то окликнул его:
— Зайди! Ты как раз нужен. Надо одно дельце обсудить… Что с тобой? Какая беда на тебя свалилась?
— Беда не беда, а вот жить мне больше негде. Сегодня жена Ли Чжэнь-цзяна выгнала меня.
— Ну ничего. Иди жить ко мне, — предложил человек.
— А что мы с тобой есть будем?
— Кукуруза еще осталась, а съедим — видно будет! Бедняки — друг другу братья. Голодным не останешься. Пойдем!
Чжао Юй-линь взял Го Цюань-хая за руку и увел к себе.
Под вечер к ним наведался начальник бригады. Увидев, что у Го Цюань-хая нечего постелить на кан, а на плечах все та же разноцветная от заплат безрукавка, Сяо Сан, вернувшись домой, послал ему с Вань Цзя старенькую белую куртку и теплое японское одеяло.
— Начальник Сяо, — сказал Вань Цзя, — велел спросить, не знаешь ли, куда девался Бай Юй-шань?
— Не знаю, — ответил Го Цюань-хай.
Что же это стряслось с Бай Юй-шанем?
XI
Со времени своего избрания в комитет самообороны, Бай Юй-шань был так завален работой, что уходил из дому на рассвете, а возвращался не ранее полуночи. Куда и лень девалась!
«Зачем торопиться, давай лучше отдохнем. Собака и завтра солнца не проглотит», — говаривал он раньше. Теперь люди, видя его всегда на ногах, подшучивали:
— Постой, Бай Юй-шань. Куда торопиться? Ведь собака солнца не проглотит.
— Нельзя, — серьезно отвечал тот. — Надо торопиться, а то не поспеем.
Перемена в муже чрезвычайно радовала Дасаоцзу и положила конец их распре. Она стала заботиться о нем так, как не заботилась и в первые дни их совместной жизни.
Дасаоцза завела кур, и когда муж возвращался поздно домой, его уже дожидалась яичница. Днем за обедом Дасаоцза то и дело подливала ему в тарелку масла и кормила вкусными блинами из кукурузной муки. Как-то она даже купила для него фунт бобового сыра. Раньше ничего подобного он не ел даже в горячие дни уборки, когда человеку требовалась обильная сытная пища.
Если муж долго не возвращался, Дасаоцза поджидала его, сидя на кане или возясь по хозяйству в кухне. Она была так счастлива теперь, что говорила соседкам:
— Подумайте, как приехала бригада, не только погода изменилась, людей не узнать: лентяи в трудолюбивых превратились! Вот уж действительно, — добавляла она, — это небесный император послал нам с неба звездочку, то есть начальника Сяо, чтобы выручить нас из нищеты.
Однажды, нарвав на огороде полную корзину фасоли, она подумала: «А не снести ли ее начальнику Сяо: пусть покушает свеженького».
Дасаоцза причесалась, надела голубую кофточку, на которой было всего пять маленьких заплаток, и, добавив к фасоли десяток яиц, отправилась в школу.
По дороге ей повстречался Хань Длинная Шея. Он остановился и отвесил почтительный поклон:
— Куда это ты, Дасаоцза?
О Длинной Шее ходила дурная молва, и Дасаоцза хорошо знала, что он бродяга. Бай Юй-шань тоже не раз ей говорил: «Длинная Шея — человек злой и лживый». Но ведь у женщин сердца так отзывчивы на ласку, что достаточно приветливой улыбки да доброго слова, и они сами идут в раскинутые сети.
Не подозревая злого умысла, Дасаоцза простодушно призналась:
— Собралась в бригаду. Они здесь одни, без семьи. Наши места для них чужие, а люди незнакомые. Кто их покормит? Кто о них позаботится? Надо снести молодой фасоли и свежих яиц. Ведь ради нас они приехали и терпят здесь нужду.
— А кто тебе сказал, что они ради нас приехали? — насторожился Длинная Шея.
— Как кто? Муж.
— Да-да… — спохватившись, закивал головой Хань.
— Конечно, ради нас. Это правда…
Длинной Шее было известно все. Знал он и то, что отношения Бай Юй-шаня с женой в последнее время наладились, и это не на шутку беспокоило его. Мир и лад в семье активиста не были ему на руку. Он только искал способа вновь поссорить Бай Юй-шаня с женой, чтобы лишить батрака покоя, мирного сна и оторвать его от дел крестьянского союза.
— Дасаоцза, а ты слыхала, какие ходят разговоры? — тревожным шепотом, желая придать словам больше таинственности, спросил Длинная Шея.
— Какие разговоры?
— Неужели еще ничего не знаешь? Неужели ты… — и он многозначительно умолк.
— Да что такое? Ты скажи! Скажи! — заволновалась женщина.
— Слыхал я, будто начальник Сяо… нет, лучше не спрашивай. Обидно тебе будет…
И повернулся, словно собираясь уйти.
— Постой! Говори, не обижусь. А не скажешь и если что случится — ты в ответе!
— Ой, вижу, что от тебя не отделаешься! — как бы уступая, вздохнул Длинная Шея. — Слушай же: начальник Сяо, видя, что Бай Юй-шань — человек передовой и годами молод, очень полюбил его. А Бай Юй-шань возьми да и скажи ему: «У моей жены такие отсталые взгляды, что мне прямо жить с ней неохота». «Это пустяки, — ответил ему начальник. — Ты работай лучше, а я хорошую девушку тебе сосватаю. И живет недалеко отсюда».
— Кому сосватает? — с дрожью в голосе спросила Дасаоцза. У нее закружилась голова, и в глазах поплыл туман.
— Ясно кому, Бай Юй-шаню.
— О!.. Из какой же деревни девушка?
— Этого уж я говорить не буду…
Дасаоцза круто повернула назад.
— Погоди, — задержал ее Длинная Шея. — Ведь ты хотела сделать начальнику Сяо подарок. Зачем же отказываешься? Начальник Сяо человек хороший и сказал так только потому, что Бай Юй-шань сам жаловался на тебя. Он ни в чем не виноват. За что же лишать его подарка? Давай уж тогда я снесу, если ты раздумала…
— Снести ему? Да лучше я в речку брошу. Отстань от меня!
Она оттолкнула Длинную Шею и быстро пошла домой, негодуя на начальника бригады и кляня неверного мужа.
Бай Юй-шань вернулся в полночь. По дороге он попал под дождь и вымок до нитки.
Света в доме не было. Огонь в печи не горел, и в чугуне ничего не кипело. Муж прошел в восточную комнату, зажег лампу, снял мокрую одежду, разложил сушить на кане, а сам нагишом вернулся в кухню.
Поварешка висела на своем месте. Бай Юй-шань заглянул в котел. Пусто. Раскрыл шкафчик. Пусто и там. Он с шумом захлопнул дверцу, надеясь, что жена проснется и приготовит ему поесть. Но она даже не шевельнулась.
— Куда ты положила яйца? — миролюбиво спросил муж.
— Ага! Тебе еще яйца подавать? — приподнявшись, спросила жена с затаенным бешенством. — Целыми днями и ночами шляешься… Думаешь, я ничего не знаю!
— Ты лучше встань поскорее и приготовь чего-нибудь поесть. Надо спать. Завтра с утра у меня опять дела, — озабоченно говорил Бай Юй-шань.
Найдя корзину с фасолью и яйцами, он подхватил ее и хотел унести в кухню, но Дасаоцза прыгнула и ухватилась за корзину обеими руками:
— Никаких яиц ты есть не будешь!
— Буду! — рассердился Бай Юй-шань.
Слово за слово, и пошла перепалка. Он крепко держал корзину, она вырывала. На мгновение корзина оказалась в руках жены. Тогда муж с силой дернул ее к себе, и яйца посыпались на пол.
Была глухая ночь. Крики далеко разлетались по деревне и разбудили соседей. Те сейчас же прибежали.
— Ладно, ладно, зачем кричать и ругаться? Стоит ли из-за пустяков дружбу терять? — уговаривали старики.
— Да перестаньте. Замолчи кто-нибудь первый, и ссоре конец, — советовали родственники Бай Юй-шаня.
— Будет уж вам! Неужели муж и жена не договорятся по-хорошему? — рассудительно наставляли добрые люди.
— «Одна туча гремит — другая отзывается, а когда муж с женой дерутся — должен кулак на кулак налетать!» Давай крепче! — подзадоривали любители веселых зрелищ.
— Соседи! — причитала Дасаоцза. — Вы мне скажите: откуда такой закон, что он все домашние работы на меня взвалил, а сам по гостям бегает. У кого еще такой муж! Жену заставляет работать, а сам ничего делать не хочет! Только и говорит: куда-то надо идти, кого-то агитировать, где-то добивать каких-то толстопузых, чтобы отомстить за моего маленького Коу-цзы. А сам все врет… Все врет! Посмотри на свою рожу в зеркало? Кто пойдет за такого краба!
— Ах ты, бесстыжая! Брось наговаривать на честного человека! — прикрикнул Бай Юй-шань. Он только сейчас понял, что стал жертвой сплетни. — Кто еще видал такую сумасшедшую бабу: орет ночью из-за всякой ерунды!
Он поднял кулак, думая устрашить этим Дасаоцзу, но та сама бросилась на него.
— Ты еще драться! Так убей меня! — визжала она. — Мой маленький Коу-цзы! Зачем ты меня покинул? Какая злосчастная судьба у твоей бедной матери! Горемычная я, горемычная!..
В этот момент в комнату вошел высокий человек, который схватил Бай Юй-шаня и почти вынес его во двор.
— Идем ко мне, — строго сказал он. — Зачем связался с ней? Только людям на потеху.
Этот великан был одним из самых близких друзей Бай Юй-шаня. Звали его Ли Чан-ю, то есть Ли Всегда Богатый. Такое странное имя он, никогда не имевший гроша за душой, сам себе придумал с единственной целью подразнить бога богатства, обошедшего его дом своими дарами. Однако с того часа, как он изобрел себе такой титул, дела у него пошли еще хуже. Нечего стало варить, нечего было надеть, нечем укрыться в морозные зимние ночи. Лет ему было около тридцати, и четырнадцать из них он отдал тяжелому ремеслу кузнеца. За огромный рост его прозвали долговязым и нередко спрашивали:
— Долговязый, ты полжизни стучишь молотом. Неужели еще жены себе не заработал?
— Кукурузы и той не могу заработать вдоволь. Какая женщина согласится со мной так мучиться! — отвечал Ли не то с грустью, не то с иронией.
Поздней осенью, за год до разгрома японцев, начальник Гун вызвал его к себе и назначил на принудительные работы.
Кузнец спорить не стал:
— Ладно, кто для казны пожалеет своих трудов?
Начальник Гун остался доволен таким скорым и прямым ответом.
— Ты человек, видно, понимающий, и долго разъяснять тебе не придется, — сказал он, разглядывая силача-великана.
— Понимающий, — подтвердил Всегда Богатый.
Начальник Гун велел поскорее собраться, чтобы наутро быть готовым к отъезду.
С вечера до глубокой ночи стучал молот в лачужке кузнеца, мешая спать соседям, а утром дверь оказалась запертой. Зарыв в землю наковальню, мехи, молот и посуду, Всегда Богатый сбежал.
Он прихватил с собой топор и мотыгу, вышел через южные ворота и, отойдя от деревни около двадцати ли, залез под стог гаоляна. Но длинные ноги, не уместившиеся в стоге, вскоре покрылись инеем. Продрогший кузнец вылез из своего убежища и огляделся.
Место ему понравилось, и он решил здесь обосноваться. Срубил несколько деревьев, насбирал соломы и в сосновом лесу построил себе жилье. Днем, опасаясь, что его могут найти, кузнец прятался в чаще, а вечером возвращался в свою хижину.
Осенью в горах еды более чем достаточно. Поспевали дикие яблоки, виноград, ягоды, орехи, грибы.
Случалось, что Всегда Богатый отходил от своего жилья на несколько ли, выискивал мелкие клубни картофеля, не выкопанные крестьянами, собирал початки кукурузы. Когда наступила зима, он ставил силки на фазанов и рябчиков. Однажды выпала ему большая удача: он поймал дикую козу. Из шкуры Ли Всегда Богатый устроил себе постель, а мясом питался целые две недели. Весной появились дикие овощи. Так прожил он почти год и даже поднял кусок целины, посадив немного картофеля и кукурузы.
После 15 августа кузнец вернулся в родную деревню.
Когда в деревне был создан крестьянский союз, Бай Юй-шань предложил Ли стать его членом.
— Дай подумать, — ответил тот.
Он думал целую ночь, а утром зашел к Бай Юй-шаню.
— Брат, замешкался я не потому, что не было охоты участвовать в деревенских делах. Сам понимаешь, не годится плыть по течению. Я хотел сперва своим умом пораскинуть, чтобы мысли сами выползли из головы.
— Какие же мысли у тебя выползли? — улыбнулся Бай Юй-шань.
— Мысли, брат Бай, такие, что вот отрежь мне ножом голову, а я все равно буду с коммунистической партией.
Ли Всегда Богатый вскоре был избран старостой группы.
Приведя Бай Юй-шаня к себе, Ли стал расспрашивать о причинах ссоры.
— Просто не знаю… — замялся Бай Юй-шань.
Ли Всегда Богатый расхохотался:
— Ты все по-прежнему такой же бестолковый: дрался, дрался, а из-за чего и не ведаешь! Смотри, скоро рассветет. Давай подкрепимся чем-нибудь, а потом поговорю с твоей женой. — Понизив голос, он добавил: — Ты, брат Бай, руководитель комитета и передовой человек среди бедняков. Разве годится тебе орать на всю деревню? Ведь люди насмехаться над нами будут. Ну ладно! Поди в огород, нарви огурцов и фасоли, а я тут разожгу огонь и приготовлю чего-нибудь поесть.
После завтрака Бай Юй-шань остался в лачужке, а кузнец отправился уговаривать строптивую жену друга.
Дасаоцза была во дворе. Она, не торопясь, наливала помои в корыто, возле которого весело хрюкал недавно купленный поросенок. Женщина притворилась, что не замечает кузнеца, и, опустив голову, продолжала свое занятие. Золотые лучи утреннего солнца, пронизывая ивовую изгородь, блестели в шпильках, которыми женщина заколола небрежно собранный на затылке узел черных волос.
— Дасаоцза, — позвал кузнец.
Женщина подняла лицо и, сдвинув черные брови, исподлобья взглянула на него. Всегда Богатый понял, что гнев в ней еще не улегся.
— Ай! Что за славный поросенок! — с восхищением воскликнул Ли. — Заколоть к концу года — мяса, наверное, фунтов двести будет.
— М-да, — неопределенно хмыкнула Дасаоцза.
Она негодовала на кузнеца не меньше, чем на мужа: чего сует нос не в свои дела! Взял и увел Бай Юй-шаня, не дав ей расправиться с ним как следует.
Надув губы, Дасаоцза вошла в дом.
Ли Всегда Богатый поспешил туда же.
Ему очень хотелось поскорее уладить дело, но с чего начать?
На кане лежала черная рубашка Бай Юй-шаня. Ли вспомнил, что его друг сидит нагишом, и заволновался.
— Ты знаешь, — с тревогой в голосе начал он. — Бай Юй-шань сегодня ночью попал под дождь, а ночь была такая холодная… Он, должно быть, здорово простудился. Голова у него ужасно болит.
— Пусть хоть помирает, мне не жалко, — процедила сквозь зубы Дасаоцза и взялась за шитье.
Кузнец присел. «С болезнью не вышло, — решил он, свертывая папироску, — придется что-нибудь другое придумывать».
— Дасаоцза…
— Чего тебе?
Кузнец помолчал, не зная, как завязать разговор, и вдруг вспомнил:
— А ведь в позапрошлом году у тебя тоже был поросенок. На сколько же он потянул, когда его зарезали в конце года?
— При чем тут конец года? — оживилась Дасаоцза. — Его еще в начале осени пристрелил Хань Лао-лю.
Она снова подумала о своем маленьком Коу-цзы, и в глазах ее сверкнули слезы.
— Да-да-да, — стукнул себя по лбу Ли, делая вид, что вспоминает что-то, — ведь твой маленький Коу-цзы умер, кажется…
— Умер… И все из-за этого проклятого Хань Лао-лю, — всхлипнула женщина. — В эту старую черепаху давно пора всадить разрывную пулю.
Кузнец тотчас же заговорил о злодеяниях Хань Лао-лю, упомянув и о том, что крестьянский союз призывает бедняков расправиться с помещиком.
— А это как раз то же, что отомстить за твоего маленького Коу-цзы, Дасаоцза, — добавил он.
— Это я все понимаю, — обиженно сказала женщина. — Вот только одного в толк не возьму: зачем он каждый вечер из дому убегает?
— А как же, Дасаоцза? Ведь днем люди в поле, а кроме того, у Бай Юй-шаня есть и другая работа. Ходить по домам, чтобы беседовать с людьми, он только по вечерам и может.
Женщина опустила голову. Ей стало не по себе. Как она поверила человеку, которого презирают все, и главное — с первого слова.
— Ты мне скажи: кто тебе насплетничал про Бай Юй-шаня? — напрямик спросил Всегда Богатый.
Она рассказала все.
— Как же ты могла поверить словам такого человека?
— Но ведь он тоже бедняк… — слабо возразила Дасаоцза уже с единственной целью скрыть смущение и оправдать в своих глазах собственную доверчивость.
— Ты разве из другой деревни приехала, и не знаешь, что это за дрянь?
Лицо ее вспыхнуло от стыда.
— Я думала… раз человек беден…
— Да это же не человек, и слова его не человечьи. Как ты могла поверить, что Бай Юй-шань нечестен, и так обойтись с ним? У него только одно на уме: работать, чтобы всем стало хорошо, бороться с врагами бедняков, а ты его по рукам связала.
— Ладно, хватит уж… — перебила Дасаоцза. — Я его не держу, разве я мешаю ему работать? Во всем виноват этот мерзавец Длинная Шея. У него голова все еще болит?
— У кого у него? Ты про Бай Юй-шаня? Ругать не будешь и голова пройдет, — рассмеялся Ли и встал. — Пойду позову.
Но едва кузнец переступил порог, Дасаоцза окликнула его:
— Погоди, захвати куртку!
После ухода кузнеца Дасаоцза надела халат, старательно причесалась и побежала к соседке занять яиц.
Когда Бай Юй-шань пришел, на столе уже стояла яичница.
После завтрака Бай Юй-шань отправился в поле, а вечером сказал, что идет в бригаду. Дасаоцза опять нарвала фасоли и огурцов, положила в корзину яйца и велела снести начальнику Сяо.
Этой ночью муж вернулся раньше обычного.
В окна струился голубой свет полной луны. Бай Юй-шань прилег на край кана. Так как ночь была душная, он расстегнул куртку.
Только сейчас они вспомнили о ссоре, и муж наставительно заметил:
— Какая же ты ревнивая, ай-яй-яй! Не проверила ничего, не про… фу, чорт! Не проанализировала и… вообще…
Мудреным словам Бай Юй-шань выучился у товарищей из бригады. Но все эти слова были еще непривычны, и поэтому произносить их удавалось с трудом.
XII
В начале августа в бескрайнем зеленом море хлебов уже стали появляться желтые островки. Это были пшеничные поля. Поверхность озер золотилась маленькими цветочками водяного каштана. Вблизи они напоминали плавающие звездочки, а издали выглядели золотистыми коврами, расстеленными среди зеленого бархата тростника.
Дальний южный хребет казался облаком серого дыма, клубящимся над краем земли. В прозрачном воздухе с веселым щебетом носились ласточки.
В дождях недостатка не было, и огороды никто не поливал. По небу то бродили темные тучи, то летели белые облака. Днем, когда проглядывало солнце, становилось так жарко, что лошади начинали задыхаться, а собаки, высунув языки, прятались в тень. К вечеру обычно поднимался ветер. Он шелестел в жестких листьях кукурузы и покачивал изумрудные, уже клонившиеся к земле початки, затем на северо-востоке вставали мрачные, грозовые тучи. Сверкали молнии, рокотал гром, и на землю обрушивался проливной дождь.
Грязь на дорогах не просыхала, и людям приходилось ходить босиком по обочине.
Со времени собрания, на котором судили Хань Лао-лю, прошло уже много дней. Крестьянский союз значительно вырос. Он объединял теперь уже не тридцать семей, а шестьдесят с лишним.
Лю Дэ-шань, когда дождь не давал возможности работать в поле, вместе с другими активистами деревни проводил собеседования бедняков и затем аккуратно и обстоятельно отчитывался перед Сяо Сяном. Всегда Богатый подтрунивал над его усердием, говоря, что Лю Дэ-шань старается совсем не потому, что печется о всеобщем благе, а лишь хочет прослыть активистом и «поймать попутный ветер». Это было очень близко к истине.
Как-то раз, выйдя из школы, Лю Дэ-шань встретил на шоссе Ханя Длинную Шею. Лю Дэ-шань, не успев свернуть в сторону, изобразил любезную улыбку и пошел ему навстречу.
— Ты теперь стал чиновником, — иронически рассмеялся Длинная Шея. — Ты кто же теперь по рангу?
— Брат, время заставляет. Не откажешься, — шепотом ответил Лю Дэ-шань и, как бы оправдываясь, добавил: — Неужели ты не понимаешь?..
Длинная Шея не преминул воспользоваться этой откровенностью:
— Слыхал, что опять затеваете собрание. С кем теперь думаете бороться?
— Не знаю. Ведь я у них только в производственном комитете работаю.
Он, конечно, знал и о собрании, и о том, зачем оно будет созвано, но сказать не решился, смелости не хватило. Попрощавшись, он пошел дальше.
Начальник бригады после своего разговора с Тянь Вань-шунем созвал закрытое совещание членов бригады и активистов деревни. Он предложил разоблачить Хань Лао-лю на общем собрании как убийцу дочери старика Тяня. Все пришли к решению, что помещика необходимо арестовать.
На этот раз его посадили в пустую лачугу с крепкой железной сеткой в окне. Бригада выделила двух своих бойцов с винтовками, а Бай Юй-шань — двух членов крестьянского союза с пиками, и они по очереди охраняли арестованного.
На другой день после завтрака всех бедняков деревни пригласили на собрание. Вооруженный винтовкой, Чжао Юй-линь задерживал у ворот школы родственников и приспешников Хань Лао-лю, пытавшихся пробраться во двор. Бай Юй-шань нес караул на площадке. Го Цюань-хай вытащил из школы стол и установил его в центре площадки.
Крестьяне группками по три-пять человек начали заполнять двор, шепотом переговариваясь и с нетерпением поглядывая на двери школы.
На столбах и на стене были развешаны лозунги: «Долой Ханя Большая Палка!», «Рассчитаемся с помещиками за их кровавые дела!», «Разделим помещичью землю и дома!», «Рассчитаемся с помещиком-злодеем Хань Фын-ци!»
Когда Хань Лао-лю вышел и стал перед столом, Лю Шэн выкрикнул: «Долой злодея Ханя-шестого!»
Во всех концах двора пошли толки:
— Уж на этот раз его обязательно засадят!
— Гляди, гляди! Он весь веревками связан…
— Теперь этого дела так не оставят!
Людей пришло много, но полного единодушия среди них еще не было. Встречались тут такие, которые, правда, и не принадлежали к числу родственников, названных братьев и друзей помещика, но готовы были помочь ему в беде. За этими людьми числились в прошлом кое-какие дела и связи с властями Маньчжоу-го, и они, естественно, опасались, что, если сейчас осудят Хань Лао-лю, впоследствии могут добраться и до них.
Некоторые дрожали при одной мысли, что сын помещика Хань Ши-юань, служивший в войсках гоминдановского правительства, вдруг явится сюда. Он не пощадит тех, кто расправился с его отцом.
Были здесь и просто нерешительные люди. Они в душе ненавидели помещика и одобряли борьбу с ним, но только чужими руками. Сами они предпочитали держать язык за зубами и ни во что не впутываться.
Кроме того, на собрание пробралось все-таки несколько тайных пособников Хань Лао-лю. Они громче всех требовали расправы над помещиком, а под шумок уговаривали людей не выступать против него.
Председательствовал Го Цюань-хай. Сяо Ван и Лю Шэн заняли места справа и слева от него. Начальник бригады, как обычно, расхаживал поодаль и наблюдал за происходящим.
Хань Лао-лю, бледный, стоял перед столом, опустив голову на грудь. Толпившиеся тут же ребятишки с любопытством разглядывали веревки, которыми был связан помещик. Один из мальчуганов, набравшись храбрости, даже спросил его:
— Господин Хань, а где твоя большая палка?
Председательствовавший Го Цюань-хай никак не мог сегодня пристроить свои руки. На него смотрели многие сотни глаз, а он так и не мог придумать, что ему делать со своими руками, и по огненно-красному его лицу градом катился пот. Го Цюань-хай пытался узнать людей, находившихся в первых рядах, но их лица сливались во что-то серое, клубящееся, как дым. В этом дыму ему чудились смутные очертания каких-то чужих лиц, которые беззвучно смеялись над неопытностью председателя.
Приготовленные заранее слова вылетели из головы, и он тщетно старался вспомнить хотя бы одно из них…
Наконец, с трудом ворочая языком, Го Цюань-хай заговорил:
— Соседи… значит… давайте… то есть открываем собрание…
Все молчали, терпеливо ожидая дальнейших слов председателя.
— Так вот… вы, верно, все хорошо знаете, что я… батрак. С малолетства тут… значит… пас свиней, лошадей, а потом батрачил. Говорить я не умею, а вот работать могу… Основа нашего крестьянского союза… это значит — демократия. Всем теперь можно говорить. Сегодня мы сводим счеты с Хань Лао-лю. Мы все его ненавидим и должны говорить, что у кого есть. У кого обида — расскажи, у кого ненависть — отплати. Бояться нечего. Вот…
Хань Лао-лю поднял голову, осмотрелся. Ни родственников, ни друзей, ни Добряка Ду, ни Тана Загребалы — никого! Вдруг он заметил Ханя Длинная Шея и Ли Чжэнь-цзяна, прячущихся в толпе. Но какой от них прок? Сегодня они ни головы поднять, ни рта открыть не посмеют.
«Придется идти на любые условия, лишь бы сохранить жизнь», — подумал он и, приблизившись к самому краю стола, глухо спросил:
— Председатель Го, у меня есть несколько слов. Можно ли сказать первому?
— Не давай ему говорить! — пробасил Ли Всегда Богатый.
— Почему? Пусть говорит! — вступились за помещика доброжелатели.
— У нас ведь теперь демократия, нельзя человеку рот затыкать! — крикнул кто-то и тотчас спрятался за спины людей.
— Говори… — неуверенно разрешил Го Цюань-хай.
— Я, Хань Лао-лю, — начал помещик, — очень дурной человек, и башка моя начинена старыми феодальными понятиями. И все это только потому, что когда я был еще совсем маленьким, моя мать умерла и отец привел в дом мачеху, она меня всегда била и обижала…
В толпе кто-то крепко выругался:
— Не мели языком, сволочь!..
— Не давай ему болтать, что в голову взбредет! — послышался другой негодующий голос.
Го Цюань-хай понял, что допустил ошибку, позволив помещику говорить. Как же остановить его теперь, как заставить замолчать? Ему было неясно: имеет ли он, как председатель, право зажать рот Хань Лао-лю. Го Цюань-хай был в нерешительности, чем тотчас же воспользовался помещик.
— Вот я и говорю, — продолжал он, — моя мачеха так и не дала мне ни спокойно пожить дома, ни поучиться чему следовало. Я сбежал в другую деревню и пошел по дурному пути. Признаюсь вам, соседи, что в одиннадцать лет я, никчемный человек, стал играть в карты, а в шестнадцать лет — гулять с женщинами.
— И много ты их опозорил, пакостник? — с видом сурового разоблачителя спросил из задних рядов белобородый старик.
Кое-кто хихикнул, кто-то сплюнул с досады. Внимание вновь было отвлечено, и боевое настроение снизилось. Друзья и наймиты помещика зашептали:
— Вот видите, он только плохое о себе рассказывает. Знает, что виноват, и теперь обязательно исправится.
— Да у него ведь только земли было много, он ее отдал, а больше нам ничего и не надо…
Напряжение, державшее ряды плотно сомкнутыми, ослабело. Тугое кольцо из человеческих тел раздвинулось и заколыхалось. Го Цюань-хай, видя, что помещик вывернулся, ткнул пальцем прямо ему в нос и закричал:
— Ты не кидайся словами! Дело говори! Рассказывай, как организовывал отряд и в комитете по поддержанию порядка работал!
— Отряд организовал и в комитете работал! Это истинная правда, соседи… — сразу осмелел Хань Большая Палка и с усмешкой глянул на председателя, которого втайне ненавидел. — Ведь все это для людей делалось, чтобы в деревне порядок был.
— Я тебя спрашиваю!.. — прохрипел Го Цюань-хай. — Я тебя спрашиваю: заставлял ты людей собирать деньги, купил на эти деньги двадцать шесть винтовок или нет? Кого ты охранял, какой порядок поддерживал?
Помещик изобразил на лице недоумение:
— Как же это кого, председатель Го? Всех людей охранял…
Го Цюань-хай побагровел:
— Ты всех приходивших в деревню бандитов угощал пельменями и натравливал на крестьян. Это, по-твоему, значит охранять людей?
— Председатель Го, вы меня обижаете. Пусть люди сами скажут.
Толпа вдруг заколыхалась. Это Ли Всегда Богатый, засучив рукава, раскидывал людей в стороны, бережно ведя перед собой маленького седого старичка.
— Старина Го, дядюшка Тянь слова просит, — крикнул кузнец.
Старик Тянь скинул шляпу и судорожно смял ее в руках. Глаза старика со страхом и ненавистью смотрели на Хань Лао-лю. На обожженном солнцем старческом лице блестел пот, а тщедушное тело тряслось, как в лихорадке.
— Товарищ председатель Го, я хочу рассказать… отплатить за обиду… — Он с мольбой перевел глаза на Лю Шэна, потом на Сяо Вана, ища у них поддержки, и робко добавил: — Вот прошу товарищей быть судьями в моем деле…
— Ты говори всем людям, пусть они судят, — мягко и участливо ответил Сяо Ван.
Старик обернулся к толпе, поклонился, затем опять боязливо покосился на помещика и дрожащим голосом начал:
— Вот когда приехал я в эту деревню, в семье у меня было трое. Арендовал у тебя, Хань Лао-лю, пять шанов земли и никудышную лачужку. Да ты и из нее меня выгнал на улицу. Тогда я сказал тебе: «Господин, я бы сам построил лачугу, только места не найду». Тогда ты вдруг добрым прикинулся и стал говорить: «Дело нетрудное. Около моей конюшни как раз есть место: подойдет — стройся. Аренды с тебя не возьму. Построй трехкомнатный домик и живи себе». Я этим твоим словам будто небесному пророчеству поверил и еще старухе своей сказал: «Это прямо божеская милость, что попался такой добрый хозяин». Ну вот, всю зиму того самого года я под снегом и ветром на своей корове лес с сопки возил. А зима, все помнят, была лютая. Как-то раз навалил я воз и стал спускаться с сопки, а тут, на беду, корова моя поскользнулась, воз в овраг опрокинулся, и она за ним. Хорошо еще, что нашлись добрые люди, которые помогли телегу вытащить и корову подняли. Она, бедная, рог себе сломала…
Из толпы крикнули:
— Старина Тянь, нельзя ли покороче!
— Кто кричит? — строго спросил Го Цюань-хай. — Старина Тянь, ты не слушай. Рассказывай все, как было.
— Так вот… а в то время твой брат Хань-пятый был самый старший в лесной компании. Понадобилось ему лес японцам поставить. Я всю зиму для себя трудился, а он весь мой лес заграбастал и японцам отдал. Моя старуха после того всю ночь проплакала. На другой год опять я целую зиму возил лес, кирпичи делал, да купил кой-чего для постройки дома. Все припас. Лишь на третий год смастерил себе домик. А как перебрался в него со всей семьей на жительство, ты в тот же день велел своему управляющему Ли Цин-шаню поставить в мой дом, вместо того, чтобы в конюшню, трех лошадей. Пришел Ли Цин-шань и говорит: «Лошади захворали и не могут в конюшне стоять. Господин велел, чтобы они временно у тебя побыли». Три года я строил, еще даже кана не успел сложить и дверей навесить, а ты ни трудов, ни старости моей не пожалел и превратил дом в конюшню! Старуха на коленях просила тебя и твоего сына не поганить лошадьми людского жилья. А твой сын пнул ее ногой и изругал еще: «Старая развалина, забыла, что ли, на чьей земле дом стоит! Будешь выть, совсем из дома выгоним…»
Старик остановился, вытер глаза иссохшими пальцами и продолжал:
— Три года, можно сказать, вил себе гнездо, а что получилось? Ну ладно! Пусть уж это моя судьба! Но ведь ты и дальше принес нам несчастье. Пришел посмотреть на лошадей, а вместо них на дочку мою Цюнь-цзы загляделся. Ей тогда было всего шестнадцать лет. Помнишь, как приставал к ней, а когда она прогнала тебя, так ты сразу же: «Ломай дом, мне место понадобилось. Не станешь ломать — дочку заберу». Привел своих бандитов и забрал ее, грабитель!
По темному лицу старика потекли слезы.
Кольцо вновь сомкнулось. Люди придвинулись к столу. Толпа напряженно ждала, кто-то крикнул:
— Долой злодея Хань Лао-лю!
— Четыре человека потащили Цюнь-цзы, — снова заговорил старик Тянь, — привязали к стойке, там, где табак сушат… раздели донага и стали бить ивовыми прутьями… Кровь ручьями так и лилась…
Толпа заволновалась.
— Бей его! Бей! — закричали со всех сторон.
Под ноги Хань Лао-лю упал камень. У помещика затряслись колени. Люди только этого, казалось, и ждали. Накопившаяся за долгие годы ненависть вдруг сразу прорвалась в истошном крике сотен голосов:
— Убить его! Убить!
Кто-то подскочил к помещику и изо всей силы ударил его по лицу.
— Молодец! Хорошо! Еще дай ему!
Человек снова размахнулся. Из носа Хань Лао-лю брызнула кровь. Но увидев кровь, толпа притихла. На лицах женщин появилось сочувствие.
Хань Лао-лю открыл глаза. Перед ним стоял Ли Чжэнь-цзян. Ноздри его раздувались, волосы были взъерошены. Помещик сообразил, в чем дело, и еще ниже опустил голову, чтобы кровь полилась как можно сильнее.
Толпой овладело какое-то странное оцепенение, словно произошло что-то такое, чего совершенно не ждали. Хотя несколько голосов и выкрикнуло «бей!», никто не двинулся с места.
Старик Тянь, увидев кровь, попятился.
— Говори, старина Тянь, говори! — ободрил его Го Цюань-хай.
— Больше мне, председатель, говорить нечего, — пробормотал старик… — Сам видишь, как все обернулось…
Ли Чжэнь-цзян как будто нечаянно оттолкнул старика плечом и заслонил собой Хань Лао-лю. К Ли Чжэнь-цзяну подоспел белобородый.
— Тянь Вань-шунь целиком с тобой рассчитался за свою обиду… — торопливо, словно боясь, что его остановят, заговорил Ли Чжэнь-цзян. — Я тоже работаю на твоей земле, и мне тоже пора посчитаться с тобой. Вот я тебя ударил. Ты скажи теперь всем людям, понял ты, за что я тебя ударил, или не понял?
— Понял, понял… — смиренно подтвердил помещик.
Шмыгая носом с видом наказанного ребенка, он терся лицом о связанные руки, размазывая кровь, стараясь вызвать к себе сострадание. Он ясно видел, что враждебное возбуждение толпы уже улеглось, и в устремленных на него глазах читал любопытство, страх и даже участие.
Лиц, искаженных гневом и ненавистью, было, действительно, совсем немного. Некоторые почувствовали себя удовлетворенными и восхищались: «Крепко стукнул, молодец Ли Чжэнь-цзян!» Другие начали подбираться к воротам, чтобы при случае незаметно ускользнуть: как бы не впутаться в какое-нибудь дело и не нажить себе неприятностей.
Ли Чжэнь-цзян продолжал:
— В том году, когда ты был старостой деревни, японцы собирали битую посуду. Помнишь, ты пришел ко мне, а я сказал, что битых чашек у меня нету. Так ты все-таки стал требовать, где хочешь достань, а принеси, и еще мне денежным штрафом грозил. Вот и скажи: было такое дело или я, может быть, вру?
— Было, брат Ли! Истинная правда, — ответил Хань Лао-лю. — Да разве уж я теперь не сознаю, что человек я очень плохой и скверных дел за мной немало. А из-за чего это, дорогие соседи? Из-за того только, что на плечах у меня вот эта старая проклятая башка! Лишь она виновата в том, что я обижал и угнетал людей. Сейчас демократическое правительство проводит справедливую политику. Поэтому прошу у вас даровать мне милосердное прощение и сохранить мою ничтожную жизнь, чтобы я мог исправиться и искупить вину перед людьми. Если же я и в дальнейшем не исправлю своих ошибок, не буду работать на благо бедняков и не пойду по революционному пути вместе с начальником Сяо, пусть застрелят меня разрывной пулей!
— Ты далеко не загадывай! — оборвал Ли Чжэнь-цзян. — Мы таких речей от тебя немало наслушались. Тебе председатель Го велел, чтобы ты только дело говорил. Вот и скажи, что нам сделать с тобой за твои злодеяния. Выбирай! Чтобы тебя избили, оштрафовали, разделили твое имущество или упрятали в тюрьму?
— Да разве могу я выбирать? Не от меня это зависит, — Хань Лао-лю с трудом подавил радостную улыбку. — Пусть люди решат, чего они хотят. Ведь со мной, злодеем, уже не в первый раз борются. Мне просто неприятно, что я затрудняю наших товарищей из бригады и отрываю у них и у вас драгоценное время. Сердцу хотя и обидно, однако на судьбу жаловаться не смею. Делал ошибки, вот и расплачивайся теперь.
— Оштрафовать его на сто тысяч, и все тут! — закричал белобородый.
— Пусть отдаст еще те двадцать шанов земли, которые мы ему оставили, — прибавил Ли Чжэнь-цзян.
Присутствующие, перебивая друг друга, принялись обсуждать эти предложения. Одни кричали, что надо выгнать помещика из большого двора, другие требовали отправить его в уездную тюрьму, третьи возражали: раз оштрафуют и разделят землю, зачем же сажать в тюрьму?
Те, кому очень не терпелось уйти, сочли момент вполне подходящим и выскользнули за ворота.
Первым заторопился домой Лю Дэ-шань. Чжао Юй-линь остановил его:
— Ты куда?
— Видишь ли, старина Чжао, вчера зашел ко мне один родственник. Должно быть, выпили лишнего. Сегодня башка так трещит, что сил нет. Надо пойти домой, прилечь.
Многие сказались больными и тоже последовали за ним.
Возчик Сунь на этот раз не ушел, но и звука не произнес на собрании. К концу, когда школьный двор уже порядком опустел, он облюбовал себе местечко около стены и присел отдохнуть.
— Почему ж ты ничего не сказал? — спросил его подошедший Сяо Сян.
— Что ж говорить? И без меня уж там достаточно наговорили…
— А как по-твоему, с каким умыслом Ли Чжэнь-цзян ударил Хань Лао-лю?
Старик Сунь прищурил глаз и ухмыльнулся:
— Раз борешься со злодеем, как же его не бить?
— Ты думаешь, это он всерьез?
— Кто их там разберет? Они люди свои: один — хозяин, другой — компаньон, а «Историю троецарствования» оба наизусть знают. Если посчитать это за удар, то выходит, вроде как Чжоу Юй бьет Хуан Гая: один бьет, а другой только того и ждет, и оба довольны.
Сяо Сян прошел в первые ряды. Посоветовавшись с членами бригады, он подозвал Го Цюань-хая, Чжао Юй-линя и Бай Юй-шаня.
— Собрание на этом закончим, — объявил крестьянам Го Цюань-хай. — Погода сегодня хорошая, люди торопятся убирать пшеницу. Как же все-таки поступим с Хань Лао-лю? Вносите предложения.
Кругом зашумели.
— Посади его, потом будем разговаривать!
— Нет, нет! Пусть лучше кто-нибудь из его семьи принесет сто тысяч и уплатит штраф!
— И поручителя представит! — раздались голоса.
— А как все на это смотрят? — снова спросил Го Цюань-хай.
— Ладно, будут деньги и поручитель — отпустим помещика! — крикнул кто-то.
Остальные не возражали: людям хотелось скорее разойтись по своим делам.
— Старина Тянь, а ты как смотришь? — обратился Го Цюань-хай к Тяню.
Тот опустил голову и ничего не ответил.
— Так как же, старина?
Старик вытер рукавом нотный лоб и глухо ответил:
— Что же я скажу… у меня больше ничего нет. Как порешили, так пусть и будет.
XIII
Еще до обеда управляющий поместьем Хань Лао-лю внес сто тысяч штрафу, а Добряк Ду и Тан Загребала выступили поручителями.
Хань Лао-лю опять отпустили.
Деревенские активисты были озадачены и разочарованы. Когда они шли на собрание, сомневались в своей победе, а когда расходились, окончательно в ней разуверились. Все с тревогой спрашивали друг друга и самих себя: «Что же будет дальше?»
Люди были так взвинчены, что швыряли все, что попадалось под руку, нещадно били скотину и ссорились из-за пустяков. Некоторые не пошли в поле, завалились на каны и молча глядели в потолок.
Возчик Сунь чувствовал себя посрамленным. Уходя на собрание, он тоном, не терпящим возражений, заявил старухе, что на этот раз он и начальник Сяо наверняка покончат с помещиком… Домой возчика не тянуло: старуха опять станет посмеиваться и еще скажет по своему неразумию что-нибудь совсем обидное. Поэтому старик пошел в бригаду и без обиняков заявил:
— Ты меня уволь, начальник Сяо. Не могу я больше служить в активистах. Чин у активиста совсем маленький, а расстраиваешься прямо не по-человечески.
— Активист, — спокойно пояснил ему Сяо Сян, — не чиновник, а передовой человек, который ведет за собой других, смело действует и мужественно отвечает за свои поступки. Если не хочешь быть таким передовым человеком — дело твое, старина Сунь. Никакого отказа не требуется. Просто не приходи, и всё.
— Я, начальник Сяо, не про то: приходить или не приходить. Уж раз пошел с вами, не стану же теперь на полпути скидывать туфли и упираться. Только неладно у нас с тобой получилось. Что теперь будем делать?..
Начальник бригады постарался его успокоить и просил помочь:
— Обойди соседей, старина Сунь, побеседуй да растолкуй им как следует, что помещичья сила существует на свете много веков и за полдня ее, конечно, не уничтожишь. Чтобы разрушить эту силу, надо всем подняться на борьбу.
Лю Шэя был раздосадован не меньше старика Суня, но, взяв себя в руки, молчал. Он сидел на столе у окна и в десятый раз перечитывал какой-то роман.
Сяо Ван, убежденный, что помещика давно пора прикончить, предложил начальнику бригады:
— Сходи поговори с Чжао Юй-линем. Как он там думает: будем выводить Хань Лао-лю в расход? Или, может быть, на семена оставим?
Сяо Сян отрицательно покачал головой:
— Нельзя считаться с мнением только отдельных активистов. Надо, чтобы массы сказали свое слово. Надо их воодушевить на это. Чем шире развернем мы среди них движение, тем будет лучше. В борьбе за власть следует привлекать как можно больше народу. Недаром говорится, что сотня простых людей стоит одного гениального Хань Синя[19].
Сяо Ван, хотя сердце его и противилось освобождению Хань Лао-лю, на этот раз спорить не стал.
Начальник бригады тоже был расстроен. Наблюдая за крестьянами, когда они уходили с собрания, он видел на лицах смятение, безнадежность, неверие в свои силы. Но он никогда не отчаивался, был человеком настойчивым, привык добиваться решения самых трудных вопросов. Сяо Сян не терпел ни пустой болтовни, ни фантазерства, не любил он напрасной траты времени.
После ухода возчика он созвал короткое совещание членов бригады и, подытожив опыт работы последних дней, заявил:
— В дальнейшем такие собрания приобретут более ожесточенный характер. Нам следует быть внимательными и осторожными и в то же время как можно шире развертывать разъяснительную работу, тщательнее изучать положение в деревне, зорко следить за деятельностью врагов народа. Ты, Лю Шэн, отложи пока свою книжку в сторону и пойди разузнай, что поделывает Ли Чжэнь-цзян. А ты, Сяо Ван, не ворчи! Отправляйся лучше к Чжао Юй-линю. А я пойду к старику Тяню. Он кое-чего не досказал. Нужно заставить его выложить все, чтобы использовать этот материал против Хань Лао-лю. Будем заниматься каждый своим делом.
Взяв с собой Вань Цзя, он отправился к старику Тяню.
Тянь Вань-шунь резал на дворе солому и, завидев гостей, выбежал встречать их за ворота.
Дом старика был совсем еще новый, но западная комната, из которой помещик уже вывел своих лошадей, выглядела настоящей конюшней. Штукатурка обвалилась, двери были все изгрызаны. На полу лежал навоз. Мухи носились тучами. Для того чтобы здесь жить, надо было как следует все отремонтировать.
Тянь Вань-шунь пригласил гостей в восточную комнату. На кане сидела седая слепая старуха, одетая в залатанный голубой халат, и наощупь сучила конопляное волокно.
Старик Тянь с гордостью объяснил ей:
— К нам пришел начальник Сяо.
— А… а… начальник Сяо! — обрадовалась слепая.
Обернувшись на голос, она вся потянулась вперед, щуря мутные глаза, словно хотела разглядеть начальника бригады. Потом суетливо вытерла рукавом край кана и заботливо пригласила:
— Садись, товарищ, садись. Ты поистине наш благодетель и спаситель! Ведь как только вы приехали, помещик сразу же увел отсюда лошадей.
Она пошарила руками по кану и, нащупав Сяо Сяна, вполголоса заговорила:
— Этот Хань Лао-лю не человек, не человек!.. Это сам князь преисподней. Убейте его, освободите людей из-под страшной власти!
Старуха пошарила на полочке и достала коробку с табаком:
— Покури, покури, наш заступник…
Тянь Вань-шунь зажег пучок соломы и бережно, обеими руками поднес Сяо Сяну. Тот прикурил, стал расспрашивать про помещика и наконец упомянул об их дочери.
Старик остановил его глазами, умоляя не говорить об этом, но старуха уже услышала.
— Ты про дочку нашу спросил, товарищ? Она умерла, бедняжка, умерла…
Из глаз старухи потекли слезы.
Старик Тянь прикрикнул на жену:
— Смотри у меня! Начальник Сяо пришел навестить нас, а ты опять со своими слезами!
— Ах!.. — вздохнула старуха, вытирая глаза узловатыми пальцами. — Дочка моя — несчастное дитя…
— Пойдем, начальник Сяо, погуляем, а то начнет она плакать, так конца этому не будет, — предложил Тянь Вань-шунь.
— Вот уже три года плачет, — со вздохом сказал старик, когда они вышли за ворота.
— Отчего она ослепла? — спросил Сяо Сян.
— А кто ж ее знает! Может и от слез. Беда на нас свалилась… Был сын, и тот умер. Вот это уж действительно жалко. Вспомнишь, так тяжело станет, что и самому жить не хочется. Хотя бы дочка жива осталась, и то нам, старикам, было бы легче…
— А отчего дочь умерла?
— Пойдем, начальник, к северным воротам, там и поговорим.
Косые лучи солнца скользили по поверхности реки, и на воде трепетали ослепительные блики. У берегов река зеленела зарослями тростника. Цвели водяные каштаны. Над водой стремительно носились ласточки. В воздух поднимались цапли и, описав круг, снова опускались в камыши. На противоположном берегу пестрели возделанные поля, по этому берегу раскинулись заливные луга.
Тянь Вань-шунь привел своих гостей к маленькому холмику, затерянному среди густо разросшейся полыни. Это была могила Цюнь-цзы. Они присели на траву, и тут старик досказал последнюю трагическую главу жизни дочери.
Хотя помещик и увел Цюнь-цзы к себе, она наотрез отказалась стать его любовницей. Он пробовал действовать лаской, потом угрожал, но девушка осталась непоколебимой. Тут Хань Лао-лю узнал, что у нее есть жених, и его соглядатаи донесли ему, что человек этот скрывается в деревне и ведет работу в пользу антияпонской партизанской армии. Хань Лао-лю рассвирепел, стал требовать, чтобы Цюнь-цзы выдала жениха, и, так как она молчала, решил заставить девушку заговорить под пыткой. Ее раздели и привязали к столбу.
— А ее жених действительно был связан с антияпонской армией? — спросил Сяо Сян.
Старик Тянь оглянулся по сторонам и вполголоса ответил:
— Да, был… был… Цюнь-цзы, конечно, знала об этом, только она не указала места, где он скрывался, и даже под пыткой не назвала его имени.
— А как его фамилия?
— Фамилия его была Чжан Дянь-юань… И вот Хань Лао-лю бил и мучил Цюнь-цзы до полуночи, а потом прогнал. Не знаю, как она до дому добралась! Упала на кан, и уж не встала больше. Сначала только плакала да кричала от боли, а потом, смотрим, кровью харкать начала. Недели через две и померла.
— А где теперь Чжан Дянь-юань?
— В ту самую ночь она попросила меня предупредить Чжана, чтобы он уходил. И он ушел, а где теперь, не знаю. С той поры вестей о нем не было.
Они встали. Сяо Сян с грустью посмотрел на могилку, потом участливо похлопал старика по плечу и утешил как мог. Тронулись в обратный путь.
— Цюнь-цзы была примерной дочерью. Тебе надо отомстить за нее. Ты только не бойся, старина Тянь, — сказал по дороге начальник бригады.
— Да я не боюсь, чего теперь бояться…
Когда Сяо Сян и Вань Цзя подходили к школе, над домами и лачугами уже вился дымок. Люди готовили ужин. Сяо Ван и Чжао Юй-линь поджидали возвращения товарищей.
— Вот привел Чжао Юй-линя, — сказал Сяо Ван. — Беседовали мы с некоторыми активистами. Люди многим интересуются, а что делать, не знают. Надо бы с ними какие-нибудь собеседования проводить.
— Это дело хорошее. Вот сейчас и обсудим, — ответил начальник бригады.
Они совещались до поздней ночи. В заключение Сяо Сян поставил три основные задачи: расширить крестьянский союз и привлечь в него как можно больше новых членов; систематически проводить собеседования с бедняками, выявляя нужды населения, разъясняя смысл борьбы с помещиками и разоблачая врагов народа; организовать собственный отряд самообороны.
Вскоре кузнеца Ли избрали руководителем комитета безопасности. Бай Юй-шань отвечал теперь только за работу военного комитета. Ненадежного Ли Дэ-шаня вывели из производственного комитета. Место его оставалось не занятым — организация производства не являлась пока таким уж срочным делом.
Чжао Юй-линь внес предложение вручить полученные от Хань Лао-лю сто тысяч Ли Всегда Богатому, чтобы тот закупил железа и немедленно изготовил пики для бойцов отряда самообороны.
— Сегодня же ночью начну, — пообещал кузнец.
С этого времени днем в тени деревьев, а по вечерам почти в каждой лачуге стали собираться на собеседования группы крестьян. Если появлялся чужой, разговор разом стихал и приспешникам Хань Лао-лю так и не удавалось разузнать, что это были за собрания.
Собеседования проводили активисты крестьянского союза. На этих собеседованиях в тесном кругу созревали планы борьбы с помещиком. Активисты, проводившие собеседования, отчитывались в своей работе перед начальником бригады и председателем крестьянского союза.
Хань Лао-лю готов был заплатить любую цену, чтобы только узнать, что там говорилось. Но его приспешники и агенты не в силах были ему помочь. Им не удавалось проникнуть на собеседования. Кроме того, за некоторыми агентами было уже установлено наблюдение.
Лю Шэн случайно обнаружил, что между Ли Чжэнь-цзяном, Ханем Длинная Шея и белобородым стариком существует связь. Вышло это так. Проходя однажды вечером мимо деревенской кумирни, Лю Шэн заметил в ее окне слабый свет. Он завернул во двор и увидел через окно Ли Чжэнь-цзяна и Ханя Длинная Шея, которые оживленно о чем-то беседовали. Белобородый старик тоже был здесь. Установить, о чем шел разговор, Лю Шэн не успел. Они заметили, что во дворе кто-то есть, и поспешили выйти. Лю Шэн перебросился с ними несколькими фразами о погоде и состоянии здоровья, вернулся в школу и сообщил об этой встрече начальнику бригады.
Оказавшийся здесь кузнец Ли добавил:
— Они старые приятели. В ту пору, когда Хань Лао-лю был председателем временного комитета по поддержанию порядка, в доме, где помещалось прежде «Общество гармонии», начал работать комитет гоминдана. Этот Хань Длинная Шея и Ли Чжэнь-цзян частенько заглядывали туда. Там они, должно быть, и спелись.
— А Белая Борода тоже там бывал? — спросил Сяо Сян.
— Нет, Белая Борода раньше состоял членом другого общества, и его почтительно называли господином Ху.
— Надо строго следить за ними, — сказал Сяо Сян.
После этого случая за Длинной Шеей и Ли Чжэнь-цзяном была установлена слежка. Они уже не могли больше ничего выведывать у крестьян и должны были избегать открытых посещений большого двора. Так Хань Лао-лю потерял свои «глаза и уши».
Почва заколебалась под ногами помещика. Могучие стены и сторожевые башни, так долго охранявшие его дом, семью и богатства, перестали служить защитой. Они грозили развалиться и обрушиться ему же на голову. Хань Лао-лю испытывал такую тревогу, какой не знал никогда. Он не спал ночами, бродил до утра по пустынному двору и курил одну папиросу за другой.
XIV
В конце августа заканчивалась прополка, и, как говорят маньчжурские крестьяне, наступила пора «вешать мотыгу». Так как в этом году часто шли дожди, люди сидели дома и занимались разными делами: штукатурили стены, перекладывали каны, чинили амбары, готовились к осенней уборке.
Это было наиболее подходящее время для развертывания массовой работы. Однако положение оставалось неопределенным.
Вздорные слухи сеяли в сердцах крестьян тревогу и сомнения и поэтому собеседования проводились не так регулярно как раньше.
Бригада получила предписание уездного комитета:
«Развертывайте работу. Быстрее делите землю».
День и ночь происходили совещания. Сяо Сян за эти две недели так много работал, что ему некогда было даже побриться. Он похудел, лицо его потемнело от переутомления. Однако, несмотря на усталость и постоянные заботы, настроение его было по-прежнему бодрым.
На одном из последних совещаний начальник бригады решительно заявил:
— Надо сейчас же конфисковать у Хань Лао-лю и других помещиков землю, дома, скот и все раздать, сделать для крестьян как можно больше хорошего, чем больше и быстрее, тем лучше.
— А как быть с посевами? — спросил Лю Шэн.
— Посевы пойдут вместе с землей. Кому земля, тому и посев. Это совершенно ясно.
Была создана комиссия по разделу земли. Подсчитали количество людей, размеры посевной площади и определили: каждому едоку достанется полшана. Тому, у кого есть лошадь, нужно предоставить отдаленные участки, безлошадным — близлежащие.
Разбившись на группы, комиссия начала работу.
Группа, которой руководил Го Цюань-хай, образцово провела раздел земли, закончив его в пять дней. Члены ее вышли в поле вместе с крестьянами, выделили каждому участок и расставили вехи.
Но не все крестьяне поняли назначение этих вех.
— И на что нам такое нужно? — ворчал один старик. — Ведь мы односельчане. Не знаем разве, где чья земля находится?
— Вехи обязательно надо ставить, — втолковывал ему Го Цюань-хай, — а то придет время делить урожай, все и передеретесь.
Один старый батрак по фамилии Чу совсем отказался брать землю. Го Цюань-хай убеждал его целую ночь. Наконец Чу признался:
— Видишь ли, председатель, землю взять, конечно, хочется, земля — это наша жизнь. Как не взять? А все же боязно…
— Чего тебе боязно? — спросил Го Цюачь-хай.
— Не стану врать тебе, скажу начистоту. Боязно, брат! Бригада, я думаю, долго здесь не просидит. Придут гоминдановские войска да как отхватят нам головы по плечи, что тогда?
— Ты, старина Чу, не бойся. Бригада отсюда не уйдет, а если уйдет, ты ко мне приходи за подмогой.
— К тебе? А что же ты за крепость? — рассмеялся старик.
— Крепость не крепость, а вот если ты ко мне придешь, я — к другим беднякам, возьмемся за руки и такую организацию создадим, которая станет крепче чугунного котла. Чего нам бояться тогда? Ты слыхал, как председатель Чжао говорил: «Если бедняк помогает бедняку, они сильнее князя». Мы, бедняки, и есть настоящие князья Маньчжурии. Сумеют войска гоминдановского правительства добраться до нас — пусть добираются. Придет один — поймаем его, придут двое — поймаем обоих. Начальник Сяо всем объяснял, что Восьмая армия во Внутреннем Китае таким вот манером и разбила японцев.
Слова эти убедили Чу, но лишь наполовину. Го Цюань-хай понял это и вонзил острие своих доводов в самое чувствительное место:
— Сейчас, брат Чу, в Восьмой армии много людей.
— А сколько в ней? — оживился тот.
— Начальник Сяо говорит, что Мао Цзе-дун послал во Внутренний Китай и в Маньчжурию три миллиона солдат.
— Три миллиона?! — удивился Чу. — Вон какое дело! Что ж, председатель Го, я словам твоим верю. У меня в семье шесть едоков, давайте три шана хорошей земли.
— Дадим обязательно, но только хорошей-то уже нет.
Однако при разделе Го Цюань-хай выделил Чу наиболее близкий к деревне участок. Батрак был очень доволен.
Когда подводили итоги, начальник бригады отметил:
— Заместитель председателя Го сумел увязать раздел земли с воспитательной работой. В этом — основная причина его успеха.
В группе, которой руководил Братишка Ян, картина получилась совсем иная. Когда утром крестьяне пришли с вехами в харчевню, где жил Ян, он долго беседовал с ними на разные темы, не имеющие к разделу земли никакого отношения, и лишь под конец сказал:
— Так вот, ребята, значит бригада раздает всем землю, каждому по полшана. Понятно? Кому какая земля приглянется, такую и бери. Говорите, кому что?
Все молчали.
— Почему же вы молчите? Или зубы вам повырывали и вы рта раскрыть не можете? — проворчал обиженный Братишка Ян.
Прошло немало времени, прежде чем один из стариков поднялся и нерешительно проговорил:
— Если бригада раздает землю даром, чего же тут выбирать? Где дадут, там и ладно. Какие еще могут быть рассуждения?
— А если кто станет рассуждать за спиной? — спросил Братишка Ян.
— Ручаюсь, что не станет. И землю глядеть не надо, да и вехи ставить незачем.
— Братишка Ян, ты бы сам поделил. Чего попусту время терять?
— Ладно! — охотно согласился тот. — Если вы мне доверяете, так и сделаем. У кого лошадь — дадим подальше.
— Как скажешь, так и будет, чего там…
— Урожай с участка пойдет тому, кому земля достанется, но только смотрите, чтобы потом драки не было.
— Какая такая драка? Все односельчане. Неужели не поладим?
— Ну, тогда все. Расходись, ребята. У каждого есть дома дела, — милостиво отпустил их Братишка Ян.
— Правильно! Член комитета Ян действительно толковый парень, — решили крестьяне.
Они разошлись, а оставленные тридцать вех очень пригодились повару харчевни на растопку.
В тот же вечер Братишка Ян попросил своего хозяина зажечь керосиновую лампу и помочь ему в важном государственном деле. Они долго вполголоса совещались. Наконец Братишка Ян не выдержал и завалился спать, а хозяин харчевни до полуночи просидел за конторским столом.
Утром Братишка Ян, веселый и довольный, примчался в бригаду и подал Сяо Сяну поименной список.
— Землю вчера поделили. Кому что пришлось, здесь все написано, — отрапортовал он.
— Что-то быстро, — удивился начальник бригады.
Он с любопытством оглядел франтоватый прямой пробор на голове Яна, повертел в руках список и нахмурился:
— Ты кому же этот торговый счет составил? Разве это похоже на земельную ведомость? Кто писал?
— Хозяин харчевни писал по моим указаниям. Мы с ним все изучили как следует быть и…
— А сам-то ты грамотный?
— Немножко грамотный.
Начальник бригады прочел список и остановился на фамилии Чжан Цзин-сяна.
— Приведи мне сюда этого Чжан Цзин-сяна, — приказал он.
— Сейчас!
Пробежав полдороги, Братишка Ян остановился и задумался: «Как же быть теперь? Наделали дел! Бросить все и скрыться, что ли? Ладно, подучу парня. Он сговорчивый…»
Найдя Чжан Цзян-сяна, он заторопил:
— Иди скорей к начальнику Сяо. Поблагодари и скажи: землей доволен. А про вехи — ни слова! Понял? Главное — поблагодари…
— Не беспокойся, — обнадежил Чжан. — Обязательно поблагодарю.
Он прибежал, торопливо поклонился начальнику бригады и сказал, как велел ему Ян:
— Все благодарим начальника Сяо за землю. Моя семья, начиная с прадеда, своей грядки никогда не имела. Сейчас получили полтора шана. Премного благодарны.
— А хороша ли земля?
— Лучше и не надо, начальник. На каждом шане по девять грядок, ровная, как ладонь, и совсем близко. Такую, если бы и захотел, так не нашел бы, а тут задаром досталась.
— А где твоя земля? На каком расстоянии от деревни?
— Расстоянии?.. Расстоянии, можно сказать, недалеком. Пройди несколько шагов, тут она и есть…
— Да где, в конце концов? Чья эта земля была раньше?
— За северными воротами, там вот… на берегу речки. А была она помещика Ду.
— Так. Помещика Ду, говоришь?
— Его самого.
Начальник бригады, с трудом удерживаясь от смеха, достал из кармана список и громко прочел:
«Чжан Цзин-сян получил полтора шана земли из владений помещика Хань Лао-лю на равнине за южными воротами».
Все захохотали. Чжан Цзин-сян струсил, но, видя, что начальник бригады смеется, успокоился и чистосердечно признался:
— Я не виноват, начальник, не виноват. Это Братишка Ян научил: «Пойди, говорит, в бригаду, непременно поблагодари, а про то, что вехи не втыкали, молчи». Брат Ян! Брат Ян! — крикнул он.
— Подожди кричать. Твой Братишка Ян давно уже смылся! — расхохотался Вань Цзя.
— Как же такое получилось?.. — совсем растерялся Чжан Цзин-сян. — Выходит, что Братишка Ян, сняв туфли, по сухому месту прошел, а меня в грязь столкнул?.. Начальник Сяо, накажи как хочешь, только я ни при чем…
— Ладно, — миролюбиво ответил Сяо Сян, — ты действительно не виноват. Землю в вашей группе придется переделить заново. Вань Цзя! Сходи к председателю Чжао и скажи, чтобы он сам занялся этой группой.
Начальник бригады спрятал список и обратился к вошедшему седому старику:
— Чего тебе, старина?
— Да вот, начальник, все говорят, будто бригада скоро уезжает. Я и пришел узнать, так это или нет.
— Кто тебе сказал?
— Да вся деревня говорит…
— Старик, ты им всем передай, что бригада не уедет, а Восьмая армия никогда не побежит. Уедем только тогда, когда уничтожим помещичью силу в деревне и устроим крестьянам хорошую жизнь. Так и скажи, чтобы были спокойны.
Часа через два пришел Чжао Юй-линь. Вид у него был озабоченный.
— Прямо не знаю, что нам делать с этим Яном, — проговорил он, присаживаясь на корточки и раскуривая свою трубку. — Устроили мы совещание членов крестьянского союза и порешили было убрать его из комиссии, а он возьми и расплачься. Говорит, осознал ошибки и теперь исправится.
— А каково общее мнение членов союза? — спросил начальник бригады.
— Да общее мнение такое: Братишка Ян сам крестьянин и надо его простить на этот раз и посмотреть, исправится или нет. Не знаю, как ты распорядишься, начальник.
— Если это мнение всех, пусть будет так, — ответил Сяо Сян. — Только научи его работать. А ты-то сам взял себе землю?
— Я? Уж если я не возьму, то кто ж тогда осмелится взять?
Начальник бригады засмеялся:
— И не боишься, что гоминдановские войска отхватят тебе голову по плечи?
— Еще посмотрим, кто кому отхватит! — Чжао Юй-линь слегка стукнул прикладом об пол. — Когда такая игрушка в руках, гоминдановцами нас не запугаешь. Пусть сунется сам их американский дядюшка, все одно пути назад ему не будет!
— У тебя есть еще какие-нибудь дела ко мне? — спросил Сяо Сян.
— Нет, все, начальник.
— Тогда пойдем пройдемся.
Они вышли из школы и пошли по обочине дороги в тени деревьев. Солнечные лучи, проникая сквозь густую зелень вязов, ложились на землю причудливыми узорами. Южный ветер доносил аромат пшеницы и полыни. Конец лета — самое лучшее время в Северной Маньчжурии. Погода не холодная и не жаркая.
Чжао Юй-линь сорвал несколько яблочков с дикого ранетового дерева, положил одно в рот и даже зажмурился от удовольствия.
— Сейчас они самые вкусные.
Сяо Сян тоже попробовал. Яблочки были кисловатые, но приятные на вкус.
У колодца стоял человек и поил лошадь. Он почтительно приветствовал Чжао Юй-линя:
— Гуляешь, председатель Чжао…
Чжао Юй-линь с улыбкой наклонил голову:
— Да… прогуливаюсь…
Они пошли дальше. На гибких ивовых ветках качались и чирикали воробьи. Из-за тополей поднимался сероватый дымок. Было время обеда. По всей деревне пели петухи.
— Посидим, потолкуем? Мне как раз надо поговорить с тобой, — обратился к своему спутнику начальник бригады.
Они сели в огороде на кучу соломы. Чжао Юй-линь достал свою трубочку, набил ее и, искоса поглядывая на начальника, молча ждал.
Сяо Сян устроился поудобнее и завел разговор о вступлении в партию.
Они говорили долго.
В эту ночь Чжао Юй-линь не спал. В сердце вошла радость, которую не выразить никакими словами. Он уже чувствовал себя членом коммунистической партии. Это новое, неизведанное чувство было таким острым и волнующим, что сонливость как рукой сняло.
— Ты чего не спишь? Про что ты все думаешь? — проснувшись, спросила жена.
Он не ответил.
Перед рассветом, когда в небе еще дрожали чистые серебряные звезды, а землю покрыла обильная роса, Чжао Юй-линь встал и, захватив свою винтовку, отправился в школу.
В это утро он заполнил анкету. Он, горький бедняк, стал кандидатом коммунистической партии.
Кандидатский стаж короток: всего три месяца, и по истечении этого срока ему дадут билет члена партии.
В той графе анкеты, где рекомендующий дает характеристику, начальник бригады записал:
«Бедняк, честен, работать умеет, решителен, готов всем пожертвовать для дела освобождения рабочих и крестьян».
Вскоре такие же анкеты заполнили Го Цюань-хай, Ли Всегда Богатый и Бай Юй-шань.
XV
Положение на фронтах стабилизировалось. Демократическая армия под командованием генерала Линь Бяо разгромила войска Чан Кай-ши, оснащенные американской военной техникой. В Маньчжурии они понесли такой урон, что долго не могли оправиться. Радостная весть о победе молниеносно облетела деревни. Всюду поднялось массовое движение крестьян.
Помещики и их угодники глубоко втянули головы в свой темный и тесный панцырь. Притаившись, они озлобленно следили за развитием движения деревенской бедноты и еще продолжали вредить: сеяли клевету, пытались натравливать крестьян друг на друга, а иногда, высунувшись из своего укрытия, предательски наносили удар в спину.
В школе и в крестьянском союзе все время толпился народ. Снова начались собеседования; прерванная было работа возобновилась.
У старика Суня только и было теперь разговоров, что о начальнике Сяо. И начинал он их обычно так:
— Начальник Сяо — мой самый лучший друг! Ведь это я привез его сюда!
Братишка Ян заделался ревностным активистом и, после того как землю поделили, стал проводить собеседования.
Сяо Сян, Сяо Ван и Лю Шэн нередко приходили на эти беседы, разъясняя смысл и значение переворота. Они рассказывали о председателе Мао[20], коммунистической партии и о Восьмой армии.
Лю Шэн обучил крестьян множеству новых песен. Особенно полюбили крестьяне песенку на слова поэта Ван Сюэ-бо:
Распевая эту песню, люди говорили:
— Теперь мы действительно многое поняли, сердца распахнулись, как окна, и сразу стало светло!
Как-то раз ночью Го Цюань-хай и Ли Всегда Богатый возвращались домой после собеседования. Когда они проходили мимо ворот усадьбы Хань Лао-лю, им показалось, что во дворе блеснул свет. Оба с любопытством остановились. Вскоре раздались шаги и послышались голоса:
— Этот пастушок, как бельмо на глазу… — различили они голос помещика. — Надо бы его спровадить куда-нибудь.
— Конечно, конечно!.. И надо это сделать поскорей.
По голосу они узнали Ханя Длинную Шею.
— Сейчас это неудобно, — сказал Хань Лао-лю. — Вот что касается Яна… надо будет попробовать. Ты наладь с ним отношения. Только действовать нужно поумнее.
Разговор перешел на шепот, и слов уже невозможно было разобрать. Наступило краткое молчание, а затем уже совсем близко снова послышался голос Хань Лао-лю:
— Давай так и сделаем… Если сам не сможешь пойти, пошли сынишку.
Стукнула калитка. Го Цюань-хай и Ли Всегда Богатый свернули в кусты и вышли на тропинку. Некоторое время они шли молча. Наконец Го Цюань-хай спросил:
— Пастушок этот сын умершего батрака, что ли?
— Ну да! Ведь это его мать забрал к себе Хань Лао-лю, а потом сбыл в публичный дом в Шуанчэнцзы. Неужели ты не помнишь?
— Еще одно злодеяние! Действительно, я позабыл. Надо обязательно найти мальчика и привести на наши собеседования. А про какого это Яна он говорил? Уж не о Братишке ли нашем?
— Кто ж его знает? Может и так…
Оба были озабочены и решили сейчас же наведаться в школу. Кроме членов бригады, здесь были Бай Юй-шань и Чжао Юй-линь. Ли Всегда Богатый подробно рассказал начальнику бригады о том, что они только что слышали.
— Как вы думаете, что за человек этот Братишка Ян? — насторожился Сяо Сян.
— Человек бедный, занимался перепродажей старого тряпья. А вообще — деньги любит, — объяснил Ли.
— А с семьей Ханя он связан?
— Про это уж ничего не знаю.
— Хань Лао-лю как-то раз здорово прибил его, — вспомнил Го Цюань-хай.
— А за что? — спросил Сяо Сян.
— Во времена Маньчжоу-го, — начал Чжан Юй-линь, — японцы заставляли крестьян коноплю сдавать. Хань Лао-лю в ту пору старостой был и разгуливал по деревне со своей большой палкой. Тех, кто лениво коноплю трепал или рано спать заваливался, лупил почем зря.
— Да разве одного Яна… многих лупил… — невольно вздохнул Бай Юй-шань.
— Уж тебе-то не раз доставалось по этому случаю! — расхохотался Го Цюань-хай, намекая на то, что Бай Юй-шань был соней.
— Раза два или три случилось, — неохотно сознался тот.
— Какое там! — снова прыснул Го Цюань-хай. — Я от Дасаоцзы слыхал, что самое меньшее раз восемь.
— Не слушай ты ее. Она всегда все врет, — обиделся Бай Юй-шань.
Начальник бригады, думавший в этот момент о Братишке Яне, вдруг сказал:
— Нет… Братишка Ян — член комиссии по разделу земли. Отстранить его ни с того ни с сего нельзя. Вам следует прежде побеседовать с ним.
На этом разговор закончился, и все разошлись.
Братишка Ян действительно любил деньги и теперь не изменил этой привязанности. Любил он к тому же и верховодить, отличался мелким тщеславием и зазнайством и никогда не снисходил до того, чтобы советоваться с кем-нибудь. Он был малограмотен, но так как Го Цюань-хай и Чжао Юй-линь вовсе ничему не учились, смотрел на них свысока и говорил с пренебрежением: «На что вообще годится эта мелюзга?»
С тех пор как он стал членом комиссии по разделу земли, богатеи стали заискивать перед ним и зазывать к себе на угощение. Ян охотно заходил и благосклонно принимал знаки внимания, а когда к нему обращались с просьбами, щедро раздавал обещания.
— Брат Ян, у меня к тебе дельце: сможешь ли только?..
— Я все могу, — безапелляционно отвечал Братишка.
— Брат Ян, поговори в бригаде.
— Можно. Начальник Сяо слушается меня во всем.
К Сяо Сяну он никогда, конечно, не обращался, боясь даже заикнуться о чем-либо.
Как-то вечером, когда Ян вернулся с очередного собеседования, хозяин харчевни сказал, что Хань Длинная Шея присылал мальчика и просил зайти.
Братишка отлично знал, что за человек этот Длинная Шея, но подумал: «Отказаться, пожалуй, будет неудобно», и пошел. Длинная Шея наговорил ему массу любезностей и в заключение сообщил:
— Господин приглашает отобедать вместе с ним.
Ян сразу догадался, что тут дело неспроста, и задумался. Пойти — значило нарушить долг члена крестьянского союза, а отказаться — тоже было неудобно. Он долго раздумывал, но все-таки пошел.
Хань Лао-лю в роскошном халате на подкладке, улыбаясь, вышел навстречу и церемонно пригласил гостя в восточный флигель.
Большая лампа под потолком заливала мягким светом изысканно убранную комнату. Кан был застелен летней цыновкой из трав. На полках вдоль стен были разложены аккуратно свернутые шелковые одеяла: красные с разводами, розовые с мелкими цветочками и в три разноцветные полосы. Одеяла были покрыты коврами с вытканными на них изображениями сосны, сливы и цапли. Напротив кана возвышался застекленный шкаф, висело большое зеркало и стоял сундук красного лака, на крышке которого был искусно нарисован золотой павлин. Все чисто прибрано, натерто, все блестело.
Хань Лао-лю предложил гостю занять место. Сесть на кан Братишка Ян не решился. Это значило проявить дружеские чувства к хозяину дома. Братишка вышел из затруднения, скромно пристроившись на самом кончике красной лакированной скамьи.
Хань Лао-лю взял со столика пачку папирос и любезно передал гостю.
На крестьянских собеседованиях Братишка Ян, подражая другим, на все лады разносил помещика-злодея и, казалось, горел к нему искренней ненавистью. Но сейчас, попав в общество такого важного человека, который говорил с ним, как с равным, Ян испытывал чувство гордости: «Хань Лао-лю, конечно, мироед и злодей, но почему он не может исправиться и стать хорошим человеком? Почему бы члену крестьянского союза Яну не перевоспитать помещика на благо беднякам? Кроме того, бывшему батраку было чрезвычайно лестно, что хозяин называл его не Братишкой, как это было прежде, а «господином председателем».
— Господин председатель Ян, мы сегодня как раз закололи дикую козу. Это, можно сказать, в вашу честь. Прошу господина председателя не побрезгать моим скромным угощением…
— Что вы! Я еще не председатель. Прошу не называть меня так… — слабо запротестовал Братишка.
— О!.. Разве еще не председатель? — с притворным удивлением воскликнул помещик и сочувственно вздохнул. — А я думал, был даже уверен, что вы уже давно председатель.
Помещик остановился и крикнул на кухню:
— Обед готов?
— Готов, хозяин, — отозвался повар, внося четыре блюда холодной закуски и кувшинчики с водкой.
— Прошу, прошу, — заторопился хозяин. — Окажите мне высокую честь. Люди мы, конечно, небогатые, вкусного тут ничего нет… Но ведь председатель Ян… не чужой человек.
Оба расположились за столиком. Братишка жадно набросился на еду и водку. Повар то и дело вносил новые блюда и убирал пустые тарелочки. Наконец он появился с подносом, на котором стояла чаша, полная пирожков, а вокруг нее были размещены блюдечки с грибами, гусиными яйцами, карасями и мелко нарезанной жареной козлятиной.
Хань Лао-лю подносил гостю чашку за чашкой, и Братишка Ян скоро почувствовал легкость в руках и ногах, но такую тяжесть в голове, что покажи ему сейчас лопату, он сказал бы, что это вилы.
— Будь я начальником Сяо, — вернулся Хань Лао-лю к прерванному разговору, — вы давно были бы самым главным председателем. Если сравнить с вами мелюзгу, вроде Го Цюань-хая, поверьте, это то же самое, что сравнить чугунок с золотым сосудом. Ведь вы оба выросли в моей семье, я, можно сказать, вынянчил вас. Мне ли не знать, кто чего стоит!
Братишка Ян молчал, опустив голову на грудь. Хань Лао-лю указал на блюдце с мясом и услужливо предложил:
— Пожалуйста, отведайте козлятинки. Зная, что председатель любит солененькое, я нарочно приказал положить как можно больше соли. Ай-чжэн! — позвал он. — Где ты там? Иди сюда!
Занавес над дверью колыхнулся, и помещичья дочь Хань Ай-чжэн вошла в комнату.
Она была в легкой распахнутой кофте из белого шелка, усыпанного красными цветами, и белых шелковых штанах. Из-под широко открытого ворота выступала туго облегающая тело красная рубашка, отчего фигура девушки казалась еще более привлекательной.
Бросив нежный взгляд на Братишку Яна, она грациозно опустилась на край кана, взяла кувшинчик и проворно наполнила до краев чашку гостя. От ее одежды и волос исходил такой дразнящий аромат, что у Братишки голова пошла кругом. Он схватил чашку, но она выскользнула из рук и опрокинулась ему на колени.
Хань Лао-лю решил, что сейчас самый подходящий момент оставить их вдвоем.
— Брат Ян, ты выпивай, а у меня маленькое дельце. Скоро вернусь, — сказал он и, пошатываясь, направился к двери.
На пороге его перехватила старшая жена и угрожающе прошипела:
— Ты что, издеваться над Ай-чжэн вздумал!
— Молчи! Что ты понимаешь?
Ай-чжэн снова наполнила чашку. Братишка Ян, боясь от смущения взглянуть в лицо девушки, следил, как зачарованный, за ее проворными руками. Руки были пухлые, с кокетливыми ямочками.
— Выпейте еще, председатель Ян. Это с собственного завода моего папы.
— Старина Ян, ты, оказывается, здесь? А я-то разыскиваю тебя повсюду! — крикнул кто-то под окном.
Это был Чжан Цзин-сян. Приподнявшись на цыпочки и увидев всю эту картину, он сплюнул и выругался:
— Вон оно что! Ты тут выпиваешь в свое удовольствие! Пей! Пей! А я пойду да и расскажу всем!
Братишка Ян бросил чашку и выскочил из флигеля. Он догнал Чжан Цзин-сяна у ворот и схватил за рукав:
— Кто тебе сказал, что я здесь?
— Люди собрались на собеседование. Ждали, ждали и послали меня в харчевню. Хозяин сказал, что ты пошел к Ханю Длинной Шее. Я к нему, а он меня сюда направил. Так и знай, всем расскажу, как ты выпивал с дочкой Хань Лао-лю.
Братишка Ян сразу протрезвел. Губы его затряслись. Он вцепился в Чжан Цзин-сяна и, заикаясь, заговорил:
— Милый брат! Не рассказывай никому. Прошу тебя! На этот раз ошибка вышла…
Чжан Цзин-сяну стало жаль Братишку, тем более, что ошибку свою тот признал. К тому же Братишка Ян был членом комиссии.
— Ладно, уж так и быть, — примирительно сказал Чжан.
Поджидавшим его крестьянам Братишка Ян объявил, что сегодня у него болит голова, проводить собеседование он не в силах и распустил всех по домам. Вечером же с видом заговорщика он явился в бригаду и донес: крестьянин Чжан Цзин-сян во времена Маньчжоу-го батрачил у одного японца в соседней деревне и до сих пор питает сердечную склонность к японцам, являясь, таким образом, скрытым предателем родины.
В заключение Братишка Ян озабоченно спросил:
— Можно ли допустить, чтоб такой человек оставался в крестьянском союзе?
— Надо прежде проверить, — задумался начальник бригады.
На следующий день Братишка дополнил свое показание:
— Пятнадцатого августа, когда японцы бежали, Чжан Цзин-сян тоже ходил собирать их пожитки. Он нашел японскую винтовку и припрятал ее.
Подтвердить этого никто не мог, отрицать тоже никто не решился. Братишке поверили на слово и постановили исключить Чжан Цзин-сяна из союза.
Вечером бывший старьевщик получил новое приглашение от Хань Лао-лю.
Опять пили и беседовали до полуночи. Лицо Яна пылало, а глаза не отрывались от двери. Хозяин догадывался о желании гостя, но молчал.
Наконец Братишка Ян не выдержал и робко осведомился:
— Господин, разве все уже спят?
— Кого вы имеете в виду, господин председатель? — притворился непонимающим помещик.
— Я про почтенную госпожу… госпожу… — начал Братишка и, застыдившись, умолк.
Ян спрашивал о жене, но вопрос относился к дочери. Хозяин и гость отлично поняли друг друга, хотя не выдали этого ни жестом, ни улыбкой.
— Ей что-то нездоровится. Может быть, уже спит, — ответил помещик на вопрос о жене, подразумевая дочь.
Братишка Ян решил, что сегодня надежды его напрасны, и заторопился домой.
— Подождите, подождите, — удержал его Хань Ляо-лю. — У меня есть небольшое дельце, и я хотел бы обратиться к председателю Яну…
Он вышел в соседнюю комнату и вскоре вернулся.
— В прошлый раз… — начал помещик вкрадчивым голосом —…когда председатель изволил удостоить мое нищенское жилище своим высоким посещением, Ай-чжэн была весьма смущена видом ваших штанов и куртки. Эти предметы столь изношены, что, право, ни на что не годятся. Ай-чжэн очень хотела бы сшить вам все новое, для чего необходимо снять мерку. Прошу прощения, но посмею повторить сказанные ею слова: «Он же прямо ни на что не похож, — заявила она мне. — Вот уж действительно революционный переворот! Так переворотились, что изодрались в клочья…» Она добавила также, что Чжао Юй-линь, Го Цюань-хай и им подобные типы в сравнении с председателем Яном просто ничтожества. Председатель Ян — это поистине жемчужина, которую смешали с горохом. Разве же не обидно продавать жемчуг и горох по одной и той же цене? «Будь я на его месте, — воскликнула она, — я бы!..» Ну я ее, конечно, изругал за это. Ты, говорю, рассуждаешь по-детски. У председателя Яна на сей счет могут быть свои планы и соображения… Но пройдемте со мной.
Хань Лао-лю поднял занавес над дверью и церемонно пропустил Братишку вперед. Братишка Ян увидел изысканно сервированный столик и изящное убранство комнаты. Взгляд его упал на картины, развешанные по стенам, красные шелковые занавески на окнах, лакированные ширмы и украшенные резьбой карнизы дверей.
Ай-чжэн с улыбкой поджидала гостя возле кана. На ней была кофта из белого шелка, такого тонкого, что он казался сделанным из прозрачных крылышек цикады. Сквозь белую кофту на этот раз просвечивала розовая рубашка. Туалет завершали черные шелковые штаны. Волосы Ай-чжэн были распущены, словно она только что проснулась.
Хань Лао-лю пригласил гостя сесть, а сам, сославшись на непредвиденные дела, вышел.
После третьей чашечки Ай-чжэн стало жарко и щеки ее порозовели, как цветы персика. Она расстегнула верхнюю пуговицу шелковой кофточки.
— Ах! Жарко как! — томно воскликнула девушка и, взяв с подоконника веер из сандалового дерева, поднесла его Братишке Яну. Она подвинулась к нему, хихикнула и попросила:
— Помашите, пожалуйста.
У Братишки Яна сладко забилось сердце. Он быстро раскрыл веер, начал обмахивать ее и так переусердствовал, что сломал пять пластинок. Ай-чжэн припала к столику и покатилась со смеху:
— Ай-яй-яй! Мама! Умру, умру! Какой неловкий, какой смешной!
В одной шуточной народной песенке поется так:
Каждая обольстительница отлично знает это. Ай-чжэн же была большим мастером своего ремесла. Развратный японский жандарм обучил ее всем приемам обольщения. А для такого простого деревенского парня, как Ян, особого искусства и не требовалось. Довольно было одного смеха, чтобы кровь у Братишки закипела. Он отшвырнул веер и рывком повернулся к девушке. Ай-чжэн отстранила его, перестала смеяться и кокетливо надула губки:
— Вы с ума сошли! Что вы хотите делать?
Но глаза ее продолжали манить. Братишка Ян схватил ее за руки и потянул к себе.
— Мама! Спаси! — вдруг завизжала Ай-чжэн.
Дверь распахнулась. Вбежали старшая и младшая жены Хань Лао-лю.
— Что здесь такое? — пробасила старшая.
— В чем дело? — пискнула младшая.
Братишка Ян выпустил Ай-чжэн. Она запрокинулась на кан и, падая, с грохотом перевернула столик. Суп, водка, уксус, соя — все полилось на пол, брызнуло на одежду. Даже на обеих жен попало.
Комната наполнилась народом.
После искусно разыгранного обморока Ай-чжэн вскочила и с рыданиями кинулась в раскрытые объятия матери. Но так как слез у нее не было, она все время прятала лицо и, топая по полу босыми ногами, кричала:
— Мама! мама!
Перепуганный Братишка бросился к двери.
— Куда это ты хочешь бежать? — преградила ему дорогу старшая жена. — Презренный трус! Ты задумал издеваться над моим бедным ребенком! Пришел в глухую ночь в почтенную семью и хотел изнасиловать невинную девушку! У тебя только обличье человечье, а внутри ты пес, кровожадный пес! Ей ведь только девятнадцать лет. Она еще нераспустившийся цветок. А ты решил сделать так, чтобы ее нельзя было выдать замуж. Негодяй!
В пылу гнева и возмущения оскорбленная мать убавила возраст дочери, по меньшей мере, лет на пять.
Когда крики, визг и рыдания дошли до предела, появился Хань Лао-лю. За ним по пятам, как грозный страж преисподней, следовал Ли Цин-шань.
Ай-чжэн бросилась к отцу с криком «папа!» и снова разразилась безутешными рыданиями.
— Пулей тебя убить! — надрывалась старшая жена, вцепившись в волосы Братишки Яна и царапая ногтями его левую щеку.
— Ножом тебя зарезать! — вторила ей младшая жена, проделывая ту же операцию над его правой щекой.
— О… о… у… у… папа! Куда мне от срама лицо девать? — вопила Ай-чжэн.
Хань Лао-лю произносил только один звук «о!..», выражающий полное недоумение и растерянность.
Вся эта четверка представляла отлично сыгранный оркестр.
— Я тебя за человека считал, — проговорил наконец Хань Лао-лю, — я для тебя ничего не пожалел, пригласил обедать в порядочный дом. Вот чем ты отплатил мне, неблагодарный! Поистине у тебя только лицо человеческое, а сердце хищного зверя. Ты покусился на мое дитя! Ведь ты преступил государственный закон! Известно тебе это? Ли Цин-шань!
— Я здесь! — вынырнул из-за его спины управляющий.
— Свяжи этого прелюбодея и отведи в бригаду. Если бригада не примет, вези в уездный город. Поистине небо перевернулось над нашими головами!
Ли Цин-шань и повар связали Братишку Яна и толкнули в другую комнату. Туда же устремились и все домочадцы.
Хань Лао-лю величественно воссел на край южного кана, того самого, на котором Братишка Ян дважды был почетным гостем и перед которым стоял сейчас, как преступник на суде.
— Ты сам скажи: если человек имел преступное намерение изнасиловать крестьянскую дочь, что ему за это полагается? — тоном сурового судьи спросил помещик и для большей убедительности взмахнул над головой Яна палкой, не раз гулявшей по его спине во времена Маньчжоу-го.
Тот молчал.
— Говори! Замок тебе на рот повесили, что ли? — толкнул его в спину Ли Цин-шань.
— Маху дал, немного лишнего хлебнул…
— Идите спать! — сурово повелел домочадцам мужского пола Хань Лао-лю и, обернувшись к женщинам, уже более милостиво добавил: — Вы тоже ступайте. Ты, Ай-чжэн, поди отдохни, бедняжка. Время позднее. Не огорчайся. Отец рассчитается за тебя. Ступай!
Все разошлись.
— Теперь принеси кисть и бумагу. Запишем его показания, — приказал помещик управляющему.
Ли Цин-шань принес бумагу, кисть и развел тушь. Хань Лао-лю присел к столику и, ни о чем не спрашивая Яна, быстро составил «показания» и передал бумагу управляющему:
— Тут все записано, что он мог бы сказать. Прочти ему и пусть приложит палец.
Управляющий почтительно принял бумагу и огласил:
«Я, Ян Фу-юань, в полночь ворвался в дом к жителю деревни крестьянину Хань Фын-ци. Увидев его дочь Хань Ай-чжэн, я хотел совершить караемое законом преступление. Она оказала мне сопротивление. Тогда я насильно обнял ее и стал целовать. Все это истинная правда».
— Целовать не стал… даже ни одного раза не… — начал было Братишка Ян.
— Довольно! — повысил голос Хань Лао-лю и так решительно поднял палку, что Братишка Ян предпочел отказаться от дальнейших возражений.
— Говори, что ты хочешь? — предложил помещик. — Предать дело огласке или поладить миром?..
Братишка смиренно попросил объяснить, что господин подразумевает под этим «поладить миром».
— Если хочешь, чтобы мы поладили, приложи оттиск пальца на этом документе и все. Отправлять его я никуда не буду.
— Давай тогда поладим миром, — сейчас же согласился Братишка и приложил палец.
Хань Лао-лю бережно свернул бумагу, спрятал ее в карман и повернулся к управляющему:
— Развяжи его. Все в порядке. Сам иди спать.
Ли Цин-шань и повар ушли. Снова водворилась тишина. Слышалось лишь сонное дыхание людей в доме да шуршание сена в конюшне.
Хань Лао-лю закурил папиросу и медленно проговорил:
— Мы с тобой, брат Ян, люди, как говорится, «с одной джонки»… — он умолк, наблюдая за унылым и покорным выражением лица собеседника, — и ссориться нам не годится. Ты вот скажи: слыхал ли ты молву, которая ходит в народе последние дни?
— Не слыхал, — шепотом отозвался Братишка Ян.
— А я вот, — с расстановкой продолжал Хань Лао-лю, — из верных источников знаю. Восьмая армия покидает Харбин и перебрасывается на восток. Знаешь, куда ее стягивают? К советской границе. Я давно говорил, что здесь ей не продержаться долго. Войска гоминдановского правительства если к осенним праздникам и не подоспеют, так уж после праздников обязательно придут. Ты понимаешь, брат Ян, что это значит?
— Не придут гоминдановские войска, — робким голосом возразил Ян.
— Кто тебе это наболтал? Ведь не твои слова!
— Не мои… — согласился Братишка.
— Так вот. Не слушай этой собачьей брехни. Я тебе верно говорю. Мой сын как раз прислал письмо, в котором пишет…
Никакого письма не было. Более того, Хань Лао-лю уже наверняка знал теперь, что этого письма никогда и не будет. Чан Кай-ши потерпел поражение и надеяться больше не на кого.
— Про что же он пишет? — вдруг забеспокоился Братишка.
Хань Лао-лю угрожающе сверкнул глазами:
— «Кто делит земли и дома — тому башку долой», — вот про что пишет!
— Неужели?
У Яна перехватило дыхание и задрожали ноги.
— Ты не бойся, — успокоил его помещик, — мы с тобой свои люди, знаем друг друга не первый год. Я не оставлю тебя в беде. Только не связывайся с бригадой. Ты не гляди, что они хорохорятся тут. Этот ваш Сяо Сян завяз, как телега в грязи: ни туда, ни сюда. Ему в руки попался еж, и он сам не знает, что с ним делать: и держать больно и бросить жалко. Хочет меня побороть? Ладно, поглядим, что у него из этого выйдет. Он со мной уже трижды схватывался. Пусть еще три раза попробует. Я, Хань Лао-лю, все равно буду жить лучше вашего. Не веришь? Подожди, сам увидишь!
Запели петухи.
Хань Лао-лю решил, что Братишка Ян теперь в его руках. Помещик подсел к нему и доверительно проговорил:
— Ты помоги мне кое в чем, а тебе нужда придет, — я выручу. Они каждый вечер собираются зачем-то и какие-то разговоры ведут. Так вот: что будут говорить, ты обо всем мне и докладывай. Ай-чжэн еще справит тебе новую одежонку. Нравится черная материя? У меня есть отрез. Сам понимаешь! Ай-чжэн — девушка на выданье, не стану же я держать ее дома. Все равно придется за кого-нибудь отдать. Сейчас она на тебя злится. Подождем и потихоньку обломаем. Все будет в порядке. Я ручаюсь.
Братишка Ян вспомнил пухлые руки с ямочками, и у него снова разгорелись глаза.
— Ладно, — милостиво заключил помещик. — Теперь ступай. Уже рассвет. А что узнаешь, сейчас же сообщи Ханю Длинная Шея.
XVI
Сколько сладких и острых приправ истратил Хань Лао-лю, сколько приманок и угроз пустил в ход, чтобы заполучить этого старьевщика! Наконец он обратил Братишку Яна в своего гончего пса. Теперь-то помещик будет все знать, что делается в крестьянском союзе и в бригаде. Но тут его вдруг постигла неудача.
Ночное происшествие в помещичьем доме стало известно и бригаде, и крестьянскому союзу.
Братишку Яна исключили из крестьянского союза. Одновременно выяснилось, что у Чжан Цзин-сяна никакой винтовки нет и что все это клевета. Чжан был восстановлен, И ему поручили проводить собеседования с крестьянами.
Бригада одобрила эти решения, но предложила вместе с тем вынести Чжан Цзин-сяну товарищеское порицание за то, что, зная о поступке Яна, он скрыл его от крестьянского союза.
Братишка Ян, несмотря на слезы, мольбы и лицемерные обещания, ни у кого не нашел сочувствия. Все сурово осудили его, все с презрением от него отвернулись. Чжао Юй-линь заявил, что новый помещичий приспешник очень легко отделался, Ли Всегда Богатый назвал его слизняком, а Бай Юй-шань заметил, что Братишка Ян, промышляя перепродажей старья, позарился на «рваную туфлю». Все поняли, что это намек на помещичью дочь, и дружно расхохотались.
Сунь, встречая Братишку Яна на улице, лукаво щурил глаза и с улыбочкой осведомлялся:
— Куда изволите путь держать, председатель Ян?
А когда тот отворачивался и проходил, старик, указывая на него пальцем, вполголоса приговаривал:
— Вот посмотрите, это председатель помещичьих прислужников!
Лю Дэ-шань, расточавший прежде любезности по адресу Яна, теперь с жаром принялся поносить его:
— Да стоит ли о нем говорить. Этот человек опустился до того, что стал лакать помои после японского жандарма. Окажись я на его месте, ни за что бы не пошел на такое грязное дело!
Братишка Ян не мог оставаться в деревне Юаньмаотунь и перебрался в другое место, где занялся скупкой кошачьих шкурок. Вскоре о нем забыли так крепко, словно он умер.
Хань Лао-лю был в отчаянии.
О чем говорили в лачугах? Какой замысел вынашивался там? Какой удар готовился и откуда ждать новых бед? Хань Лао-лю терзался этой неизвестностью. Он окончательно потерял сон, то и дело поднимался с кана, приникал к окну и смотрел со страхом на свой пустынный двор.
«Нет, войска центрального правительства не придут, помощи ждать неоткуда. Надо на что-то решаться», — думал помещик, охваченный смертельной тоской.
Он решил вывезти оставшееся имущество. По ночам за черными воротами опять застучали кайла. Вырытые из-под стен вещи навьючивали на лошадей, Ли Цин-шань обматывал копыта лошадей ватой и тряпьем, и они неслышно ступали по шоссе, унося на себе награбленное добро.
Вскоре в крестьянском союзе узнали об этом. Бай Юй-шань выделил двух бойцов из отряда самообороны, которые должны были ходить дозором возле стен, сторожевых башен и черных ворот большого двора. Помещику пришлось отказаться и от попытки спасти свои богатства.
Как же дознались в крестьянском союзе? Кто мог донести? Хань Лао-лю уже ничего не понимал, потому что не в силах был уразуметь самого главного. Помещик не видел того, что крестьянский союз стал массовой организацией, а он, Хань Лао-лю, со всеми своими явными и тайными приспешниками оказался пленником этих масс.
Однажды вечером, несколько дней спустя после того как Го Цюань-хай и Ли Всегда Богатый подслушали разговор Хань Лао-лю с Ханем Длинная Шея, помещичий пастушок, тринадцатилетний У Цзя-фу, возвращался со стадом свиней через южные ворота. Навстречу вышел Го Цюань-хай и велел мальчику прийти на собеседование.
Когда в помещичьем доме все уснули, пастушок вскочил с кана, крадучись перебежал двор, тихо отпер калитку и отправился в назначенное место. Там, в кругу сочувствующих и понимающих людей, он рассказал о своих горестях, повторив уже известную всем историю.
После смерти отца мать попала в руки Хань Лао-лю. Помещик, прожив с ней около года, выгодно продал ее в публичный дом. После этого мальчик уже четыре года как пасет свиней Ханя-шестого. Живет он в сарае на большом дворе и не смеет никуда отлучаться. Денег ему не платят, обращаются с ним жестоко, а Ли Цин-шань бьет его за самую ничтожную провинность.
У Цзя-фу, изнуренный непосильным трудом, был настолько худ и хрупок, что в свои пятнадцать лет выглядел десятилетним. Из года в год, возвращаясь вечером домой, пастушок получал только холодные остатки ужина и вечно был голоден.
Половина сарая, в котором спал мальчик, была отведена под склад, где хранился корм для лошадей, а за тонкой перегородкой помещался свинарник. Зимой для мальчика начинались новые мучения. У него не было даже одеяла, и он всю ночь дрожал от холода.
Наконец в прошлом году пастушок решил уйти от Хань Лао-лю, но помещик заявил ему:
— Тебе еще рано! Ты не отработал тех денег, которые я затратил на гроб твоего отца. Сыновья обязаны платить долги родителей: это закон неба. Проработаешь еще лет пять, тогда можно будет считать, что ты расплатился. Раньше же и думать не смей.
Когда пастушок рассказывал обо всем этом на собеседовании, многие женщины плакали.
— Брат Го, спаси меня от Хань Лао-лю! — восклицал мальчик, хватая Го Цюань-хая за руки.
— Ты не бойся, не бойся! Мы этого дела так не оставим, — утешал его Го Цюань-хай, нежно гладя по голове.
С этих пор пастушок каждый вечер убегал на собеседования. Он-то и сообщил, что Хань Лао-лю принимал у себя Братишку Яна. От него крестьянский союз узнал и о намерении помещика вывезти оставшиеся вещи.
Как-то после полуночи, когда измученный страхом и бессонницей помещик бродил по своему большому двору, издали донесся собачий лай. Хань Лао-лю прислушался. Его обостренный слух уловил шум торопливых шагов. Во дворе тоже залаяли собаки. Хань-шестой свернул под крышу западного флигеля, не спуская глаз с ворот. Калитка приоткрылась, и в бледном свете звезд Хань Лао-лю различил щупленькую фигурку У Цзя-фу.
Помещик выскочил и схватил его за руку:
— Ли Цин-шань! Ли Цин-шань! Воры! — закричал он не своим голосом.
Из восточного флигеля выбежал управляющий с палкой в руках. Они втащили мальчика в комнату.
— Где шляешься по ночам? — грозно спросил Хань Лао-лю.
— А тебе какое дело!.. — неожиданно сорвалось у мальчика. Он сам не знал, откуда взялась у него такая смелость.
— О! Да ты, я вижу, заважничал! — рассвирепел Ли Цин-шань. Он замахнулся палкой и скверно выругался. — Если твоему господину нет дела, так этой палке дело до тебя найдется!
Пастушок вовремя пригнул голову, и удар пришелся ему по спине.
— Подожди бить, — сдерживая бешенство, прохрипел помещик. — Пусть прежде расскажет, куда он бегает и о чем у них там говорят. Расскажешь все начистоту, я тебе ничего не сделаю.
Пастушок гордо поднял голову:
— Не скажу.
Хань Лао-лю побагровел:
— Будешь запираться — убью!
— Не скажу… убей, не скажу.
Сухая жилистая рука помещика опустилась ему на голову:
— Ах вот как! Меня прикончить замышляете?! Я тебе покажу переворот! Ли Цин-шань, сними с него рубаху! А я сейчас плетку принесу.
Ли Цин-шань повалил мальчика лицом вниз и коленом прижал к полу.
— Спасите! Убивают! Спасите! — изо всех сил закричал пастушок.
Ли Цин-шань схватил со столика тряпку, которой вытирали пыль, и крепко заткнул мальчику рот.
Был предрассветный час. Стояла чуткая настороженная тишина. Крик был услышан двумя дозорными. Один из них засвистел и бросился к дому помещика.
— Во дворе Ханя убивают! — кричал он.
«Уж раз туфли все равно вымочены, пойду вброд!» — решил Хань Лао-лю, входя в комнату с плетью в руках. — Я им всем покажу! — Он занес плеть. — Все равно теперь. Вот тебе, получай! Вот вам всем! Всем!
Плеть глубоко впилась в тонкую кожу, оставляя на спине набухающие кровью полосы. Ли Цин-шань бил мальчика палкой по ногам и голове.
Кровь брызнула на белые шелковые штаны помещика. У Цзя-фу потерял сознание.
Хань Лао-лю заскрежетал зубами:
— Ли Цин-шань! Рой яму в конюшне. Переворот! Я уже перевернул его носом в землю! Теперь не встанет!
Ли Цин-шань выбежал. В ворота стучали. Собаки надрывались. Криков за стеной становилось все больше, а издали нарастал гул, поглощавший все другие звуки.
Ли Цин-шань метнулся обратно в дом:
— Господин! Беги!
Управляющий кинулся на задний двор, вернулся, принес лестницу и приставил к стене. Поднявшись на стену, он прыгнул в канаву, пробежал огород и помчался к дому Ханя Длинная Шея.
По всей деревне пели петухи. В юго-восточной части неба вставали огненные облака. Из лачуг, с огородов, из-за куч соломы, стогов пшеницы выбегали люди. Заполняя шоссе, они устремлялись к большому двору. В руках у них были мотыги и топоры. Те, которые вышли с пустыми руками, выдергивали по пути из плетней палки и ломали ветки.
На шоссе образовался бурлящий человеческий поток. Восходящее солнце освещало серые рваные шляпы и бритые головы.
Впереди всех бежали Чжао Юй-линь и Бай Юй-шань. За ними по пятам несся отряд самообороны с пиками наперевес. У черных ворот толпа задержалась, но открыть их не смогла и, повернув, потекла вдоль восточной стены. Люди, задрав головы, разглядывали высокую кирпичную стену.
Чжао Юй-линь передал свою винтовку Бай Юй-шаню и с одним из бойцов отряда самообороны пошел искать лестницу. Вскоре они вернулись, волоча по земле тяжелое сосновое бревно. Десятки рук подняли его и прислонили к стене. Чжао Юй-линь вскарабкался по нему и спрыгнул во двор. Он плохо рассчитал и при падении сильно ушиб ногу. На него с бешеным лаем набросились собаки. Он прижался спиной к стене, схватил острый камень и точно угодил в голову одной из них. Она взвизгнула и с поджатым хвостом отбежала. Остальные скалили зубы, но подойти не решались.
Чжао Юй-линь, хромая, прошел через двор, выдернул засов и распахнул ворота. Толпа хлынула в них и волной растеклась по двору.
Чжао Юй-линь взял у Бай Юй-шаня свою винтовку, примкнул штык и направился к главному дому. За ним следовали Го Цюань-хай и Бай Юй-шань. Отряд самообороны окружил дом лесом сверкающих под лучами утреннего солнца пик.
Чжао Юй-линь, Го Цюань-хай и Бай Юй-шань проникли в восточную комнату. В ней было еще темно, и они чуть не споткнулись о тело пастушка, лежавшего возле кана.
Чжао Юй-линь присел на корточки и протянул было руку, но испуганно ее отдернул. Со спины мальчика сочилась кровь.
Чжао Юй-линь быстро нащупал пульс. Сердце еще билось.
— Жив! жив! Клади на кан. Старина Бай, зови скорее доктора!
Вбежавшие следом люди замерли на месте.
— Сейчас же разыскать убийцу! — крикнул начальник бригады, пробираясь вперед.
Чжао Юй-линь и Го Цюань-хай бросились в соседнюю комнату.
Родственники помещика сидели на кане. Они встретили вошедших взглядом бессильной злобы.
— Где Хань Лао-лю? — спросил Чжао Юй-линь.
— Дома нет, — коротко бросила старшая жена.
— Есть у кого-нибудь веревки? — обернулся Чжао Юй-линь к бойцам отряда самообороны.
— Нету…
— Найдите живей! Всех связать, — скомандовал Чжао Юй-линь.
Вместе с Го Цюань-хаем они приступили к обыску. Открыли сундуки и шкафы. Обыскали все углы, но помещика и след простыл.
— Ты, Го, останься здесь, — приказал Чжао Юй-линь. — И пусть эти женщины скажут: куда ушел Хань Лао-лю. Надо осмотреть западный флигель, — и он быстро ушел.
Когда принесли веревки и Го Цюань-хай начал вязать старшую жену, она завопила:
— Брат Го, прости нас!
— Теперь и ты выучилась притворяться! — прикрикнул на нее Го Цюань-хай.
Едва притронулись к младшей жене, та упала в обморок.
Го Цюань-хай и бойцы невольно отступили. В комнату вошел возчик Сунь. Усидев эту картину, старик даже плюнул с досады.
— Чего ломаешься? Головка болит? Вставай, подлая! — вдруг заревел он. — Не встанешь — убью! Одним тухлым яйцом меньше будет. Отойди, ребята, дай размахнусь!
Но не успел Сунь принять нужную для этого позу, как младшая жена опустилась на колени и взмолилась:
— Не бей! Уже поднялась… Видишь, уже поднялась…
— Ты кому здесь вздумала фокусы показывать? — грозно сдвинув брови, спросил возчик.
— Она у нас больная. Какой же фокус? — вступилась за нее старшая жена.
— Верно, верно, у нее женская болезнь, — подтвердила Ай-чжэн.
— Убью! — заорал старик Сунь, уже в самом деле поднимая палку.
Домочадцы шарахнулись и забились в угол.
— Не бей, пожалуйста! Я все скажу, дядя! — заговорила вдруг младшая жена.
— Это кто тебе дядя? Такая племянница, как ты, сущее наказание для порядочного человека. Ну, говори живей!
— Я много приняла гашишу… — пыталась объяснить свой обморок младшая жена.
Возчик бросил палку.
— Ты мне голову не морочь! Я, старый Сунь, не про то спрашиваю! Я тебя насквозь вижу. Мне уже шестьдесят лет, а еще через год шестьдесят один будет. Я — человек бывалый. Думаешь, не могу разобраться, кого ты из себя разыгрываешь, тухлое яйцо!
— Говори, куда ушел Хань Лао-лю? — вмешался Го Цюань-хай.
— Этого я и в самом деле не знаю, — захныкала младшая жена.
В соседнюю комнату входили все новые и новые люди.
Сяо Ван, посланный за лекарствами, еще не вернулся. Пастушок лежал на цыновке, разостланной на кане. Его спина и лицо были так изуродованы, будто мальчика резали ножами.
Пришел старик Тянь, склонился над пастушком и заплакал. Он невольно вспомнил дочь. Ведь она перенесла то же самое. Этот чужой мальчик казался ему собственным ребенком. Старик снял с себя рваную рубашку и бережно прикрыл окровавленного пастушка.
— Не торопись, старина Тянь. Пусть люди посмотрят, — взял его за руку начальник бригады.
Сяо Ван принес бинты и мазь. Вдвоем с Тянем они осторожно перевязали ребенка.
Сквозь толпу протиснулся запыхавшийся Чжао Юй-линь.
— Сбежал Хань Лао-лю… — с дрожью в голосе доложил он начальнику бригады.
В первый момент Сяо Сян почти растерялся, но, быстро овладев собой, он уверенно сказал: — Ничего, далеко не убежит, организуем розыски! — и вышел во двор.
Там он собрал всех бойцов отряда самообороны, бойцов бригады и членов крестьянского союза. Разбив их на пять групп, Сяо Сян приказал быстро осмотреть все пристройки и амбары.
Ничего существенно нового эти розыски не дали. Только в западном углу двора была обнаружена лестница, приставленная к стене.
Начальник бригады бросился к воротам и обежал вокруг стены.
В грязи, на краю канавы, отчетливо были видны два разных следа. Один уходил на север, другой вел на юг.
Сяо Сян подозвал Чжао Юй-линя.
— Едем на север! Вань Цзя! — крикнул он. — Живо трех лошадей! Постой! — Сяо Сян обернулся к Чжао Юй-линю: — Старина Чжао, ты на неоседланных конях ездишь?
— Могу, — отозвался тот.
— Тогда, Вань Цзя, седлать не надо. Давай так… Бай Юй-шань, возьми людей и скачи по следу на юг… Го Цюань-хаю со своими людьми следовать на восток, Ли Всегда Богатому — на запад. Вернуть Хань Лао-лю во что бы то ни стало!
Он выхватил из кармана блокнот и торопливо написал:
«Командиру отделения Чжану.
Отрядить бойцов в группы Го Цюань-хая, Бай Юй-шаня и Ли Чан-ю для преследования беглеца Хань Фын-ци. Самому взять двух бойцов и вместе с командиром отряда самообороны Чжан Цзин-сяном и другими остаться в деревне для несения охраны».
Все распоряжения были отданы.
Сяо Сян неторопливо подошел к Чжао Юй-линю и улыбаясь сказал:
— Сегодня проверим, метко ли ты стреляешь!
— Выбил двадцать семь очков.
— Молодец, брат Чжао.
Послышался топот. Сяо Сян обернулся. На шоссе показались три лошади. На одной сидел Вань Цзя, две другие шли в поводу.
— Вань Цзя, скорей! — крикнул Сяо Сян связному. — Чего плетешься? Боишься раздавить муравья на дороге? Тебе не придется отвечать за его жизнь. Ответственность беру на себя!
Вань Цзя ударил лошадь каблуками. Стайка гусей с гоготанием бросилась врассыпную, хлопая крыльями. Испуганные свиньи и овцы полезли со страху на плетень.
Сяо Сян вскочил на коня. Чжао Юй-линь последовал его примеру. Они ухватились за гривы лошадей и поскакали во весь опор.
Вскоре кони вынесли их за северные ворота. Степной ветер свистел в ушах. Сяо Сян, припав щекой к жесткой гриве, смотрел под ноги мчавшейся лошади, все еще ясно различая следы на влажной от росы дороге.
Около мостика через ров начальник бригады сдержал храпящего коня. Следы вели на мостик, затем сворачивали в сторону и обрывались.
— Потеряли! — с досадой сказал Сяо Сян и остановил лошадь.
— Тут ветер сильный. Дорога уже подсохла, вот и не видно ничего, — пояснил Чжао Юй-линь.
Он спешился и, согнувшись, пошел вдоль берега, внимательно рассматривая тропу.
Сяо Сян окинул взором окрестность. Солнце еще по-летнему грело, но на ивах кое-где уже трепетали желтые листочки. В зелени тростников тоже появилась желтизна. Красные метелки кукурузы наполовину высохли. Колос гаоляна принимал коричневый оттенок. Приближалась осень.
Чжао Юй-линь вернулся ни с чем. Следов нигде не было.
— Ладно, — поторопил его Сяо Сян. — Садись? Возможно, он прячется где-нибудь, наблюдай за полями. И ты тоже, Вань Цзя. Нужно быть очень внимательными. Едем!
Они поехали вдоль берега. Впереди тропинка раздваивалась. Одна уходила на север в деревню Яньшоу, другая тянулась вдоль берега реки на запад.
— Куда же теперь? — спросил Чжао Юй-линь.
— В деревню Яньшоу он не побежит, конечно, — в раздумье проговорил Сяо Сян. — Там тоже работает бригада. Нет! Это немыслимо… Значит, нужно взять на запад. Поехали живей!
Он ударил лошадь и повернул ее к тростникам. На чистой поверхности воды появилось перевернутое отражение мчавшихся всадников.
Невдалеке показались мостки. На них стоял человек и, покуривая трубку, удил рыбу. Чжао Юй-линь издали узнал старика Чу, того самого, который никак не хотел брать помещичьей земли, пока Го Цюань-хай не потратил на уговоры целую ночь.
Чу тоже заметил всадников и приветливо заулыбался:
— Председатель Чжао, далеко собрались?
Чжао Юй-линь спрыгнул с коня и беспокойно спросил:
— Старина Чу, ты не видал Хань Лао-лю?
— Хань Лао-лю? Нет, не видал. Давно уже не видал. А тебе он на что?
Чжао Юй-линь только собрался еще что-то спросить, как Чу сделал ему знак рукой и поманил к себе:
— Погляди, председатель, какую я щуку поймал сегодня.
Чжао Юй-линь подошел.
— Смотри, какая большая… — Чу нагнулся к уху Чжао. — В шалаше… под сеном схоронился… — И громко добавил: — Погуляй, погуляй! Погода сегодня хорошая, погулять приятно.
Чжао Юй-линь с винтовкой наперевес бросился к маленькому шалашу. Ворвавшись туда, он штыком раскидал сено. На момент показалась лысина и снова спряталась.
Чжао Юй-линь стукнул помещика прикладом.
— Еще сбежать хотел, тухлое черепашье яйцо! На небе, что ли, задумал укрыться? От народа никуда не денешься!
Начальник бригады и Вань Цзя, пригнувшись, вошли в шалаш. Они крепко связали Хань Лао-лю и, перекинув его через круп лошади, поехали в деревню.
— Я тоже с вами, — сказал старик Чу.
Он собрал сети, сложил в корзины, поднял коромысло на плечо и бегом догнал их.
— Вот погляди, начальник, какая у меня игрушка. — Чу вытащил из кармана серебряный доллар.
— Кто же тебе его дал? — спросил Сяо Сян.
Старик рассказал, как Хань Лао-лю, добежав до реки, просил спрятать его в шалаше и дал доллар, чтобы старик молчал.
— Почему же ты не выполнил помещичьей просьбы? — рассмеялся начальник бригады.
— Член крестьянского союза не должен скрывать помещика и злодея. Видно, Хань Лао-лю было суждено прибежать на берег.
— Куда бы он ни прибежал, ему везде было суждено попасть нам в руки, — заметил Чжао Юй-линь.
Навстречу всадникам двигалась по шоссе большая толпа людей во главе с Сяо Ваном и Лю Шэном. Люди вышли навстречу, опасаясь, как бы начальник бригады не наткнулся на бандитов.
Связанного Хань Лао-лю окружили. Поднялись палки. Грозно ощетинились пики.
— Не надо торопиться! — остановил людей Чжао Юй-линь и спешился. — Вернемся, судить его будем. Надо, чтобы все по закону было и чтобы все разом рассчитались с ним за обиды.
Но разъяренная толпа запрудила дорогу, не давая всадникам двинуться вперед.
— Освободите дорогу! Дайте проехать, — крикнул во весь голос Чжао Юй-линь. — Вернемся — устроим митинг. Надо всей деревней с ним расправиться. Вы хотите отомстить, и другие хотят того же.
— А вдруг он опять убежит? — спросил кто-то.
— Ему некуда больше бежать! — уверенно воскликнул Чжао Юй-линь.
Люди расступились, пропуская всадников. Но над толпой то и дело взлетали палки…
Бай Юй-шань, Ли Всегда Богатый и Го Цюань-хай вернулись на закате. Они были очень расстроены. Но услышав, что беглец пойман, обрадовались и кинулись к школе.
Помещика все-таки порядком избили по дороге. Потом его заперли в кутузку, которую день и ночь охраняли двадцать человек.
Первый вопрос Сяо Сяна был о пастушке.
— Свезли в уездную больницу, — ответил Сяо Ван.
Начальник бригады согласился с предложением крестьянского союза не выпускать из дома семью Хань Лао-лю. Лошадей передали отделению охраны. Сундуки и шкафы опечатал крестьянский союз.
День закончился удачно. Радость омрачалась лишь тем, что управляющему Ли Цин-шаню и Ханю Длинная Шея в суматохе удалось бежать.
XVII
Весть о том, что Хань Лао-лю пойман, поставила на ноги всю деревню. У людей уже не было больше ни страха перед помещиком, ни молчаливой покорности. Крестьянские собеседования сделали свое дело.
Избиение пастушка У Цзя-фу было, быть может, самым ничтожным среди тысячи других злодеяний помещика, но оно оказалось искрой, упавшей на сухой порох.
В тот же вечер, когда связанный помещик был доставлен в деревню, бригада и крестьянский союз устроили совещание активистов. Люди собрались на огороде Чжао Юй-линя в живой беседке, образованной плетями тыкв. Белые цветы под вечерним солнцем казались звездами, рассеянными в густой зелени листвы.
Собравшиеся спешили высказаться, перебивали друг друга, и голоса сливались в сплошной гул. Начальник бригады прислушивался ко всем этим разговорам, схватывая на лету то новое, что возникало в головах активистов.
Чжао Юй-линь безуспешно пытался водворить порядок:
— Не кричите же все сразу! Пусть сначала один кончит, потом другой начнет, — уговаривал он.
— Хань Лао-лю нужно связать покрепче, не то крестьяне недовольны будут, — настаивал Бай Юй-шань.
— Скажи-ка ты что-нибудь, — подтолкнул Чжао Юй-линь возчика Суня.
— Чего говорить? Я скажу так: надо связать веревками не только Хань Лао-лю, но и всех его женщин да выдать их нашим бабам на расправу. Мы будем помещика судить, а они пусть женщинами займутся.
— Нет! Нет! Так не годится, старина! Нельзя разбиваться на две группы. Беспорядок получится. Надо всем вместе судить, — возражал Чжан Цзин-сян. — Уж если срубим дерево, то веточки да листочки и сами посохнут.
— Старина Бай, ты расставь побольше бойцов своего отряда. Начнем суд — дело выйдет нешуточное, — предупредил Го Цюань-хай. — Крестьян не удержишь: все сразу бить полезут, свалка может получиться. Надо, чтобы те, кто натерпелся обид от помещика, по одному подходили рассчитываться с ним. Обид у всех накопилось немало. Вот у меня, например…
— Да говори ты покороче, — вмешался выведенный из терпения Ли Всегда Богатый. — Об этих обидах можно месяц рассказывать и конца не увидишь.
— Ли, — перебил его, в свою очередь, Бай Юй-шань, — ты погоди, ты послушай! Тебе работа тоже найдется. Гляди, не пропусти на собрание приспешников Хань Лао-лю.
— Правильно! — не преминул ввернуть слово старик Чу. — Если заметишь, что кто-нибудь из них проскользнул, прямо вяжи на месте. А один не справишься — мы поможем.
— Погодите! Надо уже сейчас решать: бить будем или еще как-нибудь поступим? — горячился Бай Юй-шань.
— А тебя Хань Большая Палка бил?
— Еще бы!
— Так чего же спрашиваешь? Вспомни да и возьми теперь с него пример, — рассмеялся Чжао Юй-линь.
— Внимание! — закричал Бай Юй-шань. — Чтоб у каждого завтра были с собою палки. Палками судить Большую Палку! Понятно? Это и будет расплата: ненавистью за ненависть, враждой за вражду.
Чжао Юй-линь, посоветовавшись вполголоса с начальником бригады, объявил:
— Совещание закончено. Завтра всем прийти пораньше.
— Почему же завтра, а не сегодня? — с досадой спросил Чжан Цзин-сян.
— Сегодня надо еще провести с крестьянами собеседования и как следует подготовиться, чтобы завтра наверняка разделаться с помещиком, — пояснил Чжао Юй-линь и обернулся к Сяо Сяну: — Начальник, ты что-нибудь скажешь?
— Скажу одно, что с вашими предложениями согласен.
Активисты разошлись. Крестьяне больше уже ничего не боялись.
В некоторых группах собеседования закончились еще до наступления темноты, и у крестьян осталось время подготовить хорошие палки для завтрашнего расчета с помещиком.
В группе, которую возглавлял возчик Сунь, собеседование затянулось: руководитель был в таком ударе, что никак не мог остановиться.
Теперь он уже не выказывал своего нежелания работать активистом и был по-прежнему словоохотлив.
Сегодня на собрании группы он произнес речь, пересыпанную новыми терминами.
— Мы все активисты, — сказал Сунь. — Активисты это — именно смелые, отважные люди и они всегда должны быть впереди. Отставать им не годится. Если же они не идут впереди народа, какие они активисты? Правильно я говорю?
— Правильно, старина, правильно! — поддержали присутствующие.
Возчик Сунь продолжал:
— Разве мы идем не по революционному пути? А если по революционному, надо чтобы у нас скорее оказались революционные заслуги. Нам ли бояться волков впереди и тигров позади, что это еще за идеология?
Подготовленные такой речью члены группы старика Суня все как один пришли судить помещика.
Следующий день выдался ясным.
На просушенные ветрами поля осень в изобилии наложила свои яркие краски.
С крыш крестьянских лачуг свешивались гроздья красного перца, заготовленного на зиму, связки недозревших початков кукурузы, которые вялились на солнце. Крыши жилищ были в том же пестром осеннем наряде, что и поля.
Сердца людей радовались скорой уборке и учащенно бились от нетерпеливого ожидания суда над помещиком.
Еще до рассвета на большом дворе Хань Лао-лю начали собираться крестьяне, и когда рассвело, двор уже был битком набит народом. Некоторые залезли на стены, крыши флигелей и амбаров.
Женщины и дети хором распевали наскоро сложенные частушки:
Частушки понравились. К хору женщин и детей присоединилась молодежь, а затем и старики стали подтягивать.
За воротами зазвенели гонги и тарелки, загрохотал большой барабан.
— Ведут! Ведут! — зашумела толпа и хлынула к воротам.
У ворот образовалась давка, всем хотелось протиснуться вперед.
Хань Лао-лю конвоировали четверо бойцов отделения охраны. На всем пути от школы до усадьбы были расставлены часовые отряда самообороны. На всех сторожевых башнях помещичьего двора у бойниц находились дозорные.
Бай Юй-шань с винтовкой за плечами прохаживался по шоссе, поглядывая на башни. Он наказал дозорным неустанно следить за полями и тотчас же сообщать, если они заметят что-либо подозрительное. Управляющий Ли Цин-шань и Хань Длинная Шея бежали. Они могли предупредить Ханя-седьмого. Кто знает, быть может, Хань-седьмой налетит с бандой на деревню и сделает попытку спасти своего братца.
Вчера Бай Юй-шань вернулся домой очень поздно. Последнее время он очень похудел, осунулся, чувствовал усталость и, добравшись до кана, свалился в полном изнеможении. Нечаянно он задел локтем жену. Она приподнялась:
— А… пришел… Будешь кушать?.. Лепешки в чугунке…
— Не буду… Устал… Завтра суд над Хань Лао-лю. Ты тоже иди.
— А зачем бабам ходить? — недоуменно спросила Дасаоцза.
— Чего? — промычал Бай Юй-шань, засыпая.
— Я говорю, бабам идти зачем?
— Как зачем? Разве ты не хочешь отомстить за маленького Коу-цзы?.. — вяло отозвался он и захрапел.
— Я на собрании говорить боюсь. Скажу одно слово, а другого не подыщу…
Дасаоцза разбудила мужа на рассвете. Когда Бай Юй-шань ушел, она отправилась на собрание. У стены помещичьей усадьбы Дасаоцза увидела жену Чжао Юй-линя и других женщин и присоединилась к ним.
Когда помещика привели и поставили у стола, поднялся невообразимый шум. Чжао Юй-линь, распахнув гимнастерку и багровея от натуги, кричал:
— Не шуметь! Закройте рты! Становитесь как следует! Сегодня мы рассчитаемся с помещиком и предателем Хань Фын-ци. Настало время беднякам отомстить. Подходи по одному!
От толпы отделился молодой крестьянин. В одной руке он держал пику, в другой — палку. Крестьянин вплотную подошел к помещику, посмотрел на него долгим, ненавидящим взглядом, и, когда повернулся, все узнали Чжан Цзин-сяна.
— Хань-шестой — мой смертельный враг! Несколько лет назад я работал батраком на этом дворе. В конце года Хань Лао-лю не только не заплатил мне заработанных денег, но еще отправил отбывать трудовую повинность. Когда же я сбежал оттуда, он посадил в тюрьму мою мать. Хочу отомстить теперь за нее. Соседи! Можно его бить или нет?
— Можно! Можно! — громовым раскатом прокатилось по двору. — Бей его до смерти!
Над головами поднялся целый лес палок. Толпа кинулась к столу, но ее остановил отряд самообороны, и, окружив стол, бойцы отряда выставили перед собой пики.
Едва Чжан Цзин-сян занес палку, как помещик рухнул на землю.
— Притворяется! — крикнул Чжао Юй-линь.
Толпа мигом смяла охранение. Произошла свалка. В суматохе удары сыпались на головы и спины соседей. Возчику Суню сбили шляпу. Он нагнулся, чтобы поднять ее, но в этот момент на него вновь обрушился удар. Все были настолько возбуждены, что если кому и доставалось по ошибке, никто это за обиду не считал.
— Подымите его! Мы еще поговорим с ним! — закричал Чжао Юй-линь.
Когда лысина помещика вновь показалась над головами людей, к столу бросилась женщина в залатанном голубом халате.
— Ты, негодяй, убил моего сына! Вот тебе за это!..
Она ударила Хань Лао-лю по плечу, хотела размахнуться еще раз, но силы изменили ей.
Это была вдова Чжана, живущая у северных ворот. Три года назад Ханю-шестому приглянулась молодая жена ее сына, и он стал ежедневно заглядывать к ним в лачугу. Однажды взбешенный муж погнался за помещиком с ножом. В тот же вечер этого Чжан Цин-юаня отправили отбывать трудовую повинность, а по дороге подосланные помещиком убийцы, договорившись с японцами, задушили его.
— Отдай мне сына, злодей! Отдай! — рыдала в исступлении вдова.
Ее вопль потонул в тысячеголосом реве толпы.
— Отдай нам сыновей! Отдай загубленных мужей! — надрывались женщины.
— Отдай наших отцов! Братьев наших отдай! — вторили мужчины.
— Запиши еще одно преступление, — обратился начальник бригады к Лю Шэну, стоявшему с блокнотом возле стола.
Лю Шэн занес в блокнот имя убитого и время, когда было совершено преступление.
— Огласи! — распорядился Сяо Сян.
Лю Шэн поднял руку и, когда толпа несколько притихла, громким голосом прочел обвинительное заключение.
«Хань Фын-ци, — говорилось в обвинении, — убил семнадцать человек и вместе со своим сыном опозорил, а затем продал в публичные дома сорок три женщины. В каждой семье кто-нибудь работал на него даром. У тех, кто арендовал у него землю, кроме одного Ли Чжэнь-цзяна, после осенних расчетов почти ничего не оставалось. Батракам он не платил. Всех неугодных ему людей с помощью начальника японских жандармов Морита Таро Хань Фын-ци заставлял отбывать трудовую повинность».
Толпа вновь зашумела, угрожающе поднялись палки:
— Убить его! Убить!
— Нельзя оставить среди людей такого злодея!
— Пусть жизнью расплатится за свои преступления!
Начальник бригады предложил крестьянам продолжать разоблачение помещика, но люди уже не хотели ничего слушать:
— Зачем? И так все известно!
Кто-то крикнул:
— Убить его! Покуда не убьем, не разойдемся!
— Не разойдемся! — загудела толпа.
Сяо Сян бросился в школу, схватил телефонную трубку и вызвал уездный комитет. Доложив о требовании крестьян, он просил сообщить ему мнение комитета.
Толпа терпеливо ждала, бдительно следя за малейшим движением своего пленника. Он стоял на коленях, крепко связанный веревками, свесив на грудь голову. Лю Шэн сообщил много вопиющих фактов из преступной жизни Хань Лао-лю, еще не известных жителям деревни.
— Долой гоминдановские банды! Долой Чан Кай-ши! — крикнул Сяо Ван.
Тысяча голосов подхватила эти слова, разнесла по равнине до самых гор.
Начальник бригады вернулся и торжественно объявил, что уездный комитет согласен с мнением народа. Убийца должен ответить за свои преступления.
— Десять тысяч лет народному правительству! — разом выдохнула толпа.
Чжао Юй-линь и Бай Юй-шань, держа винтовки наперевес, повели на казнь Хань Лао-лю. Позади шли Го Цюань-хай и Ли Всегда Богатый, также вооруженные винтовками. Вслед за ними к восточным воротам катилась ликующая толпа, выкрикивающая лозунги, поющая радостные песни. Звенели гонги, гремели барабаны, рокотали трубы. Это был праздник освобождения.
— Я три года плакала и три года ждала этого дня! И вот он пришел, он пришел! Моя бедная Цюнь-цзы! Председатель Мао сегодня отомстит за твою кровь, отомстит! — восклицала слепая старуха Тянь, опираясь на поддерживающую ее руку Дасаоцзы.
XVIII
Большое ядовитое дерево, так долго высасывавшее ненасытными корнями кровь бедняков, было наконец срублено. Угнетатель и убийца Хань-шестой заплатил за свои злодеяния собственной жизнью.
Победа над Хань Лао-лю пробудила дремавшие в народе силы. Крестьяне толпами осаждали бригаду и просили принять их в крестьянский союз.
Сяо Сян отсылал их к Чжао Юй-линю.
— А он может? — с недоверием спрашивали некоторые.
— Почему же не может! Он — председатель.
В доме Чжао Юй-линя до самой ночи не смолкал шум голосов. У председателя не было даже времени перекусить.
— Старина Чжао, а мне тоже можно будет вступить в крестьянский союз? — спросил как-то Хуа Юн-си, жена которого умерла, когда он отбывал трудовую повинность.
— Отчего же. Найди двух рекомендующих и дело в порядке.
Однажды к Чжао Юй-линю явился хозяин харчевни, у которого некогда квартировал Братишка Ян.
— Запиши и меня, председатель, — попросил он.
— Как, и ты? — удивился Чжао Юй-линь.
— А почему нет? Я давно стою за революцию…
— Что-то непохоже. Вспомни, как ты со своим постояльцем обманул комиссию и составил фальшивый список, — сурово оборвал его Чжао Юй-линь.
— Тогда ошибка случилась, председатель… Обещаю исправиться…
— Ладно, мне недосуг сейчас с тобой разговаривать, — снова перебил его Чжао Юй-линь, чтобы отвязаться от непрошеного гостя.
— А если исправлюсь, примете потом?
— Потом и увидим, — бросил Чжао Юй-линь и, не глядя на просителя, отправился по своим делам.
Вернувшись в харчевню, хозяин с раздражением сказал своему компаньону:
— Этот Чжао забрал теперь такую власть, что и не пикнешь!
Вскоре и Ли Чжэнь-цзян пожелал заделаться членом крестьянского союза. Сам он заявить об этом не решился и подослал своего человека. Тот предложил Чжао Юй-линю сделку: Ли Чжэнь-цзян, мол, готов добровольно отдать союзу четырех из восьми своих лошадей.
— Мы лошадей в союз не принимаем. Наш союз — человеческий, — иронически заметил Чжао Юй-линь.
— Ли Чжэнь-цзян просит, чтоб его приняли за это…
— Он нам ни с лошадьми, ни без лошадей не требуется. Что касается того, как эти лошади перейдут к крестьянам: добровольно или еще с Ли Чжэнь-цзяном повозиться придется, это решат все члены крестьянского союза. Вот и передай ему, что дело от меня не зависит и будет так, как скажет собрание.
Выслушав такой ответ, Ли Чжэнь-цзян воспылал лютой ненавистью к крестьянскому союзу и его председателю.
Как-то вечером он велел старшему сыну взять мешок и веревку. Они выбрали самую жирную свинью, обмотали ей голову мешком, чтобы не было слышно визга, связали ноги и приволокли к западному флигелю.
Над деревней в тот вечер клубился туман, и люди сидели дома. На всякий случай Ли Чжэнь-цзян все же поставил младшего сына караулить у ворот, а сам со старшим сыном и невесткой прикончил свинью.
Семья пировала всю ночь. Ли Чжэнь-цзян и семь его домочадцев так объелись, что животы у них округлились, как тыквы.
Ли Чжэнь-цзян запустил хозяйство. Некормленые лошади отощали до того, что еле передвигали ноги. Жеребенок издох.
Хозяин залеживался на кане до полудня. Впрочем, лень не помешала Ли Чжэнь-цзяну причинить неприятность своему смертельному врагу Чжао Юй-линю.
Так как председатель крестьянского союза дома почти не бывал, хозяйство его пришло в упадок. Жена выбивалась из сил, но управиться одна не могла. Как-то раз, когда муж вернулся несколько ранее обычного, она напомнила ему:
— У нас топить нечем…
На другой день Чжао Юй-линь вышел за северные ворота и до самого вечера рубил кустарник. Сложив несколько больших куч, он решил, что завтра нарубит еще, попросит у кого-нибудь телегу, перевезет и надолго обеспечит семью топливом. По дороге домой он повстречал старшего сына Ли Чжэнь-цзяна, который почтительно уступил ему дорогу и с любезной улыбкой осведомился:
— Хворост рубили?
— Да, — простодушно ответил Чжао Юй-линь. — Топить дома нечем. Соседей беспокоить приходится. Жена ругается, — и прошел мимо, не придав этому разговору никакого значения.
В ту же ночь спящих обитателей лачуг разбудили крики:
— Пожар! Пожар! За северными воротами горит!
Чжао Юй-линь выбежал на улицу. Его обогнали бойцы из отделения охраны. Сяо Сян, видимо, решил, что это диверсия банды Ханя-седьмого, мстящего за казнь брата.
Но никаких бандитов не оказалось: просто горел нарубленный хворост. Ночь была ветреная, и огонь быстро пожрал плоды усердных трудов Чжао Юй-линя.
В последующие дни Чжао Юй-линь был занят распределением конфискованного имущества, и семья его снова осталась без топлива.
Наступила горячая пора. Школа с утра наполнялась народом. Начальнику бригады то и дело приходилось что-то разъяснять, советовать, давать всевозможные указания. Посетители заявляли о своем желании вступить в крестьянский союз.
Первым открыл список таких посещений помещик Добряк Ду — друг и родственник Ханя Большая Палка.
— Товарищ начальник Сяо! Уже давно хотел к вам обратиться… — начал Добряк Ду, почтительно кланяясь.
— Что вам угодно? — спросил Сяо Сян, разглядывая багрово-красную физиономию Добряка и его огромный живот.
Добряк Ду, сопя и отдуваясь, скромно примостился на самом кончике скамьи:
— Я очень хорошо понимаю, почему коммунистическая партия жалеет бедных людей. Я сам всю жизнь стремился творить добро. Посему ныне с величайшим смирением жажду отдать вам несколько грядок земли, доставшихся мне от предков. К мудрости вашей прибегая, осмеливаюсь молить о содействии…
— Моего содействия не требуется. Вам следует заявить об этом председателю крестьянского союза Чжао или же его заместителю Го.
— Председателю Чжао, заместителю Го? — переспросил Добряк Ду и возмутился: — Но ведь они оба неграмотные крестьяне и ничего не понимают!
— Почему же не понимают? Понимают! А вот в деревне есть люди, которые хотя и грамотны, но на плечах у них кочаны вместо голов, — вот те действительно ничего не понимают и поэтому не нужны крестьянскому союзу.
Лицо Добряка Ду стало совсем багровым. Но изобразив подобострастную улыбку, помещик закивал:
— Конечно, конечно! Непременно наведаюсь к председателю Чжао.
Он повернулся и мелкими шажками засеменил к выходу.
Разговаривать с таким ужасным человеком, каким ему представлялся Чжао Юй-линь, Добряк Ду не решился. Лучше разыскать Го Цюань-хая; этот еще совсем молодой, и с ним, пожалуй, можно будет столковаться. Помещик осведомился у встречных крестьян, где найти заместителя Го. Ему указали на большой двор.
Подойдя к бывшей усадьбе Хань Лао-лю, Добряк Ду увидел членов крестьянского союза, занятых учетом и распределением помещичьего имущества. Ду внимательно присматривался, стараясь заприметить каждого, кто выходил за ворота с вещами. Разыскав наконец Го Цюань-хая, он обратился к нему:
— Председатель Го, начальник Сяо прислал меня по одному делу.
— По какому делу?
— Я пришел отдать свою землю.
— Мы здесь этим не занимаемся. У нас сейчас другие дела, — сердито ответил Го Цюань-хай, продолжая разбирать вещи.
Добряк Ду отошел с видом побитой собаки, бесцельно потоптался среди занятых людей и, вдруг вспомнив о чем-то, рысцой затрусил к дому. Помещиком овладел страх, достаточно ли надежно запрятал он свои вещи. А что если крестьянский союз дознается, где зарыто зерно, куда уведены лошади? Нужно все проверить, все учесть, обо всем подумать, во всем разобраться.
На большом дворе между тем шла напряженная работа. Го Цюань-хай, Бай Юй-шань и Ли Всегда Богатый уже третий день без сна и отдыха трудились над распределением вещей. Им помогали члены крестьянского союза.
Были установлены три очереди: лучшие вещи выдавались самым бедным крестьянам, вещи похуже получали во вторую очередь люди менее нуждающиеся. Крестьяне, имевшие какие-либо достатки, удовлетворялись в третью очередь. Им доставалось старье или же то, что не так уж необходимо в деревенском обиходе.
Прежде всего была раскрыта яма во дворе, куда помещик запрятал зерно. Из ямы извлекли двести шестьдесят даней пшеницы, гаоляна, кукурузы, риса и триста кругов жмыха. Это раздали голодавшим семьям, однако не все оказалось пригодным в пищу: часть зерна проросла и заплесневела.
Чжан Цзин-сян, остановившись перед кучей гнили, сокрушенно покачал головой. Он вспомнил, как в начале весны попросил у Хань Лао-лю одолжить ему немного зерна, а тот вытаращил на него глаза и заорал: «Откуда я тебе возьму, мне и самому не хватает».
Подняв теперь початок кукурузы, Чжан Цзин-сян с досадой отшвырнул его в сторону:
— Гляди, какой злой человек был! Пусть лучше сгниет, да бедняку не достанется!..
На третий день, когда начали делить одежду, крестьяне явились за своей долей счастливые и довольные, словно наступили новогодние праздники.
Двор напоминал майскую ярмарку в Харбине. Посреди двора лежали ворохи одежды и всевозможной утвари. Пришли начальник бригады, Лю Шэн и Сяо Ван. Первое, что им бросилось в глаза, была группа людей, окружавшая возчика Суня, который, как всегда, ораторствовал.
— Старина Сунь, ты опять про медведя?
— А… начальник Сяо пришел! Нет, не про медведя. Ныне про соболий мех беседуем. Вот все говорят, будто это большая ценность, а я утверждаю, что трава, которую мы в сапоги накладываем, куда ценнее! Она ведь каждому человеку нужна, и всякий ею пользоваться может. А от этого соболя что за польза? Много ли таких людей найдется, которые в соболя одеты? Вот оно и выходит, что никакой ценности в нем нет.
Старик Сунь, поглаживая заскорузлой рукой пушистый мех, поднес его к лицу Сяо Сяна:
— Сам погляди, что тут хорошего? По-моему, собачья или кошачья шкурка куда лучше.
— А если тебе его дадут, возьмешь? — смеясь, спросил начальник бригады.
— Мне? Еще бы, с полным удовольствием!
— Да ведь ни на что не годится!
— Мне не годится, тебе не годится, а свезу в город — там всем пригодится. Продам и куплю себе лошадь.
Старик присоединился к группе Сяо Сяна, и они пошли дальше, дивясь редким и ценным вещам.
— Подумать только, — рассуждал сам с собой возчик. — Сколько имущества всякого! У Хань Лао-лю, конечно, тридцать душ в семье было. Однако все равно, если бы каждая душа по три раза на дню переодевалась, и то года на три хватило бы, да еще и осталось бы. Вот взгляни на эти лисьи шубки. Их помещичьи дети носили. А вот — каракуль…
Пошли дальше, обходя груду за грудой, ряд за рядом.
— Что же это такое? — спросил начальник бригады, показывая на голубой полог с черной каймой, похожий на палатку.
— Это чехол для коляски, — объяснил старик. — У богачей такие на все времена года имеются. Голубой — это осенний. Зимний — черный, стеганый. Как наденут его на коляску — ни ветер, ни снег внутрь не проникнут. Едут под ним — будто дома сидят. Ты только погляди, какое крепкое сукно…
— Да… это настоящий товар! — прищелкнул языком крестьянин в старой фетровой шляпе.
— Наделать бы из него штанов! — воскликнул человек, у которого нечего было надеть.
— Что́ не сделаешь — все ладно будет. Кому только он достанется? — вздохнул крестьянин в шляпе.
К чехлу подкладывали другие вещи.
— Постой! Постой! — начал распоряжаться возчик. — Сюда не надо больше. И так куча вон какая. Эту вещь лучше туда прибавь, а то там только одна шелковая кофточка. Зачем она крестьянину нужна? Ему требуется что покрепче. Эти разноцветные шелка только на вид хороши, а наденешь — сразу порвешь. Нужно так делить, чтобы всем одинаково было. Подкинь-ка сюда еще эту куртку!
Рядом возвышалась целая куча обуви.
— Прямо обувная лавка! — воскликнул старик Сунь.
Огромные резиновые сапоги японской марки лежали вперемешку с крохотными женскими башмачками из узорчатого атласа, суконными бурками с длинными голенищами, матерчатыми туфлями и грубыми башмаками. Такого разнообразия не встретишь и в большом обувном магазине.
— Вот почему я круглый год босиком хожу! — не унимался возчик. — Помещики всю обувь в землю закопали. А как делить все это будете?
— Кто нуждается, тот и получит. Только давать будем по паре, — степенно объявил старик Чу, которого приставили к распределению обуви.
— Это почему же такое! — возмутился Сунь. — Одежу по кучам, а это по паре.
— Одежа каждой семье нужна, — невозмутимо ответил Чу, — а обувь и другие вещи кому требуются, а кому и нет. Надо тебе — получай.
— То есть из какого же расчета?
— А расчет, старина Сунь, простой. Если ты, скажем, в первую очередь получаешь, должны тебе отпустить разных вещей на пятьдесят тысяч. Куча одежи в сорок тысяч оценена. Остается у тебя, стало быть, еще десять тысяч. На них можешь набрать обуви, ниток, чугунков, чашек, плуг получишь и другие вещи.
— Кто же так распорядился?
— Кто? Известно, председатель Го.
— Здорово! Вот это умная голова, — похвалил возчик. — А лошадь можно получить?
— Почему же нельзя? Только тогда одежи никакой не дадут.
— Пойдемте поговорим с председателем Го, — заторопил старик Сунь Сяо Сяна и Лю-Шэна.
У Го Цюань-хая, Бай Юй-шаня и Ли Всегда Богатого, несмотря на крайнюю усталость, был такой радостный вид, словно у хозяев, в доме которых играют свадьбу.
Завидев возчика, они шумно засмеялись.
— Старина Сунь, что ты хочешь получить? — крикнул Го Цюань-хай.
— А что дадите? — спросил тот, не сводя глаз с конюшни.
— Вот две подушки для тебя и для твоей старухи. Гляди, какие мягкие!
Го Цаюнь-хай поднял с земли пару вышитых белых подушек и протянул Суню.
— Бери!
Возчик взял, повертел в руках и стал разглядывать вышивку.
— Красные цветы, и луна, и сосна… и надпись какая-то вышита. Товарищ Лю Шэн, прочти-ка, что тут написано.
— «Молюсь за то, чтобы была у вас радость», — прочел Лю Шэн.
— Ха-ха-ха! — рассмеялся старик. — Вот уж действительно: слова, соответствующие нашему положению! Были голые и голодные, а теперь и одежу и зерно получили. Тут и без всякой молитвы возрадуешься. А что на другой подушке сказано?
— «Хороши цветочки при блеске полной луны», — прочел Лю Шэн.
— Уж это совсем непонятно, — удивленно заморгал старый Сунь.
— Смысл тут такой: это пара цветочков, распускающихся под круглой луной. Разве на тебя не похоже? — рассмеялся Лю Шэн.
— Так, так… — согласился старик. — Действительно похоже. То есть, можно сказать, точь-в-точь. Теперь все ясно! Распускающиеся цветочки — это не что иное, как я со своей старухой. Мне шестьдесят лет, а ей пятьдесят девять. Только вот на цветочки нужно обязательно надеть очёчки, а то сослепу и луны не разглядеть…
Слова его покрыл дружный хохот.
— Ха-ха-ха! Молюсь за вашу радость! Молюсь за вашу радость… Ой, пропадешь с тобой, старина! — хлопая возчика по плечу, покатывался Ли Всегда Богатый.
А старик стоял с убийственно серьезной миной, и это еще больше усиливало общее веселье.
— Нет, — заявил наконец возчик, возвращая подушки, — ни цветочков, ни луны не требуется.
— Чего ж тебе надо?
— Надо такое, что на четырех ногах стоит.
— Нет ничего проще. Здесь четвероногих вещей сколько хочешь, — ухмыльнулся Го Цюань-хай. — Вот возьми столик, будешь на кан ставить. Посчитай! Как раз четыре ноги, ни одной меньше.
— Зачем мне твой столик?.. — поморщился старик. — Ты дай мне такое, что сено и солому ест и телегу таскать может. Я полжизни возчиком работаю, а своей лошади никогда не имел.
— Это надо обсудить… — Го Цюань-хай задумался. — Обсудим и скажем тебе.
К вечеру раздача одежды была закончена. Дошла наконец очередь и до лошадей, которых оказалось тридцать шесть. Их роздали безлошадным, на каждые четыре семьи пришлось по лошади, то есть по одной лошадиной ноге на семью.
Остались только гуси и свиньи. Гусей никто не хотел брать: уж очень прожорливые. Не знали, что делать и со свиньями: дворов в деревне было четыреста, а свиней всего двадцать.
Некоторые предлагали зарезать их и устроить пирушку, чтобы отпраздновать освобождение бедняков, однако Чжао Юй-линь возразил:
— Не годится транжирить общественное добро. Это не по-бедняцки. Свиней оставим при крестьянском союзе, потом продадим и купим на эти деньги лошадей. Тогда каждый бедняк будет иметь целую лошадь, а не одну лошадиную ногу. Как вы на это смотрите?
Предложение показалось разумным, и большинство с ним согласилось.
Крестьянский союз разместился теперь в главном помещичьем доме. Так как Го Цюань-хаю жить было негде, ему отдали восточную комнату, а старикам Тянь предложили поселиться во флигеле на восточной стороне двора.
Го Цюань-хай перебрался в тот же вечер, а старики Тянь — на следующий день.
Крестьяне были так рады полученным вещам, что не могли ни есть, ни спать.
— Вот это наша власть! — приговаривали старухи.
— Это и есть настоящая демократия! — поддакивали им старики.
— Надо всегда помнить, кто дал нам эту жизнь! «Когда пьешь воду, не забывай о том, кто вырыл для тебя колодец!» — напоминали всем пословицу руководители крестьянского союза.
— Коммунистическая партия и Восьмая армия — наши великие друзья, — говорили активисты.
Все ликовали, улыбаясь показывали друг другу свои обновки.
Чжан Цзин-сян не мог налюбоваться на доставшиеся ему резиновые сапоги и, смеясь, вспоминал, как однажды помещик пнул его этим сапогом. А вот теперь они — его собственность, и он волен носить их когда вздумается. Как только случалась дождливая погода, Чжан Цзин-сян надевал сапоги и отправлялся гулять. Он нарочно выискивал самые грязные места на дороге и с удовольствием шлепал по лужам.
Его сосед Хуа Юн-си пользовался любым предлогом, чтобы прихвастнуть перед людьми полученной им женской шубкой. Его окружали и начиналось обсуждение.
— Да, хороша… ах, как хороша! Тебе, можно сказать, подвезло!
— Твоя шуба не хуже моих сапог, — поддерживал Чжан Цзин-сян.
— Беда только, что женская! — сокрушались некоторые.
— Теперь тебе, старина Хуа, обязательно жениться надо, — подзадоривали другие.
А ночью, вспоминая эти разговоры, Хуа Юн-си ворочался с боку на бок и не мог заснуть.
Ведь ему уже скоро сорок лет. Освобождение от власти помещиков, которого он так ждал, наконец наступило, пришла новая жизнь, а жены у него так и нет. Но для женитьбы нужны деньги. А что если продать шубу? Вот и деньги будут. Нет, продавать жалко, да и на ком женишься? Во всей деревне не найдешь подходящей девушки…
Вдруг он вспомнил о вдове Чжан: ей еще сорока нет, и лицом она недурна. И с этой мыслью блаженно уснул.
На другой день, поднявшись чуть свет и даже не позавтракав, Хуа Юн-си отправился к вдове.
«А если она спросит, зачем я пришел, что ответить?» — подумал он, стоя возле ее ворот. Лицо его вспыхнуло, а сердце учащенно забилось. Хуа хотел было незаметно повернуть назад, но вдова уже заметила его. Она высунулась из окна и позвала:
— Хуа Юн-си, заходи! Завтракал?
— Завтракал, завтракал, — соврал тот.
— Как рано ты встаешь! Не слишком ли много работаешь? — покачала головой вдова Чжан и с лукавой улыбкой спросила: — Куда же отправился в такую рань?
— Да так… надо зайти в крестьянский союз, поговорить с председателем Чжао по важному делу… — снова соврал Хуа Юн-си.
— Вы все там, видно, очень заняты? Жалко, что ты не бережешь себя и так устаешь… — сказала она со вздохом и бросила на Хуа лукавый взгляд.
— Да… в эти дни действительно много забот. В особенности у меня… Председатель Чжао без меня ничего не начинает и обо всем со мной советуется. Я ему всегда говорю: старина Чжао, ты не стесняйся, делай по-своему, а он говорит…
Хуа Юн-си замялся: выдумки больше не хватило. Его даже в жар бросило с досады. Но вдруг на ум пришла спасительная мысль, за которую он тотчас и ухватился:
— А как у тебя кан? Переложила уже или нет?
— Мне некому перекладывать… — смущенно потупилась вдова.
— Давай я переложу!
— О!.. Какой ты добрый… — сразу обрадовалась женщина. — Вот и хорошо, не нужно будет никого искать и тратить лишние деньги. Когда придешь?
— Да в любое время. Мне делать все равно нечего… — нечаянно проговорился он.
Женщина подавила улыбку, а смущенный своей неловкостью Хуа Юн-си поспешил уйти.
Ждать Хуа Юн-си ей пришлось недолго. Он явился еще до обеда и приступил к работе. Начался разговор о дровах, а кончилось тем, что они порешили из двух канов оставить на зиму лишь один.
Первым, кто увидел Хуа Юн-си в доме вдовы Чжан, был ближайший сосед вдовы — старик Чу. Он под большим секретом сообщил новость одному приятелю.
— Только не проболтайся! — предупредил его старик.
— Как можно!.. Никому не скажу, — обнадежил тот.
Через несколько минут приятель передал новость своему приятелю, тоже предупредив, чтобы он никому не рассказывал. Так весть облетела всю деревню, причем последний, сообщая ее своему другу, тоже предупредил:
— Ты смотри, чтоб никто не узнал!
Пока Хуа Юн-си и вдова Чжан радовались (теперь уже вместе) вещам, полученным при разделе помещичьего имущества, старик Чу со своей старухой никак не могли налюбоваться на серого в яблоках жеребца, которого получили в совместное владение с тремя своими соседями.
Он так полюбился старикам, что они поставили его к себе во двор и первую ночь так и не сомкнули глаз.
— Ты спишь? — окликал старик Чу жену.
— Нет, какое там!.. А ты?
— Тише! Послушай только, как жует!
— Иди скорей, подкинь ему.
Старик вскакивал и, взвалив на плечо мешок с рубленой соломой, шел во двор. Старухе тоже не лежалось, и она, кряхтя, тащилась следом.
Они зажигали лучину и одновременно заглядывали в кормушку. Пусто! Старик проворно подкладывал в корыто мелко накрошенную солому, старуха высыпала туда ковш отрубей, и оба с материнской нежностью смотрели на своего любимца.
Через несколько дней они чуть было не поссорились:
— Этот жеребец принадлежал раньше семье Вэй, — сказал старик, укладываясь спать, — помнишь, которая арендовала у Хань Лао-лю пять шанов земли. Во время наводнения у них весь посев пропал. Аренду платить было нечем, вот Вэй и отдал жеребца помещику. Теперь председатель Чжао хотел вернуть его бывшему хозяину, а тот отказался.
— Это почему же? — удивилась старуха.
— Человек он темный и несознательный, всяким небылицам верит. Говорит, примета такая: «Добрая лошадь не станет есть травы там, где уже ела. Тигр никогда не возвращается на то место, где он упустил добычу».
— Так чего же ты, старый дурак, позарился? Люди не берут, а ты подбираешь!
— Это ты дура, а не я, — рассердился старик. — Такая же несознательная и суеверная! Я на эти разные там феодальные приметы плюю. Где найдешь еще такого жеребца? Погляди, ноги какие крепкие!
— Тебе из четырех ног всего одна досталась, чему радуешься? — съязвила старуха, однако сама была рада-радехонька, что Вэй отказался от жеребца, и, прислушиваясь к мерному хрусту во дворе, шептала, утирая слезы умиления:
— Ты только послушай… послушай, как похрустывает…
Была в деревне и еще пара, которой не спалось, — Тянь Вань-шунь и его слепая старуха, получившие при разделе земли хороший черноземный участок, который находился невдалеке от могилки их дочери.
Как только поставили вехи, слепая старуха заторопилась в поле. Ей не терпелось посидеть на собственной земле. Тянь Вань-шунь, поддерживая жену под локоть, привел ее на берег речки.
— Пришли? — спросила слепая.
— Пришли.
Она присела, обшарила руками грядку, потрогала стволы кукурузы, захватила полную горсть земли, помяла и пересыпала с ладони на ладонь. По лицу старухи расплылась счастливая улыбка. Это их земля, ее земля! Будь она у них раньше, не попали бы они в зависимость от Хань Лао-лю и не погибла бы Цюнь-цзы.
Солнце клонилось к горизонту. Легкий ветерок шевелил побуревшие стебли гаоляна, на которых уже появились красные крапинки, и шуршал желтеющими листьями кукурузы. А старуха все сидела на краю поля и думала. Начало смеркаться.
— Пора домой. Скоро совсем стемнеет, — позвал ее Тянь Вань-шунь.
— Ты иди, а я пройду еще на могилку к нашей Цюнь-цзы…
— Пойдем, пойдем скорее… Вон какие черные тучи, — заторопил старик, стараясь придать голосу как можно больше тревоги. — Скоро дождь пойдет. Еще вымокнем…
Он знал, что слезам не будет конца.
Старики поплелись домой и только вошли в северные ворота, как их обогнала телега Суня.
— Старина Тянь! — окликнул возчик. — Садитесь подвезу. — Он остановил лошадь и с улыбкой спросил: — Ходили землю осматривать? Земля у вас хороша, что и говорить. — У каждого теперь своя радость, — продолжал возчик, когда старики уселись в телегу. — И у меня тоже… Вот она — моя радость! — Он указал на рыжего коня. — Гляди, как бойко бежит!
— Ничего, — одобрил Тянь. — А сколько ему лет?
— Восемь. Мне сначала досталась только одна его нога, а теперь я уже двумя владею. Вторую ногу сперва по распределению получил Ли Всегда Богатый. Я к нему и подъехал. «Ведь ты, — говорю, — только молотом стучишь, извозом не занимаешься, на что тебе конская нога? Раз всех лошадей в деревне подковываешь, откуда у тебя время за лошадью ходить? Отдай мне эту ногу по-братски. Ты член комитета и пример подавать должен». Он, конечно, размяк и говорит: «Ах ты, старый горшок! Ладно, так и быть, бери!» А я ему за это посулил: «Ты, — говорю, — человек хороший, только тебе и буду давать подковывать лошадь, больше никому». Нет, ты гляди: бежит-то как, а?
— Ты куда едешь? — поинтересовался Тянь Вань-шунь.
— На северный двор. Теперь так большой двор Хань Лао-лю называют. Председатель Го, когда зерно делил, всем дал, одного себя забыл. Вот везу ему немного кукурузы, а то он совсем отощал… Но! — крикнул он на лошадь, объезжая грязь. — А ты слышал, — продолжал разглагольствовать возчик, когда телега покатилась по гладкой дороге, — пастушка ведь вылечили. Военный доктор смазал ему чем-то раны и вылечил. Доктора Восьмой армии все такие же, как Хуа То[21]. А ведь как был изранен, места живого на нем не было.
— А у кого живет теперь сирота? — спросила старуха.
— Председатель Го сказал, пусть у меня живет, а председатель Чжао не согласился. «Как можно! Ты, — говорит, — холостой, где тебе воспитывать мальчика! Надо ему и чай вскипятить, и обед сварить, и одежу починить. Возьму к себе: голодным не будет…» Стой, ты! — крикнул Сунь на лошадь.
Телега остановилась у бывшего помещичьего двора.
Возчик спрыгнул, взвалил на плечи тяжелый мешок с кукурузой и понес его Го Цюань-хаю. Пока он ходил, старик и старуха Тянь приволокли из дому полную корзину картофеля и попросили отвезти в подарок пастушку.
Возчик поставил ее на телегу и поехал к дому Чжао Юй-линя. На полпути он встретил Бай Юй-шаня и, заметив под его левым глазом огромный синяк, придержал лошадь.
— Никак ранение получил на поле брани? Кто тебе поднес?
— Несознательный элемент… — с грустью признался Бай Юй-шань и рассказал об очередной стычке с женой.
При дележе земли ему достался хороший участок и недалеко от дома. Нашлись завистники и пошли разговоры да пересуды.
Когда эти пересуды достигли ушей Бай Юй-шаня, он взял и обменялся своим участком с одним холостяком, земля которого находилась далеко от деревни. Довольный собой, Бай Юй-шань рассказал обо всем жене.
Дасаоцза в этот момент шила ему туфли. Она подняла черные брови и обрушилась на незадачливого супруга:
— Ты бестолковый дурак! Сменял кусок жирного мяса на кость. Я с тобой полжизни горе мыкала. Неужели еще придется…
— Активисты должны подавать пример, — возразил муж.
— Пример примером, а есть тебе надо или нет?
— Не беспокойся, голодными не останемся…
— С тобой не только голодной будешь, а и помрешь! Вот пойду сейчас в крестьянский союз и верну землю…
Она спрыгнула с кана, но Бай Юй-шань схватил ее за руку. Жена оттолкнула его. Произошла схватка, и новая туфля угодила твердым носком прямо в глаз Бай Юй-шаня. Увидав кровь, Дасаоцза пожалела, что погорячилась, но выказать слабость сочла унизительным и, сев на кан, отвернулась.
Бай Юй-шань очень обиделся, не стал обедать и, уходя, с досадой бросил:
— Несознательный элемент!..
Возчик Сунь, заучивший последнее время еще несколько мудреных слов и щеголявший ими при всяком удобном случае, с философским спокойствием заметил:
— Женская голова сразу всего уразуметь не может. Женщин надо прежде поднять до идеологического уровня. Дискутировать с ними прямо-таки ни к чему.
А попрощавшись с Бай Юй-шанем, он подумал: «Доведись мне получить землю так близко, ни за что бы не стал менять…»
Телега подкатила к дому Чжао Юй-линя. Вся семья сидела за ужином. Сунь внес корзину с картошкой и объяснил, что старуха Тянь прислала это в подарок пастушку.
— Поужинай с нами, — пригласила хозяйка. — Со-чжу, принеси чашку и палочки.
— Спасибо, Со-чжу, не надо! — отказался возчик. Окинув взглядом стол, на котором находилась только капуста, стручки зеленого перца и жидкая кукурузная каша, он неодобрительно покачал головой:
— Непонятный ты для меня человек! Председатель, а хлебаешь жиденькую кашу, когда мог бы кушать пшеничные лепешки.
— Что слышно в деревне? — пропустив мимо ушей замечание возчика, спросил Чжао Юй-линь. — Довольны бедняки? Как думаешь, розданной одежды хватит людям на зиму?
— Бедняки только тем недовольны, что председатель самого себя обидел. Все меня спрашивают: разве председатель Чжао не бедняк? Почему же ему ничего не дали? Я им, конечно, объяснил, что раньше председатель Чжао, подобно всем нам, был гол, как сокол, и звали его не председателем, а голодран… — даже и повторять неудобно, — а теперь, когда все мы людьми стали, председатель Чжао среди нас большим начальником сделался, а большой начальник для людей работает. Кто о других заботится, тот самого себя обязательно обижает. А по совести говоря, такая ситуация больше всех меня расстраивает! Предполагаю я, что иностранные капиталисты с империалистами над деревней Юаньмаотунь очень смеются. И такая их, можно сказать, идеология определенно свою базу имеет. Что это за деревня, которая одного председателя прокормить не может!
— Ай ты, старый враль! — добродушно расхохотался Чжао Юй-линь, старательно обмакивая в сою капустный лист. — Чего же ты меня срамишь? Гляди, вся семья у нас теперь приоделась. — Он указал на себя, жену, Со-чжу и пастушка. На всех были потрепанные ситцевые рубашки, полученные Чжао Юй-линем в третью очередь из помещичьего старья.
Речи на эту тему Чжао Юй-линь слышал уже не раз и даже в собственном доме. Первой заговорила его жена. Увидев, что другие несли с большого двора целые узлы, она заметила:
— Нам должны были дать вещи в первую очередь, а досталось всего несколько старых рубах. Как же мы зиму переживем?
— Во времена Маньчжоу-го совсем голыми ходили, а теперь кое-что имеем, — ответил Чжао Юй-линь.
Жена перечить не стала. Она была мягкой и покорной женщиной, и хотя много горя пришлось хлебнуть ей за эти годы, ни слова упрека не сорвалось с ее губ. Она любила этого умного, смелого и честного человека. Муж был для нее всем. Сейчас он стал председателем, и все говорили, что и ее тоже люди стали больше уважать. Но что значит быть председателем, она не понимала. Она только замечала, что с тех пор, как муж сделался председателем, он начал вставать до света, ложиться за полночь, все время был занят делами крестьянского союза и совсем забросил свое хозяйство. У него даже не было времени воды и хворосту принести. От того, что муж стал председателем, ей не стало легче, но она смирялась со своим новым положением и ничем не выказывала недовольства. И если он так сказал, значит большего и действительно не надо.
Но Чжао Юй-линь, у которого дела в крестьянском союзе шли гладко, был доволен всем. Все хорошо, и жена у него очень хорошая, он ее и на золото не променяет. Вот только она опять чего-то хмурится и молчит. Да, последнее время он и вправду совсем забросил хозяйство. Хворост, который он нарубил, подожгли, и жене теперь приходится занимать у соседей. «Надо завтра же попросить у кого-нибудь телегу, поехать в лес и привезти побольше хворосту, — решил Чжао Юй-линь. — Тогда уж с ним ничего не случится».
— Ты не торопись, — ласково сказал он жене, — когда у людей все будет, и у нас с тобой будет…
Жена хотя и не могла понять, почему вместо хороших вещей, полученных другими, им достался всего лишь узелок старья, но спорить все-таки не стала.
— Я ничего… я потерплю… — глухо отозвалась она. — Только топить нам нечем…
Последнее время он забросил домашние дела и все взвалил на жену, и она, краснея от стыда, каждый день должна была занимать дрова. Чжао Юй-линь решил завтра же попросить у соседей лошадь и привезти побольше топлива, чтобы в нем не было нужды.
XIX
На следующий день Чжао Юй-линь, нарубив дров, вернулся в деревню с наполненным доверху возом. Он распряг лошадь и повел к колодцу, но едва вылил в каменное корыто первое ведро, как увидел запыхавшегося Лю Дэ-шаня.
— Ты еще лошадь поишь!
— В чем дело?
— Банда сюда идет! Хань-седьмой с сотней стрелков уже в деревне Саньцзя. Все в белых рубахах. Говорят, что это траур по Ханю-шестому. Решили, видно, рассчитаться с нами за казнь помещика, а ты тут лошадку поишь! — и Лю Дэ-шань, махнув рукой, исчез в кустах.
Чжао Юй-линь опрометью бросился домой, схватил винтовку и поспешил в школу.
Сяо Сян нетерпеливо встряхивал телефонную трубку, дул, кричал в нее, отдавая одновременно распоряжения Чжану:
— Сейчас же вышли двух бойцов на разведку в Сань-цзя!.. А! Чжао Юй-линь! Вот хорошо, что ты пришел… Скажи всем, чтобы паники не устраивали. Объясни, что спокойствие — сейчас самое главное. Не будет паники, любая банда с нами ничего не сделает. Почему телефон не работает?..
Чжао Юй-линь выбежал на улицу.
Вся деревня была на ногах. По шоссе метались люди, держа в охапках наскоро связанные узлы. Одни запрягали лошадей, другие наваливали на одноколки домашний скарб.
— Остановитесь! — во весь голос закричал Чжао Юй-линь. — Ничего страшного нет! Чего испугались? Банда к нам не прорвется. Ручаюсь! Начальник Сяо уже позвонил в уезд. Скоро Восьмая армия будет здесь.
Уверенный голос председателя сразу подействовал на крестьян. Люди стали постепенно успокаиваться и расходиться по домам.
Сяо Сян швырнул телефонную трубку на стол.
— Линию перерезали!.. Чжан, скачи в уезд! Скажи, чтоб сюда, как можно скорее выслали отряд. Пусть идут через деревню Саньцзя.
Он выхватил из кармана блокнот и быстро написал:
«Уездному комитету. Срочно.
В деревне Саньцзя появилась банда численностью человек в пятьдесят. Немедленно высылайте роту.
Привет! Сяо Сян».
Командир отделения Чжан козырнул и, взяв письмо, вышел.
Школа начала наполняться народом. Прибежал Бай Юй-шань. Начальник бригады, взяв его под руку, отвел в угол:
— Как у тебя дела?
— Все готово, начальник.
— А что все?
— Винтовки, дробовики, пики. Пушку тоже приготовили. «Воду, — говорит пословица, — удерживай плотиной, а бандита — оружием».
— Так… а если не удержим? — испытующе посмотрел на него начальник бригады.
— Что ж, убежим.
— А если не успеем?
— Бросимся прямо на бандитов. У них по паре глаз, у нас тоже по два. Поглядим еще: кто кого напугает.
— Верно говоришь. Раздели́ отряд самообороны. Половину оставишь при себе для охраны деревни. Получишь еще одну винтовку. Чжан Цзин-сян — твой помощник? Вот ему и отдашь. Помни, деревню Юаньмаотунь защищать нетрудно: и земляной вал есть, и укрепления третьего батальона еще целы. Картечную пушку надо поставить за южными воротами. Остальные ворота закрой. Люди с дробовиками пусть займут оборону. Чжан Цзин-сяна и еще двоих отряди охранять шоссе. Если придется отступать, отходи к большому двору. Заранее предупреди жителей, чтобы в случае чего собирались туда. Сам же с бойцами займи сторожевые башни. Так можно будет целый месяц держаться. Распорядись, чтобы каждый запасся едой на неделю.
— А ты, начальник?
— Начальник Сяо… — вбежал перепуганный возчик Сунь, — запрягать прикажешь? Я мигом…
Все засмеялись.
Сяо Сян не ответил. Он уже давал указания кузнецу Ли:
— Твоя задача — быть бдительным. Гляди, чтобы реакционеры не подняли голову. А начнут действовать — расстреливай на месте.
Бай Юй-шань, Ли Всегда Богатый и Чжан Цзин-сян, которым была поручена охрана деревни, ушли.
Сяо Сян, заткнув маузер за пояс, решительными шагами направился к южным воротам. За ним следовали Сяо Ван, Лю Шэн и бойцы отделения охраны бригады. Винтовки у всех были заряжены, примкнутые штыки поблескивали на солнце. Чжао Юй-линь с толпой крестьян, вооруженных дробовиками, топорами, мотыгами и палками, замыкал отряд.
Когда отряд достиг южных ворот, Го Цюань-хай развернул красное шелковое знамя, на котором рукой жены Чжао Юй-линя были нашиты белые иероглифы: «Крестьянский союз деревни Юаньмаотунь». Однако Сяо Сян распорядился знамя не брать.
Го Цюань-хай укрепил знамя на земляном валу, и оно затрепетало под налетевшим ветром.
Перейдя мост за южными воротами, люди, разбившись на группки, пошли по шоссе. Начальник выслал двух бойцов в боевое охранение.
— Живей! — махнул рукой Сяо Сян. — Надо быстро добраться до холмов и занять самый высокий.
Вдруг где-то впереди раздалось несколько выстрелов. Начальник прислушался.
— Еще далеко, — заметил он.
Но люди невольно начали тесниться к обочинам шоссе, некоторые свернули даже в поле. Многие из них никогда не участвовали в бою.
— Не бойтесь! За мной! — крикнул начальник и бегом бросился вперед.
Снова загремели выстрелы, уже ближе, но на этот раз никто не свернул с шоссе.
— Ложись! — приказал начальник.
Колонна залегла, но сам Сяо Сян остался на ногах. Пуля задела ему руку, содрав кожу.
Сяо Ван и Лю Шэн бросились к нему.
— Ты ранен?
— Нет! Пустяки… Они недалеко. Вон там, — показал здоровой рукой начальник.
— Давай ударим, — предложил Чжао Юй-линь.
В этот миг какая-то сила неожиданно вырвала из его рук винтовку. Пуля отщепила часть приклада. У Чжао Юй-линя от злости перехватило дыхание. Он бросился в сторону выстрелов и скрылся в гаоляновом поле.
Все увидели, как Чжао Юй-линь, показавшись на пригорке, взмахнул руками и медленно осел на землю.
— Куда тебя? — склонился над ним Сяо Сян, поднимая запрокинувшуюся голову раненого.
Чжао Юй-линь с трудом поднял веки:
— Ничего, начальник… ничего…
— Вань Цзя, осмотри. Если рана тяжелая, немедленно вези в город! — приказал на ходу начальник.
Подбежал Го Цюань-хай, взглянул на побледневшее лицо друга, опустился на колени и прерывающимся голосом спросил:
— Ну как… председатель?..
— Не мешкай… бей бандитов. Возьми… мою винтовку…
В груди Чжао Юй-линя что-то клокотало.
— Оставьте мне кого-нибудь в помощь, — попросил Вань Цзя.
— Старина Чу, останься здесь! — крикнул Го Цюань-хай и, крепко пожав вялую руку Чжао Юй-линя, поднял его винтовку.
— Го!.. пат…роны.
Го Цюань-хай осторожно снял с него залитый кровью патронташ и побежал догонять товарищей.
Когда шум его шагов затих, раненый простонал:
— Мама!.. тяжко… помираю… Вань Цзя… Вань Цзя… при… при… стрели!
— Что ты, брат Чжао. Еще поправишься. Старина Чу, беги за телегой!
— Вань Цзя, не надо… ни…куда не надо вез…ти. Мне все одно конец… Пристрели!..
Отряд захватил возвышенность. Сяо Сян приказал таскать камни, рыть окопы.
Послышались дикие крики, над кукурузой показались озверевшие лица, бандиты бросились на укрепление. Как только первые из них подбежали к пригорку, Сяо Сян приказал открыть огонь.
Двое бандитов упали. Остальные бросились обратно.
Передышка длилась недолго. Хань-седьмой предпринял новую атаку. На этот раз он изменил тактику. Бандиты поползли через кустарник, собираясь нанести удар с флангов.
— Брат, дай-ка твою винтовку, — обратился Хуа Юн-си к лежавшему рядом с ним молодому бойцу из отделения охраны.
Тот передал ему винтовку. Хуа Юн-си отложил свой дробовик, взял винтовку и, припав щекой к прикладу, прицелился.
— Погоди, не стреляй! — обернулся он к товарищам.
Бандиты осмелели. Некоторые даже поднялись во весь рост.
— Стреляй, черепаха! Или давай винтовку! Ты что, предатель! — рассвирепел боец.
— Не торопись, — успокоил его Хуа Юн-си. — Погляди, как надо…
Он выстрелил, и бандит, как подкошенный, свалился в траву. Следующей пулей он уложил еще одного. После третьего выстрела бандиты повернули назад.
— Как тебя зовут? — почтительно спросил восхищенный боец.
— Зовут Хуа Юн-си, а прозывают стрелок Хуа, — ответили ему сзади. — Он у нас в деревне первый охотник.
— Скоро мы его женить будем, — рассмеялся кто-то.
Сяо Сян подозвал Го Цюань-хая. Они посовещались. Го Цюань-хай с одним бойцом из отделения охраны пополз по борозде между грядками, и через некоторое время на левом фланге врага, где проходила дорога, послышались выстрелы. Бандиты зашевелились и перенесли огонь в сторону дороги. Как раз оттуда мог подоспеть отряд из уездного города и отрезать им путь к отступлению.
— Так, — улыбнулся Сяо Сян, — теперь им придется защищать свой левый фланг.
Он положил маузер перед собой, достал из кармана замшевый кисет и, свертывая папироску, спросил Хуа Юн-си:
— Патронов хватит? Нам надо продержаться до вечера.
— Должно хватить.
— А когда это ты выучился так хорошо стрелять?
— Да я с малых лет научился. Ведь я охотник. Было бы патронов достаточно, всю бы банду перебили.
Наступил вечер.
Бандиты, наконец, поняли, что выстрелы на их левом фланге были просто провокацией, и возобновили огонь по пригорку.
Пули засвистели над головами. Одна из них пробила фуражку Сяо Сяна. Хуа Юн-си выжидал. Едва над кукурузой показалась голова, он одним выстрелом уложил бандита.
— Наступают! — воскликнул Хуа Юн-си.
— В контратаку! — скомандовал Сяо Сян. — Все за мной!
Сяо Сян и Хуа Юн-си выбрались из окопов и бросились вперед.
— Не бойся! — подбадривал бойцов Хуа Юн-си. — Революционеры не должны бояться смерти! Прикончим Ханя-седьмого, тогда и заживем спокойной жизнью!
Сяо Сян выпускал из маузера обойму за обоймой.
Бандиты падали, как подкошенные. Вооруженные пиками крестьяне подбирали винтовки, снимали с убитых патронташи. Хуа Юн-си уже не экономил пуль.
Среди убитых нашли и Ханя Длинная Шея. У бедняков деревни Юаньмаотунь одним заклятым врагом стало меньше.
— Гляди, а у мертвого-то шея еще больше вытянулась.
— Чего хмуришься? Не рад? Ну так мы тебе и не дадим радоваться! Беги скорей, нагоняй Хань Лао-лю, будешь ему в аду прислуживать.
Среди бандитов произошло замешательство. Неожиданно в трескотню винтовочных выстрелов ворвалась пулеметная очередь. Сяо Сян прислушался:
— У бандитов не было пулеметов. Это наши! — радостно закричал начальник. — Вперед, земляки!
— Вперед! — подхватил обливавшийся потом Лю Шэн.
Отряд преследовал бандитов. Сяо Сян и Хуа Юн-си так разгорячились, что уже перестали отдавать распоряжения, да люди и не нуждались в этом. Услышав пулеметную стрельбу, они поняли, что долгожданное подкрепление наконец прибыло. Всех охватило страстное желание немедленно разгромить банду. Страха уже не было.
На побуревшей гаоляновой ниве замелькали зеленоватые мундиры солдат Восьмой армии. На пригорке появился коренастый человек. Он размахивал маузером и кричал:
— Товарищи! Не тратьте патронов понапрасну! Бандиты окружены. Мы захватим их живьем.
— Неужели удастся? — спросил Хуа Юн-си.
— Ручаюсь, — весело обнадежил человек с маузером. — У нас ни один не убежит.
Все устремились в низину и там увидели бандитов. Сгорбившиеся, с искаженными от страха лицами, они стояли по колено в жидкой грязи и, моля о пощаде, держали винтовки над головами. Когда подошел человек с маузером, крестьяне бросили пики и захлопали в ладоши. Один крестьянин взобрался на пригорок, прикрыл глаза рукой от солнца, огляделся и весело закричал:
— Ого-го! Да наших не меньше тысячи…
— Откуда тысяча? — возразили ему. — Самое большее — рота. Хватил!
Связанных бандитов вывели из болота и пересчитали. Их было тридцать семь человек.
Человек с маузером оказался командиром роты Ма. Сяо Сян подошел и пожал ему руку. Они были давно знакомы, и между ними тотчас же завязался разговор.
Ма рассказал, что записка была получена в обед. Чжан, доставивший записку, настаивал, чтобы рота шла напрямик в деревню Юаньмаотунь, полагая, что банда уже там.
— Я сказал: нет! Сначала зайду в деревню Саньцзя, а уже оттуда двинусь на север. Я знал, что не опоздаю, что ты сумеешь задержать бандитов.
— Что ты с этой сволочью намерен делать. Отдашь их нам или как… — улыбнулся Сяо Сян.
— Не отдам! — отрезал Ма. — Доставлю в уездный город. Парочку отправлю в Имяньбо. Пусть там полюбуются на живых бандитов.
— А Ханя-седьмого ты уж здешним крестьянам оставь, товарищ Ма. Он им много зла причинил! Эй! — крикнул начальник бригады. — Кто знает Ханя-седьмого, пусть укажет! Возьмем его себе.
Крестьяне бросились к пленным, заглядывая каждому в лицо, но главаря они так и не нашли.
— Должно быть сбежал! — воскликнул кто-то.
— Сбежал? — переспросил Хуа Юн-си. — Как же так, товарищи! Раков вытащили целую сеть, а большую рыбу упустили.
— Тигра на сопку выпустили, — возмутился человек в соломенной шляпе. — А обещали: «живьем возьмем». Где теперь искать его в таком просторе? Залезет в гаолян, тысяча человек его не найдет…
— С него все станет: хитер как лисица.
— Как можно было оставить на воле такого злого чорта! — с досадой сказал Хуа Юн-си.
Командир роты чувствовал себя виноватым. Неужели он действительно выпустил главаря? Нет, банда окружена по всем правилам военного искусства…
— Постойте, — проворчал Ма. — Не убит ли он? Я сейчас расспрошу пленных, а вы обыщите все кругом.
Пленные точно не знали. Одни говорили, что убит, другие — бежал, третьи, опустив головы, молчали.
Сяо Сян послал Хуа Юн-си и человека в соломенной шляпе искать Ханя-седьмого среди убитых.
— Вот он! — раздался вдруг голос Хуа Юн-си из кустов орешника.
Люди с радостными криками бросились туда.
Грянул выстрел.
— Кто стреляет?
— Я, — отозвался Хуа Юн-си.
— Как, разве он живой?
— Нет, мертвый…
— Зачем же палишь?
— Боюсь, чтоб не сбежал:
— Мертвый да убежит, — сказал кто-то, и все дружно рассмеялись.
Крестьяне окружили труп заклятого врага. Хань-седьмой лежал на спине, широко раскинув руки. Неподвижные глаза его были устремлены в небо.
Весть о смерти главаря бандитов молниеносно разнеслась. Крестьяне толпой повалили к орешнику. Всем хотелось удостовериться, что Хань-седьмой, так долго наводивший ужас на деревню Юаньмаотунь, наконец уничтожен.
Ротный писарь, подсчитав трофеи, доложил: тридцать шесть винтовок, браунинг и маузер.
— Хорошо, — сказал Ма. — Двенадцать винтовок оставим тебе, товарищ Сяо, вооружи ими бойцов отряда самообороны. Остальные возьмем с собой.
Выйдя из орешника, крестьяне окружили командира.
— Товарищ командир роты Ма, просим зайти в нашу деревню, передохнуть денек-другой.
— Ничего особенного у нас, конечно, нет, но свежей кукурузы вдоволь. Уж не побрезгайте нашим угощением, — приглашали крестьяне.
— Нет, — ответил командир, — к сожалению, не могу. Спасибо за внимание, но мы должны сейчас же вернуться в город.
— Как же так, товарищ Ма?.. Разбили банду, спасли нас и наши семьи и хотите уйти назад, даже чаю не напившись. Не отпустим! Так нельзя!
Обняв бойцов за плечи, крестьяне тащили их за собой. Те со смехом отбивались.
Наконец Сяо Сян и Лю Шэн растолковали своим людям, что у роты определенное задание и командир не имеет права задерживаться: военные самим себе не принадлежат. Лишь после этого крестьяне отступились.
— Нарвем тогда поскорей кукурузы, груш и орехов да подарим товарищам на дорогу, — предложил Хуа Юн-си.
Все дружно принялись за работу.
— Чье это поле? — спросил Хуа Юн-си.
— Чье бы ни было, рви! Потом возместим хозяину.
Нагруженные кукурузой, дикими грушами и орехами, крестьяне бегом догоняли уходившую роту и наперебой совали подарки за пазуху бойцам.
Солнце уже садилось, когда крестьяне возвращались в свою деревню. На юго-западе плыли красные, огненные облака. Среди побуревшего гаоляна в лучах заходящего солнца поблескивали наконечники пик. Люди оживленно обменивались впечатлениями прошедшего дня. Кто-то затянул песню.
Сяо Сян, который шел во главе отряда, обернулся:
— Где Го Цюань-хай? — вдруг спросил начальник бригады у Хуа Юн-си.
— Не знаю, — ответил тот. — Эй, кто видел председателя Го? Начальник Сяо зовет!
Все заволновались, и отряд остановился. Неужели Го Цюань-хай погиб?
— Кто пойдет на розыски? — спросил начальник.
— Я пойду! — вызвался Сяо Ван.
— Я тоже! — крикнул Лю Шэн.
— И я, — присоединился к ним Хуа Юн-си.
Захватив пятерых бойцов, они повернули назад к деревне Саньцзя. Уже совсем стемнело. Люди разбрелись во все стороны и начали поиски.
Сяо Ван направился к тому месту, откуда Го Цюань-хай вел стрельбу. Вдруг он услышал шорох.
— Кто идет? — спросил Сяо Ван.
— Мы!.. Это товарищ Ван?..
Сяо Ван узнал голоса Го Цюань-хая и сопровождавшего его бойца.
— Нашел! Здесь! Скорее сюда! — закричал Сяо Ван.
Сбежавшиеся люди увидели смельчаков. Первый был ранен в грудь и бедро, у второго была прострелена нога.
— Воды! Воды!.. — стонали раненые.
Но чистой воды поблизости не было.
— Товарищ Ван… — просил Го Цюань-хай, — сделай доброе дело… дай хоть из лужи напиться…
По дороге загромыхала телега.
— Нашли? — крикнул подъехавший Бай Юй-шань.
В телегу настелили просяной соломы, уложили на нее раненых и тронулись в деревню.
Когда отряд входил в южные ворота, там уже ожидала толпа. Люди радовались победе, пели песни, танцевали. Чжан Цзин-сян и другие с воодушевлением били в гонги и барабаны.
Прибежал возчик Сунь.
— Я знал, что бандитам не устоять! — шумел он. — Разве же эти разбойники могут выдержать удар нашего начальника Сяо!
— Почему же ты весь вспотел, когда услыхал выстрелы? — расхохотался Бай Юй-шань.
— Это у меня такой физический недостаток, брат Бай. Я старик, и ноги у меня слабые. Будь в твоих летах, я бы банду не то, что в пятьдесят человек удержал, а и в пятьсот!
— Это само собой разумеется. Кто же усомниться может, — похлопал его по плечу Сяо Сян.
Телефонная линия была уже восстановлена, и начальник бригады доложил уездному комитету о ликвидации банды. Ему передали благодарность и сообщили, что раненого Чжао Юй-линя поместили в больницу, но есть ли какая-нибудь надежда на выздоровление, сказать пока трудно.
— У меня есть еще раненые. Сейчас отправляю в город. Надеюсь, сделаете все, чтобы скорее их вылечить.
Начальник бригады повесил трубку и приказал Бай Юй-шаню отрядить двух человек с винтовками для сопровождения раненых.
XX
В деревне Юаньмаотунь было так весело, будто наступил радостный праздник. С утра загудели гонги, загремели барабаны и завыли трубы.
Первыми на эти звуки прибежали ребятишки, затем подошли взрослые, и школьная площадка мигом заполнилась народом. Чжан Цзин-сян под аккомпанемент гонгов и труб запел и стал приплясывать.
— Соседи! Товарищи! — крикнул он. — Мы срубили самое большое ядовитое дерево — этого проклятого Хань Лао-лю — и уничтожили банду Ханя-седьмого. Надо повеселиться по этому случаю.
— Спой о продавце ниток! — крикнул возчик Сунь, который стоял на своей телеге, держа в руках кнут.
Он ехал в поле жать просо, но, услышав музыку, завернул к школе.
Чжан Цзин-сян, отбивая ритм бамбуковыми кастаньетами, запел:
Так как Чжан Цзин-сян при этом не только многозначительно посмотрел, но прямо указал пальцем на возчика, все расхохотались.
В дверях показались начальник бригады, Сяо Ван и Лю Шэн. Увидев смущение старика, они попытались скрыть улыбки.
— Глядите-ка на этого мальчишку… — обиженно сказал возчик. — Вырастили такого большого болвана, который и петь-то как следует не умеет, а стариков высмеивает.
Но все продолжали хохотать, и смех был так заразителен, что в конце концов не выдержал и сам возчик.
— Это очень длинная песня. Давай покороче! — крикнул кто-то.
— Спой лучше «Разбитый арбуз», — предложил другой.
Чжан Цзин-сян охотно ударил в барабан и запел:
Раздался смех, послышались аплодисменты. Но некоторые остались недовольны песней:
— Хватит петь эти помещичьи песни!
— Споем новую! Кто хочет?
— Все хотим! Все хотим!
Чжан Цзин-сян прервал пение, переглянулся с Лю Шэном и сказал:
— Ладно! Новую, так новую. Спою песню, которой меня товарищ Лю Шэн выучил, — песню Восьмой армии.
— Пой! Пой! Просим! — раздались возгласы.
Чжан Цзин-сян начал:
Когда Чжан Цзин-сян кончил, возчик Сунь предложил:
— А теперь попросим товарища Лю Шэна. Пусть споет нам какую-нибудь песню из пьесы «Девушка с седыми волосами». Как вы на это смотрите?
— Просим! Просим!
Лю Шэна втолкнули в круг.
Он не стал отказываться и запел:
Но в этот момент в толпе заспорили:
— Врешь!
— Ничего не вру…
— Так, значит, тебе наврали!
— Сам увидишь, гроб уже пронесли мимо постоялого двора. Скоро здесь будут…
Люди, забыв о песне, столпились вокруг спорящих, и вся школьная площадка принялась взволнованно обсуждать новость. Гонги и барабаны умолкли.
Лю Шэн, растолкав людей, бросился к Сяо Вану:
— Что случилось?
— Говорят, Чжао Юй-линь… — и Сяо Ван отвернулся, чтобы смахнуть слезу.
Несколько человек уже побежали по шоссе к западным воротам. Толпа устремилась за ними. Навстречу показалась процессия: восемь носильщиков несли на плечах простой некрашеный гроб. Толпа в молчании расступилась, пропустила процессию и медленно пошла за гробом.
Гроб поставили в центре школьной площадки, зажгли погребальную лампу, установили два жертвенных столика. На столиках появились блюдца: одно с помидорами, другое с дикими яблоками и пачкой золотой бумаги, заменяющей деньги, необходимые духу умершего для путешествия в подземный мир.
Все обнажили головы и кольцом обступили гроб.
— Жена еще не знает? — тихо спросил кто-то.
— Старик Сунь поехал предупредить…
— Вон она идет…
Жена Чжао Юй-линя, которую вдова Чжан и Дасаоцза заботливо поддерживали под руки, шатаясь, вошла в ворота. Ее худое лицо потемнело. Позади, опустив головы, следовали Со-чжу и пастушок У Цзя-фу.
Толпа расступилась, освобождая дорогу. Когда женщину подвели к гробу, она зарыдала и рухнула на землю.
Рядом, стоя на коленях, плакали Со-чжу и пастушок.
У всех присутствующих потекли слезы. Многие подумали о том, кем был для них Чжао Юй-линь, отдавший жизнь ради их счастья, вспомнили, что перенесла семья этого человека в проклятые годы Маньчжоу-го. И вот зацвела наконец новая жизнь, а он ушел навсегда…
— Зачем ты оставил меня, мой родной?.. — стонала жена погибшего.
— Папа, папа, проснись… — жалобно повторял Со-чжу.
Сяо Сян нервно заходил по площадке. Картины прошлого быстро сменялись одна другой, выше и выше поднимая в сердце волну скорби, которая подступала к горлу.
Тогда Сяо Сян присел в тени под вязом и принялся чертить на земле узоры, стараясь думать только о том, что́ он сейчас делает. Это его немного успокоило, и почувствовав, что воля восторжествовала, он поднялся и подошел к музыкантам.
— Играйте… — мягко сказал Сяо Сян.
Трубы начали печальный мотив, сопровождаемый величаво-торжественным звучанием гонга и приглушенной дробью барабанов. Люди опустились на колени.
— Зачем мне жить теперь? — рыдала над гробом женщина.
Дасаоцза и вдова Чжан стояли возле нее на коленях и утирали ей слезы.
— Не надо плакать, не надо плакать… — уговаривали они и сами прятали за ее спиной залитые слезами лица.
Люди жгли золотую бумагу, которая, сгорая, обращалась в невидимые деньги, и ветер крутил над гробом черный пепел.
Музыка смолкла. Лю Шэн, взявший на себя управление погребальной церемонией, встал и сделал знак рукой. Все поднялись и почтили память усопшего тремя глубокими поклонами.
— Откроем… — тихо проговорил возчик. — Пусть жена в последний раз посмотрит на нашего дорогого брата.
Он сдвинул крышку гроба. Женщина вскочила.
— Подожди, — остановил ее старый Сунь, — вытри прежде глаза. Нельзя орошать слезами покойника[22].
— Будь осторожна, — предостерег старик Тянь, — близко не подходи, чтобы твоя тень не заслонила гроба.
— Это может повредить твоему здоровью, — пояснил возчик Сунь.
Но жена Чжао Юй-линя судорожно вцепилась пальцами в край гроба и не мигая смотрела на восковое лицо мужа, обрамленное черной бородкой. Из ее глаз катились крупные, как бусы, слезы.
Старик Сунь быстро прикрыл лицо покойника своим рукавом, осторожно отстранил женщину и задвинул крышку. Крестьяне по одному стали подходить к гробу. Вспоминали заслуги погибшего, говорили, что всегда будут помнить о нем. Старый Сунь старательно вытер глаза и с искренним чувством заговорил:
— Брат Чжао был лучшим из нас. Он шел впереди, он работал для нашего блага, терпел лишения и невзгоды, чтобы нам теперь жилось хорошо. Это был настоящий председатель!..
Сунь сделал остановку, и Бай Юй-шань воскликнул:
— Будем учиться у председателя Чжао честно служить народу!
— Будем учиться! — хором повторили все.
— Скажу к примеру, — продолжал возчик. — Когда делили имущество помещика, брат Чжао отказался от хороших вещей и получил в третью очередь то, что осталось… Или вот еще… Да будет тебе плакать… — обратился он к вдове. — Плачешь, а у меня у самого сердце разрывается, и я все слова забываю… Так вот, о чем это я собирался сказать? Да! Он, говорю, умер за всех нас. Поэтому теперь мы должны помочь… А кому, я вас спрашиваю, помогать: мертвым или живым?
— Живым! Живым! — ответила толпа.
— Вот и я тоже говорю! Кому сейчас труднее всех? Семье нашего дорогого брата! Поможем зерном, чтоб ей не было голодно, одеждой, чтоб не было холодно, лаской и заботой, чтоб легче было горе перенести. Как вы на это смотрите?
— Согласны! Все согласны!
— А если согласны, пусть каждая группа выберет одного представителя и посоветуемся, как помочь! — предложил Чжан Цзин-сян.
Сяо Сян подозвал Лю Шэна и Сяо Вана. Они отошли в сторону и о чем-то посовещались. Затем начальник бригады приблизился к гробу. Как ни старался казаться спокойным этот человек непреклонной воли и железного характера, каждый жест, каждое слово выдавали его волнение.
Силясь придать своему голосу твердость, Сяо Сян медленно заговорил:
— Товарищ Чжао Юй-линь был передовым человеком нашей деревни. У него мы будем учиться бескорыстию, мужеству и самопожертвованию. Он погиб ради нас, и лучшей памятью ему будет, если бедняки сделают свой крестьянский союз, первым председателем которого был Чжао Юй-линь, крепким как сталь. Товарищ Чжао Юй-линь являлся кандидатом в члены коммунистической партии Китая и пожертвовал жизнью ради народа, как настоящий коммунист. Представляя здесь партию, я довожу до всеобщего сведения, что товарищ Чжао Юй-линь посмертно принят в члены коммунистической партии Китая!
Раздались возгласы одобрения. Вновь зарокотали трубы и загудели гонги. Взвилось шелковое знамя крестьянского союза. Женщины запели песню «Без коммунистов и Китая нет!» Бай Юй-шань, Хуа Юн-си и трое бойцов отряда самообороны дали залп из винтовок.
Вся деревня, кроме родственников и прислужников помещика, проводила своего председателя до места последнего успокоения. Музыканты играли «Плач у Великой стены». Впереди процессии реяло красное знамя.
— Учитесь у Чжао Юй-линя честно служить народу!
— Уничтожим банды Чан Кай-ши, отомстим за нашего председателя!
Через северные ворота процессия вышла к берегу реки. Ли Всегда Богатый и несколько молодых парней вырыли глубокую яму рядом с могилой Цюнь-цзы.
Когда гроб медленно опускали в могилу, вдова Чжао, стоя на коленях, жгла золотую бумагу. Под вечерним солнцем над зыбким морем бурых колосьев гаоляна и сверкающим зеркалом реки торжественно плыла скорбная мелодия, поглощая стоны, заглушая рыдания.
XXI
Вскоре после того, как Го Цюань-хай и другие раненые вернулись из больницы, начальника бригады по телефону вызвали в уездный город на совещание.
Из этого разговора Сяо Сян понял, что уездный комитет партии намерен перебросить его на другую работу. В ту же ночь Сяо Сян собрал всех членов бригады, чтобы обсудить ближайшие задачи. Руководителем в деревне Юаньмаотунь решили оставить Лю Шэна.
Перед отъездом Сяо Сян зашел в крестьянский союз. Го Цюань-хай лежал на кане. Он еще не совсем поправился после ранения. Начальник бригады присел возле него, закурил и участливо спросил:
— Как дела, старина Го? Болит?
— Болеть не болит, немочь изводит…
— Это ничего, отлежишься. Вот что, председатель Го. Оставляем мы тебе здесь на подмогу Лю Шэна. Командир отделения Чжан тоже остается. Ты почаще советуйся с ними о всех делах.
— Боюсь, начальник, не выйдет у меня, не сумею я наладить работу…
— А зачем бояться? Никогда не робей. Все выйдет. Только привлекай побольше бедняков, почаще да подольше толкуй с ними: народ — наша главная опора.
— А что сейчас делать крестьянскому союзу? — спросил Го Цюань-хай.
Сяо Сян задумался.
— Работы немало… — медленно проговорил он после недолгого молчания. — Вот, например, как ты полагаешь насчет Ду? Сколько у него земли?
— Ты про Ду Шань-фа спрашиваешь?
Сяо Сян кивнул.
— Здесь восемьдесят шанов. Это я наверняка знаю, а сколько в других деревнях, сказать ничего не могу.
— Хорошо… — в раздумье протянул Сяо Сян и вдруг оживился. — А вот как крестьяне к нему относятся? Сумеешь поднять бедняков на борьбу с ним? Пойдут на такое дело?
— Не знаю… — с сомнением покачал головой Го Цюань-хай. — Единодушия в таком деле навряд ли достигнешь. Ведь ты знаешь, кличка помещика — Добряк Ду, сами крестьяне прозвали его так. Он людям голову морочить большой мастер и так прикидываться умеет, что некоторые искренне верят, что он хороший человек.
— А разве бывают хорошие помещики?
— Что из того, что не бывают? Не всякая голова это уразумеет.
— Допустим, что так, но давай посмотрим на дело глубже. Сколько батраков у этого самого Добряка?
— Сейчас какие же у него батраки?..
— А раньше сколько было?
— Больше десятка…
— Сколько один батрак может земли обработать?
— Шанов пять обработает.
— Так… Сколько зерна можно собрать с пяти шанов?
— В урожайный год даней сорок.
— А батраку достанется даней тридцать?
— Что ты, как можно! Самое большее даст ему помещик семь-восемь, и то очень хорошо.
— Теперь уж ты сам раскинь умом да подсчитай, сколько помещик только на одном батраке в год заработает. Если же батраков десять, значит и прибыль в десять раз большая. Вот и разъясни всем непонимающим, что каждый помещик — эксплуататор, потому что он сосет кровь бедняков. Крестьяне, борясь с помещиками, отбирают назад свое же собственное добро, которое эксплуататоры обманным путем себе присвоили. Правда и справедливость в такой борьбе на стороне крестьян, а правда побеждает. Действуй так, как подсказывает тебе твоя бедняцкая совесть. Где бы я ни был, я тебя в этой борьбе всегда поддержу. Ну вот, пока и все. Завтра я уезжаю. Можно ли будет подать нам телегу?
— Когда нужно, тогда и подадим, начальник. Старик Сунь привез, он и отвезет.
— Хорошо. Я пошел. Лежи, провожать не надо. Поправляйся. Надеюсь, еще встретимся!
Тяжело было Го Цюань-хаю расставаться с человеком, которому он был многим обязан и которого полюбил, как отца. Он подполз к раскрытому окну и смотрел вслед Сяо Сяну, пока тот не скрылся во флигеле, где жили старики Тянь.
Попрощавшись с ними, начальник бригады зашел к вдове Чжао, затем к Бай Юй-шаню и наконец к Ли Всегда Богатому.
Для каждого у него нашлось на прощанье слово дружбы, бодрое слово участия.
Когда Сяо Сян вернулся наконец в школу, здесь все уже спали. Он разбудил Лю Шэна, и они вполголоса проговорили до самых петухов.
— Бедняжка вдова Чжао! Она очень тоскует, — сказал в заключение начальник бригады. — Ты позаботься, чтобы у нее ни в чем не было нужды. Это не просьба, это мой приказ. Не забудь также, что в будущем году надо устроить маленького Со-чжу в школу… он… мальчик очень… смышленый…
Сяо Сян не договорил: он уже спал. И вдруг откуда-то долетел до него голос Лю Шэна:
— Какой Со-чжу? Это сынишка Чжао Юй-линя, что ли?..
— Со-чжу… Со-чжу… — Сяо Сян на мгновение приподнял веки, но они снова крепко сомкнулись.
За пятьдесят суток, проведенных в этой деревне, он ни одной ночи не спал как следует. Но эти пятьдесят суток, тысяча двести тревожных часов, не были исключением: бо́льшую часть его жизни составляли именно такие часы. И в густых волосах этого еще молодого человека с каждым днем появлялись все новые серебряные нити.
Утро следующего дня было солнечным и свежим от обильной росы. Была какая-то необычная яркость в этом утре, и работники бригады, окрыленные своими успехами, чувствовали в себе такую же бодрость, какой дышало и это осеннее утро.
Сяо Ван заметил, что, уезжая, всегда радуешься, потому что жить в одном месте надоедает, на что Лю Шэн возразил:
— А по-моему, совсем наоборот. Оставаться куда приятнее, чем уезжать. К месту так привыкаешь, что разлучаться очень тяжело.
Словом, каждый расхваливал очевидные преимущества своего положения.
К воротам школы лихо подкатила телега, запряженная четверкой лошадей. Лошади все как на подбор: с гладкой лоснящейся шерстью, крепкими, стройными ногами. Когда возчик остановил их, они зафыркали, выгнули шеи и начали бить копытами о землю.
Из телеги выпрыгнул сияющий старик Сунь.
— Опять с нами, старина? — приветствовал его Сяо Ван, вытаскивая вещи.
— А как же? Кто меня заменит? Разве в деревне Юаньмаотунь сыщешь другого возчика, который мог бы везти бригаду? — рассмеялся Сунь.
— Залезайте скорей! — торопил начальник бойцов отделения охраны. — Старина Сунь, пошевеливайся, а то еще провожать сбегутся. Митинг получится.
Телега быстро покатилась к западным воротам. Но скорость не помогла. Из всех лачуг высыпали мужчины и женщины. Они настигли «беглецов» и набросали в телегу столько кукурузы, диких яблок и орехов, что возчик запротестовал:
— Не надо больше! Лошади, гляди, не потянут!
Он взмахнул кнутом.
Лошади спустились с пригорка и помчались по равнине. На восточном краю неба радужно переливались облака. Кукуруза и гаолян созрели. Листья ив и вязов были совсем желтыми.
— Скоро иней появится, — сказал дребезжащим от тряски голосом старик Сунь, — тогда и уборка начнется. Работа будет горячая. Недаром говорится: «За три весны не переделаешь столько, сколько за одну осень».
— А не поспеют убрать, что тогда? — спросил начальник бригады.
— Плохо будет. Холода настанут, по утрам работать нельзя: нос отморозишь…
Когда добрались до высохшей лужи, которую теперь чешуйками покрывала затвердевшая грязь, Сяо Сян улыбнулся:
— Вот здесь, помнишь, тебя грязью окатили. Не забыл еще?
— Этого не забудешь, начальник. В то время Хань Большая Палка вон каким важным был, нас и за людей не считал. Вся власть над нами ему принадлежала. Скажет: умри, — ложись и помирай. А теперь настала ясная погода. Если бы ты, начальник, не приехал, никогда бы нам не подняться!
— Ты, как всегда, льстишь! — засмеялся Сяо Ван.
— Нет, нет, что ты! Истинную правду говорю!
— Этого крестьяне сами добились, своей силой завоевали. Мы тут, старина, ни при чем!
— Рассказывай! — протянул возчик и, лукаво прищурив глаз, ухмыльнулся. — Я тебя сейчас, товарищ Сяо, поймаю! Я тебя так спрошу: демократия у нас ныне или, может, не демократия?
— Конечно, демократия.
— И что народ сказал, то по его слову и делается?
— Верно.
— А раз по его слову делается, стало быть, народ правильно говорит?
— Так.
— А если оно так, послушай, что крестьяне говорят: все это, говорят, достижение и заслуга нашего начальника Сяо. Значит, у тебя, по мнению всего народа, есть достижение и заслуга. А ты говоришь, я льщу. Если же там, в уезде, которые выше тебя стоят, не поверят, мы, по демократическому нашему закону, придем и скажем: раз мы, крестьяне, говорим, что начальник Сяо заслужил, верьте нашему слову и премию ему выдайте… — Сунь заискивающе взглянул на Сяо Сяна. — А если ты, начальник, в самом деле какую премию получишь, так меня, старика, не забудь…
— Давай ты живее, краснобай! — добродушно прикрикнул на него Сяо Сян. — Нам к обеду надо в город поспеть.
— Ручаюсь, что поспеем… — и возчик стегнул кнутом сразу по всей четверке.
За подпрыгивающей на камнях телегой раскатывался дробный грохот тяжелых колес, извивался хвост золотистой пыли.
Не успело еще солнце переместиться в южный край неба, как впереди уже показались красные кирпичные дома, утопающие в темной зелени. Это был уездный город.
КНИГА ВТОРАЯ
I
— Я все сказал, начальник. Если не верите моим словам, прошу убедиться лично…
— Постой! Ты кончил, а я только начинаю. Не уходи. Я хочу спросить тебя вот о чем: со всеми ли помещиками вы покончили? Земля вся переделена?
— Землю вы, начальник, в прошлом году сами переделили. А что касается помещиков… так мы их всех опрокинули.
Этот разговор происходил в морозную зимнюю ночь в бывшем доме Хань Лао-лю, где помещалось ныне правление крестьянского союза деревни Юаньмаотунь. Разговаривали Сяо Сян и новый председатель Чжан Фу-ин.
Собственно новым его назвать было нельзя. Он работал на этом посту уже несколько месяцев. Однако встреча его с начальником бригады произошла впервые.
Собеседники стояли у стола. На столе горела масляная лампа, и при тусклом ее свете Сяо Сян внимательно разглядывал своего нового знакомого.
Председатель был одет в стеганую черную куртку из добротного сукна и в такие же штаны. Ноги скрывала тень от стола. Когда председатель снял свою лисью шапку, Сяо Сян увидел аккуратно причесанные волосы, разделенные прямым пробором.
Чем дальше шел разговор, тем больше бусинок пота выступало на лбу Чжан Фу-ина.
Вспомнив что-то, Сяо Сян улыбнулся и с любопытством спросил:
— Ты, кажется, хозяин местной харчевни?
— Да… — как бы мимоходом буркнул председатель и, торопливо нахлобучив шапку, направился к двери.
— Ведь это ты составил тогда подложную ведомость распределения земли, которую подсунул Братишка Ян? Твоя была работа?
Чжан Фу-ин замер в дверях, сразу сгорбился и ухватился рукой за косяк.
— Я не виноват, начальник… совсем не виноват… — забормотал он. — Мне Братишка Ян велел. Я в ту пору мало что смыслил в таких делах и не посмел ослушаться.
Теперь начальник бригады разглядел и его ноги, они были обуты в японские армейские ботинки на толстой кожаной подошве.
— Так, так, — с усмешкой кивнул Сяо Сян. — Значит ты, Чжан Фу-ин, и есть председатель крестьянского союза. Как же, давно уже слышу это славное имя и чрезвычайно рад познакомиться. Недаром говорится: «Мало слышать о человеке, надо повидать его». — Сяо Сян выдержал паузу, которая показалась Чжан Фу-ину вечностью, и осведомился: — Ну как, хозяин, торговые дела? Процветает ли заведение?
— Харчевню закрыл. С прошлого года работаю в поле. Я всегда любил крестьянскую работу и считаю, что из семидесяти двух человеческих занятий земледелие — самое лучшее.
Начальник бригады слушал и все посматривал на одежду Чжан Фу-ина. Ему хотелось сказать: «Что-то ты одет совсем не по-крестьянски». Но он промолчал и отпустил председателя.
Дойдя до середины двора, Чжан Фу-ин облегченно вздохнул. Было холодно, завывала метель. Председатель ощупью выбрался на шоссе и быстро зашагал. Снег хрустел под его новыми кожаными ботинками.
Сяо Сян зевнул, потянулся и спросил связного Вань Цзя, раскладывавшего постели на южном кане:
— Как по-твоему, похож он на крестьянина?
— Крестьянина? Что-то не видал я таких крестьян, — покачал головой Вань Цзя.
— Мне тоже не доводилось… — признался начальник бригады. — Что, все уже легли?
— Послушай, как храпят. Будто всю жизнь не спали.
Сяо Сян заглянул в соседнюю комнату. Да, действительно, спят. Вечер был потерян. Жаль! Новые работники бригады совсем молодые: все — выдвиженцы из района. С ними надо еще много поработать. И Сяо Сян рассчитывал начать сегодня же вечером, но что поделаешь: не будить же их.
— Ладно, пусть спят, — махнул он рукой. — Вань Цзя, ты тоже ложись.
Вьюга за окнами продолжала завывать, поскрипывали ставни. Ветер изредка доносил отдаленный лай собак.
Начальник бригады присел к столику, поправил фитиль в лампе, достал из кармана авторучку и склонился над дневником.
«Деревня Юаньмаотунь по размаху работы считалась одной из лучших… — писал он. — Однако большинство активистов переведены на работу в район и руководство крестьянским союзом ослаблено. Успех же во всякой работе зависит от качества руководства».
Сяо Сян остановился. В голове шумело. Перо дрожало в руке.
«Развернувшаяся было работа, — записывал он, — не успела еще дать желаемых результатов. Классовое сознание масс не успело подняться на должную высоту. Результат: в деревне еще сохранились условия для восстановления старых порядков. Необходимо обстоятельно выяснить, что представляет собой председатель крестьянского союза Чжан Фу-ин и каково его происхождение… Каким это образом удалось ему пробраться в крестьянский союз и стать председателем?»
Он хотел продолжать, но не мог. Лоб горел, веки слипались, виски нестерпимо ныли. Да и не удивительно! Весь день в уездном комитете шло совещание. Вечером он проехал на телеге пятьдесят ли, а затем проговорил с Чжан Фу-ином битых два часа.
Сяо Сян достал из кармана часы. Был первый час ночи. Начальник бригады разулся, расстегнул ватную куртку и, уже забравшись на кан, вдруг нащупал в кармане конверт. Он встал, вынул его и заботливо разгладил загнувшиеся уголки. В конверте была «Программа земельной реформы Китая».
Сяо Сян подумал: «Первым делом надо будет окончательно раскрыть лицо Чжан Фу-ина», и с этой мыслью крепко заснул.
Это происходило в одну из ветреных октябрьских ночей 1947 года.
В середине месяца было созвано большое совещание секретарей уездных партийных комитетов, которое подробно обсудило «Программу земельной реформы Китая», опубликованную Центральным комитетом коммунистической партии в газете «Дунбэйжибао». Совещание постановило: руководствуясь программой, содействовать массовому движению крестьян во всех районах уезда и добиться окончательной ликвидации феодальных сил деревни.
Для развертывания работы в уезде создали несколько бригад. Бригады на телегах двинулись к месту своего назначения.
Долго разносил ветер по улицам уездного города скрип колес, долго слышались радостные песни мужчин и женщин, направлявшихся на работу в районы.
Сяо Сян решил вновь побывать в деревне Юаньмаотунь. Он был избран теперь одним из секретарей уездного комитета партии, и в городе его называли «комиссаром Сяо». Однако среди крестьян за ним сохранилось прежнее его прозвище «начальник».
Так как комиссар, или начальник, Сяо крепко спит сейчас на кане в одной из комнат бывшего помещичьего дома, а ныне правления крестьянского союза, мы не будем прерывать заслуженного им отдыха и займемся Чжан Фу-ином, который уже успел вернуться к себе домой.
У Чжан Фу-ина был трехкомнатный дом у южных ворот деревни, доставшийся ему при разделе недвижимого имущества одного помещика. Но так как обязанности Чжан Фу-ина требовали его неотлучного пребывания в правлении крестьянского союза, он жил все время в главном доме большого двора. Чжан Фу-ин сдал восточную комнату собственного дома одному холостяку, известному в деревне под именем Хоу Длинные Ноги, а сам расположился на большом дворе, как полновластный хозяин. Приезд начальника бригады заставил председателя уступить гостю свое место в правлении крестьянского союза и вернуться к себе.
Чжан Фу-ин тотчас растолкал спавшего квартиранта и выгнал его из теплой комнаты в западную часть дома, которая не отапливалась, стянул с ног ботинки, потушил лампу и лег на хорошо натопленный кан.
Председатель был крайне расстроен. Он ворочался с боку на бок и широко открытыми глазами смотрел на стекло окна, разрисованное замысловатыми узорами инея.
Что же теперь делать? Может быть, надеть завтра свое тряпье, в котором он, как и подобало руководителю бедноты, принимал гостей, изредка приезжавших из района? А на кой чорт, спрашивается? Ведь Сяо Сян все равно уже видел его в хорошей одежде. Чему поможет теперь эта маскировка?
Чем больше Чжан Фу-ин думал, тем сильнее разгорался в нем гнев.
— Проморгали, все дело испортили, сволочи! — проклинал председатель пятерых милиционеров, которых он нанял следить за появлением в деревне каждого нового человека.
«Чортовы бездельники! Ведь я платил каждому из них по двадцати пяти тысяч из средств крестьянского союза только за то, чтобы они стряпали обед да сторожили на шоссе. Вконец разленились. Ветра испугались. Забились в свои лачуги, а шоссе без присмотра оставили. Тут этот начальник Сяо и проскочил незамеченным».
Чжан Фу-ин, по прозвищу Непутевый, получив в наследство от отца двадцать шанов земли, умудрился так быстро спустить все состояние, что и оглянуться не успел, как оказался нищим.
Обнаружив, что жить ему больше не на что, он обошел родственников, у всех назанимал денег и открыл харчевню, которая вскоре стала пристанищем мошенников и бродяг. Чжан Непутевый оказался главарем этой подозрительной компании.
Когда Сяо Сян, отозванный на другую работу, уехал, Чжан Фу-ин понял, что настало время показать себя. Он закрыл харчевню и заделался рьяным активистом. В решительности и настойчивости у него не было недостатка, горло также было широкое, он громче всех орал на собраниях, поносил помещиков, требовал расправы над ними, уличал крестьянский союз в бездействии и добился того, что односельчане изменили мнение о бывшем содержателе харчевни.
«Гляди, как получилось, — рассуждали они между собой, — был непутевый, а теперь какой оказался!»
Все стали смотреть на него с уважением, и о прошлом никто больше не вспоминал.
Наконец бывшему содержателю харчевни представился случай отличиться. Когда реквизировали имущество деревенского богатея Цуя, Чжан Фу-ин при обыске нашел у него пару золотых колец и шесть узлов новой одежды.
Чжана выбрали старостой группы, а после того как Бай Юй-шань уехал на учебу в партийную школу, бывший содержатель харчевни занял его место.
Лю Шэна перевели на работу в Южную Маньчжурию. Ли Всегда Богатый вступил носильщиком в Восьмую армию, и Го Цюань-хай остался один. Новый начальник района, он же секретарь районного комитета партии, Чжан Чжун все свое внимание уделял горным деревушкам и в Юаньмаотунь наведывался очень редко и ненадолго.
Воспользовавшись тем, что о деревне почти забыли, Чжан Фу-ин развил бурную деятельность и достиг того, что его избрали заместителем председателя крестьянского союза. Он тотчас поставил своих бродяг старостами групп, и эта свора, связанная с ним одной веревкой, накинулась на Го Цюань-хая.
Го Цюань-хай был молод и неопытен и, если против него интриговали, оказывался совсем беспомощным. Нельзя сказать, чтобы он не умел говорить, однако в пылу спора, теряя свою обычную сдержанность, он так горячился, что слова застревали в горле. Получалось, будто в чайнике варят пельмени. Пельменей внутри много, но попробуй вытолкнуть их через узкий носик!
Зная этот недостаток, ставленники Чжан Фу-ина нарочно раздражали председателя, а когда у Го Цюань-хая от бешенства краснело лицо и слова не могли прорваться наружу, они накидывались на него с бранью:
— Гляди, как шею раздул! Ты змея, что ли? Кого пугать собрался?
— Твоя не берет, так ты, подлец, командовать над нами вздумал. Угнетатель какой нашелся!
— Теперь тебе не Маньчжоу-го. Кого ты запугать хочешь? Кто тебя боится? — кричали наперебой старосты.
Однажды возчик Сунь, расхрабрившись после бутылки водки, вступился было за Го Цюань-хая, но старосты бросились на него с кулаками:
— Кому нужна твоя брехня?! За кого ты себя считаешь, старый хрен?! Нос-то во все суешь, а понятия никакого! Место ли тебе здесь?
— Будешь еще разглагольствовать, мы посчитаемся с тобой.
Старик Сунь струсил.
— Да я ничего… — пошел он на попятную. — Ничего такого и не сказал… Если что сболтнул, так это по неразумию. Посчитайте, вроде как ветер дунул…
Больше уж он ни с кем не говорил ни о председателе Го, ни о том, как он совершал переворот, а если и открывал рот, то только для того, чтобы рассказать про медведя.
Го Цюань-хая, по существу, отстранили от дел крестьянского союза. И стал он «барабанной палочкой без барабана». И вот как-то раз у него произошла схватка с одним из старост, которой и воспользовался Чжан Фу-ин, решив разом все покончить. Он созвал совещание и поставил вопрос о поведении председателя. Старосты наперебой начали осуждать Го Цюань-хая. Одни утверждали, что он разложился и не может быть больше председателем, другие открыто заявляли:
— Мы все поддерживаем революционного председателя Чжана. Требуем, чтобы председатель Го убрался из крестьянского союза!
Третьи совсем обнаглели:
— Пусть отправляется домой ребят нянчить.
— Да он же еще не женат, откуда у него ребятам быть! — рассмеялся кто-то.
— Женат или не женат, это никого не касается. Чего с ним церемониться. Пусть убирается из крестьянского союза — и все!
Некоторые, притворяясь благожелателями, советовали:
— Председатель Го, ты очень устал от работы. Не лучше ли тебе посидеть дома и отдохнуть?
Начальник района Чжан Чжун был в это время, как обычно, занят, и когда ему сообщили о распрях в крестьянском союзе деревни Юаньмаотунь, он не стал в них разбираться:
— А вы спросите самих крестьян. Как они решат, пусть так и будет.
Шайка Чжан Фу-ина этого только и ждала. Чжан поднял на ноги всех своих родственников и прихвостней. Он нашел себе преданного друга в лице некоего Ли Гуй-юна, который уговорами и угрозами привлек на его сторону своих родных и знакомых. Шайка хорошо подготовилась, и несколько голосов, раздавшихся в пользу Го Цюань-хая на общем собрании крестьян, бесследно потонули в оглушительном реве заговорщиков:
— Долой председателя Го! Хотим председателя Чжана!
Го Цюань-хаю не дали говорить и выгнали из крестьянского союза.
После того как Чжан Фу-ин заделался председателем, он посадил на все посты своих людей.
Старик Тянь, встретив как-то возчика Суня, шепнул ему на ухо:
— Вот уж, действительно, как говорится: «Каков царь, таковы и чиновники».
— Да, — вздохнул старик Сунь, — и не говори! — Но вспомнив, чем кончилось его выступление на совещании старост, возчик спохватился. — Это, старина Тянь, не нашего ума дело. Это дело казенное. Не все ли равно нам крестьянам: «Кто нами управляет, тому и налоги платим».
Го Цюань-хай переехал в развалившуюся лачугу у западных ворот, которую ему из милости пожертвовал новый председатель.
Шел холодный осенний дождь, а крыша лачуги была как решето. Куда ни ложился Го Цюань-хай, везде текло, отовсюду капало.
Когда прояснилось, изгнанный председатель попросил у соседа телегу и целый день косил траву. Заткнув травой дыры в крыше, он принялся перекладывать кан, чистить дымоходную трубу, мазать глиной стены. Через несколько дней в лачуге стало чисто, но было совершенно пусто. Го Цюань-хай зашел к старику Суню попросить на время чугунок. Возчик обегал всех своих приятелей и вскоре привез целый ворох вещей: посуду, котел для печи, бак для воды, красный лакированный столик, реквизированный у Хань Лао-лю. Вдова Чжао Юй-линя подарила новую цыновку, пастушок У Цзя-фу раздобыл где-то стекло, вставил его в оконную раму и оклеил по краям газетной бумагой. Жилье приобрело совсем благоустроенный вид, и в домике у западных ворот стало оживленно. Люди приходили сюда посоветоваться, потолковать о своих делах и по-прежнему называли хозяина председателем Го.
Когда Чжан Фу-ин проведал об этом, он распорядился прекратить сборища. Его милиционеры обошли деревню и припугнули крестьян:
— Того, кто будет называть Го Цюань-хая председателем, засадим в кутузку!
С тех пор слова «председатель Го» стали запретными. При посторонних они больше не упоминались, однако в тесном кругу люди продолжали их произносить. Го Цюань-хай каждый день ходил на поденщину. На еду денег хватало, а о другом он не заботился. Возвращаясь после работы домой, закуривал трубочку с голубым яшмовым чубуком, оставленную ему Чжао Юй-линем, ложился на чистый кан и смотрел через окно на ясные осенние звезды.
Новый председатель крестьянского союза начал свою общественную деятельность с того, что поставил названного брата Тань Ши-юаня старостой деревни Юаньмаотунь. Это был близкий родственник помещика Тана Загребалы, во времена Маньчжоу-го он служил младшим унтер-офицером в марионеточных войсках.
Ли Гуй-юна за его помощь во время выборов Чжан Фу-ин назначил делопроизводителем крестьянского союза.
Ли Гуй-юн доводился племянником Ли Чжэнь-цзяну и совсем недавно вернулся в деревню.
При японцах он служил в отряде противовоздушной обороны. Ему было приказано строго следить, не появятся ли над территорией Маньчжоу-го советские самолеты, а при их появлении немедленно докладывать начальству. После пятнадцатого августа Ли Гуй-юн не жил в деревне Юаньмаотунь, а околачивался где-то поблизости, но чем он занимался, никто не знал. Когда в Маньчжурии началось движение, известное под названием «рубки больших деревьев и выкорчевывания корней»[23], он вновь очутился в деревне Юаньмаотунь и показал себя достойным соратником Чжан Фу-ина.
Эта тройка — Чжан Фу-ин, Тань Ши-юань и Ли Гуй-юн, связанная одной веревочкой, заправляла теперь всеми делами. Для виду они проповедовали борьбу с помещиками, а на деле расправлялись лишь с теми, кто не мог от них откупиться.
Старосты поддерживали эту тройку, а крестьянам трудно было во всем разобраться. Кулак Ли Чжэнь-цзян отделался тем, что его поругали на собрании, но взять у него ничего не взяли. У Лю Дэ-шаня, который был значительно беднее Ли Чжэнь-цзяна и числился середняком, наоборот, конфисковали всех лошадей. Обобрали и некоторых других мелких собственников. Но конфискованное имущество и зерно между бедняками не разделили. Тройка распродала все, а на вырученные деньги открыла кооперативную лавку, в которую навезли чулок, одеколона, пудры и мыла. Каков доход лавки, никто из крестьян не знал, при дележе прибыли каждому досталось всего лишь по пятидесяти бумажных долларов, то есть двухдневный заработок поденщика. Но себя тройка, разумеется, не обижала и на вырученные деньги весело проводила время. У дверей крестьянского союза ставили милиционера и устраивали попойки с песнями и плясками под граммофон.
Ли Гуй-юн с виду был совсем неказист, однако хитростью превосходил всех, кто окружал теперь нового председателя. Он умел выходить из воды сухим, всегда сваливая вину на Чжан Фу-ина, но в то же время умел и угодить ему.
Бывшему содержателю харчевни давно приглянулась жена некоего Яна, жившего у северных ворот. Так как она была малорослой, а на лице сохранились следы от оспы, за ней утвердилась кличка Рябая Крошка. С того времени, как Чжан Фу-ин стал председателем, Рябая Крошка зачастила в крестьянский союз. Они подолгу болтали вдвоем и нередко засиживались до полуночи. После организации в деревне Юаньмаотунь женского союза Ли Гуй-юн подстроил так, что Рябую Крошку выдвинули в председательницы.
Женский союз расположился в восточной половине главного дома бывшей усадьбы Хань Лао-лю, и рядом с дощечкой «Крестьянский союз» появилась другая дощечка — «Женский союз».
Когда до крестьян дошло, что Рябая Крошка — председательница, они запретили дочерям и невесткам ходить в крестьянский союз. Перестали бывать там и вдова Чжао Юй-линя и Дасаоцза.
Рябой Крошке все-таки удалось сколотить «актив» из десятка женщин. «Сазан, говорит, ищет сазана, а черепаха — черепаху». Рябая Крошка подобрала себе таких же, как она сама. С этой свитой новоявленная председательница ходила по домам и убеждала женщин изменить старые обычаи. Это было не столько убеждение, сколько принуждение. Был издан приказ всем женщинам стричь себе волосы. К тем, кто не выполнял его, председательница являлась с ножницами. «Активистки» держали упорствующую женщину за руки и за голову, а Рябая Крошка производила намеченную операцию. По всей деревне пошел стон, из каждой лачуги неслись вопли.
Этим дело не ограничилось. Вскоре последовал новый приказ: женщинам моложе тридцати лет носить только белые туфли. Тогда женщины из бедных семей стали ходить босиком: у них не было ни белой материи, ни времени, чтобы шить себе такую обувь. Из-за этого тоже было пролито немало слез.
Так как Рябая Крошка и Чжан Фу-ин дошли до такой наглости, что перестали скрывать свои отношения, разразился скандал.
Взбешенный муж Рябой Крошки кинулся в крестьянский союз, чтобы посчитаться с Чжан Фу-ином. Но Ли Гуй-юн перехватил его на пороге и так избил, что тот еле ноги унес. Крестьяне, видевшие эту расправу, возмутились. По всей деревне пошли пересуды. Тогда на дверях крестьянского союза появилась надпись: «Без дела не входи!»
А если кто-нибудь и отваживался переступить порог, Ли Гуй-юн тотчас накидывался на него:
— Куда лезешь! Смотри, если что пропадет, ты отвечать будешь!
Затем на дверях рядом с этой надписью повесили другую, выполненную рукой того же неутомимого Ли Гуй-юна, которая сначала напугала людей: «Кабинет председателя по просвещению народа».
Вскоре все разъяснилось. Председатель решил проводить с ними «воспитательную работу». Крестьян в определенные дни сгоняли на большой двор. Из дверей союза появлялся Чжан Фу-ин и в течение нескольких часов излагал им что-то совершенно невразумительное.
Как-то раз притащили сюда и старика Суня.
После «занятий» председатель спросил:
— Все поняли, чему я учил вас сегодня?
Опасаясь, как бы все не началось сначала, крестьяне хором ответили:
— Поняли! Поняли!
Чжан Фу-ин подошел к старику Суню:
— Ты тоже все понял?
Возчик поднял голову:
— А кто же тебя знает, что ты такое говорил…
Все захохотали. Чжан Фу-ин разозлился и пнул сидящего на корточках Суня кожаным ботинком.
— Что же теперь делать? — в сотый раз спросил себя под утро председатель крестьянского союза, не спавший всю ночь.
Запели петухи. Чжан Фу-ин поднялся, решил обойти деревню.
— Товарищи, бригада приехала, — объявил он, войдя в первую лачугу. — Опять потребуют от нас продуктов, топлива. Нам невыгодно, чтобы они задерживались здесь надолго. Советую болтать поменьше, а то еще сболтнете лишнее, потом расхлебывай. Конечно, в нашем крестьянском союзе есть еще кое-какие неполадки, но неужели мы не договоримся друг с другом по-хорошему? Деревня, которая не показывает посторонним своих недостатков, — дружная и честная деревня. Ведь хорошая семья никогда не выносит сора из своего дома. Если вас о чем-нибудь будут спрашивать, вы молчите, как будто ничего не знаете…
Когда Чжан Фу-ин, обойдя деревню, возвращался домой, он увидел группы мужчин и женщин. Радостно возбужденные, они со всех сторон направлялись к крестьянскому союзу. Сердце председателя болезненно сжалось, а затем тревожно забилось.
Шел мелкий снег. Снежинки, падая на лоб Чжан Фу-ина, таяли и, словно капли пота, стекали по разгоряченным щекам.
II
Едва на востоке сквозь туманную пелену пробились бледные лучи зимнего солнца, большой двор бывшей помещичьей усадьбы заполнила шумная толпа. Всем не терпелось поскорее увидеть начальника бригады. Первыми порог крестьянского союза переступили старик Сунь и молодой Чжан Цзин-жуй, брат ушедшего в армию Чжан Цзин-сяна. Ему только что исполнилось девятнадцать лет. Был он высок ростом, силен и один справлялся с работой за двоих. Он отказался от помощи крестьян при посеве и уборке, на которую по закону его семья, как семья военнослужащего, имела полное право.
Когда возчик Сунь и Чжан Цзин-жуй вошли в комнату, Сяо Сян еще лежал на кане.
— Проспал станцию, начальник! — весело воскликнул Чжан Цзин-жуй, снимая с головы шапку из собачьего меха.
Он уже было подошел к кану, но возчик схватил его за руку и отдернул назад:
— Зачем будить! Пусть поспит немного. Недаром говорится, что самые вкусные вещи — это
— Чего вы там про жену да курицу судачите? — спросил, потягиваясь, Сяо Сян.
Он приподнялся и накинул на плечи стеганую ватную куртку. Ноги были еще под одеялом.
Людей уже набралось столько, что в обеих комнатах крестьянского союза стало тесно.
Сяо Сян огляделся. Лица все знакомые, можно было и не стесняться. Начальник бригады спустил ноги с кана и начал обуваться.
— Жив, старина? Здоров? — весело обратился он к возчику.
— Да если бы я умер, моя старуха давно прибежала бы к тебе в уезд со слезами, — прищурив левый глаз, рассмеялся возчик.
Подошла вдова Чжан Юй-линя:
— Наш пастушок, услышав о вашем приезде, уж так обрадовался…
Мужчины и женщины принялись наперебой рассказывать, как они соскучились по начальнику и как ждали его приезда:
— Все надеялись: вот-вот приедешь…
— Еще когда зеленую кукурузу ели, — думали, что вернешься.
— Дождались осени, дождались зимы, а тебя все нет да нет. Так и порешили: уехал наш начальник Сяо в город и забыл про нас.
Сяо Сян тепло улыбнулся:
— Что вы? Как можно забыть? Никогда не забуду.
Он достал тазик и пошел за водой. На пороге, опершись спиной о косяк, молча стояла Дасаоцза. Волосы ее были обрезаны. Над черными, как вороново крыло, бровями нависала челка. Черные глаза неотрывно глядели на Сяо Сяна. Она, казалось, хотела спросить о чем-то, но он заговорил первый:
— Здравствуй, Дасаоцза. Бай Юй-шаня перевели в город Шуанчэнцзы. Работает он в милиции и очень по тебе скучает.
— Как бы не так… — процедила сквозь зубы Дасаоцза. — Уж чего-чего, а этого за ним не водится. Вышел за дверь — и забыл.
Начальник бригады только собрался ответить, как со двора донесся скрип колес. Он выглянул в приоткрытую дверь. Это Тянь Вань-шунь привез полную телегу дров. Старик вошел и почтительно поздоровался.
— Ты только приехал, начальник, дров у тебя, конечно, нету. Вот я и доставил. Топи себе, а кончатся, еще подвезу. Хорошего у нас в деревне немного, но зато дров хватает.
Несколько человек вышли во двор и сложили дрова под навес. Они растопили печь, кан нагрелся, и в комнате стало тепло. Хотя было время завтрака, домой никто не спешил. Люди пристроились кто где. Многие расположились на кане. Одни примеряли пальто и шапку Сяо Сяна, другие разглядывали его оружие.
Старик Сунь осторожно взял в руки новенький браунинг, дунул в него, понюхал и торжественно проговорил:
— Да… эта штука сделана по всем небесным законам.
— Каким еще небесным, суеверная ты башка! — перебил его Чжан Цзин-жуй. — При чем тут небесные законы? Это люди изобрели.
— А люди по каким-таким законам изобретают, по-твоему? — хитро ухмыльнулся старик. — Тебя послушать, так выходит, нет никаких небесных законов. А я вот возьму да спрошу. Скажи-ка мне, парень: когда Чжугэ Лян[24] нагнал на реку ветер, чтобы сжечь вражеские корабли, по каким законам он действовал? Не по небесным? А вот тебе, дурень, еще пример: жена Сюе Дин-шаня[25], по имени Фань Ли-хуа, перенесла на другое место целую гору, перевернула море вверх дном и всю воду из него вылила. Это по каким же таким законам, неученая ты деревенщина?..
Чжан Цзин-жуй, видя, что старика не переговорить, замолчал и, склонившись над столом, стал рассматривать книги и газеты. Когда он раскрыл «Программу земельной реформы Китая», Сяо Сян с гордостью указал на нее пальцем:
— Вот это намного чудеснее небесных законов, старина Сунь. Называется земельный закон, то есть закон о разделе земли. Утвержден председателем Мао. Он обеспечивает людям хорошую жизнь. — Сяо Сян взял в руки брошюру и высоко поднял ее над головой. — Теперь, товарищи, мы с вами будем смело действовать по этому земельному закону и выкорчуем все корни феодализма. Если же мы не сделаем этого, переворот наш не будет доведен до корца… Ну, как вы здесь без меня жили? Продолжали начатое нами дело?
Все разом зашумели. Кто жаловался, кто бранился, кто иронически посмеивался. Когда шум несколько затих, старик Тянь возвысил голос:
— Уж такое здесь получилось, начальник, что и не поверишь! До того дошли, что в нашей деревне всякие бродяги разжирели, как помещики, а у нас животы опять подвело. Раньше работали своими мотыгами на помещиков, а ныне мотыги сменили на пики и жуликов охранять начали. Вот какие дела…
— Это правильно! — крикнул возчик. — Получилось у нас так, что убили мы зайца, а откормили ястреба.
— В прошлом году, — вставил Чжан Цзин-жуй, — хоть ватные куртки да штаны получили. Правда, они давно изодрались, еще когда на сопки ездили за дровами. А в этом году одно горе себе нажили. Даже семьям военнослужащих и то ничего не досталось. А помещики одеты так же тепло, как и прежде.
— Неужели они все еще сдают вам земли в аренду? — спросил начальник бригады.
— А как же? Конечно! Отдали нам несколько шанов плохой земли, а лучшие участки себе пооставляли и опять в аренду сдавать принялись. Сами же ни лопат, ни мотыг, ни серпов в руки не берут, — волнуясь, объяснил старик Тянь.
Дасаоцза решительно выступила вперед. Глаза ее вспыхнули. На переносице появилась глубокая суровая складка:
— Они землю себе оставили, говоришь? А я, старина Тянь, другое скажу. Если бы начальник Сяо не вернулся, розданные дома и земли помещики обратно бы себе позабирали.
— Правда! Правда, дочка. Ты сейчас просто золотые слова сказала… — потянулась на голос Дасаоцзы слепая старуха Тянь. Суетливо хватая людей руками, она пробралась к Сяо Сяну и, найдя его, быстро заговорила:
— Ты только послушай, начальник, спаситель наш! Как-то осенью зашла на этот двор младшая жена убитого помещика. Цзян Сю-ин ее зовут… Пришла и сказала моему старику: «Соблюдай чистоту во дворе». Он сперва даже не понял, чего ей от него надо. А она ему: «Разве не видишь, что на крыше нашего дома красные цветы расцвели, а на вязах у ворот — белые распустились». Старик мой поднял голову, глядит — верно, на крыше цветы. Он диву дался, а Цзян Сю-ин тут ему и объяснила: «Это нам небесное предзнаменование выходит. Наверно, скоро демократическая власть законы свои изменит и дома и земли обратно вернет».
— Зачем было слушать такие враки? — перебил старуху Чжан Цзин-жуй. — Разве может быть такое, чтоб на крыше цветы расцветали?
— Да я-то слепая… сама, конечно, не видела, а только мне старик сказывал, — как бы оправдываясь, отозвалась старуха.
— Это точно бывает, — поспешил вставить слово возчик. — Вот мне тоже не раз доводилось видеть цветы на крыше, красные-красные, как георгины. Помню, давно это было, на крыше дома Тана Загребалы распустились красные цветы. Дело, скажу, прямо удивительное…
— Да что же тут удивительного, старина? — рассмеялся Сяо Сян. — Ничего сверхъестественного в этом нет. Занесет ветром семена цветов на крышу, а на всякой крыше земля бывает. Попадут семена на землю, придет время, и из них вырастут цветы — вот только и всего. — Он ласково посмотрел на старуху Тянь и участливо спросил:
— Почему это вы со стариком переехали в другое место?
— Выгнали их со двора, — объяснил за нее возчик.
— Как выгнали? Кто?
— А кто хозяином деревни заделался, тот и выгнал! — злобно сплюнул Сунь.
Начальник бригады умышленно воздержался от расспросов о Чжан Фу-ине, ожидая, когда крестьяне сами начнут о нем рассказывать. Он насмешливо осведомился о здоровье помещиков Добряка Ду и Тана Загребалы.
— А как насчет земли? Поделили? — спросил он.
Старик Тянь, присев на край кана, тяжело вздохнул:
— Какое там поделили, начальник! С тех пор как этот пробрался в председатели, все вверх дном пошло. Он сразу всем сердцем к помещикам прильнул, а к беднякам спиной оборотился. Никакой борьбы с толстопузыми не ведет. В крайнем случае, и то для видимости, оштрафует кого-нибудь из них на восемьдесят или сто долларов и дело с концом. Зато с теми, кто пот свой проливает, борется вовсю. Вот, скажем, Лю Дэ-шань… Да ты его помнишь, начальник! Середняк он. Ушел этот Лю Дэ-шань в армию носильщиком, а Чжан Фу-ин, не долго думая, все его имущество забрал…
— Как же так получилось? — осторожно спросил Сяо Сян. — А ваш теперешний председатель — крестьянин? Кто он такой? бедняк? середняк?
— Он крестьянин только в феврале да в августе, когда в поле делать нечего.
— Так зачем же вы его выбрали в председатели? — сделал удивленное лицо начальник бригады.
— Да видишь ли, когда тут сводили счеты с помещиком Цуем, он вроде и заслужил.
— Это чем же?
— Ну два золотых кольца разыскал да шесть узлов разной помещичьей одежды.
— Выходит, сперва он был активистом? Что же с ним потом приключилось?
Языки развязались:
— А кто ж его знает? Сначала был человек как человек, а потом словно сдурел…
— Это враки: никогда он хорошим человеком не был…
— Да нет, был как будто ничего. А вот связался с Ли Гуй-юном, тот его и сбил с дороги.
— Брось ты! При чем тут Ли Гуй-юн? Ли Гуй-юн сам по себе собака, а Чжан Фу-ин без всякого Ли Гуй-юна — сволочь! Это он сперва активистом прикинулся, чтобы в председатели пролезть.
— А почему же он против помещиков выступал, громче всех кричал?
— Кричал? Кричать всякий может!
— Да будет вам языки чесать! — прикрикнул возчик на споривших. — Ты, начальник Сяо, меня спроси. Я тебе все по порядку выложу…
— Что же, выкладывай, старина.
— Я, старый Сунь, давно говорил этим бестолковым людям, что Чжан нехороший человек и нельзя его выбирать. Так меня не послушали…
— Постой, постой! — перебил Чжан Цзин-жуй. — Когда же ты об этом говорил? Я что-то такое не упомню. Чжан Фу-ин пинка дал тебе, ты и то словом не обмолвился.
Старика передернуло. Он считал этот случай самым позорным в своей жизни и страшно расстраивался, когда о нем напоминали. Гнев и обида закипели в сердце возчика, но он предпочел сделать вид, что не расслышал слов Чжан Цзинь-жуя, и тем же назидательным тоном продолжал:
— Так вот… меня, старика, не послушали тогда. Все в один голос кричали: «Этот Чжан Непутевый совсем изменился, за бабами бегать перестал, чем он не председатель?» А я один говорил: «Ни черта он не изменился и все такой же блудодей!» Мне не поверили. Ли Гуй-юну поверили! Вот и наплакались. Теперь всем ясно, кто правильно говорил: Ли Гуй-юн или я, старый Сунь. Есть такая хорошая пословица: «Сколько зайца ни запрягай, он коренной лошадью не станет».
— Это уж ты сам такую пословицу придумал, — поддел его Чжан Цзин-жуй.
— А тебе какое дело, сам или не сам? — огрызнулся возчик. — Туда же, молокосос, стариков учить! Я сказал заяц, а на самом деле Чжан Фу-ин просто мышь…
— А если он мышь, где же его нора? — рассмеялся начальник бригады.
Старик посмотрел на Сяо Сяна сначала серьезно, а затем, прищурив, по обыкновению, левый глаз, хитро ухмыльнулся:
— Я вот как думаю: если люди сами по себе живут и единодушия не имеют, их любой прощелыга обкрутить может. А обкрутит — вот и нора для такой мыши готова. Разве не так?
— Именно так, брат Сунь, — кивнул Сяо Сян.
Он обвел глазами притихших людей и вдруг задал вопрос, которого все ждали и вместе с тем боялись услышать:
— Где же ваш председатель Го Цюань-хай?
— Ты еще помнишь его? — вздохнул старый Сунь. — Он, бедняга, несчастный человек. Его выгнали. Пошел работать на поденщину…
— Только вчера уехал на сопку. Возит чужой лес! — добавил старик Тянь.
Давно уже прошло время, положенное для завтрака, а беседа все продолжалась. С возвращением начальника Сяо крестьяне снова воспрянули духом.
III
После завтрака Сяо Сян созвал небольшое совещание своей бригады.
Сейчас все ее члены, кроме Вань Цзя, были новыми работниками. Опытных активистов, которые выдвинулись в ранее освобожденных районах, перебросили теперь в Южную Маньчжурию, где земельная реформа только начинала проводиться. Туда перевели и Сяо Вана, и Лю Шэна. Новую бригаду Сяо Сяна составляли выдвиженцы из тех деревень, в которых работа по переделу земли развернулась лишь год назад, и они не имели, конечно, необходимого опыта. Кроме того, большинство из них были неграмотны совсем или в лучшем случае только что заучили несколько десятков иероглифов. Но все они были молоды, способны, отважны, горели желанием работать, не страшились трудностей и отлично выполняли свой долг. Они принимали активное участие в последнем уездном совещании, на котором с начала до конца присутствовали Сяо Сян и еще два работника уездного комитета партии. Фактически это совещание представляло собой краткосрочный семинар по изучению «Программы земельной реформы Китая».
Сегодня Сяо Сян созвал членов своей бригады, чтобы обсудить новые методы работы среди крестьян. Сделав обстоятельный доклад, он предложил продолжать совещание, а сам вышел в соседнюю комнату.
Начальник бригады собирался навестить старых друзей, посмотреть, как они живут, побеседовать с ними и окончательно разобраться в действительном положении вещей в деревне.
Сяо Сян налил себе кипятку, сделал несколько глотков и прислушался к дискуссии, разгоревшейся в соседней комнате.
Кто-то горячо и убежденно говорил:
— Нам сперва нужно точно узнать, что думают крестьяне! Правильно ли будет, если мы станем их воспитывать, как родители воспитывают детей, то есть вести на поводу? Не будем ли мы таким образом работать за крестьян, не давая им самим развернуться, показать свои силы?
— Конечно, будем! — раздалось в ответ несколько голосов.
Сяо Сян улыбнулся про себя — способные ребята, уже во многом разбираются — и вышел из дому.
Ветер крепчал. Мелкий снег бил в лицо. Сяо Сян спустил уши заячьей шапки и завязал их под подбородком. Решив прежде всего наведаться к вдове погибшего Чжао Юй-линя, он пошел на юг, но она, как оказалось, переехала на северный край деревни, и ему пришлось повернуть назад.
Вдова Чжао Юй-линя жила теперь в одной комнате со вдовой Ли. Первая занимала северный кан, вторая — южный. Едва начальник бригады переступил порог, как к нему с радостным криком бросился Со-чжу:
— Дядя! дядя!
Он вцепился в гостя, подпрыгнул и начал взбираться ему на плечи.
— Со-чжу, вот погоди, я до тебя доберусь! Ты испачкаешь дядю! — прикрикнула на него мать. — Сейчас же слезай!
Но мальчик не слушался. Он знал, что мать слишком добра, чтобы наказать его, и крепко охватил руками шею Сяо Сяна.
Начальник бригады, смеясь, поставил Со-чжу на кан и присел.
Вдова Чжао встретила Сяо Сяна, как встречают самых близких родственников. Она вскочила, заботливо отряхнула снег с его пальто и шапки, попросила у соседки табак и трубку и принесла из печи уголек.
— Ну как, трудно тебе приходится? — спросил гость, с удовольствием затягиваясь.
— Почему трудно? Во времена Маньчжоу-го, когда надеть было нечего и в чугунке ничего не кипело, и то как-то жили. А теперь совсем не то! Чтобы сынишке кое-что справить, вот плету цыновки. Это мы сейчас всей деревней работаем…
— Они тебе разве не помогают?
— Ты о ком спрашиваешь? О крестьянском союзе? Союз нами не интересуется… У него своих дел хватает.
— И на новогодние праздники ничего не прислали?
Она горько усмехнулась и промолчала. Но вдова Ли не выдержала:
— Какие еще ей подарки! Все подарки снесены председательнице женского союза, этой Рябой Крошке. Подарки для семей военнослужащих у нас уже давно отменены.
— А кто же тебе воду носит? — поинтересовался начальник бригады.
И снова ответила вдова Ли:
— Когда председатель Го был в деревне, так каждый день приходил. Принесет воды, хворосту нарубит. Теперь он на сопке, и мы тут вдвоем все сами делаем. Вот и шапок у нас нету. Выйдем за водой, уж очень уши мерзнут.
— А ведь пастушок у тебя живет? Чего же его не посылаешь?
Вдова Чжао еще ниже склонила голову над работой, а вдова Ли задушевным тоном сказала:
— Уж такая она добрая. Жалеет сироту. Лучше сама сделает, чем его заставит. Мал еще, говорит. Все боится, как бы с ним чего не случилось. Мальчик теперь в школу ходит и среди ребят главным заделался. А она, знаешь, какая у нас добрая, не сыщешь такой. Вот погляди: свой сынишка босиком бегает, а пастушок давно обут.
Вдова Чжао молчала, проворно работая руками.
Сяо Сян взглянул на ее голову. В черных волосах уже серебрилась седина. Он подумал о том, сколько выстрадала эта маленькая женщина на своем веку. Беспросветна была ее жизнь и прежде, и как терпеливо она несет теперь тяжесть своей неизбывной тоски по умершему мужу…
И как бы уловив его мысль, вдова Ли со вздохом проговорила:
— Тяжело ей, бедняжке… тяжело… А такой уж характер: как бы ни было тяжко самой, все другим помочь старается. Вот и хозяин ее таким же был, себе ничего не надо, лишь бы у людей было…
Вдова Чжао крепко закусила нижнюю губу, но слезы все-таки хлынули. Женщина заслонила глаза рукавом и отвернулась.
Сяо Сян, чтобы отвлечь ее от горьких мыслей, завел разговор о цыновках. Вдова Ли объяснила, что их плетут теперь все женщины-беднячки и если наладить продажу этих цыновок в город, получился бы неплохой подсобный заработок. Однако ни Чжан Фу-ин, ни его Рябая Крошка ничего не хотят сделать для женщин деревни Юаньмаотунь. Сяо Сян согласился, что действительно надо организовать это полезное производство, и, посидев еще немного, ушел. Он боялся, как бы разговор не вернулся к Чжао Юй-линю и вновь не растравил все еще свежую рану.
Выйдя из ворот, начальник бригады встретил улыбающегося У Цзя-фу. Он был одет в черную стеганую куртку на вате и клетчатые ватные штаны. На ногах у него были искусно сшитые, очень красивые на вид теплые зимние туфли. Сяо Сян невольно вспомнил босоногого Со-чжу и подумал: «Действительно, среди сотни женщин не встретишь такую, как она, таким же был и погибший Чжао Юй-линь». Он с трудом сдержал подступивший к горлу комок и стал расспрашивать У Цзя-фу, как тот учится, кто у них учитель, и, сказав на прощание несколько ласковых слов, направился дальше.
Нужно было навестить Дасаоцзу. Сегодня утром, заговорившись с людьми, он совсем забыл про письмо Бай Юй-шаня, которое лежало у него в кармане. Надо поскорее обрадовать Дасаоцзу, и он быстро зашагал к дому у восточных ворот.
Жена Бай Юй-шаня тоже сидела за работой. Она была большой мастерицей в тонком искусстве плетения. Прежде, сбывая цыновки богатеям, она не очень-то старалась, зато теперь, когда делала их для своих крестьян, вкладывала в работу все свое уменье. Ее цыновки были не только изящными, гладкими, как зеркало, но и такими прочными, что служили очень долго.
С тех пор как Бай Юй-шань стал руководителем отряда самообороны, Дасаоцза с большой охотой выполняла все общественные задания. Если ей давали какое-нибудь поручение, она старалась выполнить его как можно лучше и добросовестнее. Ведь это жебыло для Восьмой армии, где служил ее муж.
Во всякой семье об уехавшем родственнике всегда думают и заботятся и обычно делятся этими думами и тревогами с близкими соседями. Помнила и заботилась о муже и Дасаоцза. Ложась спать, просыпаясь, сидя весь день за работой, она думала и тосковала о нем. Но не такая была эта женщина, чтобы с кем-нибудь делиться своей тоской. Как ни болело у нее сердце, никто ничего не знал.
— Дасаоцза, скучаешь о муже? — спрашивали ее соседки.
Она поднимала голову, и все видели безразличие, написанное на ее лице.
— Вот еще! Зачем это скучать? Я никогда не скучаю.
Но мысль ее была с ним неразлучно. «Как-то он там работает? Наверное, очень устает, бедный! Кто там заботится о нем, чинит его одежду? Наверное, старушка какая-нибудь? А вдруг совсем не старушка?.. Мало ли на свете девушек, молодых и красивых, и еще (чорт их там знает!) каких…»
Как только приходила эта мысль, Дасаоцза тотчас расстраивалась, хмурилась, кусала губы и начинала вполголоса ругаться.
Сегодня, когда Сяо Сян приближался к домику у восточных ворот, размышления Дасаоцзы как раз пересекли тот рубеж, за которым монотонно ноющая тоска превращалась в жгучее раздражение. Дасаоцза с сердцем рванула соломинку и сильно порезала палец. Кровь закапала на цыновку. Женщина злобно выругалась, схватила тряпку, перевязала рану и, вновь склонившись над работой, прошипела:
— Чума проклятая! С глаз долой — из сердца вон. Даже письма не пришлет, окаянный!
Во дворе залаяла собака. Дасаоцза спрыгнула с кана и бросилась к окну. Сяо Сян распахнул дверь. В комнату вкатились клубы морозного воздуха. Дасаоцза быстро спрятала руки в рукава.
— Начальник Сяо! Холодно!.. Скорее закрывай дверь!
Он с удовольствием потер одеревеневшие от стужи пальцы, закурил поднесенную трубку. Сказав несколько слов о ветрах и снегопадах в этом году, начальник бригады стал расспрашивать ее о положении в деревне. Дасаоцза отвечала односложно и, часто перебивая его, интересовалась: как живут люди в Шуанчэнцзы, далеко ли до этого города и сколько времени идет оттуда письмо. Имени Бай Юй-шаня она не упомянула ни разу.
Наконец Сяо Сян хитро ухмыльнулся и проговорил:
— Прислал, прислал тебе письмо твой Бай Юй-шань.
Он вытащил из кармана конверт и передал ей. Она схватила и с плохо скрываемым волнением начала вертеть его в руках.
— А что же он тут написал? Ты уж прочитай мне. Я неграмотная.
— Давай прочитаю, — рассмеялся начальник и разорвал конверт.
«Привет Су-ин!» — начал Сяо Сян. — Это твое имя, что ли?
— Мое, мое…
— А я даже и не знал. Ну ладно, слушай дальше.
«Я окончил партийные курсы в городе Хулане. Теперь перевели меня на работу в милицию в город Шуанчэнцзы. Сейчас я совсем здоровый. Недавно у меня разболелся глаз, да доктор вылечил. Еще пройдет два месяца, и будет новый год. Может быть, попрошу отпуск и приеду к тебе ненадолго. Как там у вас с урожаем в этом году? Все ли убрала с поля и все ли зерно сдала государству? Ты работай старательнее, а также активнее участвуй в борьбе с помещиками, смотри не отставай. С людьми ни в коем случае не затевай ссоры, о любом деле договаривайся по-хорошему, и еще одно — никогда не важничай.
Шлю тебе мой революционный привет. Бай Юй-шань».
Дасаоцза бережно взяла письмо и положила под одеяло.
Конечно, кто-то помог ему написать, но это неважно. Важно то, что мысли были его собственные.
Пока Сяо Сян сидел, Дасаоцза ни на минуту не переставала думать, куда лучше положить письмо, и как только начальник ушел, вынула письмо из-под одеяла, положила его в ящичек, на который ставилась лампа, но тотчас передумала: нет, здесь совсем не место для такого письма. Она внимательно оглядела комнату и наконец спрятала свое сокровище в сундук.
Лишь после этого Дасаоцза успокоилась. Довольно улыбаясь, она села на кан и принялась за работу.
На улице начальник бригады увидел Хуа Юн-си, поившего свою корову у колодца. Сяо Сян еще издали приветствовал его, но Хуа Юн-си ответил как-то сдержанно и потупил глаза. Они поговорили немного, и Хуа Юн-си предложил:
— Пойдем лучше ко мне. Уж очень большой сегодня ветер.
Они пошли. Сяо Сян посмотрел на корову и вспомнил:
— Ведь тебе в прошлом году досталась лишь одна конская нога.
— Досталась… А потом я целую лошадь купил…
— О!.. Да ты, я вижу, разбогател!
— Я не разбогател. У жены были скоплены деньги. Она мне и дала их.
— Так почему же у тебя оказалась корова?
Хуа Юн-си промолчал.
— Ведь для работы и перевозок лошадь больше годится, — допытывался Сяо Сян.
— Нет… — угрюмо отозвался тот. — Корова лучше. И ест меньше, и ночью вставать не надо. К тому же каждый год приплод давать может. Через год у меня будут уже две коровы. Если одна и подохнет, другая останется…
Сяо Сян знал, почему некоторые крестьяне предпочитают держать коров. На лошадей дают наряды. Он отлично понял, что названная Хуа Юн-си причина — простая отговорка, и рассмеялся:
— Ты сознайся лучше: не хочешь держать лошадь, чтобы не получать наряды на перевозки.
— Нет, зачем же… — начал было Хуа Юн-си, но умолк.
Сказать ему было нечего. Да он и вообще отвык говорить с людьми, потому что никуда не ходил, ни с кем не встречался.
С той поры как стрелок Хуа женился на вдове Чжан, жизнь его резко изменилась. Он все время сидел дома, делал только то, что ему говорила жена, и никто бы не смог его заставить предпринять что-либо без ее ведома.
Вся деревня знала, что верховодит в доме вдова Чжан. Началось с того, что она решительно запретила ему участвовать в общественной жизни деревни. Он попробовал было защитить свою самостоятельность. Произошла ссора. Вдова разозлилась и крикнула:
— Если ты хоть раз зайдешь в этот крестьянский союз, я заберу вещи и уйду от тебя!
Хуа Юн-си хотел ответить бранью. Но непреклонный вид вдовы сломил его. Он подумал: ему уже за сорок, стар не стар, но и не молод. Вот и полжизни прошло в одиночестве. Работаешь в поле до темноты, а вернешься домой усталый и голодный, и некому тебе ни ужин приготовить, ни чаю вскипятить. Если сам о себе не позаботишься, так голодным и ляжешь спать. И стрелок Хуа, опустив голову, покорился. Вдруг она и в самом деле возьмет да уйдет и он опять останется один-одинешенек!
Хуа Юн-си вышел из отряда самообороны и не являлся больше в крестьянский союз. Прежде чем начать какое-нибудь дело, он всегда советовался с женой и безропотно выполнял все ее требования.
Когда он купил лошадь, вдова Чжан сказала, что надо сменять ее на корову, а то от нарядов отбою не будет. Хуа Юн-си молча отправился к Ли Чжэнь-цзяну, отдал ему лошадь и взял взамен черную корову. На следующий день из крестьянского союза пришли к нему с нарядом. Он смущенно улыбнулся:
— Какой может быть наряд? Ведь у меня корова. Ходит она медленно, не запрягать же ее в одну телегу с лошадью?
Вдова Чжан часто бывала в гостях у жены Ли Чжэнь-цзяна, и они судачили целыми днями. Когда Чжан Фу-ин и Ли Гуй-юн пробрались в крестьянский союз и изгнали Го Цюань-хая, Хуа Юн-си был возмущен этой подлостью, но промолчал и на все махнул рукой.
Войдя во двор, Сяо Сян увидел вдову Чжан, которая кормила свинью. Она холодно кивнула ему и в дом не пригласила. Хуа Юн-си почувствовал себя неловко и поднял на Сяо Сяна умоляющие глаза. Начальник бригады, чтобы выручить Хуа Юн-си, сказал, что торопится и зайти в дом не может. Они поговорили некоторое время во дворе, и Хуа Юн-си проводил его до плетня. Расставаясь, начальник бригады заметил:
— Хуа Юн-си, не следует забывать, кто дал тебе новую жизнь.
— Как же можно забыть, начальник…
Вернувшись в крестьянский союз, Сяо Сян, не раздеваясь, присел к столу и извлек из полевой сумки пачку партийных анкет. Он разыскал анкету Хуа Юн-си, прочел свою рекомендацию. Прошло уже восемь месяцев, а Хуа Юн-си все еще числился кандидатом в члены партии.
Начальник бригады еще раз внимательно просмотрел анкету. Он вспомнил, каким героем показал себя стрелок Хуа в боях с бандой Ханя-седьмого. Нет, Сяо Сян не ошибся, что дал ему тогда такую хорошую рекомендацию, А сейчас этот Хуа Юн-си отказывается даже от выполнения нарядов на перевозки.
Сяо Сян решительно взял перо и там, где в анкете стояло слово «примечание», твердым почерком написал: «исключить».
Но он не положил анкету обратно в сумку. Держа ее перед глазами, Сяо Сян задумался. Ведь у Хуа Юн-си в те трудные дни, когда бригада начинала развертывать работу среди крестьян, были несомненные заслуги. Что же произошло с ним теперь? Собственно, ничего непоправимого не случилось. Он просто остановился в своем развитии. Но можно ли во всем винить его одного? Партийность для человека священна, и ему, Сяо Сяну, не дано права, повинуясь чувству, лишать человека этой святыни. Хуа Юн-си еще может одуматься. И начальник бригады приписал слово «временно». Надо будет подробнее разузнать об этом человеке, решить вопрос в районном комитете и только после этого представить партийное дело Хуа Юн-си на рассмотрение организационного отдела уездного комитета партии.
IV
Однажды после совещания новая бригада Сяо Сяна разделилась на группы. Члены ее, даже не пообедав, свернули свои тонкие одеяла и пешком в снежную метель разошлись по соседним деревням.
Сяо Сян остался с одним Вань Цзя, ожидая возвращения Го Цюань-хая. Он не раз подходил к его лачуге, но на дверях висел замок. Тогда начальник бригады обошел соседей и наказал, чтобы, как только они увидят Го Цюань-хая, тотчас же дали ему знать.
Когда Сяо Сян вернулся в крестьянский союз, главный дом бывшей помещичьей усадьбы был битком набит народом.
Чжан Цзинь-жуй снял с двери надпись «Без дела не входи», а возчик Сунь сперва злорадно плюнул на надпись «Кабинет председателя по просвещению народа», а затем изорвал ее на мелкие клочки. Теперь он почувствовал себя до некоторой степени отомщенным за пинок Чжан Фу-ина.
Люди деревни Юаньмаотунь опять воспрянули духом. Батраки и бедняки решили заново перестроить всю работу крестьянского союза.
После возвращения начальника бригады они уже не раз совещались об этом, и Сяо Сян разъяснял им «Программу земельной реформы», указывал, как надо бороться с эксплуататорами, но и сам не забывал учиться у людей. В комнатах крестьянского союза с утра до ночи толпился народ.
Старик Чу, который в прошлом году помог арестовать Хань Лао-лю, первым заявил:
— Земляки, нам разговаривать некогда. Что порешили, то и надо делать, а болтать попусту нечего.
— Верно! — согласились все. — С чего начинать будем?
— Давай начнем с проверки кооперативной лавки, — предложил кто-то.
— Что нам лавка! — возмутился возчик. — Не лавку надо проверять, бестолковые, а раньше всего арестовать это черепашье отродье Чжан Фу-ина!
— Ты все еще пинка забыть не можешь? — со смехом заметил Чжан Цзинь-жуй.
— Не шумите! — прикрикнул на них Сяо Сян. — Вам дело нужно делать и не горячиться. По-моему, для того чтобы окончательно свалить помещиков и завершить наш переворот, батракам и беднякам необходимо крепко объединиться и вступить в нерушимый союз с середняками. Не лучше ли будет сразу же создать бедняцкую и батрацкую организацию?
— Правильно! Правильно! — хором ответили присутствующие.
— Вот как раз и председатель Го Цюань-хай пришел! — крикнул кто-то из соседней комнаты.
Все разом повернули головы.
В дверях стоял Го Цюань-хай.
— Иди скорей сюда, — позвал обрадовавшийся начальник бригады.
Старик Сунь, расталкивая локтями толпу, загорланил:
— Разойдись, дай нашему председателю Го пройти!
Все расступились. Только теперь Сяо Сян разглядел худощавое лицо друга, обветренное и раскрасневшееся от мороза. Одежда его была сильно изодрана, и изо всех дыр вылезали клочья ваты. Издали Го Цюань-хай напоминал куст, покрытый распустившимися белыми цветами.
— Куртка у тебя — красивее не сыщешь! Да и штаны тоже, — весело рассмеялся начальник бригады.
— Го Цюань-хай, сегодня же вечером сними эту рвань. Я тебе починю. У меня есть кусок черной материи, — крикнула Дасаоцза.
Го Цюань-хай улыбнулся:
— Не выйдет, Дасаоцза. За ночь не управишься!
— Я помогу! — рассмеялась стоявшая за спиной Дасаоцзы девушка с длинными косами. — Мы вдвоем как примемся, ручаюсь, что к утру закончим…
Го Цюань-хай взглянул на нее. Это была Лю Гуй-лань. Он покраснел и опустил глаза. Его подтолкнули к кану.
— Залезай на кан, председатель! Здесь тепло. Отогрейся!
Го Цюань-хай сел рядом с Сяо Сяном и прислонился к теплой стене. Начальник бригады взял его за руку. Го Цюань-хай почувствовал дружеское пожатие и остановил на Сяо Сяне долгий благодарный взгляд.
Собрание продолжалось, а Сяо Сян, подвинувшись к Го Цюань-хаю, стал вполголоса его расспрашивать.
Собрание закончилось далеко за полночь. Люди поклялись продолжать решительную борьбу с помещиками и выбрали Го Цюань-хая председателем комитета бедняков.
Когда все разошлись, Сяо Сян стащил с Го Цюань-хая куртку и штаны и передал Вань Цзя:
— Иди к Дасаоцзе и попроси починить.
Дасаоцза и Лю Гуй-лань уже ждали Вань Цзя. Они напоили его чаем и, когда он ушел, расположились за столом возле масляной лампы.
Они провозились до петухов, а Го Цюань-хай тем временем лежал на кане рядом с Сяо Сяном и, укрывшись суконным одеялом, по порядку рассказывал о событиях, развернувшихся в деревне Юаньмаотунь после отъезда начальника бригады в город.
Когда в лампе затрещал фитиль, Сяо Сян поднялся, поправил его и, подлив масла, вернулся.
— А как в деревне обстоит дело с «гнилыми корнями» старого порядка?
— Корни-то вырвали, а корешки остались…
— Добряка Ду и Тана Загребалу так и не тронули?
— Как сказать, не тронули! Мы их здорово пощипали, но они все же целы остались.
— В город поступили сведения, что во многих деревнях обнаружено оружие. А как у вас?
— В соседних деревнях нашли винтовки, принадлежавшие Хань Лао-лю, а в нашей ни одной не оказалось.
— А как ты думаешь, у родственников Ханя могло еще остаться оружие?
— Давай подсчитаем, начальник. Когда Хань Лао-лю сколачивал свой отряд, он собрал по деревням и купил за свои деньги тридцать шесть винтовок и один маузер. Это я твердо помню. Хань-седьмой, когда ушел в горы, взял с собой двадцать винтовок. Несколько штук прихватили Ли Цин-шань и Хань Длинная Шея, когда бежали. Маузер тоже они унесли. Другие винтовки были найдены в соседних деревнях. А если что и осталось, так совсем немного.
— Может быть, у Тана Загребалы что-нибудь припрятано?
Го Цюань-хай весело расхохотался:
— Ну нет! Этот только до денег жаден. В колодец оступится, а слиток серебра из рук не выпустит. Жизнь свою потеряет, а деньги сохранит. Он ни за что не станет держать у себя винтовки. Он такой трус, что если штык увидит — помрет со страху.
— А у Добряка Ду?
— Вот это разговор иной. Добряк Ду только с виду смирен и богомолен, а на самом деле совсем не трус. Я так считаю: Хань Лао-лю был хитер, а Добряк Ду куда хитрее. В тот самый год, когда японцы захватили Маньчжурию, Ду был начальником отряда самообороны. Люди говорят: у него еще при старом режиме были и дробовики, и винтовки. Однако наверняка никто ничего не знает. Я думаю, у него и сейчас они должны быть.
Начальник бригады улыбнулся, довольный таким подробным отчетом, и, немного подумав, сказал:
— Так, так… председатель Го. Все правда. Да и как не быть у помещиков оружию. Его надо отнять. Лишь тогда бедняки и батраки почувствуют себя сильными и уверенными, когда в руках их врагов не останется оружия. Однако хотя этот вопрос и очень важен, сейчас заниматься им еще не время. Нужно, чтобы массы сразу увидели результаты своих усилий, чтобы переворот принес им ощутимые блага. Поэтому прежде всего нужно бороться за улучшение условий жизни людей. Нужно изъять у помещиков все ценности.
— Это само собой… — согласился Го Цюань-хай.
— А что за человек Чжан Фу-ин? — спросил наконец начальник бригады.
— Раньше был зажиточный, да все свое добро промотал. Когда захватил здесь власть, подобрал себе таких же крикунов, как сам. Ли Гуй-юн у него хитрый человек. Все сваливает на Чжан Фу-ина, а сам всегда в стороне. Поэтому некоторые люди думают, что только Чжан Фу-ин плох, и не знают, что Ли Гуй-юн такой же негодяй. У Чжан Фу-ина подлость наружу выпирает, а Ли Гуй-юн ее прячет. Женщины каждый день бегали к Чжан Фу-ину в крестьянский союз, а Ли Гуй-юн сам ходил к ним, и никто этого не знал. Поэтому в деревне и говорили: писарь лучше председателя.
— А с кем же водится Ли Гуй-юн?
— С младшей женой Хань Лао-лю.
— В прошлом году я что-то не встречал его.
— Ли Гуй-юна? Да он в прошлом году и не был в деревне. Только теперь вернулся.
— Откуда?
— А кто его знает. Одни говорят, будто из банды, которая по сопкам шаталась. Другие говорят — из Чанчуня.
Начальник бригады приподнялся и, опершись на левую руку, спросил:
— А кто это говорил?
— Старуха Ван, та, что у восточных ворот живет. Ли Гуй-юн частенько захаживал к ней… он, верно, и рассказал.
Сяо Сян спрыгнул с кана, накинул пальто и, подлив масла в лампу, присел к столу. Он быстро вытащил из кармана куртки блокнот и записал последние слова Го Цюань-хая. Хотя память у Сяо Сяна и была отличной, он все, что считал особенно важным, тотчас же записывал, следуя народной поговорке: «запись крепче памяти».
— А скрытые бандиты еще есть в деревне? — спросил он, снова укладываясь на кан.
— Что… что… — бормотал Го Цюань-хай, уже начавший дремать.
— Я спрашиваю: остались еще в деревне тайные бандиты?
— Тайные бандиты? — Го Цюань-хай с трудом открыл глаза. — Конечно… как же не остались!..
Сон сразу прошел.
Начальник бригады рассказал, как во Внутреннем Китае японские и гоминдановские агенты убивают людей из-за угла, распускают провокационные слухи, вредят на каждом шагу.
— А в Юаньмаотуне ходят какие-нибудь слухи?
— О приходе гоминдановцев уже не вспоминают. Болтают, правда, разное. Тут как-то на крыше дома Хань Лао-лю расцвели красные цветы, так все старики говорили, что демократические законы будут изменены.
— А кто распространял эти слухи?
— Говорят, будто младшая жена Хань Лао-лю, но точно не знаю.
— И что же, многие поверили в эти цветы?
— Старик Сунь и тот поверил.
— О старике я знаю. А молодежь верит?
— Кое-кто, может, и верит…
— Так вот что: это дело надо срочно выяснить. С тех пор как Ли Всегда Богатый ушел в армию носильщиком, комитет безопасности прекратил свое существование. Этого больше допускать нельзя. Мы обязаны не только вести борьбу с помещиками, но и обезопасить себя от тайных гоминдановских агентов. Помещики у всех на виду, а агенты действуют скрытно, и бороться с ними куда трудней. В борьбе с гоминдановскими агентами надо тоже опираться на массы. Если повсеместно поднять бдительность крестьян, тайные агенты не найдут лазеек. Кем, по-твоему, можно заменить кузнеца Ли?
Го Цюань-хай подумал:
— По-моему, Чжан Цзин-жуй для такого дела подойдет.
— Приведи его завтра, побеседуем.
Уже запели петухи. Масло в лампе выгорело. Огонь погас. Лед на стеклах делался все более прозрачным. Под крышей завозились воробьи.
Сяо Сян закрыл глаза, но, вспомнив о чем-то важном, снова открыл их:
— Ты спишь?
— Нет.
— Утром отбери винтовки у милиционеров. И расставь на посты надежных ребят. А что, если начальником сделаем старика Чу?
— Попробуем, посмотрим, что выйдет.
Оба умолкли и вскоре заснули.
Уже давно рассвело. Вань Цзя успел сходить и принести заштопанную одежду Го Цюань-хая, а они все еще спали.
Ветер стих. Небо было ясным. Оконные стекла сверкали под солнечными лучами.
Вань Цзя сидел у окна в соседней комнате и старательно начищал маузер куском красного сукна. Склонив голову, он мурлыкал песенку.
В двери показалось чье-то лицо.
— Кто такой? — поднял голову связной.
Незнакомец вошел. Это был человек невысокого роста и еще совсем молодой.
— Хотелось бы повидать начальника Сяо. Меня зовут Ли Гуй-юн.
Связной внимательно оглядел рваные штаны и куртку посетителя, вязаный шлем на голове и ухмыльнулся:
— Писарь бывшего крестьянского союза, что ли?
— Совершенно точно. Мне бы…
— Комиссар Сяо еще спит, — оборвал его Вань Цзя.
— Так… так… тогда я позже зайду.
Ли Гуй-юн осторожно вышел. Вань Цзя не двинулся с места и, продолжая чистить маузер, затянул прерванную песню.
Пришел возчик Сунь.
— Полезай на кан греться, — пригласил связной.
Старик залез.
— Зачем это Ли Гуй-юн приходил? — спросил возчик.
— На тебя жаловаться.
Сунь прищурился:
— На меня жаловаться? Я таких жалобщиков не боюсь. Я и к Чжан Фу-ину никогда не подлизывался. Этот Ли Гуй-юн свел Чжан Фу-ина с Рябой Крошкой, будто нитку в иголку вдел. Он, наверное, считает, что я не знаю. А я, старый Сунь, везде побывал, все повидал, и нет, брат, таких дел, в которых бы я не разбирался. Когда они тут хозяйничали, Добряк Ду и Тан Загребала дорогу в крестьянский союз хорошо знали. Для них чем смирнее человек, тем, значит, никудышнее. Чжан Фу-ин здорово на жандарма смахивал. Все перед ним дрожали, один я… не испугался.
— А тебе от него так ни разу и не досталось?
— Мне? Смешно даже! Посмел бы он меня тронуть!
— А вот люди сказывали, будто он тебя ногою пнул.
Лицо возчика перекосилось:
— Меня? И на кой чорт ты слушаешь всякое вранье! Хотел бы я поглядеть, кто бы из них посмел меня тронуть. Да я бы!.. Я тебе так скажу, если бы он меня стукнул, или, скажем… пнул, или еще чего… Я человек правдивый и все бы рассказал. Правда для старого Суня — не позор, а только слава.
Вань Цзя так громко расхохотался, что разбудил начальника бригады.
— Кто там? Что вам так весело? — спросил Сяо Сян.
— Да вот старина Сунь пришел, разные истории рассказывает.
— Проходи сюда, старина! — весело крикнул Сяо Сян.
Возчик вошел и присел к столу. Го Цюань-хай быстро оделся и, даже не позавтракав, отправился разоружать милиционеров.
— Как жизнь теперь, лучше? — спросил Сяо Сян, одеваясь.
Старик, расстроенный тем, что Вань Цзя так обидно расхохотался над его рассказом, сухо ответил:
— Густого нет, жиденького хватает.
— Ты все у чужих людей работаешь возчиком?
— А как не работать? Человеку можно отдыхать, рту отдыхать не положено.
— Старина Сунь, а земля тебе в прошлом году хорошая досталась?
— Хорошая, что ни посади — все вырастет…
Вань Цзя принес таз с водой и, взглянув на возчика, опять покатился со смеху. Но старику Суню было совсем не весело.
— Видишь ли, — начал он издалека, — тут Ли Гуй-юн приходил, говорят, будто жаловаться на меня собирался? Только ты, начальник, не верь. Я первый хочу на него жаловаться. Таких они тут дел натворили, прямо страх! Государство, сволочи, обманывали. В прошлом году приехал сюда один товарищ из района. Это, значит, чтобы проверить, как в нашей деревне идут дела, и с крестьянами побеседовать. Встретил его Чжан Фу-ин и говорит. «Вот беда! Все крестьяне в поле, а в деревне одни старики да старухи». «Ладно, и со стариками побеседовать можно», — ответил ему этот товарищ. А Чжан Фу-ин взял и подсунул ему старика да старуху. Старики эти, худого слова о них, конечно, не скажешь, да только старуха-то почти глухая, а старик подслеповат. Товарищ из района эту самую старуху и спрашивает: «Скажи, бабушка, остался у вас в деревне «недоваренный обед?» А она ему: «У нас все больше чумизу едят, а кукурузной-то каши нету». Районный товарищ опять спрашивает: «Есть ли у вас в деревне «рваные туфли»?» Это, ты сам знаешь, начальник, так у нас потаскушек называют. На этот раз старуха ясно расслышала, да только не уразумела. «Как, — отвечает, — не быть. Из поколения в поколение в старых туфлях шаркаем. Целых-то и в помине нету». Товарищ, конечно, махнул на нее рукой и к старику подступился. Да старик и сам уже вызвался. «Она, — говорит, — глухая. Ты лучше меня спроси, товарищ. Я тебе все расскажу». Тут Чжан Фу-ин, видя, что такое дело получается и старик действительно может многое рассказать, подхватил гостя — и в соседнюю комнату, а там на кане столик стоит, а на столике водка да закуска разная. Загляделся гость на такую снедь и про старика забыл. Тут такой пир у них пошел, что от усердного питья на винных чашечках вмятины остались.
— Вот видишь, как они тут людей дурачили? А еще на меня с жалобой пришли!
В это время вошел старик Тянь и пригласил начальника и Суня к себе завтракать. На завтрак была лапша. Возчик тотчас нравоучительно заметил:
— Вот это правильно, старина Тянь. Ты обычай знаешь. Угощение твое как раз соответствует пословице: «Провожая друга — угощают пельменями, встречая друга — угощают лапшой».
V
На общем собрании было решено проверить кооперативную лавку, арестовать Чжан Фу-ина и его сообщников.
На полках в изобилии оказались духи, мыло и губная помада. Старик Сунь взял тюбик, понюхал и выругался:
— Вот это торговля! На что крестьянам такая штука?
— Снеси своей старухе, пусть губы подмажет, — посоветовал старик Чу.
— Ни шлеи тебе, ни вожжей, что же это за кооперация такая! — негодовал возчик.
В лавке и в прилегающем к ней дворе сразу поднялся шум.
— Надо как следует посчитаться с ними за такую торговлю!
Го Цюань-хай сидел на прилавке и, покуривая трубочку, внимательно прислушивался к разговорам.
— Разделаться с ними! Разделаться! — кричали все в один голос.
— Пусть возместят убытки!
— Правильно! Чего на них смотреть!
Воспользовавшись кутерьмой, кто-то сунул за пазуху пачку свечей. Старик Чу поймал вора за руку:
— Положи назад! Растаскивать общественное добро нельзя! Товарищи! Спрячем всю эту ерунду под прилавок! — обратился он к крестьянам.
— Правильно! Опечатаем ящики — и дело с концом!
Старик Сунь, открыв бак с водкой, тотчас разыскал ковш, зачерпнул и хитро прищурил глаз:
— Надо попробовать: много ли воды подливали, сволочи.
Он налил себе полную чашку, отхлебнул, поморщился и разом выпил всю. Наполнил еще чашку, крякнул и с видимым удовольствием послал ее вслед первой. Глаза его сразу покраснели.
— Ну как, много воды, старина? — крикнул Чу.
— Пока не разобрал!
В это время в лавку вошел Сяо Сян.
— Надо создать комиссию, — обратился он к Го Цюань-хаю, — подыскать в деревне человека, умеющего хорошо считать, и проверить торговую книгу.
— Ведут! Ведут! — зашумела толпа.
Чжан Цзин-жуй и новые милиционеры ввели связанных Чжан Фу-ина, Ли Гуй-юна и Тан Ши-юаня.
Старик Сунь, шатаясь и размахивая руками, ринулся к бывшему председателю, пнул его что было силы, но, не удержавшись, сам повалился навзничь.
— Нельзя, нельзя! — поднимая возчика, крикнул Го Цюань-хай. — Начальник Сяо сказал: бить людей не положено…
— То есть как не положено? Помещиков да подпевал ихних не положено? — зарычал пьяный возчик, порываясь к Чжан Фу-ину.
— Бить нельзя, — остановил его Сяо Сян. Начальник бригады пояснил, что людей надо перевоспитывать и исправлять, а битьем делу не поможешь.
Он повернулся к Чжан Цзин-жую:
— Развяжи арестованных. Пусть идут домой и подумают о своих делах. Если честно признают свои ошибки и дадут слово исправиться, пусть обрабатывают землю, которую им выделили.
— Напрасно отпускаешь!.. — раздался чей-то разочарованный возглас.
— Это на первый случай, — ответил Сяо Сян. — А повторится — строго накажем.
— А вдруг сбежит, окаянный? — вполголоса спросила какая-то женщина свою соседку.
— Нет, не посмеет.
— Следить за ним надо, ведь сбежал же в прошлом году Хань Длинная Шея.
— Ладно, будем следить вместе…
Сяо Сян, услышав этот разговор, взглянул на Чжан Цзин-жуя, как бы говоря: «Это по твоей части».
Чжан Цзин-жуй ответил понимающей улыбкой.
— Ну, расскажите теперь начистоту народу о всех ваших делах, — обратился Сяо Сян к арестованным, — да просите у него прощения.
— Что я сделал плохого… — забормотал Чжан Фу-ин. — Люди сами меня выбрали председателем. Я один даже шага не смел ступить.
— Кто тебя выбирал? — кинулся было снова на Чжан Фу-ина возчик. — Нет, ты мне скажи подлец: кто тебя выбирал? Кто тебя выбирал? — повторял он. — Ты сам себя возвысил, сам! Вы тут втроем лакали водку и съели столько жирного, что все штаны себе засалили. Чьи это деньги вы расходовали? Чьи, я спрашиваю?
Из толпы выбежала раскрасневшаяся Лю Гуй-лань. Тыча пальцем в Чжан Фу-ина и захлебываясь от гнева, она закричала:
— Ты лучше расскажи, как вы обращались с семьями военнослужащих! Как издевались над ними! Откуда такой закон?
— Вяжи эту сволочь! — предложил кто-то.
— Бей его! — опять заревел возчик.
Начальник бригады поднял руку и обратился ко всем собравшимся. Он сказал, что арестованные все же были работниками крестьянского союза и что они должны искупить вину честным трудом.
— Потом придете и попросите прощения у крестьян. Если крестьяне простят вас и вы хорошей работой искупите свои преступления, старое само собой забудется, — говорил он арестованным. — А тебе, Ли Гуй-юн, больше других нужно подумать о своей вине, честно во всем признаться и заслужить прощение.
Ли Гуй-юн сразу весь просиял:
— Правда, начальник, правда, что и говорить! Честно признаюсь во всем и буду делать, как люди скажут. Можно ли зайти поговорить, когда у начальника время будет?
— Там посмотрим.
Уходя, Ли Гуй-юн нечаянно наступил на ногу Суню, который, боясь упасть, держался обеими руками за прилавок.
— Простите, простите, старина!.. Ай! Какая неосторожность! Простите… — залепетал Ли Гуй-юн.
Старик Сунь обложил его соответствующими случаю и своему гневу крепкими словами и, отстраняя от себя рукой, добавил:
— Пошел вон! Преступлений натворил да еще на ноги наступать! Нечего тебе тут вертеться! Кооператив теперь наш, крестьянский!
Когда освобожденные из-под стражи ушли, Сяо Сян шепнул Чжан Цзин-жую:
— На Ли Гуй-юна обрати особое внимание.
Затем он предложил, не откладывая, избрать ревизионную комиссию. В комиссию избрали трех человек: Го Цюань-хая, Суня и Чу. В помощь пригласили деревенского оспопрививателя Хуа, который умел писать и ловко считал на счетах.
VI
На собраниях бедняков все чаще стали появляться женщины, и женский союз, в котором орудовала Рябая Крошка, распался сам собой.
Теперь Рябая Крошка не решалась показываться людям на глаза. Она целыми днями сидела дома, рукодельничала, старалась угодить во всем мужу и своей мнимой скромностью окончательно обворожила бесхитростного Яна. Тот всей деревне рассказывал, что жена его одумалась и стала примерной.
Перегородку в главном доме бывшей помещичьей усадьбы сломали, и из двух комнат получилась одна — большая и вместительная. Здесь каждый день собирались крестьяне. Посредине комнаты ставили таз, наполненный раскаленным древесным углем. К потолку подвесили большую лампу с четырьмя фитилями, и когда по вечерам ее зажигали, было очень светло. Люди рассаживались вокруг таза, разумеется, задыхались от угара и табачного дыма, но все были очень довольны.
Споры продолжались целую неделю. Крестьяне никак не могли решить, с чего им начинать. Наконец, выведенный из терпения, старик Чу пронзительно закричал:
— Да хватит вам воду в ступе толочь! Разве не ясно, что хороших помещиков не бывает. С какого ни начнем, и ладно! Ошибки не будет.
Все наконец согласились и решили немедленно приняться за помещиков и их прихвостней.
— А середняки тоже могут участвовать? — спросил кто-то.
Поднялся невероятный шум. Го Цюань-хай, стоявший на кане, поднял руку:
— Не кричите! Послушайте, что я скажу. Середняки могут участвовать, если захотят. Но тянуть их не станем.
— Председатель! — вдруг крикнул старик Чу. — Председатель! А если тут окажутся такие, которые подслушивают, можно ли арестовать их?
— Если есть доказательства, можно.
— Держи его, подлеца! Хватай! — завопил старик Чу, кидаясь вместе с Чжан Цзин-жуем в темный угол.
Они выволокли оттуда человека, одетого в заплатанные штаны и рваную куртку, подпоясанную веревкой из соломы.
— Что за переодевание? — спросил Сяо Сян, стоявший на кане рядом с Го Цюань-хаем.
— Никак помещик Чжан Чжун-цай? — всматриваясь в незнакомца, спросил Го. — Он и есть! Это двоюродный брат Добряка Ду.
Старик Чу, крепко держа Чжан Чжун-цая, потащил его к свету:
— Ты, черепашье яйцо, пролез подслушивать?
Всех охватило негодование. Как это он посмел пробраться сюда! Люди окружили помещика, кричали, возбужденно размахивая руками:
— Все козни строишь, контрреволюцией занимаешься!
— Кто тебя подослал?
— Кому его подсылать? Он сам помещик!
— Бить его!
У многих сильно чесались руки. Но Сяо Сян стоял на кане и смотрел во все глаза. Помещика мяли и тормошили, но на большее, боясь начальника Сяо, не отваживались.
Наконец помещика вытолкали взашей.
Крестьяне разделились на группы и наметили помещичьи дома, в которых надлежало произвести конфискацию в первую очередь. Когда запели третьи петухи, группы были уже готовы в путь.
Дасаоцза и Лю Гуй-лань вытащили из сундука, стоящего в комнате крестьянского союза, красное шелковое знамя. В свое время его бросил туда Чжан Фу-ин. Дасаоцза приладила флаг к древку и велела водрузить его над домом.
В лучах зимнего солнца красный флаг заполыхал над серебристыми просторами полей, белыми крышами домов и амбаров, как пламя.
Люди разошлись по деревне, оставляя за собой широкие дорожки на свежевыпавшем снегу.
Для поддержания порядка Го Цюань-хай и старик Чу расставили повсюду вооруженную охрану.
Го Цюань-хай со своей группой направился к усадьбе Добряка Ду. Группа председателя состояла из Дасаоцзы, Лю Гуй-лань, У Цзя-фу и нескольких крестьян.
Лю Гуй-лань, дочь бедняка Лю И-линя, рано потеряла мать. Ее отец задолжал некоему Сяо Ду, родственнику Добряка Ду. Он так и не успел расплатиться с заимодавцем, и перед смертью вынужден был отдать ему за долги свою единственную дочь.
Лю Гуй-лань была высока ростом, ее румяное лицо напоминало спелое яблоко. Сяо Ду взял ее к себе, чтобы обручить со своим сыном. Будущему мужу Лю Гуй-лань едва минуло десять лет, а ей уже шел семнадцатый год. Пока пришлось стать нянькой. Ребенок был робким и болезненным, всего боялся и часто плакал. Девушка оберегала его от мальчишек, которые дразнили и дубасили ее воспитанника, укладывала спать, а если он заболевал, ставила ему банки и рассказывала сказки. Мальчик полюбил ее и никуда не отпускал от себя, да и она привязалась к этому слабому, чахлому существу.
— Совсем не пара, — твердили люди, встречая вместе худосочного заморыша и цветущую высокую девушку.
— Нет, долго им не прожить вместе, — сокрушенно качал головой старик Сунь. — В конце концов обязательно что-нибудь случится. Какой он ей муж, этот недоносок! Лю Гуй-лань нужен настоящий человек, умный и сильный… Ну, хотя бы такой, каким был я, пока моя старуха не извела меня своим ехидством.
Чжан Фу-ин, став хозяином деревни, быстро свел дружбу с помещиками. К Добряку Ду, который был очень щедр на подарки, он особо благоволил. Поэтому и Сяо Ду тоже оказался в почете и так возомнил о себе, что перестал считаться с людьми.
Однажды ночью свекровь разбудила свою молодую сноху и стала ласково уговаривать перейти на южный кан, где спали Сяо Ду и десятилетний муж Лю Гуй-лань:
— Разве ты не видишь, как отец скучает один?
— Как вам не стыдно!.. — возмутилась девушка.
— Чего же тут стыдного? Это долг каждой почтительной дочери.
— Ни за что не пойду! И не просите! — отрезала Лю Гуй-лань.
Свекровь замолчала и отвернулась, а на следующий день обвинила сноху в том, что она ворует яйца и потихоньку их ест.
Обиженная Лю Гуй-лань со слезами прибежала в женский союз. Рябая Крошка, выслушав жалобу, изругала девушку и выгнала.
Лю Гуй-лань вернулась домой, забралась на кан. В окна барабанил дождь. После пережитых волнений девушка сразу же уснула.
Ее разбудил шорох. Она открыла глаза. Ночь была черна, как лак. Вдруг кто-то схватил Лю Гуй-лань. Горячий рот, обросший колючей щетиной, жадно искал ее губы. Лю Гуй-лань закричала.
Мальчик проснулся и испуганно стал звать отца, но кан был пуст. Он вскочил и заметался по комнате:
— Гуй-лань! Гуй-лань! Я боюсь! Бандиты! Пожар!
Наткнувшись на стол, он стал искать на нем спички.
— Тс… проклятый! — зашипела на него мать, схватила за волосы и несколько раз ударила по лицу. Мальчик упал и заревел.
Отец соскочил с кана. Воспользовавшись этим, Лю Гуй-лань выбежала в чем была из дому и кинулась к воротам. Они были заперты. Девушка отодвинула тяжелый засов:
«Куда идти? Дома у нее нет. Мать и отец умерли. В женский союз? Рябая Крошка изобьет и посадит в кутузку».
Девушка стояла среди луж. Ветер трепал ее волосы. Холодный ливень хлестал в лицо. Ее всю трясло. Она бросилась в амбар, упала на кучу кукурузы и проплакала до утра. Когда рассвело, Лю Гуй-лань вышла за ворота и увидела Дасаоцзу, направлявшуюся с ведрами к колодцу. Дасаоцза тоже заметила девушку и испугалась ее вида:
— Лю Гуй-лань, что с тобой?
Но та только всхлипывала.
— Постой, — сказала Дасаоцза. — Я сейчас наберу воды и пойдем. Ты насквозь промокла.
Наполнив ведра, Дасаоцза увела Лю Гуй-лань к себе, переодела в сухое платье и уложила на теплый кан.
— Грейся, я сейчас приготовлю завтрак. Да что с тобой приключилось? Говори скорей!
В этих отрывистых грубоватых словах было столько заботы, что Лю Гуй-лань сразу успокоилась, рассказала о своем горе и, пригревшись под одеялом, уснула.
Она осталась в доме Бай Юй-шаня и вскоре забыла о пережитом. Дасаоцза не велела ей выходить на улицу, чтобы не встретиться со свекром или свекровью.
Наконец Сяо Ду узнал, где скрывается его сноха. Пойти к Дасаоцзе у него не хватало храбрости, и он обратился с жалобой в женский союз. Рябая Крошка тотчас послала своих «активисток» уговорить Дасаоцзу. Но та не пустила их дальше кухни.
— Только что пол подмела. Нечего тут вам бегать. Пусть сама приходит. Уж я с ней поговорю.
Рябая Крошка, опасаясь, что Дасаоцза выведет и ее на чистую воду, отказала Сяо Ду в помощи. Тому ничего не оставалось делать, как отправиться с жалобой к Чжан Фу-ину.
Председатель заявил, что укрывательства преступников он в своей деревне не потерпит, и через старосту группы пригрозил Дасаоцзе, что пришлет милиционеров арестовать беглянку.
Тогда жена Бай Юй-шаня выбежала из своего дома и подняла крик на всю деревню:
— Никому Лю Гуй-лань не выдам! Пусть только попробуют сунуться, если духу хватит. Я с ним расправлюсь как следует! Пусть ваш собачий председатель не думает, что залез на высокую сопку и его не достанешь. Я его подлые дела наперечет знаю.
Когда Чжан Фу-ину доложили о таком неслыханном оскорблении, он вышел из себя и приказал милиционерам арестовать Дасаоцзу.
— Погоди! — остановил его Ли Гуй-юн. — Из этого может нехорошее дело получиться. Она — жена военного. Из района поступит запрос, а то и приедет кто-нибудь. Начнется дознание — и, чего доброго, еще нам с тобой попадет.
— Как же, по-твоему, быть? — задумался Чжан Фу-ин.
— Не будем впутываться в такое дело. Или ты не знаешь Дасаоцзу? Это же сущая дьяволица, и лучше не дразнить ее.
— Верно. Провались они все пропадом! — согласился председатель, радуясь, что у него такой дальновидный советчик.
Сяо Ду кинулся к своему богатому родственнику.
Добряк Ду был занят чтением газеты. Он часто доставал теперь «Дунбэйжибао» и тщательно изучал политику коммунистической партии и военное положение в Китае. Когда расстроенный Сяо Ду ворвался к нему в комнату, помещик читал статью о зимних успехах Народно-освободительной армии, о разгроме и уничтожении дивизий Чан Кай-ши. Он снял очки, невозмутимо выслушал захлебывавшегося от возмущения родственника и горестно вздохнул:
— Подождем… посмотрим…
Лю Гуй-лань так и осталась жить под охраной «дьяволицы».
Прошел месяц. Сяо Ду уже ничего не предпринимал, чтобы вернуть сбежавшую сноху. Десятилетний муж Лю Гуй-лань прибегал несколько раз, плакал и просил ее не уходить из дому. Вскоре в деревню вернулся Сяо Сян. Дасаоцза и Лю Гуй-лань вышли из своего убежища и теперь всюду появлялись вместе.
Когда группа Го Цюань-хая подошла к усадьбе Добряка Ду, ворота оказались крепко запертыми. Возчик Сунь, ехавший на санях позади всех, спрыгнул, первым подбежал к воротам и кнутовищем принялся стучать.
— Кто там? — раздался встревоженный голос.
— Родственники приехали. Отворяй живей! — хрипловатым басом ответил старик Сунь и, наклонившись к Го Цюань-хаю, шепнул:
— Это жена Добряка Ду.
Когда засов щелкнул и ворота заскрипели, старик быстро отбежал прочь и встал позади всех. Ему больше, чем кому-либо другому, были знакомы клыки двух помещичьих собак. Одно воспоминание о них приводило возчика в трепет.
Ворота распахнулись, и два свирепых пса вырвались на улицу. Один сразу же кинулся на Го Цюань-хая, а другой, обежав толпу, подкрался к возчику и грозно зарычал. Старик побледнел и отскочил к саням.
— Ты не смей! Ты не смей! На место! — прерывающимся от испуга голосом закричал Сунь и погрозил собаке кнутом. Но она уже сама оставила его в покое и налетела на У Цзя-фу.
Старик с облегчением вздохнул, вытер рукавом вспотевший лоб и, все еще дрожа от страха, пробормотал:
— Посмел бы ты только подойти ко мне, я бы тебе показал… Я бы тебя одним пинком уложил…
Пес вцепился мальчику в ногу и разорвал ему штаны. Люди камнями и палками загнали собак во двор.
— Скорей убейте их! — кричал возчик. — Никому проходу не дают.
Люди приволокли визжащих собак в конюшню и повесили их на столбе. И только после этого возбуждение несколько улеглось, точно повешены были не собаки, а сам помещик Ду со своей толстой женой.
Го Цюань-хай вошел в помещичий дом и раскурил у топившейся печи свою трубочку. С видом хозяина он оглядел просторную кухню, усмехнулся чему-то и снова вышел.
Дасаоцза и Лю Гуй-лань уже согнали всех женщин семьи помещика на кан в восточной половине дома. Женщины сидели, поджав под себя ноги, и испуганно следили за людьми, которые распоряжались в их доме, как в своем. Когда кто-нибудь на них поглядывал, они опускали головы и украдкой улыбались.
Комната быстро наполнилась любопытными.
— Расступитесь! Идет наш бог богатства! — крикнул из соседней комнаты У Цзя-фу.
Все оглянулись и увидели Добряка Ду. На нем был зимний старый халат, из дыр которого клочьями лезла грязная вата. На голове была надета рваная шапка. Помещик выглядел непомерно толстым. У Цзя-фу сразу сообразил, в чем тут дело, и со смехом рванул веревку, которой помещик был подпоясан. Халат распахнулся, и под ним оказалась новая шуба на лисьем меху, крытая черным узорчатым шелком. Помещик виновато опустил голову, и шляпа скатилась ему на нос. У Цзя-фу подпрыгнул и сорвал ее.
— Говори, куда спрятал свои богатства? — зашумели люди.
Ду поднял голову и, поведя заплывшими глазками, постарался изобразить на лице одну из своих самых добродушных улыбок, которые многих подкупали.
— Ведь у меня уже дважды конфисковали имущество. Посудите сами: что могло остаться?
Вперед протиснулся старик Сунь:
— Не прикидывайся бедняком! У тебя в нашей деревне и в других местах больше тысячи шанов земли. На деньги, которые собираешь за один год, можно отлить золотого Будду.
— Помилосердствуйте, братья! В самом деле ничего нет… Ведь я, памятуя о смирении верующего буддиста, своими руками все роздал крестьянам. Разве это не заслуга? У нашего народного государства и славной Восьмой армии такие зоркие глаза, что от них ничто не скроется. Да и стал бы я скрывать, если всем своим сердцем приветствую переворот. Я так люблю обездоленных, что жизнью готов пожертвовать, чтобы они познали великое счастье.
Из глаз его полились обильные слезы. Некоторые, особенно женщины, были искренне тронуты этими слезами. Иные до того растрогались, что были готовы оставить Добряка Ду в покое, и потихоньку стали подвигаться к двери.
Их удержал вошедший в этот момент Го Цюань-хай. Засунув за пояс трубку, он вскочил на кан и крикнул:
— Товарищи! Чего это вы размякли? Да разве можно верить словам помещика?! Они люди ученые: говорить красно и притворяться большие мастера. Глядите, как нюни распустил! А прежде, когда у нас, бедняков, рекой лились слезы, он что-то не плакал. Я вам расскажу один случай: когда Хань Лао-лю приказал в снежную метель выкинуть за ворота моего умирающего отца, так этот Добряк не только слезинки не пролил, а еще посоветовал злодею Ханю поскорее покончить с моим стариком.
— И вправду разжалобил нас, дураков! Как ему можно верить? Такой же злодей, как и другие! — воскликнула Дасаоцза.
— Верно, дочка! — поддержал ее старик Тянь. — Надо ему отомстить за отца нашего председателя Го!
— Постой, старина Тянь! — прервал Го Цюань-хай. — Дело не только в моем отце. Это я так, для примера сказал. Дело в том, что помещик Ду многим людям зло причинил. Он только и думал, как бы нам навредить!
— Я вам, бестолковые, всегда объяснял… — вмешался возчик Сунь, — что все помещики — гады. А помещик Ду (это очень правильно сказал председатель Го!) есть наш общий враг. Я у него служил, день и ночь возил для него лес с сопки. Как-то раз только что уснул после тяжелой работы, а этот самый Добряк пришел ко мне и говорит: «Вставай, лошадей поить пора». Я тогда угнетенный человек был. Встал, конечно, а все-таки, как он смел меня, сонного, поднимать? Это, по-вашему, разве не экс… как ее… не эксплуатацией стариков называется? Вот какой он есть этот Добряк Ду!
— Я слыхала от товарища Бай Юй-шаня, — заговорила Дасаоцза (с тех пор как Бай Юй-шань стал лицом официальным, она уже не называла его больше мужем или «хозяином»), — что Ду только лицом святоша, а в сердце у него такая же пакость, какая была и у Хань Лао-лю. Как-то раз Бай Юй-шань пошел к нему занять денег, а он под восемь процентов и то не дал… Тогда Бай Юй-шань…
— Ладно, Дасаоцза… — остановил ее Го Цюань-хай. — О дурных делах помещиков долго рассказывать. Мы сейчас не судить его пришли, а за имуществом, которое он награбил да еще и припрятал. Ты не бойся, Добряк, — обратился он к помещику, — мы тебе ничего не сделаем. Ты только скажи, куда спрятал ценности!
— Помещики — такая сволочь, что если их не бить, все равно ничего тебе не скажут, — возмутился милиционер и принялся засучивать рукава. — Давайте-ка отдубасим его как следует.
Го Цюань-хай схватил его за руку:
— Ты что? Бить не смей! Коммунистическая партия запрещает всякое самоуправство. Ду Шань-фа, ты должен добровольно сказать нам: где спрятал ценности?
Добряк Ду, вообразив, что Го Цюань-хай стал на его сторону, повеселел и умильным голосом начал:
— Я всегда говорил, что наш председатель Го…
— Какой он твой председатель! — оборвал помещика старик Сунь. — Он председатель у бедняков и батраков!
Помещик заискивающе улыбнулся:
— Я не сказал мой… сказал наш… А все мое имущество вот здесь в сундуке и шкафу. Клянусь вам, что больше ничего нет…
Го Цюань-хай выбил трубку и усмехнулся:
— Больше тысячи шанов земли и ничего нет? Кого ты обманывать собрался?
— Ведь я два раза отдавал…
— Что ты там отдавал! — прикрикнул на него возчик. — В первый раз — полудохлую клячу да три уздечки, и то тебя силой заставили! А во второй раз, когда здесь Чжан Фу-ин хозяйничал, ты отдал пару рваных одеял. На этом все и кончилось. А золото и серебро припрятал. Что у тебя есть, мы все хорошо знаем! Ты думаешь, для чего нам даны глаза?..
— Если не скажешь, — проговорил с расстановкой Го Цюань-хай, — бить тебя не станем, но в кутузку посадим.
— Вот правильно! — обрадовался такому решению старик Сунь. — Свяжем и посадим. Пусть посидит несколько дней, а потом потолкуем с ним.
Милиционер снял с пояса веревку.
Семья помещика сразу подняла вой. Добряк Ду оглянулся на них, вытер потную лысину и взмолился:
— Не ревите вы! Как начнете реветь, у меня прямо сердце разрывается.
— А когда мы на тебя работали и пот наш со слезами мешался, у тебя сердце не разрывалось? — грозно спросил милиционер.
— Да-да! — вмешался возчик. — Вот я, например, уезжал с первыми петухами, а возвращался, когда уже лампу зажигали. А вернешься, все равно покоя нет: то дрова руби, то лошадей корми, то воду таскай. Заболеешь, так у тебя чашки рисового отвара не допросишься. Только и слышишь: раз заболел, значит так суждено. Вот и тебе теперь тоже суждено!
— Чего с ним разговаривать? — разозлился У Цзя-фу и изо всей силы толкнул помещика в спину. — Отправляйся в кутузку.
— Не надо в кутузку. Я скажу, я все скажу…
— Тише! — закричали люди. — Послушаем, что он скажет!
Стало так тихо, что слышно было, как за окном чирикали воробьи.
Ду вздохнул, поглядел в окно и направился к южному кану. Не сводя глаз с помещика, люди расступились, освобождая ему дорогу. Помещик присел и замер в позе буддийского созерцателя. Все напряженно ждали, затаив дыхание.
— Что я вам скажу? — заговорил наконец помещик. — У меня в самом деле ничего нет.
Неудержимый гнев овладел крестьянами.
— Вставай, собака! — крикнул У Цзя-фу. — Не разрешаем тебе сидеть!
Помещика стащили с кана.
— Надавать бы тебе как следует, сразу бы заговорил, — вышел из себя милиционер и погрозил помещику винтовкой.
На южном кане вновь раздался вой.
— Ведь никто его не бьет! Чего вас разбирает? — обернулся к женщинам Го Цюань-хай и вышел в соседнюю комнату.
— Пусть хоть потонут в слезах, а долги нам заплати, — сказал старик Сунь.
Добряк Ду молитвенно сложил на груди руки:
— Соседи! Есть у нас изречение: «Если не уважаете рыбу, уважайте хоть воду, если не почитаете золотой лик Будды, то почитайте хоть самого Будду», — помилосердствуйте хоть ради него! — Он набожно поклонился идолу, стоявшему на красном комоде.
Это была бронзовая фигура Будды Матреи, толстого уродливого божества с выпяченным голым брюхом и смеющимся лицом, — символ довольства и блаженства.
Взглянув на изображение Будды, возчик вспомнил один из печальных случаев своей жизни.
Как-то зимой, в пургу, в конюшне Добряка Ду ожеребилась кобылица. Был такой мороз, что не успели жеребенка внести в комнату, как он околел. Помещик обвинил в происшедшем Суня, служившего в ту пору у него конюхом, и в наказание заставил старика стать перед этим Буддой на колени и замаливать свой грех.
После того как Сунь отстоял полдня, Добряк Ду подошел и укоризненно покачал головой:
— Ты убил жеребенка и этим очень огорчил Будду. Скажи: что с тобой сделать?
— Что решишь, то и ладно, — покорно поднял на помещика глаза возчик.
— Нет, ты должен сам сказать.
— Согласен купить курительных свечей и отбить столько поклонов, сколько прикажешь…
— Тогда еще стой, подлец!
Старик Сунь простоял перед Буддой до вечера. Наконец помещик подошел опять и, заложив руки за спину, спросил:
— Ну, теперь как?
Колени старика совсем одеревенели. Он был на все согласен, лишь бы освободили:
— Твоя воля, хозяин, что скажешь, то и выполню.
— Чтобы ты не нарушил слова, приложи сюда палец, — приказал помещик и протянул ему тетрадку.
Возчик исполнил приказание.
В тетради было написано:
«Я, Сунь Юн-фу, конюх высокочтимого господина Ду Шань-фа, признаю себя виновным в том, что уморил жеребенка. Пусть за это с меня удержат мой трехмесячный заработок и купят на эти деньги кусок красной материи для подарка Будде».
Вспомнив сейчас обо всем этом, возчик схватил палку и трахнул бронзового Будду по голове. Другие последовали его примеру, и вскоре Будду так измяли, что он потерял всякое сходство со своим первоначальным образом.
— Толстопузые только надувают нас своими богами да чертями! — кричал старик Сунь.
На шум из соседней комнаты прибежал Го Цюань-хай.
— Зачем глупостями занимаетесь? — возмутился он. — Сейчас есть дела поважнее. Помещик не хочет признаться по-честному. Придется самим решать, как с ним поступить.
— Давайте сперва изобьем его как следует, а потом уж посадим, — предложил милиционер.
— Нет, — ответил Го Цюань-хай. — Бить не будем, но посчитаться — посчитаемся. У Цзя-фу! Приведи сюда нашего оспопрививателя.
У Цзя-фу кинулся выполнять поручение.
— Пусть обязательно захватит счеты! — бросил вдогонку Го Цюань-хай.
Вскоре мальчик вернулся, ведя за собой Хуа, прославившегося на всю деревню умелым прививанием оспы. На темном лице оспопрививателя лежала печать величавого спокойствия.
— Оспопрививатель Хуа, — обратился к нему Го Цюань-хай. — Надо будет подсчитать, сколько помещик Ду Шань-фа задолжал нашим крестьянам. Возьмешься за это дело?
— Возьмусь, — произнес оспопрививатель одними губами.
— Ну, Добряк, — заявил Го Цюань-хай помещику, — если ты отказываешься выдать ценности, мы сейчас подсчитаем твой долг крестьянам, и ты его возместишь полностью.
— Считайте, не считайте, у меня все равно ничего нет… — забормотал помещик.
— Так… — не обратив на него внимания, продолжал Го Цюань-хай. — Арендную плату, которую тебе вносили крестьяне, считать не будем. Подсчитаем только твои доходы от эксплуатации батраков. В нашей деревне и в других деревнях нанимал ты в год самое меньшее тридцать человек… Товарищи, один батрак может засеять пять шанов земли? — спросил Го Цюань-хай у присутствующих.
— Может! — ответили все хором.
— Если у него есть лошадь, — вставил Сунь.
— А чтобы оплатить работу батрака и прокормить лошадь, хватит урожая с одного шана или нет?
— Даже много, — заметил возчик.
— На налоги и другие сборы накинем еще два шана. Получается три. Значит, к твоим рукам, Добряк, не мало прилипло. Ну, Хуа, считай теперь.
Хуа поправил очки, засучил рукава и проворно защелкал на счетах.
— Выходит, — объявил он, — на каждом батраке за год помещик зарабатывал десять даней зерна. Нанимая ежегодно тридцать батраков, он получал в год триста даней.
— А Добряк уже тридцать лет помещиком, и каждый год он нанимал не менее тридцати батраков. Ну, подсчитай, сколько он за тридцать лет задолжал нам.
В комнате воцарилась тишина. Добряк Ду, который хорошо разбирался в счете, видя, что получается огромная сумма, весь побагровел и покрылся потом.
— За тридцать лет, не считая процентов, — торжественно возвестил оспопрививатель, — помещик задолжал беднякам девять тысяч даней зерна.
Комната сразу загудела, как улей. Все придвинулись к южному кану, на котором сидел Хуа. Все впились глазами в счеты, точно перед людьми лежали косточки, которые предсказывали судьбу.
Добряка Ду стиснули так, что он не мог пошевельнуться. Понурив голову, он мрачно молчал.
— Ты онемел, что ли?! — закричали на него.
— Пусть отдаст зерно, хотя бы без процентов.
— Долги надо платить. Сами помещики такой закон завели!
Все говорили разом.
— Тише! — возвысил голос Го Цюань-хай. — Довольно болтать попусту! Считай, Хуа, опять: хватит ли у помещика имущества, чтобы расплатиться с нами.
— Считать не надо. Это ясно само собой, — ответил оспопрививатель.
— Так как вещей у Ду не хватит, — заявил Го Цюань-хай, — значит, что все его дома теперь наши. А раз они наши, мы можем проверить и имущество. Только не суетитесь! Смотрите, зеркала не перебейте. Все здесь теперь наша собственность!
Милиционер вскинул винтовку и погнал Ду с семьей в западный флигель.
В главном доме закипела работа. Шкафы и сундуки были раскрыты. Люди выбрасывали вещи, описывали их, ставили печати. Потолок продырявили пиками. Ковры и цыновки сорвали, а на кан навалили кучи всякого добра.
— Приведите Ду. Мы еще спросим его кое о чем, — распорядился Го Цюань-хай. — А ты, Дасаоцза, сходи с ней… с Лю Гуй-лань, в западный флигель и потолкуй с женщинами.
Милиционер привел помещика.
— Долго мне еще перекатывать тебя туда-сюда, тухлое черепашье яйцо? Давай золото! — накинулся он на Добряка.
— Ведь вы же все сундуки вытряхнули, что еще может быть у меня?
— Желтенькое и беленькое куда спрятал? Скажешь ты наконец, — подступил к нему возчик Сунь.
— Да откуда у меня такие вещи, старина Сунь? Погляди сам на эти тряпки. Разве похоже, что у меня есть золото и серебро?
— Постой! Постой! — оборвал его Сунь. — Ты мне голову не морочь. Я-то все знаю. Твоя жена носила золотые кольца. У одной снохи золотые серьги были, на другой — толстые золотые браслеты, сам видел. А еще у твоей жены золотые шпильки торчали в волосах. У тебя самого золотые часы есть, да и в слитках золото найдется. Ты меня из терпения не выводи, а то плохо тебе придется!
Осведомленность бывшего конюха смутила помещика, но он тотчас же вывернулся:
— Продал, давно все продал. Ведь с десятого года Кандэ налоги и поборы, сам знаешь, как выросли. Я с той поры обеднел, хуже погорельца стал жить.
— Пойдем со мной! — приказал Го Цюань-хай.
Они вышли в смежную комнату. Толпа последовала за ними.
— Теперь ты наш должник, — рассмеялся Го Цюань-хай. — А раз платить не хочешь, придется тебе за долг поработать. Раньше ты нами распоряжался, теперь мы тобой распорядимся. Перетащи-ка эти сундуки и ящики. Да проворнее!
Добряк Ду с готовностью принялся за работу и хотя весь вспотел, но очень старался. Го Цюань-хай зорко следил за каждым его движением. Когда дело дошло до бочки с помоями, стоявшей в кухне, Го Цюань-хай уловил на лице помещика замешательство.
— Помилуйте, эту погань-то зачем трогать? — дрогнувшим голосом спросил Ду.
— Ничего, ничего. Что велят, то и делай.
Добряк Ду обхватил бочку, но сделал вид, что не может сдвинуть ее с места. Го Цюань-хаю это показалось подозрительным. Он отстранил помещика и сам сдвинул бочку. Под ней обнаружилась только что вскопанная земля. Го Цюань-хай попытался разрыть ее ногой, но она была мерзлой и не поддавалась.
— Напрасно пробовать. Что там может быть? — с тревогой, но стараясь улыбнуться, сказал Ду.
Го Цюань-хай взглянул на побледневшего помещика и успокоительно проговорил:
— Да, действительно, чему тут быть.
У Добряка Ду отлегло от сердца.
— Пусть разразит меня гром, если я что-нибудь утаиваю от вас…
Бочку вынесли во двор и опрокинули. В ней ничего не оказалось.
— Я же говорил, а вы не верили! — просиял Ду. — Я в самом деле, как погорелец. Эти проклятые гоминдановские реакционеры! Сколько людей они разорили!..
Не обращая внимания на помещика, Го Цюань-хай вонзил в замерзшую землю щуп. Го даже побагровел от усилий, но щуп не шел. Принесли лопаты. Когда землю разрыли на глубину одного чи, лопата звякнула о железо.
— Нашли! Нашли! — закричал старик Сунь.
Со всех сторон в кухню прибежали люди, даже охрана, приставленная к семье помещика. Все напряженно следили за взмахами лопат. Наконец вытащили лист железа. Под ним оказались доски, а под досками — глубокая яма, из которой пахнуло сыростью.
У Цзя-фу зажег лучину и осветил яму. Там стояли сундуки, ящики, были навалены мешки. Старик Сунь спрыгнул в яму.
— Давай сюда еще кого-нибудь! Посвети! Тут тьма!
— Посторонись! — крикнул милиционер и прыгнул вслед за Сунем.
Один за другим они вытащили из ямы тридцать сундуков, ящиков и мешков. Чего только в них не было! И шелк, и атлас, и бархат, и сукно, енотовые и лисьи шкурки, шапки из выдры. Одного сатина оказалось свыше тысячи аршин.
— Вот это мы нашли, так нашли! — отряхиваясь, хвастливо приговаривал Сунь.
Добряк Ду молча ушел в восточную комнату, тяжело опустился на кан и закрыл лицо руками. К нему подошла жена и, трясясь всем телом, села рядом.
— Что же вы делаете? — запричитала она. — Разве так можно! Оставьте нам хоть какую-нибудь мелочь…
— Заплати девять тысяч даней зерна, ничего не тронем, наша крестьянская власть — справедливая. Лишнего не возьмем, а раз задолжал — изволь расплачиваться, — назидательно сказал возчик.
— Старина Сунь! — позвал его Го Цюань-хай. — Не время разглагольствовать. Складывай все эти вещи в сани да вези в крестьянский союз. Один не управишься, скажи, чтобы еще запрягали.
У других помещиков в этот день тоже нашли немало вещей, и с обеда до самого вечера по шоссе тянулись сани, наполненные конфискованным добром.
Старый Сунь нагрузил на свои сани целую гору мешков и ящиков так, что самому ему места не осталось. Важный и гордый, он шел рядом, помахивая кнутом и покрикивая на лошадей:
— Ну, вы! Поторапливайтесь!
Если малознакомый человек спрашивал его, откуда вещи, старик лукаво щурил глаза и коротко отвечал:
— От «погорельца».
Но когда Суня останавливали люди, к которым он питал особое расположение, возчик покровительственно снисходил до объяснений:
— «Погорелец» — это Добряк Ду. Хитер фокусы показывать. Не будь меня и председателя Го, месяц бы копали, ничего бы не нашли. Теперь революция скоро победит.
Он взмахивал кнутом и степенно кричал на своих лошадей:
— Ну, живей! Поторапливайтесь!
VII
О нахождении тайника в доме помещика Ду стало тотчас известно всей деревне. В домах и дворах других помещиков заработали лопаты и кайла крестьян, словно поднимая целину.
К вечеру группа старика Чу на огороде Тана Загребалы обнаружила под сугробом большую яму, в которой оказалось двадцать сундуков.
Всю ночь напролет мелькал огонь лучин в помещичьих дворах.
На рассвете второго дня к Го Цюань-хаю, остававшемуся в усадьбе Ду, пришел Вань Цзя.
— Комиссару Сяо, — сообщил он, — передали из бригады, работающей в деревне Уцзя, о проделках помещичьих жен. У них нашли кольца на пальцах ног. Комиссар Сяо советует обыскать всех женщин из помещичьих семей.
Го Цюань-хай подозвал Дасаоцзу:
— Иди-ка сюда. Есть хорошее поручение.
Дасаоцза улыбнулась и кликнула из соседней комнаты Лю Гуй-лань. Но та отказалась явиться, и Дасаоцзе пришлось привести упирающуюся девушку за руку.
Ничего не подозревавший Вань Цзя удивленно спросил:
— Что с ней такое? Почему она упирается?
— Ничего особенного, — вынув изо рта трубку ответил Го. — Дасаоцза просто дурачится. Ну хорошо, Дасаоцза, довольно шутить, есть более важные дела, которые нам, мужчинам, к сожалению, трудно выполнить. Тут нужны твои руки.
И он рассказал о предложении Сяо Сяна.
— А ну, мужчины, выходите отсюда! Оставьте нас одних. Лю Гуй-лань! Приведи сюда женщин! — скомандовала Дасаоцза.
Мужчины вышли. В комнате остались одни лишь женщины. Когда Лю Гуй-лань привела помещичьих жен, сестер и других родственниц Ду, Дасаоцза, сдвинув сурово брови, пригрозила:
— Говорите сейчас же, где золото, не то худо будет!
— Какое еще тебе золото? — огрызнулась старуха Ду. — Откуда у нас, крестьянок, золото…
— Если нет золота, отдавайте золотые кольца, — рассердилась Лю Гуй-лань.
— Откуда у нас такие вещи?
Дасаоцза оглядела сноху Добряка Ду, худую, как стебель конопли, за что та прозывалась Тощей Коноплей, и спросила:
— Куда девала золото твоя свекровь? Ведь она припрятала его для младшего сына, и тебе оно все равно не достанется…
— У нее нет золота, — отрицательно покачала головой Тощая Конопля, — чего ты меня подговариваешь? На деньги, какие у нас случались, мы покупали землю, а золота никогда не имели.
Тогда Дасаоцза обратилась с тем же к жене младшего сына Ду.
Этой толстухе, по прозвищу Пышка, едва минуло девятнадцать лет.
— А я откуда знаю, куда его спрятали? — хихикнула Пышка.
Свекровь и Тощая Конопля окинули ее злобными взглядами. Та сразу изменила тон:
— У нас нет золота. У нас никогда никакого золота не было. Если появлялись лишние деньги, покупали землю, и все тут!
Все говорили одно и то же, только на разный манер. Крестьянки громко смеялись.
— Чего вы там покатываетесь? — крикнул из соседней комнаты старик Сунь.
— Все равно тебе не скажем, — ответила Дасаоцза и, сделав строгое лицо, обратилась к старухе Ду: — Если ты не признаешься, мы все равно своего добьемся. Снимайте-ка туфли да полезайте все на кан!
Женщины послушно выполнили приказание. Дасаоцза и Лю Гуй-лань тщательно осмотрели ноги, заглянули даже в туфли, но ничего не нашли.
Отойдя в сторону, активистки стали советоваться. Вскоре Лю Гуй-лань направилась прямо к Тощей Конопле:
— Снимай одежду!
Та притворилась, что не расслышала.
— Что ты сказала?
— Одежду, говорю, снимай!
Тощая Конопля не двинулась с места.
— Не хитри, снимай скорей!
— Сама не снимешь, так мы с тебя стащим, — пригрозила Дасаоцза. Она подошла и стала расстегивать ей пуговицы.
Женщина побледнела и взвизгнула:
— Не смей меня трогать…
— Ну, скорей, говорят тебе! Чего мешкаешь? — прикрикнула на нее Лю Гуй-лань.
Старуха Ду соскочила с кана и бухнулась на колени:
— Добрая девушка! Какой стыд и срам! Будда разгневается и нашлет на всю твою семью болезни.
— Здесь что-то неладно. Пословица говорит недаром, что если человек залезает на кан в туфлях, значит у него рваные носки, — сказала Дасаоцза.
Тощая Конопля, когда ее раздевали, визжала и плакала, а старуха твердила:
— Да ничего же у нас нет! Дасаоцза! Девушка! Не гневите милосердного Будду!
— Восьмая армия ни в богов, ни в чертей не верит! — возразила Лю Гуй-лань.
Наконец, когда был развязан пояс, что-то выпало, блеснуло при тусклом свете масляной лампы и со звоном покатилось по полу.
Лю Гуй-лань подняла два золотых кольца.
— Есть! — крикнула она. — Поглядите, что здесь такое.
Мужчины, с нетерпением ждавшие у дверей, ворвались в комнату и окружили Лю Гуй-лань.
— Где нашла? — спросил старик Сунь.
Девушка не ответила.
— А тебе зачем знать? — рассмеялась Дасаоцза. — Где бы ни нашла — все ладно.
Возчик взял кольцо и, вытянув руку, стал рассматривать с видом оценщика закладной конторы.
— На золото вроде не похоже. Это бронза. Золото на вкус сладкое, а бронза — горькая. Сейчас попробую. Я только на язык возьму, сразу скажу, — и сунул кольцо в рот.
Слух об этой находке разнесся по деревне с той же быстротой, с какой разнеслась весть о тайнике Ду. Вскоре золото стали находить и в других помещичьих усадьбах. Золотые вещи были спрятаны в печах, нанизаны на прутья плетней. Серьги находили вмерзшими в лед оконных стекол. Кольца оказывались зашитыми в штаны, под подошвы туфель, надеты на пальцы ног. Но всеми этими хитростями невозможно было обмануть бедняков.
Только за пять дней в деревне Юаньмаотунь собрали свыше трех фунтов золота. Золотые браслеты и кольца нанизывали на нитки и складывали в сундук.
Сани, запряженные парами, непрерывно везли зерно, жмых, тюки материи, одежду и сельскохозяйственный инвентарь. Большой двор правления крестьянского союза быстро наполнился всяким добром. Восточный флигель заняли под склад. В западном флигеле устроили амбар. Но так как он не мог вместить всего, часть отобранного зерна ссыпали в кучи прямо во дворе.
Сяо Сян принял в правлении крестьянского союза прибывшего из Харбина корреспондента газеты «Дунбэйжибао». Они вместе вышли во двор, осмотрели извлеченные из ям и подвалов богатства и сфотографировали Го Цюань-хая, стоящего возле самой большой кучи кукурузы. Начальник бригады сообщил корреспонденту:
— Найденное золото крестьяне решили продать. На вырученные деньги они купят лошадей и необходимый инвентарь. Мы согласились с этим решением народа. Главная цель земельной реформы — подъем сельскохозяйственного производства.
На другой день после отъезда корреспондента Сяо Сян тоже собрался в путь. В деревне Юаньмаотунь все шло хорошо, и начальник бригады решил отправиться в деревню Саньцзя, которая находилась у подножья гор. Там работа еще не была закончена и требовалось его присутствие. Деревенские активисты во главе с председателем крестьянского союза проводили Сяо Сяна и Вань Цзя. Перед тем как расстаться, начальник бригады обратился к Го Цюань-хаю:
— Тебе, председатель, теперь нужно переехать в помещение крестьянского союза и быть особенно бдительным, чтобы вражеские элементы не подожгли конфискованное добро.
Он тепло попрощался со всеми и сел в сани. Лошади весело побежали по укатанной дороге.
VIII
Го Цюань-хай перебрался в правление крестьянского союза и разместился в восточной комнате, где жил прежде.
Уже семь суток люди деревни Юаньмаотунь почти не спали, но никто не чувствовал усталости. Вечером восьмого дня к Го Цюань-хаю зашел Тянь Вань-шунь, который работал в группе старика Чу.
Они разговорились и вспомнили, что помещик Ду до оккупации японцами Маньчжурии был подрядчиком в долине реки Вэйцзыхэ и вывез оттуда немало слитков серебра.
— Они у него, должно быть, еще остались. Но как добиться, чтобы он сам их отдал, — в раздумье говорил Го Цюань-хай.
— Давай разыщем старшего сына Ду и расспросим его, — посоветовал старик Тянь.
— Это какого сына? — поднял голову председатель.
— Покойной жены Ду. Его мачеха с детства невзлюбила, всячески мучила, и ему пришлось уйти. Сейчас он живет у восточных ворот. Потолкуй с ним, может, что и выйдет. Надо только его угостить.
— Это чем же?
— Парень любит выпить…
— Ладно, попробую, старина Тянь.
Го Цюань-хай зашел в кооперативную лавку, купил две бутылки водки и фунт бобового сыра. Он сам приготовил закуску и пригласил к себе сына помещика.
Го Цюань-хай пил мало. Подвернув под себя ногу и покуривая трубочку, он внимательно приглядывался к гостю, который опрокидывал чарку за чаркой и чем больше пил, тем разговорчивее становился. Когда гость осушил обе бутылки, Го Цюань-хай принес третью.
Вскоре сын помещика расплакался, потому что, напившись, всегда начинал плакать и жаловаться на то, как обижала его мачеха, как плохо кормила и в каком тряпье ему приходилось ходить.
— Поверишь ли… поверишь ли, председатель Го, как тяжело! Зимой того года, когда развалилось это чортово Маньчжоу-го, у меня даже обуви… даже обуви на ногах не было, а она заставила меня, понимаешь, свиней кормить. Я себе тогда все пальцы на ногах отморозил. Собственный ее сын еще спал на кане, а мне надо было уже жмых рубить, чтобы этим… лошадям, словом, дать. Так эта старая свинья стала меня всякими словами обзывать… «Дитя, говорит, еще спит, а ты, негодяй, стучать в комнате собрался!» Да это еще в детстве было, а потом… Сколько я от нее натерпелся! Когда умерла моя жена, я еще совсем молодой был, а она, ты только подумай, председатель, женить меня вновь так-таки и отказалась… Она, конечно, очень хитрая, эта старая свинья, но и я, председатель Го, кое-что понимаю. Ты не смотри, что я сейчас пьян. И пью я, председатель Го, просто с горя… А все-таки понимаю, что из отцовского имущества мне ничего не достанется. Ты вот сейчас сводишь с ними счеты, а мне их не жалко… Мне, понимаешь, как есть ничего не жалко! Ты хороший человек, председатель Го… Я всех хороших людей люблю! А эту старую сволочь ненавижу…
— А ты скажи мне… — попросил Го Цюань-хай. — У твоей мачехи есть собственные деньги?
— Как же, конечно, есть!
— А кому она собирается их отдать?
— Кому? Моему младшему брату.
Го Цюань-хай вынул трубку изо рта:
— Так тебе значит ничего не достанется?
— Ничего, председатель Го, не достанется…
Го Цюань-хай придвинулся к нему и, понизив голос, спросил:
— А ты знаешь, где у них спрятано золото и серебро?
Гость тупо смотрел на хозяина невидящими глазами. Рука, державшая рюмку, качалась, и водка текла по пальцам.
— Золото, серебро, говорю, где спрятано? — повторил председатели.
— Золото?.. Это уж, брат… не знаю… не знаю.
— А серебро?
— Серебро?.. Слыхал, как старая свинья наказывала, чтобы сходили на сопку да поглядели под дикой яблоней.
— Чего поглядели?
— Как че…го?.. Не разрыл ли кто…
— Под какой дикой яблоней?
— Это тоже, председатель… тоже не знаю… не знаю…
Выпроводив гостя, который долго и прочувствованно благодарил за угощение, Го Цюань-хай созвал совещание группы, на котором решили, что председатель и старик Сунь займутся Добряком, а Дасаоцза и Лю Гуй-лань допросят женщин.
Помещик продолжал отпираться.
— Вы же сами видите, — со слезами на глазах повторял он, — что у меня, бедняка, ничего больше нет. Ведь все забрали, все как есть забрали. Клянусь Буддой! Пусть гром меня разразит, пусть стану я бездомной собакой в своем будущем перевоплощении, пусть небо лишит меня всего потомства, если у меня хоть что-нибудь осталось…
— Ты лучше не запирайся, — уговаривал его старик Сунь. — За тебя уже другие сказали. Твой же собственный сын честно во всем признался председателю.
Добряк Ду вздрогнул, и в морщинах его лица появилась испарина.
Го Цюань-хай пошептался о чем-то со стариком Сунем, и возчик спросил:
— А что ты закопал под дикой яблоней? Думаешь, мы не знаем!
— Я не понимаю, что ты говоришь…
Возчик прищурился:
— Я тебя спрашиваю, что ты под дикой яблоней закопал?
Добряк Ду украдкой покосился сначала на старика Суня, потом на Го Цюань-хая, чтобы удостовериться, действительно ли они что-нибудь знают или просто хотят его разыграть.
— Если пойдешь с нами и укажешь, где зарыл, этим подтвердишь свою искренность, — заметил Го Цюань-хай. — Твои младшие сыновья скрылись, а старший — пьяница и недоумок. Кому ты оставишь свои драгоценности? Ведь не захватишь же их с собой в могилу? Не скажешь, все равно найдем — и тогда за тобой еще одно преступление будет… Ладно, — обратился Го Цюань-хай к возчику, — раз он не хочет добровольно рассказать, требовать не станем. Уведи его и позови сюда старшего сына.
Подгоняемый возчиком, Ду поплелся к выходу, но, дойдя до двери, обернулся:
— Чего он вам наговорил?
— Кто наговорил? — спросил Сунь.
— Мой сын?..
— Он сказал… да… да… он так и сказал…
Го Цюань-хай подмигнул возчику, и старик тотчас же переменил тон:
— А кто тебе сказал? Ничего он нам не говорил…
— Ровно ничего, — подтвердил Го Цюань-хай.
— Не беспокойся, чего волнуешься? — пробормотал старик Сунь.
Но Добряк Ду не на шутку обеспокоился. Подмигивание Го Цюань-хая и бормотание возчика совсем сбили его с толку. Он потоптался на месте и уже было перешагнул порог, но вдруг остановился:
— Ладно. Сегодня я устал, а завтра сходим.
Го Цюань-хай, боясь как бы помещик не передумал, сразу ухватился:
— Зачем же завтра? Лучше сегодня сходим.
Добряк Ду тяжело сел на кан и опустил голову:
— Верно вам говорю. Так устал сегодня, что с места двинуться не могу. Пойдемте завтра…
— Ничего, я мигом сани подам! — обрадовался возчик.
Он скрылся и вскоре въехал во двор на санях, запряженных тройкой лошадей.
— Выходи, Добряк, садись! — крикнул возчик, вбегая в комнату.
Он подхватил помещика и проворно вывел его из дому, усадил в сани. Го Цюань-хай и милиционер взяли с собой лопаты и кирки.
— Куда ехать?
— За южные ворота…
— Вмиг доставлю! — пообещал Сунь.
Вьюга все еще завывала. Сухой снег со свистом бил в лицо. Когда выехали из южных ворот, перед глазами открылась беспредельная равнина. Дорогу занесло снегом, сани попали в яму и опрокинулись. Люди вывалились в мягкий снег, но никто не ушибся. Отряхнулись, снова сели и поехали дальше.
Когда добрались до леса, Добряк Ду слегка толкнул возчика в спину. Тот придержал лошадей и помог Ду сойти. Помещик отправился на поиски и вскоре остановился возле дикой яблони, на коре которой была сделана зарубка.
— Здесь… — показал он пальцем и, вернувшись к саням, сел и обхватил голову руками.
Милиционер рубил киркой замерзший снег, а Го Цюань-хай разбрасывал его лопатой. Земля была твердой, как камень. А снег все валил и валил, засыпая одежду и шапки людей пушистым белым покровом. Вдруг из ямы вместе с землей вылетел блестящий комок.
— Вот он, слиток серебра! — радостно крикнул Сунь.
Выкопали еще четыре. Го Цюань-хай и милиционер с любопытством разглядывали клад. Оба они были молоды и никогда не видывали таких слитков, похожих на старинные китайские чарки или куски свинца с двумя ушками по бокам. Отлиты они были очень грубо, со множеством раковин и щербинок.
— Это такая невидная штука, что, выбрось на дорогу, — никто не возьмет, — разочарованно сказал Го Цюань-хай.
— Свинец и все тут… — согласился милиционер.
Старик Сунь взял слиток и, осмотрев его, с видом большого знатока постучал по нему ногтем:
— Скажут тоже! Ты послушай, свинец разве так звенеть будет? Раньше, еще при старой династии, я много таких слитков перевидал, да только все они не мои были!
IX
В правлении крестьянского союза шло собрание бедняков и батраков деревни Юаньмаотунь. Так как стояли сильные морозы, на земляном полу разложили большой костер. Комната была полна дыму. Люди чихали, кашляли и терли кулаками слезящиеся глаза.
Старик Сунь, размахивая руками, с увлечением рассказывал, как нашли под яблоней слитки серебра.
Вдруг примчался запыхавшийся У Цзя-фу и что-то шепнул на ухо Го Цюань-хаю.
— Ладно, — ответил Го Цюань-хай и подозвал Дасаоцзу:
— Сходи и разузнай, в чем там дело у Добряка Ду.
— К женщинам?
— Да.
— Хорошо. Идем, Лю Гуй-лань.
Когда они вошли во флигель, где разместились женщины из семьи Добряка, здесь уже собралось достаточно любителей поглазеть на семейные скандалы.
Тощая Конопля, багровая от злости, сидела на кане, поджав под себя ноги, и нещадно дымила трубкой.
При появлении Дасаоцзы и Лю Гуй-лань она вытащила трубку изо рта, смачно сплюнула сквозь зубы и закричала на младшую сноху:
— Все из-за тебя, только из-за тебя!
— Нет, из-за тебя! — огрызнулась та и непристойно выругалась.
— Из-за тебя, повторяю! Ты тут всем хочешь верховодить. Помнишь, как в декабре ты не позволяла кан перекладывать?
— А что из того, что не позволяла? Его все равно взяли да и переложили!
— Конечно, переложили! Неужели отец будет считаться с твоими фокусами.
Дасаоцза насторожилась. Потом, очевидно сообразив что-то, она схватила Лю Гуй-лань за руку, и обе поспешили в союз.
— Тут что-то есть, что-то есть! — повторяла Дасаоцза, задыхаясь от волнения. — Надо как можно скорее сообщить председателю. Зачем это Добряку понадобилось зимой кан перекладывать?
Выслушав Дасаоцзу, Го Цюань-хай нахмурился:
— Ты права, тут что-то неладно…
Наступило молчание.
— Старина Сунь! — вдруг крикнул Го Цюань-хай.
Возчик нехотя поднялся и вразвалку подошел:
— Слушаю тебя, председатель.
— Надо у помещика Ду кан в восточном флигеле осмотреть.
— Зачем его осматривать? Я уже давно осмотрел.
— Но ведь ты не разбирал его?
— Нет, чего не было, того не было…
— Придется разобрать. Женщин надо будет перевести в другое помещение.
Они взяли нужные инструменты и в сопровождении нескольких активистов направились к дому помещика.
Перебранка уже затихла, и любители семейных скандалов нехотя расходились по домам, Тощая Конопля лежала на кане, продолжая дымить своей трубкой, а ее противница качала в соседней комнате люльку.
Го Цюань-хай велел женщинам перебраться в западный флигель, а сам вскочил на кан и принялся простукивать каждый кирпич. Когда он добрался до стены, звук в одном месте показался ему более глухим. Го Цюань-хай выломал в этом месте несколько кирпичей, за которыми оказалась небольшая ниша, и извлек оттуда металлическую коробку.
Столпившись возле кана, активисты окружили председателя. Он открыл коробку. В ней лежали золотые серьги, броши, шпильки, а на дне — пачка каких-то документов.
Го Цюань-хай снова послал за Хуа. Тот немедленно явился. В руках оспопрививателя были счеты. Он захватил их, полагая, что председателю вновь понадобятся его бухгалтерские услуги.
— Скорей полезай сюда! Прочти нам, что тут такое написано! — крикнул Го Цюань-хай.
Хуа нацепил очки и, небрежно взяв в руки документ, рассмотрел его и вернул обратно.
— Купчая крепость на землю еще времен Маньчжоу-го, — важно изрек он и протянул руку за двумя другими листами, исписанными мелкими знаками.
— Тут написано нижеследующее, — объявил оспопрививатель. — «Восьмого августа 1946 года бандит Сяо Сян вместе со своей бригадой принудил меня отдать бездельникам пятьдесят шанов унаследованной мною от моих предков земли, за которую я получал законную аренду. Земля моя была роздана: Ли Чан-ю, Чу Фу-лину, Тянь Вань-шуню, Чжан Цзин-сяну и Сунь Юнь-фу (конюху)…»
Не успел Хуа докончить последнее слово, люди зашумели, как вода, прорвавшая плотину. Громче всех кричал старик Сунь:
— Это же контрреволюция! Сукин сын, даже мою фамилию прописал! Как он посмел, собака!
— Еще бандитом обзывает спасителя наших бедняков! — крикнул старик Тянь.
— Да ведь этот Ду — предатель! — продолжал бушевать возчик. — Он во времена Маньчжоу-го был начальником отряда самообороны и вместе с японцами ходил на сопку ловить партизан. Он говорил, что это хунхузы.
Пришел старик Чу. Возчик, торопясь, рассказал ему о находке и добавил:
— Ты, брат, тоже попал в этот список.
— Ах он негодяй! — рассвирепел Чу.
— Кстати, куда делся Добряк? — неожиданно спросил Го Цюань-хай.
— Притворился бедняком и поехал на сопку дров себе нарубить.
— Ловить его не станем, — сказал Го Цюань-хай, — но и разгуливать ему не позволим.
— Давай же поступим так, как в старину поступали, — предложил возчик, — если какой-нибудь негодяй нарушал установленный закон, то чертили на земле круг и ставили в него преступника. Железной решетки хотя и нету, а за черту выйти не разрешалось. Вот и стой себе в круге.
— Правильно придумал, старина! Устроим нашим помещикам такое же наказание, — зашумели вокруг.
— Внимание! — воскликнул Го Цюань-хай. — Есть еще одна бумага. А ну, Хуа, что в ней написано?
Оспопрививатель обстоятельно изучил бумагу и наконец проговорил:
— Это — «Список кадров крестьянского союза деревни Юаньмаотунь». Внизу примечание: «Кадрами у них называют чиновников коммунистической партии». Вот кто числится в списке: Чжао Юй-линь, Го Цюань-хай, Ли Чан-ю, Бай Юй-шань, Чжан Цзин-сян…
Хуа долго читал перечисленные помещиком фамилии активистов, затем огласил фамилии крестьян, получивших конфискованное помещичье добро. В списке значилось: кому достались лошади, какой масти и какого возраста, кто получил гаолян, бобы, соевое масло.
Когда Хуа кончил, старик Сунь подошел к нему и вполголоса спросил:
— А среди активистов разве моей фамилии не значится?
— Не значится. То, что тебе досталась одна конская нога, — это значится. — Оспопрививатель заглянул в список: — Одна нога рыжего коня… так, что ли?
— Так, так, это все правильно… А про то, что я начальника Сяо привез, разве ничего не написано?
Оспопрививатель неторопливо снял очки, и на его темном лице появилась улыбка:
— Правильно. Помещик про это написать забыл. Не расстраивайся, я могу приписать.
Го Цюань-хай подозвал Чжан Цзин-жуя, передал ему найденные документы и велел сейчас же свезти их к Сяо Сяну и спросить, как поступить с помещиком.
Чжан Цзин-жуй скоро вернулся и привез от начальника бригады письмо. В нем говорилось, что нужно созвать собрание бедняков и батраков, огласить эти списки и послушать, что скажут люди. Бить, однако, Сяо Сян запрещал. Активисты обязаны приостанавливать всякое самоуправство. Если помещик Ду составлял подобные списки, то вполне вероятно, что у него имеется также и оружие. Нужно заставить помещика указать, куда он его спрятал.
Го Цюань-хай созвал собрание, которое затянулось до глубокой ночи. В сердцах людей гнев клокотал так же сильно, как и в день суда над Хань Лао-лю.
Старик Чу требовал немедленно выгнать всю семью помещика Ду из усадьбы и поселить их в лачугу: пусть, мол, отведают горькую бедняцкую долю. Посмотрим, как они тогда станут заниматься контрреволюцией!
Чжан Цзин-жуй добавил, что так надо было бы поступить и со всеми другими помещиками.
— Все согласны с таким предложением? — спросил Го Цюань-хай.
Грянул гром рукоплесканий. Некоторые тут же стали собираться, чтобы как можно скорее выбросить помещиков из их домов.
— Подождите! — остановил Го Цюань-хай. — Дело вот еще в чем: если помещики составляют такие списки, у них может оказаться и оружие. Что касается Ду Шань-фа, вся деревня знает, что он имел связь с бандой и являлся начальником отряда самообороны. А если у Ду Шань-фа найдется оружие, — спросил Го Цюань-хай, — и он откажется выдать его нам, что тогда с ним делать?
— Будем бить, пока не скажет!
— Выцарапаем ему глаза, чтоб он, если у него даже и останется оружие, не видел, куда стрелять.
Го Цюань-хай рассмеялся и покачал головой:
— Нет, так не выйдет! Кто пустит в ход кулаки, тот нарушит политику председателя Мао. Сперва следует допытаться: есть ли у этого Ду оружие.
— Чего там еще допытываться, — вмешался возчик. — Я вам так скажу: в том самом году, когда выгнали японцев и гоминдановская банда пришла сюда, сын Ду и старший сын Хань Лао-лю приезжали домой. Я своими ушами слышал, как они стреляли во дворе. А из чего они, спрашивается, стреляли?
— Вот это улика! — воскликнул Го Цюань-хай. Созовем собрание и допросим помещика.
X
Теперь уже почти вся деревня поднялась на борьбу с помещиками.
Списки, составленные Добряком Ду, воочию убедили крестьян, что сопротивление врага не сломлено и он еще замышляет контрреволюционный переворот. Ненависть к помещикам усилилась. Бедняки в один голос заявляли, что нужно отнять у них оружие, иначе покоя людям не будет.
Снова день и ночь шли совещания. Поднялся настоящий ураган, который всей своей мощью обрушился на силы старого мира.
Однажды вечером, через несколько дней после того как были обнаружены списки, в правлении крестьянского союза зажгли большую лампу. В комнате стоял шум, люди с нетерпением ожидали, когда наконец приведут помещика Ду. Напрягая голос, старик Чу старался всех перекричать:
— Не добьемся — и не надо! Отправим в уездную тюрьму — и конец! Хлопот меньше будет.
Го Цюань-хай, посоветовавшись с активистами, послал Дасаоцзу и Лю Гуй-лань уговорить младшую сноху Ду, чтобы та сказала, где спрятано оружие. В этот момент раздались возгласы:
— Пришел! Пришел!
За окном блеснул свет фонаря, и через минуту милиционер втолкнул толстяка в комнату. Лицо помещика было бледно. Он пошатывался, с трудом держась на ногах. Два дня назад Добряк указал еще на три тайника с вещами, рассчитывая, что, отдав это имущество, он наконец избавится от расспросов об оружии. Но теперь от него требовали именно оружие — и ничего больше.
Лампа в клубах табачного дыма, плавающего под потолком, походила на луну в темных облаках.
— Старый черт! Всегда улыбаешься, а сам камень за пазухой прячешь! — крикнул кто-то из присутствовавших, обращаясь к помещику.
Немало выслушал в этот вечер Добряк Ду. Ему припомнили даже такое, о чем он уже давно успел забыть.
Наконец подошел Го Цюань-хай и стал терпеливо втолковывать помещику, что, если тот отдаст свой маузер, ему сбросят остаток долга крестьянам.
Добряк хотел было что-то сказать, но осекся и опустил глаза.
— Попробуй ты, может, у тебя выйдет… — шепнул председатель на ухо старику Суню.
Возчик подошел к помещику и решил сперва взять его лаской и уважением:
— Все мы добрые люди, и сердца у нас, как у Бодисатвы.
Помещик покосился на улыбающееся лицо своего бывшего батрака, на его прищуренный левый глаз и ничего не ответил.
— Послушай меня, — неторопливо продолжал старик Сунь. — Мы много лет связаны вместе: ты — хозяин, я — твой батрак. И что у тебя есть — мне все известно. Ведь у тебя еще при Китайской республике оружие водилось. Во время освобождения Маньчжурии был у тебя маузер. Скажи скорей, где он, отпустим тебя, и ты станешь честно трудиться.
— Да у меня же ничего нет. Что мне говорить?
— Ты опять за свое! — с укором сказал Сунь. — Да если бы у тебя не было оружия, чем бы ты стал охранять свои четыре башни?
Добряк Ду долго думал и наконец признался:
— Был у меня раньше один дробовик, а больше ничего нет…
— А где этот дробовик? — оживился Чжан Цзин-жуй.
— Давно сдал властям.
— Каким таким еще властям? — поинтересовался возчик.
— Еще во времена республики сдал…
— И почему это у тебя такая бестолковая башка? — воскликнул возчик. — Как ты не понимаешь, что только наша Восьмая армия и демократическое правительство могут называться настоящей властью?
Чжан Цзин-жуй, боясь, что Сунь опять заведет старую песню и разговор свернет в сторону, попробовал было вмешаться, но Добряк уже ухватился за последние слова возчика:
— Правильно, правильно, старина Сунь, у меня действительно бестолковая башка! Но в дальнейшем, я клянусь тебе, обязательно исправлюсь. Я отдал все золото, чтобы пойти за крестьянским союзом по революционному пути и служить народу…
Раздался хохот, посыпалась брань.
— Бросьте зубоскалить! — крикнул Чжан Цзин-жуй. — Добряк, если ты действительно решил исправиться, то мы это приветствуем. Но ведь, прежде чем идти по революционному пути, нужно сдать оружие.
— Соседи! Да откуда у меня быть таким вещам? Помилосердствуйте… — взмолился помещик.
— У тебя не только винтовки, но и маузер есть, — заметил старик Чу.
— Клянусь, маузера никогда не было.
— Нету, говоришь, маузера, — заговорил старик Чу, придвинувшись вплотную к помещику. — А что твой сын в сапог прятал? Короткоствольный маузер! Об этом вся деревня знает.
— Да у меня ничего нет, — снова нудно заговорил толстяк.
Старик Чу весь побагровел:
— Так-таки ничего и нет? Ладно! Будет нам с тобой канителиться. Веди его!
Чжан Цзин-жуй угрожающе щелкнул затвором. Добряк Ду так перепугался, что у него даже физиономия перекосилась.
— Мы давно уже все проверили! — крикнул Чу. — У тебя и винтовки и маузер есть! Раз ты их спрятал, значит решил контрреволюцию разводить. Что будем с ним делать? — обратился он ко всем.
— Вяжи его!
— Посадить в кутузку!
У Цзя-фу обеими руками толкнул помещика в спину.
— Ой, мама, мама! — вскрикнул Добряк Ду. — Не надо пугать! Не надо пугать… У меня одышка… Прямо в глазах потемнело!
Помещик повалился на кан. Его подняли, принесли воды и стали отпаивать.
Чжан Цзин-жуй ударил прикладом об пол и злобно выругался:
— Чего притворяешься? Если не скажешь — расстреляем, обязательно расстреляем!
Молчавший до сих пор Го Цюань-хай вынул изо рта трубку и миролюбиво заговорил:
— Ты лучше признайся, Добряк. Скажешь — всем неприятностям конец, а станешь запираться, только хуже будет.
Лицо Ду исказилось плаксивой гримасой:
— Что мне сказать? Ведь и золото и серебро — все отдал…
— Об этом мы тебя не спрашиваем. Если осталось, пользуйся сам, нам не надо. Только оружие отдай, — настаивал Го Цюань-хай.
Помещик снова в изнеможении свалился на кан и, задыхаясь, попросил еще воды. Когда его напоили, он прислонился к стене и медленно начал:
— В прошлом году, в мае, мой сын вместе со старшим сыном Хань Лао-лю Хань Ши-юанем приезжали ко мне из Харбина. То, что Хань Ши-юань привез маузер, — это истинная правда. Но то, что этот маузер был спрятан моим сыном, — сплошная ложь. Спрятал маузер Хань Ши-юань, с которым мой сын ехал в одном вагоне. Хань Ши-юань привез с собой женщину из публичного дома и поэтому не пошел домой, боясь, что его жена будет недовольна. Он остановился в моем западном флигеле. Хань Ши-юань частенько скандалил со своей девкой. Однажды вечером я услышал выстрел. Мы с сыном перепугались и подумали, что он ее убил. Но после этого они, как ни в чем не бывало, отправились охотиться на фазанов. Выстрелы долетели до гор, вблизи которых бродила банда Бэйлая. В полночь бандиты явились ко мне, связали Хань Ши-юаня, увели с собой и прихватили маузер…
— До чего же ты заврался, — с досадой сказал старик Чу.
Возчик переглянулся с Го Цюань-хаем:
— Гляди, как здорово придумал! Все на Хань Ши-юаня свалил, а сам оказался чистым, как новорожденный. Мастер плести небылицы, — рассмеялся возчик.
— Я сказал вам чистую правду. Можете проверить. Жена Хань Ши-юаня еще здесь, спросите ее. Если хоть слово приврал — пусть меня расстреляют.
— Давно проверили, — продолжал возчик. — Уж я-то все твои дела знаю. Ты думаешь, я, старый Сунь, совсем дурак!
— И кому он только врет? — возмутился Чжан Цзин-жуй. — Ведь твой сын был в банде вместе с Хань Ши-юанем и привез из Харбина целый воз награбленных вещей. Кто в то время мог бы проехать на телеге без оружия, когда по всем дорогам грабили и раздевали?..
— У Хань Ши-юаня действительно было оружие. Вещи тоже ему принадлежали, — настаивал Ду.
— Ты теперь все на мертвого свалить норовишь. И когда это Хань Ши-юань жил у тебя в западном флигеле? Никто этого не видел, а вот, что твой сын постоянно чистил оружие, сидя на кане, — все соседи видели. Я тебя опять спрашиваю: выдашь ты оружие или нет? — и Чжан Цзин-жуй вскинул винтовку.
— Послушай, Добряк, — обратился к помещику Го Цюань-хай. — Башка, видно, у тебя и в самом деле, что ивовый чурбан. Ничем ее не прошибешь. Так вот я тебе говорю: нам твоих слов больше не надо. Твоя сноха уже во всем призналась.
Жирное тело помещика так и затряслось. Лицо его все покрылось испариной, но и тут он не отступился:
— Соседи, да право же у меня ничего нет…
— Уведите его! — коротко приказал Го Цюань-хай милиционерам.
Один из них схватил Ду за шиворот, другой принялся вязать.
— Не надо, никуда он не убежит, — остановил их председатель.
Помещика вывели. Старик Сунь сорвался с места и кинулся следом:
— Осторожнее! Не давай ему подходить близко к вязам, а то еще, чего доброго, стукнется головой о дерево и кончится раньше времени.
— Без тебя знаем! Вечно суешь нос, куда не спрашивают! — рассердился милиционер.
Однако Сунь простоял на крыльце до тех пор, пока помещика не провели мимо вязов.
Светила луна. На свежем снегу остались беспорядочные следы трех пар ног…
XI
После допроса Го Цюань-хай вместе со всеми направился к усадьбе Добряка Ду.
Полная луна озаряла занесенную снегом деревню. Было морозно. Го Цюань-хай опустил уши своей шапки и спрятал руки в рукава. В это время в восточной комнате главного дома помещичьей усадьбы при тусклом свете масляной лампы женщины деревни Юаньмаотунь все еще допрашивали Пышку. Та пугливо озиралась по сторонам. Кругом были чужие ей, враждебные лица. В комнату набралось десятка два крестьянок. Некоторые пришли с детьми. Поджав под себя ноги, они расположились на кане и, дымя длинными трубками, кормили грудью малышей. Слепая старуха Тянь сидела возле стола и внимательно прислушивалась к голосам. За ее спиной стояла вдова Чжао.
Го Цюань-хай распахнул дверь, и клубы морозного воздуха на мгновение заполнили комнату. Навстречу ему поднялась Дасаоцза. Понизив голос, она заговорила:
— Сколько ни спрашиваем, ответ один: «Не знаю».
Го Цюань-хай посмотрел на Пышку.
— Вот что, — обратился он к снохе помещика, — все говорят, что ты знаешь, где оружие. Если не укажешь, а мы найдем, тебе плохо будет.
Пышка украдкой покосилась на Го Цюань-хая, чтобы убедиться, насколько серьезна эта угроза, и дрожащим голосом спросила:
— А если скажу, но вы почему-либо не найдете, что мне тогда будет?
— Ты только скажи правду, а найдем или не найдем, это уже не твоя забота. Винить не станем, — пообещал он и, чтобы положить конец ее нерешительности, добавил: — Утаишь — засадим в кутузку. Пожалеешь, да поздно будет.
— А если свекор меня прибьет?
— Не посмеет! — крикнул старик Чу.
— Мы тебя защитим, — вставила Дасаоцза.
— Наша Дасаоцза сделает, раз говорит, — раздался голос вошедшего в этот момент старика Суня.
— Если я скажу про оружие, вы примете меня в женский союз? — робко спросила Пышка.
— Если даже и не примут в союз, все равно прославишься, — дипломатично ответила Дасаоцза.
— Ладно, скажу…
Пышка сообщила, что сын Добряка Ду отдал две винтовки на сохранение ее брату, который живет в деревне Уцзя. Однажды, гостя у матери, она видела две новые японские винтовки, но куда их спрятали потом, не знает.
Го Цюань-хай велел Суню запрягать, а Лю Гуй-лань и Дасаоцзе собрать женщин, расставить их у всех ворот и никого не выпускать. Чжан Цзин-жую он приказал сторожить конфискованное имущество, свезенное в крестьянский союз, а сам с двумя милиционерами и Пышкой отправился в деревню Уцзя.
Над необозримыми снежными полями ярко горели звезды. По укатанной дороге сани летели, как птица. Немного отъехав, Го Цюань-хай спросил Пышку о маузере.
— Может быть, есть — только я не знаю, — ответила женщина.
— А из-за чего это ты все ссоришься со старшей снохой?
Пышка вспомнила о кольце, расстроилась и принялась честить Тощую Коноплю и ее мужа.
— Успокойся, — прервал ее Го. — Ты лучше скажи, знает ли про маузер Тощая Конопля?
— Конечно, знает! Ведь это ее с мужем дела. Без нее не обошлось.
Въехали в деревню Уцзя. Сунь подкатил к дому матери Пышки. Ворота были заперты. Пышка постучала. Когда ворота открыли, она быстро вошла в дом и, растолкав спящего брата, шепотом с ним переговорила. Молодой парень быстро оделся и вышел к саням.
— Идемте, — кратко бросил он.
Старик Сунь и Пышка остались ждать, а Го Цюань-хай с милиционерами направились к лесу.
Уже всходило солнце, рассыпая по снегу ослепительные золотые блестки. Пройдя около трех ли, они достигли небольшого пригорка. Провожатый остановился у поваленной сосны и разгреб ногами мягкий снег. Из-под снега показалась промасленная тряпка. Милиционеры вытащили сверток и развернули. В нем оказались две винтовки. Затворы, смазанные жиром, были в хорошем состоянии, но на стволах уже появилась ржавчина.
Неподалеку от того места, где были обнаружены винтовки, брат Пышки выкопал и патроны.
Когда возвратились в деревню Юаньмаотунь, наступало уже время завтрака, и над белыми крышами лачуг курился сероватый дымок. Он неподвижно стоял в тихом морозном воздухе.
Го Цюань-хай отослал старика Суня и обоих милиционеров отдыхать, а сам вместе с Пышкой направился к усадьбе Ду.
Придя в усадьбу, Пышка стала уговаривать Тощую Коноплю указать, где спрятан маузер. Та с презрением поглядела на невестку, вынула изо рта свою трубку и молча сплюнула сквозь зубы. Тогда за Тощую Коноплю принялись вошедшие следом Дасаоцза и Лю Гуй-лань. Пышку, присутствие которой было теперь бесполезно, Го Цюань-хай отослал спать.
Через час Тощая Конопля наконец призналась, что маузер спрятан под стогом соломы. Го Цюань-хай велел людям разобрать стог. Вскоре короткоствольный маузер принесли, но ударник и патроны разыскать не удалось.
— Где ударник и патроны, — подступила к Тощей Конопле Дасаоцза.
— Честное слово, не знаю. Спросите у свекра…
Го Цюань-хай в сопровождении нескольких активистов вошел в кутузку, где сидел Добряк Ду. Он показал ему маузер и спросил, где ударник и патроны, предупредив помещика, что запираться уже бессмысленно. Ду наконец сдался:
— Сложены в стеклянную посуду, залиты маслом и в таком виде закопаны в песке за северными воротами.
Его повели к указанному месту. Старик Чу выкопал бутыль и разбил ее. Потекло масло, и на снег упали патроны и ударник. Добряк Ду в изнеможении опустился на сугроб и, стыдясь смотреть людям в лицо, надвинул шапку на глаза.
Весь обратный путь он молчал.
Едва они подошли к деревне, навстречу им верхом на рыжем коне вылетел Чжан Цзин-жуй. Поровнявшись с Го Цюань-хаем, он осадил коня и крикнул:
— Приехали «выметалы»!
— Из какой деревни? — спросил Го Цюань-хай.
— Из деревни Миньсиньтунь.
Го Цюань-хай, бросив всех, пустился бегом к большому двору. Он не раз слышал о «выметалах» — батраках и бедных крестьянах, приезжавших из соседних деревень «выметать остатки феодализма». Но крестьяне деревни Юаньмаотунь в посторонней помощи уже не нуждались. Имущество у помещиков конфисковано, и остается найти только оружие. Какую же помощь могли оказать пришельцы? Если сами юаньмаотуньцы до последнего времени не знали, где спрятано оружие, то что могли знать о нем крестьяне других деревень? Их приезд лишь вызвал бы неразбериху и мог только испортить дело.
Го Цюань-хай рассчитывал задержать приехавших на шоссе и уговорить их вернуться восвояси, но было уже поздно. В ворота крестьянского союза под оглушительную музыку гонгов и барабанов уже въезжало более трех десятков саней. Председатель велел милиционеру немедленно скакать к Сяо Сяну: «пусть, мол, скажет, как быть», а сам поспешил на большой двор. Из саней со смехом и шутками вылезали мужчины и женщины.
Го Цюань-хай поздоровался и гостеприимно пригласил всех в помещение.
— Заходите, заходите, земляки. Здесь холодно. Пожалуйте греться.
Приехавшие ввалились в главный дом, а двор заполнили юаньмаотуньцы. Сбежалась вся деревня.
К Го Цюань-хаю подошел Чэн, председатель крестьянского союза деревни Миньсиньтунь:
— Слыхали, что вы здесь никак не разделаетесь с помещиком Таном Загребалой. В нашей деревне у этого паука тоже есть земля, и нас он также эксплуатировал. Вот и приехали помочь вам «вымести» его. Только мы просим, вы уж не выгораживайте злодея-помещика.
Последние слова настолько задели Го Цюань-хая, что он не сразу нашелся, что ответить.
— Ты ври, да не завирайся! Кто это тебе наплел, что мы собираемся выгораживать Тана Загребалу? — пришел на помощь Го Цюань-хаю старик Чу.
Ошеломленный таким приемом, Чэн безмолвно уставился на Го Цюань-хая. Оба председателя стояли друг против друга, не зная, как им быть. Вдруг из-за спины Чэна выскочил один из приехавших и запальчиво крикнул:
— Как же не выгораживаете, если он до сих пор живет у вас как ни в чем не бывало!
Го Цюань-хай уже успел прийти в себя и рассудительно ответил:
— Ты неправ, земляк. Тана Загребалу мы уже свалили, и больше ему не подняться.
— Если бы выгораживали помещиков, откуда бы у нас были вот эти штуки? — подступился к крикуну Чжан Цзин-жуй и потряс в воздухе новенькой винтовкой.
Старик Сунь, увидев такое множество людей с винтовками и пиками, перетрусил. Возчик хорошо помнил, что означало раньше слово «выметала». Так некогда называли шаманок, которые своими заклинаниями очищали дом от чертей. Во рту у старика сразу стало сухо, перед глазами поплыли радужные круги. Надо скорее уйти, а то и его, чего доброго, «выметут» как нечистую силу. Но, заметив, что «выметал» никто, кроме него, не испугался, возчик успокоился и даже вышел из своего убежища.
Го Цюань-хай увел председателя Чэна в соседнюю комнату. Он усадил гостя на кан и протянул ему свою трубку.
Председатели разговорились.
— Когда я отбывал трудовую повинность в Муданцзяне, я как будто тебя видел, — сказал Го Цюань-хай.
— И мне сдается, что встречались где-то.
— Тебя еще как-то японцы здорово избили.
— Верно! Был такой случай. Да и тебе, помнится, тоже досталось.
— Досталось, — согласился Го Цюань-хай. — Все натерпелись.
— Натерпелись… — подтвердил Чэн. — Чуть не перемерли.
Воспоминания о пережитом сблизили сердца этих людей, языки развязались. Вскоре Го и Чэн беседовали уже как закадычные друзья.
— То, что вы приехали помочь нам в борьбе с помещиками, — сказал Го Цюань-хай, — мы, конечно, очень приветствуем. Боюсь только, как бы у нас неразберихи не получилось. Ведь вы наших дел не знаете…
— Верно, не знаем, — согласился Чэн, — однако зачем же быть неразберихе? Я думаю, не плохо было бы созвать совместное собрание крестьян вашей и нашей деревень да потолковать. Как ты смотришь на это, председатель Го?
— Что ж, это будет очень хорошо, председатель Чэн…
На дворе в это время юаньмаотуньцы и миньсиньтуньцы нашли общий язык и начали выказывать друг другу внимание. Гости водрузили свое знамя рядом со знаменем крестьянского союза деревни Юаньмаотунь и загремели в гонги и барабаны, приветствуя хозяев. Юаньмаотуньцы притащили свои гонги, барабаны и трубы и подняли невообразимый шум, приветствуя, в свою очередь, гостей. Потом они пригласили женщин деревни Миньсиньтунь в западный флигель.
На земляном полу разложили большой костер, грелись, сушили одежду, курили трубки, и комната вскоре потонула в дыму. Лица разрумянились, сердца оживились. Полилась дружеская беседа. Лю Гуй-лань обошла односельчанок, составила хор, и женщины запели новые частушки:
Затем юаньмаотуньки захлопали в ладоши и попросили спеть сестер миньсиньтунек. Те тоже составили хор, но не успели они начать, как появился Го Цюань-хай и пригласил всех на собрание.
Открывая собрание, он обратился к односельчанам:
— Наши братья, бедняки и батраки деревни Миньсиньтунь, приехали помочь нам в нашей борьбе с помещиками.
— Приветствуем братьев миньсиньтуньцев! Благодарим их за посещение! — раздались дружные возгласы.
— А чем же мы их отблагодарим? — спросил Го Цюань-хай.
Наступила пауза. Наконец из дальнего угла подал спой голос старик Сунь:
— А мы тоже возьмем да и поедем к ним выметать империалистов с капиталистами!
Раздался дружный смех.
— Этого совсем не требуется, старина Сунь! — ответил возчику Го Цюань-хай. — Наши братья опередили нас и приехали покончить с Таном Загребалой. Но мы и сами уже с ним расправились. Если у него что и осталось, то говорить об этом уже нет смысла. Но так как уважаемые братья побеспокоились и приехали к нам в такую стужу, не отпустим же мы их домой с пустыми руками! Придется поделиться. Ведь Тан Загребала эксплуатировал и угнетал их так же, как и нас.
— У Тана Загребалы во дворе сложены две сажени дров. Пусть забирают с собой! — предложил старик Чу.
— Вот как! — раздались разочарованные возгласы приехавших. — Выходит: мясо сами съели, а кожу другим кинули…
— Мы думали, что вы нам поможете отнять у Тана Загребалы все, что он выжал из нас… — обратились к Го Цюань-хаю женщины деревни Миньсиньтунь.
Го Цюань-хай поднял руку:
— Не стоит шуметь и препираться. Бедняки миньсиньтуньцы и бедняки юаньмаотуньцы — одна семья. Неужели мы не уладим наши семейные дела по-хорошему? Если будем ссориться, наши враги толстопузые поднимут нас на смех. Ведь страна теперь наша, демократическая власть тоже наша, и мы должны делиться друг с другом. Пусть нам, юаньмаотуньцам, достанется немного меньше. Стоит ли говорить об этом? У наших братьев не хватает корма для лошадей, а во дворе Гана Загребалы стоят два больших стога соломы и припрятано около трехсот кругов жмыха. Хотя все это мы оставили для нужд нашего крестьянского союза, но не поскупимся и отдадим миньсиньтуньцам.
Поднялся председатель Чэн:
— Слушайте меня, люди деревни Миньсиньтунь! Вы же сами видите, что наши соседи относятся к нам, как к родным, и хотят выделить часть своего добра. Согласимся ли мы взять у таких же бедняков, как мы, это добро?
Миньсиньтуньцы подняли невообразимый шум.
— Не возьмем! Не возьмем! — кричали они. — Как можно! Нам не надо! Не станем обижать наших братьев!
В конце концов вопрос уладили, пойдя на взаимные уступки.
После общего собрания активисты обеих деревень устроили совещание. На нем было решено: принять в подарок от деревни Юаньмаотунь один стог соломы и сто кругов жмыха. Го Цюань-хай объявил, что посланный им к Сяо Сяну человек вернулся и привез ответ. Начальник бригады сообщил: конфискованное имущество помещика Тана Загребалы принадлежит крестьянам деревни Юаньмаотунь. Что касается движения «выметал», то это был опыт массовой работы уезда Хулань, который оказался успешным в районе Чанлина, где соответствовал времени и обстановке. В данном случае он неприменим. Но так как люди приехали с самыми добрыми намерениями, нельзя допустить, чтобы возникли какие-нибудь распри между двумя деревнями. Необходимо радушно встретить гостей, устроить им угощение и проводить с почетом.
— Долг гостеприимных хозяев, — сказал Го Цюань-хай, — мы уже выполнили. Обед готов, и хотя особенного у нас ничего, конечно, нет, однако каши хватит на всех. Время уже позднее. Солнце скоро сядет. Прошу дорогих гостей не побрезгать нашим скудным угощением!
После обеда миньсиньтуньцы свалили на сани солому и жмых и с веселыми песнями отправились домой. Юаньмаотуньцы, колотя в гонги и барабаны, проводили их за ворота. Было самое холодное время зимы. Вновь закрутила метель. Снег набивался в рукава и за шиворот, руки и ноги коченели, усы и бороды покрылись инеем и стали седыми.
XII
Вскоре после того, как гостей из деревни Миньсиньтунь с почестями проводили, во дворе и на улице возле дома Тана Загребалы обнаружили еще несколько ям с зерном и одеждой. У других богачей также нашли немало всякого добра.
Помещики понимали, что прежняя жизнь уже не вернется, и старались сгноить зерно, уничтожить вещи или закопать их как можно глубже, только бы другим не досталось. Но несмотря на все эти ухищрения, крестьяне все-таки добились своего.
Дошла наконец очередь и до Ли Чжэнь-цзяна, которого в деревне не без основания называли помещичьим прихвостнем. Последнее время он только о том и думал, как бы ему выкрутиться, и, скрывая свое истинное лицо эксплуататора, прикидывался трудолюбивым крестьянином.
Ли Чжэнь-цзян теперь сам кормил оставшуюся у него скотину и горько жаловался на свою бедность.
Однако игра эта не спасла его. Он был разоблачен деревенской молодежью. Ребята установили, что Ли Чжэнь-цзян по-прежнему поддерживает связь с помещиками, подсматривает за крестьянами, подслушивает их речи и обо всем доносит своему племяннику Ли Гуй-юну.
После изгнания из крестьянского союза шайки Чжан Фу-ина, Ли Чжэнь-цзяну пришлось худо. Шесть из восьми его лошадей были конфискованы и отданы беднякам. Озлобленный, он притаился в своей норе, словно змея, ожидающая случая, чтобы выползти и ужалить. Как только население деревни стали разделять по имущественному признаку, Ли Чжэнь-цзян использовал это и начал действовать.
Вначале крестьянский союз вел в отношении середняков ошибочную политику. Союз чуждался середняков, отказывал им в помощи. Это было на руку Ли Чжэнь-цзяну. Он без устали бегал по деревне, разжигая недовольство середняков и стараясь привлечь их на свою сторону.
Агитация Ли Чжэиь-цзяна и других прихвостней еще больше усилилась с тех пор, как зажиточного середняка Ху Дянь-вэня по ошибке причислили к мелким помещикам, отняв у него при этом двух лошадей. Клеветнические слухи, словно черные вороны, вновь разлетелись по всей деревне. Пошли разговоры о том, что на середняков смотрят теперь, как на свиней, которых откармливают, чтобы заколоть перед новогодними праздниками. Некоторые добавляли даже, что нынешняя политика такова, что сперва заколют жирных свиней, а потом примутся и за тощих, намекая, что никому из середняков несдобровать. Середняки впадали в уныние. Они сами стали приходить в крестьянский союз.
— Довольно нам ждать и мучиться. Раз задумали все делить, так скорее забирайте наши дома, — говорили они.
Люди были готовы верить самым вздорным слухам:
— Теперь, видно, вышел закон, что если у тебя две лошади, одну должен отдать, а если два одеяла — с одним распрощайся.
Дело дошло до того, что старика Чу начали осаждать всякими просьбами, одна глупее другой:
— Старина Чу, у меня вот старенькое одеяло завалялось, так ты уж, сделай милость, запиши его сейчас, чтоб потом никаких нареканий не было…
Так как середняков на собрания в союзе не допускали, они совсем приуныли, а женщины середняцких дворов при встречах говорили одна другой:
— С помещиками рассчитались, теперь, видно, за нас возьмутся.
— Да, скоро и наш черед…
Многие забросили все свои работы и перестали кормить скотину. Некормленые лошади до того обессилели, что уже не могли стоять и вповалку лежали в конюшнях. Измученные неопределенностью хозяева валялись на канах и ничего не хотели делать.
Тот, кто раньше отличался бережливостью и экономил на всем, теперь все пускал на ветер: «Хоть разок поедим как следует».
Кое-кто из середняков, следуя примеру помещиков, зарывал в землю домашние вещи и теплую одежду. Иные свертывали и прятали даже цыновки и коврики. Зимой спать на оголенных канах было невыносимо. Пищавших от холода детей укутывали в какое-нибудь тряпье, а сами покрывались рваными халатами и всю ночь стучали зубами. Многие женщины простужались и болели.
Жена Ли Чжэнь-цзяна, которая еще совсем недавно боялась показаться на улице, теперь с утра до вечера ходила по соседям, то огонька попросить, то еще чего-нибудь. Войдя в дом, она начинала вздыхать. Потом обводила глазами комнату и, остановив взгляд на пустом кане, удивленно спрашивала:
— Как же так? Такой холод, а вы без одеял? Где же ваши вещи?
Го Цюань-хай получил от Сяо Сяна письмо, в котором начальник бригады просил сообщить ему, каково положение середняков в деревне Юаньмаотунь.
Собрав сведения о жизни середняков, Го Цюань-хай отправился в Саньцзя.
Здесь он попал на совещание партийного актива. Сяо Сян в своем докладе осветил общее положение в деревне и указал, что сейчас самым важным вопросом является объединение середняков. Во все деревни необходимо направить активистов, дать им задание укрепить союз бедняков с середняками и помешать враждебным элементам использовать допущенную ошибку в своих целях.
Приближались новогодние праздники. Деревни все еще бурлили, как кипяток в чане. Добровольные группы неусыпно трудились над составлением ведомостей конфискованного имущества. На складах до глубокой ночи горели лампы и клубился табачный дым. Активисты нередко расходились по домам на рассвете.
Жена середняка Лю Дэ-шаня, ушедшего на фронт носильщиком вместе с Ли Всегда Богатым, была очень скромной женщиной, бережливой и работящей. Вначале она активно участвовала в одной из женских групп, но затем всевозможные слухи совсем сбили ее с толку. Она невольно растерялась и отошла в сторону. Особенно после того, как у середняка Ху Дянь-вэня ни с того ни с сего отобрали имущество. Все, что произошло с этим человеком, так испугало женщину, что она перестала заходить в крестьянский союз.
С этого времени к ней и зачастила жена Ли Чжэнь-цзяна. Сегодня ее принесла нелегкая раньше обычного. Не дожидаясь приглашения, гостья бесцеремонно уселась на кан, поджав под себя ногу, достала из-за пояса свою неизменную трубку с длинным чубуком, закурила и, выпустив в лицо хозяйки струю табачного дыма, шумно вздохнула:
— Ну и дела! Кто знает, что с нами случится завтра?
Хотя у жены Лю Дэ-шаня от страха сжалось сердце, она не подала виду и спокойно ответила:
— Нам бояться нечего. Мой хозяин служит в армии, да и мы тоже участвуем в борьбе с помещиками…
Гостья снова обдала ее дымом и насмешливо передразнила:
— Участвуем, участвуем! А что стоит это ваше участие? Все равно вам скоро конец. Ты только погляди, кто хозяйничает в крестьянском союзе. Есть ли там хоть один середняк?
Жена Лю Дэ-шаня, подавив вздох, согласилась:
— И правда… середняков там нет…
Гостья склонилась к ней и зашептала:
— А ты не слыхала, что они там собираются делать?
— Нет, не слыхала, — уклончиво ответила хозяйка. — Откуда же мне знать?
— Все у них шито-крыто. И такие, как мы с тобой, у которых есть какое-нибудь, хоть и самое маленькое, имущество, ничего не знают…
— Раньше хоть звали на собрания, а теперь и близко не подпускают, — вздохнула жена Лю Дэ-шаня.
— На собрания так не зовут, а наряды на перевозку никогда не забывают подсунуть…
Видя, что слова возымели действие, гостья зашептала еще быстрее:
— Наряды на перевозки это бы еще ничего. Другое страшно… У нас здесь, правда, дело до этого не дошло, но вот в соседней деревне всех середняков в кутузку засадили.
В первый момент жена Лю Дэ-шаня, было, поверила, но затем ей стало ясно, что все это одна болтовня. Ведь мать ее всю жизнь прожила в соседней деревне и тоже была середнячкой. Брат еще вчера приходил сюда и ни слова не говорил о таких делах.
— Кого же это там посадили? — поинтересовалась жена Лю Дэ-шаня.
— Какого-то человека по фамилии Ши…
— По фамилии Ши? В этой деревне никогда и не было людей с такой фамилией.
— Разве? — смутилась гостья. — Ну, значит, я перепутала. Так или иначе, а политику властей мы с тобой не знаем.
С этим жена Лю Дэ-шаня не могла не согласиться и утвердительно кивнула головой.
Сказав несколько незначительных слов, гостья поднялась и, раскачивая свое полное тело на крошечных ножках, направилась к двери.
Жена Лю Дэ-шаня проводила ее до ворот и вернулась в комнату печальная и подавленная. Она снова вспомнила о Ху Дянь-вэне. Ведь у него было только одной лошадью больше, чем у нее, и все-таки с ним так круто обошлись. Как знать, может быть, в словах жены Ли Чжэнь-цзяна и заключена доля истины.
Всю ночь она не могла уснуть, а на утро вывела из конюшни кобылицу и жеребенка и повела их в крестьянский союз. «Уж лучше самой отдать, чем дожидаться позора…»
Старик Чу, которого она встретила во дворе крестьянского союза, бросил на нее недружелюбный взгляд и уклончиво ответил:
— Пока держи у себя…
У нее подкосились колени. Она вспомнила, что, когда помещики приходили в крестьянский союз, предлагая свою землю, им отвечали теми же словами, и это значило: «Придет время, сами с тобой разделаемся».
В полном смятении она вернулась домой. В ушах, как неотвязное жужжание осенней мухи, звенели слова жены Ли Чжэнь-цзяна: «Кто знает, что с нами случится завтра».
Весь день она не могла заставить себя взяться за работу. Томила неопределенность настоящего, а будущее казалось просто страшным. Что делать? У кого узнать? С кем посоветоваться? Наконец, в изнеможении, она легла на кан и с головой укрылась одеялом… Три Звезды уже высоко поднялись над горизонтом, а она все еще ворочалась с боку на бок.
Кто-то постучал в дверь. Она вскочила и прислушалась. Женский голос позвал ее по имени.
«Кто бы это мог быть? У кого оказалось к ней дело в такое позднее время?»
Стук повторился. Женщина быстро накинула на себя куртку и подошла к двери.
— Кто там? — спросила она.
— Тетушка Лю, почему же ты не открываешь? Это я! — Голос был очень знакомый.
— Сестра Чжао, ты?
У хозяйки сразу отлегло от сердца. Вдова Чжао Юй-линя была доброй, отзывчивой женщиной. Они нередко вели друг с другом долгие задушевные беседы.
Жена Лю Дэ-шаня провела гостью в комнату, заботливо отряхнула с нее снег, обмела веником туфли.
— Ну как твой хозяин? — спросила вдова Чжао, усаживаясь на кан. — Пишет что-нибудь?
— Нет, ничего не пишет.
— А давно он ушел на фронт?
Жена Лю Дэ-шаня достала трубку и, набивая ее табаком, улыбнулась:
— Наверно, скоро вернется. Носильщиков, говорят, берут только на четыре месяца, а его уже три месяца как нету.
Вдова Чжао взглянула на протянутую ей трубку и с улыбкой отстранила:
— Кури, кури сама… У твоего хозяина теперь будет большая заслуга.
Жена Лю Дэ-шаня, закуривая, подумала: «Лишь бы не обвиняли в чем-нибудь, и то будет хорошо. Что там еще мечтать о заслугах», — и вслух добавила:
— Мы все должны бить гоминдановских бандитов. Ради общей победы стараться надо, а не ради заслуг…
Вдова Чжао взяла с кана выкройки и начатую работу и принялась их с интересом рассматривать.
— Почему ты последнее время ни разу не была на собрании в крестьянском союзе? — вдруг спросила она. — Теперь все участвуют в политической борьбе.
— Все участвуют, да не всех пускают… — вздохнула жена Лю Дэ-шаня. — Сейчас власть принадлежит вам одним… беднякам и батракам, а у нас, середняков, положение очень плохое…
— У середняков плохое положение? Кто это тебе сказал? — удивилась гостья.
Хозяйка хотела было сознаться, что слышала это от жены Ли Чжэнь-цзяна, но сообразила, что может подвести ее.
— Никто мне не говорил, сестра Чжао. Да зачем и говорить, когда я сама все вижу. Власть сейчас бедняцкая и батрацкая. Вот и выходит, что вы одни в деревне хозяева…
— Что значит «хозяева»? — со смехом прервала ее вдова Чжао. — У тебя, видно, голова полна глупостей…
— А то и значит, что мы, середняки, ничего теперь не стоим. Рта открыть не смеем… — Она выколотила трубку, снова набила ее табаком, закурила и, не подымая головы, продолжала: — Положение в деревне теперь такое, что только вы, бедняки и батраки, можете всем заправлять, а мы ни на что не годимся…
— Погоди, погоди. Чего ты все «вы» да «мы»? Бедняки, батраки и середняки — одна семья: все одинаково трудятся. Я вот что тебе скажу: недавно председателю Мао люди послали телеграмму. Начальник Сяо получил письмо, в котором пишет, что председатель Мао ответил на эту телеграмму. В ней так говорится: сейчас очень важно объединить всех середняков и привлечь их к совместной работе с бедняками, обижать их или какие нападки на них делать совершенно недопустимо.
Жена Лю Дэ-шаня подняла на гостью засверкавшие радостью глаза:
— Так-таки и говорится?
— Зачем же мне тебя обманывать?
— Неужели правда, что председатель Мао вспомнил о нас, середняках?
— Телеграмма председателя Мао даже в харбинской газете напечатана.
У жены Лю Дэ-шаня совсем отлегло от сердца:
— Я так и знала, что председатель Мао не мог нас забыть. Ведь мы тоже день и ночь работали, и нас на каждом шагу угнетали и обманывали богачи. Во времена Маньчжоу-го помещики старались наложить на середняков как можно больше всевозможных поборов. Муж мой всегда был недоволен помещиками. Только уж такой он смирный и пугливый человек, что первый никуда не полезет.
Чем больше они беседовали, тем лучше понимали друг друга. Жена Лю Дэ-шаня принесла сушеных семечек и, вскипятив воду, заварила вместо чая поджаренную чумизу.
— Совсем ведь забыла, — спохватилась вдова Чжао. — Начальник Сяо наказал всем объявить: если есть у середняков какие обиды, пусть, не стесняясь, их выкладывают. Главное, ничего не нужно скрывать, — выскажи и все тут.
— Да какие же у нас обиды… — возразила обрадованная хозяйка, но, подумав, добавила: — Вот разве что нарядов на перевозку уж очень много дают. Теперь все получили лошадей, и надо бы как-нибудь уравнять нас в этом с бедняками.
Вдова Чжао согласилась, что уравнять, действительно, не мешает, и дала слово поговорить об этом с председателем Го.
Жена Лю Дэ-шаня спрыгнула с кана.
— Ты посиди, а я сейчас вернусь, — попросила она и вышла.
Она обошла двор, огляделась. Никого. Вернулась, плотно закрыла за собой дверь, подсела к вдове Чжао и вполголоса передала все, о чем говорила вчера жена Ли Чжэнь-цзяна.
Внимательно выслушав, гостья посоветовала немедленно же сообщить об этом в крестьянский союз. На прощанье вдова Чжао сказала:
— Завтра вечером председатель Го созывает объединенное собрание бедняков, батраков и середняков. На собрании должны объявить, что крестьянский союз бедняков и батраков будет распущен и создан такой союз, в котором и середняки смогут участвовать. Ты непременно приходи. Будут также решать вопрос о том, кому и сколько дать продовольствия из конфискованного у помещиков. Председатель Го сказал, что скоро начнутся новогодние праздники и надо распределить добро так, чтобы люди настряпали пельменей и как следует повеселились.
Вдова Чжао распрощалась. Жена Лю Дэ-шаня хотела дать ей фонарь.
— Не надо, не надо, — запротестовала вдова, — от снега и так светло, зачем же еще фонарь?
Хозяйка проводила гостью за ворота и долго смотрела ей вслед. Когда вдова Чжао скрылась за снежной пеленой, жена Лю Дэ-шаня, счастливая и умиротворенная, вернулась обратно, легла и тотчас же заснула.
XIII
Общее собрание избрало в правление крестьянского союза двух середняков. Го Цюань-хай по-прежнему остался председателем. Крестьянский союз постановил прекратить розыски спрятанных помещиками ценностей, заняться распределением конфискованного имущества и начать подготовку к празднованию Нового года.
Мясо и зерно были розданы крестьянам. Бедняки и батраки получили по десяти фунтов свинины и по пяти шэнов пшеницы на каждого, а середнякам досталось по три фунта мяса и по одному шэну пшеницы. Середняки не протестовали против такого распределения, так как имели кое-какие запасы. Кроме того, у середняков оказались еще и семена для посева, чего у бедняков не было.
Когда Дасаоцза и Лю Гуй-лань вышли после собрания из дома крестьянского союза, на дворе опять крутила метель.
— Какая холодная зима в этом году, — проворчала, поеживаясь, Дасаоцза. — Дня не проходит, чтобы не было вьюги…
— Зима зимой, вьюга вьюгой, — весело ответила Лю Гуй-лань, — а дела оставлять нельзя. Надо подумать, что подарить к праздникам семьям военнослужащих. Не получилось бы у нас, как в августе, когда каждой семье без разбора выдали по десяти фунтов мяса да по десяти фунтов белой муки, в то время как некоторые просили мануфактуры. Сейчас у нас всего много, хоть отбавляй. Давай, Дасаоцза, выясним, кто в чем нуждается. Вот, например, Со-чжу, сынишка вдовы Чжао. У него до сих пор нет зимней одежонки, и не в чем малышу на улицу выйти.
— Дельное предложение, — заметила Дасаоцза. — Завтра же поговорим об этом в крестьянском союзе. Постой… — вдруг вспомнила она, — ведь завтра малый Новый год[26]. Сходи-ка сейчас к вдове Чжао, развлеки чем-нибудь бедняжку, чтобы она не чувствовала себя такой одинокой. Только ты не очень долго, пора за стряпню приниматься.
Они расстались.
Когда Лю Гуй-лань появилась на пороге дома вдовы Чжао, та быстро вытерла рукавом покрасневшие от слез глаза и попыталась улыбнуться гостье. Со-чжу даже подпрыгнул от радости, схватил девушку за полу и потянул за собой к кану.
Лю Гуй-лань села и сразу же пустилась рассказывать деревенские новости. Она сообщила множество интересных вещей: у того-то волки утащили поросенка, у одной соседки курица не кудахчет, когда несет яйца, что, несомненно, является дурным предзнаменованием, и многое другое. Потом она очень потешно представила старика Суня, изображающего драку медведя с тигром. Со-чжу заливался веселым хохотом, и, смотря на него, мать тоже искренне смеялась. Комната наполнилась неподдельным весельем.
Наконец Со-чжу притащил разноцветную бумагу, разложил ее на столе и пристал к Лю Гуй-лань с просьбой, чтобы девушка нарезала цветов, животных, драконов, которые бы он сам наклеил на окна. Девушка ласково улыбнулась и взяла ножницы. Из голубой бумаги она вырезала утку, а из зеленой — несколько смешных поросят. Затем, разгладив лист красной бумаги, Лю Гуй-лань в мгновенье ока искусно вырезала лесной пион, почитаемый в Китае царем всех цветов.
Со-чжу упросил мать развести клей и долго примерял, как расположить вырезанные предметы на окне.
Вскоре появился и У Цзя-фу. Он стряхнул снег и стал помогать Со-чжу. Лю Гуй-лань заторопилась домой, но Со-чжу загородил ей дорогу:
— Посиди еще немножечко… очень прошу тебя! Вырежи мне пастушка, не то поросят волки потаскают…
Лю Гуй-лань со смехом указала на У Цзя-фу:
— Вот тебе настоящий пастушок, зачем же еще вырезать?
Но Со-чжу, крепко держа ее за рукав, обиженно всхлипывал:
— Да… он большой, такого не наклеишь. Мне надо маленького и бумажного.
Лю Гуй-лань залилась звонким смехом и выбежала на улицу. Обойдя вокруг лачуги, она крикнула в окно:
— Со-чжу! Не плачь, маленький. Я еще приду и вырежу…
XIV
Дасаоцза вошла в темную кухню. Все было тихо, но едва она чиркнула спичку, кто-то спрыгнул с кана и бросился к ней. Женщина вскрикнула, выбежала во двор и, услыша за собой шаги, кинулась к воротам. В этот момент кто-то нагнал ее и крепко сжал в объятиях:
— Су-ин! Это же я! Я!..
Дасаоцза быстро оглянулась.
— Вот напугал как… — прошептала она. — Думала, негодяй какой…
Улыбаясь, она положила большую руку Бай Юй-шаня себе на грудь: «слушай, как бьется», и припала к мужу.
Кто знает, сколько времени они простояли так? Их видел лишь крутящийся снег. Часов не было, а если бы и были, они все равно не взглянули бы на них. До часов ли в такой момент?
— Давно приехал? — спросила наконец Дасаоцза.
— Ну и долго ж я тебя ждал! — не отвечая на вопрос, воскликнул Бай Юй-шань. — В гости, что ли ходила?
— Угадал, — усмехнулась Дасаоцза. — У меня так много времени, что его девать некуда. Вот по гостям и бегаю.
Она вырвалась из объятий, вбежала в дом и зажгла лампу.
Хотя Бай Юй-шань и обещал в письме приехать к Новому году, но появление его все же было для Дасаоцзы неожиданным. Несмотря на обычную замкнутость и суровый характер, истосковавшаяся в разлуке Дасаоцза излила на Бай Юй-шаня бурный поток нежности. Впрочем, это продолжалось не слишком долго. Удостоверившись, что муж здоров и у него цветущий вид, следовательно, может выдержать любую атаку, Дасаоцза, сдвинув черные брови, принялась его распекать:
— Что ты за человек! Вышел за дверь и забыл. Одно письмо прислал за целый год и успокоился.
— Я должен был работать, а не письма писать. Ты все такой же осталась!
Слова эти укололи Дасаоцзу в самое сердце. Она вспыхнула и уже готова была схватиться с мужем, но, вспомнив, сколько выстрадала в разлуке с ним, сдержалась и принялась растапливать печь. Однако обида не утихала.
Дасаоцза посмотрела на стол. Полученная к новогодним праздникам свинина была даже не разрублена, и предстояло еще много возни, чтобы приготовить из нее начинку для пельменей. Загруженная общественной работой, Дасаоцза забросила домашние дела, совсем забыла о себе, о своем хозяйстве, а он еще посмел сказать, что она не изменилась. Это ли не оскорбление?
Мало того, что она руководила женской группой, ей приходилось еще вести работу и в крестьянском союзе.
«Хорошо же, — решила Дасаоцза. — Вот назло ничего не стану рассказывать. Можешь думать обо мне все, что тебе угодно. Посмотрим, что ты тогда скажешь».
Бай Юй-шань, как ни в чем не бывало, подлил в лампу масла, вытащил блокнот и ручку. Он уже выучился писать и теперь каждый день практиковался, чтобы не забыть иероглифы.
Дасаоцза внесла в комнату таз с горячими углями и глянула на мужа. Увидев, что он старательно что-то пишет и вид у него такой серьезный, словно у настоящего ученого, Дасаоцза сразу подобрела. Она присела на кан и улыбнулась:
— Чего бы ты хотел поесть?
— Ничего не хочу. А вот скажи-ка мне: ты принимаешь какое-нибудь участие в женской группе?
«Даже головы не поднял, даже не взглянул!» — подумала Дасаоцза и, прищурившись, насмешливо посмотрела на мужа:
— Вот еще! Зачем это мне участвовать?
Бай Юй-шань отшвырнул ручку и бросил на жену неприязненный взгляд:
— Как это «зачем участвовать»? Ты, должно быть, даже этого не понимаешь?
Дасаоцза ответила ему таким же взглядом:
— Откуда мне понимать? Мужа целый год дома не было, кому меня учить?
— Сходила бы к людям да попросила, чтоб тебе растолковали.
— Это чтоб ты потом опять сказал, что я все по гостям шляюсь?
Бай Юй-шань с досадой вздохнул:
— Одно расстройство с тобой! Прямо досада берет! Глянешь на тебя и невольно вспомнишь, какие женщины в городе Шуанчэнцзы. Они и в общественных организациях участвуют, и всякую работу делать могут, и обо всем поговорить умеют. Окажись ты в Шуанчэнцзы, я бы не знал, куда мне лицо от стыда девать. Ты такой отсталый элемент, что я просто ума не приложу, как мне с тобой дальше жить и что делать?
— А зачем тебе со мной, таким отсталым элементом, жить? Ты поезжай обратно в Шуанчэнцзы и живи там с той, которая и работать, и говорить, и еще чего-нибудь там… умеет. А с простой деревенской бабы какой спрос? Она — отсталый элемент, ничему не обучена.
Бай Юй-шань, опасаясь, как бы эта некстати проснувшаяся ревность не привела к ссоре, примирительно улыбнулся и терпеливо начал втолковывать жене:
— Подумай, если ни ты, ни другие женщины не станут участвовать в женском союзе, то как же можно будет тогда свалить феодализм? Нам всем необходимо сплотиться и действовать сообща. Один человек разве чего-нибудь достигнет? Ты прежде подумай как следует о самой себе. Если же не подумаешь, прогресса у тебя никогда не получится.
Слово «прогресс» Дасаоцза, конечно, не поняла. Но она знала, что оно взято из ученого языка образованных людей, и это еще выше подняло авторитет Бай Юй-шаня в ее глазах. Неужели он теперь стал таким ученым и умным, что знает столько же, сколько начальник Сяо, который был для нее самым мудрым человеком. Вот она сейчас проверит, действительно ли муж знает не меньше начальника Сяо.
— Сплотиться? — Дасаоцза прикинулась совсем непонимающей. — Это еще для чего понадобилось? Ведь все одно бедняки вечно останутся бедняками, а богачи никогда горя не увидят. Правильно говорится, что «богатство и бедность зависят только от неба». Ты сам погляди: богачи целый год палец о палец не ударят, а едят вкусно и пьют, сколько хотят. Бедняки же работают день и ночь, и все равно им ни еды, ни одежи не хватает. Вот и определи теперь: разве это не судьба?
— Ты вроде гадателя, — рассмеялся Бай Юй-шань, — все на судьбу валишь. А ты понимаешь или не понимаешь, что такое эксплуатация?
— Не понимаю… — ответила она и едва сдержалась, чтобы не рассмеяться.
Бай Юй-шань, не подозревая подвоха, с серьезным видом стал разъяснять то, чему его выучили в партийной школе:
— Эксплуатация… Это вот если помещик-негодяй эксплуатирует твой честный труд, вроде как шкуру с тебя сдирает…
«Как шкуру сдирает?» — на этот раз уже искренне удивилась Дасаоцза. Она хорошо понимала, что значит сдирать шкуру. Во времена Маньчжоу-го японцы обязывали население Маньчжурии сдавать в казну кошачьи шкурки, и однажды ей самой пришлось ободрать свою кошку. Но как это драть кожу с людей, в ее голове не укладывалось.
— Вот, скажем, — продолжал Бай Юй-шань, — ты собрала один дань кукурузы. А помещик, хотя он и не работает, все равно возьмет с тебя три или четыре доу. Собранное тобою зерно — результат твоего труда. Это значит — ты день и ночь работаешь, а помещик получает с тебя чистую прибыль…
— Но ведь это же его земля, — с притворно серьезным видом возразила Дасаоцза.
— А разве ты не знаешь, кто настоящий хозяин земли?
— А откуда же мне знать? Ведь я в партийной школе не обучалась.
— Не знаешь, так слушай. Целину поднимают бедняки и батраки. Они превращают ее в возделанную землю, а помещики ее захватывают. То, что мы сейчас делим землю между крестьянами, это значит, что земля возвращается к настоящему хозяину. Однако земля — это еще не все. Ее необходимо засеять, прополоть всходы, снять урожай, короче — нужен труд. Не приложишь труда — и с десяти тысяч шанов земли ни одного зернышка не получишь.
Дасаоцза утвердительно кивнула. Это было ей понятно. Она сама сеяла, полола, убирала урожай.
— Дома́, еда, одежда, — продолжал с увлечением Бай Юй-шань, — созданы трудом человека. Судьба и боги тут ни при чем. Они просто выдумка помещиков для обмана бедняков.
Дасаоцза была преисполнена гордости. Как толково и складно научился говорить ее муж и как интересно он все это рассказывает. Теперь она уже и сама почувствовала, что многого еще не понимает, и, в свою очередь, начала задавать вопросы:
— Постой, постой… ты говоришь, судьбы нет? Выходит, что и бога тоже нет? По-моему, это совсем не так. Ведь если б никто не управлял на небе громом и молниями, откуда бы все это бралось?
Бай Юй-шань снисходительно рассмеялся. У них в школе как раз был такой урок, и, живо припомнив все, что рассказывал учитель, он начал поучать жену:
— Тучи и дождь — просто испарения от земли, поднимающиеся вверх. Гром и молния — электричество. Получается вроде как на электростанции, а электростанции не богом придуманы, а созданы человеческим трудом…
В этот момент в комнату с шумом вбежала Лю Гуй-лань. Бай Юй-шань сразу ее узнал. Только раньше она была с косами, а сейчас черные подстриженные волосы густыми прядями падали на плечи. Радостно улыбающаяся Лю Гуй-лань с поклоном приветствовала Бай Юй-шаня:
— Я еще издали услышала, что вы тут разговариваете. Когда вернулся?
— Залезай скорей на кан. Ты вся обледенела, — дружески пригласил ее Бай Юй-шань.
Но Лю Гуй-лань не сиделось. Она была слишком возбуждена, и надо было поскорее рассказать обо всем:
— А Дасаоцза как тут скучала по тебе, как ждала! Только вчера вечером вспоминала. «Обещал, — говорит, — вернуться, а самого все нет да нет. Даже письма не напишет». — Она сочувственно улыбнулась Дасаоцзе: — Вот, видишь, и дождалась наконец. Ах, как хорошо! — И, обернувшись к Бай Юй-шаню, снова затараторила: — Брат, ты, наверное, еще ничего не знаешь? Наша Дасаоцза так тут отличилась. Она у нас теперь руководит женской группой, смело выступает против помещиков. Когда разыскивали золото и оружие, была впереди всех и другим пример подавала. Даже старик Сунь говорит, что хоть ему шестьдесят один год и он везде побывал и все знает, а вот такой способной женщины еще не видывал. Вдова Чжао называет Дасаоцзу «нашей славной героиней», а председатель Го хвалит ее за то, что она работает, как мужчина.
— Будет тебе. Ты совсем заболталась, — со смехом ущипнула девушку Дасаоцза, пытаясь остановить поток этих похвал.
— Подожди, подожди, — увернулась Лю Гуй-лань. — Ведь я еще не спросила тебя: чем же мы будем угощать дорогого брата? Встречают ведь всегда лапшой. Ты приготовила лапшу?
— Какую там лапшу? — расхохотался Бай Юй-шань. — Одни упреки приготовила.
— Бранит она тебя только для порядка, а вот любит по-настоящему.
Дасаоцза залилась краской стыда и со смехом бросилась на девушку:
— Убить тебя мало!
Лю Гуй-лань снова увернулась, выбежала вон и уже со двора прокричала:
— Дасаоцза, будь счастлива! Я пошла! Я пошла!
— Куда ты, глупая? Вернись! — крикнула ей Дасаоцза.
— Нет, как можно… — отозвалась Лю Гуй-лань. — Пойду к вдове Чжао.
Бай Юй-шань выскочил и, догнав девушку, сунул ей теплое одеяло.
Утром, встав первой, Дасаоцза пошла в крестьянский союз.
Го Цюань-хай встретил ее с улыбкой и весело сказал:
— Ступай домой! Какая из тебя сегодня работница! Ведь сердце твое все равно будет дома.
— Чего ты городишь! — с притворной грубостью ответила Дасаоцза, но все-таки послушалась. — Ладно, сегодня посижу дома, а то все свои дела забросила…
Когда она вышла, Го Цюань-хай крикнул в окно:
— Эй, Дасаоцза! Отпусти мужа посидеть с нами. Пусть новости расскажет, а то он тебя караулит и всех своих друзей позабыл.
Когда Дасаоцза вернулась домой, муж продолжал сладко спать. Она принесла хворосту, растопила печь и принялась варить свинину. Поверх черного ватного халата она накинула голубой летний халат и в таком наряде выглядела еще краше.
Нужно заметить, что с того времени, как Дасаоцза стала принимать участие в работе женского союза, характер ее изменился к лучшему и ее черные брови уже не так часто хмурились, как прежде. Теперь же она чувствовала себя совсем умиротворенной и, с любовью прислушиваясь к сонному дыханию мужа, вполголоса напевала старинную песенку о бумажном змее.
Бай Юй-шань встал поздно. Умывшись, он оделся и отправился в крестьянский союз.
Го Цюань-хай очень обрадовался старому другу. Они уселись на кан и проговорили до завтрака.
Когда Бай Юй-шань вернулся домой, к нему началось настоящее паломничество деревенских активистов. Дверь ни на минуту не закрывалась.
После ухода гостей Бай Юй-шань раскрыл потрепанную полевую сумку, достал из нее портрет Мао Цзе-дуна и новогодние плакаты, купленные в поезде. На одном из плакатов был изображен эпизод наступления Объединенной демократической армии, на другом — раздел конфискованного у помещиков имущества.
Расклеив плакаты над каном, Бай Юй-шань прошел в кухню. Там он сорвал висевшее возле печи лубочное изображение бога домашнего очага с выцветшей надписью «хозяин дома» и бросил его в огонь. Затем вернулся в комнату, снял со стены таблицы своих предков и на их место повесил портрет Мао Цзе-дуна.
— Мы совершили наш переворот, — сказал Бай Юй-шань жене, — благодаря председателю Мао. Председатель Мао — вот кто наш отец. Не будь его, ты бы еще сто лет поклонялась всяким богам и таблицам предков. Мы теперь должны выкорчевывать старую феодальную идеологию и создавать новую, нашу.
Все, что сказал Бай Юй-шань, очень понравилось Дасаоцзе. Беседуя с женщинами, она теперь горячо советовала им покупать новогодние плакаты, портреты председателя Мао и выбрасывать изображения всех богов.
— Нам надо обязательно выкорчевывать феодальную идеологию и создавать новую, нашу! — повторяла она, обычно заканчивая этими словами свои беседы.
По настоянию Дасаоцзы женский союз организовал кружок по ликвидации неграмотности и пригласил в качестве учителя оспопрививателя Хуа.
XV
Лю Гуй-лань поселилась у вдовы Чжао. Днем она уходила в крестьянский союз, а вечерами занималась шитьем или вырезала для Со-чжу различные фигурки из бумаги. Жизнь у них текла так весело, что они и не заметили, как подошел Новый год.
Вечером, накануне праздника, когда Лю Гуй-лань только что вернулась после занятий и помогала вдове Чжао готовить начинку для новогодних пельменей, неожиданно явилась старуха Ду, мать ее жениха. Она уселась возле двери и, закурив трубку, сказала:
— Пойдем домой, Гуй-лань. Как можно в Новый год не быть в своей семье!
Говоря это, старуха украдкой поглядывала на вдову Чжао, стараясь определить, как та относится к ее словам.
— Не пойду, — коротко ответила девушка.
Старуха глубоко затянулась:
— Как же так, дочка? Если не вернешься домой на Новый год, ведь все родные и соседи насмехаться над тобой станут. Ты, конечно, участвуешь в революции, это все знают. Но разве, участвуя в революции, люди забывают о своем доме? Слыхано ли такое дело? Новый год все встречают только дома. После пятого января ты можешь снова отправляться на свою работу, а эти пять дней должна обязательно провести с нами. Ведь ты всегда была хорошей и послушной девушкой, и вся наша семья тебя очень любит. Зачем же упрямиться? Сестра Чжао — ты женщина рассудительная, помоги же мне уговорить эту девушку.
И лицо старухи Ду расплылось в заискивающей улыбке. Лю Гуй-лань даже передернуло от отвращения. «Сладок стал твой язык, да уж поздно», подумала она, вспомнив дождливую осеннюю ночь и свои горькие слезы, пролитые в холодном амбаре. Нет, этого никогда не простить, этого не забыть до могилы!
— Умру, а домой не пойду. Вот тебе мой ответ! — решительно заявила девушка.
— Вот что, — раздраженно заговорила старуха, — пойдешь ты домой или не пойдешь, это от твоего желания не зависит! Ты член нашей семьи. У нас есть свидетели. Мы купили тебя. Я — твоя свекровь, и ты не смеешь ослушаться моего повеления. Если не так, то где же тогда закон?!
Лю Гуй-лань швырнула на стол кусок теста, которое готовила для пельменей, и резко повернулась к старухе:
— Откуда ты взяла такой закон?
— Тетушка Ду, — вмешалась наконец в разговор вдова Чжао, — о чем это ты говоришь, о каком таком законе? Если ты вспоминаешь помещичьи законы, так лучше забудь о них. Лю Гуй-лань им не подчиняется.
Игравший на кане Со-чжу, решив, очевидно, что ему тоже следует дать отпор старухе Ду, которая ссорится с его матерью, спрыгнул на пол и угрожающе подступил к ней.
Мать схватила его за руку и водворила обратно на кан.
— Но ведь Гуй-лань все-таки член нашей семьи, — пыталась доказать старуха. — Нужно же ей побывать дома хотя бы на Новый год.
— Вы сами заставили ее покинуть ваш дом. А теперь зовете вернуться. Это просто издевательство! — возмутилась вдова Чжао.
— Какой мне с вами Новый год! — воскликнула Лю Гуй-лань. — Что у меня с вами общего? Я участвую в революции и членом вашей семьи себя не считаю.
— Ты не пугай меня тем, что ты участвуешь, — усмехнулась старуха. — Мы отдали свою землю и теперь тоже участвуем.
— Как, и ты тоже участвуешь? — вскинула голову Лю Гуй-лань. — Вы и во времена Маньчжоу-го имели власть и после освобождения заодно с помещиками были. Ведь все твои разговоры и дела я наперечет знаю. Наш крестьянский союз еще до вас не добрался, а ты уже, оказывается, тоже участвуешь!
— А что я такое говорила? Что ты про меня знаешь? Ну, скажи! — набросилась на нее старуха, желая припугнуть девушку, которая раньше была настолько робкой, что никому не осмеливалась перечить.
В деревне Юаньмаотунь сводили счеты пока лишь с крупными помещиками, и поэтому Лю Гуй-лань никому ничего не рассказывала о семье Сяо Ду. Сейчас она пожалела, что до сих пор не вывела на чистую воду эту лукавую старуху. В сердце девушки закипел гнев, лицо ее покрылось красными пятнами.
— И скажу! Все скажу! — крикнула Лю Гуй-лань. — Больше молчать не стану. Ты еще осенью говорила: пусть, мол, похорохорятся пока, а придут гоминдановские войска и срубят всем головы. Это нашим-то активистам!
Старуха изменилась в лице. Губы ее затряслись, трубка выпала из рук.
— Чего ты плетешь, бессовестная, — пробормотала она.
Шум ссоры дошел до соседей. Первыми прибежали возчик Сунь и старина Чу, за ними ввалилась целая толпа.
Увидев людей, Лю Гуй-лань еще больше осмелела:
— Высказанное слово, что спущенная стрела. Если ты забыла, так я помню.
Старуха Ду, прижав руки к груди, растерянно оглянулась по сторонам, ища сочувствия:
— Соседи, дорогие! Кто же не знает, что семья Сяо Ду заодно с Восьмой армией?
— Вы только на языке заодно с Восьмой армией, а сердцем бандитов ждете! — ответила Лю Гуй-лань. — Я как сейчас помню, что ты сказала тогда про наших активистов.
— Так вот, значит, какие ты речи ведешь, старая ведьма! — закричал возчик. — Я тебе покажу, как в деревне контрреволюцию разводить!
— Вяжи ее! — вмешался старик Чу, подскакивая к старухе.
— Я раньше глупая была, — с жаром продолжала Лю Гуй-лань, — думала, раз я живу в их семье, то как бы худо они ни относились ко мне, не стоит про них рассказывать другим людям. А теперь все расскажу… Вот, глядите…
Лю Гуй-лань быстро расстегнула пуговицы халата и обнажила плечо, на котором ясно обозначился багровый рубец.
— Это она хватила меня по плечу мотыгой. Все говорила, что я ленивая. Семь дней из-за этого я на кане пролежала, семь дней на ноги встать не могла. — Лю Гуй-лань запахнула халат. — Теперь она меня на новогодние праздники зовет, а вот тогда, когда я лежала и плакала от боли, она даже доктора не позвала, только ругалась: «Чего притворяешься. Время горячее, работы много, а ты, лентяйка, даром чумизу ешь. Подумаешь — больно! Хоть бы ты скорей подохла!» Вот как меня в этой семье любили да жаловали…
Слова эти подняли бурю негодования. Старики Сунь и Чу уже подступили к перепуганной старухе, чтобы связать ее, но подошел Го Цюань-хай и остановил расправу:
— Бить и вязать не разрешается.
— То есть как не разрешается, ведь эта старая посудина против нашей демократической власти контрреволюцию разводит, — попытался возразить старый Сунь.
— Нет, подожди, — сказал Го Цюань-хай. — Пусть Лю Гуй-лань прежде сама все расскажет.
Лю Гуй-лань раскраснелась.
— Когда меня выдвинули в помощники старосты, встретимся мы, бывало, она и начинает кому-нибудь говорить: «Какая у нее там работа? Бегает в крестьянский союз только для того, чтобы поймать там любовника». Дочь часто ее одергивала: «Лучше молчи! Она активистка, еще донесет».
Го Цюань-хай подошел к старухе:
— Ты говорила это? Ругала нашу демократическую власть?
Старуха оглянулась. Комната была полна народу.
— Не говорила я такого… да мне и домой пора… — сказала она.
Но Го Цюань-хай задержал ее и сделал знак Чжан Цзин-жую:
— Отведи ее в группу по ликвидации неграмотности, пусть там допросят. Старуха не так проста, как прикидывается.
Когда Чжан Цзин-жуй привел старуху Ду в группу по ликвидации неграмотности, там шли занятия. Все окружили старуху и стали допрашивать: где спрятала оружие. Та не на шутку перепугалась:
— Нет у меня оружия. На что мне, старухе, оружие?
Но по лицу было видно, что она что-то скрывает.
— Так что же ты спрятала? А ну, говори!
— Есть у меня два золотых кольца… да и те не мои: жена Добряка Ду просила спрятать, а больше ничего нет.
— Куда ты их спрятала?
— Дома, дома спрятала. Сейчас же принесу, только не вяжите меня, не позорьте мое имя!
— Ладно, — усмехнулся вошедший Го Цюань-хай, — вязать не будем. Принеси кольца в крестьянский союз. А больше у тебя ничего нет?
— Нет, председатель, нет ничего.
— Смотри, если что утаишь, а мы найдем — худо тебе будет. Иди да о гоминдановских бандах и думать забудь. Они не придут, и старые времена тоже никогда не вернутся.
XVI
Сяо Ду принадлежал к числу мелких помещиков. Го Цюань-хай, хорошо знавший положение в каждом доме, считал, что имущества в семье Сяо Ду немного, и их не тронули. Однако после того как обнаружилось, что старуха спрятала золотые кольца жены Добряка Ду, все помещичьи приспешники попали под подозрение.
Деревенские активисты решили проверить как следует всех родственников и прихвостней помещиков. Потухший уже было огонь народного гнева вспыхнул с новой силой.
На новогодние праздники в крестьянском союзе проходили собрания. Было создано шесть новых групп, и в домах, где они работали, всю ночь горели масляные лампы. Заправку ламп поручили холостяку Хоу, квартировавшему когда-то у Чжан Фу-ина.
Хоу был бережлив и расчетлив и никак не мог примириться с таким безудержным расходом масла. Порою он недовольно бурчал, что, мол, эти чертовы лампы пьют масло, будто драконы воду, а иногда слышались его тяжкие вздохи:
— Вот и еще одна бутылка вышла. Ночи такие длинные, что только и знай подливай…
Оружия больше не находилось. Изредка попадалось золото, чаще серебро и материя, но очень немного. Все эти поиски были настолько утомительными, что люди валились с ног и на совещаниях часто засыпали, а еще чаще уходили домой, не дожидаясь конца.
Как-то раз ночью, войдя в один из домов, где горела лампа, Го Цюань-хай увидел у стола Хоу и старика Суня. Они его не заметили и продолжали беседовать.
— Ты все расстраиваешься… — говорил возчик.
— Да помилуй, старина Сунь, как тут не расстраиваться? Ведь такая пропасть масла уходит. Как нам, беднякам, можно столько тратить…
— Смотря на что тратить, — поучительно заметил возчик. — Но ты все же верно говоришь. Мы сейчас это масло не на дело, а на ерунду тратим, потому что работа наша выеденного яйца не стоит. Ценностей у помещиков уже не осталось. Мы просто «масло попусту выжигаем».
Замечание Суня показалось председателю правильным и метким, и на следующий день он послал нарочного в деревню Саньцзя, чтобы тот узнал у Сяо Сяна, как поступать дальше.
Сяо Сян сам был занят этим вопросом. Сообщения из других деревень подтверждали одно и то же: ценностей больше не было, и люди напрасно расходовали силы на их поиски.
«Старый Сунь, пожалуй, прав, — подумал начальник бригады, выслушав нарочного. — Стоит ли «выжигать масло попусту»?
Эти слова поразительно точно характеризовали положение. Сяо Сян вспомнил, как кто-то однажды сказал ему, что руководитель должен ко всему прислушиваться, и особенно к словам обыкновенных простых людей. «Выжигать масло попусту» — вот как раз то, что сейчас происходит. Сяо Сяну вспомнился веселый балагур возчик и его занимательные рассказы про медведя. Он невольно улыбнулся и вполголоса сказал самому себе:
— Про медведя — это, конечно, чепуха, а вот «выжигать масло попусту» — интересная мысль. Действительно, пора переходить к новым формам работы.
Во всех случаях, когда возникали какие-либо затруднения, Сяо Сян неизменно обращался к статьям Мао Цзе-дуна и всегда находил в них нужный ответ. «Учиться у масс и тщательно контролировать низовых руководителей», — таков был смысл ответа.
Сяо Сян тотчас же составил доклад комитету партии и написал двум товарищам, работающим в уездном комитете. Запечатав пакеты, он приказал Вань Цзя свезти их в уездный город.
Затем он разослал милиционеров по деревням района предупредить активистов, в том числе и старика Суня, чтобы на следующий день все пришли на общее собрание.
На следующий день, после завтрака, активисты из разных деревень начали стекаться в Саньцзя.
До начала собрания начальник бригады прошелся по деревне и поинтересовался тем, что думают крестьяне о дальнейших поисках припрятанного помещиками имущества.
Одни уверяли, что если поиски продолжить, то можно будет еще кое-что найти. Другие придерживались иного взгляда, утверждая, что если у помещиков еще что и осталось, то такая мелочь, которой не окупить затраченного времени. Они советовали заняться лучше промыслом, заготовкой топлива и подготовкой к весенним полевым работам.
На собрании было много споров. Но все выступавшие возвращались к одному и тому же вопросу: продолжать поиски или прекратить их? Больше всех говорил и размахивал руками старый Сунь. Некоторые его суждения выслушивались со вниманием, а иные, как всегда, вызывали веселый смех.
Сяо Сян, сидя у стола, записывал речи выступавших. Наконец он отложил ручку в сторону и обратился к собранию:
— Я хочу задать один вопрос: ради чего мы, собственно, боремся с феодализмом?
Ответы поступили разные.
Одни считали, что для того, чтобы отомстить за обиды, нанесенные помещиками простому люду и добить помещиков, другие — для того, чтобы уничтожить эксплуатацию и разделить землю, третьи — чтобы спать на теплых канах, хорошо жить и есть по праздникам пельмени.
Последнее суждение всех рассмешило. Улыбнулся и Сяо Сян.
— Правильно говорите, — согласился он. — Мы делаем революцию именно для того, чтобы построить хорошую жизнь. Но как нам все-таки достичь этой хорошей жизни?
— Мы нынче всё как будто получили: и дома, и землю, и лошадей и даже плуги с боронами, — начал старик Чу. — Гляжу я кругом и не вижу, о чем же нам теперь беспокоиться.
— Говоришь ты, вроде как воду пьешь, которой всегда вдоволь. Неужели так-таки и не о чем беспокоиться? — спросил Чжан Цзин-жуй. — А, скажем, о семенах?
— А о телегах? — добавил старик Сунь. — Снимешь урожай, а без телег будет он у тебя лежать в поле. Как ты его домой доставишь?
— Ну если уж на то пошло, так не о телегах, а прежде всего о крупорушках побеспокоиться надо, — возразил старик Чу.
— Что тебе далась крупорушка? Телега куда важнее.
— А я скажу: не телега, а крупорушка важнее.
— Заладил свое! Да без телеги-то с лошадьми что делать будешь?
— А без крупорушки твои лошади ни на что и не нужны!
Сяо Сян поднялся и, желая положить конец пререканиям, постучал по столу:
— Тише! К чему эти споры? Без телеги не обойдешься, без крупорушки также. То и другое необходимо. Значение нашего переворота заключается в том, что в результате его вся земля и все орудия производства перешли из рук тунеядцев в руки трудового народа. Теперь перед нами стоит задача расширять сельскохозяйственное производство. Однако в нашем районе лошадей не хватает. Поэтому нужно конфискованное у помещиков золото и серебро продать, а на вырученные деньги купить лошадей!
Наконец отозвался молчавший до сих пор Го Цюань-хай:
— Дело очень хорошее. Если купим, например, пятьдесят-шестьдесят лошадей, у нас в деревне в каждой семье будет по лошади.
— Когда у каждого будут лошадь, телега и крупорушка, всякие трудности кончатся, — продолжал начальник бригады. — Сейчас надо скорее завершить передел земли и начать подготовку к весеннему севу, а то того и гляди снег растает. Время человека не ждет. Возможно, конечно, что у помещиков еще кое-что и осталось…
Сяо Сян не закончил. В комнату быстро вошел связной, прискакавший из уездного города. Он молча вручил начальнику бригады пакет. Это оказалась новая инструкция провинциального правительства.
Сяо Сян поручил Го Цюань-хаю вести собрание, а сам углубился в чтение инструкции.
В инструкции говорилось, что движение за передел земли приняло широкие размеры. Необходимо поэтому закрепиться на завоеванных позициях, исправить ошибки, допущенные в отношении середняков. Конфискованное у помещиков имущество немедленно разделить между нуждающимися, до весеннего сева закончить передел земли и подготовить условия для расширения сельскохозяйственного производства. Инструкция рекомендовала всем активистам районов и уездов обстоятельно изучить и подвергнуть на своих собраниях широкому обсуждению последнюю статью, напечатанную в газете «Дунбэйжибао».
Начальник бригады, составив ответ на полученное письмо и отпустив связного, вместе с другими занялся подсчетом людей, принявших участие в борьбе против помещиков. В борьбе участвовало восемьдесят процентов всего населения. Естественно возникал вопрос, из кого же состоят оставшиеся двадцать процентов. Ведь не могли же это быть помещики? Конечно, нет! Кто же, в таком случае?
— Разные тут люди. Есть просто бездельники, а есть и такие, которые ни в чем не хотят принимать участия, — разъяснил Го Цюань-хай.
— Вот, например, старуха Ван из нашей деревни. Она в крестьянский союз ни разу не заходила.
— А что за человек старуха Ван? — поинтересовался начальник бригады.
— Бедняки они. Из-за этого старший сын никак жениться не может. Кто за такого голодранца дочь отдаст?
— На этом собрание наше закончим, — сказал, поднимаясь, Сяо Сян. — Всем вам, когда вернетесь домой, нужно будет подумать, какими способами подтянуть отстающих и вовлечь их в наше движение. Надо чтобы все, кроме помещиков и их прихвостней, объединились в нашем крестьянском союзе. Завтра я сам буду в деревне Юаньмаотунь и помогу…
Старик Сунь весь просиял:
— Если начальник Сяо к нам опять вернется, это будет очень хорошо. У нас и помещение крестьянского союза просторное и теплое, и люди понимающие, не то, что здесь… Садись в мои сани. Двух трубок выкурить не успеешь, как я тебя в наши края доставлю.
— И чего ты все болтаешь да болтаешь? — прервал его возмущенный старик Чу. — Слова сказать никому не даешь. Дай хоть спросить-то! Начальник, а как нам все-таки быть с бездельниками? Тоже их в союз привлекать?
— Обязательно. Привлечь и начать перевоспитывать. Ну, пора ехать, — заторопился начальник бригады.
Длинные вечерние тени лежали на порозовевшем снегу, когда сани старика Суня въехали в деревню Юаньмаотунь. Сяо Сян остановился в крестьянском союзе, в комнате Го Цюань-хая.
Этой же ночью начальник бригады и председатель крестьянского союза составили список тех, кто по разным причинам пассивно относится к крестьянскому движению, и долго говорили о способах их привлечения, но так ничего и не решив, легли спать.
«С чего же тут начинать?» — мучительно спрашивал сам себя Сяо Сян, лежа на кане с открытыми глазами.
Он встал, прибавил света в масляной лампе, достал вчерашний номер газеты «Дунбэйжибао» и на второй странице наткнулся на заметку, в которой как раз говорилось о методах работы с отсталыми.
— Старина Го! Старина Го! Вставай! Нашел! — растолкал Сяо Сян Го Цюань-хая, и они вдвоем принялись оживленно обсуждать опыт, описанный в заметке.
XVII
Едва первые лучи солнца озарили окна и на гибких ветвях ив запрыгали проснувшиеся воробьи, Сяо Сян был на ногах. Когда он, умывшись, вошел в комнату Го Цюань-хая, председатель уже сидел за столом. Посоветовавшись между собой, они решили устроить сегодня два собеседования.
— Одно проведем здесь, в главном доме крестьянского союза, — предложил начальник бригады, — и пригласим сюда всех стариков и старух. А в восточный флигель пригласим пассивных и разных, там, слоняющихся без дела.
— Но кто же будет проводить эти собеседования? — поинтересовался Го Цюань-хай.
— К старикам пошлем возчика Суня с женой и супругов Тянь Вань-шунь. А пассивными и прочим народом займетесь ты и Чжан Цзин-жуй.
С утра уже было объявлено, что никаких других совещаний сегодня не будет, и всем активистам рекомендовалось заняться оценкой конфискованного имущества и составлением описи.
Приглашенные на собеседование явились в крестьянский союз сразу же после завтрака. За теми, кто был слишком стар, послали сани.
Бездельники и просто пассивные собрались в восточном флигеле. Увидев, что за компания здесь, они подняли веселый гам.
На столе были приготовлены блюдечки с подсолнухами, разложены коробки с табаком и пачки курительной бумаги. Кто принялся за семечки, кто — за курево.
— Председатель Го, чем это вы с нами соблаговолите заниматься сегодня? — склонив голову набок, удивленно спросил один из присутствующих, известный в деревне под кличкой Осел Ли.
— Сегодня праздник Нового года, — сказал Го Цюань-хай, — и мы решили пригласить вас на беседу. Если у вас найдется, что сказать о крестьянском союзе — милости просим.
— Помилуй нас небо! — состроил рожу и неестественным голосом пропищал Осел Ли. — Что же можно сказать? Все хорошо! Все пра-а-ви-ильно-о!
Он сел, начал гримасничать. Остальные с удовольствием растянулись на теплых канах и, выпуская голубые кольца дыма, казалось, забыли обо всем на свете.
— Почему никто из вас ни разу не пришел на крестьянские собрания? — желая завязать разговор, начал Го Цюань-хай.
Все промолчали, занятые курением. Один Осел Ли открыл глаза и дурашливо хихикнул:
— Положение-то наше не очень завидное, председатель, что бы мы ни сказали, кто на нас станет обращать внимание.
— Почему у вас незавидное положение? — спросил Чжан Цзин-жуй. — Ты кем же себя считаешь?
— Разумеется, помещиком, — иронически рассмеялся Осел Ли.
— Другие, — заметил Го Цюань-хай, — наоборот, стараются себя принизить. Помещик говорит, что он кулак, а кулак — что он середняк. Почему же ты решил на себя наговаривать? По какому случаю?
— По такому случаю, председатель, что нашему брату все едино. Мы всегда оказываемся в самом плохом положении. Когда бедняки терпели горе, я бедняком был, теперь, когда пришло время лить слезы помещикам, я помещиком стал. Кому худо, тот мне и родня, а вам я не пара. Разреши уйти, председатель…
— Зачем же уходить, — остановил его Го Цюань-хай. — Раз собрались, надо уж побеседовать.
— Это я могу! — снова скорчил гримасу Осел Ли и, размахивая руками, принялся потешать товарищей, кривляясь и скоморошничая.
Увлеченные этим представлением, собравшиеся не заметили, как вошел начальник бригады.
— Что за человек? — тихо спросил он Го Цюань-хая.
— Осел Ли… — так же тихо ответил председатель.
— Откуда такое странное прозвище?
— Это длинная история, начальник… А настоящее имя его Ли Фа.
— Какая же история, расскажи, — заинтересовался Сяо Сян.
— Да видишь ли, еще во времена Маньчжоу-го приехал он сюда из Внутреннего Китая на двух ослах. На одном сидела его жена с пятилетним сынишкой, а на другом был навьючен весь его незамысловатый скарб. Ослы в наших местах, сам знаешь, животные редкие. Ослики всем очень понравились, вот поэтому их хозяину и дали такое прозвище. Заарендовал Ли у Добряка Ду пять шанов земли, но дела пошли так плохо, что через два года он вконец разорился. Ослов ему пришлось отдать за долги, и осталась у него одна кличка. Тут еще на беду сын заболел брюшным тифом и помер, а жена ушла к другому. После этого он бросил пахать и сеять. Пристрастился к картам, к водке и стал вором. Когда в нашей деревне создали крестьянский союз, все, помню, в один голос сказали: не нужен нам такой человек в союзе. Да он к нам и не заходит…
— А ты все же с ним потолкуй с глазу на глаз, — посоветовал председателю Сяо Сян и вышел на середину комнаты.
Все сразу притихли. Замолчал и Осел Ли.
— Мы пригласили вас на новогодние праздники, чтобы познакомиться и побеседовать. Все мы с вами по происхождению крестьяне и все бедняки. Ведь здесь богачей нет? Не так ли? — спросил Сяо Сян и окинул взглядом собравшихся. — Если раньше вам приходилось заниматься дурными делами — вас вынуждали к тому помещики, и нельзя это ставить вам в вину.
Один из присутствующих, с особым вниманием слушавший Сяо Сяна, утвердительно закивал:
— Правильно говоришь, начальник, все правильно. Раньше в нашей деревне плохие были порядки. Попробуй не подчинись приказу помещика, грохнет оземь твою чашку с кашей — и все тут…
— К примеру, взять этого… Ли… — продолжал Сяо Сян, чуть не сказав Осла Ли, но, вовремя спохватившись, добавил: — этого Ли Фа.
Осел Ли, услышав свое имя, остолбенел. Он, которого долгие годы называли лишь по кличке, был несказанно тронут, что сам командир из Восьмой армии не только знает его фамилию, ко даже обращается к нему, как к порядочному человеку, называет по имени. С тех пор как жена покинула Ли, он перестал ценить и уважать себя, свыкся с мыслью, что его место на свалке, и с тупым и злобным упрямством противился любой попытке, которая была направлена на его исправление. Но сейчас он внимательно прислушивался к тому, что говорит этот человек в военной куртке, напомнивший Ослу Ли, что у него есть человеческое имя…
— Когда Ли Фа, — говорил начальник бригады, — приехал в вашу деревню, разве он не был хорошим крестьянином? Его разорил и обобрал помещик, у которого он взял в аренду клочок земли. Ли Фа в конце концов не только потерял ослов. Он и сына своего лишился, и жена, которую он не мог прокормить, ушла от него. Не случись с ним этих несчастий, неужели бы он стал бродягой и картежником?
Ли опустил глаза. Он вспомнил об умершем сыне и ясно представил себе первый вечер после ухода жены. Сколько пережил он тогда… Вспомнил Ли Фа и другой, тоже первый в его жизни вечер, когда, измученный голодом, он прокрался на чужое кукурузное поле, но был пойман и избит до потери сознания.
«Человек может отдыхать, но рту отдыхать не прикажешь», и Ли Фа начал красть. Сначала было очень стыдно, но потом все сделалось привычным и Ли, по прозвищу Осел, перестал краснеть. Люди презирали его, но ему уже было все равно: он больше не уважал себя.
Сейчас Ли Фа сидел как потерянный, не зная, что и думать. А до его слуха, словно звон колокола в горах, ясно долетал мягкий, задушевный голос Сяо Сяна:
— Теперь мы выкорчевали все гнилые корни, и если вы не исправитесь и не станете активистами, вам придется обижаться только на самих себя. Мы сделаем все, чтобы вам помочь. Время изменилось, и вы должны жить по-другому, Когда получите землю, займитесь полезным трудом, сделайтесь хорошими крестьянами. Вот мой дружеский совет. А теперь продолжайте начатую беседу, а мне надо пойти к старикам на собрание.
Когда Сяо Сян вошел в главный дом и, никем не замеченный, присел у порога, слово держал старик Сунь, поучая кого-то из присутствующих:
— Каждый бедняк, борясь за лучшую для себя жизнь, помогает также и другим. Ты, дедушка, не говори, что слишком стар. Какой же ты старик? А хотя бы даже и старик, разве это отговорка? Я тебе так скажу, разве можно нас, шестидесятилетних, стариками считать. Чем старее человек, тем он опытнее и мудрее. Ты послушай меня, брат, я никогда не вру: даже начальник Сяо у меня, шестидесятилетнего Суня, во всех делах спрашивает совета. Вот хотя бы к примеру: я на прошлом собрании в деревне Саньцзя сказал, что лошади да телеги для нас важнее всего. А старик Чу со мной в эту, как ее, дикс… диску… а чорт! ну, словом, спорить стал. Нет, говорит, самое главное — крупорушка. Начальник Сяо слушал, слушал и не выдержал, вмешался: «Старик Сунь, говорит, прав, а Чу ровно ничего не понимает». И точно: если соединить, скажем, только мосты, которые я перешел в своей жизни, получится расстояние куда длиннее тех дорог, по которым Чу хаживал…
— Дай ты людям-то слово сказать! — перебил старик Тянь неугомонного возчика. — Я вот вам так скажу: не будь у нас коммунистической партии, мы бы никогда не получили того, что имеем сегодня. Я очень благодарен председателю Мао. Я бы хотел знать, кто не видел добра от коммунистической партии?
Старуха с серебряными волосами, вынув изо рта трубку, вмешалась в разговор:
— Таких ты среди простого народа не найдешь. Раньше у нас, бедняков, варить в чугунках было нечего, а сейчас зажили, как люди, и должны теперь выпрямиться во весь рост.
— Что-то я не вижу, чтобы ты выпрямилась, — поддел старуху какой-то вредный старикашка. — Людей к тому призываешь, а лучше бы на себя оборотилась. В прошлом году твой сын со слезами просился в армию, а ты его, можно сказать, за ноги держала. Где же твое выпрямление?
— Врешь ты все! — не на шутку рассердилась старуха. — Кто это держал его за ноги? Я сама уговаривала сына, чтоб он исправно служил и не на жизнь, а на смерть боролся с помещиками-лиходеями, потому что они нас ненавидят и нам нужно быть бдительными и все время бить их…
— Говоришь-то ты здорово… — рассмеялся старик.
Сяо Сян быстро поднялся:
— Послушайте, что я вам скажу! Крестьянский союз пригласил вас, чтобы, потолковав по душам, узнать ваше мнение. Помещиков мы добили, однако работы у нас осталось еще не мало. И для вас ее хватит. Поэтому мы решили создать такую организацию, которая бы объединила всех стариков и вовлекла их в работу крестьянского союза. Тех, кто отстает от времени и не пускает молодежь в крестьянский союз, будем порицать на общих собраниях. Согласны с тем, что я вам сказал?
Все ответили, что согласны, и принялись горячо обсуждать план создания организации.
Начальник бригады вдруг вспомнил старуху Ван, о которой ему как-то говорил Го Цюань-хай.
— А старуха Ван здесь? — обратился он к возчику.
Сунь окинул взглядом присутствующих:
— Нету… Она тяжела на подъем.
Когда собрание кончилось, Сяо Сян попросил Го Цюань-хая проводить его к Ван.
Войдя в лачугу, они увидели на кане одетую в заплатанный ватный халат старуху с большими очками на носу, которая чинила какую-то ветошь. Она не слишком дружелюбно встретила гостей и, холодно пригласив сесть, сама не двинулась с места. Гости присели. Сяо Сян с любопытством стал осматривать комнату. На рваной цыновке, постеленной на южном кане, стоял столик со сломанной ножкой и валялись два грязных одеяла. Около стены лежал мужчина с широкими черными бровями, лет тридцати на вид, и, прикрыв глаза, притворялся спящим. «Это, вероятно, и есть старший сын, который по бедности не может жениться», — подумал начальник бригады.
Северный кан являл собой полную противоположность южному. Застланный новой цыновкой, он был чист и опрятен. На самом краю его стоял сундук, украшенный узорами. На сундуке аккуратной горкой были сложены два одеяла и две подушки — все новое.
Го Цюань-хай достал из-за пояса трубку и набил ее табаком. Он не знал, с чего начать разговор, и потому спросил первое, что пришло в голову:
— А где же твоя невестка?
— Кто знает, куда ее унесло, — недовольно буркнула старуха.
В этот момент вошла молодая женщина в новом ватном халате. В ушах ее поблескивали серебряные серьги. Надув губы и ни на кого не глядя, она стала рыться в сундуке.
— Как уйдешь, так тебя и не сыщешь… — заворчала старуха. — А поросенок того и гляди подохнет с голоду.
Молодая женщина направилась в кухню и на ходу бросила:
— Просто удивительно, а на что вы-то здесь?
Лицо старухи побагровело. Она швырнула иглу, слезла с кана и грубо выругалась:
— Ты еще смеешь меня заставлять, негодная! Думаешь, управы на тебя нет? Какую власть забрала в доме! Небо перевернуть собралась.
Невестка с раздражением сбросила халат и принялась за хозяйство.
Старуха Ван повернулась к Сяо Сяну. Ее тонкие губы тряслись:
— Вот послушай-ка, начальник, ее речи! Разве это человек?..
Сын поднялся, подошел к матери и стал ее уговаривать:
— Успокойся, зачем расстраиваться. Пусть что хочет, то и говорит. Все равно не долго нам с нею жить.
Видя, что сегодня все равно не удастся выяснить то, что им было нужно, Сяо Сян заторопил Го Цюань-хая. Они попрощались и вышли. Во дворе им повстречалась старуха Лу, которая жила тут же рядом, в лачуге.
Она учтиво пригласила начальника и председателя зайти к ней погреться.
— Старая Ван опять была неприветлива? — осведомилась Лу. — Но ведь ты, председатель, знаешь ее горе. Разве можно удивляться тому, что она так нелюбезна с людьми? Старуха просто отчаялась.
— В чем же ее несчастье? — спросил Сяо Сян.
— А ты послушай: ее младшему сыну действительно повезло. Он накопил денег сапожным ремеслом и женился. Старший же сын до сих пор холост, и старая Ван все сокрушается и плачет. Да и в самом деле, разве ей не обидно? Он хотя и упрямый, но хороший работник и очень смирный человек. Каждый год заходит у них речь о женитьбе, а только ничего не получается. Нужда проклятая задавила. В этом году, казалось, все шло на лад, да опять не повезло…
— Почему же теперь-то не повезло? — поинтересовался начальник бригады.
— Да видишь ли, один кулак, по фамилии Ли, когда землю стали делить, очень обеспокоился, что с ним сведут счеты, и порешил выдать свою дочь за бедняка. Думал, наверно, что тогда его не тронут. Совсем они было договорились со старухой Ван. Он уж и свадебные подарки от жениха принял. А потом, как пошли исправлять разные «перегибы», кулаки проведали, что отношение к ним не то, что к помещикам. Ли, конечно, пожалел отдавать дочь бедняку. Когда Ван перед свадьбой принесла будущей невестке шерстяное одеяло, кулак Ли не взял и велел принести ситцевое. Но так как сукно лучше ситца и дороже, все сразу поняли, что дело тут в том, чтобы поставить старуху Ван в затруднительное положение: ситцевого одеяла у нее нет и достать его она не может. Вот старая Ван теперь и горюет, вот и расстраивается до того, что ей прямо свет не мил…
— Что же, — сказал Сяо Сян Го Цюань-хаю, выходя из ворот, — надо будет помочь. Ты выдай старухе Ван ситцевое одеяло из конфискованного имущества.
Вскоре милиционер принес старухе новое ситцевое одеяло. Она так обрадовалась, что обегала всех соседей не в силах сдержать обуревавшие ее чувства.
— Уж такое мне счастье, уж такая радость!.. — захлебывалась она от волнения. — Вот крестьянский союз действительно родной нам. Надо всем вступать в него! Как он заботится о бедняках!
Наконец, поручив свахе доставить одеяло отцу невесты, старуха кинулась в крестьянский союз искать начальника Сяо.
Сяо Сян в это время беседовал с Ослом Ли. Тот своим хриплым, простуженным голосом возражал:
— Боюсь, начальник… Если самому плести цыновки, это я, конечно, могу, но составить целую артель из таких, как я, да еще командовать ими… боюсь, что не справлюсь! Ничего у меня не выйдет.
— Почему же не выйдет?
— Да как же: и положение у меня, сам знаешь, незавиднее, и кличка совсем неподходящая…
— Начнешь работать, все изменится к лучшему.
И видя, что Осел Ли нерешительно переминается с ноги на ногу и морщит лоб, Сяо Сян спросил:
— Ты, видно, еще что-то хочешь сказать?
— Есть одно дельце, начальник, — оглянувшись по сторонам и понизив голос, заговорил Ли. — Хочу я тебе признаться по-честному. Помещик Тан Загребала отдал мне на сохранение пять узлов. Ты, говорит, бедняк, и тебя никто не тронет. Если выручишь меня теперь, так потом я всегда тебе помогать стану. Ну я, конечно, спрятал… да только послушал вас вчера, и каждое ваше слово глубоко мне в сердце запало. Думал я, думал и решил: ведь все-таки я бедняк и, если не признаюсь по-честному, мне лица нельзя будет показать ни перед коммунистической партией, ни перед народным правительством, ни перед тобой, начальник.
— То, что ты сам признался, это очень хорошо, — дружески похлопал его по плечу Сяо Сян. — Это показывает, что сердцем ты вместе с крестьянским союзом.
— Ведь ты — крестьянин, зачем же тебе помещичьи вещи прятать? — улыбнулся Го Цюань-хай.
— А не спрятал бы я этих вещей, — улыбнулся, в свою очередь, Осел Ли, — как бы вы стали тогда доваривать «недоваренный обед»?
— Правильно сказал. Молодец! — похвалил начальник бригады, которому это выражение очень понравилось. — Ладно, — добавил он, — узлы принесешь, когда захочешь, а вот артель собирай как можно скорее.
— Ну, бабушка, что у тебя? — ласково обратился он к старухе Ван, нетерпеливо ждавшей у двери. — Семья Ли все еще не желает отдавать тебе невестку?
Старуха отрицательно покачала головой и с таинственным видом потянула начальника за полу, вызывая из комнаты.
Когда Сяо Сян вышел с ней на кухню, она приподнялась на цыпочки и что-то быстро зашептала ему на ухо.
— Мы с ним… дальние родственники… — чуть повысила голос старуха, — а он был японским разведчиком и многим людям бед натворил. Раньше-то моя головушка того не понимала… Теперь скажу тебе: думала я, что про такие дела нельзя рассказывать… Укрывается он уже с прошлого года в деревне уезда Юй-шу…
Начальник бригады метнул тревожный взгляд в окно, не подслушивает ли кто-нибудь со двора, и знаками остановил старуху.
— Пока довольно. Смотри, никому ни слова… — прошептал он, наклонясь к ней. — Потом поговорим.
Старуха ушла. Сяо Сян вернулся в комнату и рассказал обо всем Го Цюань-хаю. Дело касалось крестьян деревни Юаньмаотунь, и преступник должен быть схвачен и доставлен сюда. Начальник бригады, быстро обдумав операцию, предложил:
— Нужно послать двух опытных людей. Поезжай сам и возьми в помощники… — Он остановился. — Чжан Цзин-жуя? Нет, его нельзя, в деревне никого не останется для работы по безопасности. Старик Чу не годится. Глуповат да и с оружием обращаться не умеет. Как по-твоему, кого лучше взять?
Го Цюань-хай задумался:
— Вот разве Бай Юй-шаня. Он в таком деле имеет хороший опыт…
— Это было бы самое лучшее. Но Бай Юй-шань в отпуску и привлечь его можно лишь в том случае, если он сам этого пожелает. Позови-ка его сюда. Поговорим с ним. Откладывать дела никак нельзя.
Вызванный в крестьянский союз Бай Юй-шань охотно согласился помочь. В тот же вечер были заготовлены пропуска, составлено официальное письмо в административный центр другого уезда и отпущены деньги на дорогу. Начальник бригады от себя написал письмо в уездную милицию, прося выдать командированным ордер на арест и, если возможно, приставить к ним сопровождающего.
Глухой ночью Го Цюань-хай и Бай Юй-шань, вооруженные винтовками, сели в сани и помчались в уездный город. Там они должны были сесть в поезд и отправиться в уезд Юйшу Гиринской провинции, где скрывался преступник.
XVIII
После отъезда Го Цюань-хая и Бай Юй-шаня в деревне началось распределение имущества, конфискованного у помещиков. Прежде всего нужно было выяснить нужды каждой семьи и установить очередь на получение вещей.
Круглые сутки в крестьянском союзе толпились люди. В кострах, разложенных на земляном полу, весело потрескивали сосновые дрова, и в комнате стоял горький запах дыма, смешанный с ароматом смолы. Дым костров колыхал огонек лампы, мерцавший под самым потолком.
На каны набивалось столько народу, что порой негде было не только присесть, но даже поставить ногу.
Мужчины и женщины курили трубки, щелкали семечки, оживленно разговаривали между собой и громко смеялись. Больше всех других болтал, по обыкновению, старик Сунь. Это шумное сборище, окутанное дымом, напоминало веселую свадьбу.
Люди, сообщавшие собранию о своем имущественном положении, перед тем как их включали в список на получение помещичьего добра, чувствовали себя героями. Один за другим они поднимались с мест, громко называли свои фамилии и рассказывали автобиографии. Разместившийся за столом президиум терпеливо выслушивал каждого, задавал вопросы и только после этого выносил решение.
Сяо Сян сидел позади всех. За спинами людей он не видел выступавших и только слышал их голоса.
Выступал старик Чу.
— Меня зовут Чу Фу-линь, — начал он своим пронзительным фальцетом. — Три поколения нашей семьи были батраками. Кто же может со мной сравняться?..
— Как по-вашему, — обратился к присутствующим один из членов президиума, — поставим Чу Фу-линя на первое место в списке?
— Поставим! — раздался голос с южного кана. — Старина Чу — настоящий крестьянин, а осенью он еще рыбу ловит. Все помните, какую большую щуку он поймал в прошлом году?
По рядам прокатился хохот. Все поняли, что это намек на Хань Лао-лю, которого Чу помог арестовать.
— Верно, — сказал старик, сидевший на самом краю кана. Степенно поглаживая бороду, он добавил: — Могу подтвердить, что родители Чу тоже были хорошими крестьянами и всю жизнь честно пахали землю.
— Ничего, стало быть, плохого за ним не числится? — снова спросил член президиума.
— Нет, хороший человек! — ответило сразу несколько голосов.
— Так-то оно так… — сказал кто-то из темного угла, — да вот есть у старины Чу и недостаток…
— Ты встань, а то плохо тебя слышно! — закричали со всех сторон.
— Ну, тогда не стоит… — смутился говоривший, — да и недостаток-то совсем пустяковый…
— Замалчивать нельзя! — ответили из президиума. — Если стесняешься выйти, разрешаем тебе говорить с места.
— Тогда слушайте: когда старина Чу был еще мальчишкой и пас свиней, то, как рассказывали старики, воровал он будто иногда кукурузу и картошку с чужих огородов.
Старик Чу покраснел до кончиков ушей и, потупив глаза, сознался:
— Что правда — то правда, соседи. Воровать в ту пору действительно воровал, но только с помещичьих огородов. Помещик кормил плохо. Выгонишь, бывало, на заре свиней, а в животе-то совсем пусто. Случалось иной раз, что и украдешь. Да ведь я тогда малолетний был, не понимал еще, что это плохое дело…
— А я скажу, — прервал Чу седобородый старик, — что это принимать в расчет нельзя. Помещики всю жизнь эксплуатировали бедняков, и стащить несколько картофелин с их огорода — это даже не грех…
— Да какое же тут воровство? — вмешался стоявший возле стены милиционер. — Это же было у помещиков. Важно, чтоб сейчас наши бедняки не трогали государственного имущества. Однако я про другое хочу сказать. У старины Чу все-таки есть небольшой изъян. К примеру, вот такой случай: служил как-то старина Чу старшим батраком у Тана Загребалы. По старому закону полагалось: прополол батрак грядку — садись и отдохни, покури. А вот однажды случилось так: заприметил старина Чу, что по полю идет с палкой Тан Загребала, и давай батракам кричать: «Кончай курить! Солнце уже садится, а работы еще много!» Это как, по-вашему, называется?
— Было такое дело? — спросили из президиума.
Старик Чу еще больше покраснел. Обливаясь потом, он распахнул куртку, сделал несколько шагов вперед и растерянно проговорил:
— Теперь уж, конечно, не упомню, но может быть и было. Да в то время мы еще несознательными были, не то, что теперь, когда все работаем под руководством коммунистической партии.
Снова пошли разговоры. Одни доказывали, что это не проступок, кто бы, мол, посмел при старом режиме идти наперекор помещикам. Другие, наоборот, говорили, что, каковы бы ни были тогда порядки, подлизываться к помещикам все равно нехорошо.
Люди вполголоса разговаривали между собой.
— Это самый лучший способ проверять людей, — рассуждал кто-то поблизости.
— Только наше демократическое государство могло придумать такой хороший способ — проверять на людях.
— Народ все видит, от него ни плохое, ни хорошее не скроется. Ты не увидишь — другой разглядит, другой не разглядит — третий подметит.
— Все равно как на экзаменах.
— А ты как думал? В игрушки играем, что ли? Это — удостоверение на всю дальнейшую жизнь.
В душе старик Чу уже ликовал: теперь-то первое место ему обеспечено. Но в этот момент в комнату тихо вошла вдова Чжао, и кто-то крикнул:
— Вдова Чжао Юй-линя пришла! Вот кого действительно надо поставить на первое место!
Не изменившая памяти покойного мужа вторичным замужеством, давшая клятву вырастить его сына, честная, обо всех заботившаяся вдова Чжао сразу оказалась в центре всеобщего внимания.
— Правильно! Она больше всех заслужила! — раздались отовсюду голоса.
Президиум без долгих обсуждений предоставил первое место в списке вдове Чжао, и старик Чу оказался теперь на втором.
На середину комнаты вышел возчик Сунь. Он отряхнул ватный халат, на который налипла подсолнечная шелуха, но не успел он еще и рта открыть, как старик Чу, иронически улыбаясь, спросил его:
— Никак тоже за место хочешь бороться, сосед?
Все засмеялись, некоторые стали подшучивать над Сунем:
— Ты, старина, лучше про своего медведя расскажи!
— Ведь в прошлом году, когда лошадей делили, ты струсил, а теперь метишь на второе место?
Старик, не обращая никакого внимания на шутки, прищурил глаз и спокойно, как обычно, насмешливо заговорил:
— Не о старом Суне речь. Вы только подумайте, кого мы забыли, кого обошли! Не догадываетесь? А я, старый Сунь, не забыл и предлагаю вам вспомнить про одного всем известного человека. Фамилия его — Го, а имя — Цюань-хай. Сейчас он в командировке, но скоро вернется. Чу Фу-линь, скажи-ка ты мне, как по-твоему: ровня он тебе или нет?
— Уж кому-кому, а председателю Го место свое с охотой уступлю, — поспешил ответить Чу.
С кана спрыгнул маленький худой мальчик. Никто толком так и не знал, как его зовут.
— А я предлагаю дать третье место У Цзя-фу, — волнуясь, заговорил мальчик, — пусть он расскажет про себя.
На середину комнаты вышел У Цзя-фу.
— Все мои предки, — начал У Цзя-фу, — работали батраками. В восемь лет я уже был свинопасом у Хань Лао-лю. Когда мне исполнилось тринадцать, помещик чуть не убил меня плетью. Видите, какие шрамы остались… — Он стал расстегивать куртку.
— Не надо! Не надо! — закричали присутствующие. — Кто не знает всей этой истории!
— Дать ему третье место! — поддержал кто-то из присутствующих.
— Верно! Верно! Дать третье! — согласились остальные.
Поднялся шум.
— Тише! Не шуметь! — крикнули из президиума. — Значит, У Цзя-фу дадим третье место, а старине Чу — четвертое? Какие еще будут предложения?
Тут заволновались женщины и вытолкнули вперед Дасаоцзу.
— Мой хозяин, — начала Дасаоцза, — сперва был в Хулане на курсах, а теперь работает в городе Шуанчэнцзы. Погостил немного дома, а сейчас уехал в командировку. Хотя во времена Маньчжоу-го он был большой лентяй, однако с тех пор, как приехала к нам бригада, совсем переменился…
— Что ты его все расхваливаешь! — прервал Дасаоцзу один из присутствующих.
Дасаоцза повела широкой бровью, резко повернулась и угрожающе посмотрела на обидчика:
— То есть как это расхваливаю? Ах ты тухлое яйцо!
— Тише! Тише! Пусть Дасаоцза все расскажет, — раздался голос из президиума.
— Мой хозяин, — продолжала женщина, — сперва был начальником отряда самообороны, а потом работал по безопасности. Трудился он день и ночь и даже домашние дела забросил.
— Что Бай Юй-шань хороший работник, никто не сомневается. Однако как же насчет самой Дасаоцзы? — спросили из президиума.
Послышались голоса:
— Она очень работящая женщина.
— Что и говорить, на все руки мастерица.
— Вот язычок больно остер. Никому не спустит, — заметил кто-то из мужчин.
— И молодец, что за себя постоять умеет. Всем с нее надо пример брать! — возразили женщины.
— Дело только в том, что Дасаоцза — просто беднячка, а нам сперва надо батраков выдвигать…
В президиуме стали совещаться.
— Батраки и бедняки — одна семья, — выступил после совещания один из членов президиума. — Нельзя одних вперед выдвигать, а других назад отталкивать. Надо оценивать людей по работе и по участию в нашем революционном движении. Если поставим Дасаоцзу на четвертое место, будут возражения или нет?
— Нет, не будут!
— Стало быть, возражений нет? Так и сделаем.
— Вот и опять тебя на шаг отодвинули. Пожалуй что доведется тебе и еще отступать, — со смехом толкнул локтем старика Чу его сосед.
Поднялся старик Тянь:
— Мы еще одного человека забыли. Он на фронте сейчас, носильщиком служит, воюет за нас с вами. Его тоже нужно будет внести в список.
— Ты о ком говоришь, старина Тянь? — спросили из президиума.
— Известно о ком. О кузнеце Ли говорю, да кто же его не знает! Еще Всегда Богатым все прозывают. В прошлом году, когда мы боролись с Хань Лао-лю, он нам день и ночь ковал пики. У него не только происхождение хорошее, он и сам человек неплохой…
Не успел старик Тянь окончить, как все кругом зашумели:
— Выдвигаем Ли Всегда Богатого на пятое место!
— Старина Чу, вот ты и на шестом месте оказываешься…
— Нет! Постойте! Предлагаю поставить на шестое место старину Тяня! — выбив трубку и быстро сунув ее за пояс, крикнул человек, сидевший рядом с начальником бригады. — Дочка старины Тяня Цюнь-цзы умирала, а все же не выдала своего жениха. Это настоящая бедняцкая стойкость! И можно считать, что Цюнь-цзы тоже имеет заслугу перед революцией. Как вы считаете: должны мы уважать ее родителей?
Загремели аплодисменты, и все единодушно поддержали:
— Должны! Должны! Поставить отца Цюнь-цзы, старину Тяня, на шестое место!
Лишь после этого, оказавшись уже на седьмом месте, старик Чу почувствовал, что отступление его наконец окончено и он закрепился на прочном рубеже, с которого его не сдвинешь.
Собрание перешло к обсуждению кандидатуры старика Суня. Возчика любили за его занимательные рассказы про медведя и разные другие шуточные, а иногда и поучительные истории, но кто мог сказать о его выдающихся революционных заслугах?
Выручил Сяо Сян. Взяв слово, он заявил, что хотя у старого Суня больших заслуг и нет, однако он тоже немало потрудился для народа, и предложил поставить его на восьмое место.
Возчик был очень доволен, но старик Чу и на этот раз съязвил по его адресу:
— Как же так, ты такой лихой возчик, а тут, словно черепаха, плетешься в хвосте?
Все развеселились, и только высокий человек, сидевший рядом с начальником бригады, хмуро молчал.
Из тех скупых ответов, которые давал этот человек на случайные вопросы, Сяо Сян узнал, что зовут его Хоу Чан-шоу. Ему недавно исполнилось сорок шесть лет, и двадцать шесть из них он проработал батраком. Так как Хоу был силен и ловок, помещики охотно его нанимали. Хотя по числу лет, проведенных в батраках, ни один из присутствующих на собрании крестьян не мог бы сравниться с Хоу, тем не менее никто не назвал его имени, никто не предложил внести его в список.
Сам же Хоу напомнить о себе не решился.
— Почему ты не хочешь выступить и рассказать свою биографию? — спросил его Сяо Сян.
Хоу ничего не ответил, оставив начальника бригады в полном недоумении.
Лишь спустя четыре дня Сяо Сян понял, в чем тут дело.
XIX
На четвертый день началось обсуждение трех необычных кандидатур: Осла Ли, старухи Ван и Хоу Длинные Ноги. Хотя все трое были бедняками, но за каждым числилось немало грехов.
Когда возник вопрос об Осле Ли и старухе Ван, последовало так много возражений, что Сяо Сян был вынужден отложить обсуждение. Перешли к Хоу Длинные Ноги, но и тут разгорелись жаркие споры.
По своему положению этот человек имел право получить долю из конфискованного имущества одним из первых, но как только он встал с места, отовсюду посыпались укоры за его женитьбу на вдове племянника Тана Загребалы.
В то время когда в деревне сводили счеты с Добряком Ду, многие члены помещичьих семей, испугавшись, что доберутся и до них, начали искать выхода.
Так как муж Ли Лань-ин умер и ее ничто больше не связывало с семьей Тана Загребалы, она в темную зимнюю ночь, захватив с собой постель и кое-какие вещи, пришла в лачугу к Хоу Длинные Ноги. Батраку было уже сорок шесть лет, а ей только тридцать, и Ли Лань-ин не сомневалась, что покорит его без особого труда.
Но Хоу был смертельным врагом помещиков, а Тана Загребалы — в особенности. Еще свежи были в его памяти те годы, которые провел он батраком в усадьбе этого эксплуататора. Помещик и вся его семья относились к Хоу с презрением. На всю жизнь запомнилось батраку, как они обошлись с ним, когда у него разболелись глаза. Он истратил на лечение все заработанные деньги и под Новый год остался без гроша. Хоу решил обратиться к хозяину с просьбой одолжить ему хоть немного чумизы.
— Где же я тебе возьму чумизу? — вытаращил на него глаза помещик.
А женщины, у которых грязные лохмотья батрака вызывали отвращение, разом закричали:
— Гони этого вонючего чорта. Что еще с ним разговаривать?!
Хоу не забыл и не простил такого отношения, и когда одна из женщин этой семьи прибежала ночью искать у него приюта, он так рассвирепел, что уже поднял было на нее руку. Но сердце старого батрака оказалось намного мягче его руки, да и вид у женщины был такой жалкий и беззащитный.
— Зачем ты пришла сюда? — стараясь придать голосу возможно больше суровости, спросил Хоу. — Ведь раньше ты даже глядеть в мою сторону не хотела. Уходи и не раздражай, пока я не избил тебя.
Ли Лань-ин подняла на него полные слез глаза, в которых светилась мольба, и покорно вышла. Однако, уйдя, она нарочно оставила у него на кане свою постель, зеркало, гребни и другие безделушки, сделав вид, что позабыла их захватить.
Эти женские вещи всю ночь не давали уснуть старому холостяку.
Когда в третий раз пропели петухи и в окно заглянуло румяное лицо зари, невыспавшийся Хоу с трудом поднял голову и злобно выругался:
— Вот ведь гадина, сама пришла! Что за чорт такой?
Вернувшись домой поздним вечером и засветив лампу, Хоу снова увидел на своем кане чужую постель и вещи. Он присел и задумался. «Что же теперь делать? Принять ее нельзя, и отказать как-то жалко… Она, конечно, из помещичьей семьи… а впрочем, по слухам, все ее родственники как будто крестьяне, бедняки».
Но он тотчас же постарался освободиться от этой мысли и с сердцем выругался:
— Дурак ты! И чего только не выдумаешь!..
Но вслед за этим появилась надежда:
«А может она еще и придет за постелью?»
На третью ночь он пришел домой поздно и, подходя к дому, подумал:
«Хотя бы она унесла свою постель».
Однако, открыв дверь, Хоу Длинные Ноги заметил, что не только постель была на месте, но и сама Ли Лань-ин лежала на кане. Хоу не слишком удивился, потому что предвидел такой оборот дела и втайне уже хотел, чтобы случилось именно так, но все же топнул ногой и зарычал:
— Опять, черепаха, тебя принесло!
Женщина вздрогнула и тотчас же села на кане, подобрав под себя ноги, но увидев, что это Хоу, успокоилась и, улыбаясь одними глазами, тихо ответила:
— Пришла за постелью…
— Так что же ты не уходишь?
Ли Лань-ин низко склонила голову и чуть слышно отозвалась:
— Хочу остаться здесь… у тебя. Готовить тебе обед… Придешь с работы, все уже на столе…
— Чего ты плетешь? Убирайся вон! — но голос у Хоу уже был совсем не таким строгим, как прежде.
— Ведь женщины из помещичьих семей не все одинаковы… — тихо продолжала Ли Лань-ин. — Есть среди них плохие, однако ведь есть и хорошие. Одни держат сторону помещиков, другие, напротив, сочувствуют беднякам. — Она быстро вскинула голову и доверчиво улыбнулась. — Ты подумай: все родные моей матери — крестьяне, а мой брат даже батраком был. Да и я сама разве по доброй воле попала в семью помещика? Меня, ведь, продали. Мой отец, задолжав Тану Загребале, не мог с ним расплатиться и, чтобы разделаться с этим долгом, выдал меня замуж за его племянника. Посуди сам: в чем моя вина…
— Кому это ты голову морочишь? — опять прервал ее Хоу, но уже не так сердито. — Кто не знает, что семья Фу — твоя родня по матери — кулаки, да и фамилия у вас кулацкая[27].
— Ну и что ж из того, что кулацкая? — уже совсем расхрабрившись, рассмеялась женщина. — Стану твоей женой, вот и фамилия будет бедняцкая.
— Хватит тебе болтать! — с сердцем крикнул Хоу, но, устыдившись грубости, как бы извиняясь, добавил:
— Сама погляди, время позднее…
— Я боюсь… — рассмеялась она.
— Чего ты боишься?
— Как чего? Волков.
— Да на дворе ясная лунная ночь. Что еще придумала?
Тогда из смеющихся глаз Ли Лань-ин вдруг полились слезы:
— Не гони меня. Что хочешь со мной делай. Если не разрешаешь спать на кане, я на полу прилягу…
Хоу долго молчал, сердце его все больше наполнялось жалостью. Как выгнать человека на улицу в такой холод? И в конце концов жалость взяла верх. Хоу взглянул на поношенный халат Ли Лань-ин, виноватую улыбку, проглядывающую сквозь слезы, вспомнил старую пословицу: «Хороший мужчина не спорит с женщиной, поднятая рука никогда не падает на улыбающееся лицо», вздохнул и примирительно проговорил:
— Ты все про свое… Что ж с тобой поделаешь?
Женщина обрадовалась:
— И ничего тут такого нет. Кан широкий. Ты спи на одном конце, я лягу на другой. Когда рассветет, я уйду и не стану тебе мешать.
Но она не ушла ни на рассвете, ни после заката. Вскоре это стало известно всей деревне, и для Хоу Длинные Ноги наступили трудные времена.
Некоторые активисты требовали не пускать Хоу больше в крестьянский союз, утверждая, что этот длинноногий в десять раз хуже Братишки Яна. Поэтому едва на собрании упомянули имя Хоу, все зашевелились и разом напали на него. Его засыпали вопросами и подняли такой шум, что члены президиума долго не могли водворить порядок.
Говорили все сразу, и совершенно невозможно было разобрать, кто чего требовал.
— Хоу Длинные Ноги, ты кто же теперь есть: бедняк или помещик?
Не успевал Хоу ответить на этот вопрос, как сзади кричали:
— Ты, должно быть, бедняк с сердцем помещика?
Хоу поворачивал голову и только открывал рот, чтобы ответить, как сыпались уже новые вопросы.
«Бедняк с сердцем помещика» совсем растерялся.
— Кто для тебя враг, а кто — свой? Неужели ты до сих пор этого не понимаешь? — спросил наконец подошедший Чжан Цзин-жуй. — Как мы можем позволить тебе бывать теперь на наших собраниях? Ты же можешь ей все рассказать, что мы здесь решаем! Только подумай: беря себе в дом жену из помещичьей семьи, разве ты не становишься нашим врагом?
— Ты же волчицу приютил у себя! — крикнул старик Чу. — Если у тебя теперь сын родится, то обязательно волчонком будет!
Старик Сунь тоже не преминул вставить слово. Прищурив левый глаз, он укоризненно заметил:
— Что же это ты, парень? Столько лет жил один и жениться не торопился, а тут и двух дней не подождал?
Так как Хоу не боялся возчика, он позволил себе возразить:
— Она сама ко мне пришла.
— Сама пришла! — передразнил возчик. — А ровня ли она тебе, спрашивается? Вот родится у вас ребенок, кем считать его: батраком, бедняком или помещиком? Вот, скажем, вырастет он, а мать возьмет, да и запретит ему бороться с помещиками, что ты тогда станешь делать, а?
— Не в ребенке дело! — оборвал возчика Чжан Цзин-жуй. — Не о том толкуешь, старина. Когда ребенок вырастет, помещиков уж и в помине не будет.
— Помещиков не будет, так все равно американские и чанкайшистские реакционеры останутся, — уперся возчик.
— Не останутся! — обозлился старик Чу. — Какие такие американцы и чанкайшистские реакционеры! Не может их быть у нас.
— Все равно так не годится. Понял? — снова взялся за Хоу возчик. — У тебя с ней никогда не может быть ладу. Ты захочешь кислого, а она будет просить горького. Ты скажешь, что кан горячий, она станет спорить: нет, холодный. Ты захочешь поехать на телеге, а она — в лодке. Как же вы сможете жить вместе? Окажись я на твоем месте, ни за что бы не пустил такую в дом.
— Чего ты прикидываешься, старина Сунь? — усмехнулся Чжан Цзин-жуй. — Не будь у тебя твоей старухи, ты бы первый взял себе такую.
— Так вот что, Хоу, если хочешь быть на хорошем счету, скорее выгони ее вон, не то мы разделаемся с тобой, как с помещиком, — пригрозил старик Чу.
— Да послушайте же меня, братья-бедняки! — взмолился наконец Хоу, прижав к груди руки. — Повторяю: не брал я ее. Сама… сама пришла! Варит мне кашу, свинью кормит и с утра до ночи работает. Только потому и оставил ее у себя… Ведь работает же она на меня, работает…
— Ты про это брось! — не сдавался старик Чу. — Какой нам интерес знать, чем она тебе угодила. Мы тебя спрашиваем: выгонишь ты ее или нет?
— Дайте же ему все сказать, — поднялся Сяо Сян. — Продолжай, старина Хоу.
— Да видишь ли, начальник… Ведь мне уже сорок шесть лет…
— А чего тебе надо? — опять перебил возчик. — Ты человек еще молодой. Вот погляди на меня: мне шестьдесят один год, а в следующем году шестьдесят два будет, а работаю я, как…
— Постой, — сказал начальник бригады. — Не перебивай. Пусть старина Хоу говорит.
Батрак вздохнул, поднял голову и обвел присутствующих долгим взглядом, полным тоски и обиды:
— Двадцать шесть лет работал я в батраках. Горб на спину заработал, а жены — нет. Когда отец и мать были живы, каждый год меня сватали, но так и не смогли женить. Батрак ни на еду, ни на одежу заработать не в состоянии, кто же отдаст свою дочь за такого? Так я и остался холостяком. Помню, как-то раз сосватали за меня дочь бедняка Чжана. «Что ж, — сказал Чжан, — парень он хороший, здоровый, ростом вышел, сердце доброе, работящий и мастер на все руки. Правда, маленько бедный, но дочь за него отдать можно: большого мучения ей с ним не будет. Пусть его родители купят моей дочке сорок чи холста, чтобы пошить одежу. Мы — бедняки, и других подарков не просим».
Мой отец, конечно, так был доволен, что прямо подпрыгнул от радости и побежал к Добряку Ду занять денег под проценты. Но как ни просил, так ничего и не добился. Добряк Ду посмотрел на него с улыбочкой: «Извини уж. Соседу, конечно, для такого хорошего дела я бы рад помочь, да в нынешнем году уж очень мне самому трудно. Урожай плохой, а расходы большие. Не то что на сорок чи, на один чи денег тебе не наскребу». Отец мой сразу не отступился, стал снова просить. «Помилуй, — говорит, — для вашей семьи такие деньги, что одно зернышко из амбара, а для моего сына — это счастье на всю жизнь». Ну, просил, просил, а Добряк Ду так-таки и не дал. Свадьба и расстроилась. Родители девушки, конечно, тоже были правы. Больших денег не требовали, но пошить одежу для дочки надо было. Чжан так и сказал: «Не можем же мы отпустить дочку в чужой дом с пустыми руками». Вот, братья и сестры, в старое время бедному человеку так же трудно было жениться, как схватить руками гуся, летящего в поднебесье, или поймать рыбу, ушедшую в глубину. Бедняки не могли выдать свою дочь за бедняка…
Хоу остановился и вытер набежавшие слезы. Среди женщин кто-то всхлипнул. Это была Лю Гуй-лань, вспомнившая, как отец продал ее за долги в семью Сяо Ду. Сидящая рядом вдова Чжао тоже украдкой всплакнула.
— Да разве горе бедного холостяка все перескажешь?.. Одежда порвалась — сам починяй. Весной босиком ходи — кто тебе туфли сошьет?..
— Это уж точно, сосед, это истинная правда… — со вздохом поддержал Хоу один из холостяков. — Жизнь наша известная. Один и есть один. Вернулся с поля, как ни устал, апечь топи и обед готовь, а не то будешь есть холодную кашу, спать на нетопленном кане, и некому даже пожалеть тебя…
— Вот-вот, правильно! — оживился Хоу. — Да я уж со всем смирился. Что же поделаешь, коли мне холостяцкая судьба выпала? На все воля неба. И порешил я так: пусть останусь бездетным человеком, пусть после моей смерти некому будет принести жертву на мою могилу, пусть и мои досточтимые предки не пеняют за то на меня…[28]
— Чего ты понес, феодальная твоя башка! — оборвал его Чжан Цзин-жуй. — Какие там еще жертвы? Умер — и всему конец!
— Сейчас, правда, все у нас переменилось, — продолжал Хоу, будто не расслышав. — Сейчас земля есть, на еду хватает и можно даже подарки невесте послать… Только уж поздно: и годы ушли, да и виски побелели.
Он сорвал с головы рваную шапку из собачьего меха, пригладил пальцами седину на висках и, снова нахлобучив шапку, продолжал:
— Куда тут жениться? Да и на ком? В бедняцких семьях дочерей мало. А если бы и согласилась какая девушка пойти за меня, сам бы теперь не взял. Я уже одной ногой в могиле стою, разве допущу, чтоб девушка потом полжизни вдовой прожила… Одним словом, не хотел я жениться, а тут пришла ко мне эта женщина и осталась. Я ее гнал, а она взяла да легла спать. Что ж я мог с ней поделать? Теперь, когда вы мне это все разъяснили, я очень каюсь, конечно. Действительно, мы все ведем борьбу с помещиками, а я женился на помещичьей вдове. Конечно, я теперь прошу у вас прощения, однако что тут ни говори, а каша-то сварена. Прогнать ее? Прогнать не долго, а куда? Она, бедняжка, последнее время болеет… Вот и научите, как мне быть?
Никто не ответил Хоу на его вопрос. В комнате стало совсем тихо.
Сяо Сян подошел к столу, вполголоса посовещался с членами президиума и, выпрямившись во весь рост, шумно втянул в себя прогорклый от дыма воздух. Люди повскакивали с мест, окружили его. Все, в особенности женщины, ждали, что он скажет:
Начальник бригады улыбнулся Хоу и сказал:
— Действительно, что же теперь поделаешь?.. Уж раз так вышло, не гнать же на улицу… Гнать, конечно, нельзя…
У всех сразу отлегло от сердца. Женщины облегченно засмеялись, а мужчины подняли шум.
— Ладно, пусть уж так и будет, — примирительно говорили многие.
— Сразу в беднячку превратилась, — замечали недовольные.
— У наших братьев-бедняков сердца мягкие. Но бояться-то ведь нечего: никакой контрреволюции тут не будет.
— Да что и говорить! Наш брат из Восьмой армии — хороший человек, — добродушно ухмыльнулся возчик.
Сяо Сян серьезно ответил:
— Мы всегда снисходительно относились к тем, кто складывает оружие и не вредит народу. — Он обернулся к Хоу — Смотри же, старина, будь осторожнее и никогда не говори ей того, чего нельзя.
— Лучше всего, если хочешь быть нам полезен, никогда не говори с ней о делах крестьянского союза, — посоветовал Чжан Цзин-жуй.
— Конечно! Конечно! Неужели стану говорить? Что я тогда за человек буду? — замотал головой Хоу.
— Ладно, — сказал в заключение начальник бригады. — На этом покончим. Обрати серьезное внимание на ее настроение. На чьей она стороне: бедняков или помещиков. Нельзя доверять всему, что она говорит. Надо проверить, выяснить, действительно ли она любит работать или работает только в угоду тебе. Труд может изменить человека. Если она честно проработает три года, к ней не будут больше относиться, как к женщине из помещичьей семьи. Только не плетись у нее в хвосте. Нужно, чтобы она шла за тобой.
Все согласились с тем, что предложил Сяо Сян: не прогонять, а перевоспитать Ли Лань-ин.
После этого Хоу записали в один из последних разрядов. Ли Лань-ин тоже был выделен участок земли, но из имущества она ничего не получила.
Когда собрание кончилось, Хоу Длинные Ноги пригласил начальника бригады к себе. Сяо Сян охотно согласился: ему хотелось собственными глазами посмотреть, что за женщина жена Хоу.
Подходя к лачуге, он увидел Ли Лань-ин, которая, засучив рукава черного стеганого халата, кормила свинью. Женщина вскинула на гостя взгляд и снова низко склонила голову над корытом.
Комната была чисто прибрана. На кане, с краю, лежали аккуратно свернутые одеяла, а около них — тщательно починенная куртка Хоу. На окнах были наклеены искусно вырезанные красные цветы. Сяо Сян присел. Пришедшая за спичками Ли Лань-ин с тревогой взглянула на гостя, но, увидев его добродушную улыбку, успокоилась.
— Так вот, — обратился начальник бригады к Хоу, когда Ли Лань-ин вышла, — вывозить удобрение после праздников еще рановато, и твоей жене можно будет заняться каким-нибудь подсобным ремеслом. Что она умеет делать?
Ли Лань-ин, внимательно слушавшая разговор, стоя на кухне, вмешаться не посмела. За нее ответил Хоу:
— Может делать шляпы из камыша. Как только снег немного стает, я нарежу камыша и она примется за дело.
Когда они вышли во двор, начальник бригады сказал:
— Только бы она трудилась, тогда все будет хорошо. Но все-таки тебе следует быть осторожным. Может случиться, что после того, как этот ураган пронесется, она не захочет ни работать, ни жить с тобой. Женщины из помещичьих семей привыкли к праздной жизни.
— Этого она не посмеет, — уверенно заявил Хоу. — Перестанет слушаться — выдеру как следует, а если и это не поможет, выгоню совсем.
Сяо Сян засмеялся:
— Бить нельзя. Нужно убедить, перевоспитать… — И, помолчав, он добавил: — Ну вот, старина Хоу, ты наконец и женился, да и жизнь у тебя много лучше стала. Только не забывай о том, кому мы обязаны.
— Конечно, конечно! — заверил Хоу. — Я от всего сердца благодарю нашу коммунистическую партию. Если бы коммунистическая партия и председатель Мао не провели земельной реформы, я бы так и батрачил до гробовой доски и не заработал бы себе ни грядки земли, ни своего жилья, не говоря уже о жене. Не беспокойся, начальник Сяо. Я не Хуа Юн-си и никогда не забуду о том, кто дал нам новую жизнь.
Услышав эту фамилию, Сяо Сян вспомнил о Хуа Юн-си: «надо бы его проведать», и, распрощавшись с Хоу Длинные Ноги, направился к дому стрелка Хуа.
XX
Было туманно и безветренно; пушистый иней спокойно лежал на ветвях тополей, ивовых изгородях и плетнях из толстой гаоляновой соломы.
Когда начальник бригады, открыв калитку, вошел во двор Хуа Юн-си, две белые гусыни испуганно бросились прочь, а гусак, вытянув длинную шею, угрожающе загоготал и вразвалку, словно важная персона, с достоинством отошел в сторону, показывая всем своим видом, что готов вступить в бой с каждым, кто посмеет к нему приблизиться.
Двор был чисто выметен. За углом дома, вровень с крышей, возвышалась поленница. Посреди двора стояли большие сани, а около корыта ворочалась свинья с пятью поросятами. Бесхвостый петух, взлетев на стог соломы, воинственно прокричал и тут же скатился вниз.
Сяо Сян вошел в комнату. Вдова Чжан стояла возле печи. Клубы пара, похожие на белый дым, вырывались из-под крышки котла и заволакивали всю кухню. Хозяйка небрежно кивнула вошедшему, взяла ковш и отправилась за водой.
Хуа Юн-си вышел навстречу гостю и пригласил его на кан. Он стал совсем неразговорчивым и только глуповато улыбался, попыхивая трубкой.
В новом переделе земли Хуа Юн-си совсем не принимал участия. Люди ходили на собрания, обмеряли землю, а он, съездив на своей корове за дровами, сиднем сидел дома. Когда же за ним заходили и звали на собрание, он намеренно начинал ругаться с женой, показывая, что ему сейчас недосуг.
Как-то раз Чжан Цзин-жуй, встретив его на улице, спросил:
— Почему не ходишь на собрания?
— Ах… — вздохнул в ответ Хуа Юн-си. — Что вы, на самом деле? Разве можно все важные дела сваливать на нескольких человек? Пусть другие пока поработают. Мне, брат, не разорваться… — и со смущенной улыбкой пошел дальше.
Накануне Нового года при разделе мяса и пшеницы люди, вспомнив о его заслугах в боях с бандой Ханя-седьмого, выделили ему столько же, сколько и другим беднякам. Хуа Юн-си стало совестно. Он решил отказаться от своей доли и на вопрос жены, почему он не идет за продуктами, заявил:
— Если награда получена незаслуженно, она горька. Да нам с тобой и своей муки хватит.
— Но ведь так положено, — с недоумением возразила жена. — Отчего же не пойти и не получить? Я думаю, во всей деревне ты один такой дурак…
И не добавив больше ни слова, она взяла корзинку, отправилась в крестьянский союз и получила все сполна.
Хотя стрелок Хуа почти ни в чем не перечил жене, их мнения все же во многом расходились. Он, например, точно отличал свое от чужого. Она же имела другое понятие, считая: мое — это только мое, но и в чужом тоже есть моя доля.
Подчинившись сильному и решительному характеру жены, стрелок Хуа в конце концов стал послушно выполнять ее требования.
Однажды Го Цюань-хай заметил по этому поводу следующее:
— Наш старина Хуа сделался совсем ничтожным человечком. Он до того дошел, что и на мужчину перестал походить.
По характеру своему вдова Чжан совсем не походила на жену Хоу Длинные Ноги. Ли Лань-ин была робкой и уступчивой и делала все, что говорил ей муж. Работая с утра до ночи, она знала лишь свое хозяйство и в мужнины дела никогда не вмешивалась. Поэтому Хоу был в своем доме полным хозяином.
Вдова Чжан, напротив, была женщиной смелой, напористой и острой на язык. Переспорить ее Хуа Юн-си не мог и всякий раз, как только между ними возникали ссоры, терпел поражение. Она не позволяла ему уходить из дому и встречаться с людьми даже тогда, когда у него не было дел по хозяйству, и какие бы важные события ни происходили в деревне, супруги Хуа не интересовались ими.
Правда, в начале семейной жизни Хуа Юн-си пытался проявлять самостоятельность и ежедневно ходил в крестьянский союз, мало думая о домашних делах. И как только у жены не оказывалось сухих дров, а сырые дрова дымили, она, едва муж переступал вечером порог дома, накидывалась на него с бранью:
— Тебе кто больше нужен? Семья или крестьянский союз? Если крестьянский союз — пусть он кормит и тебя и твою семью. Другие женщины выходят замуж, чтобы мужчина кормил, одевал и заботился о них, а я, горемычная, вышла за тебя, чтобы ты шлялся где-то да ничего не делал для семьи! Придется мне, видно, найти любовника, который бы содержал и меня и тебя.
Это уж было слишком. Хуа Юн-си выходил из себя и отвечал бранью. Жена всплескивала руками, плакала и начинала собирать свои вещи. Хуа Юн-си, боясь, что она уйдет и оставит его в одиночестве, просил прощения. После долгих уговоров и раскаяния мужа она наконец соглашалась остаться и, всхлипывая, развязывала собранный узел, укоряя Хуа Юн-си в жестокости и коварстве.
Вечером, желая потуже натянуть узду, она делалась совсем нежной и приторно сладким голосом ворковала:
— Ты подумай только: кто же живет не работая? Неужели тебе еще не надоело бездельничать и бегать в этот крестьянский союз? Ты такой хороший человек, а работать не хочешь! Неужели у тебя хватит жестокости забросить дом и бедную семью? Ведь даже такой человек, как Конфуций, и тот всегда заботился о своей семье.
Хуа Юн-си начинало казаться, что жена совершенно права, а он действительно бездельник и негодяй, и, махнув рукой на крестьянский союз, он со рвением принимался за работу по дому. Активисты на все лады осуждали Хуа Юн-си. Один Сяо Сян никогда не отзывался о нем дурно. Он знал, что дело это вполне поправимо: нужно только пробудить человека ото сна, разжечь в нем угасшие силы. Именно за этим и пришел сегодня Сяо Сян к стрелку Хуа.
Они говорили долго. Начальник бригады был очень терпелив. Он заставил Хуа Юн-си вспомнить прошлое и убедил его, что прежние заслуги обязывают вернуться к той работе, которую он вел в деревне, что долг каждого человека трудиться на благо нового общества и что в этом труде — смысл жизни.
Хуа Юн-си внимательно слушал и не обращал ни малейшего внимания на жену, которая угрожающе хмурила брови, делая ему предостерегающие знаки.
Когда Сяо Сян кончил, Хуа Юн-си, опустив в раздумье голову, сказал:
— Ладно, начальник! Завтра же приду в крестьянский союз. Там и потолкуем обо всем.
Сяо Сян ушел довольный. Он вернул стрелка Хуа крестьянскому союзу. Теперь предстояло вернуть его партийной организации. Но с этим нельзя было спешить: нужно присмотреться к человеку, проверить его на работе…
XXI
Вернувшись к себе, в крестьянский союз, Сяо Сян присел к столу и принялся за письмо к заведующему орготделом уездного комитета партии.
«…Можно сколько угодно собрать сведений по интересующему тебя вопросу, — писал он, — но пока сам не расследуешь, до тех пор не поймешь его окончательно. Лишь после того как я сам побывал сегодня у Хуа Юн-си и побеседовал с ним, мне многое стало ясным. Семья, связывающая активиста по рукам и не дающая ему возможности развернуться, — явление довольно частое. Подобные случаи мне приходилось наблюдать и в деревне Саньцзя…»
Едва он успел закончить фразу, как в комнату вихрем влетела радостно возбужденная Лю Гуй-лань. Она была одета в зимний стеганый халат, на ногах соломенные туфли. Лю Гуй-лань отличалась от других деревенских девушек прежде всего тем, что одежда ее была хотя и проста, но аккуратно сшита и тщательно заштопана.
Быстро собрав исписанные листки, начальник бригады приветливо улыбнулся:
— Чему это ты так радуешься? Уж не самородок ли нашла?
Лицо Лю Гуй-лань раскраснелось от мороза, а грудь высоко вздымалась. Силясь сдержать душивший ее смех, она крепко зажала рот ладонью.
— Видно, и в самом деле что-то нашла, — рассмеялся Сяо Сян. — Ну, показывай.
— Да нет, ничего не нашла, начальник, ничего!.. — не выдержав, прыснула Лю Гуй-лань.
— Так чему же ты радуешься?
Она открыла было рот, но вдруг застыдилась и потупилась.
Начальник бригады внимательно посмотрел на девушку, желая понять, что ей от него надо, и спросил:
— Так в чем же дело?
— Надо кое о чем тебя спросить, — робко сказала Лю Гуй-лань и опять остановилась.
— О чем же?
Девушка подняла на него лукаво смеющиеся глаза и, тряхнув головой, откинула назад упавшие на лоб пряди:
— Тут одна женщина из нашего кружка просила узнать у тебя…
— Говори, я слушаю.
— …можно ли… значит…
— Да что можно?
— Ну, словом, можно ли ей развестись?..
Сяо Сян тотчас сделал озабоченное лицо. Лю Гуй-лань подождала, но так как он все еще продолжал молчать, спросила:
— Ну, ответь, можно или нельзя?
— Как тебе сказать… — заговорил начальник бригады, с трудом сохраняя серьезный вид. — Это, видишь ли, смотря по тому, кто и с кем разводится. Если, например, воспитанница из чьей-нибудь семьи пожелает развестись… — он помедлил, — …то ничего из этого не выйдет. Такой развод не разрешается.
Озадаченная Лю Гуй-лань опустилась на кан, и вся ее веселость мигом исчезла:
— Это почему же не разрешается?.. Значит… значит… вы обижаете девушек!..
— Почему? Мы никого не обижаем. Это девушка обижает свою будущую свекровь. Та ее кормит, одевает, заботится, а неблагодарная девушка…
— Я разве даром их кашу ела? — запальчиво перебила Лю Гуй-лань. — С одиннадцати лет работала на них и дома, и в поле. Мальчишке всего десять лет… старик — негодяй, а эта свекровь… Попробуй тронь ее только!.. Однажды кто-то слегка подстриг хвост ее рыжему коню, так она весь день ругалась. После этого соседи и те стали бояться заходить к ней в дом. Разве можно жить в такой семье? Лучше в колодец броситься. Ты, начальник Сяо, не знаешь, какая это семья, а говоришь! Сколько я хлебнула там горя за эти годы! Холодную кашу и ту не всегда ела, а горячую разве только по праздникам давали. Хорошей одежды никогда не носила. Как-то раз эта свекровь так ударила меня мотыгой, что я… Да что там говорить!.. Для чего же тогда люди переворот делали, раз все равно нельзя изменить свою несчастную жизнь? Остается мне, видно, только умереть. Конечно, кому какое дело до таких, как я! Умерла и все…
Из глаз ее брызнули слезы. Она вскочила и, закрыв лицо рукавом, кинулась к двери. Сяо Сян удержал ее и усадил на кан:
— Я же пошутил, глупенькая! Неужели ты могла подумать, что это правда? При демократической власти никто не может выдать девушку против воли или заставить ее жить с нелюбимым человеком. Сходи к оспопрививателю, пусть составит тебе заявление и пошлет его начальнику района. Тогда тебя и твою свекровь вызовут и расследуют дело. Если правда на твоей стороне, все будет в порядке.
Лю Гуй-лань взглянула на него с благодарной, счастливой улыбкой.
— Ну так… а теперь признайся мне, кого же ты любишь? — улыбнулся начальник бригады.
Девушка низко опустила голову и чуть слышно отозвалась:
— Этого нельзя сказать…
— Как так нельзя сказать? Тогда дело может осложниться, — снова сделал озабоченное лицо Сяо Сян.
— Неужели осложнится? — с тревогой спросила Лю Гуй-лань.
— А как же, обязательно осложнится.
— А если я тебе скажу, ты никому не расскажешь?
— Конечно. И предупреждать нечего.
Лю Гуй-лань вся вспыхнула:
— Сама я, видишь, неграмотная, и он мне под пару — тоже неграмотный…
— Это уж не старик ли Сунь? Он как раз ни одного иероглифа не знает. Не задумала ли ты развести его со старухой? — рассмеялся начальник бригады.
Девушка обиделась, рванулась с кана, но Сяо Сян опять усадил ее:
— Не спеши! Я хочу поговорить с тобой серьезно. Хороший ли он работник, тот, кого ты любишь? Каково его происхождение и что за человек? Если все как следует быть — найдем сваху и сразу же договоримся. Если нет — тогда и затевать не стоит.
Лю Гуй-лань покраснела до кончиков ушей и отвела глаза в сторону:
— Хорошо… скажу. Так вот слушай: он батрак. Если бы плохо работал, люди бы не выбрали его. А что за человек?.. — она весело рассмеялась и добавила: — Это вся деревня знает, что за человек… Для меня же он всем хорош… Мы с ним никогда не обидим друг друга, а больше ничего и не надо.
— Да кто же это такой? — притворно нахмурился Сяо Сян. — О ком ты говоришь?
— Да что с тобой, начальник? — с недоумением посмотрела на Сяо Сяна Лю Гуй-лань. — Лишнего хватил, что ли?
Сяо Сян был сегодня в отличном настроении. Ему хотелось шутить и дурачиться, и его очень забавляло смущение Лю Гуй-лань:
— Нет, совсем трезвый. Скажу тебе по правде: у твоего милого уже давно есть возлюбленная.
Лю Гуй-лань остолбенела:
— Есть возлюбленная?.. Кто же это такая? Из какой деревни? Скажи!..
— Нет, ты сперва скажи, кто он. Может быть, я еще и ошибаюсь.
— Не шути, начальник. Ты мне должен рассказать, в кого он влюбился…
Сяо Сян так и покатывался со смеху:
— Ты очень забавная девушка! Откуда же мне знать?
Раздался телефонный звонок. Сяо Сян подошел и снял трубку:
— Слушаю… да-да! Кто тебе звонил? Кто? Го Цюань-хай?
Щеки Лю Гуй-лань запылали огнем. Она придвинулась к Сяо Сяну и уставилась ему в рот.
На лице начальника бригады выразилось недоумение:
— Не разрешают? Позвольте, что не разрешают?.. Значит, работникам крестьянского союза производить аресты в городе не разрешается. Чтобы избежать недоразумений? Так, так… Что? Не понимаю. Громче! Не слышу!.. Сейчас! — Он встряхнул трубку. — Да, лучше… Понятно, понятно. Значит из милиции выдали документ и приказ… Погоди! Ты сам позвони в милицию и скажи, что нам во что бы то ни стало необходимо доставить этого человека сюда. Он в деревне Юаньмаотунь таких дел натворил, что мы тут никак не разберемся. Да и население должно собственными глазами видеть, как его будут судить. Договорись так: пусть они там дадут своих людей в помощь Го Цюань-хаю, арестуют этого разведчика сами и пришлют к нам на допрос, а для окончательного решения мы отправим его обратно. Позвони начальнику Чэну и передай мое мнение. Подожди еще! — Сяо Сян ухмыльнулся. — Вот какое дело: когда увидишь Го Цюань-хая, скажи ему, чтоб он скорее домой возвращался! Его здесь ждет приятное известие… Что говоришь? О… очень, очень приятное известие.
Сяо Сян повесил трубку и подмигнул Лю Гуй-лань.
— Так ты все-таки скажи: кого же, кого он любит? — допытывалась девушка.
Сяо Сян подошел к столу, сел и сделал вид, что задумался:
— Как тебе сказать?.. Любит он некую круглолицую девушку…
— Какую девушку?
— Ну, словом, девушку, которая известна в деревне Юаньмаотунь как воспитанница одной семьи. Фамилия этой симпатичной девушки — Лю, а имя — Гуй-лань…
— Лю Гуй-лань! Лю Гуй-лань!.. — крикнула со двора Дасаоцза.
Лю Гуй-лань поспешила на зов.
— Так вот ты, оказывается, где! — накинулась на нее Дасаоцза. — Я тебя повсюду ищу. Люди ждут нас, собрание пора начинать, а ты здесь!
— Не брани, не брани ее! — крикнул начальник бригады. — Мы с ней тут о жизни беседовали.
Дасаоцза, смеясь, вошла в комнату:
— О председателе Го, что ли? Ты, видно, сватом у них хочешь заделаться?
— Ну, это занятие более подходящее для старика Суня, — рассмеялся, в свою очередь, начальник бригады. — А как ты находишь, Дасаоцза, пара они или нет?
— А чем же не пара! Лучшей пары не сыщешь. Ну и повеселимся же мы на их свадьбе! — улыбнулась Дасаоцза и подмигнула Лю Гуй-лэнь.
Схватив друг друга за руки, они выбежали из комнаты и понеслись по двору, спугнув стадо гусей.
Издали доносился радостный смех молодежи.
XXII
После показаний старухи Ван начальник бригады установил, что Хань Лао-у, родной брат казненного по приговору народа помещика Хань Лао-лю, служивший во времена Маньчжоу-го в японской разведке, скрывается в настоящее время в одной из горных деревень уезда Юйшу.
Когда Го Цюань-хай и Бай Юй-шань прибыли в главный город провинции, они узнали о новом постановлении, которое запрещало крестьянам арестовывать людей не их уезда или проживающих в городе. Но Сяо Сян в своем письме и в разговоре по телефону категорически настаивал, чтобы командированным все же разрешили произвести арест по тем соображениям, что преступник должен быть судим в деревне Юаньмаотунь. Поэтому после соответствующего согласования Го Цюань-хая и Бай Юй-шаня пропустили в уезд Юйшу и дали им в помощь трех вооруженных милиционеров.
Так как в провинциальном центре произошла непредвиденная задержка, Го Цюань-хай уже начал тревожиться, как бы кто не предупредил Хань Лао-у о готовящемся аресте и не помог ему бежать. Не спокоен он был и за конфискованное имущество. Вдруг помещики, воспользовавшись его отсутствием, сожгут добро. Что тогда делать? Эти заботы совсем лишили парня сна и аппетита. Бай Юй-шань, напротив, был совершенно спокоен. Он с охотой ел и отлично спал.
Из провинциального центра друзья поездом добрались до уездного города, получили документы и, не теряя ни минуты, пешком двинулись в деревню. Деревня Каошаньтунь находилась в тридцати ли от города, и они достигли ее только в полночь.
Го Цюань-хай направил Бай Юй-шаня в местный крестьянский союз предупредить там о предстоящем деле, а сам с тремя вооруженными милиционерами поспешил к дому, в котором, как ему было известно, скрывается Хань Лао-у. Знал он и о том, что этот бывший японский разведчик — отличный стрелок, стреляет левой рукой так же хорошо, как и правой, и может их встретить огнем из двух маузеров.
Го Цюань-хай велел полицейским примкнуть штыки и зарядить винтовки. Он проверил свои карманы: все ли с ним, что нужно.
Дом стоял в уединенном месте, у подножья горы, фасад его был обращен на юг, а своей северной стекой он примыкал к горе, поросшей густым лесом.
Перед домом была открытая площадка. Ближайшие строения находились на расстоянии пятидесяти-шестидесяти шагов, и подойти к дому незамеченными было весьма нелегкой задачей.
При тусклом свете звезд смельчаки обогнули дом стороной и, не дойдя нескольких шагов, остановились и стали тихо совещаться. Крыша дома и стога сена были запорошены снегом. Кругом стояла морозная тишина.
Оставив одного милиционера позади дома, Го Цюань-хай с двумя другими направился к двери. Едва они приблизились к стогу сена, как во дворе поднялся лай. Тотчас же откликнулись собаки из ближайших дворов. Опасаясь, что предупрежденный лаем Хань Лао-у успеет подготовиться к сопротивлению или попытается бежать, Го Цюань-хай бросился вперед и сдавленным голосом приказал:
— За мной! Живей!
Он первым подскочил к калитке, сплетенной из ивовых прутьев, но она оказалась запертой. Собаки заливались. В доме началось какое-то движение. Го Цюань-хай выломил калитку прикладом, и все трое проникли во двор.
— Оставайтесь здесь! — распорядился Го Цюань-хай. — Я пойду сам. Если убьет, так одного меня.
Он подбежал к двери дома и изо всех сил ударил по ней прикладом. Дверь распахнулась. В кухне было темно. Из комнаты донесся шорох: кто-то вскочил с кана и зашлепал босыми ногами по полу. С винтовкой наперевес, открыв дверь ногой, Го Цюань-хай вошел в темную комнату. На кане кто-то шевелился, фигуры были отчетливо видны на фоне окна. Щелкнув затвором, Го Цюань-хай скомандовал:
— Ни с места!
Он сунул винтовку под левую руку, а правой извлек из кармана лучину и спички. Он уже хотел было чиркнуть спичкой, но вовремя сообразил, что его могут пристрелить, и приказал зажечь лампу.
— Спичек нет… — ответил из темноты женский голос.
Го Цюань-хай кинул туда коробку спичек. Кто-то подполз к краю кана, пошарил и зажег масляную лампу.
Мутный свет разлился по полу. На стенах и потолке зашевелились черные тени. На южном кане спиной к окну, вытянув ноги под одеялом, сидели две женщины, старая и молодая, мальчик и девочка лет семи-восьми.
Они не были испуганы, как будто давно ждали этого посещения и заранее приготовились к нему. Все молчали, опустив головы, и только девочка, как притаившийся в засаде зверек, неотступно следила за каждым движением вошедшего.
Го Цюань-хай, не опуская винтовки, приблизился к южному кану: мужчины там не было. Он обернулся: на северном кане лежала гора кукурузы. Го Цюань-хай быстро раскидал кукурузу штыком, под ней никого не оказалось. Он поднял крышку сундука. Сундук был туго набит одеждой и ватой. Здесь тоже никто не мог спрятаться.
Обыскав всю комнату, Го Цюань-хай подошел к окну и крикнул:
— Эй! Хань Лао-у убежал!
Милиционеры вошли в дом. Следом за ними появились Бай Юй-шань и председатель крестьянского союза с несколькими бойцами местного отряда самообороны.
В этот момент за картонным потолком что-то зашуршало и посыпалась пыль. Го Цюань-хай поднял голову и увидел в потолке дыру, в которой торчали голые пятки.
— Слезай! — приказал Го Цюань-хай, наведя на люк винтовку. — Слезай! — повторил он. — Стрелять буду!
Из дыры высунулись ноги. Человек медленно спустился на сундук. У него была толстая бычья шея и большая облысевшая голова. Лицом он походил на Хань Лао-лю.
Он был в одних штанах и летней рубахе, и его знобило от холода.
Прошло уже свыше года, как он устроился в этой гостеприимной деревеньке и жил спокойной, сытой жизнью. Ему удалось даже пробраться в местный крестьянский союз и заделаться в нем писарем. Он успел обзавестись здесь многочисленными друзьями, так как слыл человеком обходительным. Приехав в деревню и купив этот дом, Хань Лао-у прорыл вокруг канавы, чтобы при надобности использовать их в целях самообороны. Но никто на него не нападал, никто не тревожил. Совсем успокоившись, он закопал в лесу привезенные с собой маузеры и решил прожить здесь еще зиму. Весной, когда зазеленеет лес, легче будет решить, что делать дальше. Но зеленого леса увидеть ему так и не пришлось!..
Бай Юй-шань, сняв с пояса веревку, усмехнулся:
— Уж не взыщите, придется побеспокоить.
Хань Лао-у подтянул штаны и, тоже усмехнувшись, хрипло ответил:
— Чего там. Вяжи.
Он сам сложил сзади руки и повернулся спиной к Бай Юй-шаню.
Вдруг девочка, не спускавшая глаз с Бай Юй-шаня, кошкой спрыгнула с кана и вцепилась зубами ему в руку. Тот оттолкнул ее. Она упала на кан, но тотчас вскочила и без единого звука вновь кинулась на него. Мать, поймав ее за подол, стала оттаскивать. Девочка все так же молча рвалась из ее рук и только скрежетала зубами. Глаза ее сверкали, как раскаленные угольки.
Бай Юй-шань зажал кровоточащую рану и вполголоса выругался:
— Такая маленькая, а уже настоящая бандитка!
Го Цюань-хай с улыбкой подошел к растерянно стоящему посреди комнаты председателю крестьянского союза и проговорил:
— Уж простите, что сразу не зашел познакомиться. Спешил захватить его врасплох. Боялись, как бы он не сбежал.
— Ну, что поделаешь… — пробормотал председатель Чжан.
Он был совсем подавлен. Как теперь ему быть, как оправдаться перед районом? Ведь в его деревне обнаружен крупный бандит, который не только укрылся здесь от правосудия, но и пролез в крестьянский союз.
Когда все вышли из дому, председатель, как бы рассуждая сам с собой, сказал:
— Да… по правде говоря, он давно казался мне подозрительным. Главное, что никто не знал, откуда он пришел и кто таков… Было так много хлопот, что я действительно не имел времени проверить. Спасибо, что вы приехали и покончили за нас с негодяем. Зайдите пока в крестьянский союз погреться, а я дам распоряжение запрячь лошадей.
— Не надо, не надо, — запротестовал Го Цюань-хай. — Мы уж сами справимся. Зачем вас затруднять…
Го Цюань-хай подумал, что раз этот разведчик более года смог укрываться в деревне, у него, конечно, есть здесь друзья, доброжелатели и, как знать, может быть и сообщники. Поэтому Хань Лао-у следовало удалить отсюда как можно скорее, пока весть об его аресте не распространилась по всей деревне. Как бы кто-нибудь не попытался его выручить!
Го Цюань-хай приказал Бай Юй-шаню и двум милиционерам идти впереди арестованного, а сам с третьим пошел сзади, поминутно оглядываясь.
Когда отошли от деревни около ли, на обледенелой дороге послышались топот лошадиных копыт и покрикивание возчика. Группа, конвоирующая арестованного, замедлила шаг. Сани быстро приближались.
— Стой! Кто едет? — крикнул Го Цюань-хай.
— Из крестьянского союза деревни Каошаньтунь! — ответили из саней.
— Откуда бы вы ни были, стой! Вышлите сперва одного человека. Поглядим: кто такие.
Сани остановились, из них выскочил человек в рваной шубе. Он быстро подбежал к Го Цюань-хаю и, опасливо покосившись на винтовку, заговорил:
— Свои… Возчик я! Наш председатель велел запрячь сани и подвезти вас. Товарищи, говорит, устали, а до города еще тридцать ли будет…
Го Цюань-хай пристально оглядел возчика, затем подошел к саням. Они были пусты.
— Садись! — распорядился он.
Все уселись, и лошади помчались по хорошо укатанной дороге.
— Да… — протянул возчик. — Мы и не знали, что это за человек. Сказал, что родом он из Цзямусы, а зовут Ли Бай-шань. Ну из Цзямусы — так из Цзямусы, Ли — так Ли. Нам, конечно, следить за ним было не к чему. Человек как будто смирный и даже, можно сказать, обходительный. Крестьянскому союзу сам вызвался помочь. Мы тоже отнеслись к нему по-хорошему. Смутил нас, правда, один случай. Как-то раз его сынишка заспорил о чем-то с нашими ребятами. Озлился, что ли, на них и выпалил: «Если я, Хань, кого-нибудь обманул из вас, пусть гром меня разразит на этом месте!» Мой мальчонка тоже был при этом и стал пытать его: «Как, разве твоя фамилия Хань, а не Ли?» Тот, конечно, сразу на попятную. «Нет, — говорит, — моя фамилия Ли, это моей мамы фамилия Хань». Посудачили мы, что бы это такое могло значить, и забыли. В ту пору сводили счеты с помещиками и недосуг было чем другим заниматься. А вышло так, что приютили злодея. Председатель сказал: большого бандита мы приголубили…
— Еще какого… — буркнул Го Цюань-хай. — Японский разведчик.
— Какая беда! — вздохнул возчик. — Уж спасибо вам, что разыскали его. Все наши люди очень довольны будут. — И, обернувшись к арестованному, он усмехнулся: — Так как твоя фамилия будет: Ли или Хань?
Восточный край неба опоясала серая полоса. Она постепенно расширялась, светлела, затем быстро начала розоветь и наконец заполыхала пламенем.
В придорожных деревнях запели петухи. Холодный утренний ветер пронизывал насквозь.
Сани въехали в уездный город, залитый ослепительным утренним солнцем.
Го Цюань-хай отпустил милиционеров и пошел оформлять документы. В тот же день он и Бай Юй-шань посадили пойманного разведчика в поезд и повезли на восток. Добравшись до своего уездного города, они наняли сани и во весь дух помчались в деревню Юаньмаотунь.
XXIII
Едва сани с арестованным показались в западных воротах, вся деревня высыпала навстречу.
— Дайте дорогу! — закричал Чжан Цзин-жуй.
Но толпа плотной стеной загородила шоссе. Лошади остановились.
Из рядов вынырнул маленький У Цзя-фу и, с любопытством оглядев арестованного, воскликнул:
— Точь-в-точь наш Хань Лао-лю: и глаза, как горох, и лысина та же!
К саням протиснулся старик Сунь:
— Ой-ой! Никак наш почтенный господин Хань Пятый в роде? На чем же этот господин изволил приехать? На машине или, может, верхом?
Хань Лао-у обвел взглядом столпившихся крестьян. Сердце его забилось, он весь побледнел. Однако, собрав все силы, он попытался улыбнуться и шутливо ответил:
— Вместо соболя зайца изловили…
Ханя довезли до пустой холодной лачуги и посадили под замок. Люди долго не расходились. Окружив во дворе Го Цюань-хая и Бай Юй-шаня, они засыпали их вопросами.
Когда возчик Сунь услыхал, что крестьянский союз деревни Каошаньтунь дал сани, он даже умилился:
— Гляди-ка, какие хорошие люди.
Двор понемногу пустел. Чжан Цзин-жуй подозвал У Цзя-фу, и они договорились, что днем Хань Лао-у будет охранять молодежь, а ночью — народная милиция.
Го Цюань-хай и Бай Юй-шань отправились в крестьянский союз, где Сяо Сян с активистами подсчитывал земельные участки и скот, конфискованный в последнее время. Он радостно встретил вернувшихся и сразу же отослал их спать. Бай Юй-шань попрощался и ушел, а Го Цюань-хай подсел к начальнику бригады и, улучив момент, вполголоса спросил:
— Секретарь уездного комитета передал мне, что ты будто бы велел поскорее возвращаться, так как меня ждет какое-то приятное известие…
Сяо Сян улыбнулся:
— Верно. Очень даже приятное. Но ты прежде отдохни. Поговорить всегда успеем…
— Нет, ты уж сейчас скажи, а то я все равно не засну.
Сяо Сян похлопал председателя по плечу:
— А если я скажу, ты и вовсе спать не будешь. Ложись, ложись скорее. На тебя смотреть страшно, такой у тебя утомленный вид. — И не уделяя больше внимания Го Цюань-хаю, начальник обернулся к старику Чу: — Давай обсудим. Значит, ты считаешь, что прежде всего надо позаботиться о том, чтобы заштопать дыры. Это правильно, старина, очень правильно. Давай подумаем: за какие же дыры следует приняться в первую очередь?
— А вот тебе, хотя бы к примеру, пастушок У Цзя-фу. У него нет даже одеяла. Чем не «дыра»?
— «Дыра», и даже большая, — согласился Сяо Сян.
Го Цюань-хай отошел и прилег на кан. Он не спал уже две ночи подряд. Лицо его пожелтело, и весь он осунулся. Некоторое время Го Цюань-хай прислушивался к разговору за столом, но две бессонные ночи дали себя знать: он быстро уснул.
Лю Гуй-лань, не сводившая с него заботливых глаз, воспользовалась тем, что внимание окружающих было отвлечено, и украдкой накинула на спящего одеяло.
Дасаоцза встретила Бай Юй-шаня с нескрываемой радостью, тотчас принесла ему умыться и, присев около стола, начала рассказывать всякие новости. Она не стала расспрашивать его о делах, по которым он ездил, ей не терпелось поскорей сообщить, что Лю Гуй-лань влюблена в Го Цюань-хая и уже отправила заявление начальнику района о разводе.
— Ну и что начальник района, развел? — спросил Бай Юй-шань, с удовольствием оплескивая водой крепкую грудь и мускулистые руки.
— Еще бы не развел! Ведь мальчишке-то всего десять лет. А Го Цюань-хай для нее муж самый подходящий, лучше и не надо. Чем не пара! Оба работящие и характерами схожи. Лю Гуй-лань только того и ждет, что́ скажет Го Цюань-хай. Как по-твоему, любит ли он ее?
Бай Юй-шань не ответил. Он достал из полевой сумки зубную щетку и, засунув ее в рот, спросил:
— А кто у них сватом?
— Начальник Сяо назначил старика Суня, а тот говорит, одного свата мало, надо двоих…
— Кто же будет вторым?
— Старик Чу. Давай лучше подумаем, что мы им подарим к свадьбе.
— Что ты предлагаешь?
— По-моему, надо что-нибудь купить. Деньги дарить не следует, полученные вещи — тоже. Они из конфискованных и для подарка не годятся…
— Ладно, — сказал Бай Юй-шань, — можно будет сделать им хороший подарок. Я съезжу в город и куплю новогодние плакаты: дележ помещичьего имущества и контрнаступление Объединенной демократической армии.
Дасаоцза весело расхохоталась:
— Ну можно ли так смешить людей! Да ведь это же свадьба, а ты… контрнаступление армии!
— Чего ты покатываешься, отсталая твоя башка! — обиделся Бай Юй-шань. — Не будь этого контрнаступления, не бывать и свадьбе. У нас сейчас лозунг: «Все для фронта». Не борись мы за этот лозунг, вновь бы здесь второе Маньчжоу-го образовалось. Могли бы тогда бедняки жениться?
Дасаоцза смутилась и перестала смеяться:
— Это правда. Пусть будет по-твоему. Однако нужно же все-таки купить какую-нибудь вещь.
— Придет время — посмотрим. Готов у тебя обед?
— Сейчас сварю пельмени, а ты пока полежи немного.
Она вышла в кухню. Бай Юй-шань прилег и тотчас же уснул. Услышав храп, Дасаоцза вернулась в комнату и осторожно прикрыла мужа одеялом.
Тем временем в комнату крестьянского союза набилось много народу. Старики Чу и Сунь так раскричались, что разбудили крепко спавшего Го Цюань-хая. Он встал, протер глаза и подошел к людям, толпившимся вокруг стола. Лю Гуй-лань, ни на минуту не покидавшая Го Цюань-хая, легонько дернула его за полу куртки и, указав на западный флигель, вполголоса проговорила:
— Иди туда. Там совсем тихо.
Го Цюань-хай отрицательно покачал головой.
— Нет, больше спать не хочется… — И он протиснулся к столу.
— Надо делать так, — рассуждал старик Чу, — как сказал наш начальник Сяо. Сперва дадим тем, у кого совсем ничего нет, заштопаем дыры…
— А середнякам, которые нуждаются, тоже дадите? — спросила жена Лю Дэ-шаня.
— Бедняков с середняками нельзя равнять: бедняки вовсе ничего не имеют, — ответил старик Чу, — однако если окажутся такие середняки, у которых сейчас в чем-нибудь нужда, тоже дадим. Зерна нет — дадим зерно, нет одежи — дадим одежу. Конфискованного имущества у нас сейчас больше, чем в прошлый раз, значит и скупиться нечего. Заштопаем сперва самые большие дыры, а потом уже всех оделять будем. Кто против такого предложения?
Никто не ответил, а старик Сунь спросил:
— Ты говоришь: у кого чего не хватает, то тому и дашь? У меня вот много чего не хватает. Вожжей, к примеру, нет, уздечки — тоже, телеги и совсем не предвидится, словом, того, что нужно, как раз и нет. Можешь ты отпустить мне все это в первую очередь?
Старик Чу подумал:
— Сбрую дадим, а насчет телеги не взыщи. У нас всего-навсего десять телег. Мы еще так порешили, — продолжал старик Чу, — семьям погибших — нуждаются они или не нуждаются — повысить норму. Передвинем их в списке на одну ступень. Вдова Чжао, к примеру, числилась у нас по первому разряду, а теперь будет на особом месте. А семьи, которые совсем ничего не имеют, передвинем в первый разряд.
— А вот Осла Ли на какую ступень собираешься передвинуть? — спросил возчик. — Ведь у него тоже ничего нет.
— Как быть с ним, прямо не ведаю, — озабоченно развел руками Чу. — Пусть сам скажет. Осел Ли, ты здесь?
— Здесь, здесь, — ответил голос из дальнего угла, — да мне равняться с другими не приходится. Пусть уж люди присудят. К моему положению любая ступень подходит.
— Осел Ли повинился во всех своих грехах. Зачислим его во второй разряд, — предложил возчик.
— Верно, верно! — поддержал старик Тянь. — Во второй разряд записать можно.
— К какому же старуху Ван причислить?.. — задумался Чу.
— У старухи Ван большая заслуга. Поэтому можно ее и к первому, — предложил Тянь.
— Да как ты ее туда причислишь? Она никогда в крестьянский союз не заходит. Совсем пассивная, — возразил Чу.
— Нет, что ни говори, а на этот раз у нее большая заслуга, — настаивал Тянь. — Не расскажи старуха Ван о Хань Лао-у, так бы и гулял этот разведчик на свободе.
— Что там говорить! Зачислим ее в первый разряд! — поддержали старика Тяня со всех сторон.
Кто-то внес предложение в первую очередь снабдить многосемейных. Но так как батраки и бедняки в большинстве случаев имели мало детей или были холостыми, предложение вызвало длительные споры. Наконец все согласились с Сяо Сяном, который выступил в защиту многосемейных.
— У нас есть еще такое предложение, — объявил старик Чу, — самым бедным выдать одежу покрепче и лошадей.
— Вот это правильно! Но только чтобы возчикам дали лошадей в первую очередь! — закричал обрадовавшийся старик Сунь.
— И всегда-то ты вперед лезешь, — упрекнул старика Чжао Цзин-жуй.
— Не шумите! Пошли делить! — скомандовал Чу.
Возбужденная толпа хлынула во двор.
Сяо Сян задержал Го Цюань-хая. Тот присел на кан и закурил свою трубочку:
— Так какая же все-таки весть меня ждет?
На худощавом лице начальника бригады появилась теплая, ласковая улыбка.
Они были дружны уже более года, но работа никогда не оставляла им времени для беседы о личных делах. Го Цюань-хай считал своего друга мудрецом, человеком высокой идеи и больших деяний, знавшим лишь одни общественные интересы. Председателю казалось, что у начальника Сяо не было ни личных желаний, ни личных дел. Но в улыбке, которая все ярче разгоралась сейчас на лице Сяо Сяна, Го Цюань-хай улавливал что-то совсем необычное, какую-то новую проникновенность и задушевность. Он с радостным удивлением смотрел на это преобразившееся лицо и с затаенным дыханием ждал слов друга.
Начальник бригады давно оценил способности молодого батрака, выделял его из всех, считая самым лучшим активистом района. Сяо Сян обладал особым качеством определять людей, которое никогда его не обманывало. Он поставил себе целью воспитать из Го Цюань-хая настоящего коммуниста, подготовить его к ответственному посту секретаря райкома. У этого батрака были все данные: безупречное социальное происхождение, честность, ум, работоспособность, смелость и выдержка. В числе первых активистов деревни Юаньмаотунь его приняли в коммунистическую партию, и он уже успел получить закалку на партийной работе. «Надо дать ему политическое образование, — думал Сяо Сян, — расширить кругозор, и из него выйдет отличный секретарь райкома». Сяо Сян вспомнил, что Го Цюань-хай после смерти отца жил одиноко. «Человек не может быть все время один. Ему необходима хорошая, преданная и понимающая его женщина — друг. Ему нужно обзавестись семьей и зажить счастливой жизнью».
Сяо Сян не ответил на заданный вопрос. Улыбаясь все той же проникновенной, так поразившей собеседника улыбкой, он сам обратился к Го Цюань-хаю:
— Скажи-ка мне, друг, хотел бы ты иметь свою семью?
Го Цюань-хай мгновенно вспыхнул и сделал вид, что занят своей трубкой.
Сяо Сян подсел к нему и тихим голосом заговорил:
— Девушка хорошая и тебе как раз пара, работящая, мастерица на все руки…
Го Цюань-хай продолжал молчать.
— Сватами будут старики Сунь и Чу. Ну, чего же ты молчишь?
— Сплетен не оберешься, начальник…
— Каких сплетен ты боишься? Женитьба, семья — это дело необходимое и законное.
— Пойдут разговоры, что председатель крестьянского союза только свои интересы соблюдает…
— Никто ничего про тебя не скажет… Ну как, договорились? А теперь пойдем посмотрим, как имущество делят.
На школьной площадке собралась почти вся деревня. Толпа образовала плотное кольцо, в центре которого громоздились горы одеял, одежды, мехов, тканей, обуви и всевозможных домашних вещей.
Рядом сидел оспопрививатель с грифельной доской в руках. На доске были написаны фамилии крестьян, которым полагалось получить вещи. Первой оспопрививатель назвал фамилию вдовы Чжао.
От толпы отделилась маленькая скромная женщина, по лицу которой блуждала растерянная улыбка. Сотни глаз устремились на нее. Женщина была одета в темно-синий стеганый халат, а на ногах в знак траура были белые туфли.
— Все еще в трауре! — с уважением заметил кто-то.
— Вот это настоящая жена! — подхватила шепелявая старуха.
— То-то и оно… — прошамкал старик с трясущейся бородкой. — Не то, что нынешние. Ни стыда, ни совести. Не успеет муж глаза закрыть, у нее уже новый на примете.
— Правильно, дедушка, правильно говоришь, — поддержали женщины. — Такая жена была небом подарена нашему брату Чжао Юй-линю за его доброту.
Вдова Чжао остановилась перед грудой одеял, взяла первое попавшееся в руки и уже было направилась дальше, как внимательно наблюдавший за ней старик Чу крикнул:
— Постой, постой! Что же ты взяла! Бери получше.
— Я не одна, другим тоже хочется получить хорошее, — ответила она.
— Тетушка, бери, не отказывайся, раз люди велят, — посоветовал У Цзя-фу.
Вдова ласково улыбнулась мальчику:
— Советчик мой дорогой, хорошо и это.
Она взяла для Со-чжу шапку из собачьего меха, пару зимних туфель, поношенную детскую куртку и штанишки.
— И зачем только тебе такая рвань! — не вытерпел старик Чу. — Давай я выберу.
— Пусть сама выбирает! Чего ты суешься? — сказал кто-то из толпы.
— А ты молчи! — огрызнулся старик. — Она вдова нашего погибшего брата. Мы обязаны ей помогать.
Он переворошил гору и вытащил пару лучших одеял:
— Держи! Это для тебя, а это для Со-чжу. — Потом старик мигом накинул на плечи вдовы черный зимний халат, на него — летний из зеленого узорчатого шелка, сунул в руки детскую енотовую шубку и лисью шапку.
Вдова Чжао, не зная куда деваться от стыда, низко поклонилась и, счастливая, отошла в сторону.
— У тебя, старина Чу, глаз острый! — пошутили из толпы.
— Что значит острый? Для себя выбирал, что ли? Вот ведь завистники! — с сердцем сплюнул старик и велел оспопрививателю читать дальше.
Оспопрививатель выкрикнул фамилию Го Цюань-хая.
Го Цюань-хай, сделав вид, что раскуривает трубку, махнул рукой:
— Что выделят, то и ладно. Сам выбирать не стану.
— Стесняешься, так давай я тебе выберу! — предложил возчик.
Он вытащил из груды вещей каракулевую шубу и накинул себе на плечи, выбрал одеяло, завернул в него отрез темно-синего сукна, прихватил красный шелковый полог. Со всем этим имуществом он направился к Го Цюань-хаю.
— Полог-то зачем взял? — удивился Чжан Цзин-жуй.
— Это, брат, теперь самая необходимая для нашего председателя вещь, — ухмыльнулся возчик. — Придет время, и тебе такая штука тоже понадобится.
— У Цзя-фу! — раздался голос оспопрививателя.
Когда пастушок оказался перед грудой одеял, у него захватило дыхание. Он никогда в жизни не имел собственного одеяла, а тут они переливались разноцветными шелками. И одно лучше другого! У Цзя-фу заранее решил, что выберет не самое красивое, а самое крепкое и теплое. Он долго перебирал одеяла, гладил их, мял в руках.
— Эй, помоги кто-нибудь нашему пастушку, а то он до утра не выберет! — крикнули из толпы.
Старик Чу быстро отыскал широкое и прочное одеяло и бросил его У Цзя-фу. Тот, очень довольный, направился к вороху обуви.
Уже приближался вечер, и кто-то предложил допускать к вещам по нескольку человек сразу.
Лю Гуй-лань выбрала красную свадебную куртку и сундук, крышка которого была расписана замысловатыми разводами.
— Приданое готовишь, дочка? — тихо спросил подошедший старик Сунь.
Девушка залилась краской и сделала вид, что не поняла:
— Что ты говоришь?
— А ты что прикидываешься? — засмеялся возчик. — Кто твой сват? Я — твой сват, а ты даже не поблагодарила… Вот видишь, как хорошо, что мы здесь с начальником Сяо революционный переворот учинили. Раньше девушка и за дверь выйти не смела, не то что приданое себе выбирать. Раньше она, сидя в комнате, только мечтала о молодом парне, а чтобы, скажем, встретиться с ним или поговорить — это ни в коем случае! Браки только родители затевали, а свахи устраивали. Сколько из-за таких реакционных порядков вреда получалось. Подуют в трубы и принесут невесту в свадебном паланкине. Жених выйдет ее встречать, а она или глухая, или горбатая, или хромая окажется. Вот и майся с такой всю жизнь. Подсовывали даже слепых на оба глаза. Невесты, конечно, тоже слез лили немало, и сердце у них так и колотилось. Никто не знал, каков жених окажется, все ли у него будет в порядке.
Старик все больше воодушевлялся, лицо девушки все гуще краснело, а окружившие их люди все сильнее покатывались со смеху.
Вдруг возчик замер с открытым ртом. На него из-под гневно сдвинутых седых бровей глядели колючие, как иглы чертополоха, глаза его старухи.
— Ты, старый дурень, с ума, что ли, спятил… — прошипела она.
Скоро наступил вечер. Старый Сунь вернулся домой в самом веселом расположении духа. Около дома он увидел красный лакированный гроб. На крышке у изголовья крупными иероглифами было вырезано пожелание многих лет загробной жизни и благоденствия.
Сунь опрометью кинулся в дом.
— Зачем выбрала такую штуку? — закричал он.
Старуха мрачно улыбнулась и процедила сквозь зубы:
— А что же, на тебя надеяться, что ли? Когда умру, завернешь меня в цыновку да выкинешь в поле волкам на растерзание…
Старик Сунь не ответил и вообще ни слова не сказал в этот вечер. А на следующий день, встав с петухами, вышел во двор с топором, поплевал на руки и принялся рубить гроб.
Разбуженная грохотом и треском, старуха выскочила на улицу и вцепилась в реденькую бороденку мужа. Разразился такой скандал, какого еще никогда не бывало между супругами. Сбежавшиеся соседи долго не могли их разнять.
Когда растрепанную и причитающую старуху удалось все-таки под руки увести в дом, возчик рассудительно объяснил собравшимся свое поведение:
— Я велел ей взять себе шубу, а она, отсталый элемент, на гроб позарилась. Ведь ей, как и мне, немногим более шестидесяти. А так как скоро революция везде победит и всем людям можно будет жить до ста лет, то зачем же за сорок лет до смерти гроб себе готовить? Ну раз уж она приволокла эту реакционную штуку ко мне на двор и показала тем свою несознательность, то я и решил: ладно, на поделки пригодится. Я вот из этих досок смастерю пару скамеек. Придут люди в гости — будет им хоть на чем посидеть.
XXIV
На следующий день утром Бай Юй-шань получил в крестьянском союзе пропуск на обратный проезд, попрощался со всеми и направился к месту своей работы в город Шуанчэнцзы.
Начальник бригады и Чжан Цзин-жуй продолжали допрос Хань Лао-у, а активисты во главе с председателем занялись распределением лошадей.
Все лошади, в том числе и ранее розданные крестьянам, были приведены на школьную площадку. Сюда же пригнали коров, мулов и ослов. Крестьянский союз подсчитал, что теперь каждой безлошадной семье достанется по одной лошади.
Стояла середина зимы. День выдался безветренный.
Одетые в новые стеганые халаты, шубы, куртки крестьяне группами прохаживались по школьной площадке. Они осматривали лошадей и оживленно переговаривались:
— Лошадь — не последнее дело в хозяйстве. Землю получили, а не будь лошади, что с землей делать: глаза на нее пялить?!
— Верно! Если ты даже и силен, как тигр, без лошади свой участок не вспашешь.
— А кто это додумался купить лошадей на конфискованное золото?
— А ты разве не знаешь? Общее собрание решило.
— Хорошо придумали, лучше и не надо.
Старик Сунь остановился возле серого коня:
— Этому лет немало. Вроде как мне. — И, открыв коню рот, возчик воскликнул: — Ни единого темного пятнышка!
У Цзя-фу поднял голову и с интересом спросил:
— Это что же за темные пятнышки, дедушка?
Возчик снисходительно улыбнулся:
— Тебе сколько лет?
— Четырнадцать.
— Когда мне было четырнадцать, я уже все в лошадях понимал. Ну, иди сюда, я тебя поучу. Когда лошадь стареет, резцы у нее стачиваются и темных углублений — чашечек — на зубах не остается. — Старик обеими руками раскрыл рот молодому рыжему жеребцу: — Вот гляди, какие у него большие углубления на зубах. Когда лошадь долго жует солому, зубы постепенно стираются, и чем старее лошадь, тем меньше их остается. Понял теперь или нет?
У Цзя-фу немного отступил, чтобы, в случае чего, облегчить себе бегство, и серьезно сказал:
— Ты, наверное, тоже много соломы съел. Раскрой-ка рот и покажи: остались у тебя еще чашечки?
Старик было кинулся за проказником, но увидев, что его не догнать, махнул рукой и только сказал со вздохом:
— Когда мне было четырнадцать лет, я уже все знал про лошадей, а этот сорванец ничего не понимает, только смеется над всеми. Какой из него выйдет крестьянин!
В центре площадки был установлен небольшой столик. Го Цюань-хай подошел и постучал о него трубкой:
— Внимание! Сейчас начнем распределять! Каждая безлошадная семья может взять по желанию лошадь или корову. Лучшие лошади и коровы привязаны в западном углу площадки.
— Все знают, где какие привязаны. Ты начинай, а то время к обеду подходит! — нетерпеливо закричали со всех сторон.
Го Цюань-хай опять постучал по столику:
— Не торопитесь! Я еще несколько слов хочу сказать. Распределили мы имущество, теперь тягловую силу распределяем, а как мы с вами получили все это богатство?
— Коммунистическая партия помогла! — ответили собравшиеся.
— Правильно! Будете вы теперь на этих лошадях землю пахать, молотить, дрова возить. Не забывайте, как все это досталось. Никогда не забывайте тех, кто взрастил для вас эту новую жизнь.
— Конечно, не забудем! — раздалось в ответ.
— Ладно, земляки, начнем! — поднял руку Го Цюань-хай и подозвал оспопрививателя. Тот стал выкликать имена.
Первой в списке стояла вдова Чжао. Когда оспопрививатель произнес ее фамилию, вдова замахала руками:
— Не надо! Не надо! Мне совсем не надо!
— Почему ты отказываешься? — удивился подошедший к ней старик Чу.
— На что мне? Мужчин у нас в семье все равно нет. Кто же будет ухаживать за лошадью? Лучше отдайте кому-нибудь другому.
— А пастушок чем не мужчина?
— Нет, нет, не надо. Пастушок хочет отделиться и жить самостоятельно, а мне и Со-чжу лошадь ни к чему!
Возчик тотчас же смекнул, что, если вдова возьмет лошадь, можно будет во время вспашки пристроиться к ней в компанию. Она женщина добрая. Он подбежал к вдове и зашептал ей на ухо:
— Ты бери… бери. Не беспокойся, что некому будет ухаживать. Ко мне поставишь. Я и накормлю, и напою, и почищу. Тебе никакой заботы не будет…
— Да нет, дедушка, не возьму. Пусть уж другие…
— Постой! Ты меня слушай! Я тебе сейчас такую выберу лошадку, что одно заглядение…
Но как ни уговаривал старик, вдова наотрез отказалась от лошади.
Оспопрививатель выкрикнул фамилию Го Цюань-хая. Возчик бросил вдову Чжао и поспешил к председателю крестьянского союза:
— Председатель Го! Бери серую кобылу. Вон ту, что у вяза стоит! Я тебе ручаюсь: знатная лошадь. Она еще молодая и в первый раз жеребая. Весной у тебя, понимаешь, две будет…
— Так если она весной ожеребится, как же я пахать на ней буду? — рассмеялся Го Цюань-хай.
— Ты не смотри на это, председатель! — убеждал возчик. — И через месяц не опоздаешь.
Го Цюань-хаю было все равно. О себе он думал меньше всего. Председатель взял серую кобылу, привязал ее к столбу под окном школы и вернулся к столу.
Когда вызвали старика Чу, он стоял возле черного, как вороново крыло, быка. Старик давно уже облюбовал его, решив, что с быком будет куда спокойнее. Во-первых, бык сильнее и выносливее лошади, во-вторых, ночью его не надо кормить, а в-третьих, если лошади не давать зерна, она отощает, а быку ничего не сделается. К тому же в этом году у старика Чу с зерном было туго. Есть, правда, один недостаток: пахать на быке дольше придется, чем на лошади, да ничего, обойдется…
— Эй, старина Чу! — окликнул его молодой крестьянин. — Почему лошадь не берешь? Нарядов испугался?
— Не суйся не в свое дело! — огрызнулся старик. — Кто тебе сказал, что я боюсь нарядов? Будут наряды, я на бычке отработаю.
— А ты себе какую лошадку приглядел? — спросил возчика старик Тянь.
— Гм… — неопределенно промычал Сунь. — Еще не приглядел.
На самом же деле возчик раньше всех высмотрел серого в яблоках жеребца. Едва оспопрививатель собрался произнести имя Суня, как старик опрометью кинулся к вязу, возле которого стоял облюбованный им конь.
— Эй, старина Сунь! — крикнул Чжан Цзин-жуй. — Чего ухватился за слепую лошадь?
Но возчик уже вскочил на жеребца, который встретил такое обращение с явным неудовольствием. Он заржал и начал брыкаться.
— Сам ты слепой! — презрительно ответил старик Сунь, гарцуя на жеребце. — Такие называются «яшмоглазыми». Это, если хочешь знать, самые лучшие в мире кони.
— Дедушка! — крикнул У Цзя-фу. — Осторожней! Он еще, чего доброго, подкинет тебя, убьешься!
Старик Сунь рассмеялся:
— Кого? Меня подкинет? Ха-ха! Я уже сорок лет возчиком и на своему веку объездил немало коней. Видел кто-нибудь, чтоб я с лошади упа…
Но он так и не докончил слова. Жеребец вдруг взвился на дыбы.
Перепуганный возчик судорожно прижал ноги к бокам лошади и вцепился в гриву. В следующий момент жеребец рванулся и понесся по площадке. Старик Сунь побелел, как мел, хотел крикнуть, но у него перехватило дыхание. Люди бросились на помощь, однако остановить жеребца уже было невозможно. Он шарахнулся от людей и круто повернул к воротам. Возчик не удержался и кубарем скатился в сугроб, а жеребец так стремительно поскакал по шоссе, что только вихрь закружился.
Го Цюань-хай мигом вскочил на свою кобылу и пустился вдогонку.
Старик с трудом освободил забитый снегом рот и, откашлявшись, принялся горестно стонать. Люди окружили его:
— Ну, старина, где же, выходит, сидеть удобнее: на жеребце или на земле?
— Пустяки! — заметил какой-то шутник. — Это в счет не идет. Разве кто-нибудь видел, чтоб наш старина Сунь падал с лошади?
— Я то же самое говорю, — поддержал другой. — В нашей деревне старина Сунь — самый замечательный человек! Он и возчик хороший, и в верховой езде всех превзошел, а уж падать такой мастер, что тут с ним никто не сравнится. Гляди, как чисто сработал… головой в сугроб!
Возчика подняли.
— Ну как, — стали спрашивать кругом, — все еще больно?
— Чорт… — бормотал старик. — Дайте его сюда! Я его проучу. Ну чего стоите? Трите мне вот это место, — указал он на спину. — Вот ведь негодный!.. Ох! Еще трите, еще трите, говорят вам!
Го Цюань-хай вскоре вернулся, ведя на поводу норовистого скакуна.
Старик Сунь, увидев своего коня, выдернул из плетня палку, хромая, подбежал, схватил жеребца под уздцы и уже было замахнулся, но раздумал.
Когда выкликнули фамилию Осла Ли, тот не захотел брать ни лошадь, ни корову.
— Что же тебе надо? — удивился оспопрививатель.
— Хочу тех двух ослов, которые раньше были моими.
— Бери, — разрешил Хуа.
Ли отвязал своих ослов и побрел с ними домой.
— Вернулись-таки к своему хозяину, — тихо заметил кто-то.
Люди с молчаливым сочувствием смотрели вслед сгорбленной фигуре удалявшегося Ли Фа.
Хотя до слуха Ли и долетели эти слова, но он ничего не ответил.
Сердце его наполнялось противоречивыми чувствами: «Осликов вернули, но кто вернет погибшего сына и потерянную жену?»
Осел Ли прикусил губу, чтобы сдержать подступившие к горлу слезы. Идущий следом старик, который, кряхтя, тянул на веревке тощую рыжую коровенку, как бы угадав мысли своего спутника, сказал доброе слово утешения:
— Ну, вот и вернулись к тебе твои ослики, а это хорошее предзнаменование. Теперь и другое может наладиться. Работай старательно, обзаведешься своим хозяйством, женишься, и вновь у тебя будет семья.
Многим принес счастье этот ясный зимний день!
Дасаоцза радовалась своему черному мулу. Мать Чжан Цзин-жуя была довольна жеребцом бурой масти, а старики Тянь не могли наглядеться на полученную ими стройную молодую лошадь, всю в серых мушках.
Нашлась, однако, среди этих счастливых людей и обездоленная неудачница. Это была старуха Ван, которой досталась больная лошадь.
Старуха Ван, горестно покачивая головой, начала жаловаться на свою горькую судьбу.
Видя, что старуха совсем расстроена, Го Цюань-хай подошел к ней и участливо спросил:
— Что, плохая лошадь досталась?
— Больная…
— Не беда. Посмотри мою серую кобылу, вон у окна привязана. Лошадь неплохая. Давай поменяемся, — предложил председатель.
Старуха Ван, осмотрев лошадь Го Цюань-хая, сокрушенно покачала головой:
— Нет, она жеребая. Время холодное, ожеребится, что я с ней делать буду? Весной на ней работать тоже нельзя.
Го Цюань-хай поманил к себе активистов и отошел с ними к стогу сена.
— Начальник Сяо, — заговорил председатель, — часто нам указывал, что передовые люди должны подтягивать отстающих. Мы с вами активисты и наш долг помочь старухе Ван выбраться из нищеты. Она это заслужила. Ведь только благодаря ей мы разыскали Хань Лао-у. Если бы этот гнилой корень остался, у нас все равно не было бы спокойной жизни.
— Это верно, — кивнул возчик. — Хань Лао-у обязательно постарался бы нам отомстить.
— Короче говоря, старухе Ван досталась плохая лошадь, — сказал Го Цюань-хай. — Я предлагал ей сменять на мою кобылу. Она не соглашается. Что вы скажете на это?
— Вот-вот, что вы скажете на это? — повторил за председателем возчик.
— Если согласится, пусть берет моего черного быка, — нерешительно сказал старик Чу.
Дасаоцза, вспомнив наставление Бай Юй-шаня о том, что всегда нужно подавать пример, с готовностью вызвалась:
— Председатель Го, отдай ей моего мула.
Мать Чжан Цзин-жуя, не желая отставать от своих сыновей, один из которых служил в армии, а другой возглавлял в деревне комитет безопасности, тоже присоединилась к Дасаоцзе:
— Если старухе Ван приглянется бурый жеребец, что нам достался, можно будет и обменяться.
Старик Тянь вскочил и рысцой пустился разыскивать свою слепую старуху. Посоветовавшись с ней, он, сияющий, вернулся к группе активистов.
— Председатель Го! — еще издали закричал Тянь. — Пусть старуха Ван берет нашу серую лошадь в мушках.
Пример оказался заразительным. В припадке неожиданного великодушия возчик объявил, что готов пожертвовать даже своим «яшмоглазым» коньком, однако сейчас же оговорился:
— Одного только боюсь: уж больно характер у него буйный. Не справиться старухе с ним.
— Уж об этом ты зря убиваешься, — съязвил старик Чу. — У нее двое крепких парней в доме. Небось справятся с твоим жеребцом.
— Хорошо, земляки! — заговорил председатель. — Подведите своих лошадей, пусть она выбирает.
Хотя старуха Ван и отказывалась на словах, но сама не могла глаз отвести от лошадей.
Го Цюань-хай еще раз предложил ей свою серую кобылу:
— Взгляни: чем плоха? Молодая, да еще и жеребая. К весне у тебя целых две будет. Бери.
Старуха отрицательно покачала головой.
У старика Суня так и екнуло сердце, а во рту совсем пересохло, когда Ван остановила взгляд на «яшмоглазом».
— Иди сюда! — схватил он за руку старуху. — Ты только погляди, каков бык у старины Чу! Силища у него… Да ты не вороти глаза куда не следует! Век меня благодарить будешь. Прямо, можно сказать, клад. Ночью кормить не надо, вставать не придется… Ну, не хочешь быка, посмотри на мула Дасаоцзы. Тоже ничего, подходящий. Ты меня слушай. Я всегда правду говорю: лошади — твари озорные, и корма на них не напасешься. В день надо давать не менее пяти фунтов жмыха, пяти фунтов гаоляна да еще соломы фунтов пятнадцать. Это же прямо разоренье! Тяжело, очень тяжело прокормить лошадь…
Старуха Ван подошла к черному быку, потом осмотрела мула Дасаоцзы и, ничего не сказав, обернулась к «яшмоглазому».
Старик Сунь побелел как снег, но, выжав из последних сил скорбную улыбку, загородил собой коня:
— Старушка Ван, ведь ты женщина понимающая и крестьянка хорошая! Зачем же тебе такая лошаденка? Вот честное мое слово — это же кляча, а не лошадь, да еще и озорная!..
— Ты же сам говорил, что твой «яшмоглазый» — лучший жеребец. С чего же это он вдруг в клячу превратился? — не без ехидства поинтересовался Чу.
Старуха Ван провела рукой по гладкой блестящей спине красавца жеребца.
— Не трогай! Только не трогай! — закричал возчик. — Ударит, убьет, чего доброго. Разве не видела, как он меня скинул? Я чуть жизни через него не лишился, а ты трогаешь! К тому же он слепой: глаз-то у него — стекло стеклом. Ничего не видит да и собой совсем некрасивый. Словом, никуда не годная лошадь. Ты не гляди, что он жеребец. Просто старая слепая кляча! Если бы не даром достался, ни за что бы не взял…
Поддалась ли старуха пылким уверениям возчика или по какой другой причине, только она отошла от жеребца.
Старик Сунь быстро схватил «яшмоглазого» под уздцы:
— Не подходит? Так я уведу… — и заторопился домой.
Старуха подошла к лошади старика Тяня, долго и с удовольствием гладила ее по шерсти.
— Нравится? — улыбнулся Тянь.
— Очень нравится… — смущенно призналась старуха.
— Ну и бери, — дружелюбно сказал Тянь.
Он взял под уздцы больную лошадь старухи Ван и отправился домой. Поставив лошадь в конюшню и дав ей корма, старик вошел в комнату.
Жена уже успела вернуться и, мрачная, сидела на кане.
Тянь подошел к ней и мягко стал уговаривать:
— Ладно, не огорчайся. Эта лошадка тоже будет работать.
— Та была гладкая и сильная, — печально промолвила старуха, — а это что за лошадь!.. Я просто при людях спорить с тобой не хотела, а ты взял да и выменял кусок жирного мяса на обглоданную кость…
— Ничего… Можно будет ее вылечить… — неуверенно ответил старик.
— Лекарь какой нашелся… — проворчала старуха. — Положение наше куда хуже, чем у других…
— Будет тебе! — с сердцем оборвал ее Тянь. — Какая ты несознательная, ничем поступиться не хочешь! Забыла, как наша Цюнь-цзы жизнью пожертвовала, а жениха не выдала. Ведь ты же ей родная мать! А лошадь подлечить можно…
— Ручаюсь, что можно! — раздался за окном мужской голос.
— Кто там? — спросила старуха.
— Это я!
— А… председатель Го, заходи, заходи скорей. На дворе холодно стоять.
Го Цюань-хай с улыбкой появился на пороге:
— Я привел вам свою серую кобылу. Давайте сменяем.
— Да нет, что ты, родной наш… — смутилась старуха. — Не надо. Какая ни есть лошадь, а все же лошадь. Постараемся подлечить и будем на ней работать. Не беспокойся, председатель…
Несмотря на уговоры, старики Тянь наотрез отказались от обмена.
— Ладно, — решил Го Цюань-хай, — не берете, что с вами поделаешь! Тогда договоримся так: ожеребится моя кобыла, жеребенок ваш будет.
XXV
Закончив раздачу лошадей, Го Цюань-хай отправился к Сяо Сяну.
Чжан Цзин-жуй и милиционеры, прибывшие из уезда, уже третьи сутки не смыкали глаз, допрашивая Хань Лао-у. Однако существенных результатов добиться им пока не удалось.
Сяо Сян, строго соблюдая закон, запретил применять к арестованному какие бы то ни было меры физического воздействия.
Хань Лао-у от природы был наделен способностью лгать и притворяться. Он искусно запутывал следователей, стараясь сбить их с толку.
Следователи до боли сжимали кулаки и с трудом сдерживали рвущееся наружу негодование. Лишь один Сяо Сян оставался спокойным. Он ни на минуту не потерял хладнокровия и ни разу не вспылил.
— Не горячитесь, — убеждал начальник бригады. — Пусть он еще подумает. Месяц будет молчать — месяц будем допрашивать, год — так год. Чем больше он будет тянуть, тем хуже для него: признается потом, никакого снисхождения уже не получит.
Выслушав короткий отчет Го Цюань-хая, начальник бригады предложил как можно скорее провести совещание, посвященное переделу земли.
— Медлить больше нельзя, — сказал Сяо Сян. — Из провинциального управления есть предписание разделить землю еще до вывоза удобрений на поля.
Го Цюань-хай ушел. Допрос продолжался. Сяо Сян молча сидел, обдумывая способ сломить упорство арестованного. Рассчитывать на помощь старухи Ван было нечего: она перетрусила и явиться на очную ставку отказалась. Надо было что-то решать…
Вошел Вань Цзя.
— Носильщики с фронта пришли, — доложил он Сяо Сяну.
И в тот же момент во дворе раздался громкий голос:
— Начальник Сяо здесь?
Начальник бригады узнал голос кузнеца Ли, но не успел он откликнуться, как тот уже появился на пороге. На левом его плече висел новенький автомат американского производства. Переступая порог, великан нагнулся, чтобы не стукнуться лбом о притолоку. За кузнецом следовал Лю Дэ-шань.
— Дверь высокая, чего кланяешься? — поднялся им навстречу Сяо Сян.
— По привычке, начальник, — улыбнулся Всегда Богатый.
Начальник бригады дружески пожал прибывшим руки и с удовольствием оглядел их обветренные, потемневшие от загара лица. Оба были в военной форме и ничем не напоминали прежних жителей деревни.
Начальник бригады пригласил гостей в соседнюю комнату, усадил на кан и начал расспрашивать о их житье-бытье:
— Ну как, много пришлось потрудиться?
— Да не очень, — улыбаясь, ответил Лю Дэ-шань. — Не больше, чем вам здесь…
Вань Цзя набил длинную трубку табаком и протянул ее кузнецу, но тот вежливо отказался:
— Не беспокойся, не надо. У меня своя есть…
Он достал из левого кармана европейскую трубку с коротким изогнутым чубуком и похвастал:
— Это мне сам командир подарил на память. Трофейная…
— Я вижу у тебя все трофейное, — рассмеялся Сяо Сян. — Ну как, все люди вернулись?
— О ком спрашиваешь, начальник? Из нашей деревни ушло сорок человек. Все сорок и вернулись. Жили там все хорошо, дружно. Мы бойцам помогали, а они — нам. Все друг о дружке заботились. Мне там так понравилось, что я бы опять пошел.
— Ну, а как ты, старина? — обернулся начальник бригады к Лю Дэ-шаню.
— О… наш Лю Дэ-шань молодец! — воскликнул Ли Всегда Богатый. — Большие заслуги имеет. Из самого огня раненых выносил. Противник еще палит во всю, а Лю Дэ-шань знай себе подбирает раненых. Просто бесстрашный человек оказался…
— Да нет… — смутился Лю Дэ-шань. — Вот солдаты из Восьмой армии, так те — настоящие храбрецы!
Сяо Сян подумал: «А ведь какой раньше трус был!» и тут же спросил:
— А чанкайшистских солдат видел?
Лю Дэ-шань хитро улыбнулся (он теперь все время улыбался):
— Доводилось. На мокрых куриц похожи.
— Теперь ты не боишься, что они придут и отрубят тебе голову? — шутливо спросил начальник бригады.
— Долго им не удержаться, — серьезно продолжал Лю Дэ-шань. — Оружие у них, правда, хорошее, однако сами они для войны совсем не годятся, не выносят решительного натиска. Раз ударишь — они уж и разбегаются.
— Лучше расскажи, как ты с одной палкой двух гоминдановских солдат разоружил, — рассмеялся Ли Всегда Богатый.
Комната наполнилась народом. Люди обступили кан и с интересом прислушивались к разговору.
— Да и рассказывать-то нечего…
— Рассказывай, рассказывай! Пусть люди послушают, — настаивал начальник бригады.
— Дело случилось под городом Сыпинчай. Луны не было — одни звезды, и так темно, что на расстоянии пяти шагов ничего не видно. Противник только что отступил, и повсюду бродили разрозненные группы солдат. Пришлось мне в это время идти в соседнюю деревню. Вижу, впереди будто две тени мелькают. А у меня палка в руках была. Поднял я ее, приставил к плечу, как винтовку, и крикнул: «Стой! Кто идет?» Они меня, должно быть, и вправду за бойца приняли. Остановились и как будто пригнулись, держа что-то над головами. Это мне издали показалось, что солдаты нагнулись, а они, оказывается, со страху просто повалились на землю и на головы американские автоматы положили. Я забрал автоматы и привел этих солдат в деревню. Смеху потом было…
— Вот один из тех автоматов, — добавил Ли Всегда Богатый, показывая Сяо Сяну оружие.
Собравшиеся долго смеялись, хвалили Лю Дэ-шаня, а автомат переходил из рук в руки.
— Ну ладно, — сказал наконец начальник бригады. — Идите домой, отдыхайте, а вечером соберемся и отпразднуем ваше возвращение. Устроим общее собрание, и вы все расскажете.
Они поблагодарили и ушли.
Когда Лю Дэ-шань вернулся домой, жена во дворе кормила свинью. Она суетливо отбросила тыквенный ковш и вымыла руки.
— Гао Шэн! — позвала женщина сына. — Вставай, посмотри, кто вернулся…
Лю Дэ-шань шагнул в комнату. Мальчик с радостным восклицанием прыгнул к отцу. Тот поднял сына на руки, поставил на кан и погладил по голове. Потом он присел и закурил трубку. Мальчик забрался к отцу на колени и, с любопытством ощупывая блестящие пуговицы военного кителя, начал рассказывать ему, как он жил у бабушки и как вчера мама привезла его домой.
Улыбаясь, Лю Дэ-шань с отцовской гордостью смотрел на сына, а жена металась из комнаты в кухню и обратно, не зная за что приняться. Она то уговаривала мужа прилечь, то предлагала сейчас же пообедать.
— Нет, — ответил Лю Дэ-шань. — Мне пока есть не хочется. Нам в уездном городе устроили хорошую встречу и накормили до отвала. Доклад даже был. Сам начальник уезда…
— Тот, что в прошлом году приезжал сюда? — спросил мальчик.
— Помолчи, Гао Шэн, — строго сказала мать. — Как ты смеешь перебивать, когда отец говорит? Сиди и слушай… Ну, про что же начальник уезда беседовал с вами?
— Да о многом… Про наши заслуги говорил, про то, что трудящийся народ в тылу никогда нас не забудет. Говорил, что когда вернемся домой, нам следует хорошо работать, чтобы служить для всех примером.
— Так, так, — закивала жена. — Ты видел начальника Сяо?
— Только что от него. Он сегодня вечером созывает собрание и велел мне сделать доклад о положении на фронте. Ты тоже пойди послушай.
— Обязательно. А о чем ты будешь рассказывать?
— Там услышишь.
— Смотри же, не сбейся и не ошибись в чем-нибудь… А у нас тут в деревне много разных дел было…
Она рассказала о Чжан Фу-ине, о том, какое было раньше отношение к середнякам, и о том, что теперь середнякам возвратили все их имущество.
— У меня ведь тоже сначала забрали двух лошадей, но потом вернули. Это потому, что начальник Сяо приехал и разъяснил, что батраки, бедняки и середняки — одна семья…
— Это правильно, — заметил Лю Дэ-шань, покуривая трубку. — Нам на фронте так же говорили. Наш командующий несколько раз повторял, что бедняки, батраки и середняки воюют вместе, все проявляют одинаковую доблесть, и для разгрома реакции необходимо объединить все силы народа.
— Когда начальник Сяо вернулся, — продолжала жена, — и наш Го опять стал председателем, все наладилось. Начальник Сяо, председатель Го и вдова Чжао приходили ко мне и успокаивали, чтобы я о тебе не тревожилась. Они такие люди, что обо всех крестьянах заботятся…
Она прикрыла дверь в кухню и, наклонившись к уху Лю Дэ-шаня, с беспокойством спросила:
— Ты уже видел Хань Лао-у?
Лю Дэ-шань утвердительно кивнул.
— Не оговорит ли он кого-нибудь?.. — прошептала она. — Я очень, очень боюсь!.. Помнишь, он приходил к нам и предлагал тебе стать его названым братом. Как бы не оклеветал, проклятый…
Муж пристально посмотрел на жену:
— Я тебе так скажу. Есть пословица: «Если ты стоишь прямо — не бойся, что тень твоя ложится косо, если нет за тобой дурных дел — пусть чорт хоть каждую ночь стучит в дверь». Я с этим Хань Лао-у брататься тогда не стал и на уговоры его не пошел. Кроме того, начальник Сяо нас с тобой хорошо знает. Меня можно упрекнуть только в том, что я раньше труслив был и когда люди ходили с Чжао Юй-линем арестовывать Хань Лао-лю, я спрятался. Ничего другого за мной не числится. Начальник Сяо — человек очень умный, и что бы там Хань Лао-у ни стал ему наговаривать, он, не выяснив сам, никогда не поверит.
— Да-да, — согласилась жена. — Он человек и умный и справедливый… Но ты, наверное, устал. Солнце только что склонилось к западу, и собрание еще не скоро. Ложись, поспи… А я тут сберегла пельменей, что стряпала к Новому году. Недавно под нашими окнами без умолку трещала сорока — предвестница радости. Я ждала твоего возвращения, только не думала, что это так скоро случится.
Лю Дэ-шань, не раздеваясь, прилег на кан. Жена принялась растапливать печь, и комната вмиг наполнилась едким дымом.
Лю Дэ-шань попробовал было уснуть, но дым душил его. Он встал и, закурив трубку, направился к двери.
— Что ты не спишь? Куда пошел? — спросила жена.
— Пойду посмотрю, что во дворе делается.
Он вышел во двор, постоял некоторое время, вдыхая с наслаждением чистый морозный воздух. Затем открыл дверь амбара. Амбар был полон золотистого зерна. Лю Дэ-шань прошел в огород. От заготовленного им хвороста осталось совсем немного. «Придется съездить за хворостом», — подумал он и побрел дальше. Зайдя в конюшню, Лю Дэ-шань очень удивился: откуда взялась еще одна лошадь?
Вернувшись в дом, он спросил об этом жену. Оказалось, что лошадь она взяла для Ли Всегда Богатого.
— Он одинокий, дома у него никого не осталось. Вот я и поставила лошадь пока к себе, — объяснила она. — Скажи ему, чтобы забирал.
Лю Дэ-шань приготовил лошадям на ночь корм, затем спустился в подполье.
— Что у тебя тут делается? — раздался оттуда громкий возглас.
— А что случилось?
— Да большая часть картошки сгнила. Чего же вы смотрели, когда складывали? Нужно было перебрать. Придется ее завтра вытащить и просушить.
Лю Дэ-шань любил свою семью, свой дом, свое хозяйство.
— Работник-то он редкий, — говорили о нем раньше соседи, — да только все для себя. У него и кукуруза, и чумиза лучше, хотя земля такая же, как у всех, а вот попробуй спроси, как это получается, ни за что не скажет.
Это была правда. В то время Лю Дэ-шань думал прежде всего о себе. Да и на фронт он ушел вовсе не потому, что стремился помочь Народно-освободительной армии одержать окончательную победу, а потому, что для него это было самым выгодным делом.
Как-то раз заявилась жена Ли Чжэнь-цзяна и с таинственным видом сообщила:
— Ужасные дела будут скоро, сосед. Закон вышел: если у тебя три лошади — две отдай, а если две — так одну. Урожай тебе также не оставят. Сколько бы ты ни трудился, получишь лишь то, что тебе положено.
Лю Дэ-шань тут же пошел и записался носильщиком, которых набирали в то время для армии. Он решил, что только это спасет его хозяйство, потому что семьи фронтовиков пользовались особыми льготами.
Но на фронте Лю Дэ-шань убедился в другом. Никакого различия между бедняками и середняками там не делали. Ему доверяли, его ценили, смотрели на него, как на равноправного члена фронтовой семьи. А после того случая, когда он разоружил и привел двух гоминдановских солдат, командиры, бойцы и носильщики начали относиться к нему с еще большим уважением. Много нового узнал, увидел и понял Лю Дэ-шань в армии. Это заставило его резко изменить свои взгляды на жизнь. Он окончательно и бесповоротно решил поддерживать крестьянский союз.
Пока муж был занят осмотром своего хозяйства, жена накрыла на стол. Обед сегодня оказался даже лучше новогоднего. Он состоял из пельменей, жирной тушеной свинины с лапшой и кислой капустой и поджаренного бобового сыра.
Отдохнув после обеда, Лю Дэ-шань отправился в крестьянский союз.
Сяо Сян распорядился привести на собрание и Хань Лао-у. В то время как Лю Дэ-шань рассказывал о фронтовых делах, Чжан Цзин-жуй пристально наблюдал за лицом арестованного. Хань Лао-у то краснел, то бледнел. Бывший помещик заметно нервничал и постукивал каблуками по земляному полу.
Наконец, когда Лю Дэ-шань заговорил о том, что войска Чан Кай-ши отступают при первом же натиске и разбегаются врассыпную, Хань Лао-у вскочил с места и рванулся к двери. Чжан Цзин-жуй сделал движение, желая загородить ему дорогу, но начальник бригады тихо сказал:
— Не надо. Пусть идет.
Однако Чжан Цзин-жуй все-таки выглянул за дверь.
Хань Лао-у прошелся по двору и, заложив руки за спину, остановился:
«Уж если этот дрожавший перед помещиками Лю Дэ-шань с такой дерзостью и нескрываемой радостью говорит теперь о разгроме войск Чан Кай-ши, значит, рассчитывать больше не на кого и не на что».
Хань Лао-у присел на крыльцо, подперев руками отяжелевшую от напряжения и бессонных ночей голову.
Бежать? Но как? Это бессмысленно. И куда? До своих все равно не добраться, а вести подрывную работу среди людей, самые трусливые из которых с помощью палки разоружают автоматчиков, — просто безумие. Да и зачем, если армия все равно разгромлена?..
Чжан Цзин-жуй, проскользнув мимо Хань Лао-у, вышел за ворота и наткнулся на У Цзя-фу, вооруженного пикой.
— Ты знаешь, кто во дворе? — шепотом спросил Чжан Цзин-жуй.
— Конечно, знаю. Не беспокойся, не убежит.
Чжан Цзин-жуй обошел двор. Часовые всюду стояли на своих местах.
Хань Лао-у с трудом поднялся, сделал шаг к двери, на момент в нерешительности остановился перед ней, но затем с силой толкнул ее ногой. Он направился прямо к Сяо Сяну и, отозвав его в сторону, глухо сказал:
— Хочу поговорить…
— Хорошо, — спокойно ответил начальник бригады и жестом пригласил в соседнюю комнату.
Собрание давно уже кончилось и в большой комнате наступила тишина, а они все еще говорили. Зимняя ночь медленно плыла над уснувшей деревней. Вань Цзя уже в третий раз подлил масла в лампу, а они говорили и говорили.
Только когда пропели петухи и на востоке зажглась заря нового дня, Вань Цзя спросонок услышал последние слова Хань Лао-у:
— Это все. Больше мне сказать нечего. Я был связан только с этими людьми. После пятнадцатого августа мне был передан приказ от начальника передовых частей гоминдановской армии. Я наведался в эту деревню и ночевал здесь у покойного брата. Я только что изложил вам, как и когда связался с указанными мною людьми. Кстати, побывал я и у Лю Дэ-шаня, но когда на следующее утро через своего человека велел ему явиться, он просто сбежал из деревни. Все это чистая правда, без единого слова лжи. Да, я признаю, что совершил несколько преступлений против односельчан, и все же прошу у вас снисхождения. Если вы даруете мне помилование, я из благодарности обещаю исправиться и честным трудом искупить свои преступления.
После того как увели арестованного, начальник бригады приказал Чжан Цзин-жую арестовать гоминдановских агентов, которых назвал Хань Лао-у. Одновременно Сяо Сян отправил двух милиционеров в уездный город, вручив им протокол дознания и список агентов, проживающих в других местах. Он написал также начальнику милиции, предлагая передать список в провинциальное управление, чтобы там список размножили и разослали по уездам.
XXVI
Вечером Сяо Сян пришел на собрание, посвященное переделу земли. На лице его играла радостная улыбка. Он поднялся на кан и с воодушевлением заговорил:
— Товарищи! Земляки! Мы свалили помещиков. Помещики были нашими открытыми врагами, но у нас остались еще скрытые враги. Это агенты Чан Кай-ши и американских империалистов. Если мы не ликвидируем этих бандитов, они будут нам вредить. Несколько дней тому назад мы арестовали одного из них. Вы все знаете, что это родной брат помещика Хань Лао-лю. Мы допрашивали его в течение трех суток, но он все отрицал и, лишь услышав на собрании о разгроме чанкайшистских банд, наконец признался.
Раздались долго несмолкавшие рукоплескания.
— Он признался, что сначала был японским шпионом, а после пятнадцатого августа стал гоминдановским агентом. Побывал он и в нашей деревне, где с помощью своих друзей и родственников развернул преступную деятельность…
— Я давно знал об этом! — поспешил вставить старик Сунь.
— Ты все знаешь, только почему-то молчишь, — не выдержал Чжан Цзин-жуй.
— Перестаньте! — остановил их Го Цюань-хай. — Слушайте, что говорит начальник Сяо.
— Этот Хань Лао-у, — продолжал Сяо Сян, — сообщил нам, с кем он был связан в нашей деревне. Он признался и в том, что прежний председатель крестьянского союза Чжан Фу-ин был… — в этот момент Сяо Сян закашлялся от табачного дыма.
Кругом поднялся шум.
— Кем же он был? — спросили присутствующие: одни с любопытством, другие с затаенным страхом.
Сяо Сян улыбнулся:
— Хозяином своей харчевни.
По комнате прокатился дружный смех, и напряжение сразу разрядилось. Но некоторые все-таки продолжали допытываться:
— Так кем же он был в конце концов?
— Он был гоминдановским приспешником, а за его спиной стоял хозяин…
— Кто такой? — спросили сразу несколько человек.
— Племянник Ли Чжэнь-цзяна, всем известный Ли Гуй-юн. Этот Ли Гуй-юн — гоминдановский шпион, а Хань Лао-у — его непосредственный начальник…
Старик Сунь, не дожидаясь, когда Сяо Сян кончит говорить, спрыгнул с кана и закричал во всю мочь:
— Я сейчас же арестую эту собаку Ли Гуй-юна! Кто не трус, за мной!
— Только тебя и ждем, — рассмеялся Чжан Цзин-жуй. — Никак не поймем, почему ты медлишь?
— Если б ждали, пока ты соберешься, — еле удерживаясь от смеха, сказал председатель, — Ли Гуй-юн давно бы гулял по сопкам.
Снова раздались аплодисменты.
— Уже арестовали? — растерянно спросил возчик и, пристыженный, забился в угол.
— Председатель Мао, — продолжал с улыбкой Сяо Сян, — говоря о текущем моменте и наших задачах, указывал, что тылы Народно-освободительной армии теперь значительно укрепились. Мы видим это и здесь, в Маньчжурии. Наш командующий Линь Бяо одерживает на фронтах все новые победы, в чем лично сумели удостовериться Лю Дэ-шань и Ли Всегда Богатый.
— Да, большие победы! — подтвердил сидящий на кане Лю Дэ-шань. — Военнопленных так много, что все поезда забиты…
— Гоминдановским войскам, пусть даже у них крылья вырастут, не уйти от разгрома. Им остается только одно — восстать против своих генералов, капитулировать и сдаться в плен. А бандитов, скрывающихся в тылу, мы постепенно выловим. Теперь перед нами — новые задачи…
— Пора поднимать наше производство!
— Правильно говорите! — воскликнул начальник бригады. — Мы как раз и собрались сегодня, чтобы закончить передел земли. Когда мы это сделаем, народное правительство каждому крестьянину выдаст документ на владение участком. Земля — основа крестьянской жизни; каждый заинтересован в том, чтобы получить хорошую землю. Земля — не платье. Она не изнашивается и служит не только своему хозяину, но и его детям, внукам и правнукам. Я предлагаю прежде всего избрать комиссию. Займитесь этим сами, а я скоро вернусь.
Он вышел во двор. Там его уже ждал Чжан Цзин-жуй.
— Вот тебе сопроводительное письмо, — обратился к нему Сяо Сян, протягивая запечатанный конверт, — ты сам доставишь арестованных в уездный город.
Во дворе под охраной стояли связанные Хань Лао-у, Ли Гуй-юн и Чжан Фу-ин.
— Чжан Фу-ина развяжи. Он раскаялся во всем, — сказал начальник бригады и, попрощавшись с Чжан Цзин-жуем, вернулся в комнату, где продолжалось собрание.
Выбирали комиссию.
— Я предлагаю Суня! — крикнул старый крестьянин.
— Я выдвигаю Дасаоцзу! — подала голос жена Лю Дэ-шаня.
— Да не спешите вы! — вскочил возмущенный Чу. — Дележ земли — дело нешуточное, а вы стариков да баб выдвигаете.
— А что из того, что Дасаоцза женщина, — спокойно ответила жена Лю Дэ-шаня. — Она любого мужчину за пояс заткнет. Кроме того, она прежде каждый год полола помещичьи поля, и нет такого кусочка земли, которого она не знает.
— Дасаоцзу выдвинуть можно, — начал Сунь, — а меня не надо. Я разными другими делами занят, и мне недосуг, словом, не могу… Я вместо себя выдвигаю другого человека, которого вы почему-то забыли. Все его хорошо знают, он первый в нашей деревне человек и наш руководитель…
— Ладно! Можешь не продолжать! — прервали его крестьяне. — Выдвигаем и поддерживаем нашего председателя Го!
Затем выдвинули старика Чу и Ли Всегда Богатого. Последний предложил кандидатуру Лю Дэ-шаня, но это вызвало возражения. Первым запротестовал старик Чу:
— Да он же середняк, как его выдвигать!
— Что ж из того, что середняк? — спросил Ли Всегда Богатый. — Он теперь с нами заодно. Как побывал на фронте, совсем изменился, а кроме того, он лучше всех в деревне знает, где какая земля и сколько урожая можно с нее снять…
Никто не знал, можно ли допустить середняка к работе в такой комиссии, и все вопросительно уставились на Сяо Сяна. Тот поднялся с места:
— Надо спросить у Лю Дэ-шаня, присоединит ли он принадлежащую ему землю к общему фонду.
— Можно и присоединить… — не очень охотно согласился Лю Дэ-шань.
— Постой, постой, — обернулся к нему старик Чу. — Что это значит «можно»? Ты нам прямо скажи: хочешь ты или нет?
Лю Дэ-шань промолчал.
Сяо Сян понял Лю Дэ-шаня и деликатно посоветовал отложить этот вопрос, а пока заняться пересмотром уже произведенного в прошлом году раздела земли.
— А скажите, земля Тана Загребалы уже полностью разделена? — спросил начальник бригады.
— А сколько у него забрали? — поинтересовался Лю Дэ-шань.
— Девяносто шесть шанов, — сказал Го Цюань-хай.
Лю Дэ-шань отрицательно покачал головой:
— Нет… это не все. У него было не менее ста двадцати…
— Значит, ты считаешь, что он нас обманул? — спросил начальник бригады.
— Конечно, какие-нибудь участки да утаил.
— Утаил, утаил! — вскочила Лю Гуй-лань. — Я сама в прошлом году пропалывала его поле. Почему это у него грядки такие длинные, что одну грядку за полдня не обойдешь?
— Как? — удивился начальник бригады. — Разве он даже в прошлом году нанимал поденщиков?
— Конечно, нанимал, — подтвердила Дасаоцза. — А грядки действительно были длинные. И когда я в прошлом году у Добряка Ду работала, просто диву давалась, как еще много у него земли.
Это подтвердили и другие женщины. Теперь Сяо Сяну стало совершенно ясно, что у помещиков еще осталась земля. Дальнейшее обсуждение показало, что они отдали по большей части плохие участки. Кроме того, некоторым беднякам достались не только отдаленные, но и разбросанные в разных местах наделы. Старики Тянь, например, получили два участка земли: один у западных ворот, другой за речкой. Приходилось дважды в день переправляться на противоположный берег.
— А мы, например, — заметил Чжан Цзин-жуй, — такую землю получили, что ничего на ней не растет кроме сорняка, и самый близкий участок — в пяти ли от дома.
Наконец собрание вынесло решение: конфисковать все земли у помещиков и в соответствии с программой земельной реформы выделить им другие участки. Что касается наделов, принадлежавших середнякам, то тут вновь разгорелись споры, так как по положению эти наделы рекомендовалось не трогать.
Говорили, что это затруднит окончательный передел и что самое лучшее включить все земли в общий фонд, а затем дать середнякам новые участки, но, конечно, с таким расчетом, чтобы середняки не потерпели ущерба.
— Какая была земля, такую и дадим, только в другом месте. Зато наделим всех поровну, — заключил старик Чу и, обернувшись к Лю Дэ-шаню, который сумрачно молчал, окликнул его:
— Старина Лю! Каково твое мнение?
Вопрос, временно отложенный Сяо Сяном, требовал все-таки решения. Начальник бригады подошел к Лю Дэ-шаню:
— Ну как, Лю Дэ-шань, ты все еще колеблешься? Не хочешь — скажи прямо.
Тот помолчал немного и ответил:
— Начальник Сяо, если бы ты меня не спросил, я бы промолчал. Но теперь придется сказать. Мой небольшой клочок земли перешел ко мне еще от прадеда. Давно я работаю на этой земле и хорошо знаю, что она любят, а чего и нет. На моем участке — наше семейное кладбище. Там похоронены мои предки. Во время праздников, когда совершается поминовение усопших, не нужно далеко ходить с жертвоприношениями: все на своей же земле…
— Несознательный ты элемент! — побагровел от возмущения старик Чу. — На поминки ходить близко! Каково? Из-за своих могил другим людям неудобство устраиваешь! Ведь тебе за твою землю не худшую предлагают, только в другом месте, а ты со своими могилами! Знаешь, скажу тебе по совести: не хочешь менять — убирайся-ка ты с нашего собрания!
— Я тоже член крестьянского союза! — вспылил Лю Дэ-шань. — И ты не смеешь гнать меня!
— Какой ты член крестьянского союза? — закричал старик Чу. — Побыл маленько носильщиком в армии и думаешь, что герой! Видали такого? А когда в уборной прятался, тогда кем был?
Взяв себя в руки, Лю Дэ-шань спокойно ответил:
— Когда я в уборной прятался, ты тоже дома отсиживался, и не тебе меня укорять в этом. Что правда — то правда, был со мной этот случай. Однако откуда ты такой закон выискал, чтобы людям рты затыкать? Начальник Сяо объяснил нам, что бедняки, батраки и середняки — одна семья. По-моему, середняки о своих делах говорить тоже вольны. Если же не разрешаете говорить и участвовать в крестьянском союзе, я, конечно, уйду, не задержусь.
— Ты сиди, никто тебя не гонит, — пошел на попятную старик Чу. — Я тогда тоже уйду отсюда!
Опять, все разом заговорили. Одни взяли под защиту Лю Дэ-шаня, другие стали на сторону старика Чу.
Го Цюань-хай не выдержал и, подняв руку, крикнул:
— Тише! Пусть начальник Сяо разъяснит, как нам быть.
— Да-да! — подхватил старик Сунь. — Кто слово скажет, тот тухлое яйцо и родственник Хань Лао-лю.
Все сразу замолкли. Не из страха, конечно, перед угрозами возчика, а из уважения к Сяо Сяну.
— Товарищи, друзья! — начал он. — Политика нашей коммунистической партии состоит в том, чтобы укрепить союз бедняков с середняками. Середняки — равноправные члены нашей семьи. Мы вместе боремся за счастье нашей страны, вместе управляем ею и вместе трудимся над созданием нового, демократического общества. Если Лю Дэ-шань не желает присоединить свой участок к общему фонду, не будем принуждать его к этому. Лю Дэ-шань лучше многих знает здешние земли, да к тому же и считать умеет. Поэтому его участие в окончательном переделе земли мы должны только приветствовать.
И Сяо Сян первый захлопал в ладоши. Все подхватили, и комната наполнилась громом рукоплесканий.
После этого начальник бригады объявил собрание закрытым. О старике Чу он не сказал ни слова, чем тот был очень недоволен, а когда все разошлись, попросил его остаться и просидел с ним до поздней ночи.
На другой день выдалась на редкость ненастная погода. Выл и метался ледяной ветер, мокрый снег залеплял глаза. Но холод не испугал людей. На поля вышли четыре группы обмерщиков и сбежались толпы любопытных.
Старики Сунь и Тянь пришли первыми и проявили в этот день необычайную активность.
— Обмерять землю — это большое и ответственное дело, — поучал старик Тянь. — Глядите, как бы у вас не вышло ошибки, а то, чего доброго, получится, как в прошлый раз, когда Братишка Ян мерил…
— Осторожнее! — покрикивал старик Сунь. — Веревку прямо, прямо натягивай! Скривишь немного — и на две грядки ошибешься.
Пять дней делили землю. На этот раз работа велась очень тщательно. Собрание внимательно выслушивало желание каждого бедняка. Принимались, конечно, во внимание и происхождение, и заслуги.
Го Цюань-хай сидел, безучастно покуривая свою трубочку. Старика Суня это обеспокоило. Он считал себя лучшим другом Го Цюань-хая и ответственным за его судьбу.
— Председатель Го… — зашептал возчик, — чего же ты сидишь, словно мертвый? Скажи им, какой участок тебе нравится, не то подсунут какую-нибудь дрянь… Как ты тогда жениться будешь? Надо и о детях подумать…
Го Цюань-хай не ответил. Он думал сейчас о том, чему его учил Сяо Сян: коммунист должен служить народу и помышлять об общественном, а не о личном благе. Го Цюань-хай был целиком согласен с этим. Он понимал, что отвечает за всю деревню. Если работа будет хорошо налажена, каждый получит то, что он хочет, и если всем станет хорошо, то и ему, руководителю деревенской бедноты, будет тоже хорошо. Ведь интересы всего народа — это и его личные интересы. Иных интересов у него нет и не должно быть…
А старик Сунь рассуждал по-другому: плодородной земли за южными воротами ему все равно не видать. Эта язва старичок Чу и этот зубоскал Чжан Цзин-жуй его даже близко к ней не подпустят. Так пусть уж она достанется Го Цюань-хаю, тем более, что Го Цюань-хай — его закадычный друг и вообще человек, достойный всяческого уважения. Кроме того, и ему, старику, тут что-нибудь да перепадет, хоть какой-нибудь початок зеленой кукурузы.
Старик, кряхтя, забрался на кан и что было силы закричал:
— Тише вы! Сейчас наш председатель Го будет выбирать себе землю!
Люди сразу притихли.
— Он больше всех нас потрудился, — заговорили старики. — Ему во всем и первое место положено…
— Правильно! — ответило несколько голосов. — Пусть скажет, какая ему земля больше нравится.
— Ему… то есть нашему председателю Го, больше нравится за южными воротами, там где раньше были владения Хань Лао-лю! — вкрадчиво заговорил возчик.
— Да не слушайте вы старика, — поднял голову Го Цюань-хай. — Выбирайте себе. Я потом.
Но все наперебой принялись настаивать, чтобы председатель взял себе эту землю.
Го Цюань-хай задумался. Когда он был батраком Хань Лао-лю, он работал именно на этих полях, за южными воротами. Земля там действительно хорошая. И старик Сунь в конце концов прав.
Го Цюань-хай встал и поклонился, глубоко тронутый вниманием односельчан:
— Спасибо, земляки, спасибо, братья! В благодарность за ваше доброе отношение даю вам слово еще больше и еще лучше работать для общего блага.
Новый передел земли удовлетворил всех. Едва кончилось собрание, крестьяне рассыпались по полям ставить вехи. Ли Всегда Богатого завалили заказами. Он разжег свой горн и всю ночь громыхал молотом, выковывал лемехи для плугов и мотыги…
А во дворе крестьянского союза, за высокими стенами бывшей помещичьей крепости, стояла тишина.
Сяо Сян сидел один в большой опустевшей комнате. На душе у него было легко и радостно. Все, над чем трудился он в последнее время, успешно завершено. Пусть это один из этапов, но этап уже пройденный, этап завершенный, который открывает широкие перспективы, кладет начало новым дерзаниям и новым достижениям!
Сяо Сян встал, перешел к столу, на котором мигала лампа, вынул из бокового кармана перо и стал писать:
«Последовательное уничтожение сил феодализма, это, прежде всего, — последовательное разрушение феодальной экономики, которая несколько тысячелетий тормозила государственное развитие Китая. Класс помещиков опрокинут, земля роздана крестьянам. Разрешен первоочередной вопрос — вопрос о земле, заложен фундамент новой экономики. Крестьянство, совершившее под руководством коммунистической партии этот гигантский переворот, теперь безостановочно пойдет вперед. Я всегда помню слова товарища Сталина: «отсталых бьют». На протяжении последнего столетия нашей истории Китай все время били. Наши передовые люди, жертвуя своей кровью, жертвуя жизнью, боролись за то, чтобы положить конец страданиям китайского народа. Теперь под водительством председателя китайской коммунистической партии Мао Цзе-дуна мы скоро достигнем этой цели».
В глазах Сяо Сяна блеснули слезы.
Это был мужественный человек с непоколебимой волей и железной выдержкой. Он не заплакал даже тогда, когда, находясь на чужбине, узнал о том, в какой нищете умерла его мать. Сейчас же он плакал, не стыдясь своих слез. Это были слезы не печали и горя, а радости и удовлетворения, слезы человека и борца, посвятившего всю свою жизнь освобождению родного народа.
XXVII
К концу марта снег окончательно стаял и кое-где уже показались молодые нежно-зеленые побеги. Близилась горячая пора — время весеннего сева.
Сяо Сян, Го Цюань-хай и Ли Всегда Богатый целый день провели за столом, подводя итоги проделанной работы. Поздно вечером в сопровождении Вань Цзя начальник бригады ускакал в город. Ему надо было поспеть на расширенное совещание секретарей районных комитетов партии, которое должно было подготовить материалы для большого совещания секретарей уездных комитетов, созываемого в административном центре провинции.
Женщины деревни Юаньмаотунь усердно плели корзины для хранения зерна будущего урожая, отбирали семена для посева, шили и чинили одежду и обувь. Все торопились. До начала полевых работ оставались считанные дни, а тогда уже ни у кого не будет времени. Мужчины вывозили на поля навоз, ремонтировали инвентарь, собирали хворост, заготавливали дрова.
Становилось все теплее. Падающие с неба снежинки таяли, не достигнув земли. Дороги превратились в месиво невылазной грязи. Только и было теперь разговоров, что о том, как в этом году вскроется Сунгари: «по-военному», то есть внезапно, или же «по-граждански» — постепенно и незаметно.
Старик Сунь, вернувшись как-то из города, куда он возил дрова, уверенно объявил:
— В этом году «по-граждански» вскроется. Пока, конечно, не видно, но я-то, старый Сунь, знаю. Ручаюсь, урожай нынче будет очень хороший.
Крестьяне радовались. Повсюду шли оживленные разговоры, слышались звонкие песни. Каждую неделю в деревне Юаньмаотунь справляли чью-нибудь свадьбу, и весенний ветерок до самых гор разносил веселый рокот свадебных труб. Случалось и по две свадьбы на неделе.
Го Цюань-хаю отвели новый домик, и он уже успел в него переехать. Это было небольшое трехкомнатное строение с чистым двориком, принадлежавшее ранее Добряку Ду. Когда-то помещик сдавал его в наем.
Западную комнату заняли старики Тянь. Жизнь в большом доме требовала больших расходов на топливо, и они решили перебраться сюда. Го Цюань-хай расположился в восточной комнате.
О свадьбе Го Цюань-хая и Лю Гуй-лань говорили уже давно, и старику Суню покою не было от расспросов.
Судачили о ней и сейчас, греясь на весеннем солнце возле кузницы Ли Всегда Богатого.
— Вот это будет свадьба, — говорили крестьяне, — оба молодые, красивые, как на подбор!
— И родственников никаких нет. Хлопот меньше будет. Спокойная жизнь для человека — самое главное: и в семье хорошо, и работа спорится.
— А цепь размыкать будут?..
Из лачуги высунулась большая взъерошенная голова кузнеца с закопченным скуластым лицом:
— Об этом старика Суня спросите. Он у них сватом.
— Да вон он и сам бежит. Эй, старина Сунь! Тут люди интересуются: понадобится ли свинья?
— Какая еще тебе свинья? — удивился возчик. — Наш председатель ничего такого не признает. Он человек молодой. Это только в наше время требовалось. Я, например, сорок лет назад из-за проклятой свиньи чуть невесты не лишился. Хорошо, что теща оказалась доброй, а то не видать бы мне моей старухи и некому было бы пилить меня весь век.
— Да ты расскажи толком, как дело-то было. Пусть люди послушают, — подзадорил кузнец.
— Это можно, — осклабился возчик, довольный тем, что его просят. — Дело так было: теща сначала обязательно требовала свинью. А где бедняку свинью-то взять? У нас только и был один поросенок. Отец мой дал его свахе, отпустил ей два шэна проса, один шэн соевых бобов да бутылку водки в придачу. Приехала сваха с этими подарками к невесте, а теща, как увидела, так и разбушевалась: «Надо, — кричит, — две свиньи и две бутылки водки, а ты что принесла? Зачем тебя только мать родила и выкормила, если ты добрых людей обманываешь? Не умеешь сватать, не берись!» Сваха до того перепугалась, что сбежала, даже не отведав угощения. Однако, как ни ругалась теща, в конце концов все-таки смилостивилась. Когда собрались гости, она вывела из свинарника свою свинью, поставила ее, как следовало по старому закону, рылом на запад и приказала невесте, то есть моей благоверной старухе, опуститься на колени да поклониться три раза до земли. Один из гостей взял чарку водки и опрокинул ее свинье в ухо. Тут все дело в том, как свинья к этому, отнесется. Если она, скажем, только ухом пошевелит, значит молодым большое счастье суждено, а если головой начнет трясти — дело плохо, худая судьба ждет молодоженов. Однако с тещиной свиньей дело совсем чудно́е вышло. Она и ухом пошевелила и головой затрясла…
— Выходит, тебе и добрая и худая судьба выпала? — иронически спросил Всегда Богатый.
— А как же! Ты сам видел, сколько лет я работал возчиком и какая судьба у меня была! А вот пришла коммунистическая партия, и сразу все изменилось…
— Что за умная свинья у твоей тещи оказалась! — рассмеялся кузнец. — За сорок лет вперед всю твою судьбу предсказала.
В это время где-то неподалеку заиграли трубы.
— Слышите? В трубы уже дуют. Пора идти. Надо помочь нашему председателю.
— Вы ступайте, — засуетился старик Сунь, — а я еще забегу домой, мне переодеться надо.
И он рысцой пустился к дому.
Маленький дворик Го Цюань-хая был уже полон, а люди все прибывали и прибывали. Всем хотелось поздравить председателя, пожелать ему счастливой семейной жизни, долголетия и многочисленного потомства.
Старик Тянь радушно встречал гостей, поил чаем, угощал табаком. На лице его сияла такая искренняя улыбка, и был он так растроган и умилен, как будто женил собственного сына.
Посреди двора около столика сидели два трубача. Один дул в лабу, другой — в хаотун. Из кухни валил пар. Там, обливаясь потом, орудовали повара.
Над входом был наклеен огромный, вырезанный из блестящей красной бумаги иероглиф, обозначавший «радость». По бокам спускались две бумажные полосы, на которых были начертаны стихи.
Это было каллиграфическое творение оспопрививателя.
От дома Го Цюань-хая отъехала тройка, на которой торжественно восседали оба свата, а рядом с ними разместились музыканты.
Тишина, наступившая после оглушительного рева труб, показалась особенно приятной и умиротворяющей.
Невесту привезли только в сумерки. Лю Гуй-лань была одета в красную куртку и черные шелковые штаны. На ногах — туфли из красного узорчатого шелка, в волосы был воткнут пунцовый бумажный цветок. За телегой, на которой ехала невеста, следовала другая, со сватами и музыкантами. Сбруя на лошадях и кнуты, которыми размахивали возчики, были украшены развевающимися красными лентами.
Как только первая телега остановилась у ворот, ее мигом окружили гости. Все с таким любопытством разглядывали Лю Гуй-лань, словно никогда в жизни ее не видели.
— Ты только погляди, какая стала?! — восклицали гости. — Вот это красавица!
— Да ведь она же нарумянилась.
— Да нет, это просто от волнения раскраснелась. Стесняется!
Лю Гуй-лань сидела, опустив голову, и обиженно молчала. Ради чего выставили ее напоказ, сделали мишенью для насмешек? Ей глубоко чужды эти древние обряды и обычаи, зачем же ее заставляют быть их главной участницей? К тому же от неподвижного сидения у Лю Гуй-лань затекли и замерзли ноги. Она хотела было уже слезть с телеги, но сильная рука Чжан Цзин-жуя толкнула ее обратно. Парень широко улыбнулся и весело сказал:
— Не торопись! Скоро пригласят, а пока сиди и не горячись.
— Давайте же сюда воду, — распорядилась старуха Сунь.
Женщины принесли чашку с водой и подали невесте. Она очень удивилась: и так замерзла, зачем же еще пить холодную воду? Лю Гуй-лань попыталась отстранить протянутую ей чашку.
— Пей, пей! Ты должна выпить, — настаивала старуха Сунь. — Вода с сахаром. Надо, чтобы у тебя всегда во рту было сладко.
— А зачем у меня должно быть во рту сладко?.. — недоумевала невеста.
— Как это зачем? Не твое дело рассуждать и перечить старым обычаям, — строго ответила старуха. — У жены должен быть сладкий рот, чтобы она не грубила мужу.
Лю Гуй-лань это объяснение очень рассмешило, но не успела она опомниться, как ей запрокинули голову и вылили воду в рот.
Вскоре невеста примирилась с необычным для нее положением. Она чувствовала себя как во сне: такая легкость, была во всем теле. Вот только ноги словно деревянные… Скорее бы все это кончилось и ей позволили бы сойти с телеги.
Но тут принесли еще таз, наполненный водой.
— Вымой руки! — приказала старуха Сунь.
— А это зачем?
— И что ты все спрашиваешь… — проворчала старуха, но тут же объяснила: — Чтобы посуду потом не била!
Лю Гуй-лань опустила руки в воду и вытерла полотенцем, которое подала ей какая-то женщина.
«Теперь, наверное, уже все, и можно будет слезть», — с облегчением подумала невеста.
Но едва она спустила ногу, как снова принесли таз, теперь уже с горящими углями.
«Вот это хорошо, — обрадовалась Лю Гуй-лань, — можно будет погреть озябшие ноги».
— Куда ты к ногам-то его ставишь? Какая непонятливая! — рассердилась старуха Сунь. — Руки, руки грей, чтоб они у тебя всегда были теплые и проворные и за гостями бы хорошо ухаживали.
Послушно отогрев руки, невеста спрыгнула наконец с телеги.
— Что ты делаешь? — закричала старуха Сунь. — Не становись на землю, становись на цыновку, на цыновку становись!
Лю Гуй-лань только сейчас заметила, что от телеги через весь двор до самой двери дома были разостланы цыновки.
Как только она сделала несколько шагов, раздались крики:
— Председатель Го, председатель Го пришел!
Сердце Лю Гуй-лань радостно затрепетало, но, взглянув на Го Цюань-хая, она обомлела. На нем было новое драповое пальто и черная фетровая шляпа. Все это разыскал у кого-то для свадьбы старик Сунь. Поверх пальто крест на крест жених был перевязан шелковой лентой, такой же красной, как его лицо.
— Смотри-ка! — закричали гости. — Жених-то как покраснел! Еще больше невесты стыдится!
Жениха и невесту подвели к установленному посредине двора жертвенному столу, на котором в пяти блюдечках, расписанных красными разводами, лежали свиная печенка, свиное сердце, капуста, лапша и свежая рыба. Блюдца были расставлены в форме цветка сливы. На каждом блюдце красовался, кроме того, большой цветок, искусно вырезанный из красной бумаги. В деревянный ящик, до краев наполненный мелким зерном гаоляна, были воткнуты тонкие курительные палочки, испускающие благовоние.
Жениха и невесту поставили рядом лицом к воротам.
Смолкшие было разговоры опять возобновились. Старались говорить тихо, но так как говорили все разом, двор наполнился гулом.
— Ты только посмотри, что за цветы у нее на туфлях. Других таких туфель и не сыщешь!
— А красная куртка!
— Это с плеча помещичьей снохи. Широкая какая! И как это только Лю Гуй-лань по своей фигуре приладила!
— На то она и первая рукодельница в деревне.
— Она и оконные цветы вырезать большая мастерица, и всякую другую работу умеет делать.
— Старые люди говорят, что по обычаю невеста должна быть одета во все красное, иначе жизнь ее будет несчастной.
— Чего ж тянут-то? — спросил кто-то со вздохом.
— Свадебный обряд полагается начинать в полночь.
— Мало ли что полагается! Если полуночи ждать, невеста себе руки и ноги отморозит. Холод-то какой…
Старик Сунь, у которого не только замерзли ноги, но и разыгрался на морозе аппетит, заторопил:
— Пора приступать! Чем раньше управимся со свадьбой, тем скорее сын родится! Музыканты, начинайте!
Сопровождаемые оглушительным ревом труб, Го Цюань-хай и Лю Гуй-лань направились по цыновкам к дому. Группа молодых женщин поджидала их у дверей.
— Поглядим, поглядим, какой она ногой переступит порог, левой или правой.
— А что это означает?
— Если переступит правой, то первый ребенок у нее будет девочка, а если левой — обязательно сын…
Оттого ли, что было холодно и она сильно замерзла, или же по какой-то другой причине, но Лю Гуй-лань плохо понимала в этот миг, что творилось вокруг. Переступая порог, она слышала предостерегающие крики женщин: «Левую прежде ставь, левую!», но она так и не сообразила, чего от нее хотят, и не помнила, как очутилась в комнате.
Старуха Сунь кинула под ноги невесте мешок с зерном гаоляна:
— Полезай на кан, только прежде на мешок становись. Жених! Ты тоже иди сюда, к невесте.
Новобрачные сели рядом на кан, подвернув под себя ноги. Над их головами был растянут шелковый полог цвета огня.
Подошла молодая женщина с гребнем в руках и начала расчесывать невесте волосы.
Лю Гуй-лань отогрелась и почувствовала себя бодрее. Вспомнив все наставления старухи Сунь, она невольно улыбнулась и с любопытством огляделась вокруг.
Комната была убрана заботливыми руками вдовы Чжао. Под самым потолком висела большая лампа. На столе горели две толстые свечи красного воска, стояли чашечки и чайники, увитые красной бумажной бахромой.
На западной стене, где прежде обычно помещались таблицы предков, висели большие портреты Мао Цзе-дуна, Чжу Дэ и Линь Бяо, а сбоку от портретов на продольных красных полотнах Сяо Сян в честь новобрачных написал такие пожелания:
— Поклонитесь же друг другу… без этого и свадьба за свадьбу не считается… — услышала Лю Гуй-лань шепот старухи Сунь.
Еле сдерживая улыбку, невеста отвесила жениху низкий поклон.
Дом наполнился веселой свадебной музыкой. Старуха Сунь вышла и сейчас же вернулась с двумя чарками водки. Одну она поднесла Го Цюань-хаю, другую — Лю Гуй-лань и велела им отпить по глотку, после чего она заставила их обменяться чарками и выпить все до дна.
В этот момент в комнату гурьбой ворвались подростки и окружили кан.
— Что вам здесь надо? — прикрикнул на них старик Чу. — Марш по домам, спать пора.
На этот раз возчик поддержал «вредного старикашку»:
— Чего торопитесь, еще успеете. У каждого из вас будет такой же день.
Мальчишки подняли хохот и, как ни уговаривали их старики, не уходили.
Го Цюань-хай пригласил гостей к обеду.
Для женщин стол накрыли в западной комнате. Распоряжались там вдова Чжао и старуха Тянь.
— Вот как теперь все просто стало… — говорила старуха Тянь, — а раньше-то сколько всяких хлопот было. Свиней приходилось колоть да еще до свадьбы всем подарки посылать. Откуда беднякам взять столько денег…
— Верно, верно, тетушка, — соглашалась вдова Чжао. — Теперь куда лучше. Каждый жениться может. Никаких стеснений нет. Все эти старые обряды да обычаи…
— А по-моему, старые обычаи вовсе не так уж плохи! — перебила старуха Сунь. — Они и семью укрепляли и от всякого баловства людей удерживали. Без обрядов какая же свадьба!
— После переворота, тетушка, люди по любви стали жениться, а не по принуждению, как в наше время, — заметила вдова Чжао.
Старуха Сунь согласилась, что жениться по любви — дело хорошее и похвальное, однако доказывала, что без обрядов все же никак нельзя: любовь — любовью, а человеческие законы — законами.
Мужчины собрались в соседнем доме. После сытного обеда они расположились на канах и вели веселую беседу, покуривая трубки и щелкая семечки.
Возчика вновь попросили рассказать о его женитьбе и о том, что наворожила ему когда-то тещина свинья. Старик Сунь с большой охотой исполнил просьбу. Когда возчик дошел до того места своих воспоминаний, где свинья предсказала ему одновременно и хорошую и дурную судьбу, старик Чу прикинулся удивленным:
— Как же так, сосед? Уж не напутал ли ты чего-нибудь по старости? Точно ли тещина свинья ухом пошевелила? Ведь раньше, помнится, ты говорил, что тебе одна бедность судьбой назначена и потому, мол, ты и разбогатеть не можешь.
— Что было раньше, то прошло, — возразил возчик, — теперь совсем другое. Ты все, язва, придираешься. Воробей, и тот каждый год гнездо меняет. Так же и судьба человеческая. Сейчас все изменилось, вот и судьба людей изменилась.
— Все теперь стало намного лучше, — согласился старик Тянь, — вот хотя бы, к примеру, то, что каждый жениться может.
— Правильно, правильно! — выпятил грудь старик Сунь. — Вот не будь у меня моей старухи, я сейчас бы женился на девушке, у которой земля есть!
— А ну, позовите сюда скорей его старуху! — закричал Чу. — Пусть послушает, какие он тут речи ведет…
Ночь была уже на исходе, а гости все еще продолжали веселиться. Вдруг снова зазвучали трубы. Все высыпали во двор, освещенный разноцветными фонариками.
Завершался свадебный обряд. Молодожены прощались с гостями, кланялись, благодаря за оказанную честь, и подносили каждому по паре пельменей.
Когда последний гость покинул двор, уже в третий раз пропели петухи и на востоке занималась заря.
XXVIII
Спустя три недели после свадьбы председателя Сяо Сян вновь прибыл в деревню Юаньмаотунь. На этот раз у него было особое задание.
Начальник бригады приехал прямо во двор крестьянского союза. Спрыгнув с седла, он тепло поздоровался с вышедшим ему навстречу Го Цюань-хаем:
— Женился? Ну, поздравляю. Выходит, опоздал я на свадьбу? Жаль… Небось, теперь жену и за дверь не выпускаешь и работать ей запретил?
— Что ты, начальник, — покраснел от смущения Го Цюань-хай. — Лю Гуй-лань руководит женщинами. Они плетут соломенные шляпы для работы на полях. Летом без шляпы в поле не будешь работать. Шляпы всем нужны. Мы их плетем и меняем в соседних деревнях на зерно и солому, а то после прошлогоднего наводнения у нас многого недостает.
— Ладно, об этом после, — остановил его Сяо Сян. — Что касается зерна и кормов, государство, может быть, окажет поддержку. Сейчас у меня другое дело. Очень срочное и важное. Прежде всего хочу посоветоваться с тобой. Работа, проведенная в уезде, в частности в районе, а особенно в деревне Юаньмаотунь, получила хорошую оценку. В прошлом году мы разгромили банду Ханя-седьмого, изъяли у помещиков ценности и оружие, это всем известно. Ошибки, допущенные по отношению к середнякам, имевшие, кстати сказать, место и в других районах Северной Маньчжурии, мы исправили быстрее, чем это сделали там. Однако кос в чем мы все же отстали. Надеюсь, ты понимаешь меня?
Го Цюань-хай сразу сообразил, что заставило Сяо Сяна так срочно приехать. Не торопясь, председатель набил трубку, закурил и только после этого ответил:
— Да, перед армией мы в большом долгу.
— Догадлив! — улыбнулся начальник бригады. — Ну как мы поступим?
— Сколько людей требуется на этот раз?
— Ты мне прежде скажи, сколько уже ушло в армию?
— Тридцать девять человек.
— Для такой деревни, как Юаньмаотунь, это не мало, но надо больше. Если мы сумеем еще столько же завербовать, догоним другие деревни. Вот, например, в Чанлинском районе уезда Хулань за одну неделю в армию записалось свыше тысячи молодых парней. Составили из них целый батальон, который так и называется «Чанлинский резервный батальон». Вот это слава!
Го Цюань-хай молча продолжал курить.
— Что, трудно? — спросил Сяо Сян, присаживаясь рядом.
— Да, нелегко… — с расстановкой ответил Го Цюань-хай. — Сам понимаешь: только что получили землю, дома, лошадей… Хочется ли расставаться со всем этим?
— Я понимаю, что нелегко, но ведь нужно. Соберем активистов, посоветуемся, а потом созовем общее собрание. В уезде Хулань устраивали беседы в каждом доме, а затем жены разговаривали с мужьями, отцы агитировали сыновей, младшие братья — старших. Результат получился очень хороший.
— Что ж, можно и у нас попробовать этот способ, — оживился Го Цюань-хай. — Сейчас скажу, чтобы предупредили активистов.
Он вышел, но тотчас же вернулся:
— Да… вот еще какое дело: Чжан Цзин-жуй, Дасаоцза и вдова Чжао просят принять их в партию.
— А ты беседовал с ними?
— Беседовал. В отношении Дасаоцзы могу сказать, что Бай Юй-шань, когда приезжал в отпуск, многое ей объяснил.
— И что же она говорит?
— Говорит, что хочет вступить в коммунистическую партию для того, чтобы довести революцию до конца.
— Так! А Чжан Цзин-жуй?
— Он искренне считает, что без коммунистической партии китайские крестьяне ничего не могли бы сделать, и каждый честный человек обязательно должен быть членом коммунистической партии. Вдова Чжао рассуждает так: муж был партийцем, и если она не последует примеру мужа, это будет преступлением перед его памятью. Говорит, что не боится смерти и что никакая работа ей не страшна, что хочет потрудиться для блага народа…
— Хорошо, мы их вызовем и обстоятельно побеседуем с каждым в отдельности, а сейчас, — нетерпеливо сказал Сяо Сян, — сейчас…
— Есть и еще один человек, — перебил его председатель, — тоже просится в партию…
Начальник бригады сразу догадался, о ком идет речь, но не выказал этого:
— Кто?
— Лю Гуй-лань…
Сяо Сян хорошо знал традиции китайской крестьянской семьи: достаточно одному из ее членов вступить в партию, как вся семья начинает сочувствовать революции.
— Ладно, — заключил он, — как только покончим с делами армии, займемся приемом в партию. А пока собирай активистов и устраивай совещание.
Вся деревня пришла в движение. Беседы в семьях, совещания активистов и общие собрания следовали одно за другим. Однако в армию записалось всего три человека: Ли Всегда Богатый, Чжан Цзин-жуй и старик Чу. Последнего, разумеется, в счет принимать было нельзя. Ему перевалило за шестьдесят, и его все равно бы вернули обратно.
С записью Чжан Цзин-жуя получилось осложнение: мать со слезами бросилась в крестьянский союз и просила оставить сына.
Сяо Сян был подавлен. Он надеялся, что деревня Юаньмаотунь покажет себя образцовой и по вербовке добровольцев в армию станет примером для всего уезда, и вдруг такая неудача!
Чтобы успокоиться и обдумать создавшееся положение, он вышел на улицу и медленно направился вдоль шоссе.
День был облачный. Солнце то проглядывало сквозь облака, то вновь скрывалось.
Выйдя за южные ворота, начальник бригады увидел детей, которые собирали из-под снега дикие съедобные коренья. Среди детей был Со-чжу. Сяо Сян подозвал его и поднял на руки.
— Что ты тут делаешь, малыш? — спросил начальник бригады у раскрасневшегося мальчугана.
— Мама велела набрать диких кореньев. Она сказала, что сделает вкусные пирожки.
В этот момент солнце опять скрылось за облаками. Со-чжу поднял голову и запел:
— Оно всегда меня слушается, когда я запою эту песенку, — с серьезным видом сказал мальчик. — Вот увидишь, сейчас покажется.
Но как Со-чжу ни старался, солнце не слушалось.
— Нет, способ твой ненадежен, — покачал головой начальник бригады.
Со-чжу засмеялся и убежал, а Сяо Сян повернул обратно в деревню.
По шоссе тянулись подводы, груженные навозом, а навстречу им, со стороны гор, двигались телеги с дровами и хворостом. Над пожелтевшими крышами крестьянских лачуг поднимался еле заметный дым.
В маленьком дворике молодой парень, одетый в дорогую шубу, кормил рыжую лошадь. Он был так увлечен своим делом, что не заметил проходившего мимо начальника бригады. Сяо Сян не стал отвлекать его от работы. В соседнем дворе женщина в новой красной куртке с таким же увлечением колола дрова.
Сяо Сян пошел дальше. Всюду люди были заняты своими делами: плели шляпы и цыновки, готовили корм, чистили лошадей. Они чувствовали себя уверенно, сознавали свою силу. Они знали, что завтрашний день будет для них таким же спокойным и счастливым, как и нынешний. Им казалось, что ничто в мире уже не может нарушить эту новую жизнь. Про войну они забыли.
Вечером Сяо Сян созвал общее собрание крестьян деревни Юаньмаотунь. Открывая собрание, Го Цюань-хай сказал:
— Страна теперь в руках бедняков, батраков и середняков. Мы должны защищать ее от всех, кто является нашими врагами, от гоминдановских реакционеров и американских захватчиков, которые хотят снова закабалить наш народ. Чан Кай-ши еще не разбит, и нам с вами еще рано успокаиваться, думать только о своих личных делах. А что станет с нами, если вернутся старые порядки?
Все молчали.
Дасаоцза сорвалась с места и горячо заговорила:
— Не будь я женщиной, давно бы записалась в армию! И как это только можно спокойно сидеть по домам, когда другие кровь проливают?
— А землю, что же, бросить прикажешь? — ответил ей молодой парень.
— Зачем же бросать! — продолжала Дасаоцза. — Не бросать, а защищать ее надо! А мы, женщины, будем за вас работать на полях. Ручаюсь, что каждую вашу грядку обработаем.
— Правильно! — поддержал ее У Цзя-фу. — Вот и нас, подростков, использовать надо. Мы будем полоть, воду носить, хворост собирать. Двое подростков — одного взрослого заменить могут.
После собрания записалось еще пять человек, но и этого было мало, потому что требовалось не меньше сорока.
Сяо Сян снова созвал активистов и опять до позднего вечера обсуждал с ними, как быть дальше.
В полночь, когда активисты уже разошлись, в правление крестьянского союза прибежала Лю Гуй-лань.
Сяо Сян, успевший уже задремать, встал и зажег лампу. Бросив взгляд на молодую женщину, начальник заметил, что она бледна и встревожена.
— Где Го Цюань-хай? — взволнованно спросила Лю Гуй-лань.
— Как, разве он еще не вернулся? — удивился начальник. — Го давно уже ушел. Может быть, завернул к кузнецу Ли. Сходи к нему, узнай. И нечего зря волноваться, небось, не потеряется.
Лю Гуй-лань побежала к кузнецу. По дороге она оглядывала все дома, но двери всюду были заперты, за окнами стоял мрак. Лачуга кузнеца Ли тоже оказалась на запоре, и оттуда не доносилось никаких звуков.
— Ли Всегда Богатый, открой! Не видал ли ты Го Цюань-хая? — крикнула Лю Гуй-лань в окно.
Ей пришлось несколько раз повторить последнюю фразу, прежде чем кузнец проснулся. За окном наконец послышался заспанный голос:
— Это ты, Лю Гуй-лань? Что с тобой случилось? Мужа, что ли, потеряла?
Женщина совсем расстроилась. Где же он в конце концов? Может быть, они разминулись, пока она ходила в крестьянский союз, и он уже успел вернуться домой? Лю Гуй-лань со всех ног бросилась к своему домику.
После совещания Го Цюань-хай зашел к старухе Ван. У нее, как известно, было двое сыновей, и председатель надеялся, что хотя бы один из них да запишется в армию. Он стал уговаривать старуху, чтобы та повлияла на своих сыновей.
— Видишь ли, председатель, — отозвалась старуха Ван после долгого молчания, — двое-то их — двое, да у младшего нога кривая, и его все равно не возьмут, а старший, как и ты, только что женился… — Старуха многозначительно умолкла и, украдкой взглянув на покрасневшего Го Цюань-хая, продолжала: — Ведь ты, председатель, сам только что женился, и мне ли тебе доказывать, как трудно расстаться с молодой женой.
Го Цюань-хай так и не понял, зачем старуха Ван все это ему рассказывала, и ушел от нее ни с чем. Домой возвращаться не хотелось, и он бесцельно побрел вдоль шоссе. Дойдя до школы, председатель остановился. Оспопрививатель, замещавший уехавшего учителя, уже спал. Го Цюань-хай вошел в пустой темный класс и, присев к столу, задумался.
Он, конечно, понимал, почему люди не шли в армию. Все были привязаны к своей земле, своему хозяйству, а более всего — к своим семьям, да и сам он в этом отношении не лучше других. Разве он показал пример?
Ему вспомнился Чжао Юй-линь: сильный, мужественный и благородный человек, который, не задумываясь, отдал жизнь за общее дело. А ведь у Чжао Юй-линя тоже была жена. Был даже сын и еще воспитанник. Да… дело не только в старухе Ван. Остальные думают так же, как и она. И он, председатель Го, теперь никого не может убедить, не может увлечь за собой. А почему? Понять не трудно! «Привязался к своей семье, сам сидишь на месте, а нас подбиваешь». Правда, в глаза ему никто этого не говорил, но думали так, пожалуй, многие…
Откуда же взялась Лю Гуй-лань? Неужели она нашла его? Да, стоит рядом, смотрит ему в глаза и улыбается своей детской улыбкой. «Что ты надумал? — спрашивают ее глаза. — Ведь мы прожили с тобой всего двадцать дней». Улыбка сходит с ее лица. По щекам катятся крупные слезы. Лю Гуй-лань бросается к нему. Он чувствует ее нежные руки. Вдруг слышится легкий шорох, что-то мягко падает на стол, и после этого сразу раздается звон…
Это откуда-то спрыгнула кошка и опрокинула на столе чернильницу.
Го Цюань-хай вздрогнул и открыл глаза. Кругом никого. Он один в пустом классе.
«Эх, парень! Ты, видно, совсем забыл, что ты коммунист! Женился и решил, что тебя уже ничто не касается. Забыл, кому мы все обязаны своим счастьем. В армию итти не хочешь. Выходит Лю Гуй-лань связывает тебя по рукам и ногам, как вдова Чжан стрелка Хуа».
Го Цюань-хай заткнул трубку за пояс, встал и вышел.
Не успел еще Сяо Сян погасить лампу после ухода Лю Гуй-лань, как на пороге показался Го Цюань-хай.
— Откуда тебя принесло? — весело спросил начальник бригады. — Что там у вас стряслось? Объясни, в чем дело?
Го Цюань-хай не ответил. Он присел на край кана, задумчиво вынул трубку и закурил. Сяо Сян, стоя перед ним, терпеливо ждал.
— Комиссар! — торжественно объявил Го Цюань-хай. — Я иду в армию.
Это было настолько неожиданным, что Сяо Сян даже присел:
— Ты?
— Да…
— Так… А кто же будет в деревне работать?
— Выберите кого-нибудь другого: кузнеца Ли, Чжан Цзин-жуя. Мало ли людей? Заменить меня некем, что ли?..
И председатель решительно направился к двери.
— Не спеши! Надо еще поговорить!.. — крикнул ему вдогонку Сяо Сян.
Но Го Цюань-хай был уже за дверью.
Сяо Сян бросился за ним:
— Да постой же ты, подожди!
Но председатель уже скрылся в ночной темноте.
Сяо Сян вернулся в комнату и долго не ложился спать. Он думал о Го Цюань-хае, которого воспитывал два года, желая сделать из него со временем хорошего секретаря райкома партии. «Такими людьми не бросаются… Но ведь армии как раз и нужны такие люди… Я тоже хорош, нечего сказать… Подбираю себе работников, а о войне и позабыл. Эх, комиссар, комиссар! И до чего же ты стал похож на деревенскую бабу, которая дальше своего носа ничего не видит!..»
Сяо Сян погасил лампу, лег и попытался заснуть. Но думы гнали сон.
«Го Цюань-хай прав. Он стоек, суров и беспощадно требователен к самому себе. В таких людях нуждается армия. Мы обязаны выбирать для нее самых лучших, самых надежных людей из рабочих и крестьян. Так поступает и партия, посылая на фронт самых преданных коммунистов… А ведь он всего двадцать дней, как женат, и Лю Гуй-лань будет плакать… Го Цюань-хай прав, безусловно прав…»
XXIX
Го Цюань-хай вернулся домой следом за Лю Гуй-лань.
На столе мигала масляная лампочка. Лю Гуй-лань сидела расстроенная. Услыхав во дворе шаги, она повернулась к окну.
— Кто там? — с тревогой спросила она.
Но Го Цюань-хай не ответил и молча вошел в комнату.
— Почему ты не спишь? — спросил он раздеваясь.
— Я тебя всюду искала. Куда это ты девался?
Го Цюань-хай присел и, грея руки над тазом с углями, искоса поглядел на жену.
«Сразу объявить или подождать, пока она успокоится?» — подумал он.
— Лошадь накормила? — спросил Го, чтобы оттянуть время и собраться с мыслями.
Она виновато улыбнулась:
— Забыла. Я так расстроилась, что тебя нет…
Го Цюань-хай встал и направился в конюшню.
— Погрелся бы прежде, — остановила его жена. — У тебя только и забот в жизни, что о лошади…
Председатель любил лошадей, а к своей особенно привязался. Как бы ни было трудно с кормами, он всегда доставал жмых и вставал ночью в любую погоду, чтобы накормить лошадь. Конюшня у него всегда была убрана и надежно укрыта от непогоды.
Сейчас он не рассердился на жену, которая забыла подбросить лошади корму. Наоборот. Это оказалось даже кстати: ему хотелось самому пойти в конюшню и подольше побыть с лошадью. Кто знает, когда он увидит ее снова, да и увидит ли?
Когда Го Цюань-хай подошел к конюшне, ему показалось, что там никого нет. Он распахнул дверь и заглянул внутрь. Лошадь лежала у дальней стены, а возле нее копошилось что-то блестящее.
— Иди скорей сюда! — радостно позвал жену Го Цюань-хай. — Смотри! Ожеребилась.
Жена поставила на пол котелок с картошкой и, как была босиком, выбежала во двор.
— Где, где жеребенок? — запыхавшись от волнения, спрашивала Лю Гуй-лань.
— Ты почему босиком бегаешь? — с укором заметил муж. — Ступай обуйся.
— Это тебя не касается, — отмахнулась она. — Где жеребенок?
Жеребенок барахтался и силился подняться. Весь мокрый, он дрожал от холода.
Го Цюань-хай оборвал пуповину и, укутав жеребенка старым мешком, бережно понес его в комнату.
— Клади на кан. Ему холодно, бедненькому, — суетилась Лю Гуй-лань.
На кане жеребенок возобновил попытку подняться. На момент ему удалось встать, но ноги разъехались в стороны, и он снова повалился.
Это так рассмешило Лю Гуй-лань, что она своим громким хохотом разбудила соседей. Прибежал старик Тянь.
— A-а… вон оно что! А я-то ничего и не слыхал… Да какой же красавчик! — Старик потрогал рукой кан. — Да разве же так можно? Совсем ведь кан холодный. Растапливай, растапливай скорей! Погоди, вот здесь ему будет теплее, — решил Тянь, укладывая жеребенка на ворох кукурузных листьев.
Лю Гуй-лань отправилась в кухню и, присев на корточки, стала растапливать печь. Вспыхнувший огонь ярко осветил ее раскрасневшееся лицо и коротко остриженные волосы.
Подождав, пока печь разгорится, Лю Гуй-лань подложила дров и вернулась в комнату.
Го Цюань-хай вытирал жеребенка тряпками, а старик Тянь, глядя с умилением на новорожденного, рассказывал:
— Мать его, которую Фан отдал за долги Добряку Ду, считалась у помещика лучшей лошадью. Так что этот жеребенок хороших кровей. Ты только посмотри на копыта. Лошади с такими копытами — лучшие бегуны. Годика через два надо будет его и к работе приучать.
— Это уж ты, старина Тянь, будешь на нем работать. Ведь он тебе обещан, — улыбнулся Го Цюань-хай.
— Нет, я не возьму.
— Как же так? Я никогда не беру своих слов обратно.
— Спасибо тебе, председатель, а только я все равно не возьму. Как можно!.. Тебе самому понадобится…
— Ну, об этом после поговорим. А впрочем, и говорить нечего. Дело решенное.
Го Цюань-хай обернулся к жене:
— Вот тебе, Гуй-лань, мой наказ: когда этот жеребенок сможет обходиться без матери, привяжешь его в конюшне старика Тяня, запомни.
— Хорошо, запомню… — послушно ответила жена.
Когда старик ушел, Лю Гуй-лань спросила у мужа:
— Уже подходит время вывозить навоз на поля, как же мы без лошади обойдемся?
— Попросишь у кого-нибудь из соседей. Теперь все с лошадьми и никто не откажет… Мы с тобой все жеребенком любуемся, а о матери-то совсем и позабыли. Поди подсыпь ей гаоляна в корыто да жмыха прибавь, чтоб молоко скорее появилось.
Когда жена, задав лошади корму, вернулась обратно, Го Цюань-хай сидел возле жеребенка и расчесывал его гребнем.
Лю Гуй-лань прилегла, но спать не хотелось, и она принялась вслух мечтать о том, как заживут они в этом году. Что прежде всего надо будет обзавестись собственной телегой. Что скоро опоросится свинья и можно будет продать поросят. Что необходимо подумать и об огороде: посадить побольше лука и овощей.
— Ты говорил, что любишь сладкий картофель. Я уже просила старика Тяня достать хороших семян. Он обещал. Теперь у нас с тобой своя земля и можно сажать все, что тебе нравится…
Го Цюань-хай молча покуривал и думал о том, какой удар он должен нанести всем ее мечтам…
Лю Гуй-лань взяла жеребенка на руки и, качая его, как качают детей, гладила по мягкой бархатной спинке.
— Спи, моя крошка, спи, — прошептала она и тут же залилась звонким смехом, но вдруг, вспомнив что-то, умолкла и покраснела до кончиков ушей:
— Го Цюань-хай… Я забыла сказать тебе, что…
Муж не понял и удивленно спросил:
— Что с тобой?
Она еще гуще покраснела и, запинаясь, ответила:
— Я… у меня… Не знаю, в чем дело? Может быть, я заболела… только думаю… — Она уткнулась лицом в гриву жеребенка и замолчала.
Наступила пауза.
— Старик Сунь уверяет, — снова заговорила Лю Гуй-лань, — что Сунгари вскроется в этом году «по-граждански» и урожай должен быть хорошим. Вместе со стариком Тянем мы засеем пшеницей три му и намелем столько муки, что, когда опять настанут новогодние праздники, будем целые две недели варить пельмени… — Она легонько шлепнула жеребенка. — Ты не болтай, не болтай ногами, малыш! На тополях, — продолжала она, — всюду почки появились и даже лопаться стали. Скоро и цветочки распустятся. Пастушок говорит, что на сопках снега уже нет и дикая яблоня начала распускаться. Да! Он вчера принес тебе в подарок какую-то палку. Говорит, что это барбарис.
Она достала из-под цыновки длинную желтоватую палку:
— Вот, возьми. У Цзя-фу уверяет, будто из коры барбариса делают лекарство, которое понижает жар в теле, а кроме того, если из него вырезать палочки для еды, то они, случись в пище какой-нибудь яд, сразу же начинают дымиться. «А так как он боролся с реакционерами и они на него злы, — добавил при этом У Цзя-фу, — и от них можно ждать любого вреда», то эти палочки сослужат тебе службу. И верно, подмешают, чего доброго, какой-нибудь яд. Выстругай из этого палочки, а то я очень боюсь за тебя…
— Какая же ты у меня глупенькая! — нежно улыбнулся жене Го Цюань-хай. — Откуда ты такие небылицы берешь? Что лекарство из этого дерева снижает жар, я тоже слыхал, но что сделанные из него палочки могут обнаружить в пище яд — это детские сказки…
— Совсем не сказки! — перебила жена, но, заметив, что муж досадливо морщится и безуспешно порывается начать какой-то разговор, она на мгновение остановилась:
— Ты что-то хочешь сказать?
— Хочу идти в армию.
Лю Гуй-лань всплеснула руками, и жеребенок упал.
— Что такое?
— Хочу записаться добровольцем в армию.
Подойдя вплотную к мужу, она посмотрела на него испуганными глазами:
— Ты шутишь?
— Зачем шутить? Уже договорился с начальником Сяо.
— Неужели он тебя отпустит? — все еще не верила Лю Гуй-лань.
— Почему же нет?
— А как же работа в крестьянском союзе?
— Выберут другого.
Теперь она уже поверила, но все ее существо восставало против этого решения. Как же отпустить мужа, ведь она и полдня не могла прожить без своего Го. Если его не было рядом, ей недоставало чего-то самого главного, чего-то такого, без чего жизнь казалась невозможной.
— Так… хорошо… иди… — прошептала она и посмотрела на жеребенка, который снова делал безуспешные попытки встать на ноги. Лю Гуй-лань обняла его и залилась горючими слезами.
— Не плачь, — обратился он к жене, когда они наконец улеглись спать, — я не могу видеть твоих слез. Ты только послушай меня. Ведь немало людей записалось в армию. Я тоже должен это сделать. Разобьем бандита Чан Кай-ши, тогда я вернусь к тебе. Начальник Сяо говорит, что Чан Кай-ши скоро будет разгромлен, а начальник Сяо все знает.
Но Лю Гуй-лань, уткнувшись лицом в плечо мужа, продолжала всхлипывать.
— Ну чего же ты плачешь? Ну разве тебе будет приятно, если нас с тобой назовут отсталыми? Неужели ты этого хочешь?
— Я не буду плакать, — прошептала Лю, стараясь удержать слезы. Но они не слушались ее и катились из глаз, словно бусинки с разорванной нитки. — Я знаю… я знаю… ты прав… — всхлипывала она. — Меня не надо уговаривать, но пойми, как тяжело мне с тобой расстаться… Мы так мало прожили вместе, и ты уже уходишь…
— Впереди у нас еще долгая жизнь, — утешал Го Цюань-хай свою жену.
Наконец Лю Гуй-лань вытерла глаза и глубоко вздохнула:
— Как мне жалко, что я не мужчина. Пошла бы вместе с тобой на фронт.
— Дома у тебя найдется много работы. Давай лучше подумаем, что еще нужно успеть сделать по хозяйству. Ведь завтра на собрании я запишусь в армию.
— О домашних делах не заботься. У нас все есть. Вот только не знаю, на сколько времени ты уходишь…
— Чан Кай-ши и его американским хозяевам долго не продержаться. Самое большее — два года.
— А когда ты думаешь отправляться? Надо же тебя успеть собрать в дальний путь.
— Дня через два-три… Ты опять за свое? Перестань же плакать! И какие же вы, женщины, слабые! Слышишь, уже петухи запели. Скоро вставать. Да, совсем забыл, ведь я твою просьбу передал начальнику Сяо.
— Какую просьбу?
В голове Лю Гуй-лань настолько все перепуталось, что она ничего не помнила.
— Ты же просила принять тебя в партию.
— Да, просила. И что же начальник ответил? — оживилась она. — Достойна я или нет?
Го Цюань-хай с улыбкой посмотрел в ее заплаканные глаза, ласково погладил по голове и тоном, каким разговаривают с детьми, сказал:
— Может быть, и достойна, только плачешь много. Будешь так сокрушаться и слезы лить, окажешься недостойной. Видывала ты когда-нибудь коммуниста, который бы все время плакал?
— Ну хорошо, хорошо. Я больше не буду.
XXX
Общее собрание, посвященное записи в армию, было созвано на школьной площадке. Почти вся деревня столпилась вокруг развевающегося на ветру знамени крестьянского союза.
Как только Го Цюань-хай объявил, что он вступает в армию, толпа пришла в движение и загудела. Один за другим стали подходить к столу крестьяне, и за короткое время записалось тридцать человек. Это были всё молодые и крепкие парни. Среди них оказался и сын старухи Ван, недавно сыгравший свадьбу.
— От нашего председателя не отстанем, — заявил он. — Вместе будем преодолевать горы, вместе переплывать реки. Куда он — туда и мы. Может быть, доведется побывать и в Центральном Китае.
После того как У Цзя-фу попросил записать и его, старик Сунь молодцевато расправил свои жиденькие усы.
— Хотя мне и шестьдесят один год, — начал он, — а летом стукнет и шестьдесят два, но я еще не хуже молодого повоюю. Я вам так скажу: маленьких чанкайшат мы в нашей деревне разбили, а теперь пойдем в Нанкин бить большого Чан Кай-ши. Разобьем его, тогда будем жить спокойно!
— Я тоже записываюсь, — выступил вперед Лю Дэ-шань. — Мы, середняки, участвуем в революции наравне с бедняками и батраками и вместе пойдем громить врага.
На призыв Лю Дэ-шаня откликнулось еще семеро середняков.
Ли Всегда Богатый, записавшийся еще несколько дней назад, не произнес на собрании ни слова. Но когда собрание кончилось, он бегом пустился домой, свалил на телегу свои кузнечные инструменты и домашний скарб и все это свез к двоюродной сестре, живущей на западной окраине деревни.
— Куда это ты собрался? — удивленно спросила сестра.
— В армию иду. Разобьем Чан Кай-ши, тогда опять за кузнечное ремесло примусь, а пока пусть все это у тебя полежит.
Затем он явился в крестьянский союз:
— Отправляй меня, начальник, в первую очередь.
— Тебя? Ты что, здоров?
— Здоров, начальник. Я первый записался, первым и ехать хочу.
— Ты соображаешь, что говоришь?
— Я так соображаю: молотом по наковальне стучать — дело важное, а Чан Кай-ши по голове стукнуть сейчас еще важнее.
— Нет, кузнец, так не годится. Если все уйдут, кто же в деревне работать будет?
— Людей много, любого на мое место поставишь, а меня, начальник, не держи. Другие пойдут на фронт, вернутся героями, а я в деревне отсиживаться буду? Да и что здесь за работа такая?
— Ты хотя и член партии, а рассуждаешь не как коммунист, — заметил ему Сяо Сян. — Труд на фронте и работа в тылу равноценны. У нас фронт и тыл едины. В деревне тоже нужны хорошие работники и, кроме того, необходимо оставить одного-двух членов партии. Го Цюань-хая я отпустил лишь для того, чтобы он других увлек своим примером. Но тебе уходить никак нельзя. Ты должен его заменить.
Через день Сяо Сян вместе с Го Цюань-хаем занялись проверкой списка добровольцев. В нем оказалось сто двадцать восемь фамилий.
Просматривая список, Сяо Сян наткнулся на фамилию Ду.
— Ду Цзинь-юй… Ду… Где я встречал эту фамилию? — морщил лоб начальник, силясь вспомнить.
— Это племянник Добряка Ду, — объяснил Го Цюань-хай.
— А кто он такой? Где был и что делал прежде?
— Во времена Маньчжоу-го два года служил солдатом, а после пятнадцатого августа вернулся домой.
— Откуда?
— Из Чаньчуня.
— Придется его вычеркнуть.
— Почему? Разве сыновей помещиков нельзя брать в армию?
— Смотря каких. Вообще сыновей помещиков принимают даже и в том случае, если раньше они служили солдатами в марионеточных войсках. Но как этот Ду Цзинь-юй попал в Чаньчунь и с чем он вернулся оттуда? Его ведь могли просто заслать сюда. Необходимо поэтому все выяснить и проверить. Мы не имеем права допустить, чтобы сомнительный человек пробрался в армию.
Затем Сяо Сян вычеркнул из списка Суня, Чу, Осла Ли и У Цзя-фу. Вычеркнул он и Чжан Цзин-жуя: довольно того, что старший брат на фронте, младшего мать просила не забирать.
Начальник и председатель долго обсуждали список и наконец после тщательной проверки оставили в нем сорок одного человека. Все это были люди безупречного социального происхождения и подходящего возраста — от восемнадцати до двадцати восьми лет.
В кухне крестьянского союза дымили все четыре печи. Повара без передышки жарили и пекли, приготовляя праздничный обед для новобранцев.
Бойцы отряда самообороны целый день рубили елки и сооружали у западных ворот деревни зеленую арку. В школе до полуночи горели лампы. Дасаоцза, вдова Чжао и Лю Гуй-лань вместе с другими женщинами вырезали цветы из разноцветной бумаги.
Когда Лю Гуй-лань вернулась домой, Го Цюань-хай уже ждал ее. Это была их последняя ночь перед отъездом, и разговор затянулся до утра.
Го Цюань-хай поднялся на рассвете. Одеваясь, он предупредил жену:
— Сегодня не смей плакать.
— Не буду… — отозвалась она, вытирая кулаками припухшие веки.
Го Цюань-хай принес два ведра воды и поставил их в кухне:
— Ты теперь одна остаешься. Помни: с вечера запасайся водой, а дров возле печи не оставляй, чтобы пожар не случился. Поняла?
— Поняла…
Го Цюань-хай взял скребницу и направился в конюшню. В последний раз он вычистил лошадь, задал ей корму. Он попрощался со своей любимицей. Затем он неторопливо обошел вокруг дома, все осмотрел и проверил.
Дров хватит на год, вот только корма для лошади маловато. Впрочем, ничего. Лю Гуй-лань плетет соломенные шляпы: она обменяет их в других деревнях на жмых и солому.
Скрипнула калитка. Во двор вошел празднично одетый боец из отряда самообороны.
— Председатель Го, что ж не идешь? Все готово. Люди собрались и ждут тебя.
Было раннее утро. Стоял апрель. Снег уже сошел, и только в углублениях еще виднелись белые островки. В канавах по сторонам шоссе журчали мутные потоки. Гуси и утки с веселым гоготанием плескались в воде, ныряли, выискивая корм. Веял южный ветерок, и даже по утрам теперь было тепло. На ветках ив и вязов появились первые молодые листочки. Издали на голубом фоне неба деревья казались окутанными нежно-зеленой дымкой. Воробьи порхали, радуясь теплу, и наполняли ароматный воздух безумолчным чириканьем. Во всех дворах лежали готовые к полевым работам плуги и бороны.
После обеда новобранцы гурьбой высыпали во двор. Для них подали три большие телеги, запряженные четверками лошадей.
По обеим сторонам шоссе толпились жители деревни, над их головами, как весенний гром, перекатывался рокот музыки.
Телеги двинулись к западным воротам. Первой, стоя во весь рост, правил старик Сунь. Он лихо щелкал увешанным разноцветными лентами бичом и покрикивал на лошадей.
Миновав западные ворота, телеги остановились под аркой, украшенной еловыми ветками. Отъезжающие вышли и построились в одну шеренгу. Гонги и барабаны смолкли, и лишь флейты продолжали выводить монотонную мелодию.
Председательница женского союза Дасаоцза и ее заместительница Лю Гуй-лань отделились от толпы. В руках у них были букеты красных бумажных цветов. Лю Гуй-лань подошла к Го Цюань-хаю. Сотни глаз устремились на них.
Старуха Сунь громко вздохнула.
— Не вздыхай, — остановила ее стоявшая рядом старуха Ван. — Они идут бороться за общее дело, за наше с тобой счастье… Вот и мой… — подавив вздох, сказала Ван, — и мой, говорю, тоже… Разве же их удержишь!
Лю Гуй-лань стала прикалывать цветы к груди Го Цюань-хая. Сначала он избегал смотреть на нее, но глаза их все-таки встретились, и он увидел, что по щекам жены текут обильные слезы. Она не утирала их, продолжая прикреплять цветы.
— Гуй-лань, милая… — шепотом сказал Го Цюань-хай. — Не плачь. Скоро вернусь… Вытри глаза, а то люди смотрят.
Эти тихо сказанные слова расслышал лишь стоявший рядом старик Тянь, и по его старческим морщинам тоже побежали слезинки. Он вытер их своей узловатой рукой.
Рука Лю Гуй-лань задрожала, и большой красный цветок упал на землю. Она нагнулась, чтобы поднять, но ветер опередил ее и отнес цветок к телеге старика Суня. Тот поймал цветок и прикрепил себе на грудь.
— Глядите! — закричал У Цзя-фу. — Наш Сунь тоже нацепил цветок славы!
— Ты, юнец, помалкивай, — горделиво выпятил грудь возчик. — Их слава — и моя слава! Я и сам записался добровольцем. Это все видели. Только вот начальник Сяо меня не пустил. Это тоже все знают. Начальник мне сказал: «Оставайся ты, старина Сунь, в деревне, уж очень хорошо ты, старина Сунь, лошадьми правишь, а хорошо лошадьми править в тылу — тоже важное дело». Вот я и остался. Дисциплина! А по правде говоря, мне здесь тошно. Какой настоящий мужчина в этакое горячее время будет дома сидеть и терпеть целыми днями разные причуды привередливой жены?.. Никакой не ста…
Возчик вдруг осекся. Перед ним, нахмурив брови, стояла его старуха.
— Как ты сказал? — угрожающим тоном спросила она. — Причуды, говоришь, привередливой жены? Ты, старый горшок, лучше про свои причуды людям расскажи…
— Тише! Тише! — закричали из толпы. — Сейчас будут выступать члены семей военнослужащих. Старая Ван хочет говорить.
Старуха Ван, строгая и подтянутая, подошла к шеренге новобранцев.
— Ты не беспокойся о доме и не скучай, — обратилась она к сыну. — Мы теперь всем обеспечены. О нас ты не думай, подумай о тех наших братьях-крестьянах, которые еще страдают под властью помещиков. Ты должен помочь им, чтобы и они построили у себя новую жизнь. Ты должен хорошо служить в армии.
Из шеренги выступил Го Цюань-хай:
— Слова почтенной тетушки Ван относятся ко всем нам. Мы должны хорошо служить, потому что служим народу, и сражаться, не щадя своих сил, потому что сражаемся за народ. Если хоть один из нас получит награду, это будет слава для всей деревни!
К шеренге подошел кузнец Ли, вытянулся, по-военному отдал честь, чему он выучился, побывав на фронте.
— Я, как представитель крестьянского союза деревни Юаньмаотунь, — начал он тоном, которым говорили на фронте командиры, обращаясь к солдатам, — передаю вам от имени нашего союза привет. Товарищи, уезжая в армию, будьте спокойны за ваши семьи и за ваши поля. Мы не дадим толстопузым поднять головы и устроить контрреволюционный переворот. Мы всегда душой будем с вами. Одерживайте новые победы, берите как можно больше пленных, а мы в тылу обещаем вам снять обильный урожай и сдать государству как можно больше хлеба. Мы дадим самое лучшее, самое отборное зерно, чтобы вы все были сыты, скорее разгромили Чан Кай-ши и вернулись к мирной жизни.
Последним выступил начальник бригады.
— Вы, — обратился он к добровольцам, — передовые люди трудового народа Маньчжурии. Вы идете покончить со всеми его врагами, помочь тем, кто еще томится в страшной помещичьей кабале и ждет освобождения. Пусть же воодушевляет вас на подвиги героический пример вашего односельчанина Чжао Юй-линя. Пусть цветы славы, которые украшают сегодня вашу грудь, станут залогом того, что вы скоро вернетесь со знаменем славы в руках. Руководство коммунистической партии и мудрая политика председателя Мао обеспечат победу над бандитом Чан Кай-ши. Освобождение нашей родины, которая скоро станет единым и могучим государством простых тружеников, не за горами. Вся эта земля теперь ваша, — продолжал Сяо Сян, указывая на раскинувшиеся вокруг поля. — Пока вы будете сражаться на фронте, мы будем трудиться на ней, чтобы у вас был во всем достаток. Сейчас мы еще бедны и можем обрабатывать землю только с помощью лошадей. Но придет время, и мы начнем работать на тракторах, как это делает наш великий сосед, наш старший брат — Советский Союз!..
Последние слова Сяо Сяна были покрыты приветственными криками толпы.
— Теперь садитесь в телеги. Желаем вам счастливого пути и твердо верим, что вы вернетесь героями!.. — закончил начальник бригады и попрощался с каждым в отдельности.
Грянул оркестр. Школьники запели песню «Без коммунистов и Китая нет», толпа дружно подхватила. Новобранцы стали размещаться на телегах.
Старик Сунь вскарабкался на передок. Он встал на телеге во весь рост, величественно занес над головой бич, лихо раскрутил и скользнул его концом по спинам своих лошадей:
— Но-о! П-шел!
Другие возчики не так, конечно, искусно, но сделали то же самое, и двенадцать сытых коней ветром рванулись вперед.
Провожающие стояли до тех пор, пока телеги не превратились в три еле заметные точки, медленно ползущие по горизонту.
Сяо Сян и Ли Всегда Богатый направились в правление крестьянского союза, обсуждая по дороге планы дальнейшей работы.
— Ну вот, скоро бригады по проведению земельной реформы ликвидируются, — сказал Сяо Сян, — и руководство работой в деревне будет целиком возложено на партийную ячейку. Тебе необходимо поскорее созвать собрание всех членов и кандидатов партии и создать здесь ячейку. Надо еще поговорить с Чжан Цзин-жуем, вдовой Чжао, Дасаоцзой и Лю Гуй-лань. Они хотят вступить в партию. Пригласи их сегодня же вечером, потолкуем.
— Непременно приглашу, — пообещал кузнец и, улыбнувшись своей бесхитростной улыбкой, добавил: — Есть и еще желающие.
— Кто? — спросил Сяо Сян, упорно смотря в одну точку и стараясь что-то вспомнить.
— Слыхал, будто старик Сунь собирается…
— Старик Сунь? — безучастно переспросил начальник бригады, все еще роясь в своей памяти. — Ах, возчик Сунь? — И вдруг вспомнил: — Надо также решить вопрос о Хуа Юн-си. Что ты о нем думаешь?
— Хуа Юн-си в последнее время переменился. В крестьянский союз часто заходит и…
— Знаю, — кивнул Сяо Сян. — Так как же по-твоему?
— По-моему, надо немножко повременить. Он, конечно, выправится.
— Ты уверен? — спросил начальник бригады, когда они уже подошли к крестьянскому союзу.
— Ручаюсь.
— Я тоже уверен, — заключил Сяо Сян, открывая дверь.
Старик Сунь вернулся ночью. Он был немного навеселе и всю дорогу любовался луной. В эту весеннюю ночь она была такая яркая и красивая, что он забыл обо всем на свете и даже о лошадях. Возчик опомнился лишь тогда, когда кони сами остановились возле крестьянского союза.
В этот момент двери главного дома распахнулись. Вышли Чжан Цзин-жуй, Дасаоцза и Лю Гуй-лань. За ними следовал Ли Всегда Богатый. Увидев размечтавшегося возчика, они бросились к нему и засыпали вопросами.
Старик нехотя слез с телеги, ухватился за плечо Лю Гуй-лань и, пошатываясь на отяжелевших ногах, передал наказ Го Цюань-хая: во-первых, не скучать и не плакать, во-вторых, не лениться и работать, в-третьих, не забыть, что как только жеребенок подрастет, отдать его старикам Тянь.